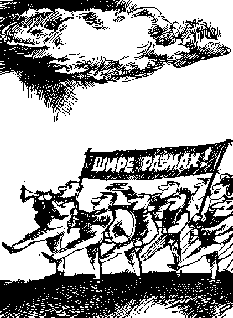|
|
Популярные авторы:: Азимов Айзек :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Толстой Лев Николаевич :: Андреев Леонид Николаевич :: Лондон Джек :: Сименон Жорж Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Язва :: The Boarding House :: Истоpическая литуpгика :: Второе нашествие марсиан. Записки здравомыслящего :: Задача профессора Неддринга :: Где любовь, там и бог :: Из 'Записных книжек писателя' :: Кто осмелится не сделать подарок Санта Клаусу :: Валери как символ |
Повести и рассказыModernLib.Net / Абрамов Аександр / Повести и рассказы - Чтение (стр. 48)
Туда и направился пехом Истомин, вкусно представляя, как закажет сейчас фирменное ростовское блюдо «котлету по-киевски» и целый графин опять-таки фирменного напитка «Ростов Великий», то есть водопроводной воды с малой дозой клубничного сиропа. Истомин гурманом себя не числил, все это его вполне бы устроило, но не тут-то было! Автор, оказывается, не ошибся, предположив, что колокола работали на отечественное кино: и впрямь в городе заезжие московские мастера лудили нетленку.
Автор считает необходимым расшифровать вышеприведенное словосочетание. Оно означает: создавать высокохудожественное произведение искусства, которое, несомненно, останется в памяти на долгие-предолгие годы. Словосочетание общеупотребительное, широко бытующее в среде творческой интеллигенции… Судя по костюмам артистов и по вывескам, украсившим оккупированную киношниками часть Ростова, действие будущего фильма происходило в конце прошлого или начале нынешнего века. Мужчины бродили в поддевках, косоворотках и сапогах в гармошку, иные – в визитках или казенных суконных мундирах, дамы щеголяли в длинных, до земли, платьях и шляпках с вуалью. На ресторане, помещавшемся в действительно старом двухэтажном особнячке, висела шикарно сделанная вывеска: «Савой. Ресторанъ г-на Р. Крейцеръ». Уж не тот ли это Крейцер, который сочинил сонату, подумал Истомин и решительно рванул сквозь оцепление из осветительных приборов прямо в гостеприимные объятия г-на Р. Крейцера. Впрочем, приборы не светили, артисты праздно шатались, в творческом процессе явно наметился перерыв, поэтому никто Истомина не задержал, и он беспрепятственно проник в ресторан. В ресторане было скучно, современно-модерново и абсолютно голо. Черта с два поешь, решил Истомин, по случаю съемок объявлен разгрузочный день… Но надежды не потерял и прямым ходом, мимо официанток, лениво за ним проследивших, порулил к тайной двери рядом с кухней, где, как он подозревал, содержалось ресторанное начальство. Начальство оказалось на месте, оно сидело за столом, заваленным счетами, накладными и прочими нужными бумагами, и – о радость! – читало книгу. Надо ли объяснять, что писательское удостоверение Истомина распахнуло ход к сердцу ресторанного начальства? По мнению автора, не надо, ибо и так ясно: активный читатель всегда поймет голодного писателя. Короче говоря, через пять минут Истомин уже сидел за служебным чистым столом и заказывал официантке котлету и напиток. Он бы и граммов сто другого напитка себе заказал, но впереди ожидалась дорога, а Истомин высоко чтил, как мы уже отмечали, правила дорожного движения. И потом: его ждали в цирке, а имеет ли право судить других человек, от которого… э-э… пахнет!.. То-то и оно! И ему принесли салат из первых ранних помидоров – со сметанкой, и грибочки ему принесли шампиньончики, парниковые, чуть прижаренные, и нашли ему семужку со слезой и лимончик к ней, и… ах, зачем перечислять, зачем расстраиваться, когда все это возможно лишь в день закрытых дверей, когда голодные с дороги граждане просто не смогли все это подмести по чисто технической причине! Но тут к Истомину подошла официантка и спросила: – Одна гражданка из кино попитаться хочет… Так можно я ее к вам подсажу, чтобы столы не пачкать? Не хотелось Истомину нарушать одиночество, но как не пойти навстречу тем, кто охотно пошел навстречу ему? – Валяйте, – сказал он с набитым ртом. Он был так занят грибами и семгой, что проморгал момент, когда гражданка из кино подошла к его столику. Только услышал: – Не возражаете? Поднял голову и опешил: перед ним стояла высокая молодая дама в длинном черном шелковом платье, отделанном какими-то матово сверкающими полосками, со стоячим глухим воротничком. Лицо дамы было закрыто черной же сетчатой вуалью с редкими точками мушек, из-под которой загадочно и зябко сверкнули глаза. Белая холеная рука нервно сжимала тоже черные перчатки, а длинные пальцы были унизаны драгоценными кольцами. И странной близостью закованный, Истомин смотрел за темную вуаль и видел берег очарованный и очарованную даль. Извините за плагиат, но лучше описать состояние Истомина невозможно… – Не возражаете? – уже нетерпеливо повторила Незнакомка. Именно так, с большой буквы, как и назвал ее Александр Блок, а может, и московские кинематографисты – кто знает, что именно они там снимают! – Прошу вас, садитесь! Истомин вскочил и подвинул даме стул, усадил ее, а если и не шаркнул ножкой, то исключительно по растерянности. А дама спросила подошедшую официантку: – Все, что я вижу на столе, – реально? – Как в кино, – серьезно сказала официантка. – Тогда принесите мне то же самое и чуть позже – двойной кофе. – А первое-второе? – удивилась официантка. – Спасибо, не хочу, – мило улыбнулась дама. – И если можно, побыстрее, а то у нас перерыв маленький, а режиссер – зверь. Официантка сунула блокнот в карман несвежего передника, а Истомин к месту позволил себе спросить: – Простите, а кто режиссер? – Вы его не знаете, молодой. Но тала-антливый!.. – протянула, как пропела. – «Мосфильм»? – Угадали. – А вы, конечно. Незнакомка? – И одновременно Неизвестная. Помните у Крамского? – Еще бы… А кто делал сценарий? – Тоже какой-то молодой, не помню… А что, вы имеете отношение к кино? – И к кино и к литературе. – Вы сценарист? – Писатель… Разговор плавно катился по давно разъезженной дороге, и Истомину уже начало казаться, что, кроме вуальки и длинного платья, ничего от Незнакомки-Неизвестной в сотрапезнице нет. Так, обыкновенная актрисулька, которая, судя по кокетливым репликам, не прочь принять короткие и необязательные застольные ухаживания. До скуки знакомая Истомину ситуация. – Как интересно!.. Я вас знаю? Как ваша фамилия? – Моя фамилия Истомин. Владимир Истомин. Слыхали. – Ой, конечно, слыхала! И даже читала что-то… Ну врет же, врет и не краснеет!.. У них, женщин, тоже есть свои методы легких знакомств, почти невесомых флиртов, и многоопытный Истомин съел на этом деле не просто собаку – псарню целую. Была во времена Незнакомок и Неизвестных такая интимная игра – флирт цветов. Роза пишет тюльпану, а гладиолус – гвоздике, и все признаются друг другу в бурлящих чувствах. Стр-р-расть!.. Никаких страусовых перьев в мозгу Истомина не качалось. – И все-таки кого вы играете? – Знаете, небольшая роль, эпизод, девушка из мечты героя. А герой – бедный студент, медик, кажется. – По Чехову, что ли? – Как вы догадались? – Профессия… Официантка притаранила полный поднос закусок, до мелочей, до последнего грибочка, повторив заказ Истомина, ловко рассортировала по столу тарелочки, мисочки, блюдечки и тактично удалилась. Незнакомка откинула наконец вуалетку и обнаружила милейшее лицо, сильно тронутое гримом, но и сквозь тушь, румяна, синьку проступала неподдельная свежесть. Молода была Незнакомка, молода и хороша собой, и не избалована, судя по всему, вниманием борзых мужиков, как ее иные коллеги-премьерши. Истомин про таких, как Незнакомка, держал на вооружении летучий термин: «мой человек». Незнакомка явно была человеком Истомина, и, как показывал многоопытному писателю обмен репликами, она сама не отказалась бы стать его человеком. Взгляды, улыбки, голос, слова – все на что-то намекало, а такому профессионалу, как Истомин, намека было вполне достаточно. Впрочем, имело смысл проверить, имело смысл выстрелить прицельно. – Вы сюда надолго? – В Ростов?.. У меня три съемочных дня. – А потом? – Домой, в Москву. – Вы работаете в театре? – Ой, что вы, я еще учусь. – ВГИК? – Последний курс. – Сами москвичка? – Коренная. Родилась на Арбате, выросла на Пятницкой. Теперь пора вести допроск проблемам семьи и брака. – Выросли на Пятницкой, а взрослеете где? Какой-нибудь пошлый донжуан сказал бы не «взрослеете», а «хорошеете». Или «цветете». Но Истомин в работес женщинами никаких пошлостей себе не позволял. Его метод: четкость формулировок, чуть усталая строгость, а совсем глубоко – опыт, знание жизни и людей. Ну и, конечно, мягкость, добрая улыбка – вполнакала… – Взрослею далеко, к сожалению. Свиблово. Слышали про нашу деревню? – Помилуйте, какая ж деревня? Это целый город! Там даже проблемы телефонов нет. Оцените ход! Никаких прямых вопросов: мол, не дадите ли номерочек?.. Если умная – поймет. Незнакомка была девочкой умной. – Была проблема. Теперь снята. Можно звонить в любое время. Поняли? В любое время. Но про номер опять-таки – рано. Сам в руки упадет. Как яблоко. – Государства помогло? – Папа помог. Ага, папа есть. И мама, наверно, тоже, но на это Истомину наплевать. – Папе нужен был телефон? – Что вы хотите – родители! Они должны ежедневно проверять единственную дочку хотя бы по телефону. Ах ты черт! Никак к мужу не подобраться… Есть он у нее или нет? – Их можно понять: одна, невесть где в Свиблове… – А вы думали! Я, когда вечером дома, дверь на цепочку – щелк! Страшно одной… Теперь понятно: не замужем. Не слабо устроились нынешние студентки: отдельная квартира, телефон, цепочка на двери… А то, что «страшно одной», не слишком тонкий намек на желание быть вдвоем. И еще отметим: Истомин пока даже имени не спросил – не то что номер телефона. И это тоже было частью испытанной тактики, а она никогда его не подводила. Вот вам и Незнакомка?.. Великий Блок потому был великим, что умел идеализировать женщину, видеть в ней «глухие тайны» и верить, что «ключ поручен» только избранному. Вздор! Истомин, как вор в законе, обладал универсальной отмычкой, подходящей к любым глухим тайнам. И вдруг – тоже странность, продолжающая череду загадок нынешнего дня! – Истомин будто выпализ реального мира. Нет, он по-прежнему сидел за ресторанным столом, по-прежнему потягивал фирменный напиток, по-прежнему смотрел, как мило вкушает грибки знакомая Незнакомка, но он же, никому не видимый, наблюдал за собой со стороны, откуда-то сверху, может быть, с люстры. И что же он, невидимый, видел?.. Средних лет седоватого, длинногривого, потертого жизнью светского льва, этакого дрессированного умного левушку, знающего, когда нужно выдать рык, когда оскалиться, а когда прыгнуть на тумбу и встать на «оф», то бишь на задние лапы. Он видел миленькую и в меру глупенькую девушку, счастливую тем, что снимается в настоящем фильме, что случай свел ее за один стол с настоящим писателем, что – а, вдруг, а вдруг? – получится у нее настоящий роман, как у настоящих больших актрис. Он видел мамаш-официанток, ехидно наблюдающих за процессом охмурения младенцев и уже высчитавших про себя, когда младенцы окончательно охмурятся. И страшно стало Истомину – тому, который со стороны. И тогда он быстро-быстро сиганул вниз, влез в шкуру того, который сидел за столом, и уже один – общий! – Истомин резко обернулся, даже не слыша, что ему говорила Незнакомка, и крикнул официантке: – Можно вас? Та немедленно подошла. – Горячее нести? – Не надо, – сказал Истомин. – Сколько с нас? – Вам вместе считать? – Разумеется. – Ой, что вы, я так не могу, – запротестовала Незнакомка, но довольно слабо запротестовала, потому что жест Истомина, по ее мнению, логично укладывался в процесс. – Зато я могу, – усмехнулся Истомин. – Семнадцать двадцать, – ловко подбила итог официантка. Соврала, конечно, но не спорить же с ней! Истомин протянул ей две красненьких. – Спасибо, сдачи не надо. И принесите девушке кофе. – Встал, улыбнулся Незнакомке: – Желаю вам счастья. – Вы уходите? – растерянно и совсем не по сценарию спросила она. – Мне пора. Еще раз счастливо. И пошел, пошел, пошел. Не оглянулся. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». В. Шекспир, «Гамлет», акт первый, сцена пятая. Это был не Истомин, во всяком случае, не тот Истомин, которого автор отлично знает. Тот бы случая не упустил, тот Истомин по своей природе – охотник, и охотничий сезон для него не прекращается ни на миг. А этот?.. Аскет, женоненавистник, мрачный мизантроп?.. И к тому же Незнакомку расстроил, нарушил ее маленькие, но славные планы… Отъехал метров триста от заведения г-на Р. Крейцера и обнаружил индустриальный сюрприз: на проезжей части улицы спорые дорожники перекладывали асфальт. Дребезжал асфальтоукладчик, тарахтели катки, пара «МАЗов» с горячей смесью ревела на холостых оборотах. Белая стрелка в синем круге гнала Истомина в объезд, в смутную путаницу ростовских переулков, и он немедленно ринулся туда, не думая о возможных последствиях. Раз повернул, два повернул и три повернул, и вот они, последствия: похоже, он заблудился. Узкая улочка упиралась в многоэтажный дом, посреди которого виднелась темная арка-туннель. Тут бы Истомину развернуться, отъехать на исходную позицию, начать путь сначала, а он, опрометчивый вояжер, почему-то направил колеса в эту арку, что-то его манило туда, влекло, зазывало. Подчинившись неведомой силе, Истомин очутился в большом дворе – с зелеными лавочками, с желтыми песочницами, с пестрыми газонами, отгороженными от мира невысокими деревянными заборчиками. Двор был пуст, лишь посреди газона, в песочнице, хулиганского вида малолетка, уверенно балансируя на одной конечности, другой подбрасывал некий предмет и ловко подбивал его внутренней стороной стопы, считая вслух: – Семнадцать… восемнадцать… девятнадцать… Истомин отлично знал, что это за предмет: он назывался зоска и являл собой плоскую и тяжелую свинчатку, обшитую кожей, мехом или сукном. В далеком и туманном детстве Истомин слыл чемпионом двора по отбиванию зоски, мог не ронять ее до тех пор, пока не уставала опорная нога. Хорошая была игра, интеллектуальная. Судя по небольшому счету, малолетка только начал очередную серию. Он стоял спиной к Истомину – худенький, чуть ссутулившийся, в широкой выцветшей ковбоечке, в ветхозаветных сатиновых шароварах, в донельзя замызганных кедах – и сосредоточенно повышал свое спортивное мастерство. – Тридцать четыре… – частил малолетка, – тридцать пять… тридцать шесть… Истомин вылез из машины, не заглушив двигатель, стоял наблюдал. Кого-то ему напоминал парнишка, кого-то до боли знакомого. Кого?.. Муки памяти следовало утишить. – Эй! – крикнул Истомин. Парнишка вздрогнул от неожиданности и уронил зоску. Первым делом подобрал ее – еще бы, ценность-то какая! – и только тогда обернулся. – Чего? – невежливо спросил он. Светлые, не поддающиеся расческе волосы, выцветшие голубые глаза, нос-картофелинка, усеянный веснушками… В старом семейном альбоме Истомина имелась черно-белая фотография: он, десятилетний, стоит, полуобернувшись, в песочнице и сердито смотрит в объектив дешевенького «Любителя». Отец тогда окликнул его нежданно, оторвал от игры… Истомин, как зачарованный, шагнул вперед. – Ты? – только и выдохнул. Парнишка сощурил глаз, как пробуравил Истомина, длинно сплюнул и соизволил ответить: – Ну я. – Значит, и я? – засомневался Истомин. – Выходит, и ты, – усмехнулся парнишка. – Это уж как посмотреть. – Да как ни смотри… Сколько тебе лет? – Десять. А тебе? – Сорок. – Ни фига себе! Моему отцу и то меньше. – Как он? – Нормально. Зоску пятьдесят раз запросто бьет. Да ведь ты помнишь… – Помню. – Истомин шагнул в песочницу. – Дай-ка я попробую. Взял теплый от мальчишеской ладошки кружок, подкинул его, поймал на ногу, отбил-поймал, отбил-поймал, отбил… и потерял равновесие, чуть не упал. Ладно Истомин-младший плечо подставил. – Еще раз! – Расставил руки, тяжело балансируя, качаясь, как рябина из песни, довел счет до десяти. – Хорош! – Выпрямился, задыхаясь. Мальчик поднял зоску, обтер ее от песка, сунул в карман, протянул то ли сочувственно, то ли осуждающе: – Да-а-а… – Что «да»? – обиделся Истомин. – Поживи с мое. – Поживу, – усмехнулся Истомин-юниор. – Вижу, что поживу. – Черта с два кинешь. – Кину. Увидим. – Смотри на меня. Я – это ты. – К сожалению. Но необязательно. – Не нравлюсь? Мальчик отрицательно покачал головой. Стоял перед Истоминым, переминался с ноги на ногу крепко сбитый пенек-опенок, щерился довольно нахально. – Что ты обо мне знаешь! – оскорбленного в лучших чувствах Истомина, как говорится, понесло. – Ничего ты не знаешь! От горшка два вершка, а туда же… – Большой, а грубишь, – наставительно сказал мальчик. – Я, кстати, на встречу с тобой не набивался, ты сам во двор въехал. Захотел и въехал… – Он подошел к фырчащему «жигуленку», осторожно провел кончиками пальцев по пыльному капоту, заглянул в салон. – У вас такие машины? – И такие тоже. – Истомин опять почувствовал некое превосходство над юным альтер эго. – Хочешь? – Хочу… – Мальчик протянул руку и покачал руль. Нормально Начался руль, люфт – в пределах нормы. – Подрастешь – купишь. И еще много чего получишь. Я, брат, живу не зря. Мальчик, полезший было в салон, на водительское место, вдруг резко выпрямился и отчужденно взглянул на Истомина. – Чего ты расхвастался! Мне это ни к чему. Хотел меня увидеть – вот он я. И привет. Мне уроки пора делать. – Постой, – окликнул его Истомин, – ну постой же! Неужели тебе неинтересно, кем ты станешь? Я бы рассказал… Мальчик оглянулся. – Не надо. Я знаю, кем стану. – Мной, – сказал Истомин. – Дудки, – сказал мальчик. – Не стану я тобой. Не хочу. – Поздно, – горько сказал Истомин. – А вот и не поздно, – не согласился мальчик. И ушел. А Истомин сел в машину, выехал со двора и как-то сразу очутился на заветной магистрали, неуклонно ведущей к милому Ярославлю, к городу-цели. Что хотел, то и получил – по всем законам физики таинственного пространства-времени… Едучи на дозволенной скорости мимо населенных пунктов Коромыслово, Кормилицыно и Красные Ткачи, Истомин ничего не анализировал, не взвешивал вопреки привычке. Просто ехал себе, глядел вперед, и легко ему почему-то было, и мыслей никаких в голове не гуляло, кроме одной: а вот и не поздно. А вслед ему одобрительно грохотал «Сысой», мощно поддавал жару на прощание «Полиелейный», весело звенел «Лебедь» и тонко хихикал наглый «Баран». У киношников, похоже, перерыв давно кончился. Хотя, конечно, все это сплошная ненаучная фантастика: на таком расстоянии никаких колоколов, даже многотонных, не услышишь. Долгожданный Ярославль встретил Истомина спокойной Волгой, красным закатным солнцем, словно бы наколотым на Богородицкую башню Спасского монастыря, и бесконечными путаными трамвайными путями. Здание цирка возникло внезапно, вынырнув из-за какого-то дома и в очередной раз поразив Истомина своими внушительными габаритами – что там какой-то монастырь! Истомин бывал в разных цирках разных городов нашей необъятной страны и давно уже отметил для себя, что цирковые здания везде предмет законной гордости, этакая местная архитектурная достопримечательность. Не случайно же в телевизионных заставках программы «Время» на сводке погоды нам ежедневно демонстрируют какой-нибудь цирк: то в Тбилиси, то в Алма-Ате, то в Свердловске, а то и в Ярославле. Так что все, кто регулярно смотрит телепрограмму, смогут однажды зримо представить себе место, куда – после долгих мытарств! – прибыл Истомин. Он оставил машину у служебного входа в крохотном тупичке и вошел в цирк. Не преминул с гордостью подумать: не опоздал. На его часах светилось время: восемнадцать пятьдесят. – А мы уж в Москву звонили: выехал – не выехал, – к Истомину шустрил обрадованный директор. – Хорошо – успели, Владимир Петрович, а то уж и представление думали задержать… – Думали? – удивился Истомин. – Вы б лучше о зрителях думали: им-то каково ждать? К вашему счастью, опаздывать не научился… Где посадите? – Как всегда, Владимир Петрович: первый ряд, ложа. – Ну, ведите. Нырнули в какую-то дверь и очутились в закулисной тайной части, где уже собрались артисты в ожидании третьего звонка. Кто-то качался– грел мышцы; кто-то жонглировал – кидал и сыпал; кто-то бесцельно бродил туда-сюда – морально готовился; кто-то просто стоял – болтал, ничего не делал. Увидели директора с Истоминым – замолчали, замерли, стихли. Истомин видел сразу всех и не видел никого: лица перемешивались, дробились, растекались. Он затормозил, прищурился, желая сфокусировать изображение, остановить картинку. И картинка остановилась – во времени и в пространстве. Застыла на паутинках тонкая и высокая воздушная гимнастка, разлетелись длинные легкие волосы, повислив твердом воздухе… Анюта?.. Она-то как здесь?.. А вот и клоун, смешной и печальный, рыжий, с черно-белым милицейским жезлом, глаза грустные, но строгие… Валериан Валерианович Спичкин, товарищ капитан, откуда вы в Ярославле?.. А ты, дворняга, что тут делаешь? Или у тебя номер– «Говорящая собака из Верхних Двориков»?.. Тогда ладно, тогда жди… Наташа? Оля? Саша? Леночка? Марина? Маша? И еще Маша? Как, еще Маша, которая Маргарита?.. Давно не виделись, приятно встретить! Славный, однако, кордебалет в Ярославском цирке… – Ну что же вы? – нетерпеливо спросил директор. – Третий звонок… – Задумался… – Истомин очнулся от столбняка, разрешил времени идти дальше, и оно помчалось как оглашенное, как курьерский на длинном спуске. – Куда же вы? – крикнул вслед директор. – Что передать артистам? Они вас ждут… – Привет! – тоже крикнул Истомин. – Всем артистам пламенный привет и наилучшие пожелания! – И все? – громко удивился директор, не надеясь, впрочем, что суперскоростной писатель его услышит. Но Истомин его услыхал, поймал вопрос и сразу отбил ответ: – Больше ничего, извините, нету… – Вывернул карманы, обескураженно развел руками. Из кармана плюхнулась на пол Финдиляка, подскочила, как резиновый мячик, важно уселась в кресло. – Пусть начинают, – разрешила она. И тут-то все и началось.
Неформашки
|
|||||||