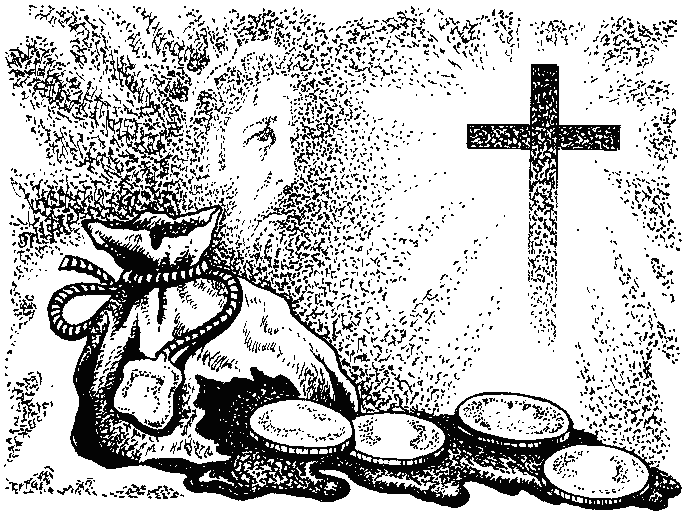Фата-Моргана - ФАТА-МОРГАНА 9 (Фантастические рассказы и повести)
ModernLib.Net / Андерсон Пол Уильям / ФАТА-МОРГАНА 9 (Фантастические рассказы и повести) - Чтение
(стр. 22)
|
Автор:
|
Андерсон Пол Уильям |
|
Жанр:
|
|
|
Серия:
|
Фата-Моргана
|
|
-
Читать книгу полностью
(2,00 Мб)
- Скачать в формате fb2
(2,00 Мб)
- Скачать в формате doc
(438 Кб)
- Скачать в формате txt
(418 Кб)
- Скачать в формате html
(2,00 Мб)
- Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
|
|
— И что же там хрустнуло? — не выдержал Таллант. — Кость. Собачья кость. Джиггер был задушен совершенно бесшумно. Бедный песик, он был такой маленький. И это существо сожрало почти все его мясо. Не доело, потому что хрустнула кость. Мозгов, видать, захотелось. Можешь посмотреть — там до сих пор остались пятна, кровь так полностью и не отмывается. На протяжении всего рассказа стояла тишина, но как только бармен закончил, посетители словно с ума посходили. Сержант авиации с диким воплем принялся трясти игральный автомат, требуя выигрыша, а рабочий со стройки за столом для покера, ругнувшись, встал и, перевернув пинком стул, угрюмо рявкнул, что у них здесь свои правила и что такая игра не по нему. Воцарившаяся было атмосфера ужаса рассеялась. Посвистывая, Таллант прошагал в угол, чтобы бросить монетку и завести какуюнибудь музыку, и как бы невзначай скосил глаза на пол. Правду говорил бармен или нет, но пятна там были. Таллант довольно хмыкнул. Он даже почувствовал к Каркерам какую-то благодарность. Вот уж кто действительно сможет помочь ему в его шантаже. Этой ночью ему снилась Власть. Его обычный сон. Он стоял во главе нового, образованного после войны, Корпортивного Американского Государства и отдавал приказания. «Иди!» — и человек шел, «Вернись!» — и другой человек возвращался, «Сделай это! Сделай то!» — и слуги повиновались и беспрекословно выполняли то, что он от них требовал. Затем явился откуда-то молодой парень с бородой, и его грязная, длинная шинель развевалась как одеяния древнего пророка. И он сказал: «Вознесся наверх и доволен? Вообразил себя на гребне волны — волны Грядущего, как ты сам ее называешь. Но внизу, в темной глубине, куда не достает глаз, дремлет течение, и оно — часть Былого. А также и Настоящего, и даже Будущего. Там Зло и Пороки Человечества, они во много раз чернее твоего зла и куда древнее. Бесконечно древнее». А позади развевающихся одежд, в их тени сновало что-то маленькое, худое и коричневое. Сон не нарушил душевного равновесия Талланта. Как не нарушила его следующим утром и мысль о предстоящей беседе с Морганом. Он с большим аппетитом проглотил собственноручно поджаренную яичницу с беконом и, раздевшись до пояса, приступил к расчистке земли для будущей хижины. Ветер стих, и солнце ярко сияло. Его мачете, сверкая, рассекал воздух и со свистом срезал стебли высокой травы и ветки кустарника. Появился Морган — лицо красное и весь в поту. — Пойдем в будку, — предложил Таллант, — там тень и прохладнее. И говорить удобно. — В удобной, прохладной тени глинобитной будки Таллант взмахнул острым мачете, и толстая, раскрасневшаяся рожа Моргана распалась пополам. Это было так легко. Легче, чем выкорчевывать корни шалфея. И абсолютно безопасно. Морган жил в захудалой лачужке на пути туда, откуда, по слухам, не возвращаются, а к тому же часто отлучался в исследовательские Походы. Его отсутствие, даже если и будет замечено, то никак не раньше, чем через несколько месяцев. Никому не придет в голову связывать его исчезновение с Таллантом. Нет тому причин. И уж менее всего вероятно, что Моргана станут искать в будке, где обитают привидения-каркеры. Тело оказалось неожиданно тяжелым, теплая кровь капала на голую кожу. Свалив тело Моргана на пол, Таллант испытал облегчение и огляделся. Пола как такового не было — ни досок, ни какого-либо покрытия. Только земля. Твердая, но могилу вырыть можно. И никто не заявится на эту проклятую территорию. Могилу не заметят, а пройдет год или чуть больше, и все спишут на Каркеров. И кости, и могилу. В поле бокового зрения что-то вновь шевельнулось. На сей раз Таллант вознамерился осмотреть все как следует. Неуклюжая и грубо сработанная небольшая мебель — как вырубили топором, так и оставили. Толстые доски соединялись деревянными колышками, а кое-где — наполовину сгнившими ремнями. Зола в очаге казалась столетней давности, и из нее торчали запылившиеся черепки глиняного горшка. Внимание Талланта привлек большой плоский камень с широким углублением посредине. Камень покрывали пятна, напоминавшие ржавчину. Но камни не ржавеют. За ним — крошечная фигурка, судя по всему, наспех и неумело слепленная из глины и палочек. В фигурке было одновременно что-то от человека, что-то от ящерицы и что-то от тех существ, что время от времени беспокоят ваше боковое зрение. С возрастающим интересом Таллант шагнул дальше. Когда он приблизился к едва освещаемому незастекленным оконцем дальнему углу, то у него невольно перехватило дыхание. На несколько секунд Таллант оцепенел. Но быстро пришел в себя и громко рассмеялся. Вот и объяснение. Один любопытный увидел, рассказал остальным, отсюда и пошло. Обрастая деталями, сложилась легенда. Каркеры и впрямь оказались неплохими учениками индейцев, переняв от них тайное искусство бальзамирования. Превосходно выполненная мумия. Но то ли от индейского чудодейства тела ссыхались, то ли это был десятилетний мальчик. От плоти ничего не осталось. Только кожа, да кости, да туго натянутые высохшие сухожилия. Веки закрыты, глазницы запали глубоко в череп, а нос… нос провалился и осел, и его вроде как бы и не было вовсе. И еще губы. И не губы даже, а тоненькие ниточки, натянутые поверх длинных и ослепительно белых зубов, выступающих немного вперед и резко контрастирующих с темно-коричневой кожей. Вот это да! Настоящее маленькое сокровище. Таллант уже прикидывал в уме, где он найдет ученого-антрополога и какое вознаграждение с него сдерет — надо же, убийство может сулить такую замечательную побочную выгоду, — как вдруг заметил, что грудная клетка на самую малую долю дюйма поднялась и опустилась. Этот Каркер не умер. Он спал. Оставаться там дальше и раздумывать над увиденным Таллант не осмелился. Времени поразмыслить над тем, возможны ли подобные вещи в правильно устроенном мире, уже не было. Как не оставалось его и на то, чтобы скрыть следа убийства и спрятать тело Моргана. Пора уматывать. Не теряя ни секунды, хватать мачете и бежать куда глаза гладят. Не добежав до двери, Таллант остановился. Со стороны пустыни, по направлению к будке, в которой он находился, приближалась самка. На этот раз он видел ее отчетливо. Рука в нерешительности подняла мачете, острый клинок звонко царапнул глиняную стеку. За спиной Талланта раздался сухой шелест — спящий поднялся. Обернувшись, мачете перед собой, он изготовился. Сначала покончить с этим, потом — разделаться с самкой. Ни в теле, ни в мыслях страха не было, только готовность действовать. Сморщенная коричневая двуногая ящерица с жадностью кинулась на Талланта, но он легко ушел в сторону и встал, ожидая следующего прыжка. Удачно, снова ушел. Подняв мачете повыше, он сделал шаг назад и, споткнувшись о безжизненное тело Моргана, полетел на поя. Подняться Таллант не успел. Кровожадное существо вскочило на него и впилось острыми зубами в мякоть ладони левой руки. Молниеносный взмах мачете — и сухое тощее тельце, отделившись от головы, уже валялось в стороне. Не вытекло ни капли крови. Хватка челюстей, однако, слабее не стала. Сильнейшая боль пронзила руку до самого плеча — острейшая и нестерпимая, какая вряд ли бывает от простого укуса. Похоже, что яд… Выпустив мачете, пальцами здоровой руки Таллант пытался что-то сделать. Тянул и рвал сухие коричневые губы, бил кулаком — бесполезно. Зубы раздать не удавалось. Он сел спиной к стене и, зажав отсеченную голову между коленями, стал вытягивать левую кисть. Кожа лопнула, показалось живое мясо и первые капли крови стекли на пол, подняв фонтанчики пыли. Хватка была мертвой. Весь окружающий мир сразу сжался и уменьшился до размеров человеческой кисти и державшей ее отвратительной нечеловеческой головы. Ничто другое в данный момент ровным счетом ничего не значило. Он должен освободиться. Поднеся невыносимо ноющую руку к лицу, он начал работать зубами. Сухая помертвевшая плоть клочьями отлетела в пыль, но сила челюстей пустынного монстра только увеличивалась. Его губы и язык скользили по сверхъестественно жемчужным зубам, рот наполнился вкусом теплой крови и чего-то еще, но Таллант не сдавался. Пошатываясь, он снова встал на ноги. Решение принято. Потом можно будет прижечь, или наложить жгут, обратиться к доктору и рассказать о гигантской твари, вынырнувшей из песков — они ведь тоже кусаются, местные ящеры, и еще как! — но сейчас он знал, что делать. Еще один взмах мачете, еще удар. Белая кисть левой руки валялась на коричневом полу, и ее намертво сжимали торчащие из коричневой головы белые зубы. Совершенно без сил, не в состоянии сделать и шага правой рукой Таллант оперся о стену. Свежеокровавленная культя левой безжизненно висела прямо над плоским камнем с углублением посередине. Кровь его, его сила и жизнь вытекали из него, и на это взирала маленькая фигурка из палочек и глины. Самка стояла как раз на пороге, мертвая коричневая худоба четко выделялась в лучах утреннего солнца. Она не двигалась. Ждала. И Таллант знал, что она ждет, когда углубление в плоском камне заполнится.
Перевод с англ. Н. Савиных
Ф. Теннисон Джесси
КЛАД
Лето в тот год выдалось долгим, и лишь в один из последних дней октября Брэндон неожиданно для себя осознал, что оно наконец закончилось. Разразившийся вскоре ураган прошелся по близлежащим болотам все сметающей волной, поднимая рябь на застывшей, серой поверхности мелких бухточек и заводей и срывая последние листья с гнущихся под напором ветра деревьев. Когда ураган утих, тепла уже больше не было. Воздух стал холодным, а по-зимнему бледное солнце заливало замерзшие топи чистым, негреющим светом. На разбросанных вокруг фермы вязах кое-какие листочки все же сохранились. Брэндон толкнул калитку, и его оглушили крики грачей, черные гнезда которых резко выделялись на фоне оголившихся веток. На секунду Брэндона охватила классическая меланхолия, свойственная человеку в тот сезон, когда год умирает, ибо это напоминает ему об Осени Жизни, которая, увы, не за горами. Но такое состояние длилось лишь мгновение, поэтому, оглянувшись в ту сторону, откуда пришел, он увидел меж зарослями тростника ярко-голубую, холодную воду, услышал хрустально-звонкие трели малиновки, репетирующей свою зимнюю песенку, и сердце его наполнилось благодарностью за то, что красота природы никуда не делась — болотистые низины оставались, как всегда, по-своему прекрасными. Пройдя через грязь и лужи к крыльцу дома, он встретил в дверях своего друга Майлза. Добрый, милый Майлз — в любую погоду, дождь ли, ветер ли, солнце ли на дворе — он тут как тут с мудрым, житейским советом. Но что такое? Почему с румяного, обветренного лица Майлза исчезла такая обычная для него бодрость, ведь он же никогда не унывал? Неужели и у него в душе зародилась аллегория о неизбежном конце всего живого? Не может быть. — Ты случайно не видел Тома и Джека? — спросил Майлз. Должны были допахивать те пять акров, но я нигде не могу их найти. Что случилось, ума не приложу. Никогда раньше не подводили. — Тома и Джека? Нет, не видел. Надеюсь, ты не всерьез их разыскиваешь? Наверняка что-нибудь боронят, возят навоз или сеют. Да мало ли у вас какой работы… Однако выражение тревоги с лица Майлза не исчезло. — Они стали какие-то странные. Очень странные. Вот уже два дня. С того самого времени, как нашли этот проклятый клад, распахивая востребованный мною обратно участок пустоши за большой плотиной. А сегодня утром они друг на друга так смотрели, что мне даже не захотелось их вместе отпускать. Что-то здесь не так, Билл. Не нравится мне это. Брэндон улыбнулся и принялся набивать трубку. — Ерунда, старик. Сам подумай — что может с ними случиться? Деньги слегка ударили им в голову, вот и все. Со многими бывало. И они перебесятся, вот увидишь. Но про себя Брэндон подумал несколько иначе. Действительно, странно. Всем известно, что лучше Тома и Джека во всей округе друзей нет. Никто даже и не читал никогда о такой дружбе. Будучи пацанами, они бегали в одну школу, в одной команде играли зимой в футбол, а летом в крикет, вместе катались на коньках, стреляли уток, вместе рыба чили, во время войны служили в одном полку, а потом одновременно женились на сестрах-близняшках. И никто никогда не видел, чтобы они косо посмотрели друг на друга. Не обладая какими-либо выдающимися способностями, они вряд ли бы когда-нибудь стали в жизни кем-то, кто поднялся бы над средой, в которой родился, но уж если говорить об этой среде и, в частности, об этой местности, то лучше них ни в чем никого не было на много миль вокруг. Безупречно честные, порядочные, умные парни, они, может быть, и не отличались быстротой ума, но славились практичностью и здравым смыслом. Том на год моложе, крайне подвижный и проворный, Джек — по сравнению с Томом тяжелый и неуклюжий, но сильный, как бык. Том мог запросто вспылить, но он так же быстро отходил, Джек же имел спокойную, ясную голову, что характерно для людей его телосложения. И впрямь непонятно и обидно, что какие-то несколько грязных старых монет могли встать между друзьями, которых до этого было не разлить водой. — Почему бы тебе не сказать им, — предложил Брэндон, что их старинная находка не стоит, возможно, и десяти пенсов? — Я уже пробовал, — сокрушенно ответил Майлз, — но ты же знаешь, что люди думают в таких случаях — что они выкопали невероятные ценности и что Британский Музей, не колеблясь, отвалит за них кругленькую сумму. Ну да ладно, это я могу понять, не укладывается другое — зачем из-за этого ссориться. Знай я, что такое произойдет, подумал бы, что они с радостью разделят все пополам, какую бы малость эти монеты ни стоили. Да и это, в конце концов, не главное. Они пропали куда-то, не закончив работу. Раньше я никогда не видел, чтобы они бросили свой инструмент, не доделав того, что начато. А ведь я воспитал их в старых традициях, они никогда еще не уходили с работы до времени. Но не успел Майлз это произнести, как откуда-то из глубины дома послышался громкий, испуганный голос, и на крыльцо выбежала служанка. — Идите туда, быстрее. Том и Джек дерутся в сарае… они убьют друг друга. Майлз опрометью кинулся в дом, оттуда в сад, через сад к сараю. Брэндон, не отставая, бежал следом. Большой сарай располагался на склоне уходящего вдаль поля, это было черное от дегтя деревянное строение с красной рифленой крышей. Рядом с ним золотом горели в лучах позднего осеннего солнца стога сена. Они бежали вверх по склону, жирный тяжелый дерн лип к подошвам, и Брэндон, опередив более старого хозяина фермы, ворвался в сарай первым. Сначала глаза ничего не могли различить. В сарае казалось очень темно, только крошечные пылинки, как струйки пара, извивались в падающих сквозь щели солнечных лучиках. Пахло скотиной, свежим сеном и разрытой землей, в полутьме проступали неясные очертания грубых, деревянных опор и перекладин. Но глаза постепенно привыкли, а до слуха Брэндона донеслись ужасные глухие звуки, похожие на сдавленные рыдания, сопровождаемые приглушенными ударами. Двое парней ожесточенно дрались. Они двигались то вперед, то назад, меся ногами мягкий земляной пол; тот, кто был больше, побеждал, он осыпал голову своего противника градом сильнейших ударов; тот, что поменьше, глухо рыдая, защищался, но не выдержал и в момент, когда Брэндон и Майлз прыгнули в их сторону, вдруг согнулся пополам, упал, как подкошенный, и замер. — Боже мой! — взревел Майлз и повис на руке старшего брата. — Прекрати сейчас же! Сумасшедший, ты же убьешь его! В ответ на него уставилось грубое, разъяренное лицо Джека. — А мне плевать, даже если и убью. Поганая собака! Он — вор! Самый настоящий вор! — Том — вор? Одумайся, в своем ли ты уме? Да ты бы должен был расквасить нос любому другому за такие слова. — Да-а… раньше я бы так и сделал. Но не сейчас… Он спер все деньги, которые мы выкопали на новой пустоши. Он где-то их спрятал и не признается, где. Врет и отпирается, будто их у него нет. Брэндон присел на колени рядом с лишившимся сознания Томом. По лицу Тома струилась кровь. — Посмотри, еще чуть-чуть, и ты бы убил его. Даже если то, что ты сказал, правда, тебе все равно должно быть стыдно. Но я не верю тебе. Том ни на что подобное не способен. О Боже, Майлз, взгляни на его кулаки. Ну-ка разожми пальцы, Джек. Брэндон поднялся и приблизился к старшему брату. Тот стоял, тупо уставившись перед собой, все еще держа наготове сжатые в кулаки руки. Когда Брэндон и Майлз подошла к нему, Джек безо всякого сопротивления разогнул вальцы, и в каждой ладони они увидели по куску гравия с неровными, рваными краями. С камней капала кровь Тома. Заглянув в остекленевшие глаза Джека, Брэндон повял, что говорить что-либо бесполезно, он почувствовал это по тому, как изменился стоящий перед ним человек, насколько не похож он был на того Джека, которого все хорошо знали. — Нам надо срочно забрать отсюда Тома, — обратился он к Майлзу, — вы с Джеком отнесите его в дом, а я пока все осмотрю. С удивительной покорностью Джек склонился к голове брата, по которой минуту назад готов был бить чем попало, и они вместе с Майлзом-отцом вынесли потерявшего сознание Тома на освещенное послеполуденным солнцем пространство. Брэндон перевернул стоявшее поблизости ведро и сел. Ему стало дурно при виде крови, он думал, его вот-вот стошнит. Глупая слабость, но он давно уже отчаялся победить ее и даже перестал этого стыдиться. В полумраке сарая сам воздух казался пропитанным насилием и низменными страстями, выпущенными на свободу неведомо какими силами. Странность, необъяснимость этой внезапной дикой ярости оскверняли, казалось, и делали тошнотворным даже падавший на истоптанную борющимися ногами землю солнечный свет. Брэндон не был сверхчувствительным человеком, но на протяжении всей жизни он-то и дело впадал в какие-то непонятные сиюминутные состояния, которые охватывали его ни с того ни с сего и потрясали до глубины души. Ему становился вдруг доступен какой-то сверхъестественный дар, не его даже, а чьей-то потусторонней силы, и это напоминало ему насильственное принуждение к видению большего, чем это обычно доступно для нормального человека, к новому осознанию самого себя. Как правило, такие мгновенные состояния душевной ясности наступали вслед за необъяснимым набором внешних признаков знакомое дерево или книжная полка приобретали внезапно ряд новых качеств, сам для себя он называл это «сдвиги», как если бы весь видимый мир вдруг неожиданно немного сместился в пространстве и предстал под несколько иным углом. Это давало новое направление, указывало на неизвестные ранее размеры, словно знакомое ранее дерево или книжная полка теряли присущие им свойства, переставали быть уже просто растением или предметом обстановки, а превращались в клин, вогнанный в пространство. В момент таких умственных пертурбаций все сначала казалось ему как бы на месте, и только потом, оглядываясь назад и все еще пребывая в состоянии легкого головокружения, он понимал, что угол зрения изменился. А затем, рассекая вновь появившееся пространство, появлялся откуда-то клин света, и этот клин освещал все под тем же, открывшим его углом, и этот новый угол казался единственно верным и правильным. Нет, Брэндон не видел, скорее, осознавал добавившимся ему чувством новый и более полный, законченный образ чего-то, что до того момента знал не совсем хорошо. Мотивы поступков друга, которых раньше он объяснить не мог; разрешение какой-то загадки, над которой ломал голову, готовя очередную лекцию по истории; а иногда даже и новый свежий аспект проблемы, которая не имела к нему, как он ни силился представить, никакого земного отношения. Вот и сейчас Брэндон сидел, как загипнотизированный, и почти верил, что наступило одно из таких состояний. Но он встряхнулся, переборол подступавший к горлу комок и встал. Ноги подкашивались — с детства знакомое ощущение, когда отсидишь что-нибудь, но он сказал себе, что виной всему расстроенные нервы и падающий через дверь под углом к полу сноп света. Отряхиваясь, он бросил взгляд на дальнюю стену сарая и заметил там валяющуюся на земле потрепанную войлочную шляпу. Брэндон подошел и поднял ее. Это была шляпа Тома — необычного светло-серого цвета, с пером голубой сойки за лентой, другой такой в деревне не было. К великому удивлению Брэндона шляпа оказалась странно тяжелой, он ее даже чуть не выронил. Пробежавшись пальцами по тулье, он нащупал что-то твердое и, запустив руку под подкладку, ощутил аккуратно завернутые в тонкую полоску материи монеты. Сквозь ткань он чувствовал их шершавую поверхность, так значит… Том все-таки солгал… он и в самом деле украл их и спрятал. Брэндон поежился, ему стало не по себе, так же, как и в тот момент, когда разжались кулаки Джека. Тяжело ступая и держа шляпу в руках, Брэндон вышел из сарая, пересек сад и вошел в маленькую комнатушку в передней части дома, которую Майлз использовал в качестве конторы. Закрыв за собой дверь, он подошел к столу, отодвинул на край бухгалтерские книги и бумаги Майлза, положил на очистившееся место шляпу и сел. Затем он перевернул ее, извлек на свет замотанные в длинную полоску монеты — Том упаковал их змейкой и сложил по всему периметру тульи — и, развернув материю, оказавшуюся грязным шелковым носовым платком, высыпал монеты на стол. Они легли неровной кучкой. И из-за этой-то несчастной горсти старинных, почти потерявших свою форму монет Том и Джек едва не перегрызлись? Невероятно! Брэндон наклонился и посмотрел на монеты поближе. Старинные, очень древние, многие расплющились, единственное, что ему удалось на них различить — это профиль кого-то из римских цезарей. Которого из них, Брэндон сказать не мог, но принадлежность монет к римской эпохе сомнений не вызывала. Но как могло случиться, что зародившаяся из-за этих монет зависть достигла такой силы, такого уровня, что оправданным стало даже убийство? Почему?.. Брэндон сгреб монеты в ладони… И вдруг, сидя там, он почувствовал, как на него нахлынула волна каких-то совершенно новых ощущений, она затопила все его существо от макушки до кончиков пальцев на ногах, он не шелохнулся бы, даже если бы дом, в котором он сидел, запылал ярким пламенем. Несмотря на то, что в руках, в ногах, во всем теле занимался пожар, Брэндон чувствовал, что становится холоден как лед, и понял — сам не зная как — то, что он держит в ладонях, источает такое зло, что восстает даже плоть человеческая, и зло это, вновь и вновь будучи открываемо людьми в виде монет, влечет за собой снова зло, и опять зло, и только ало. В темно-красном тумане ему с ужасающей ясностью привиделось, как эти мерзкие кусочки металла выворачивает из борозды плуг пахаря, как вытягивает их из глубин моря сеть рыбака и как на протяжении многих и многих столетий разрушаются и приходят в упадок владения тех, кому они попадают в руки. В мозгу возникло и начало биться понимание того, что монеты нужно куда-то убрать, унести и захоронить в таком месте; где их менее всего смогут найти люди будущих поколений. Он привяжет к ним такой груз, который никто уже не подымет со дна морского, а возможно — закинет их в самую забытую, самую заброшенную штольню, но он найдет способ. Брэндона сковал ужас. Ему не терпелось освободиться от этого наваждения, поскорее исполнить то, что задумал. Невероятным усилием воли он вернул себя к действительности. Вечернее солнце мягко освещало крохотную комнатку. И хотя Брэндона трясло по-прежнему, пожар в теле начал униматься. Он разжал руки, и монеты снова упали на стол. Утерев мокрый лоб, он убеждал себя, что минуту—другую следует подождать, что еще немного, и он будет в состоянии выполнить задуманное. Вскоре Брэндон встал, к нему вернулись спокойствие и рассудительность, но тем не менее — признался он самому себе — потрясение было нешуточным. И вдруг его осенило. Страшная мысль заставила протянуть руку и пересчитать лежавшие перед ним монеты. Он сосчитал их трижды, всякий раз надеясь, что ошибся, что второпях обсчитался, но число стершихся старинных кусочков серебра все три раза было неизменным. Их было тридцать. Брэндон аж подскочил и в ужасе отпрянул. Его бил озноб. Губы, как чужие, шептали какие-то звуки, звуки складывались в слова: «Тридцать серебряных монет… трид-цать… сере-бря-ни-ков».
Перевод с англ. Н. Савиных
Фриц Лейбер
237 ГОВОРЯЩИХ СТАТУЙ, ПОРТРЕТОВ И ПРОЧЕЕ
Последние пять лет своей жизни, когда его театральная карьера была полностью окончена, знаменитый актер Фрэнсис Легран проводил значительную часть времени, создавая собственные автопортреты, гипсовые бюсты, статуи побольше, картины в масле, эскизы, фотографии. Большинство из них изображало его в тех ролях, что принесли ему славу. Легран всегда был одаренным актером и в результате добился успеха. После его смерти жена заботилась о его портретах, которые напоминали ей о покойном муже. Вся коллекция состояла из 237 работ, расположенных в студии Леграна, гостиной, холле и спальнях дома, а также в саду. У Леграна был сын, Фрэнсис Легран II, которому фортуна улыбалась не ярче, чем большинству сыновей выдающихся людей. После неудачного третьего брака и потери одиннадцатой по счету службы, Фрэнсис-младший, которому давно уже перевалило за сорок, уединился в доме своего отца. Его отношения с матерью были дружескими, но сдержанными. При встрече они приятно беседовали, но в целом держались обособленно. Фрэнсис-младший пил довольно сильно, вел беспорядочный образ жизни и не имел определенных планов на будущее. Такая жизнь только расшатывала его нервную систему. Спустя шесть недель автопортреты его отца начали с ним разговаривать. Для него это было не удивительно, так как Целую неделю портреты преследовали его взглядами, а последние два дня смотрели на него, хмуря брови и критически усмехаясь. В это утро воздух был полон едва уловимых, зловещих звуков. Он был один в студии. Фактически он был один во всем доме, поскольку мать была у соседки. Раздался едва слышимый, раздражающий нервы, сухой, скрипучий звук, как будто мелом царапали по доске. Он быстро взглянул на гипсовую статую отца, изображающую его в роли Юлия Цезаря. И он отчетливо увидел, как зашевелились губы и язык статуи.
Отец:Я раздражаю тебя, не так ли? Или, скорее всего, мы раздражаем тебя?
Сын
(испугавшись, но овладев ситуацией и решив говорить откровенно):Да, это так. Настоящий отец или память о нем раздражает большинство сыновей, и любой психоаналитик, знающий свое дело, скажет тебе это. А если случается, что отец выдающийся человек, то сын еще в большей степени запуган, подавлен и держится в благоговейном страхе. И если, вдобавок, отец оставляет после себя десятки собственных изображений, если он настаивает на продолжении жизни после смерти…
(пожимает плечами).
Отец
(страдальчески улыбаясь с портрета, изображающего его в образе Иисуса из Назарета):Короче, ты ненавидишь меня.
Сын:О, до этого я еще не дошел. Ты утомляешь меня. Мне скучно. Мне надоело все время видеть только тебя.
Отец
(в черном, в образе капитана Стриндберга):Тебе скучно? Ты здесь только шесть недель. Подумай обо мне. Вот уже целых десять лет я вижу только твою мать.
Сын
(с долей удовлетворения):Я всегда считал, что ты не знаешь чувства меры в своей любви и преданности к матери.
Отец
(эскиз Ромео):Нет, сын…
Отец
(гипсовая голова Дон Жуана, перебивая):Да, это было скучное время. За последние десять лет в доме было всего три красивых девушки. А одна из них, та, что занималась сборами на благотворительность, пробыла всего пять минут. И ни одна из них не разделась.
Отец
(в роли Сократа):Это скучно. Так много моих автопортретов, а ты только один. Иногда я желал бы, чтобы я не создал с подобным энтузиазмом столько своих изображений.
Сын
(морщась от неприятных ощущений в мышцах шеи из-за постоянных поворотов головы от одного портрета к другому):Да, ты постарался! Двести тридцать семь автопортретов!
Отец:На самом деле их четыреста пятьдесят, но остальные спрятаны.
Сын:О Боже! Неужели они тоже живые?
Отец:Да, но только они в заточении…
(из всевозможных ящиков доносится тихое, но возбужденное ворчание и шепот).
Сын
(стремительно выбегая из студии в гостиную, охваченный страхом, который он пытается скрыть, говоря громко и презрительно):Какое громадное тщеславие! Четыреста пятьдесят автопортретов, Какой нарциссизм!
Отец
(с портрета во весь рост короля Лира у камина):Я не считаю, что это тщеславие, сын мой. Всю свою жизнь я гримировал свое лицо и надевал костюмы. Это занимало полчаса, а когда требовалась, к примеру, борода
(портрет трогает длинную белую бороду морщинистыми нарисованными пальцами)приходилось потратить час, а порой и больше. Когда я оставил сцену, у меня осталась привычка накладывать грим с жаждой преобразить свое лицо. И я удовлетворял эту потребность, рисуя автопортреты.
Сын:Я должен был знать, что ты найдешь прекрасное невинное оправдание. У тебя всегда это хорошо получалось.
Отец:За обычный театральный сезон я гримировался двести пятьдесят раз. Таким образом, двести тридцать семь моих автопортретов — это меньше, чем год, проведенный у столика в гримерной, а четыреста пятьдесят образов — это меньше, чем два года работы.
Сын:Не обманывая, ты никогда не смог бы создать такое количество портретов. Ты использовал фотографии, свои маски.
Отец
(в образе Леонардо да Винчи):Сын, великие художники обманывают таким образом уже пять столетий.
Сын:Ладно, ладно!
Отец
(в порыве откровения):Мои портреты позволяют мне вновь переживать триумф и поддерживать иллюзию, будто я все еще играю.
Сын
(жестко):Ты никогда этого не прекращал. На сцене или вне ее ты постоянно играл.
Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
|
|