 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Желязны Роджер :: Раззаков Федор :: Joyce James :: Андерсон Пол Уильям :: Лондон Джек :: Станюкович Константин Михайлович :: Сименон Жорж :: Толстой Лев Николаевич :: Лавкрафт Говард Филлипс Популярные книги:: The Boarding House :: Бурый волк :: Сорок бочек арестантов :: Пошехонская старина :: Мальтийский сокол :: 64 килобайта о Фидо :: Как мы изобрели фотосинтезатор :: Вторая книга Паралипоменон :: Записные книжки (1925—1937) :: Ресторан на краю Вселенной |
Фата-Моргана - ФАТА-МОРГАНА 9 (Фантастические рассказы и повести)ModernLib.Net / Андерсон Пол Уильям / ФАТА-МОРГАНА 9 (Фантастические рассказы и повести) - Чтение (стр. 16)
Пришлось подняться на задние лапы, и он побрел вдоль неправдоподобно гладкой дороги.
Около него остановилась четырехколесная повозка, которая раньше так пугала его. Но сейчас даже его ослабевший нюх сквозь острый запах машины и сладкий аромат духов уловил настоящий запах — запах самки. И потому, когда она открыла дверцу и сказала «Садись, подвезу», — он не убежал, а присоединился к ней. Сначала она пролаяла что-то приветливое, но потом, когда он начал делать с ней то, чего она хотела, чего требовал ее запах, лай превратился в визг. Конечно, это его не остановило, и он выполнил то, что всегда положено делать весной. Она еще продолжала вопить, когда он вылез из машины и попытался бежать на задних ногах. Его покачивало, и скорость была немногим большей, чем у пешехода, но все-таки воздух приятно касался разгоряченного лица, легкие захлебывались, он действительно бежал. Жаль, конечно, что он не сможет приносить ей пищу и быть с ней, когда придет время щениться, как положено нормальному волку. Но, по, крайней мере, он твердо знал, что запах ее он запомнил навсегда, и, если им суждено когда-то еще встретиться, он ее узнает. Но сейчас даже весенний бег не вызывал обычного восторга. Он сам чувствовал, как недостает ему сейчас привычной гибкости и легкости, как часто он спотыкается и как тяжело дышит. Кроме того, он чувствовал запахи множества двуногих, толпящихся вокруг него, и вонь, исходящую от них, не мог заглушить даже резкий запах их машин. Он остановился, присел на корточки и в первый раз за все это время усомнился. По его безобразным, безволосым щекам стекала соленая влага, сочащаяся из уголков глаз. Волки не плачут. Но если он не волк, то кто же он? Откуда же тогда все его воспоминания о прошлой нормальной жизни? Ладно, слезы или не слезы, но он твердо знал, что он волк. И он хочет быть настоящим волком, избавиться наконец от этой тошнотворно гладкой безволосой шкуры, противной, даже если он касается ее такой же безволосой и мягкой лапой. Это была его заветная мечта. Вернуться в единственно настоящую реальность, где он был волком, со своей волчьей жизнью и волчьей любовью. Все это произошло в первый день и ночь его новой свободы. В следующий раз он был не так занят собой, внимательнее смотрел вокруг и вернулся в свое логово гораздо быстрее. Ничто в его волчьей жизни не подготовило его к тому, что увидел он на улицах большого города. Здесь он понял, что грубы и жестоки бывают не только самцы, от которых самки вынуждены охранять свое потомство. И никакое животное, хоть ему и приходилось порой слышать, как они стонут, не могло бы стонать и плакать так жалобно, как люди. «Не надо, прошу! Так больно!» И полупридушенный крик, и потом — растерзанные тела. Приходилось ему порой слышать и звуки хлыста. До сих пор ему и в голову не приходило, что люди могут использовать хлыст против себе подобных. В свой третий выход он решил последовать за двуногими и попал в огромный зал, где по экрану скользили черные и белые тени, а свет придавал им некоторую реальность. На цветные фильмы он старался не попадать. А вот черно-белые оказались более чем подходящими для его волчьих глаз. И случилось так, что во время одного из этих сеансов он понял, что не одинок. Потрясение смотрел он, как мужчина на: экране опустился на четвереньки, запрокинул голову, завыл и тут же превратился в волка. Вервольф, так называли в фильме этого человека. И если это существо могло превращаться из человека в волка, думал он, замерев на стуле в толпе двуногих, значит, могло случиться и так, что волк превратился в человека. Правда, в человеческом языке и слова нет, чтоб назвать подобное существо. На экране мелодрама шла к предрешенному кровавому концу, и вервольф умирал, застреленный серебряной пулей… Он смотрел, как исчезает его мех и лапы превращаются в человеческие руки. Он вышел из кинозала, и голова его кружилась от новых мыслей. Так вот что ему надо сделать: превратиться опять в волка и при этом не погибнуть. Тогда сбудутся все его мечты… И так он уже привык в каждый свой выход обязательно заходить в зоопарк. Служители привыкли к нему и уже приспособили его помогать, они не возражали, если он кидал своим щенкам лишний кусок мяса. Сначала его подруга рычала и скалилась, когда он подходил к клетке, но скоро и она смирилась и, хоть и настораживалась, но позволяла ему подходить к самой решетке. Щенки уже подросли, стали почти взрослыми. Иногда ему было жаль, что они проводят юность за решеткой и никогда не узнают радости весеннего бега, но тут же ему думалось, что зато они всегда сыты, всегда в безопасности, и у них есть логово, которое они могут назвать своим. Щенки подросли настолько, что готовы были начать самостоятельную жизнь, когда он нашел место, где двуногие собирали книги. Место это называлось «библиотека». Привела его сюда женщина, которая в больнице учила его и других больных говорить, читать и писать. Он помнил фильм о вервольфе, и потому сначала заказал все, что там было о ликантропах. Как он понял, во все времена, во всех странах были двуногие, которые умели превращаться в четвероногих — в волков, в тигров, в пантер… Но ни разу ему не встретилось упоминаний о четвероногих, превращавшихся в двуногих. Разбитая писания, он выделил главные приемы, посредством которых двуногие совершали превращения. Почти все они казались чересчур сложными и бессмысленными. Например, рекомендовалось использовать пояс из человеческой кожи, украшенный подвешенными к нему амулетами. Надо было перебирать их в определенной последовательности, произнося при этом нескладное и запутанное заклинание. Одна из старинных книг предписывала двуногим, желающим превратиться в четвероногих, выйти в полнолуние на перекресток дорог, подпоясаться поясом из человеческой кожи, опорожнить мочевой пузырь и пропеть определенные заклинания. И после этого, как говорила книга, должно произойти превращение. Он дочитал последний том и почувствовал, как тяжело и гулко бухает сердце. Если двуногие могут превращаться в четвероногих, значит… После долгих тревожных раздумий он решил, что пояс из человеческой кожи в его случае вряд ли подходит. Ему пришлось долго объясняться со служащим мехового магазина, пока он получил наконец длинный и узкий кусок волчьего меха, достаточный, чтоб сделать из него пояс.. Наконец пояс был готов, пряжку, такую, как описано в книге, он смог сделать сам. Ему везет, думал он, стоя в ночном пустынном зоопарке, что нужный перекресток оказался совсем рядом с его клеткой. Встав точно на скрещение дорог, он разделся догола, застегнул на талии пояс, машинально поглаживая пальцами густой пушистый мех, и начал распевать заклинания. Он произносил бессмысленные слова, отмечая в то же время, что стоять голышом становится холодно, и не пора ли, как написано в той книге, опорожнить мочевой пузырь. Вот все закончено. Он сделал все, что было в его силах. Сначала ничего не произошло. Он стоял один под бледной луной, и в душе боролись злость и страх, что он попадется в таком виде на глаза кому-нибудь из двуногих и его опять отправят в тот странный зоопарк, который вовсе не был зоопарком, хоть там и были решетки на окнах. Но тут у него сильно заболела спина, и он вынужден был опуститься на четвереньки. Боль нарастала, выворачивая суставы, растягивая мышцы, и длилась, длилась, длилась… Наконец он смог открыть глаза. Однако и с закрытыми глазами он понял, что все случилось, как он хотел. Ночной ветерок доносил знакомые запахи, и он понял, что к нему вернулось его чутье. Поднявшись на четыре сильные крепкие лапы, он обошел сброшенную одежду, от которой тянуло сильной вонью двуногих, и пустился бежать. Отросшие когти неприятно скребли цемент, он свернул на газон и с радостью ощутил под ногами живую землю. Он запрокинул голову, и из самой глубины его существа вырвался гимн волчьему божеству — луне. Животные в клетках, мимо которых он пробегал, почуяли его, забеспокоились, и это его радовало, словно новое доказательство его реальности. Бежать сквозь ночь, просто так, без всякой цели, бежать и чувствовать под лапами прохладу живой земли было так приятно. Тут за всеми ночными звуками, за шумом, поднятым проснувшимися животными, он услышал голос своей подруги и тут же забыл и о новой свободе, и о ночном ветре, и о холодной белой луне и помчался к ней. Утром служители зоопарка были немало удивлены, обнаружив около той клетки, где когда-то нашли голого человека, спящего волка. Служитель тут же узнал его и впустил в клетку. Такой радости, как сейчас, при встрече с подругой, он не испытывал никогда в жизни. Очень скоро он снова стал нормальным волком и почти забыл о своей жизни без клетки. Только во сне порой возвращалась к нему память о двуногом существовании, и тогда он вздрагивал и тихонько скулил. Но подруга прижималась к нему покрепче, успокаивающе облизывала, и кошмары проходили. И только один раз, когда он уже провел в клетке почти полгода, ему вспомнилось все. Это случилось, когда мимо его клетки прошла женщина, катя перед собой маленькую коляску. Он узнал ее запах, как и лежащего в коляске маленького существа, хоть он его и не видел. Уткнувшись в решетку клетки, он глубоко и долго втягивал этот запах. И женщина, катившая коляску со своим нежданным ребенком, пристально посмотрела на него, заглянула в глубину горящих желтых глаз и, похоже, поняла, кем он был. И с ужасом он подумал, что этот несчастный ребенок, беспомощно спящий в коляске, однажды лунной ночью почувствует желание встать на четыре лапы, обрасти пушистым мехом и красться сквозь тьму… И так никогда и не узнает, чего же он ищет и что толкает его на эти поиски. Перевод с англ. Т. Завьяловой 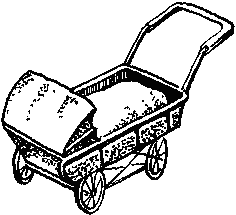
Джоанна Ватцек
|
|||||||||
