 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Кларк Артур Чарльз :: Сименон Жорж :: Желязны Роджер Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: По заданию преступного синдиката :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: «Фирма приключений» :: Полет :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона :: Мертвые души |
Великое сидениеModernLib.Net / Историческая проза / Люфанов Евгений Дмитриевич / Великое сидение - Чтение (стр. 19)
Но больше молодым людям нравилась и лучше запоминалась Европа под видом девицы, у которой Гишпания – лицо, Франция – грудь; Великая Британия – левая, а Италия – правая рука; Нидерланды лежат под левою, а Швейцария – под правою рукой; Германия, Польша и Венгрия надлежат до тела; Датское и Шведское королевство купно с Норвегией – изъявляют колена; Россия – показывает юбку до самых ног, а Греция и Турция – заднюю сторону оной девицы. На самом верху Сухаревой башни, на ее чердаке, была устроена астрономическая обсерватория. Здесь молодые астрономы под руководством Якова Брюса изготовляли особые трубы для наблюдения затмения солнца, вычисляли время, когда оно произойдет, готовились делать его зарисовки. О предстоявшем солнечном затмении московским жителям говорилось, что пугаться его не следует, это «явление натуры вполне естественное». Но кто увещевал людей? Колдун Брюс. А ему разве можно верить? А может, с затмением солнца и всей земной жизни настанет затмение. В московском народе, особенно среди старообрядцев, о Сухаревой башне ходили самые недобрые слухи. – В одну темную-растемную ночь на этой проклятой башне царь Петр вместе с колдуном Брюсом давал клятвенное обещание дьяволу обрить всех до одного православных христиан, чтобы исказился в них образ божий. – Брешешь, тетка! – А пускай язык у меня отсохнет, коли брешу! – И тут же показывала тетка язык. – Гляди, целый! Собака брешет, а не я. Самим юнцам из боярской знати и родителям их Петр внушал, чтобы никто не надеялся на свою достославную родовитость, а добывал бы себе чины и почести службою, полезными государству делали; что отошла пора кичиться происхождением, которое не будет теперь давать никаких преимуществ, если нет заслуг перед отечеством. А для того, чтобы стать полезным своему государству, надо питать любовь к наукам и не сторониться учения. Чтобы возвысить в глазах былой знати своих неродовитых сподвижников, Петр возводил их в звания, не снившиеся никакому спесивому боярину. Меншиков был в ранге светлейшего князя и герцога Ижорского, а перед тем, по ходатайству самого царя, тому, худородному, было дано звание князя Священной Римской империи. Генералами стали Головкин, Мусин-Пушкин, Зотов, Толстой, Ягужинский, адмиралом – Апраксин. Царь заставил засидевшихся дома бояр выйти из своих подворий, огороженных высокими заборами и закрытых крепкими запорами, где они, как их отцы и деды, были властелинами своих домочадцев и неисчислимой челяди, и принудил этих господ думать не только о своем поместье, но знатно проявлять себя на государевой службе. А вслед за главами боярских и дворянских семейств, стали выходить за ворота их жены и дочки, покинув успевшие опостылеть им светлицы и терема. А смышленые торговые и посадские люди не избегали ни учения, ни службы, поняв, что это поможет им проникнуть в благородное сословие и встать в один ряд с высокородными. Где и у кого недорослям учиться, кроме начальных азбучных истин, царем давно уже было решено. Он не только отправлял за границу своих молодых людей, но и сам туда ездил. Навсегда ему запомнилось, как проходил в Саардаме морскую корабельную службу, начиная ее с рядового матроса. Учиться следовало у иноземных мастеров при непременном условии, чтобы учили они со всей добросовестностью, ничего из умения своего не скрывая. – Мокей Свинухов!.. Поликарп Лузгин!.. Федор Самоседов!.. – одного за другим выкликал дьяк, и к самому царю с душевным трепетом приближались низкорослые, долговязые, худощавые, растолстевшие, только-только вступившие в отроческий возраст и выходившие уже из юношеской поры, курносые, горбоносые, черные, рыжие, белобрысые, конопатые, бледнолицые и краснорожие, болезненные и пышущие здоровьем, богатые и оскудевшие, у одних – землистый цвет лица, у других – кровь с молоком, мелкопоместные и многовотчинные, пригожие и неказистые, статные и сутулые, а не то – кривобокие да горбатые, иной – смелый до озорства, а другой – робкий до слезливости, – чуть ли не близко к восьми тысячам молодых дворян было собрано в Москве, и несколько часов подряд сам царь Петр производил им смотр. С одного взгляда определял, кому кем стать. Самых старших – в солдатскую службу; средних по возрасту – на отправку за море: в Голландию, Англию или Италию для изучения там морской навигационной науки; малолетних – в свои цифирные школы. И дьяк всем в тетрадке отметку делал. Не тронуты лишь увечные да сильно хворые. В добавку к великим тягостям от нескончаемых денежных и иных поборов, призывам дворян на государеву службу их же еще и в простые солдаты, на смертоубийственную войну забирают, а также и на тяжелые работы в не милых ни сердцу, ни глазу местах. И того, оказывается, царю мало: явилась новая потребность в молодых дворянских людях – в чужедальних странах приспособлять к корабельной науке, а там их могут сатанинские прелести ожидать. Не больно-то многих одолевало любопытство увидеть, как в чужедальних странах люди живут, большинство дворянских недорослей с превеликим горем отправлялись туда, где не бывали ни отцы их, ни деды. Да и отправлялись-то не на погляд чужой жизни, а для дела мудреного, тягостного, нисколько не сообразного с дворянским, а то и с боярским званием. И тем более постыло все это было еще потому, что никто не знал никаких иностранных языков. Некоторые были женаты, уже имели детей, и сколько горько плачущих родичей оставалось в Москве и по усадьбам! Тужили, плакали на расставании с назначенными обучаться матросскому ремеслу в еретических землях, где греховное общение с иноверцами погубит молодые души и в сей жизни, и в будущей. – Сказывают, что у тех еретиков Коперник – богу соперник. Уезжали из Москвы с большими проволочками; первый стан был в селе Коломенском, в семи верстах от Москвы, и стояли в том селе три дня для прощания-расставания с родственниками. Жены отправляемых в дальнюю даль надели траур – синие платья. – На бесстыжих там не блазнись, меня помни… – Отдаляйся, сынок, от еретиков-бусурманов… – Помни родительское наставленье… Наказы, просьбы, заклинания. – Эх, надо было всему народу сторону царевны Софьи держать, тогда бы и разлук этих не было. Один сын вызвался своей охотой в заморские края ехать, – с мачехой ужиться не мог, так отец на него медведем заревел: – Прокляну! Отцовского благословенья и всего наследства лишу! Опасался старик, что, познав за границей безотцовную сладкую вольность, сын домой не вернется. Была на загляденье семья – в довольстве да в благоденствии, на радость родителям сыновья росли, ан вышло, что на безутешное горе они вырастали. Одного на свейскую войну взяли, другого – в крепостном гарнизоне служить, третьего сына – в иноземную матросскую науку услали, четвертого – в сухаревскую цифирную школу, пятого… Ой, да что ж это делается?! Была семья, и словно господнее наказание – страшенный мор на нее напал, – обезлюдел, будто вымер дом. – На что, кому нужны эти треклятые навигации, ферти… фиты… фиркации… Язык сломаешь – не выговоришь. Без них, слава богу, жили от Володимира святого до нонешних дней. Стон и вой по боярско-дворянским хоромам. – Злосчастные мы какие… Соседям вон бог помог: малого жеребец зашиб. Куда ж его с опухшей ногой? Поглядел на смотру царь, рукой махнул и отпустил. – Услыхал бог просьбу родительскую, вот парень и уберегся. – Никто, как бог. – Бог… А говорили, что жеребец ему коленку зашиб. – Одну партию отправили, теперь новую набирают. Стенались родители, горевали, но просить об освобождении набранных никто не решался. Слух был, что за первую же просьбу царь такой гнев на просителя обрушит – во всем роду-племени отзовется. Благословляли молодых людей, обмирали, прощаясь с ними, как с обреченными на смерть. И опять вздохи, вздохи, тягостные недоумения: – К чему все это? Разве нельзя жить, как наши предки жили? Они к иноземцам не ездили и их к себе не шибко пускали. Не было моря и флота в прежнем Московском государстве, – воды и в реках на всех хватало, – чуждо было русским людям морское дело, и не могла тяга к нему передаться молодому племени. Только сам царь Петр оказался из всего своего сухопутного рода выродком. Едва увидел в Архангельском городе доподлинное море, так данное матери обещание – близко к морской воде не подходить – позабыл. А божился ведь! И она, сердешная, будучи далеко от него, в Москве, уподоблялась той курице, что утенка вывела. Он, видишь ли, обрадовался воде и поплыл, а она, бедняжечка, металась по берегу, квохтала, кудахтала, страшась за него, что утопнет. – Истинно так с царем Петром и с его царицей-матерью было. Истинно так. Нет, не так. Близоруко бояре видели, не умели заглянуть в прошлую даль, а в той дали была заветная мечта-думка прежних русских людей – моря достичь. И, если нельзя его к себе подвести, то самим к нему подойти, будь то море Белое, Черное или другого какого цвета. После того как сам Петр с Меншиковым и некоторыми другими приближенными лицами поучился в иноземных местах, за границу посылались многие близкие к царскому двору люди. Был там Абрам Лопухин, родной брат царицы Евдокии, ярый противник всех новшеств, вводимых Петром; были трое Милославских, двое Соковниных. Петр Андреевич Толстой вместе с солдатом Иваном Стабуриным были учены у иноземцев морскому делу: познанию ветров, морской карты, наименованию парусов и снастей при них, корабельных инструментов и разных других принадлежностей, и после обучения оба проявили себя во всех корабельных делах способными и искусными. Петр спрашивал Толстого: – Помнишь, тёзка, какие ветры над Адриатическим морем летают? – Помню. Как будто только сейчас из плаванья воротился, – отвечал ему тёзка Толстой. – Левантий, что означает восточный, потом греко-трамонтанс, маистро, потенто, а между ними – полуветры и четверти. Плаванье было весьма опасным, и Толстому не раз приходилось натерпливаться страха необоримого, пребезмерного, но он никогда не подавал вида, что душа у него уже замерла. Было однажды: корабль так накренился, что пушки левого борта черпали дулами воду, а на правом борту задирались вверх, будто намереваясь стрелять по облакам. Попадал корабль в штормы, когда его швыряло из стороны в сторону, вверх и вниз, но не жаловался Толстой ни на какое лихо. Лежало на его жизни одно пятно: при воцарении Петра оказался он, Толстой, в числе приверженцев царевны Софьи, но, должно быть, в счастливую минуту судил его молодой царь, простив этот грех. Как-то в минуты откровенности, припоминая прошлое, сдернул Петр с головы Толстого пышный парик и, похлопав ладонью по рано начавшей плешиветь толстовской макушке, проговорил: – Эх, голова, голова! Не быть бы тебе на плечах, если б не была так умна. Толстой смущенно улыбнулся, вздохнул, – Кто, государь, старое помянет… – и, спохватившись, замолк. Умная голова, а чуть было не вымолвила несуразное. Петр знал недоговоренную присказку, но не рассердился, а засмеялся. – Ну нет… Хотя и помяну старое, а лишить себя глаза не дам. Изучающим навигацию вменялось в обязанность «владеть судном, как в бою, так и в простом шествии, и знать все снасти, к тому надлежащие: парусы и веревки, а на катаргах и иных судах весла и прочее. Сколько возможно искать того, чтобы быть на море во время боя, а кому и не случится, ино с прилежанием искати того, как в тое время поступить». И, конечно, познать «морскую болезнь». Сначала посылались за границу молодые люди обучаться корабельному, навигацкому делу, а потом стали направляться туда и для познания архитектурных, инженерных, врачебных наук; в Голландию посланы были, чтобы еще и цветоводство хорошо распознали. «… Дивно. Ну, дивно! Никогда бы не подумал, что такое взаправду бывает: по всем улицам и переулкам вместо земли – вода морская. Застав городских и рогаток нет, и по тем водяным улицам сделаны переходы для пеших людей и множество мостов, под которыми проплывают украшенные коврами да цветами лодки, называемые гондолами, с гребцами-певунами. А по бокам, как бы на берегах тех водных улиц, стоят красиво состроенные дома, только в них вовсе нет печей, а есть камины. Все дивно и приглядно любому взору. И в этой Венеции, всечасно чтимая маменька, женщины и девицы одеваются вельми изрядно. Головы и платья убирают цветами, кои во множестве у домов продаются. Женский народ благообразен и строен, в обхождении политичен и во всем пригляден. (А может, про женский народ совсем не следует писать маменьке, а то она подумает чего и не было вовсе.) К ручному делу теи девицы не больно охочи, а больше проживают в прохладе. И бывают, маменька, в Венеции предивные оперы и комедии, и называют их италиане театрум. В них поделаны чуланы в пять рядов, а пол лежит навкось, чтобы было видно одним за другими. И начинают в тех операх представлять и петь в первом часу пополуночи, а кончают в пятом или в шестом часу утра, а днем ничего там нет. И приходят в те оперы, дражайшая маменька, люди в машкарах, по-нашему сказать – в харях, чтобы никто никого не признал, и гуляют все невозбранно, стараясь лучше веселиться. (Ну, а о том, что, например, на площади святого Марка многие девицы, прогуливаясь в надетых на лица харях, берут за руки приезжих иноземцев, гуляют с ними и бывают большими охотницами целоваться, – об этом, конечно, маменьке сообщать не надо. Лучше про другие веселые развлечения рассказать – музыкально-танцевальные.) Можно сказать, маменька, что танцуют по-италиански не зело стройно, а скачут один против другого, за руки не держась. И еще на площади святого Марка увеселяются травлей меделянскими собаками больших быков. В Москве такой диковины увидеть нельзя. И на той же площади на погляденье собравшимся бывает, что одним махом секут мечем голову быку. Глянешь на это и приужахнешься, но вы не пужайтесь, маменька, мы глядим на это, стоя далече на стороне. И еще бывает, что венецейские сенаторы играют в кожаный надувной мяч. А про кулачный бой дяденьке Капитону Кузьмичу расскажите, что зачинают и ведут его на мосту один на один, и бьются нагишом. Кто первый зашибет до крови или с моста сбросит, тот и одолел. И люди большие заклады на те кулачки кладут. А бьются по воскресным дням и по другим праздникам». – Митька, ты про кулачки писал? – Ага. – И я тоже. – Пиши, Гавря, про что хошь, только не жалобься. Прознают – попадет за жалобу, – предупреждал товарища по навигацкому учению Митька Шорников, сын бывшего петербургского гостинодворского купца. – Пиши, что до всего любопытно и нисколь жить не голодно. – Пока письмо до дома дойдет, мы все тут, отощамши, околеем, – уныло вздохнул Гавря. – Авось и с проголодью тож обвыкнемся. Пиши, что ладно все. И Гавря продолжал писать: «В судебную палату нас водили и там показывали статуйного человека над дверьми: вырезано из камня изображением женского полу, в образе Правды. А глаза платком завязаны, чтоб не видела ничего, и в одной руке держит весы, а в другой меч. А близко того дворца на море стояла галера и на ней галиоты, кои осуждены в вечную работу. У площади стоят предивного строения дома разных прокураторей и при них изрядные лавки, в коих продаются сладкие сахары и напитки: чекулаты, кафы, лимонаты, и табак дымовой и носовой. А до Венеции видели город Ульмунц. Там на воротах ратуши часы бьют перечасье музыкальным согласием, и в то время вырезанные из дерева куклы под названием марионеты, бьют в колокола руками, как живые люди, а двое в трубы трубят. Все это, маменька, зело предивно и смотреть можно глаз не оторвамши. И монастырь есть, где монахи носят серые одежды из сермяжного сукна и ходят босы, а мяса никогда не едят. («Тоже и мы его почти не едим», – горестно подумал сочинитель письма, но о том ни словом не обмолвился.) Бороду те монахи никогда не бреют, кроме воды, ничего не пьют и живут по одному в келье. На них смотреть не лестно, и больше ничего описать не могу. Обсказал обо всем, как дорогая и бесценная маменька наказывала мне, всегда и во всем покорному своему сынишке Гаврюшке. Да вот еще что, маменька, вспомнил приписать. Говорили нам на учении, что кошку на корабле всегда надо держать для мышей. Ежели мыши что из товаров съедят и хозяин товаров станет об том бить челом, и буде кошки не было, то убыток на капитане доправят, а буде кошка была, то и нет ничего. Теперь все. Остаюсь Гавря – сын». Случалось так, что отправленные за границу учиться морскому кораблевождению, познакомившись с компасом, считали свое учение оконченным и, не побывав в море, хотели уже возвращаться в Москву. – Как это так? – возражали им учителя. – А кто же морской болезни отведает? Нет, окончание морского учения еще далеко. Ученики навигацкой школы должны были уметь разбираться в чертежах кораблей и в морских картах, знать все корабельные снасти и паруса и уметь управлять ими, владеть судном в любом плавании и особенно в бурю. Трудно давалась им эта наука, да еще при незнании языка учителей и плохом толмаче-переводчике, путавшемся в русских словах. Не выдержав такой тяготы, великовозрастный дворянский сын Иван Мороков сбежал из Венеции, сумел добраться до своей родной Вологодчины, постригся в монастырь, стал называться Иосафом, но не смог уберечься и там. Дознались власти, кто он такой, как и почему постригся, да и воротили его из обители святости снова в греховную жизнь, где для нового ее начала попал сразу же под кнут. – С галерной каторги не побежишь, прикуют тебя, резвого, – предрекали дальнейшую судьбу беглеца. Скорбя о сыне, отправленном за море в муку-науку, вынул старый боярин из родовой укладки рыжий лисий мех на шубу, да две черно-бурые лисицы, да сто огонков соболей, да пять сороков горностаев и послал в подарок венецейскому гранд-магистру, чтобы боярскому сыну Семену Рожнову в науках послабление было. Кто-то из венецейских властителей получил этот подарок, не зная, как ему в теплой Италии меха применить; долга и честности ради поинтересовался узнать, в чем нужда по науке у российского дворянина Семена Рожнова, но того в Венеции уже не было, переправлен на обучение в Англию. Которые по малому своему разумению или по большой лени в заморском учении ничему не научились, тех Петр отправлял в полновластное распоряжение шута Педриеллы, который определял нерадивых в конюхи, дворники, истопники, нисколько не считаясь с их знатной бородой. – Гавря!.. Я ее опять во сне видал! – Ври! – Ей-богу! Вот тебе крест… – побожился и перекрестился Митька Шорников, доверяя дружку по навигацкому учению свое самое сокровенное. Едва начинало светать. Рано проснувшиеся дружки лежали рядом на нарах и перешептывались. – Опять ей будто перстни на пальцы надевал, – рассказывал Митька. – Только гляжу, а она – шестипалая. – Думаешь сильно об ней, потому опять и приснилась. Опять… Приснилась опять. А уже сколько времени прошло с того дня, когда он, Митька, видел ее, царевну Анну… Анну Ивановну, в лавке. Руку настоящей царевны в своей руке держал, – такое лишь в сказках случается, а у него былью было. А потом, с отцом вместе, ходили к царице Прасковье Федоровне, и снова видел ее, погрустневшую тогда, Анну. Флакончик «вздохов амура» оставил ей, будто бы позабыл. И опять во сне вот приснилась… Вот так Митька! С самой царевной видался, а он, Гавря, кроме поповен, никаких высокородных девиц в глаза не видал, прожив в поместье у матери под Торжком. – Все лицо ее вижу явственно, – шептал ему Митька, – а рука, гляжу, шестипалая. Вон как чудно! Если бы не было здесь этого Митьки, пропал бы он, Гавря, и причин к тому было много: трудности навигацкой науки и тоска-скука по дому, да еще эта венецейская бескормица. Только и еды – макароны; тонкие, длинные, как глисты, и ты глотай этих ослизлых червяков, от коих все нутро выворачивает. Ни тебе щей, как бывало, дома – жир не продуть, ни каши, ни мяса кус. И хоть бы ломоть аржаного хлебушка укусить, горбушку бы!.. А Митька макаронами нисколько не гребует, набивает себе целый рот, и ему хоть бы что. И по ученью все сразу схватывает, только успевай уши вострить, чтобы подсказки его ловить. Безунывный он и всегда на похвале у навигацких учителей. Не для того находится здесь, чтобы как-нибудь постылое ученье отбыть, а норовит до всего дознаваться и по науке даже наперед забежать. Мало-помалу начинает лопотать по-ихнему, по-венецейски, и говорит, что научится полностью. Благодаря Митькиной поддержке он, Гавря, хотя и с великим трудом, но все же сносил тяготы здешней жизни, а другой его сосед по нарам, уже женатый господин из дворянского рода, Михайло Лужин, чуть ли не готов был руки на себя наложить от нескончаемой тоски-печали по своей молодой жене да от невозможности превозмочь морские учения. Вчерашним днем, в двунадесятый церковный праздник, всем ученикам роздых от учения был, и они ходили на венецейские диковины любоваться, а Михайло этот сидел, слезы глотал и писал в Петербург своему родичу в жалобном письме: «О житии моем возвещаю, что в печалях и тягостях пришло мне оно самое бедственное и трудное, а тяжельше всего – разлучение. А наука определена самая премудрая и хотя бы мне все дни на той науке себя трудить, а все равно не принять ее будет для того, что не знамо тутошнего языка, не знамо и науки. Вам самим про меня известно, что кроме языка природного никакого иного не могу ведать, да и лета мои ушли уже от науки. А паче всего в том великая тягость, что на море мне бывать никак невозможно того ради, что от качания бываю весьма болен. Как были в пути сюда восемь недель, и в тех неделях ни единого здорового не было дня, на что свидетели все есть, которые имели путь со мною. На сухом пути, когда обучались чертежам, терпеть еще можно было, а в навигацкой науке, сиречь в мореходстве, когда очутились на корабле, то стало совсем нельзя, никакого терпения. А начальники cтрого велят, чтобы непрестанно на корабле быть, а ежели кто от сего дела уходить станет, за то будет безо всякие пощады превеликое бедство, как про то в пунктах написано по указу государя. И я, видя такую к себе ярость, тако же зная, что натура моя не может сносить мореходства, пришел в великую скорбь и сомнение и не знаю, как быть. Вызволить меня от такой беды, как тут сказывают, может лишь светлейший князь Александр Данилович Меншиков, ежели ему подать челобитную. И для того обязательно надо величать его полным титулом, про который я дознался доподлинно. И тогда, сказывают, он вызволит из беды, только ничего чтобы в титулах упущено не было. И прошу я вас, моего дорогого друга, найти способы передать мою челобитную, коею при сем письме приложу. Молю отставить меня от этой навигацкой науки, а взять хотя бы последним сухопутным солдатом. Изволь пожалуйста отдавать из вещей моих кому знаешь, от кого можно помощь сыскать для ради подачи челобитной, и денег на то не пожалей. Паки и паки прошу, умилися надо мною бесчастным, а ежели ты мне милости не окажешь, то иному больше некому, и мне тогда пропадать. И чтобы наши никто о том не ведал, особливо же своей сестре, а моей жене, не сказывай, что я такою печалью одержим. Остаюсь в верных моих услугах до гроба моего Михайло Лужин». К этому письму прилагалась и челобитная с полным титулованием адресата: «Светлейшему Римского и Российского государств князю и Ижерские земли и генеральному губернатору над провинциями Ингриею и Эстляндиею, и генералу, и главному над всею кавалериею кавалеру, и подполковнику Преображенского регименту и капитану бомбардирской от первейшей гвардии его величества и полковнику над двумя конными и двумя пехотными полками Александру Даниловичу Меншикову». Но не до разбора челобитных было светлейшему князю и генералу Меншикову, – ему со шведами надо было сражаться, и из Петербурга он давно уже отбыл. Жаль было шведскому королю Карлу XII расставаться с мечтой о том, что по России он пройдет так же триумфально, без особых усилий, как проходил по Саксонии и Польше, принимая от побежденных, поверженных в полное ничтожество уже привычную ему дань их абсолютной покорности. Подобострастно склоненные головы, почтительность перед достославным завоевателем свидетельствовали о том, что это были люди по-европейски воспитанные, вежливые и деликатные, проявляющие высокую степень усвоенной ими цивилизации, знающие, как следует вести себя перед королем королей, каким теперь становился он, Карл XII. Но вот эти люди… Подлинно что дикари, медвежьи увальни, сиволапые русские мужики, неотесанные грубияны, невежды, и еще десятком других, самых нелестных слов мог бы он, король Карл, охарактеризовать этих ужасных, ужасных людей с самыми дикими их замашками. Они даже понятия не имеют, как должно вести войну, чтобы налицо было непревзойденное благородство, как это бывает, например, во время рыцарских турниров. О какой учтивости, культуре боя, рыцарстве можно говорить, когда вчера вот чуть ли не на глазах самого короля какой-то грязный мужик заколол деревянной рогатиной шведского кирасира, словно он был медведь, а не благороднейший воин из потомственной высокородной фамилии. Поведение этих русских с каждым днем все больше и больше раздражало и уже начинало не на шутку злить короля. Голодать, холодать заставляют, словно измором собираются одолеть непобедимую шведскую армию. Это же просто низость! Вместо открытого боя довольствуются мелкими разбойничьими набегами, жалят, как пчелы… нет, хуже, постыднее – как блохи, выискивая и выжидая, как бы безопасней и сильней напасть. Обманными действиями царь Петр тщится викторию себе добывать, – в этом нет ни чести, ни совести. И пусть он не надеется на пощаду, когда наступит решительный час свести последние счеты. Для наглых и строптивых людей у него, короля Карла, милости нет. Пусть потом пеняет царь Петр на себя, если вынуждает и его, Карла, петлять да хитрить, обходить русские отряды и крепости. Надо постараться скорее оторваться от русских войск, уйти как можно дальше по дороге к Москве, а русские пускай его догоняют. И Карл старался – сначала пройти через Смоленск, а когда это не удалось, резко повернул к Курску, а наткнувшись там на заслон, решил дальше идти через Харьков. Непривычно (да и неприлично!) было непобедимому королю Карлу XII метаться из стороны в сторону, словно загнанному зверю, и это еще сильнее накаляло его озлобление. Стремительность наступлений в некоторые удачливые дни напоминала ему былое победное шествие по Саксонии или Польше, и тогда Карлу казалось, что военное счастье снова возвращается к нему, готовое увенчать его полководческий гений неувядаемой вечной славой. Удавалось оттеснить в сторону налетавших русских драгун, старавшихся преследовать шведскую армию, и приятно было слышать королю Карлу о том, что в коротких схватках русские несли большие потери. Ростепельный месяц февраль складывал было один к одному удачливые для шведов дни, давая им возможность обходить преграды и приближаться к Белгороду. Следовало еще атаковать Ахтырку, а потом идти на Воронеж и далее беспрепятственно продвигаться до реки Оки. И никак не предвиделось, что такому стремительному походу сможет помешать какая-либо серьезная баталия, – царь Петр со своими полками будет лишь стараться догонять ускользающего от него неприятеля, а тот – все идти и идти вперед к своей цели. 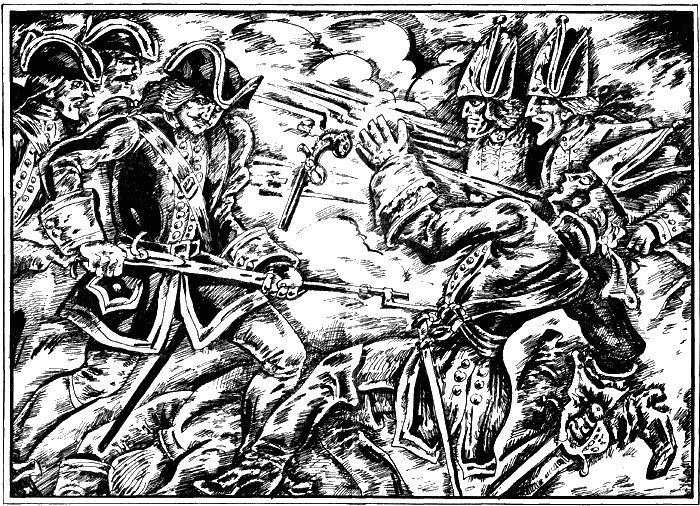
Но далеко не всякий сон в руку и не всякая мечта в явь. Никакой серьезной баталии не было, а преградила путь шведам рано начавшаяся весна, вскрывшая многоводные реки, которые оказались сверхпрочными заслонами к вожделенной победе. Вместо вступления в русские, собственные владения царя Петра пришлось шведам отойти глубже в украинские земли к реке Ворскле, в ожидании помощи из Крыма и Польши. Но вышла и тут незадача. Крымские татары не спешили помогать шведам, – турецкий султан запретил им трогаться с места, а от Польши Карл оказался отрезанным непреодолимой весенней распутицей и разливами рек. Много оказалось забот у Петра с первых же январских дней 1709 года. Никак нельзя было терять из вида шведов, по слухам, будто бы намеревавшихся идти к Воронежу. Чтобы избежать беды, надо увести по Дону все корабли в Азов. Из Азова сообщение: изловлен протопоп, соучастник булавинского бунтовства, – пусть бы с особым пристрастием допытывались у него обо всех злодейских умыслах, кои думалось вору Булавину учинить. Не было ли у него связи со шведами? Глянул Петр в свою записную книжку: о садовнике и о цветочных семенах для Петербургского Летнего сада не позабыть распорядиться. Он дал указание фельдмаршалу Шереметеву и всем генералам стараться изнурять шведов мелкими, выгодными для русских стычками, не переходящими в большие сражения, и в половине февраля вместе с Меншиковым приехал в Воронеж, чтобы проверить оснащенность вооружением новых кораблей. Думал заняться там одним важным делом, а дел сразу несколько навалилось, и все они неотложные. Строго предписывал он охранять леса, пригодные для кораблестроения, чтоб никто не смел ухожего леса ни рубить, ни жечь, а в недальних окрестностях Воронежа оказались участки, где дубовые и сосновые леса были вырублены на смоляную гонку, на уголья и на драницы. Жалоба поступила на мастера-датчанина, что захватил место для верфи близ Успенского монастыря, и игумен челом бил о монастырском утеснении и разорении. Для постройки пяти кораблей было отведено место по реке Усмайке в округе села Углянска, а для других кораблей – в самом городе Воронеже за слободой Чижовкой да в уезде против села Ступина. Но под Чижовкой против Троицкой церкви объявились мели, и летом переезжают там реку вброд верхами на лошадях и с телегами. А у села Ступина, где вывозили на рамонскую пристань брусья для корабельных килей, нужно сперва расчищать дорогу, заваленную буреломом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 |
|||||||