 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Желязны Роджер :: Толстой Лев Николаевич :: Joyce James :: Раззаков Федор :: Станюкович Константин Михайлович :: Чехов Антон Павлович :: Андерсон Пол Уильям :: Ломер Кит :: Грин Александр Популярные книги:: The Boarding House :: Бурый волк :: Пошехонская старина :: Мальтийский сокол :: Подземная Москва :: Вторая книга Паралипоменон :: Основание :: 10 лекций о Каббале :: Тварь в лунном свете :: Как мы изобрели фотосинтезатор |
Великое сидениеModernLib.Net / Историческая проза / Люфанов Евгений Дмитриевич / Великое сидение - Чтение (стр. 18)
Было это в июле месяце, а в сентябре 1707 года стоял иеромонах Никанор в Преображенском приказе перед грозным Федором Юрьевичем Ромодановским и как на духу рассказывал ему обо всем. Пытать монаха на дыбе не стоило, он сам доброхотно поведал все, что знал, но предостережения ради счел Ромодановский за благо сослать чернеца в отдаленный монастырь и держать там за крепким караулом, чтобы не разносилась принесенная им весть. А сам, раздумавшись обо всем услышанном, заключил, что не иначе как была большая злоба у того Кочубея на гетмана за то, что он, старый баловник, Кочубееву дочку к себе в наложницы взял. Пустое все это, и никакого дальнейшего ходу доносу давать не след. Побеленится Кочубей да на том и успокоится. Подумаешь, беда какая! Девку к себе гетман взял. На то они и девки. И ничего не спросишь с него, не простой он смертный, а властелин над всей Малороссией, ему и не такое можно. Да и сам Кочубей одумается, помирится с ним и еще благодарить за оказанную честь станет. Разве только за то, что погорячился и поторопился со своим доносом, всыпать бы ему, старому дураку, побольше горячих – наперед прохладнее станет. До старости без ума дожил. Так бы тому и быть, но притихшее это дело в Москве у Ромодановского стало разгораться в Малороссии. Киевский воевода князь Димитрий Михайлович Голицын переслал канцлеру графу Головкину письмо ахтырского полковника Федора Осипова, сообщавшего, что в Ахтырку тайно приезжал полтавский поп Иван Святайло и говорил, чтоб полковник для очень важного государственного дела повидался с бывшим полтавским полковником Иваном Искрой. Осипов встретился с Искрой на пасеке, и там Искра ему доверительно сообщил: «Послал меня Кочубей изъявить тайну, что гетман Иван Мазепа, согласившись с королем Лещинским и с Вишневецким, умышляет на здравие великого государя, как бы его в свои руки ухватить или смерти предать. Хотел он это сделать во время приезда в Батурин Александра Кикина. Гетман думал, что под именем Кикина приедет сам государь, и велел, как будто для встречи, поставить своих верных жолнеров и слуг, которые у него от короля Лещинского, с заряженными ружьями, и приказал им, как государь войдет во двор, выстрелить в него. Узнавши же, что царского величества тут нет, один Кикин, велел жолнерам разойтись. И теперь всячески старается и на том положил, чтоб государя предать смерти или, схватив, отдать неприятелю. В прошлый Филиппов пост, собравшись с полками своими, хотел идти войною на великороссийские города, и это злое намерение не сбылось за оттепелью, река Днепр не стала. Теперь умышляет, как бы ему Днепр с полками перейти и в Белую Церковь убраться; совокупись с полками той стороны и соединясь с королем Лещинским или Вишневецким, хочет государеву державу разорить. А полки той стороны давно ему присяжны, для того он их там и населил; все свои скарбы и пожитки одни за Днепр выпроводил, другие с собою возит. Во всех полках регименту своего, будто по именному государеву указу, велел брать поборы великие с казаков, чего никогда не бывало, с каждого казака от коня по талеру, а от вола по копе, и то делает от злохитрия своего, как бы народ отягчить и возмутить, а особо с мещан взял на жалование сердюкам. Да и такое в народе возмущение разгласил, будто царское величество велел писать казаков в солдаты, и уже голота готова втайне и на шатость ждет его повеления. А Войско Запорожское тайно подсылая прельщает и стращает, будто царское величество, не любя их, велит разорить и место их опустошить, а запорожцы, испуганные, готовы к войне. Старшина генеральная и полковники, хотя подозревают и ведают про его злое намерение, однако известить великому государю не смеют, одни – по верности к гетману, другие – из страха, третьи – видя к нему милость государя, что не поверит. А лучше всех про то знает ближний его секретарь, генеральный писарь Орлик, через которого всякие тайны и пересылки отправляются. Кочубей и Искра царскому величеству доносят и милости просят, чтоб еще верное доношение у царского величества было укрыто для того, что некто из ближних секретарей государевых и князя Александра Даниловича ему о всем царственном поведении доносят, и о сем если уведают, тотчас ему дадут знать. Теперь Кочубей, отбиваясь от судейства, чтоб ему не быть при гетманской измене, притворился больным и живет в имении своем Диканьке, а Искра живет в Полтаве, с собою в поход гетман его не взял, потому что будто в войске он не потребен». Опасаясь, что это письмо не будет получено теми, кому оно предназначено, ахтырский полковник Осипов искал еще и другие пути для объявления об измене гетмана. Московскому коменданту князю Матвею Гагарину были доставлены неким писарем три письма: одно – на имя самого царя, другое – на имя царевича Алексея, третье – на имя князя Меншикова. «И применяясь к твоим государевым указам о подметных письмах, – писал Гагарин царю, – то письмо, которое подписано на твое государево имя, чел я и написано будто об измене господина гетмана, и выразумев, что се приносят на него неприятели его, отставной полковник, и того, государь, писаря, не расспрашивая поведению того письма, послали его за крепким караулом в Угрешский монастырь, чтоб он того не гласил никому. Сию ведомость явил малому числу господам министрам и полагают, что возводят то на него по ненависти и явили мне, что и прежде о нем такие наветы были». Так же порешил и Петр: по всему видно, что немало у гетмана недругов, досаждавших его жизни. Их во множестве и у него самого, у царя. Навет за наветом, грязь за грязью льются на его голову, вплоть до того, что он даже антихрист. В верности гетманской сомневаться грешно. Он сам сообщал, каких только переманщиков не было. И теперь вот этот еще навет… «Э, да что тут долго раздумывать! Надо, чтобы гетман сам расправился с злоумышленниками, подателями подлой ябеды!» Так он и решил и в своем письме, извещая Мазепу о доносах на него, называл ему доносчиков поименно. Нисколько не насторожило после этого Петра, что Мазепа всячески старался, чтобы розыск отдан был в его ведение и не проводился бы в Москве. В решении царя на эти домогательства таился для Мазепы как бы приговор над ним: кем станет он? По-прежнему ли гетманом, самым первым, высокочтимым человеком в Малороссии, наместником царя, или… страшно представить Мазепе, что розыск может объявить его вором из воров, татем из татей, достойным самой позорной смерти. Тревожные, страходумные дни переживал он. Но не до разбора не заслуживающей внимания ябеды было Петру, – пусть гетман разбирается с ненавистниками и покончит с ними своим судом. Царь настаивал лишь на одном: выявить, по какому вражескому наущению действовал Кочубей, чтобы оклеветать гетмана и тем самым досадить ему, царю Петру? Розыск велено было вести в городе Витебске канцлеру Головкину и подканцлеру Шафирову. Кочубей подал им листы, на которых его рукой были написаны многие пункты, излагающие преступность гетмана. За годы былой их дружбы с Мазепой не раз приходилось слышать крамольные его суждения, и тех пунктов было двадцать четыре, а в добавление к ним прилагалась будто бы сочиненная Мазепой дума, в которой выражалось сетование о розни среди малороссиян и был призыв добывать свои права саблей. С нескрываемой усмешкой Шафиров спрашивал: где же был он, Кочубей, когда впервые слышал злонамеренные гетманские слова против государя? Почему своевременно не донес о них? Выходит, что они тогда же будто бы и забылись, а припомнились через годы, когда доносчик потерпел обиду от гетмана, взявшего к себе его, Кочубееву, дочь? И не считает ли он, Кочубей, что за такое многодавнее сокрытие злонамерений гетмана следует ему, Кочубею, нести ответ? А и какое же это, по существу, злонамерение гетмана, высказанное им многие годы тому назад, но на деле так и не проявленное, а во все это время проявлена была гетманом верность государю? Своими вопросами Шафиров доказывал несостоятельность запоздалых обвинений, объявленных Кочубеем, и Головкин кивком головы подтвердил это. Пусть лучше Василий Кочубей и Искра признаются, поляки или шведы подучили их доносить на гетмана. Подлинно дознаваться об этом следовало наивернейшим способом – пыткой. И первым пытали Искру, дав ему пять ударов кнутом. – Отвечай: по наущению неприятеля такое зло было возведено на гетмана? Нет, не дала пытка утвердительного ответа. Допытывались правды от Кочубея, тоже применяя ради нее кнут, но Кочубей отвергал всякую мысль о вражеском наущении, а доносил он на гетмана по непримиримой семейной злобе к нему. На этом следовало считать розыск законченным. Граф Головкин писал царю: «Понеже Кочубей зело стар и дряхл безмерно, того ради мы его более пытать опасались, чтоб прежде времени не издох. А более в гетманском деле разыскивать нечего, и для того в Киев их не посылаем, потому что во всем они повинились, кроме факции или наущения от неприятеля, и ежели какую им казнь изволишь учинить, то мнится нам, что надлежит послать их в Киев и с совету гетманского повелеть о том малороссийскому народу публично огласить, чтоб они видели, что за сущую их вину то с ними учинено будет, а надлежит, государь, то дело для нынешнего сближения неприятельского, також и для лучшей надежды гетману скорее свершить». На вопрос о казни Петр отвечал: «Не иною, что какою ни есть только смертью, хотя головы отсечь, или повесить». В восьми милях от Белой Церкви, в местечке Борщаговке, где стоял гетман обозом, 14 июля 1708 года Василий Кочубей и Иван Искра были казнены «при многом собрании всего малороссийского народа». Прошло три месяца после казни Кочубея и Искры, менее трех недель после разгрома войск Левенгаупта под деревней Лесной. Меншиков намеревался пополнить свои силы малороссийскими полками и хотел повидать Мазепу, чтобы договориться с ним об этом. Мазепа испугался, подумав, что предлог к встрече – ловушка; что его хотят захватить и начать снова розыск по доносу Кочубея: из Польши поступали известия, что там упорно говорят о сговоре его, Мазепы, с королем Станиславом. Боясь встречи с Меншиковым, Мазепа послал к нему своего племянника Войнаровского, чтобы тот сообщил о будто бы тяжелом, предсмертном состоянии дяди. С унылым видом явился Войнаровский к Меншикову и торжественно-скорбным голосом передал ему нижайший поклон от умирающего гетмана, который, находясь при кончине своей, приехать никак не мог, а отправился к Борзну к киевскому архиерею для соборования и освещения елеем. – Что такое с ним приключилось? – с большим огорчением принял эту весть Ментиков. – Занемог от подагрической и хирогрической болезни, – тяжело вздохнул Войнаровский. – Жаль такого доброго человека, ежели бог его не облегчит, – сочувственно пожимал Меншиков руку гетманского племянника. – Я завтра в Борзне навещу его. Ночью, с нетерпением дождавшись подходящей минуты, Войнаровский тайно ускакал и, едва не запалив коня, примчался к Мазепе с сообщением о намерении Меншикова приехать в Борзну для свидания с умирающим гетманом. Словно молодецкую силу вселила эта весть в старческое тело Мазепы, – он тут же вскочил на коня и поскакал в свой укрепленный Батурин, Теперь медлить было нельзя. Оставив своих единомышленников с наказным атаманом Чечелем, Мазепа с войском переправился через Сейм и, переночевав в Короне, на другой день стал переправляться через Десну. К вечеру он достиг первого шведского драгунского полка и на виду у него выстроил свое войско, ожидавшее команды гетмана для начала сражения. Вместо этого Мазепа обратился к своим малороссиянам с призывом отколоться от русского царя и стать под шведские знамена. Никак не ожидая такого оборота дела, многие воины кинулись бежать, и при гетмане осталось лишь около двух тысяч наемных сердюков, с которыми он и явился в Бахмаче к Карлу XII. А на следующий день после приезда Войнаровского с печальной вестью Меншиков, как обещал, отправился навестить тяжело занемогшего гетмана. Нисколько не удивился, что Войнаровский исчез, – значит, поспешил к умирающему дяде, чтобы успеть застать его еще в живых. По дороге в Борзну Меншикову повстречался полковник Анненков. Тяжело болен гетман? Даже при смерти?.. Как так?.. Он, Анненков, едет как раз из Борзны, откуда гетман в полном здравии недавно ускакал в Батурин. Теперь следовало удивляться Меншикову: ускакал? И вовсе не соборовался у архиерея?.. А ну, Анненков, едем вместе в Батурин. Там как раз твой полк стоит. Гетмана не оказалось и в Батурине, – отправился с войском в Короп. Удивило Меншикова еще и то, что на месте оказался лишь один великорусский полк Анненкова, а оставшиеся в Батурине сердюки и городские жители перебрались в гетманский замок, перед которым мост был разведен, а по стенам стояли вооруженные люди. – Что такое? Почему встречают как неприятеля? В ответ было услышано, что поступают так по приказу гетмана. Разгневанный Меншиков погнал коня в Короп, думая застать Мазепу там и потребовать объяснений, но узнал, что Мазепа уже за Десною у шведов. С Мокашинской пристани на реке Десне Меншиков и отправил донесение царю об измене гетмана. Раздумывая о случившемся, Петр винил себя за неколебимое доверие к Мазепе. Правда, прежде он выдерживал все искушения, и доносы на него оказывались ложными, но тогда ведь и время было иное, Карл еще не проявлял себя так и не был столь близко. Значит, и поражение шведов под Лесной не поколебало убеждения Мазепы в их непобедимости. Но бедный загубленный Кочубей, несчастный Искра… Петр повелел архиереям – киевскому, черниговскому и переяславскому – быть в Глухове, чтобы предать изменника анафеме. На военном совете в Погребках решено было немедленно отправить Меншикова для овладения гетманской столицей Батурином. День прошел в приготовлении к приступу, а уже 2 ноября Петр, находившийся в местечке Воронеже на Черниговщине, получил от Меншикова сообщение: «Доношу вашей милости, что мы сего числа о шести часах пополуночи здешнюю фортецию с двух сторон штурмовали и по двучасном огню оную взяли». Люди, проявлявшие верность Мазепе, были побиты, а уцелевшие, вместе с атаманом Чечелем, схвачены для дальнейшей расправы; в руках русских оказалась богатая гетманская казна, более трехсот орудий, большие запасы хлеба, а все остальное в городе истреблено и сожжено. Полное уничтожение Батурина было страшным ударом для Мазепы: как же могло случиться такое дело дерзостной смелости и силы, что почти в виду грозно-непобедимых шведских войск оказалась столь жестоко порушенной гетманская его столица? Приехал в Глухов киевский митрополит с черниговским и переяславским архиереями, и в глуховском соборе они гневно предали Мазепу проклятью. Была вынесена всем на обозрение «персона оного изменника», сделанная в виде большой, в человеческий рост, куклы. Прикрепленную на ее груди кавалерию с бантом сорвали, и «оную персону бросили в палачевские руки, которую палач взял и, прицепя за веревку, тащил по улице и по площади даже до виселицы, и потом повесил». Там же, рядом с «персоной» Мазепы, на следующий день казнили Чечеля и других приверженцев изменника, схваченных в Батурине. Остановка на осень, а может быть, и на зиму в местах, опустошенных длительным пребыванием обеих армий, предрекала большие лишения, и Карл XII решил переправиться на левый берег Десны, а оттуда продвигаться дальше. Он спустился вниз по реке, где она протекала в глубокой долине и ее правый берег был значительно выше левого. На этой высоте шведы установили батарею из двадцати восьми орудий и, хотя налеты русского отряда генерала Гордона часто мешали им, все же под артиллерийским охранением соорудили два парома. Трудной была переправа. На береговой крутизне не удалось устроить сколько-нибудь сносных спусков, и, кто как мог, скатывались шведы к паромам, движение которых было очень медленным. На каждом пароме могло находиться не более восемнадцати – двадцати человек, и в продолжение нескольких часов успели переправить лишь человек шестьсот, а предстояло переместить на левый берег тридцатитысячную армию. Усилив огонь своей батареи, шведам удалось отогнать отряд Гордона, и, воспользовавшись этим, Карл приказал навести через Десну несколько наплавных мостов, по которым и была переправлена вся армия. Прошли шведы мимо развалин Батурина, и Мазепа увидел поверженную в прах свою столицу; переправились через реку Сейм и устремились к Ромнам и Гадячу, – в этих городах имелись большие запасы провианта, заготовленного Мазепой. Одновременно с началом движения шведов русская армия выступила из окрестностей Новгорода-Северского и следовала дальше через Глухов и Путивль к Лебедину, куда и пришла в конце ноября. Там, на военном совете, в присутствии Петра, решено было большей части войска идти добывать Гадяч, а остальным, под командованием генерала Алларта, двигаться к Ромнам. План был такой: если шведский король выйдет защищать Гадяч, то главной части русских войск от этого города отступить, а в это время Алларту постараться захватить Ромны. И план этот удался, словно разыгранный на шахматной доске. Карл действительно вышел из Ромен к Гадячу, полагая, что русские станут штурмовать этот город и тогда он, Карл, устроит им вторую Нарву, но русские отступили к Лебедину, а в то время, когда Карл мечтал о повторении Нарвы, Алларт занял Ромны. Эта передвижка армий происходила во время жестоких морозов, свирепствовавших в те дни по всей Европе. Птицы замерзали на лету и падали мертвыми. Около ста человек из русской армии отморозили себе руки и ноги, а шведы потеряли от морозов почти четыре тысячи человек: Карл продержал их двое суток в степи, ожидая, что русские снова пойдут к Гадячу, но так и не дождался. Войска Карла нуждались в отдыхе, и король, решив отложить свой поход на Москву до весны, занял в окрестных селениях зимние квартиры. Русская армия разместила свои главные силы в окрестностях Лебедина; драгуны генерала Ренне – у ветряка, укрепленного передового поста; пять батальонов под начальством полковника Келина составили гарнизон Полтавы, где были главные провиантские магазины; остальные части занимали Миргород и Нежин. Расположенные на зимних квартирах русские войска с трех сторон огибали шведов, стесняли их действия по отражению набегов легких, подвижных отрядов. Помогали русским и местные жители, затруднявшие доставку шведам съестных припасов. Русская армия усиливалась с каждым днем и, благодаря предусмотрительности Петра, не терпела особой нужды. Длиннолицый, бледный и похудевший Карл ежедневно муштровал своих солдат. Ходил он быстро, почти бегом, и его тонкие ноги торчали как палки в сапогах с широкими ботфортами. Доставалось от него Мазепе: завел старик в такие места, где не было ему, Карлу, пива! Переход гетмана на сторону шведов не принес почти никакой выгоды, и Карл не очень-то церемонился с ним. Зима слывет долгой, но проходит и она. Уже значительно длиннее становились дни, и на солнечном пригреве стали появляться проталины. Солнце поворачивало на лето. Глава пятая 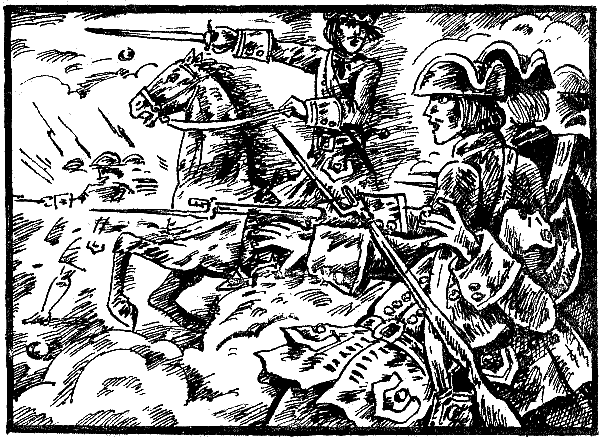 На боярском подворье смятение. И хозяин, и хозяйка с ног сбились, кидаясь то к одним, то к другим из вельможных людей, но никакие просьбы и подарки не помогали изжить беду, а сын ревмя ревел, грозя удавиться, если его не женят, – Климушка, единственный сын, возлюбленный и взлелеянный. В допрежние времена не так парни были охочи на женитьбу, может, потому, что невесту жениху не показывали, как и жениха невесте, и у каждой половины могли быть свои сомнения – сколь ладной окажется та, другая, его или ее половина, – впервые виделись, стоя под венцом. А тут Климушка как увидел в церкви у обедни Фетиньюшку, так сразу и обомлел от статной ее красоты. И он тоже, как выяснилось, приглянулся ей. Вот бы им совет да любовь, ан Климушке жениться нельзя. Строго-настрого царь-государь запретил, и любому попу чуть ли не голову с плеч долой, если он преступит царев запрет. Ни коем разе не велит царь венчать неграмотных женихов, не имеющих «свидетельских писем» из школ. И никакими посулами ни один поп не прельщался: нельзя – и весь сказ! – Господи! Да неужто он без грамоты не знает, как ему с женой надо быть?! Не младенек ведь. Обвенчай, батюшка, никто не узнает, что неграмотен он. – Ишь ты, какая проворная! Или соседи того не знают? Да мало ли других фискалов, чтобы наябедничать. Прикажут твоему сыну в книжке прочесть либо какие-то слова написать, – ответ за венчанье на ком?.. Вот ведь какая напасть! Никто не думал, что свадьбе такой препон будет. – Климушка, дитятко, не миновать тебе в ученье идти. – Ой, мамань, сколь времени я потрачу, Фетинья не станет послушно ждать. – Ой, ой, головушки наши бедные, что и делать теперь?.. Растрезвонили прежде времени, что рукобитье будет и невесты пропой, а потом и веселая свадебка; все невестино приданое до последней холстинки высмотрено, и одеялами и шубами много довольны остались, а перина сготовлена – как есть на чистом лебяжьем пуху. Да и от людей стыд: парню жениться нельзя! Нате-ка! На смех начнут его поднимать. Подневольное ученье у многих вызывало протесты и жалобы, а в отместку за это царь еще более крутыми мерами отвечал: если женят, то от молодой жены оторвут и все равно учиться заставят, а за самовольство еще особое наказание будет. Да учиться такого ослушника не у себя в Москве принудят, а в чужедальнем краю. – Матерь пречистая, святители-угодники, заступитесь. Климушка грозит на себя руки наложить. Истинно так: рвет и мечет их Климушка, – жените его на Фетинье, и ничего знать не хочет. Петр был убежден, что иначе, как строгостью и наказанием, нельзя победить «глупость и недознанье невежд», и этот его указ, как и многие прежние, сопровождался угрозами штрафом, кнутом, каторгой, чуть ли не смертной казнью за нарушение. – Купцы наши не учатся арифметике, а потому иностранным ничего не стоит обманывать их, – говорил он. Вспоминал, каким штурмом брал в свое время сам трудную арифметическую науку. Никак не давались в ум правила адиции – сложения, супстракции – вычитания, мультипликации – умножения, дивизии – деления. По арифметике он тогда сумел научиться только двум первым правилам, да и сам учитель голландец Франц Ткммерман едва мог умножить или разделить, например, четырехзначные числа. В собственную свою женихову пору он, Петр, не мог сладить с чистописанием, ни одна буква не стояла ровно, а все они вихлялись вкривь и вкось. В последние годы царствования Алексея Михайловича в Москве в Заиконоспасском монастыре была открыта школа, для которой выстроили даже особые деревянные хоромы, и ученики в ней должны были «учитца по латыням». А через два года после открытия той школы создано было славяно-греко-латинское училище, где ученики познавали «учение свободных мудростей, ими бо возможно обрести свет разума души», начиная с грамматики и кончая философией «разумительной, естественной и нравной, даже до богословия». В виршах пиита Семеона Полоцкого говорилось: Розга буйство в сердце детском изгоняет. — и она, эта чудодейственная розга, способствовала уяснению учениками многих славяно-греко-латинских премудростей. Царю Петру нужна была школа, из которой бы «во всякие потребы люди происходили, в церковную службу и гражданскую, воинствовать, знать строение и докторское врачевское искусство». Тогда-то и появились школы математическая и навигацкая, в которых учителями были англичане, и школы эти находились в ведении Оружейной палаты, адмирала Головина и дьяка-прибыльщика Курбатова. Жаловался Курбатов на непорядки, доносил адмиралу, что «учителя учат нерадетельно, и ежели бы не опасались Магницкого, многое бы у них было продолжение для того, что которые учатся остропонятно, тех бранят и велят дожидаться меньших». В 1702 году при взятии Мариенбурга русскими войсками в плен был захвачен пастор Глюк, и его, как человека большой учености, отправили в Москву. Пастор этот, еще живя у себя на родине в Саксонии, выучился по-русски с помощью одного монаха псковского Печерского монастыря. В лифляндском городе Мариенбурге Глюк занимался переводом библии с еврейского и греческого текста на язык лифляндский, а для проживавших там псковичей переводил библию с малопонятного им славянского языка на их русский язык, а также хлопотал об открытии в Лифляндии русских школ и готовил для них учебники. В Москве, в Посольском приказе, была постоянная нужда в толмачах и переводчиках с иностранных бумаг, требовались люди, которые обучали бы русских иноземных языкам. Школа незадачливого учителя Швимера была закрыта, а ее ученики переданы новому учителю Эрнсту Глюку, который с большим рвением принялся за дело. Он говорил, что «аки мягкую и всякому изображению угодную глину» будет он лепить из русских недорослей просвещенных людей. Выпустил велеречивое воззвание к еще не вкусившему плодов учения юношеству, начав его такими приветливыми словами: «Здравствуйте, плодовитые, да токмо подпор и тычин требующие дидивины!» Он обещал обучать разным наукам: географии, ифике, полигике, истории, латинской риторике с ораторскими упражнениями, философии картезианской, языкам – немецкому, французскому, латинскому, греческому, еврейскому, халдейскому, сирскому танцевальному искусству и поступи немецких и французских учтивств, рыцарской конной езде и берейторскому обучению лошадей. Школа Глюка, наименованная гимназией, предназначалась для бесплатного обучения детей бояр, окольничьих, думных и ближних и всякого другого служилого и купецкого чина людей. Ученики глюковской гимназии, число которых не превышало пятидесяти человек, носили свою форму: пуховую шляпу с жемчужной пуговицей, оленьи перчатки и флеровый галстук. Большая часть учеников состояла из великовозрастных юношей, умевших постоять за себя, а то и первыми напасть на кого – например, на торговцев съестными припасами. У них глюковские гимназисты всегда завтракали, но не всегда за это расплачивались, готовые вместо денег подставить свои бока, а еще чаще покрыть все долги кулаками. Не пришлось Глюку осуществить широковещательные свои замыслы из-за преждевременной смерти, и после него гимназию возглавил один из ее учителей – Иоганн Вернер Пауз, но ему за его «многое неистовство и развращение», а также за продажу учебников в свою пользу от службы было отказано. Не во многих науках преуспевали ученики. Из четырех правил арифметики усваивали только сложение и вычитание, а умножения и деления избегали, предпочитая лучше сложить несколько раз, чем один раз умножить, а дроби совсем не давались им, хотя учителем математико-навигацких школ Леонтием Магницким была издана книга «Арифметика, сиречь наука числительная с разных диалектов на славянский язык переведенная, и в едино собрана, и на две книги разделена. В богоспасаемом и царствующем граде Москве типографским тиснением ради обучения мудролюбивых российских отроков и всякого чина и возраста людей на свет произведена». Но недоступны были отрокам и юношам скрытые в книге истины из-за способов их изложения. А учить нужно было все наизусть. Раскачиваясь, как ванька-встанька, твердил и твердил ученик слова, мало вникая в их суть: – Радикс есть число яковые либо четверобочные и равномерные фигуры или вещи, един бок содержащие. И того ради радикс или корень именуется, зане от него вся препорция всея алгебры начинаются или рождаются, – повторял ученик несчетно сколько раз и ничего не мог понять. – Степени же именуются тако: вторая – квадрат, или зексус, третья – кубус, четвертая – биквадрат, или зекзизекус, восьмая – триквадрат, или зекзизекзекус…» – Ой, маманя родная!.. Когда близилось время набора молодых людей для воинской службы, то случалось, что пономари, дьячки, поповские и дьяконовские сыновья «различными коварными образами и лжесоставными челобитными похищают себе чин священства и дьяконства неправильно и неправедно, иногда лет подобающих не имея, иногда посвящаясь в лишние попы или дьяконы, от чего бывает несогласие, вражда и сооблазн между священным чином, а государевой службе в настоящих нуждах умаление». Издан был указ: «Поповым и дьяконовым детям учиться в школах греческих и латинских, а которые в них учиться не захотят здесь, таких в попы и дьяконы не посвящать, в подьячие и никуда не принимать, кроме служилого чина». Набирались юноши для обучения хирургии в учрежденном в Москве госпитале. Главный доктор сообщал царю, что в разное время набрал он 50 человек, но осталось из них 33, а остальные оказались в уроне: 6 умерло, 8 сбежали, 2 по указу взяты в другую школу, 1 за невоздержанностью отдан в солдаты. Плохо ладилось школьное дело. Учеников набирали насильно, и случалось, что держали их в тюрьмах, за крепким караулом. Посадские люди отпрашивали своих сыновей от цифирной и грамматической науки, чтобы они не отвлекались от отцовских торговых дел или от ремесла. Способных молодых людей, усвоивших арифметику, отправили из Москвы учить в другие российские города, но половина из них, не найдя себе учеников, возвратилась назад; в рязанскую школу набрали без малого пятьдесят мальчишек, но тридцать из них в первые же дни убежали. В Вятке сам воевода горячо взялся основать цифирную школу, но этому противилось местное духовенство. Тогда, чтобы набрать учеников, воевода отрядил команду солдат и служителей своей канцелярии, которые хватали всех годных для школы ребят и доставляли в острог, а уже оттуда их под конвоем водили в ученье. – В угоду царю воевода старается, а умри царь – умрет и учение это, – насупившись, говорили закосневшие в своем дремучем быту вятичи. – То и беда, что бог смерти царю не шлет. В Москве была слобода кадарей – дворцовых бондарей, и там помещалась в свою начальную пору навигацкая математическая школа, но потом ее перевели в Сухареру башню, и называться школа стала адмиралтейской, иначе говоря мореходных хитростных искусств. Еще бы не хитрость! Узнавали, например, ученики, как им следует представлять себе Европу, описание которой начиналось так: «Третья часть света Европа лежит на полуноще, речена от девы Европы, дщери царя Агирона грецкого. И пыла та дева Европа неизреченной красоты и, гуляючи по берегу морском, с девицами играла; и король Иовишь, видячи ее красоту, не мог како к ней прийти. И оборотился Иовишь в вола чудного и стал ходити меж животиной; и пришла та девица Европа близко скоту, и учал тот вол около ее ходити, и, видячи вола красного, всела на вола, и ушел вол с нею на остров меляной, где ныне зовут Кандия». 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 |
|||||||