 |
|
Популярные авторы:: Joyce James :: Андерсон Пол Уильям :: Раззаков Федор :: Лондон Джек :: Желязны Роджер :: Тэффи Надежда :: Лавкрафт Говард Филлипс :: Толстой Лев Николаевич :: Пермяк Евгений Андреевич :: Саймак Клиффорд Дональд Популярные книги:: The Boarding House :: Бурый волк :: 64 килобайта о Фидо :: Сорок бочек арестантов :: Записные книжки (1925—1937) :: Хемингуэй :: Мальтийский сокол :: 1-е МАРТА 1917 года :: Падение Томаса-Генpи :: Ловля сазана на закидную удочку |
Великое сидениеModernLib.Net / Историческая проза / Люфанов Евгений Дмитриевич / Великое сидение - Чтение (стр. 11)
– Ничего худого в том нет. Прибыльщики от души для меня трудились, добра мне хотели. К прежним казенным монополиям на смолу, поташ, ревень, рыбий клей стараниями прибыльщиков добавились монополии на соль, табак, мел, деготь, рыбий жир и дубовый гроб. Последним, уже немногим покойникам посчастливилось лечь в столь прочную домовину, а всем последующим предстояло довольствоваться сосновыми да еловыми изделиями. Изготовление же гробов, долбленых из дубовых колод, было строго запрещено. Находились шутники, которые подкидывали письма с обещаниями указать еще какую-то возможность получения для казны дополнительного дохода. В одном из таких писем говорилось, что сочинитель его объявит себя и свой замысел, если получит на то царское дозволение, а в знак этого дозволения просил положить в городском фонаре деньги. Петр был уверен, что это какой-то новый, очень важный прибыльщик и велел положить пятьсот рублей. Деньги пролежали в фонаре две недели, но никто за ними явиться не отважился, должно быть опасаясь попасться притаившимся караульщикам. Но, конечно, главным прибыльщиком был он сам, царь Петр, ревностно дороживший казенными деньгами. – Такой… Из-за копейки давливался, – кто в похвалу, а кто и в осуждение говорили о нем. Основную пользу для государства Петр видел в том, чтобы как можно скорее развивались торговля и промышленность. – Не бояре с духовенством есть подпора и украшение государству, а торговые и промышленные люди, – говорил он. Ох, эти святоши бородатые! Сколько еще в них невежества. Петр вспомнил, как по смерти последнего патриарха Адриана хотел он назначить на его место человека ученого, который, разные заморские страны видел, говорил по-латыни, по-итальянски и по-французски. Но бояре-бородачи, митрополиты и архиереи просили не ставить над ними такого потому, что он говорит на еретических языках; потому, что борода у него не столь длинна, как подобает то патриарху, да еще потому, что его кучер садится на козлах кареты, а не верхом на лошади, как то принято обычаем. – Ох, бородачи тупоумные! – снова с гневным презрением отозвался о них Петр. До того, как был обретен Петербург с его морской гаванью, иноземцы вывозили из Архангельского порта лучшие товары, и русские купцы жаловались царю: «Не изволь, царское величество, нас в обиду давать иноземцам, раскуси немецкий умысел. Они хотят нас заставить только лаптями торговать на нашей земле, а мы и поболе можем. Промыслишко и корабли свои надобны. Вон Баженовы начали, а на них глядя и другие тоже начнут. Мы – твоя опора, царь-государь, а ты – наша милость. Твой царский разум, наши деньги в обороте да мужицкие руки при деле – и мы горы свернем». Иноземные купцы вывозили из России лес, хлеб, лен, пеньку, икру и мед; везли русские люди в Архангельск на ярмарку сотнями тысяч соболиные, беличьи, заячьи, лисьи, кошачьи шкуры; доставляли шкуры моржовые и тюленьи, ворвань и сало, деготь и смолу, – и все эти товары, дешево ценимые иностранцами, уплывали на их кораблях в европейские страны, где расценивались дорогой ценой. С досады и злости на дешевых скупщиков русские купцы старались чинить им разные вредности, и царю Петру пришлось издать особый указ: «Понеже происходят жалобы от английских купцов, что русские купцы в браковании пеньки чинят обманы, в средину доброй кладут не токмо худую и гнилую, но и каменья, и так им продают, того ради подтвердить жестокими указы, чтоб впредь отнюдь того чинить не дерзали, под опасением живота и лишением всего имения, дабы впредь о том никакие жалобы не произошли. И ежели кто сыщется в таком воровстве после, и таковых казнить смертью». А как стали ходить свои корабли с теми же товарами, сразу проявилась великая выгода русским купцам, и то ли еще стало, когда главный торговый путь перенят был от Архангельска в Петербург. Вот она, главная и постоянная прибыль! Петром была установлена почтовая связь между Москвой и Архангельском через ямские дворы в Переяславле Залесском, Ростове Великом, Вологде, и письма из одного конца в другой доходили за десять дней. Теперь налаженно действовала почта между Москвой и Петербургом. И была еще особая, нарочная царская почта, которая прибывала к царю, где бы он ни находился, и он мог быстро узнавать, где и что происходило, а особенно на военных рубежах. В отсутствие царя Петра правительство возглавлял князь Федор Юрьевич Ромодановский, титулованный князем-кесарем. Занятому делами, связанными с ведением войны, будучи в дороге или за границей, Петру зачастую некогда было следить за всеми делами, а правители канцелярий, не решаясь поступать так или иначе сами, посылали с почтой, с оказией, с нарочными запросы к царю, как им быть должно, и Петр писал Ромодановскому, чтобы тот со своими людьми решал дела сам, «а здесь истинно и без того дела много… Мне издалече ничего видеть невозможно, токмо к вам же посылать запросы, из того, кроме медления, путного ничего не будет». В те годы, когда молодой царь Петр бывал в Архангельске и саморучно помогал там корабли строить, в памяти видевших его жителей северного края оставалось восхищенное удивление: – Вот царь так царь! Даром хлеба не ел, а пуще мужика работал. Но год от года это восхваление стал заглушать все чаще и слышнее раздававшийся ропот, порожденный затянувшейся свейской войной и связанными с ней народными тягостями. Нескончаемыми поборами Петр будто нарочно испытывал людское терпение, словно сам удивляясь его выносливости, – доколе же?.. И будто, набравшись терпения, ждал, когда же наконец прорвется народное возмущение. И оно не заставило себя долго ждать. Снова и снова объявленные рекрутские наборы, новые и новые подати да повинности, перегоны еще многих тысяч людей в необжитые места на казенные работы, всевозможные притеснения начальства, среди которого стало все больше чужестранцев, – за все это народ огрызнулся на бояр, на князей и на самого царя прорвавшейся ненавистью. – Какой же это царь? Это изверг, мучитель наш. – Да и вправду сказать, царь ли он?.. – Истинно, истинно, что не царь! В Москве на портомойне собрались бабы, развязали языки. Кто-то слышал, кто-то сказал, кому-то передали, где-то разговор был, что когда царь Петр ездил за море к чужеземным людям, то не он воротился оттуда. Сказывают, что его там подменили другим, малость похожим. – Не мели! Не то вовсе. Он подкидыш, от немки незаконно рожден. Не крещен и не нашей веры. – Ага. Будто, сказывают, Лефортин сын, почему так с ним немцы и дружатся. – Как царица Наталья Кирилловна отходила от сего света, в то число позвала его, говорила: ты-де не сын мой, а подменный… – Сущая правда так! Царица девочку родила, а ее подменили немчинком. – Знамо, что от немки он, раз велит носить немецкое платье. – Проклятый табак курить велит. Вот до чего довела езда к нехристям. – Да если и царь, а связался с немцами, то какое же из того добро? Немцы – самые злохитрые люди, хуже турков. – С немцами одни потехи на уме, а люди от такого кутилки страдают. – За морем себя Петром Михайловым называл, вот и видно, что он другого имени человек. – Точно, точно я говорю: нашли за морем немчина малость похожего, и он именем царя Петра правит, старую веру искореняет и новую не больно-то чтит. – Где – чтит! Какие колокола поснимал, самого бога ограбил. – Люди сказывают, что наш царь в бочку закован да в море иноземцами пущен. Полицейские ярыжки на торгах, на церковных папертях, на портомойных лавках Москва-реки хватали разговорчивых, шептунов и крикунов, волокли в Преображенский приказ, и там Ромодановский допытывался, откуда начало таким разговорам, кто, где, в каком воровском гнезде первыми их заводил, но ни кнутом, ни огневым веником не мог ничего дознаться. А дальше-больше, еще того хуже и страшнее. Придумал Петр по западному образцу клеймить рекрутам руку, чтобы их вернее было ловить, если решатся сбежать, и в народе все увидели в этом прямое доказательство действий антихриста, клеймящего своей огненной печатью православных христиан. Носил Петр парик – и это тоже признак антихриста: – Собачьи кудри на голове. И его сподвижники – сатанинские аггелы – в таких же собачьих кудрях. А Яков Брюс – чернокнижник и колдун. – Кривая баба, что на Сухаревском торгу с мочеными яблоками сидит, божится-клянется, что сама видала, как тот Яков Брюс ночью полетел со своей ученой Сухаревской вышки прямо к месяцу верхом на позорной трубе. – На подзорной, что ли? – Ну да! Я и говорю, на позорной. К нему, к Брюсу этому, каждонощно является черт, и они вместе ужинают. И такое люди видали, что не может Брюс говорить ни с монахом, ни с другим человеком праведной жизни без того, чтобы у него изо рта синий дым не вылетал. А то и огонь. Вот он, дьявол-то! Подметные обличительные листы появлялись во многих местах, утверждая народное мнение, что Петр – подмененный царь и к тому же антихрист. Потому и тяготы людские – от его безбожия. Чем больше народ мучается, тем его сатанинскому сердцу отраднее. Были обличители, решавшие в лицо царю сказать, кто он. – Что новенького? – зашел в Москве к Ромодановскому Петр. – Есть и новенькое, Петр Алексеевич, только на старый лад. Взят нижегородец Андрей Иванов, поведал мне про царя Петра, что он-де разрушает веру христианскую, – взял Ромодановский со стола опросный, пыточный лист и читал по нему: – «Велит бороды брить, платье носить немецкое и табак велит тянуть. О брадобритии писано с запрещением в изложении соборном. А про платье сказано: кто станет иноземное носить, тот будет проклят, а где про то написано, того не знаю, потому что грамоты не умею. А кто табак пьет, тем людям в старые годы носы резали. А на Москве у него, Андрея, знакомцев никого нет, и со сказанными словами его к государю никто не подсылал – пришел он о том извещать сам, для обличения он, Андрей, пришел, потому что у них в Нижнем посадские люди многие бороды бреют и немецкое платье носят и табак тянут, так надо, чтоб государь велел все это отменить». – Пытали? – спросил Петр. – А как же! Но больше ничего не сказал. С огненной пытки и помер. Вот тут на листе помечено: «А умре он, Андрей, по-христиански». Старобрядцем не был и обличать шел с верой в успех своего дела, – побарабанил пальцем по столу Ромодановский. Петр глубоко вздохнул. – В Ярославле Димитрий-митрополит в воскресный день шел домой из собора, – рассказывал дальше Ромодановский, – и встретился он с двумя еще не старыми бородачами, которые спросили его, как им быть. «Велено брить бороды, а им – пусть лучше голову отсекут, нежели бороду обреют». – «А что отрастет скорей – голова или сбритая борода?» – спросил владыка. – Ладно спросил, – засмеявшись, похвалил Петр. – Ну и что дальше из той беседы вышло у них? – В дом к митрополиту сходится много горожан, и ведутся споры о бороде. Иные призывают восстать за нее. – Пустословы, – махнул рукой Петр. С бородой расставались все еще не так-то просто. А когда у старого московского боярина Афанасия Лупова по указу борода была обрита, то он ее сберег, и, когда в скором времени умер, то бороду положили с ним в гроб. Печалились знатные старики: – Ныне и помереть стало не знамо как. Прежнего гроба не будет, казна все распродала дорогой ценой, а внове из дуба не делают. Прибыльщик проклятый додумался. – Это в точности так. Теперича везде гроб английский, из тёсу сшивной, и запрет вышел, чтобы дубы для мертвых долбить, лес зряшно сгубливать. – Человек жальче дерева. – То – человек, а то – мертвый прах. И это ты зря осуждаешь. Нестатно нам дубы гноить, в землю с покойником класть. Государь о хорошем лесе печется, старается, чтоб порубок не было, а тут – тебе на колоду дуб, мне, другому, десятому… Народу-то сколь на Руси каждодневно мрет, да чтоб каждому дуб на колоду?.. Начетисто, милый, начетисто. Государю из дуба корабли строить надо. – Преподобный Хрисанф опасается, что сшивной гроб нетленству мощей гораздо препятствовать станет, а отсюда церквам да монастырям урон. – Хрисанф… А ты Хрисанфу скажи, что в долбленой колоде из столетнего дуба самый грешный из грешников незнамо сколь годов пролежит и святым праведником окажется, а дощатый гроб всякому упокойнику верной проверкой станет: не стлел – значит, свят. Мощи, – они должны и без колод объявиться, хоть ты как хошь упокойника положи. Не так, что ли? – Оно будто и так… А все-таки, мол… – Ничего не все-таки… Сшивной гроб – аккуратный и на глаз много приглядистей. У Рогожской заставы на показ выставлен и даже как бы кружевами украшен. – Вот ты и ложись в него. Нашел, что расхваливать. Лучше посмотри, что на погостах творится. Могилы велено копать в глубину одинакового всем помершим. Знатного с последним холопом теперь уравнивают. – Как мог он быть истинным русским царем с таким нравом и ухватками простого мужика? Он, должно, и не знает, что такое порфира да скипетр, а давай ему топор в руки да трубку в зубы. Работает, как заправский мужик, одевается и курит, как доподлинный немец, пьет водку, ругается и дерется, как простой матрос, а в войске сам себе низший чин добыл, бомбардиром значился. Глянули бы на такого царя прежние благочестивые московские государи – и в один голос бы отреклись: не наш, не наш! В самом деле, подлинный ли это царь? Все больше и больше задавались таким вопросом в самых разных слоях народа. Что же касаемо антихриста, то это, может, не просто поношение, ругань, а… В молитвословии вычитал один курский поп, что от недоброй связи, от жены скверной и девицы мнимой, от колена Данова родится антихрист. И задумался, крепко задумался курский поп: какое же это колено Даново? Что сие?.. И где именно родиться антихристу, не на Руси ли?.. И сказывали дальше так, что пришел к тому задумавшемуся попу его знакомец, отставной прапорщик Аника Акимыч, человек хотя и убогий, но многограмотный, сам учивший ребят книжной мудрости. – Вычитал я, – шепнул ему поп, – что скоро родится антихрист от племени Данова. И в миру у нас тяжело стало, как по тому писанию сказано. Аника Акимыч коротко подумал и изрек, вразумив попа: – Антихрист уже народился и живет. У нас в царстве не государь правит, а сатанинский сын. Знай, отче: Даново племя – суть царское, и наш царь родился не от первой жены, а от второй. Вот и значит, что родился он от недоброй связи, потому что законная жена бывает только первая. – Ой-ей-ей… – схватился поп руками за голову. – Что же это станет теперь?.. – То и станет… – хотя и непонятно, но многозначительно ответил ему Аника Акимыч. И не только от курского попа и отставного прапорщика, но от многих других то сторожким шепотом, а то и безбоязненным криком пронеслась по-над землей страшенная весть – кто на святой Руси правит православным народом. У астраханского подьячего Кочергина – вон в какой дали от Курска – было найдено письмо-заговор: «Лежит дорога, через тое дорогу лежит колода, по той колоде идет сатана, несет кулек песку да ушат воды, песком ружье заряжает, водой ружье заливает; как в ухе сера кипит, так бы в ружье порох кипел, а он бы, оберегатель мой, повсегда бодр был, а царь наш Петр-антихрист буди проклят трижды анафемой». По доносу духовника – это уже совсем в другом месте – тяглец Садовой слободы Василий Волк винился: «При исповеди царское величество называл антихристом потому, что велел бороды брить и кургузое немецкое платье носить, и службы великие, и податями-поборами, солдатскими и иными нападками народ весь разорен, и в приказах судьи делают неправды многие и берут взятки, а он, государь, судей от того не унимает и за ними не смотрит, и в податях милости никакой нет, и пишут герб орла двоеглавого, а о двух головах орла не бывает, а есть двоеглавый змей, сиречь оный антихрист, и пришло это ему в ум потому, что слыхал в церкви в евангелии и в других книгах читали, а сам грамоте не умеет, и в последние времени встанет царство на царство и народится антихрист». Другой поп Будаковский говорил: «Какой Петр царь? Лучших бояр велел посадить на колья, Петербург велит в сапоги одеть и вызолотить, а Москву – в лапти, но Москва у нас без государя не будет. Царской крови царевич есть: Алексеем звать». Разглашался слух, что царь Петр какую-то Бутурлину до смерти довел; в Измайлове у царицы Прасковьи бояр канатом таскал из пруда в пруд, а Якова Степаныча Пушкина сажал на куриные яйца и велел цыплят высиживать. – Какой он царь?! Весь народ взнуздал, никому покоя нет, ни знатным людям, ни смердам. – О-о-ох, пускай бы уж одни смерды мучились, они для того и созданы. А нам-то зачем?.. – Всех трясет: из кого – деньги, из кого – душу. Подавай ему то хлеб, то пеньку, то деготь… Одними подводами вымучил. – Поборы такие, что мужики стоном стонут, криком кричат. – Бегут от неправды люди. Идут, летят, разносятся по народу толки, подслушанные доносчиками. Крестьяне жаловались: – Как бог нам его на царство послал, так мы и светлых дней не видали. Тяготы да поборы, поборы да тяготы… Боярский сын вторил этому ропоту своими сословными горестями: – Какой он царь?! Кутилка. На службу нас выволок, а людей наших в рекруты побрал. И как это его не убьют? А как убили бы, то и службы миновались бы. и черни стало бы легче. Солдатские жены тоже вопили: – Он нас разорил, мужей наших побрал в солдаты, а нас с детьми малыми осиротил, заставил век слезы лить. – Царь… Какой же это царь? – подхватывал бабьи вопли холоп. – Он враг, оморок мирской. Если станет долго жить, то всех нас переведет. – Удивление, как его земля терпит и до сих пор не уходят: ездит рано и поздно по ночам малолюдством, а то и вовсе один. Тут бы его… – Сколько ни скакать, а быть ему без головы! – Стрельцы в ту пору, как на смерть обречены были, чего зря глядели? Рядом стоял, мимо шел, – схватили бы да и… Все равно ведь самому пришлось тем же часом гибнуть. Нас бы всех от такого царя-злодея спас. – Быть обрату, так не останется. – Над святейшеством потешается. И как его, окаянного, сам бог за это не разразит? – Потому, знать, и не разразит, что антихрист он. – Анчихрист, слышь?.. – Воистину анчихрист, анчуткин брат… Какой он царь! Сколь народу и на войне и без войны перевел. – Матерь божья, заступница… Никола-угодник, господь Исус, что же вы видите лихости, а молчите?.. Припоминали царю Петру и немецкую девку Монсиху, и законную жену, заточенную в монастырь, и теперешнюю, эту иноземную полоненную шлюшку. Люди жадно прислушивались ко всем толкам. Да и как было не прислушиваться? Хоть и страх великий обуревает от таких слов, а иной глуховатый старик старается хоть как свои уши наладить, чтобы лучше слова ловить. Что царь Петр – антихрист, это уже для многих не было тайной. Об этом говорили в Москве, в Твери, в Новгороде, в Архангельске, на Олонце, а потом и в самом Петербурге. Доказательство его черных дел видели даже в том, что он «неприятельские города берет боем, а иные обманной хитростью». Так и Орешек им взят, и это петербургское место захвачено, как швед ни упорствовал отдавать его. Под началом антихриста дальше быть? Да ни в жизнь, никогда! Начались массовые побеги, поднимались народные мятежи. Глава третья 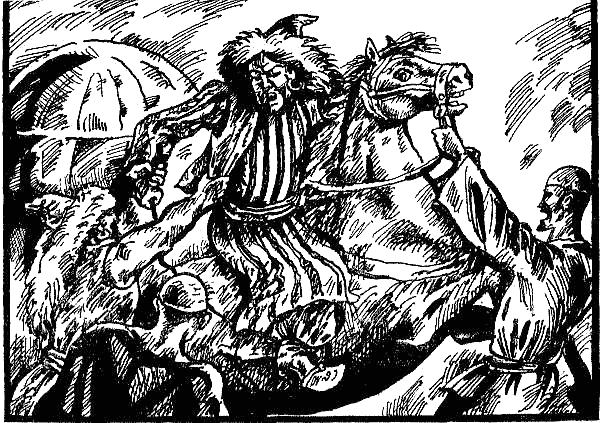 Костру не давали угаснуть или разгораться сильней. Старший углежог следил за ним, поддерживая ровный неяркий огонь. Он сидел вместе со своими подручными и с гостями из разбойничьей шайки, пришедшими в запоздавших летних сумерках. Вместе с ними на лесном становище углежогов был старик башкирин, явившийся сюда, в приладожские места, из своего дальнего края. Недалеко от костра, на погибель несметному комарью, непрестанно чадил земляной бурт, под которым жарко перетлевали на уголь березовые стволы. Еще днем трое лихих удальцов пригнали к землянке углежогов двух перхающих овец, принесли из укромного места в лесном овраге припрятанный куль пшена да окаменевший ком соли, чтобы было из чего готовить поздний обед, или ранний ужин, для всей разбойной ватаги. Углежоги и постарались: наварили на всех густого кулеша с мясом, а на запивку – вдосыть студеной, до ломоты в зубах родниковой воды. Не в каждый день такое угощение случается, а выдалось так, посчастливилось – вот и праздник! Неспешно отдыхая у костра, на довольный, сытый, набитый едой мамон хорошо послушать бывалого чужедальнего человека да под его напевный голос хоть бы и подремать. Нет, не долит дрема, потому как о неведомом и любопытном рассказывает человек В Петербург, к самому царю, слышь, идет. С жалобой на притеснение башкир и на самовольство людей из уфимского воеводства. В старом бешмете, повязанном обрывком веревки, в засаленной и надорванной тюбетейке, поджав под себя ноги, натруженные бездорожной ходьбой, мерно раскачиваясь всем корпусом, старик башкирин говорил: – Голова моя горит, когда я вспоминаю прошлое, но я заставлю себя рассказать все, что было. Последний из Сартаева рода
Слушайте. Я бывал много раз в самой Уфе, я изучил русских людей и могу так говорить, чтобы меня понимали. Имя мое – Джалык. Я сын Ташкая, сына Бурнака из Сартаева рода. Моя тамга – хвост лисицы. И я когда-то жил хорошо, и кибитка моя стояла близ высокого холма Чиялы-Туб. Я был молодым и сильным, мог легко носить на руках двухлетнего жеребенка. Когда родился мой первый сын, мне было столько лет, сколько будет восемь раз по четыре и еще один год. Я выезжал со своим соколом на охоту. Я веселился. Я жил. Когда шабер Тура-Мянгу, задумав враждовать со мной, послал мне свою басму, я отослал ее обратно и еще прибавил к ней надломленную стрелу и мертвую мышь. И я смеялся над ним. Смеялся потому, что это означало, как если бы Тура-Мянгу наелся грязи. Чтобы отомстить мне, он собрал своих людей и пошел на меня. Он остановился на правом берегу Ак-Су и приказал своим глупым людям кричать: – Ур!.. Ур!.. Мои же люди смеялись и свистели в ответ, прижимая к губам свои пальцы. Потом моя стрела скоро нашла горло Тура-Мянгу, и он утонул в реке. Я расскажу вам о своих сыновьях. Их было двое. Когда родился первый, я дал ему имя Кармасан. Второго я назвал Чермасаном – в память брата моего отца. Их нет теперь. Они ушли от силы света, глаза их протекли в землю, но имена их выжжены огнем в моем сердце. Смерть есть чаша, из которой все живущие должны пить. Я скажу: Они нисколько не походили друг на друга, хотя и были рождены одной матерью, имя которой было Улькун. Старший был выше своего брата на полголовы и имел такие глаза, как хорошо созревшие ягоды после дождя. Еще сын – Чермасан. Видели ли вы когда-нибудь молодой надречный осокорь? Он стоит прямо потому, что он стройный. И если его качает ветром, то качается он мягко, легко. Вот таким же был и мой Чермасан. Он услаждал мой слух песнями. Он хорошо умел играть на курае. Он был певцом и храбрым воином, был джигитом. Я любил их обоих. Они были славные батыри. Слушайте: Аксакал Кара-Абыз имел дочь, которая затмевала своей красотой даже летнюю луну. Ее волосы были много черней, чем крыло кургуна. Но цвет ее лица был не желтее, чем свежий курт из овечьего молока. И когда смотрела она, то жар светился в ее глазах. Звали ее Ай-Бике. Она не красила брови и ногти в черное и красное. Она была и без того молода и красива. Я увидел ее и сказал сыну своему Кармасану: – Твой брат еще молод, а ты уже стал совсем большой. Знаешь ли ты, что по ту сторону Ак-Су живет аксакал Кара-Абыз и что у него есть дочь Ай-Бике? Рожденный женщиной ищет женщину, чтобы продолжить свой род. Такие слова я сказал Кармасану, и он понял меня. И я послал Кара-Абызу три табуна овец и полтабуна кобылиц. Я дал жену Кармасану. И я устроил большой туй. Мои гости пили мед и кумыс. Они пели песни и играли на курае… Ох, мысли мои путаются, как мокрые волосы в хвосте паршивого коня. Но я буду говорить до конца. Итак: Мы сидели, мы пили мед, пили кумыс, мы пировали. Все было хорошо, наступал вечер. Когда затихли песни и женщины пошли доить кобылиц, я тоже поднялся и пошел. Все было тихо и спокойно, как это нужно. Я посмотрел на небо: там не было туч. В вышине сверкал Джиды-Юлдуз, который так похож на опрокинутый черпак для кумыса. Все его звезды горели, точно те драгоценные камни, что так искусно вправляют в рукояти клычей черкесские мастера. Все было спокойно вокруг, но я словно чего-то ждал, чего-то боялся. И вот явился он, нежданный гонец. Я помню, что под ним был усталый конь и с его боков сбегала горько пахнувшая пена. И гонец сказал мне: – Тюра! Я еду из аймака, что лежит подле большого сырта Джабык-Карагаз. Я принес весть: царский полковник Аристов – да ослепнут его глаза! – идет сюда с полуденной стороны. У него проводником Тугайбей. И с полковником столько солдат, сколько может быть дурных мух в жаркое лето. Я не зажег в своих глазах огонь ненависти. Я не рассердился на этого гонца, не приказал отрезать ему язык за то, что он принес дурные вести. Да! Я ввел его в свою кибитку. Я накормил его и напоил. Я поступил с ним хорошо. Гонец принес не ложные вести. Так было. Солдаты царя Петра пришли. Это случилось в ту пору, когда перестает куковать в урмане бессемейный кянук. Их была тьма. И они двигались, как тьма, наползающая в сумерках с гор. Их было очень много. И главный начальник над всеми солдатами был полковник Аристов, да будет имя его вонючим, и пусть свиньи мочатся на его могиле! Они искали брод через Ак-Су. Они взяли кожаные турсуки и надули их воздухом, привязали их к своим седлам по одному с каждой стороны и перешли Ак-Су. Я увидел их впервые за ближним холмом, что находится справа от Чиялы-Туб. Они были от меня на расстоянии трех полетов стрелы. Я знал: их лошади выпьют и загрязнят нашу воду, вытопчут наши степи. Я молился, но аллах не услышал меня. Я обратился к Кадыр-Эль-Исламу, но он не помог мне. Мы были одни. И я увидел тогда перед собой своих сыновей. Они оба дышали горячо. Мы отправили дальше от места Чиялы-Туб наши кибитки и угнали стада. Мы кликнули всех мужчин, которые могли владеть будзыканом и клычем. Нас собралось не так много, но каждый из нас был храбрым. Но нас было мало, и мы отступили. Нет, нет! Мы не бежали. Я вам скажу: когда рана в живот или в грудь – это смерть. Будь то конь или воин. Дети! Сыны мои! Зачем я буду говорить о том, как вы умерли… Знайте: Я оставил о них хорошую память. Там, за Ак-Су, текут еще две реки, которые извиваются, как серебряная надпись из Аль-Корана над преддверием Газиевой мечети. У этих рек не было имен. И я дал им имена своих сыновей. Я похоронил их там. А потом я мстил за них. Стоны поверженного врага приятны слуху воина. Слова о пощаде веселят его сердце. Кто скажет, что это не так? Я заткнул свои уши перстами ненависти. В глазах моих горел огонь мщения. Знайте все: Это я и беглый из русской земли Антон переплыли ночью реку Дим и убили проклятого Тугай-бея. Он лежал у костра, окруженный своими сарбазами, но наши руки были достаточно крепки, чтобы заставить его не встать никогда. Их было в пять раз больше, чем нас. Нас же было только двое и еще – ночь. Мы убили их, и я сам, вот этой рукой отрезал их уши и бросил в горячую золу костра. Помню: я встретил предавшегося собаке Аристову башкирского старшину Улукая. Он ехал куда-то и осмелился кричать мне худые слова, ядовитые, как корень аксыргака. И я сделал то, что следовало сделать. Я погнал своего коня. Я настиг его. Я отрезал голову Улукая. И я послал эту голову самому Аристову да спалит его огонь! Враги страшились меня. При одном упоминании моего имени они начинали дрожать, как дрожат глупые жеребята, когда услышат вой волка. Да, так: Судьба родившегося в год Барса подобна весеннему ветру, изменчивому, как женщина, которая таит в себе тепло и холод. Это так. Но я скажу: горькое и сладкое узнает только отведавший. Вот дорога моей судьбы привела меня наконец уже к закату, и самому мне ничего не нужно. Для меня все прошло. Я лишился своих сыновей, своей кибитки, лишился всего. Теперь я бездомная собака и греюсь у чужого огня. Где мои друзья, руки которых когда-то лежали в моих руках? Их нет. Они ушли от силы света. Их глаза протекли в землю. Я – один. Я – последний из Саратаева рода. Но пока могут шелестеть мои губы и шевелиться язык, я буду рассказывать встречным о себе, о всех нас. Ручьи несут воды и образуют большую реку. Слова воспоминаний призывают к жизни минувшее. Так бывает. Так будет… Было так: В рваном бешмете, подогнув под себя ноги и прислонившись спиной к высокой сосне, сидел старик кураист. Лицо его было сурово и совсем не соответствовало тому веселому плясовому напеву, какой наигрывал его курай. Пальцы старика привычно скользили по легкой тростинке, и потревоженным шмелем, то затихая и словно удаляясь, то приближаясь и будто кружась над головой, назойливо гудел курай. Перед лицом старика развевались нарядные девичьи платья, мелькали пляшущие ноги, но старик кураист не замечал их. Все его внимание было сосредоточено на девушке, одиноко стоявшей в отдалении у самого обрыва горы. Она не принимала участие в пляске, настороженно вглядываясь вниз, в долину, чуткая к каждому шороху, и подозрительно осматриваясь по сторонам. Перед ней – склоны гор, поросшие густым лесом, горная речка в долине. Над горами проплывали облака. Тяжело пошевеливая крыльями, на каменистом уступе горы сидел беркут, расклевывая свою добычу. Внизу, в кустарнике, паслись оседланные кони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 |
|||||||