 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Кларк Артур Чарльз :: Сименон Жорж :: Желязны Роджер Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: По заданию преступного синдиката :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: «Фирма приключений» :: Полет :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона :: Мертвые души |
Великое сидениеModernLib.Net / Историческая проза / Люфанов Евгений Дмитриевич / Великое сидение - Чтение (стр. 15)
И Петр понял сделанную им промашку: нет, не сможет быть в должной мере Бахметев решительным и беспощадным. Брат убитого князя Долгорукого гвардии майор князь Василий будет надежным мстителем и за убитого единокровного родича и за преступное самовольство донских казаков. И Василию Долгорукому с приданными ему полками из семи тысяч человек предписано было незамедлительно направиться к Воронежу и Козлову, «чтобы огонь сей потушить, ходить по городкам и станицам, какие пристают к воровству, и оные жечь без остатку, а людей рубить».
Размах восстания убеждал Петра, что нельзя ограничиваться оборонительными мерами и следовало воспользоваться тем, что в войне со шведами наступила передышка: Карл XII двинулся в Саксонию, – следовательно, можно было использовать дополнительно некоторые воинские части для разгрома донских повстанцев. А известие о движении Булавина к Черкасску еще более встревожило царя. Азовский воевода стольник Иван Толстой сообщил ему о разгроме старшинского войска атамана Максимова и успешном продвижении мятежников. Петр опасался, что они захватят Азов и Таганрог, где согнанные из разных мест для возведения укреплении крестьяне и сосланные в эти города стрельцы таили давнюю ненависть к установленным царем новым порядкам и могли в любой день и час примкнуть к восставшим. В дополнение к отряду Бахметева и полкам Василия Долгорукого Петр приказал Меншикову срочно послать еще и драгунские полки – «иттить степью прямо на Таганрог.» Царь сам хотел отправиться на Дон и лично руководить подавлением булавинского мятежа, но его от этого похода удерживала внезапно обострившаяся простудная болезнь. «Нам до черни дела нет; нам дело до бояр и которые неправду делают, а вы голутьба все идите со всех городов, конные и пешие, нагие и босые! Идите! Не опасайтесь! Будут вам кони и ружья, и платье, и денежное довольствие», – щедро обещал Булавин, продолжая рассылать свои «прелестные письма» по русским городам. И предупреждал, грозил: «А вы, стольники и воеводы и всякие приказные люди! Не держите чернь и по городам не хватайте и пропускайте всех к нам в донские городки, а кто будет держать чернь и не отпускать, и тем людям смертная казнь!» Из Пристанского городка пришел в Тамбов церковный дьячок села Княжова и рассказывал: «Воры говорят, чтоб им достать козловского воеводу князя Волконского. А в Тамбов придет сам Булавин и при нем семнадцать тысяч войска, да еще с ним же каракалпаки, и намерение всех, воровски собравшись, идти по городам, чтоб всех старшин побить». По признанию воронежского воеводы, «воровские казаки неволею никого к себе не брали». Бежали солдаты и драгуны из правительственных полков, но не было беглецов из повстанческих отрядов, и когда булавинцы захватывали в плен противников, то расправлялись с начальными людьми, солдатам же предоставляли выбор: присоединиться к повстанцам или уходить, куда хотят. А куда тем было уходить? Домой? Там их снова заберут да еще заставят отведать батогов, – лучше идти с булавинцами, обещающими вольную жизнь. Не знакомых с военным делом солдаты и драгуны обучали простейшим приемам обращения с оружием, и всегда они были желанными людьми в повстанческих отрядах. Атаманы станиц, находившихся на пути Булавина к Черкасску, писали ему: «Хотя ты и пойдешь мимо нашей станицы и мы по тебе будем бить пыжами из мелкого ружья. А ты також вели своему войску бить по нас пыжами. И буде ты скоро управишься, и ты скорей приступай к Черкасскому». А и привыкать нам, донским казакам, к бою-подвигу, Ой да привыкать нам нападать на царевы полчища, — Да мы царю же не сдадим своей вольной вольницы, Ой да за Булавина отдадим свои буйны головы. Да не убить-то царю славный род людской, Ой да постоим же за правду грудью-кровью мы, — пели по Придонью. Из песни слова не выкинешь, и, как сказано в ней, отдавали казаки за Булавина свои буйны головы. Стольник Бахметев, отстоявшись до весны в Острогожске, пошел со своим войском на Битюг, соединился близ селенья Чиглы с войсками полковника Тевяшева и воронежским отрядом Рыкмана, да недалеко от переправы через Битюг дали они бой тысячному отряду повстанцев, командиром которых был Лукьян Хохлач. Бой длился три часа, и исход его решило численное превосходство правительственных войск, сломивших ожесточенное сопротивление повстанцев. Лишь небольшая часть их спаслась, укрывшись в прибрежных лесах. Зато в походе на Черкасск булавинцы не понесли никаких потерь, хотя город был хорошо укреплен. Более полусотни орудий стояло на бастионах его крепости, и они могли в любую минуту открыть стрельбу. Гарнизон Черкасска состоял из четырех тысяч человек, но быстрому захвату города как раз и способствовали сами его защитники. Чтобы расположить к себе Булавина, черкасские домовитые казаки выдали ему войскового атамана Лукьяна Максимова с несколькими старшинами, и Булавин не замедлил расправиться с ними, предав их смертной казни. После этого следовало решить, кого выбрать новым атаманом Войска Донского, и домовитые казаки, все воины-повстанцы и казацкая голытьба в один голос назвали Кондрата Булавина. Огляделась после овладения Черкасском повстанческая беднота и уже намерилась было побить местных «природных» казаков, – сам Булавин говорил об этом как об одной из главных целей своего похода сюда. Все помыслы голытьбы сводились к тому, как бы поскорей раздуванить имущество домовитых, но атаман все еще не давал знака к этому. Улавливая на себе косые взгляды неимущих, зажиточные казаки поняли грозившую им опасность оказаться не только разоренными, но и лишенными живота. Это куда страшнее, нежели держать ответ за свои вольнодумные намерения перед кем-либо из царских правителей, и начался отход домовитых, еще так недавно охотно сопутствовавших восстанию. Имея у себя большие запасы хлеба, они припрятали его, надеясь вынудить голодающую бедноту уйти из городка. Своих голутвенных казаков можно было бы окоротить, а российскую голытьбу не так-то просто утихомирить и лучше поскорее избавиться от нее, наказав здешней бескормицей. – У гольтепы атаманы Драный, Голый, Лоскут, – по самим этим кличкам видно, что нищеброды, – презрительно отзывались о них домовитые казаки. – Чего нам об ихних вольностях беспокоиться, нам только бы хлеба добыть, зипунов да хоть малого жалованья, – заявляли гультяи. – Нечего тут прохлаждаться боле, пойдем Азов добывать. так, что, оставаясь в Черкасске, Булавин раздробил свои силы; сборы войска для похода на Азов были поспешны, и действия их непродуманы. С уходом же из Черкасска главных повстанческих войск стали поднимать голову заговорщики из числа домовитых. Не верили они, что хорошо укрепленный Азов будет повстанцами взят, и некоторые домовитые сами бежали туда под укрытие. Азов действительно был сильной крепостью со множеством пушек и хорошо вооруженными полками солдат. А Булавин надеялся, что и Азов будет захвачен также без боя, как это произошло с Черкасском. Там ведь тоже немало людей, недовольных установленными царем порядками. Непривычна да и непристойна коренным казакам солдатская гарнизонная служба, а в Азове и во вновь поставленном Троицком городке их заставляют солдатскую службу нести. Обязали казаков принять на себя тяжелую и тоже постыдную для них «почтовую гоньбу» от Азова до Валуек и Острогожска. Ямщиками, в услужении у проезжающих, сделал царь казаков, – это ли не позор?! И для того на новые шляхи переселено с Дона около тысячи казацких семейств. Да и насильно согнанных работных людей много стало в Азове. Обрадуются они случаю воспротивиться своему подневолью и откроют повстанцам городские ворота. Но не сбылась примстившаяся Булавину такая удача. Ринулась пехота и конница на штурм Азова, но сильный пушечный и ружейный огонь с крепостных раскатов заставил повстанцев отступить и засесть у Делового двора под прикрытием штабелей из лесных припасов. Сидели там, ждали удобного часа, чтобы проникнуть в Матросскую слободу и постараться с той стороны овладеть укреплениями. Случилось же так, что первыми сделали вылазку правительственные войска под командой полковника Николая Васильева, не так давно побитого при сражении у реки Лисковатки. Теперь Васильев оправился от того поражения, и у Делового двора произошел бой. С обеих сторон было много убитых и раненых, но на помощь Васильеву подошли четыре роты солдат, и перевес оказался на его стороне. Штурм Азова повстанцам не удался, и пришлось им отступить к реке Каланче. Не удалось и задержать наступавшего на них карательного войска князя Василия Долгорукова. Не посчастливилось взять Азов, но у повстанцев появилась надежда осадить и захватить городок Тор. Приступ к нему осуществлялся по плану самого отважного булавинского атамана Семена Драного. «Прелестными письмами» и другими словесными обещаниями он переманивал на свою сторону жителей Тора, и те, возможно, переметнулись бы к осаждавшим, если бы к тому времени не подошли к Тору же правительственные войска Василия Долгорукого., Несколько отойдя от городка, в урочище Кривая Лука Семен Драный завел в лес обоз, и лицом к полю выставил жерла своих пушек и приготовился встречать неприятеля. – А ну, подходи, князь! И Долгорукий со своим войском и приданными к нему тремя полками бригадира Шидловского подошел к месту сражения. Оно началось в вечернюю пору. Драгунским полкам Долгорукого и коннице Шидловского удалось разметать выдвинутые вперед отряды повстанцев, для которых верными друзьями и защитниками оставались лишь темная ночь да густой лес. В этом бою было убито полторы тысячи булавинцев и погиб сам атаман Семен Драный. Уцелевшим людям ничего больше не оставалось, как бежать к Черкасску, и на пути к нему многие потонули в Дону. Известие о поражении на Кривой Луке доставил в Черкасск сын Драного, и это вызвало большое замешательство среди находившихся там. Прибежавшие из-под Тора другие беглецы стали гневно упрекать Булавина в том, что он посылал людей под Азов и был виновником их гибели. Начавшиеся среди повстанцев раздоры помогли домовитым казакам подготовить мятеж, чтобы схватить Булавина с его приверженцами, выдать их князю Долгорукову и тем самым постараться искупить свою вину за причастность к восстанию. Этот заговор начинал созревать еще до событий в урочище Кривая Лука, и Булавину пришлось усилить свою охрану. Заговорщики намеревались схватить его, когда он шел в баню, но в тот раз охрана вовремя их заметила, и они были схвачены. Следовало Кондрату остерегаться теперь на каждом шагу и доверять лишь немногим верным единомышленникам и сподвижникам в делах, таким, как давний испытанный друг Илья Зершиков. И не знал, не догадывался Кондрат Булавин, что именно этот Зершиков являлся тайным вдохновителем готовящегося на него покушения. Сетовал Булавин на кубанских и запорожских казаков, что они не прислали ему в подмогу своих людей и оказалась совсем не подготовленной почва для переселения к ним донских казаков в случае неудачи восстания. А вот она, неудача, и произошла. В чем же крылась причина поражения? От самого себя правды не скроешь: плохо были организованы его повстанцы и оказались раздробленными их силы, потому и были нанесены им столь непоправимые поражения, и невосполнимы потери, понесенные под Азовом и у Кривой Луки. Конечно, много значило и превосходство хорошо оснащенных сил противника. Опоздало донское казачество со своим восстанием, провело в бездействии и упустило время, когда бунтовала Астрахань или ширилось возмущение по Башкирии. Следовало тогда же и присоединиться к тем боевым сотоварищам. Да и много праздного времени провел он, войсковой атаман, находясь безвыходно в этом Черкасске. Плохо было еще и то, что развитию восстания на Дону мешала привязанность здешних людей к своим обжитым местам. Не говоря уже о самих коренных казаках, а и многие из новопришлых крестьян, уйдя от прежних ненавистных господ и начальных людей, радовались тут полегчанию своей горемычной жизни и не очень-то стремились к продолжению борьбы. Ошибки, ошибки, оплошности, и за них теперь неминуемая расплата… И она наступила в жаркий день 7 июля 1708 года. К своему гневному изумлению увидел в оконце Булавин, что к его куреню, возглавляя вооруженных домовитых казаков, подошел сам Илья Зершиков, громко и злобно требуя, чтобы атаман немедля сдавался им. В завязавшейся перестрелке Булавин убил двух казаков. Ну, убил бы еще одного или тоже двух, а исход схватки все равно был уже предрешен. Кто-то из домовитых крикнул, что надо курень соломой обложить да поджечь и Булавина огнем наружу выпихнуть либо живьем спалить. Так и сделали бы предатели вероломные, и ничего больше Кондрату не оставалось, как самому порешить себя мужественной честной смертью. – Прощай, Дон!.. Прощай, воля!.. Пуля поставила последнюю точку всему неудавшемуся булавинскому делу. Глава четвертая 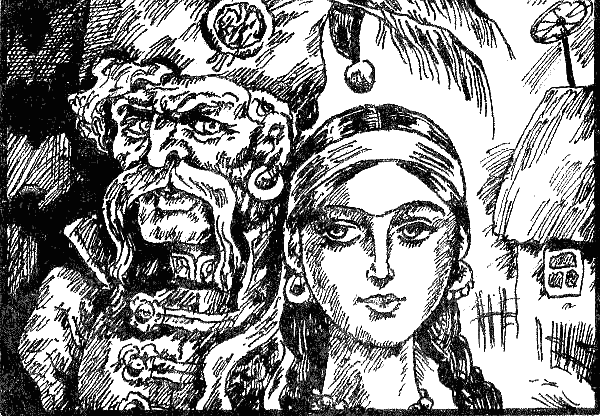 Что делать, как быть, куда горе-горькую головушку преклонить ей, царице Прасковье? – Охти-и… От взятых с собой из Измайлова съестных припасов и от скотского гурта ничего не осталось. Столько едаков на ее, царицын, кошт навалилось – под чистую все, как помелом, подмели. Царица Марфа да царевны Наталья, Мария и Федосья, сестры Петра, своя сестрица Анастасия, каждая со своими придворными, все есть-пить хотели, а из Москвы своих припасов не взяли, понадеявшись, что все им в Петербурге тут приготовлено. Той – мясца, той – крупицы, мучицы надо. А как не дать? Родня ведь! Да и знали все, что с ней, с царицей Прасковьей, большой обоз шел. А тут еще и Петрова зазноба лифляндская на чужой каравай рот разинула, и у нее тоже, хотя и не столь большая, дворня, но есть. Раздавала она, царица Прасковья, не скупилась, в надежде, что все ей возвращено будет, ан жди-пожди, и все жданки прождешь. Ничего у самой не осталось, и спросить не с кого. Петра Алексеевича нет, пожаловаться некому. Вместе со светлейшим князем Меншиковым отбыли к войне ближе, а без них никто ничего не знает и сделать не может. И жители, и работные, и военные люди перебиваются кое-как; многие уже совсем голодать стали. Цены в лавках и на уличном вольном торгу несусветные, да и купить почти нечего. Хотя лето еще не кончилось, а дожди по-осеннему зарядили, дороги стали непроезжими, непролазными – самая добычливая пора для разбойничьих шаек. Сколько обозов разграблено, и даже стражники оберечь их не могут. Словно нарочно лихоимцы поджидали, когда из Измайлова для царицы Прасковьи два новых обоза пойдут. Пошли они, а до Петербурга ни один не доехал, от последнего обоза только приказчик с распухшей от битья рожей явился да со сломанной рукой. Бой почти под самым Петербургом с ворами был, и какие возчики перебиты, а какие сами в воровскую шайку ушли. Вот тебе и ожидаемые припасы, – мука, крупа, сало, где они? Куда, на какую полку зубы класть?.. Некоторые придворные, а особливо дурки да карлицы, привычные к сладкой еде, от голода, мокрости да неуюта похворали малость и померли, а уцелевшие отощали, и несмолкаемый вой стоит по царицыному подворью. Спасибо зятю, сестрину мужу, Федору Юрьевичу Ромодановскому, что распорядился по возу капусты да репы доставить. Приходится этой едой питаться, а какая в ней сыть? И царевны осунулись; Катеринка смеяться перестала, Анна с каждым днем все больше угрюмится, а у Парашки глаза в слезах и все слюнки глотает. – Исть, маменька, чего-нибудь хочется… – Кочерыжку, доченька, погрызи, либо пареную репку возьми. А Парашка от этого еще пуще в рев. И что же это будет такое?.. Приехали в «парадиз», в царский рай!.. К пожарам да к наводнениям еще и бескормица добавляется, а к этому ко всему ходит слух, что со дня на день швед на Петербург нападет и обратно к себе его заберет. Говорили намедни в соборе люди, что шведский король похваляется: пускай, дескать, царь Петр строит город, который все равно шведами будет взят… А тогда как быть?.. Только одна царева разлюбезная хахалица Катерина Алексеевна безунывна. Ей, конечно, и такая еда хороша: с девок привычно капустой да репой кормиться. А придет швед – отговорится на бусурманском своем языке, что насильно, мол, в полюбовницы себе царь забрал, а она, дескать, слезы лила, отбивалась. По всему видать, расподлющая тварь! А вот ей-то, ей, царице Прасковье, со своими царевнами не миновать живота лишаться. А если не от шведа, то от капусты с репой, от холода-голода, от кручины-тоски. – О-охти-и!.. По всему Петербургу у подножия сосенок, берез и осин торчали грибы. Может, хоть они будут подспорьем в еде. Но все же и неприязненно смотрели люди на полчища маслят и рыжиков, вылезших из своих земляных укрытий. А над ними, словно генералы, в белых чулках да в красных мундирах, испятненные регалиями, мухоморы. Грибной год выдался. – К войне опять. – Опять!.. Она какой год уж идет. – Значит, сильней прежнего будет. Трудную навигационную науку проходили прикованные к галерной банке бывшие попы Флегонт и Гервасий. Не сразу и не легко давалось им действовать веслами слаженно с другими гребцами: то глубоко, то мелко забирали воду, то ударяли о чужое весло, внося сумятицу в ход галеры. Почти каждая такая оплошность влекла за собой удар плетки надсмотрщика, – красные рубцы не сходили с плеч и спин неумельцев. И приказ был не вскрикивать от ударов, не стонать. Деревенели пальцы, сжимавшие рукоять весла, и то дрожью, то горячим потом обметывало Гервасия и Флегонта, то не хватало им воздуха, а то, захваченный широко раскрытым ртом, он распирал грудь, и кровь частыми тугими толчками болезненно ударяла в виски. Флегонт густо оброс поседевшей за недолгий срок бородой, а у Гервасия волос посекся и пожухла бесцветная его бороденка. Пробовали попы заговаривать о своей злосчастной судьбе, но в ответ слышали угрозы: будут надоедать со своими жалобами – вырвут им ноздри да прижгут на лбу клеймо, что они суть воры. Помрут в муках таких? Ну и пускай помирают, на это запрета нет. Босоногие, изможденные, в рубище, пока еще крепились попы, старались в лад с другими гребцами поднимать и опускать весла, ровнее откидываться назад и отталкивать в это время веслом захваченную толщу воды. – Вот и видать, что стараетесь, сталоть ноздри будут целей, – ободрял их надсмотрщик и для пущей поблажки не так сильно хлестнул плетью того и другого. Но Гервасию так и не пришлось освоить как следует навигацкую эту науку. На Ладоге, в штормовую погоду, когда волны не давали галере надлежащего хода и не помогали гневные крики надсмотрщика, чтобы гребцы-каторжане шевелились проворнее, Гервасий выпустил весло из рук, ткнулся головой в спину сидящего впереди каторжанина, и бессильной оказалась плеть, несколько раз пытавшаяся его опамятовать и потому сильно полоснувшая податливо-расслабленные плечи. Так и не опамятовался Гервасий от своего дерзкого неповиновения, а когда преисполненный ярости надсмотрщик схватил его за шиворот и остервенело рванул к себе, Гервасий, удерживаемый цепью, покорно свалился ему под ноги, навсегда освобожденный от каторги подоспевшей смертью. И тут еще на одной из передних банок сумятица произошла. Хотя там пока жив был гребец, но он уже безучастно водил одичавшими глазами, не узнавая никого, а рядом с ним корчился другой, надсадно и хрипло дыша. Остальные гребцы побросали весла и сидели, втянув голову в костлявые плечи, равнодушные к свистящей над ними плети и словно не чувствуя ее ожогов. Разыгравшиеся на ладожском просторе волны и ветер мотали галеру из стороны в сторону, перекидывали ее от волны к волне, и волны со всего маху охлестывали судно. Окатила волна едва удержавшегося на ногах надсмотрщика, и он, судорожно хватаясь за что попало, стал пятиться назад, норовя поскорее убраться в кубрик к шкиперу и призвать кого-нибудь из команды к себе на подмогу. С минуты на минуту можно было ожидать, что особо разыгравшаяся волна с белым барашком на гребне поднимется во весь рост и так охлестнет галеру, что она, огрузившись водой, канет в ладожскую пучину. Вот уж не думалось никому из гребцов, что они на свое счастье к банкам прикованы, – удерживала их короткая цепь на галере, а не то смыло бы за борт. Ну, а уж если придется всем разом, вместе с суденышком потонуть, то, значит, такова последняя их судьба. Не сбудется, значит, надежда дойти до реки Волхова, где бы их, галерных гребцов, в первом же прибрежном селении покормили, как сулило перед отплытием галерное их начальство. Дня два, мол, в пути поголодуете – не беда, зато так там навалитесь на еду, что только за ушами станет трещать. А из Петербурга в дорогу взять было нечего – самим градожителям нет еды, капустой одной пробавляются. И вы, дескать, гребцы-молодцы, как только дойдете до Новгорода, там вашу галеру самым сытным провиантом нагрузят, и пойдете в обратный путь. Из подмосковного Измайлова для двора царицы Прасковьи съестные припасы туда доставлены, а везти их дальше от Новгорода опасно: разбойничьи шайки могут напасть и все съестное ограбить. По воде сплавлять безопаснее. А как не сбудется до Новгорода дойти, то совсем натощак, в многодневную проголодь придется смерть принимать. – Помяни, господи, и прими рабов твоих во царствии своем, – перекрестился Флегонт. А в кубрике свой переполох, и никто не отозвался на клич надсмотрщика, взывавшего о подмоге, чтобы заставить каторжан грести. Не миновать всей команде смерть в той галерной норе принимать: хлынет сюда вода – захлебнет. Но и наверх подняться страшно – собьет волной. Что делать? Как быть?.. Только и надежды, что на Николая-угодника, покровителя мореплавающих, и хотя Ладога не есть море, все же терпящие на ней бедствие в такой передряге все равно что и гибнущие на море. Громогласную и многоголосую молитву надобно Николаю-угоднику вознести и каторжан расковать. Может, смилуется угодник тогда, видя проявленную к рабам благостыню. – Одного либо хоть двух расковать, а те потом с остатних железо скинут, – суетился шкипер и обращался к надсмотрщику: – Хлопочи, Маркел, во спасение душ. Воздастся за это тебе, – и совал ему зубило с молотком для рассечки кандальных заклепок: – Мертвяка расклепать? – не понимал Маркел. – Мертвяку все едино. Об живых хлопочи. Перекрестился, набрался храбрости надсмотрщик Маркел, чуть ли не ползком подобрался к гребцам и надсадно выкрикнул: – Высвобождайтесь из железа, ребята. Помогай вам бог. Перед ним был рыжеволосый с вырванными ноздрями гребец. От сильного и частого дыхания, то слипаясь, то разлипаясь, с присвистом трепетали обветшавшие крылья его изуродованного носа, а на распаленном, побагровевшем лице выпучивались словно застекленевшие глаза. – Рваный… – хотел было отшатнуться от него Маркел, но тот схватил его за руку и не отпускал от себя. – Ин ладно, пусть… – прилаживался надсмотрщик к его банке, ударяя то по железу, а то и по ноге. С большим трудом срубил он заклепку с ножного кольца этого кандальника, а их по двенадцать человек у каждого борта галеры. Да ведь не на спокойной воде суденышко, а колышет, бьет его зыбучей волной, несет неведомо куда, – когда и как сможешь всех расклепать?.. – Земля… Берег там… – надрывая голос, крикнул один из колодников, указывая рукой на появившуюся вдруг за грядами волн береговую полоску. Ветер и волны гнали галеру к ней. Исступленно кричали, выли, стонали колодники, а их вопли глушил гулкий шум налегавших на галеру волн, от натиска которых она вздрагивала и тоже словно нестерпимо стонала. Невозможно было никому из гребцов оторвать ногу от банки, крепко держала короткая цепь, но, превозмогая боль, напрягая последние, появившиеся вдруг силы, хотя и безуспешно, но пытались все же люди вызволиться из оков, не дожидаясь, когда их раскуют. Первый раскованный каторжанин с вырванными ноздрями выхватил из рук надсмотрщика Маркела зубило и молоток, искровянив себе пальцы, срубил заклепку на ножном кольце соседа по банке, которым был Флегонт, и тот, рванувшись со своего места, едва не сшиб с ног надсмотрщика, испуганно отпрянувшего от него. Земля показалась. Может, это тот берег, от которого они утром отплыли и теперь снова пристанут к нему? Пусть бы так, – перестанут бедовать на воде. Надсмотрщик Маркел встретился взглядом с раскованным рыжеволосым гребцом, и захолонуло его душу смятением, когда перехватил в глазах каторжанина злобно-мстительное торжество. Сразу же мысли одна отвратнее другой застращали надсмотрщика: зачем так опрометчиво поступил, расковав этого лихоимца? А что будет, когда окажутся освобожденными от цепей остальные? Не сведут ли они свои счеты с ним, Маркелом, столь рьяно хлеставшим их спины? Наверняка по-своему расправятся с ним да и со всей командой галеры, – в ней вместе со шкипером только шесть человек, а гребцов-каторжан более двадцати. И от предчувствия неминучей беды леденяще знобило Маркелу все его тело. Неуправляемую галеру мотало по волнам; сильная качка не давала возможности рыжеволосому срубить заклепку с оков следующего гребца: только приставит плотнее зубило, намерится молотком, как ловчее ударить, а в то же мгновение охлестнет его вздыбившейся волной, оттолкнет в сторону или повалит на банку. Надо снова стараться улучить миг, чтобы вернее ударить по неподатливой, крепко сидящей заклепке. А надсмотрщик Маркел с нарастающим страхом следил за каждым его движением, мысленно кляня шкипера, вздумавшего на свою же погибель возносить всеобщее моление и высвободить ради этого гребцов из железа. Чем и как сумеет их потом опять устрашить? Сказать ему надо об этом, пока не поздно, предостеречь. Едва только ступил Маркел на лесенку, чтобы спуститься к шкиперу, как резкий удар сшиб его с ног, швырнул вниз на проломленное днище галеры, и в этот пролом в тот же миг ворвалась стремительно хлынувшая вода. С треском и скрежетом раздиралось дощатое днище галеры, наскочившей на камни, и, охлестанная волнами, она все глубже оседала в воду. Налетел, должно быть, самый что ни на есть сильный девятый штормовой вал, смыл с галеры двух раскованных гребцов и накрыл остальных, напористо навалившись на суденышко и плотно прижав его к озерному дну. Ничто не мешало после этого свободно набегать волнам до самого берега и обрамлять его пенистым прибоем, словно нарядными кружевными уборами. Лежал Флегонт у береговой кромки, не в силах шевельнуть отяжелевшими и набухшими ногами, будто налитыми ладожской этой водой. Но, знать, на роду ему было написано чередовать невзгодную жизнь проблесками случайных удач. Чудом вызволился он от, казалось бы, неминуемой гибели. Не захлебнула его волна и, унося на своем гребне, не ударила о выпиравшие из воды прибрежные камни, а откинула в прогалину между ними на рудой песок. Потом вдребезги разбивались о камни накатные волны и брызгами словно бы освежали Флегонта, будили в нем снулую, едва не омертвевшую жизнь. А тут еще подоспел подойти к нему рыжеволосый, с рваными ноздрями, тоже спасшийся от смертной беды человек. Он оттащил Флегонта на сухой берег и тормошил, будил его от пагубного недужного забытья. С трудом приоткрыл Флегонт забухшие глаза и не мог припомнить, где и когда видел он этого наклонившегося над ним человека. Может, во сне?.. – Не nужи, оклемаешься, – обнадеживал тот. – Кто ты? Как зовут? – спросил Флегонт, не слыша собственного голоса. А рыжеволосый услышал. – Аq не можешь признать?.. Галерный я, как и ты. Рваным там называли. Рваный и есть, – подтвердил он. – Вон как оно получилось, дивлюсь сам себе, – тряхнул он головой. – Когда смыло с галеры, поплыл я сперва, а потом, чую, нет моей силушки никакой, хоть и вижу, что берег близко. Утону, думаю, на самом его виду. Стал уж захлебываться, ко дну идти. А как ноги-то опустил, чую – вот оно самое дно, в аккурат под ними. К берегу-то не вплавь, а вовсе пеши пошел, – радостно засветились глаза у рыжеволосого, и он улыбнулся. Отлежался Флегонт, отдохнул, только в ушах все еще не затихал прибойный шум волн, будто на Ладоге продолжало штормить. А там уже поунялись разгульные буруны, и все шире, вольнее расстилались над озером тишь да гладь. Рваный камнем убил лягушку, разодрал ее и принес половину Флегопту. – Покормись ею. Лягва силу даст. А на заедку – кислица вот, – протянул пучок конского щавеля. Флегонт благодарно посмотрел на него. Старается человек, чтобы он, Флегонт, выжил, силу обрел. Побратимами они стали в своей злосчастной судьбе, и надо им теперь обоюдно, подлинно что по-братски дальнейшую жизнь делить со всеми ее новыми горестями. – Царство небесное… Вечный покой… – покрестился и низко поклонился Флегонт невидимой общей могиле, в которой под толщей воды сгинула галера с прикованными к ней гребцами, и помянул среди них новопреставленного раба Гервасия. Где щавелька, где гонобобеля с куста ущипнув, а на худой конец просто сглотнув набежавшую в рот слюну, медленно продвигались Рваный с Флегонтом но бездорожному лесу неведомо куда, в надежде, что может быть, тропка покажется и по ней набредут они на какое-нибудь жилье. А может, наткнутся на звериное логово, и кто знает, как звери с ними, с путниками, обойдутся? – На палку шибчей опирайся, чтоб она ходьбе помогала, – советовал Рваный Флегонту и вдруг сам остановился, замер на месте, принюхиваясь к прогретому солнцем и настоянному на смолистом запахе лесному воздуху, что-то улавливая в нем рваными своими ноздрями. – Дым, похоже! – взволнованно произнес он. Принюхался и Флегонт. – Дымком пахнет, верно. – Должно, от жилья. – Костер, может… Ноги обрели утраченную было крепость и прибавили шагу. Все ощутимее улавливался запах дыма, забивавший теперь для Рваного и Флегонта все другие лесные запахи. А вот от протекавшею в ложбине ручья протянулась по земле узкая тропка с примятой на ней травой. Поднялись Рваный с Флегонтом от ручья на пригорок, немного прошли еще и увидели землянку, похожую на медвежью берлогу, с низким и тесным лазом. Около нее в затухающем костре чадила головня, а чуть подальше был длинный земляной бурт, в котором томился жар перегоравших на уголь берез. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 |
|||||||