 |
|
Популярные авторы:: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Борхес Хорхе Луис :: Лондон Джек :: БСЭ :: Чехов Антон Павлович :: Сименон Жорж :: Горький Максим Популярные книги:: The Boarding House :: Трафальгар :: Любимый :: Загадочная леди :: Молодость :: Светопреставление :: Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам :: Арестант :: Флот вторжения (Книга 2) :: Прекрасность жизни |
Прозрачные звёзды: Абсурдные диалогиModernLib.Net / Юлис Олег / Прозрачные звёзды: Абсурдные диалоги - Чтение (стр. 3)
— Нет, конечно. Я и сам так делаю иногда. Но она же там для чего-то существует.
— Существует ли у Вас какая-нибудь гимнастика для души? — Мне эти сравнения с физкультурой не нравятся... В этом есть демонстрация пренебрежения к душе. Работа души должна длится 24 часа в сутки, в отличие от работы для групп мышц. Увы, есть люди, которые вообще без этой гимнастики обходятся. Киллеры, например. Если люди искусства перестают вспоминать об этой гимнастике, они перестают быть людьми искусства. — Вы убеждены в правильном выборе своей профессии, ту ли дверь Вы открыли? — Дверь я открыл безусловно ту, а вот в тот ли угол забился, я не уверен. Ведь и за дверью есть выбор. Я хотел стать актером, то есть попал туда, куда надо. А вот хорошо ли, так ли как надо я это делаю... Не знаю. — Вообразите, объявлен конкурс фотографий талантливо работающих артистов.. И Вы посылаете фотографию, которая в случае победы принесет Вам тысячи долларов. Какое выражение лица, из какой роли Вы выберете? — Не знаю. Я-то себя изучил. Когда я позирую, я точно не смогу стать номинантом, и претендовать на премию. Мне легче подловить себя на каком-то моменте. Я лишен борцовских качеств, и все конкурсы, состязания меня отпугивают. В молодости я был вынужден участвовать в одном конкурсе, но потому что долго стучался в эту дверь, она навсегда отбила у меня всякую охоту соревноваться. Но, простите, я должен бежать на сцену... 28 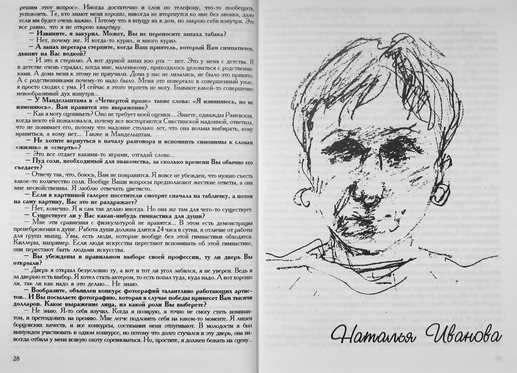 Наталья ИвановаВОТ ПТИЧКА ПОЕТ, А Я ПИШУ ЗАМЕТКИ— Помните Мандельштамовское об Ахматовой: «Вы хотите быть игрушечной, но окончен Ваш завод...» Ваша дивная прическа напоминает мне ахматовскую, что на знаменитом портрете Модильяни, поэтому, не дав Вам разогреться, предлагаю работу. Какие писатели были Вам особенно близки? — Родной писатель — Трифонов. Потому что он сумел сказать о том времени и том месте, где мы жили гораздо больше и лучше тех, которые написали об этом сейчас, когда стало уже можно. У меня есть ощущение, что его книгами оправдано несколько десятилетий нашей общей жизни. Моей — нет. Потому что я человек уже другого поколения. Для того, чтобы оправдать мою жизнь, должен был бы появиться следующий писатель. И, конечно, я о нем немедленно напишу, как написала о Трифонове. — А другие Ваши книжки о ком? — Несколько сборников статей. Один называется «Точка зрения о прозе последних лет», другой называется «Факультет нужных вещей», потом вышла книжка о Фазиле Искандере, потом «Освобождение от страха»... — Чаще какое было ощущение, что Вы кормите себя ремеслом? Или Вы всегда полагали, что это уровень искусства — то, что Вы делаете? — Я не знаю, уровень ли это искусства, но это необходимость моей жизни. То же, что ходить, дышать, пить чай. Это самовыражение, которое мне необходимо. Ни ремеслом, ни профессией это не было никогда. Это было образом жизни. — Пренебрежительное высокомерное отношение всех почти великих писателей к профессии критика и литературоведа, Вы понимаете, чем питалось оно? — Мне было совершенно все равно по поводу Чернышевского, Писарева, Белинского, цену которым я понимаю и понимала. Она не изменилась со студенческих лет. Благодаря моему учителю Владимиру Турбину, который был для меня моделью того, как надо строить жизнь. И поскольку я попала в его руки в университете, и для меня это было очень важно, потому что он не только как бы разгадывал литературу, литературное произведение, но этим же ключом отмыкал нашу жизнь. Мы занимались, например, Лермонтовым, а жизнь отмыкалась наша. Это было странное ощущение, но никем другим, кроме как литературным критиком, я себя после этого не ощущала... — Турбин — это прекрасно, а все же Бунин или Набоков — Вы не понимаете, отчего они считали это наростом, паразитированнем, иначе как бранными словами не называли этот вид деятельности человеческой? — Я понимаю, почему они считали это наростом. Им казалось, что когда они пишут, что Машенька пошла вот туда, а Иван Петрович сделал то-то — что это творчество. А вот сейчас я перечитываю лекции Набокова и вижу, что там творчества не меньше, чем в его так называемых лирических произведениях. Я спокойно к этому отношусь. Я себя выражаю так. Вот птичка поет, а я пишу заметки... — Вы полагаете, это раздражение великих людей было их капризом? — Я просто думаю, что они не доросли, вернее, не дожили до того положения критики, которое она обрела в современном мире. Я не имею в виду — в России, а 30 именно в мире. Это такая же равновеликая часть литературы, как стихи, проза, эссеистика. Все зависит от того, как. — У Вас ежемесячный журнал? — Да, он выходит двенадцать раз в год. И, казалось бы, это легкое занятие — составить номер. Но получается так, что я работаю ежедневно. И 99% из прочитанного мне приходится возвращать. И возвращать не всегда потому, что это посредственно, ведь половина из того, что я возвращаю, появляется потом в «Новом мире» или «Дружбе народов», в «Звезде» или журнале «Октябрь»... Дело в том, что я не воспринимаю себя как руководителя или начальника над литературой, у меня совершенно другая концепция своей деятельности и деятельности журнала. Я считаю, что я — галерист. Я выставляю свою выставку и вижу, что в этой выставке эти работы будут хороши, а те — в другой выставке, другом номере. А вот эти не годятся. Это довольно мучительная, сложная работа. Не потому, что я хочу кого-то просветить, кому-то внушить какие-то идеи. А потому, что это отбор, отбор эстетический для такого художественного произведения, как журнал, как цельного произведения. Для этого нужна большая энергия. Сообразить, куда что поставить, что нужно, что не нужно. У меня такое впечатление, что я знаю всю литературу на год вперед. Потому из того, что я читаю, составляются потом другие журналы, выходят книги. Эта работа постоянная. — Вы сказали, как тяжело Вам отказывать, особенно, когда Вы понимаете, что это талантливо, но в галерее не может быть выставлено. Можно подробнее, как тяжело? — Если это оченьталантливо, то я под эту вещь подберу всю "выставку". — Что это было, когда Вы подбирали всю "выставку"? — Это бывает почти в каждом номере. Иногда это очень маленькая вещь, но под нее выстраивается весь журнал. Вот эссе «Образ японца в русской литературе» — казалось бы, своеобразная тема, и под нее нелегко подстраиваться. Но статья так смешна и хороша, что мы подбираем под нее другие вещи — статью о восприятии еврейства в современной общественной жизни, эссе о наших в Великобритании, эссе «Крымская ностальгия» — и так вот странно выстраивается номер. Хотя это вовсе не целевой номер, я терпеть не могу целевые номера. Это проблема другого,мы и Другие. — Потребность и стремление к славе... Самые прославленные, объевшиеся славой актеры, писатели стремятся дать интервью. Что руководит ими? — Ох, не знаю. Я пользуюсь этой возможностью совсем не потому, что стремлюсь к славе. Я не могу обогнать в славе человека, который мелькает в рекламе. Мы в эпохе, когда ни прозаики, ни поэты не могут сравниться в славе с исполнителем эстрадного шлягера... Я пользуюсь этой возможностью для того, чтобы как-то объяснить и рассказать о ситуации, в которой мы сейчас оказались. Может, это будет полезным. — Вы не тщеславны? — Я очень честолюбива. — Тогда сделайте еще одну попытку. Чем же вызвана потребность в славе? 31 — Я думаю, что неверием или слабой верой в Бога. Нас не останется, так пусть останется наша известность. Известность в отличие от славы связана с вестью, которая исходит от человека, меньше зависит от его осознанных поступков. — Бессознательно или сознательно Вы охотнее изучали себя, если изучали других? — Себя я стараюсь не изучать. Это слишком бывает опасно. А что касается других, то это то, что называется моей профессией. Поскольку я разгадываю писателя через слово, которое он, может быть нечаянно, обронил и могу интерпретировать его отнюдь не к его славе и известности, скорее, наоборот, я его декодирую. И в связи с тем, что я постоянно занимаюсь этими манипуляциями, мне не хочется думать о себе самой. — А когда Вы просто кого-то видите, то в Вас происходит мгновенная эмоциональная оценка этого человека? — Ну, конечно. — И сколько наберется Ваших знакомых, с которыми Вы должны поздороваться, по крайней мере? — Думаю, несколько тысяч. — Как Вы думаете, среди них больше грешников, или они в большинстве люди добродетельные? — Конечно, грешники. Естественно. Во-первых, добродетельных людей я вообще встречала крайне редко, и потом они как бы не входят в круг моих знакомых. — Как это получается? Это какой-нибудь механизм? — Да, механизм. Я думаю, что добродетельные люди — а) скучны и б) не захотят общаться с такой грешницей, как я. Поэтому у нас нет контакта, нет будущего. — Вы помните, как Сократ объяснял назначение философии? — Нет, не помню, потому что меня тогда не было. — Накажу Вас за этот тон, так и умрете, не узнав назначение философии... Вижу, как Вы огорчены, так и быть, слушайте. Уже досократовские мудрецы учили, что философствовать необходимо для того, чтобы в конце концов суметь вырваться из круговорота обыденности. Вам удалось вырваться из этого круговорота? — Мне кажется, что я живу вне обыденности. Моя жизнь сложилась так, что мне всегда помогали в моей обыденности. Я могла не думать, откуда появляется суп или чистое белье. Я должна была, правда, деньги заработать. А в остальном мне всегда помогали. Я просыпаюсь с рукописью и книгой и засыпаю с рукописью и книгой. Это довольно тяжело. Получается, что внутренняя жизнь становится твоей обыденной жизнью. Это довольно мучительно, хочется это прекратить, разделить — вот это моя обыденняя жизнь, я тут не читаю, я тут не думаю, не сочиняю, а тут будет моя духовная жизнь. Мне, к сожалению, это не выпало. Обыденная жизнь уже не получится. В прошлом году я попыталась — вскопала грядку, посадила кабачки. Поливала целый месяц. Вырос один кабачок, я даже попыталась его приготовить. Он оказался абсолютно каменный. Так что не судьба. — Наташа, Вам, грешнице, приходилось платить за грехи дорогой ценой, кусками души? 32 — Не думаю, что за это приходится платить кусками души. Думаю, приходится платить отсутствием покоя в душе. — Вообразите, что Вы подозреваете любовника, мужа в том, что он Вам изменяет. Но нужно проследить, вечер потратить. Вы будете выслеживать, чтобы знать, чтобы не продолжать жить в неведении? — Нет, я не буду следить. Если у меня возникнет такое ощущение, связь больше продолжаться не будет. Со мной такого быть не может. Если существо, которое рядом со мной, вызвало некоторое подозрение, боюсь, наша дальнейшая жизнь будет невозможна. Это при том, что я большая грешница. — Данте водит своих современников по кругам ада, рая, чистилища. В каком месте чаще бываете Вы? — Я между адом и чистилищем. В раю я бывала иногда, когда путешествовала. Потому что в путешествии как бы нет меня, я отказываюсь от собственной личности. Я превращаюсь в существо воспринимающее, в губку. Остаются чувства — я вижу, слышу, впитываю в себя, а меня нет. Это редкие мгновения счастья. Это и есть рай. Неделя в Гонконге была неделей счастья. Меня там никто не знал, я могла часами глазеть на то, что я хочу видеть, ходить, где хочу. Или в Японии, например. Там я прожила несколько недель именно в таком состоянии. Хотя я там читала лекции, и тогда в эти часы вновь становилась личностью. — Вы попадаете в ад, чистилище из-за людей? — Нет, только из-за себя. Потому что ты не сделал чего-то или сделал не так. Самое страшное, когда ты ничего не можешь поправить. Если человек жив и ты можешь что-то сделать, это одно. Но если ты уже не можешь исправить, это ад. — Жизнь — лес, дорога, колесо, лабиринт... Может быть, какое-нибудь свое слово вспомните? — Может быть, жизнь и лес, и дорога, и лабиринт... И, кроме того, жизнь это дом. Который ты строишь, который у тебя получается, либо не получается. Кто-то заходит, а кто-то остается насовсем. Но не всегда дом получается таким, как хотелось бы. Потому что ты строишь его не от нуля. Из материала, который тебе предложен, или перестраиваешь дом, который тебе оставлен предками. Мечта о доме... Каждый из нас, как кошка — входит в дом и понимает, будет он здесь жить, или нет. Когда я вышла замуж первый раз (мне было девятнадцать лет), я вышла замуж за художника. Жили очень тяжело, на первом этаже, в мастерской. Я была студенткой. Мы построили кооперативную квартиру, казалось бы, все замечательно — прекрасное место, рядом с Американским посольством. Я вошла и поняла, что жить я там не буду. И ровно через пять месяцев я оттуда ушла. — Ваше сравнение с домом украдено у Мандельштама? — А может, у Бродского. Или у Пастернака, у которого столько образов дома — жизни, где есть двери, выход за которые — смерть... — О Набокове написать у Вас не чесались руки? — Чесались. Пока просто набираюсь духа. У меня есть идея фильма о доме Набокова. Очень странный дом на Большой Морской, где он родился. Газета «Невское время» — в комнате, где он родился. Будуар матери, а там — брокерская контора. Или кабинет отца и библиотека, а сейчас там какое-то голосование 33 активистов. У меня с Домоммного связано. Дом Набокова, Дом Пастернака, Дом Чуковского. Для меня тайна дома, где обитал художник, очень много значит. Поэтому, если я буду когда-нибудь писать о Набокове, может, я попробую разобраться с тем, почему после этого дома он никакого не имел и не хотел иметь. Я была в Швейцарии в этой гостинице замечательной, где он занимал несколько комнат. В Монтре, «Гран-палас». Она такая бездомная, эта гостиница. Весь Набоков для меня — между своим питерским домом и бездомностью этой роскошной, в одной из самых дорогих гостиниц. — Набоков великий писатель? — О, да. Хотя о Набокове заурядными критиками столько понаписано! — Вы досадуете на них за эту смелость? — Нет. Чем больше ерунды, тем легче написать свое. Мне всегда было интересно писать о том, о чем никто еще не сказал. Осмелюсь сказать, такой критический темперамент. Может, это связано с моей работой в журнале, где я читаю то, что никто никогда не читал, и они появляются впервые. — Вы второй после Губермана запрятанный человек среди тех, с кем я уже поговорил. Вы чаще ловили себя на том, что стремитесь помочь собеседнику, обласкать его или, напротив, обличить, когда не нравился он вам? — Мне сначала люди очень нравятся. Чаще всего они мне нравятся, но я страдаю комплексом Жанны Д'Арк — мне еще кажется, что я могу помочь. Это с детства мне все просто нравились, а потом я прочитала в книжках по психологии, что это называется комплексом Жанны Д'Арк и означает, что я хочу что-то исправить в людях, которые нуждаются в помощи. Сейчас, понимая, что во мне сидит этот комплекс, я стремлюсь остановить себя. — Любовь до Христа была эротической. После него многие люди как бы стали искать свою половинку. Вы всегда полагали, что Бог— это любовь или Вам более свойственен языческий взгляд на любовь? — Для меня все это происходило не на урове ratio. Если я чувствовала, что хочу от этого человека ребенка, я знала, что могу выйти за него замуж. — Как Вы полагаете, Вы слеплены из отца, матери, предков, то есть, Вы биологическое существо или какое-то новое, вышедшее из хаоса? — Конечно, новое. Но мне очень жаль моих предков, потому что память о них сидит во мне. Мне очень жаль, что я не могу исправить ничего. Связь, конечно же, существует. Когда проходишь через подростковый период, когда всех ненавидишь, то отталкиваешься от родных и близких, переходишь в другую фазу — фазу неприятия. А потом — переход в другую фазу, когда тебе становится бесконечно жаль. В моих предках столько всякого намешано... — Изнанка жизни... Не теневые ее стороны, а поэтическая, таинственная подкладка жизни — Вам это понятно? — Да. Но как — не могу сказать. Это может быть достаточно неожиданно. Поскольку я — мама, для меня самая большая тайна мироздания, момент отделения этого существа, когда это ты и уже не ты. И когда это существо уже студентка, и живет совершенно в другом мире, и разговаривает с тобой только по телефону, это ощущение уже не только тайны, но и раны... 34 — В Евангелии от Иоанна есть загадочная фраза: «Пока есть свет, ходите, чтобы не объяла Вас тьма». Не хотите ли изменить слово «ходите»? Вместо «ходите» что бы Вы поставили? — Ну, «ходите» сказано совершенно гениально. Потому что «ходите» значит абсолютно все. Мы перемещаемся от одной мысли к другой, мыслительный процесс — это ходьба... Можно заменить множеством разных слов — думайте, мечтайте, любите, воображайте, призывайте — это все будет «ходите». Но пока есть свет, нужно стараться действовать. Под словом «действовать» я вовсе не подразумеваю физическое действие. Вот я сидела на крыльце и смотрела, как просвечивает луч через лист дуба. И это был для меня тот самый момент, когда есть свет. И я шла, думала, блаженствовала, мечтала — все, что угодно можно поставить сюда. Пока есть свет, нужно читать. Если у тебя есть дар — составлять слова. Этот дар во мне иногда возникает, иногда покидает. Если внутри тебя свет есть, и ты видишь неправедность того, что происходит, и ты можешь сформулировать, что это неправедно и несправедливо, ты должен это сделать. Если ты это не сделаешь, свет уйдет и будет тьма —в прямом и переносном смысле слова. В прямом смысле слова ты заснешь, а утром будет другое время. И кто-нибудь другой скажет это слово не так как ты, и без тебя, и что-нибудь произойдет не так. Поэтому это великие слова. — Вы чаще себя ловите на том, что Бог видит Вас, или Вы хотите его разглядеть? — Мне иногда Бог показывает мир. — А ждете смерти с ужасом, возмущены этим обстоятельством или притерпелись к нему? — По отношению к другим, близким и родным — это не возмущение, это крайнее отчаяние. —Любящие за что воюют друг с другом? Помните у Тютчева «Союз души с душой родной... и поединок роковой»? — Поединок — это точно. Если человек любит, ему кажется, что тот, другой — его alter ego. Что у него свои привычки, своя голова, свое прошлое, которое может огорчить или раздосадовать. Любое общение, любовное в том числе, это конечно же, своего рода поединок. Не в том смысле, что кто-то кого-то должен победить. Это благородный поединок. — Не хотите любовь сравнить с чем-то. Что она — сон, болезнь или помешательство? — Любовь — это зависимость. Конечно, самопожертвование, конечно, чувство ответственности, конечно, счастье, конечно, радость, конечно, любовь это просто жизнь. — «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» Блаженство и восторг похожи на то, будто смотришь на раскаленную лаву рядом с тобой? Какой у Вас восторг? — Нет, я думаю, что все не так. Этого вовсе нет. Например, я сижу в Грозном, и мои дети, и родители, — семья, и счастье, и любовь. Идет обстрел, уничтожение города, равного полутора Женевам. В одночасье все у тебя уничтожено. А тут было все — первая любовь, твоя школа... Роковые мгновенья — не хочу. С другой стороны, 35 если жизнь станет спокойной, может, будет скучно? Это я иронизирую. А если серьезно» главное, что с нами происходит — это наша частная жизнь. Сознание наше перекошено, вам кажется, что все, что сейчас происходит — выборы, Зюганов, Ельцин — может изменить всю нашу жизнь. То, что произойдет с нашими любимыми, если честно говорить, гораздо важнее. У нас, бывших советских людей совершенно перекошено сознание. Наладит что-то или не наладит что-то без нас Ближний Восток, Сербия... Все смотрят выпуски «Новостей»... Зачем?! Любовь к «роковым мгновеньям» может быть опасной! — Вы, скорее, отдохнули во время нашего разговора или работали? — Конечно, отдохнула. 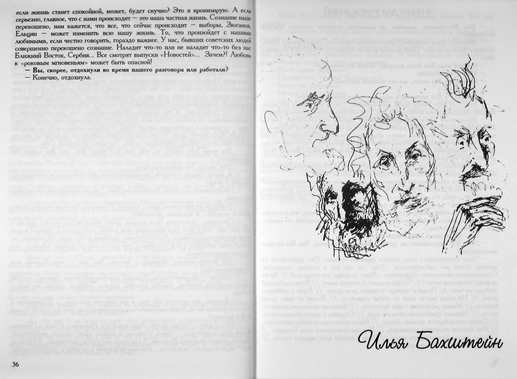 Илья БахштейнЯ ПИШУ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ— Как Вы думаете, способно ли высветить человека обычное газетное интервью? — Например, Ваше интервью с таким великим писателем, как, например, Битов обычным быть не может. Такой человек захочет привнести что-то свое, изюминку свою. — В какой мере Вам было нескучно читать это интервью? — Мне было интересно. — Потому что Вы знали, что это великий писатель? — Да, конечно. — Скажите, а Вас приучили к мысля, что Вы гениальный поэт? — Нет. Сам поэт слеп к своим произведениям. Потом выясняется его место. Вторым критерием поэта является публика, хотя это тоже необъективный критерий. — Представьте такую ситуацию. Полный стадион в Тель-Авиве, тысячи людей, заплативших за очень дорогие билеты на футбольный матч в чемпионате мира в Израиле. В последнюю минуту объявляют, что матч задерживается. А Вы — уже нобелевский лауреат. Сколько нужно было бы заплатить этим людям, чтобы не было возмущения, давки, а публика тихо сидела и слушала Ваши стихи, двухчасовое выступление? — Смотря какая публика. Ну, долларов двести. Хотя за эти деньги они могут хоть пять часов сидеть, но слушать-то не будут. Будут газеты читать. — С какого стихотворения Вы начнете, чтобы зрителей загипнотизировать? — Если бы я получил Нобелевскую премию, зрители бы слушали, независимо от того, что я читал бы. И выбрать мне трудно... Я ведь пишу не для читателей, а для учреждений — для гуманитарных факультетов университетов. — Я открыл вашу книжку на какой-то странице и предположил, что вся книга сделана из могучего, фантастического воображения. Гомер, Бродский, по сравнению с Вами, лилипуты... — Но я преклоняюсь перед Бродским... — Итак, Вас выталкивают на трибуну, Вы должны читать. Чем Вы начнете выступление ? — Одно стихотворение есть, которое нравится публике. Оно переложено на музыку, много раз публиковалось. Оно не так уж и сложно, аудиторно. Стихотворение называется «Художник». «Знает ли птица, что птица она? // Знает ли ветер, что ветром летает? // Птица не знает, и ветер не знает, // Вечно свободный свободы не чает. // Птице в темнице вспышка дали видна. // Быть я любимым хотел, // Но стихи вместо меня от любви клокотали. // Жизни не зная, слово терзали, // Между решетками строк трепетали, // Всплески полосками нежность плели, // Нежных тропинками снежной зари, // Страшно и чудно звенели слова, // Словно земля будто в колокол билась, // Ввысь уносилась, мечтой становилась, // Над океаном вселенной склонилась, // Как над казненными храм Покрова... // Все из меня в бесконечность ушло, // Ночь в сонной луже мерцает совою, // Бездна мне воет дорогой пустою». 36 — Ваши стихи кажутся Вам такими же прекрасными, умиляют Вас, как природа? — Я горожанин и природа меня не умиляет никогда. Попав в первый раз в Израиль, я, вместо того, чтобы смотреть на расхваленное сотни раз Мертвое море, смотрел на алюминиевые коробки недоскребов! Ноосфера, то, что создано человеком, мне интереснее. Архитектура, живопись. Я любил когда-то побродить по подмосковным лесам, на грани смен сезонов. — Пятое время года есть? — Пограничное, то есть? Конечно есть. — Когда оно рельефнее? — Между летом и осенью. — Но в другое время суток Вы выберете что-то другое, не так ли? — Про пятое время не знаю, но больше всего люблю лето. Приехав сюда, я удивлялся, как может расцветать поэзия в условиях моносезона. — Что-нибудь Вас мучает в мировом порядке, устройстве жизни сильнее, чем Ваш внешний облик? — Странный вопрос. Очень странный. Когда у меня не было поэтического языка, мне мешала моя внешность. В детстве я много думал об этом, слишком долго лежал в больнице — 7 лет в гипсовой постели, выйдя из больницы, ходил в гипсовом корсете. Все кончилось с того момента, когда интересы литературы начали вытеснять все остальное. К сожалению, я не научился играть ни на каком инструменте, хотя обожаю музыку. — Не является ли ключом или источником Вашей поэзии Ваш необычайный физический облик? — Может быть, очень может быть... 39  Юрий КуклачевПОЯВЛЯЕТСЯ В РОССИИ ГЕНИЙИ ТУТ ЖЕ ВОКРУГ НЕГО — МЕРЗОСТЬ— Давайте спрошу о самом важном... Вы что-нибудь еще читаете? — Стал читать детям. Прежде всего, «Хаджи Мурата». Сейчас идет война; пусть знают поближе, что это за народ... — А какой предрассудок в людях Вы не переносите? — Предательство. — Юра, Вы уравновешенный человек? Как сбалансированы Ваши недостатки и достоинства? — Я очень спокойный человек. — Сумеете сформулировать, как Довлатов: «Мещанин— это человек, который считает, что у него должно быть все хорошо». — Мещанин — это тот, кто довольствуется малым. — Теперь о животных. Вы ловили себя на том, что они самые близкие Ваши друзья, ближе не было? — Самые верные существа. Если они тебя любят, то преданно, если не любят, то они тебе это покажут. — Вы придумали еще до перестройки включать детей в представление? — Я думал всегда, как сделать интереснее, и давно решил, что в цирке интереснее всего дети и старики. Стал включать их — 25 лет назад. Я затягиваю их в действие, а когда ребенок выходит со мной, то родители тоже. Старушки даже мне пишут такие замечательные письма. — Кто-нибудь у Вас на представлении умер — от радости, возбуждения? — Вы заметили, что у нас на представлении доброе биополе. Да, мы делаем деньги, но — через добро. Могли бы иначе их заработать, например, сдать подвал в аренду — но это разрушит биополе. Это надо воспитывать в себе, отталкивать плохое. — Почему женщин так магнетически к себе влечет зеркало? — Она смотрит в зеркало, ищет движения, выражения, которые должны понравиться. Есть женщины, у которых заготовлены такие движения. — Вам только понаслышке известны, или биографически— выражения «мой тип женщины», «искра, пробегающая между мужчиной и женщиной»? — Мой тип женщины — моя жена. — Это трагедия у собак, кошек — когда они теряют друг друга? — У кошек это проще. — За сколько времени Вы съедите пуд соли, чтобы Вы знали— да, Вы хотите дружить с кем-то? — Я думаю, месяц. Хотя, у меня был учитель, каждое слово которого я впитывал долгие годы. — Вы думаете, что преступники тоже промысел Божий, или дьявольский? — Для меня преступники — совершенно несчастные люди, я смотрю на них жалеющими глазами. Они против закона природы. Но Бог создал и этих людей несчастных. 42 — У Вас есть какая-нибудь идея, вокруг которой группируются все события Вашей жизни? — Я знаю, что люди, пришедшие ко мне на два часа, будут счастливы, довольны. Это и есть моя идея. — Если Вы знаете, что человек будет счастлив, когда Вы дадите ему 50 $, Вы дадите? — Нет. Если человек — человек протянул руку, как у нас в метро ходят и сказал — дай! — я не могу дать ему. — Если я приду, встану на колени, протяну руку и скажу: «Дай», — Вы дадите мне сто долларов? — Нет, если Вы протяните руку, не дам. Просто так — могу дать. — Юра, играл случай какую-то роль в Вашей жизни? — Очень часто. Зависть — страшная вещь, я видел очень многих людей, даже талантливее меня, которых затоптали... Может меня не затоптали случайно. — Есть невероятно талантливый человек — артист, может быть, — Вы отдадите ему год своей жизни? — Я не могу так щедро раздавать — год, месяц. Единственные люди, которым отдал бы, — это родители. — Обложку книги Плисецкой украшают слова: «Люди не делятся на классы, на расы— они делятся на хороших и плохих. И хороших во все времена было гораздо меньше, и будет». Вы можете согласиться? — Хорошие люди разрозненны, они не объединяются. Ну, впрочем, я ведь тоже не стремлюсь объединяться... — Что Вам удавалось вынести из «пожара жизни» — какое убеждение, чем Вы начинали жить на пожарище? — Я думал на эту тему, задавал себе сам этот вопрос. Например, после разговора с Брежневым. Это очень добрый человек. Добрый, откровенный. Мне было его очень жалко. Вот окружение его — мерзость, как сейчас вокруг Ельцина. Я вижу — ходит мерзость. У нас есть особенность в России — появляется гениальный человек — и сразу вокруг него мерзость. — Не знал, что у нас такие хорошие цари. А чего Вам звери не прощают? Ведь Вы у них царь... — Предательства. Они чувствуют это. У нас происходят разрывы с животными. Психическое напряжение у животного, и оно замыкается. — Представьте, взорвался автобус, не осталось Ваших животных. Вам 47 лет — Вы найдете в себе силы через неделю набрать новых кошек... — У меня был случай в Англии, когда меня выбросили туда без всего — делай... Но голь на выдумки хитра. Кстати, там я был бы очень богат. Но сейчас у нас тоже начинается... — Нуждаетесь ли Вы в машинальной жизни, чтобы жить, как на автомате, ни о чем не думая? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
|||||||