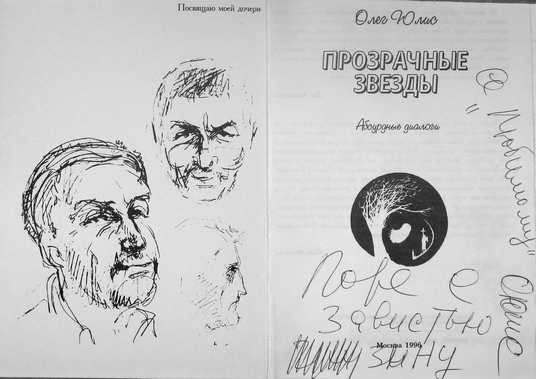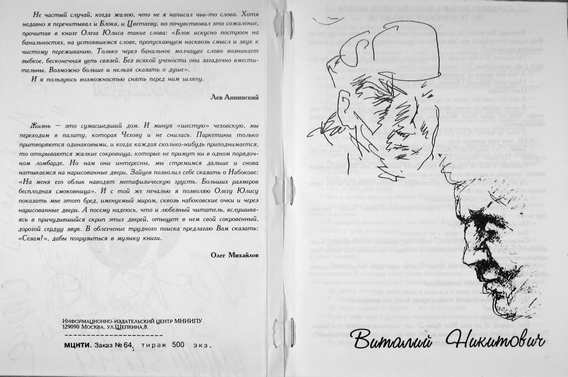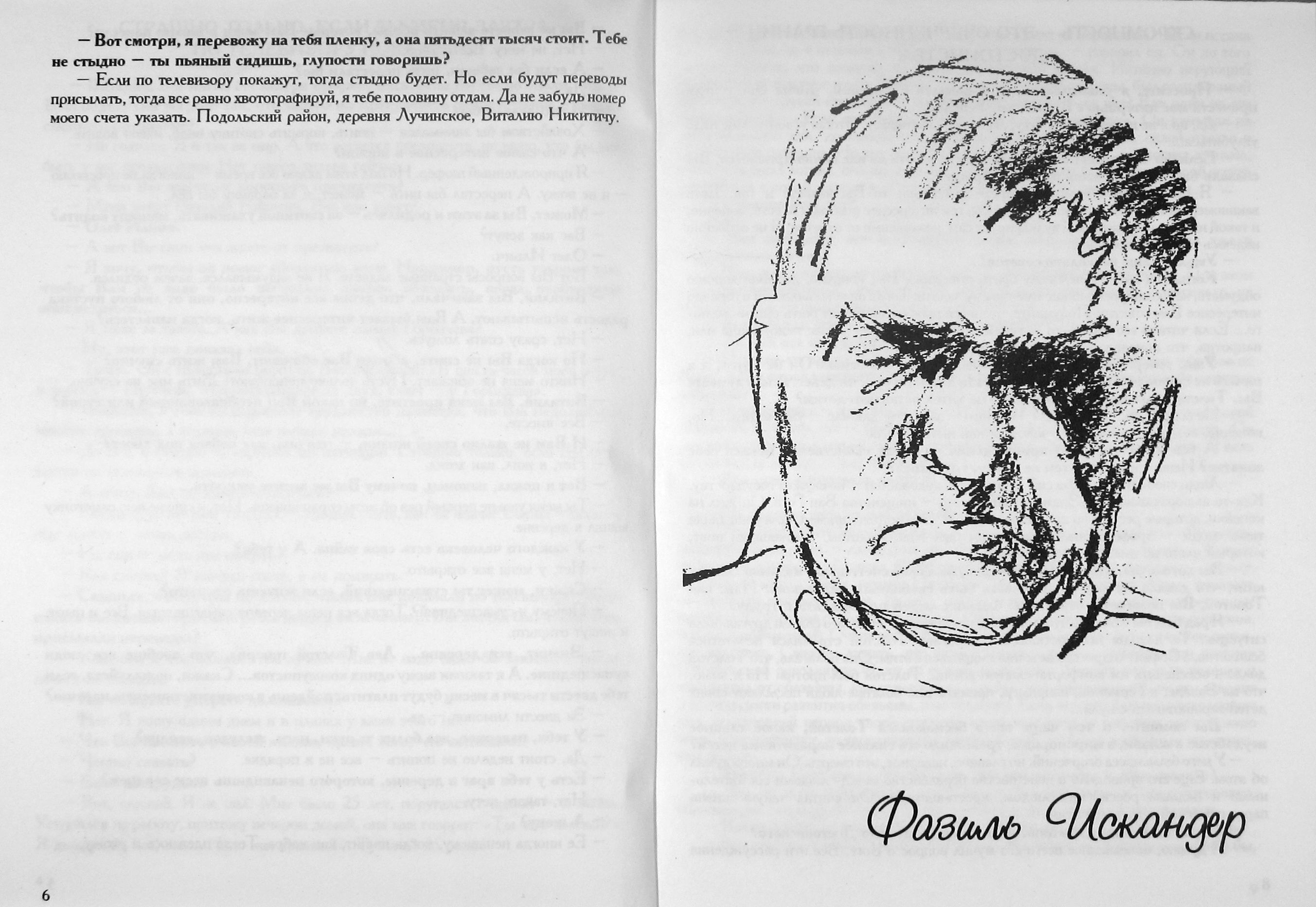Москва 1996
Информационно-издательский центр МНИИПУ
OCR и вычитка: Давид Титиевский, июль 2008 г., Хайфа
Библиотека
Посвящаю моей дочери
Не частый случай, когда жалею, что не я написал чьи-то слова. Хотя недавно я перечитывал и Блока, и Цветаеву, но почувствовал это сожаление, прочитав в книге Олега Юлиса такие слова: «Блок искусно построен на банальностях, на устоявшемся слове, пропускающем насквозь смысл и звук к чистому переживанию. Только через банальное молчащее слово возникает зыбкое, бесконечная цепь связей. Без всякой учености они загадочно вместительны. Возможно больше и нельзя сказать о душе».
И я пользуюсь возможностью снять перед ним шляпу.
Лев Аннинский
Жизнь—
это сумасшедший дом. И минуя «шестую» чеховскую, мы переходим в палату, которая Чехову и не снилась. Паркетины только притворяются одинаковыми, и когда каждая сколько-нибудь приподнимается, то открываются жалкие сокровища, которые не примут ни в одном порядочном ломбарде. Но нам они интересны, мы стремимся дальше и снова натыкаемся на нарисованные двери. Зайцев позволил себе сказать о Набокове: «На меня его облик наводят метафизическую грусть. Больших размеров бесплодная смоковница». И с тай же печалью я позволяю Олегу Юлису показать мне этот бред, именуемый миром, сквозь набоковские очки и через нарисованные двери. А посему надеюсь, что и любезный читатель, вслушиваясь в причудившийся скрип этих дверей, отыщет в нем свой сокровенный, дорогой сердцу звук. В облегчение трудного поиска предлагаю Вам сказать: «Сезам!», дабы погрузиться в музыку книги.
Олег Михайлов
Виталий Никитович
СТРАШНО ТОЛЬКО, ЕСЛИ ВЫ МЕНЯ ЗАВТРА
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ПОКАЖЕТЕ
— Виталий, Вы могли бы завтра бросить пить, если бы точно знали, что за Ваш подвиг Бог устроит так, что завтра же прекратится война в Чечне и заодно сменится президент?
— Не годится. Я и так за мир. А что касается президента, не знаю, кто бы мог быть у нас президентом. Нет такого лидера сейчас.
— А что Вы ждете от хорошего президента?
— Меня зовут Виталий Никитич. Вас как зовут?
— Олег Ильич.
— А вот Вы сами что ждете от президента?
— Я хочу, чтобы он помог абсолютно всем. Например, пусть устроит так, чтобы Вам не надо было несколько дворов обходить, когда необходимо опохмелиться...
— Я тоже за такого. А как Вы думаете насчет Горбачева?
— Ну, этот уже показал себя.
— Точно. Он с пьянством боролся. Вот послушай: «В шесть часов поет петух, в восемь — Пугачева. Магазин закрыт до двух, ключ — у Горбачева».
— Скажите, а Вам не страшнее трудностей пьянства, что Вы недолюбили многих женщин, а вернуть уже ничего нельзя...
— Да нет, я смотрю «Плейбой» по пятницам. Страшно только, если Вы меня завтра по телевизору покажете...
— А спать Вам не жалко ложиться?
— Так по-другому как? Поддал — и пошел спать, как же иначе? Выпил — поспал, еще выпил — опять поспал.
— Но сон — ведь это смерть?
— Как смерть? Я ложусь спать, а не помирать.
— Скажите, отчего Вы не хотите, чтобы Вас показали по телевизору? Ведь писали бы письма, присылали бы деньги на лечение... Вы хотели бы, чтобы Вам присылали переводы?
— Конечно, и чем больше, тем лучше. Мне не надо было бы занимать ходить деньги по соседям.
— Вы не хотите умереть должником?
— Нет. Я живу одним днем и в планах у меня этого нет.
— Что Вы помните о своей жизни, кроме того, что выпивали?
— Честно сказать?
— Если не трудно.
— Вот, слушай. Я не пил. Мне было 25 лет, поругался с женой — и запил. Устроился на работу, прихожу вечером домой, она мне говорит: «Ты чего пьяный?» Я дыхнул на нее, она: «Надо же, трезвый». Тут я ей по роже!
4
— Вы не можете забыть обиды, которые Вам люди в жизни нанесли?
— Нет, не могу. Все помню.
— А если бы забыли, пить перестали бы?
— Да.
— И что делали бы?
— Хозяйством бы занимался — поить, кормить скотину надо, навоз возить.
— А что самое интересное в жизни?
— Я прирожденный шофер. Но под этим делом все время — никогда не просыхаю — и не вожу. А перестал бы пить — может, и за баранку бы сел.
— Может, Вы за этим и родились — за скотиной ухаживать, машину водить?
— Вас как зовут?
— Олег Ильич.
— Вот Вы вопросы странные задаете. Я не задумывался, зачем родился.
— Виталий, Вы замечали, что детям все интересно, они от любого пустяка радость испытывают. А Вам бывает интереснее жить, когда напьетесь?
— Нет, сразу спать ложусь.
— Но когда Вы не спите, а люди Вас обижают, Вам жить скучно?
— Никто меня не обижает. Пусть только попробуют! Жить мне не скучно.
— Виталий, Вы меня простите, но какой Вы: необразованный или тупой?
— Все вместе.
— И Вам не жалко своей жизни, — что она, как собаке под хвост?
— Нет, я жил, как хотел.
— Вот я понял, наконец, почему Вы не хотите умирать...
— Ты меня уже не первый раз об этом спрашиваешь. Нет, я еще не всю самогонку выпил в деревне.
— У каждого человека есть своя тайна. А у тебя?
— Нет, у меня все открыто.
— Скажи, может ты сумасшедший, если живешь открыто?
— Почему я сумасшедший? Тогда вся наша деревня сумасшедшая. Все и пьют, и живут открыто.
— Значит, вся деревня… Лев Толстой говорил, что вообще все люди сумасшедшие. А я такими вижу одних коммунистов... Скажи, пожалуйста, если тебе двести тысяч в месяц будут платить, пойдешь в коммунистическую партию?
— За двести лимонов — да.
— У тебя, наверное, все болит — руки, ноги, желудок, сердце?
— Да, стоит неделю не попить — все не в порядке.
— Есть у тебя враг в деревне, которого ненавидишь всем сердцем?
— Нет, такого нету.
— А жену?
— Ее иногда ненавижу, когда шипит, как кобра. Тогда одеваюсь и ухожу.
5
— Вот смотри, я перевожу на тебя пленку, а она пятьдесят тысяч стоит. Тебе не стыдно — ты пьяный сидишь, глупости говоришь?
— Если по телевизору покажут, тогда стыдно будет. Но если будут переводы присылать, тогда все равно хвотографируй, я тебе половину отдам. Да не забудь номер моего счета указать. Подольский район, деревня Лучинское, Виталию Никитичу.
6
Фазиль Искандер
СКРОМНОСТЬ — ЭТО ОЧЕРЧЕННОСТЬ ГРАНИЦ ДОСТОИНСТВА
— Простите, я умышленно долго возился с камерой, чтобы Вы успели прочесть мое интервью с Виктюком. Успели?
— Да, но я не из тех, кто на бегу, легко все схватывает. Чтобы усвоить, мне надо углубиться....
— Если бы читая Вы почувствовали, что кто-то из нас выпендривается, Вы сказали бы: Олег, со мной будьте попроще?..
— Я полагаю, что если Вы берете интервью, то Вы задаете и тон. Есть закономерность — чем интереснее вопросы, тем интереснее ответы. Но есть, конечно, и такой интервьюер, который вулканирует сам, независимо от ответов. Я не особенно надеюсь на вулканирование.
— Умоляю, еще несколько советов...
— Когда Вы идете к человеку брать интервью, Вы, конечно, должны хорошо обдумать, какие вопросы можно именно ему задать. Тогда он всколыхнется и гораздо интереснее Вам ответит. Подумайте, что в его профессии может быть оригинального... Если читали его книги, то задумайтесь, что вызывает у Вас недоумение или, напротив, что понравилось, рифмуется ли его мысль с вашей.
— Увы, теперь моя мысль срифмовалась с толстовской. Он не хотел, а я ничего не сумею оставить своим детям. Ни дома, ни ума, ни денег. А как думаете Вы, Толстой был прав, когда ничего не хотел оставлять детям?
— Не совсем так. То, что для Толстого — малость, для нас — уже много... Но, конечно, безделье развращает человека как ничто другое.
— А без искусственного принуждения человеку свойственно искать себе занятие? Имея состояние, тем не менее, трудиться?
— Люди свободных профессий — писатели, художники — не служат государству. Как-то выворачиваются... Знаменитый пример — нищенство Ван Гога. Он жил на копейки, которые регулярно присылал ему брат. Это острый пример, но и у нас были такие люди — профессиональным нищим был Мандельштам. Гениальный поэт, который часто не имел ни куска хлеба.
— Вы хотели бы, чтобы у Вашего сына был свой счет, право издания Ваших книг, что давало бы ему возможность быть свободным человеком? Или, как Толстой, Вы полагаете, что нужно близких людей принуждать к труду?
— Я рад был бы оставить что-то, кроме квартиры. У Толстого совсем другая была ситуация. Те доходы несопоставимы с нашими. Толстой стремился печататься бесплатно, а Софья Андреевна не могла смириться с этим. Она полагала, что Толстой должен обеспечить им комфортабельную жизнь. Толстой был против. Но я знаю, что на Западе, в Германии, например, принято так: богатые люди посылают своих детей зарабатывать с нуля...
— Вы помните, о чем чаще всего беспокоился Толстой, какое главное неудобство в жизни, в миропорядке тревожило его сильнее паразитизма детей?
— У него была масса огорчений, но главное, наверное, это смерть. Он много думал об этом. Еще его приводило в неистовство неравенство между людьми состоятельными и бедным российским людом, крестьянством. Он считал такую жизнь паразитической и мучился этим.
—
А что, по Вашему мнению, больше всего мучило Достоевского? — Я думаю, болезненнее всего его мучил вопрос о Боге. Все эти рассуждения
8
вокруг Великого Инквизитора — это самое острое, что он переживал. «Если истина не с Христом, то я остаюсь с Христом, в нем истина», — говорил он. Он до того любил Христа, что доходил до такой еретической мысли. Истинно верующий полагает, что Христос и есть Истина. То есть, он с одной стороны, был грандиозный идеалист, а с другой стороны, он говорил себе: а вдруг Бога нет? Как один из его героев говорил: «Если нет Бога, то какой же я штабс-капитан». Он взмывал из атеистического дна, до которого нередко доходил, силой любви, силой идеала в религиозное сознание. Но ему все время виделись обе стороны — и логика атеизма, и божественная логика. Это его знаменитая диалогичность. В его книгах герой всегда спорит сам с собой, всегда у обеих сторон достаточно мощные аргументы...
— Сколько Вам лет?
— 67.
— Вам пятьдесят лет показывали логику атеизма. И Вы всегда умели оттолкнуться от нее?
— Конечно, я думаю, что я от природы был стихийным христианином. При этом я человек нецерковный. Атеизм как философское течение меня не затрагивало, но атеистическое государство все время задевало меня.
— Вы любили поговорить о Боге с друзьями?
— Да, как все интеллигентные люди.
— И какое-то время Вы уже подводите итоги. Вы давно готовы, что Вас не будет, и Вы перейдете в вечность... Не хотите ли поставить самому себе важные вопросы?
— Я пишу книгу — издание второе, расширенное. В ней я выдумал сократовский диалог. К Сократу, после приговора приходит купец и предлагает ему бежать. Он отказывается — мол, какой же я буду тогда философ, если соглашусь на это. Я ведь не знаю, где лучше — там или здесь.
— Вы сами придумали текст за Сократа?
— Да.
— Не задохнулись от собственной смелости?
— Я же сделал это не как философ, а как художник... И назвал это «Рукопись, найденная в пещере» — свободные размышления. Если «там» что-то есть... Сократ на меня, я думаю, не обидится. Я ощущаю внутреннюю теплоту, любовь к Сократу, которая возникла после чтения Платоновских диалогов. Это попытка показать человека со многих сторон. В этой работе есть ответы на многие современные вопросы. Глубинная сущность человека, а это один из самых трагических вопросов, осталась неизменной. Очень медленно, тысячелетиями происходит этическое развитие человека. Смешно думать, что можно создать нового человека при помощи Октябрьской революции. Один из героев моей книги говорит, что если человек и произошел от обезьяны, как утверждает Дарвин (что сомнительно), то это говорит о возможности развития обезьяны, а не человека. Если человек благополучно минует этот трагический период своей истории, когда техническое развитие многократно опередило этическое, то через пару тысячелетий он будет более достойным уважения, чем теперь.
— Моцарт» Пушкин — обогнали ли они человечество в этом смысле?
— Да, — если говорить об этих людях, но ведь есть и гении-чудовища, обладающие сверхчувственностью технической и достаточно тупые этически.
— Когда-нибудь остальные люди подтянутся до гениев или до чудовищ?
— Вот это и есть самый трагический вопрос человечества. Если можно было бы,
9
предположим, доказать всеобщее людоедство много тысяч лет тому назад. Мы сказали бы: да, прогресс, люди ведь отказались от такого варварского самопожирания... Но, с другой стороны, из каких соображений прекратилось это людоедство? Потому ли, что проще убивать животных или же — этических? И все же это было бы величайшей надеждой... Раз человечество ушло от такой формы взаимоотношений, то, может, через двадцать тысяч лет вообще уже не будет политики, люди будут проще и человечнее относиться друг к другу.
— Вы, наверное, позволите задавать Вам несколько иронические вопросы, на котрые я буду ждать серьезных ответов... Вам свойственна скромность?
— Скромность — это очерченность границ достоинства. Это отказ от малодоказуемых преувеличенных достоинств, это вера человека в свои реальные достоинства. Ему противно, когда эти достоинства преувеличиваются — тогда как бы всякие достоинства уходят...
— С чем в себе Вы боролись?
— Сложный вопрос. По-видимому, боролся с проявлением человеческой зависти. Во времена, когда меня не печатали, ко мне подходил какой-нибудь писатель, которого я считал менее талантливым, чем я сам, и сообщал о выходе своей книги. Я чувствовал зависть. Но тут же в себе ее подавлял. Я говорил себе: "Тебя никто не направлял на тот путь, по которому ты пошел, ты сам себе его избрал. Ты должен смириться. И мне удавалось усмирять себя. Может, это иллюзия, но мне кажется, что можно смягчать нравы творчеством.
— Есть ли двойственное ощущение: с одной стороны, страх —подходишь с каждым днем все ближе к конечной черте, с другой — ощущение освобождения, оттого, что жить надоедает?
— Нет, к старости думающий человек закаляется мыслью о том, что это неизбежно. Но я не хотел бы приблизить этот час, — пусть он придет, когда придет.
— Вам вовсе не знакома усталость от жизни?
— Да, очень знакома. Но прямого желания смерти нет.
— Кроме старения что-то Вас разрушало — ведь всех нас что-то мучит, подтачивает, пугает?
— Часто мне казалось, что судьба России безысходно тупиковая. И меня это страшно угнетало с самых юных лет. Но потом я на что-то надеялся, отходил... И это тянется до сих пор.
— Так до сегодняшнего дня ничего не сдвинулось, не изменилось?
— Я не теряю надежды, что к какому-то порядку мы придем, но перестаю надеяться, что застану это.
— Нельзя ли сформулировать Ваше ощущение так, что это Богом проклятая страна?
— Я так не считаю. Но есть невезучие люди, может, есть и невезучие страны? От природы я был достаточно оптимистичен, и в более молодых моих произведениях было достаточно юмора. Может, юмор и спас мою первую повесть «Созвездие Козлотура» от разносной критики и вообще помог ее напечатать. Обычно наша цензура боялась мрачных вещей, а в повести все проходило весело, и цензура, похоже, не заметила, что это сатира на весь строй.
— Что, по Вашему мнению, цементирует книгу «Сандро из Чегема»? Юмор?
— Тоска по той жизни. Жизни, которую я отчасти в детстве застал. В горах жизнь не была той, какой она становилась в долине, во всей России. Но изменения происходили и там. Печальные.
10
— Что так же важно было Вам в этом цикле, кроме тоски и юмора?
— Если все объединить, я бы назвал это, скорее, юмористическим эпосом. И лиризм, ностальгия. Я сидел и писал «Сандро» в Москве. Гомеопатические дозы ностальгии писателю необходимы. Но не катастрофические.
—
Вы перечитываете какие-то страницы? — Если только случайно. Читаю, и прихожу в равновесие.
—
Похоже это на то, как красивая женщина смотрится в зеркало? — (Смеется). Да... Но «Сандро» я с начала до конца никогда не перечитывал. Какие-то страницы перечтешь и скажешь самому себе: «Да, я что-то сделал». Стихи же у меня, как правило, трагические, драматические. Совсем по другой шкале.
—
Чье чтение стихов Вам казалось лучшим? — Яхонтов гениально читал. Юрский тоже неплохо.
—
Прочтите, пожалуйста, стихотворение, которым Вы гордитесь. — Какие канули созвездья, // Какие минули лета, // Какие грянули возмездья, // Какие сомкнуты уста... // Какие тихие корчевья // Родной, замученной земли, // Какие рухнули деревья, // Какие карлики взошли... // Отбушевали карнавалы // Над муравейником труда, // Какие долгие каналы, // Какая мелкая вода! // Расскажут плачущие музы // На берегах российских рек // Как подымались эти шлюзы //И опускался человек. //И наше мужество не нас ли, // Покинув, сгинуло вдали... // Какие женщины погасли, // Какие доблести в пыли. // А ты стоишь, седой и хмурый, // Неужто кончен кавардак? // Между обломками халтуры // Гуляет мусорный сквозняк...
—
Ваше стихотворение кончается, как набоковский роман «Приглашение на казнь»... На Ваш взгляд, нужно изучать Набокова в школе? — Я думаю, у него просто замечательные романы — «Дар», «Другие берега». «Лолита» тоже, но я сомневаюсь, что стоит его изучать
вшколе.
—
Какие советские романы можно исключить из школьной литературы, чтобы все же изучать набоковские? Может, «Русский лес» Леонова? — «Русский лес» не лишен таланта... «Молодую Гвардию» выкинул бы без трепета, а вот на счет «Разгрома» подумал бы. Можно было бы выкинуть смело Федина.
— Какую главу «Сандро из Чегема» и в каком классе стоило бы изучать, если бы решено было на уроках литературы «проходить» творчество Искандера?
— В старших классах — «Старого Хабуга».
— Предположим, максимальный балл — 10. Тогда сколько Вы поставите самому себе за страничку Вашего текста?
— 8.
—
Сколько на свете людей, с которыми Вы поддерживаете отношения, и они считают Вас гением? — Не очень скромная тема, поэтому помолчим об этом.
—
Вы хотели бы, чтобы в России объявили национальный траур, если Вы умрете? — Нет, я хотел бы, чтобы это было тихо, скромно. Я не любитель шума.
—
Что бы Вы сказали жене перед смертью? — Постарайся неизданные рукописи просмотреть и издать, которые не изданы. А что касается замужества — пусть, конечно, выходит, хотя поздновато... Пусть живет полноценной жизнью.
—
Приходилось ли Вам приспосабливаться, угождать? 11
— Никогда.
— Почему же Вас печатали?
— Многое не печатали. Печатали же оттого, что тип моего дарования достаточно оптимистичен, по крайней мере, в молодые годы. И это скрадывало идеи, неугодные власти. У меня была опубликована рукопись «Созвездие Козлотура» — а это ведь пародия на советскую власть.
— Вы уникальны, хотя бы оттого, что известный автор, и при этом не угождавший... Кто-нибудь еще был таким?
— Я отдал на растерзание свою любимую книгу «Сандро из Чегема», ее вполовину сократили... Из желания реабилитироваться перед этим произведением я согласился напечатать ее полностью в Америке. Тогда это было опасно.
— Есть ли у Вас в последние годы человек, с которым Вы систематически беседуете?
— Я действительно достаточно одиноко себя чувствую. Но это неизбежности жизни художника. Да и возраст... Близкие отношения у меня с критиком Станиславом Рассадиным. Мы старые друзья.
— Будете звонить мне в Хайфу?
— Я вообще никуда не звоню, ни в какие страны. Да и в Москве. Мне обещают поездку, тогда позвоню.
— Эмигранты, которые тоскуют, но не могут вернуться... Их культура остается русской. Будут ли в Израиле смотреть и платить деньги за видеосъемку, которую я сделал в России?
— Большое значение имеют первые такие показы. Посмотревшие будут или не будут рассказывать своим соседям...
— Достаточно ли евреи интеллектуальны, чтобы интересоваться вопросами, которые мы обсуждали?
— Евреи — люди вообще с повышенным интересом к жизни.
— К жизни и учебе. Поэтому прошу Вас закончить тем, с чего начали. Дайте мне наглядный урок интервьюирования. Задайте мне, пожалуйста, несколько вопросов.
— Пожалуйста. Вот Вы берете у кого-то интервью. У режиссера ли, актера ли, писателя. Прежде чем брать интервью, например, у режиссера, Вы смотрите его фильмы?
—
Нет. — Я советовал бы Вам актера прослушать, писателя прочитать. Вы должны знать творчество человека, с которым беседуете! Второй вопрос: уверены ли Вы, что в Израиле заинтересуются мной и другими людьми, у которых Вы брали интервью?
— Не заинтересоваться русскоязычным евреем, все равно, что в тюрьме отказаться от передачи.
— Третий вопрос — изучаете ли Вы язык?
— Нет. И слава Богу, что в Израиле тридцать процентов русскоязычных эмигрантов. Весь день слышишь русскую речь... Самый прекрасный в мире язык... Но спасибо, и я все же слишком привык последний вопрос оставлять за собой. Что для Вас совершенный человек или гений?
— Гений — это в высшей степени созидательный талант.
12
Олег Басилашвили
ЖАЛЬ, ЧТО УЙДУ БЕЗ МИРА И ПОКОЯ В ДУШЕ
— Олег, Вам не обиден обывательский высокомерный взгляд на артиста, проживающего не свою жизнь, а чьи-то чужие?
— Ну, зачем же обижаться на обывателя... Тем более, что я тоже высокомерно считаю, что артист отличается от других людей своей повышенной способностью или потребностью в любви. Если я играю положительного героя, я сам хочу быть на него похожим. Если негодяя, то его я люблю еще сильнее потому, что подлецы, всякие уроды, как правило, эгоисты.
— Видимо, обыватель это чувствует и наравне с другими зрителями платит Вам ответной любовью. Как же Вы относитесь к славе?
— В молодости умирал от ее недостатка, а теперь не знаю, как избавиться. Ведь даже в ресторане невозможно посидеть с дамой.
— А если Вас выберут в парламент, новая слава Вас будет также тяготить?
— Не знаю, будет ли тяготить, но я буду рад... Оттого, что появится возможность помочь кораблю государства уплыть от края пропасти или хотя бы какое-то время удержать его на гребне водопада. Ведь, работая в театре, в кино я до сих пор испытываю чувство стыда, что участвую в бесконечной комедии. Всего несколько раз в жизни я освобождался от этого чувства, когда рядом были Данелия или Рязанов.
— Из всех моих собеседников самым скрытным мне показался Губерман, теперь мне почудилось, что Вы, напротив, окажетесь самым откровенным...
— Если это достоинство, то вряд ли я заслуживаю Вашего комплимента. Но, может быть, моя интеллигентная семья, в которой я воспитывался... Моя мама — доктор филологии, составитель довольно откровенного словаря Пушкина...
— Сколько денег у Вас теперь в карманах?
— Шесть тысяч и билет на поезд, это ведь тоже деньги. Но практически у меня денег не бывает. Все уходило на то, чтобы кормить семью, а теперь еще на строительство дома.
— Вы материтесь когда-нибудь?
— Слава Богу, только наедине с собой. И думаю, что даже этот маленький недостаток, как и все остальные наши недостатки — последствия нашего страшного все еще существующего государственного режима. Знаете, когда я испытал самый большой в жизни страх? Во время штурма Белого дома. Правда, на какие-то мгновения, оттого, что я сразу увидел близко со мной стоявшего Ростроповича и других людей, показавшихся мне самыми красивыми из всех, когда либо виденных — и страх бесследно исчез.
— А если бы Вы никого не увидели в те мгновенья, и умерли от страха, как трудно пережила бы это Ваша семья?
— Здесь, думаю, ничего страшного не произошло бы. Моя семья мало разделяет со мной мои радости или горести.
— А из великих русских писателей кто Вам близок, а кто не очень?
— Достоевский — оттого, что, скорее, философ, чем писатель, — мне чужд. И абсолютно не понимаю, не принимаю Шекспира. А вот Чехов — мой союзник по выдавливанию из себя раба. Ведь со времени самодержавия ничего не изменилось. Если позволите, я поставлю в этот ряд моего учителя Товстоногова, чья гениальность
14
восхищала меня 35 лет и Станиславского, чья жизнь служила мне образцом. Он жил ради великой идеи, верой, что театр делает людей лучше. Правда, тут я могу уточнить, мне кажется, только через три поколения генная память поможет человеку стать совершеннее. Потому я и обрадуюсь, став членом правительства, здесь результат был бы налицо.
— Как Вы полагаете, Станиславский был умнее вас?
— Думаю, что нет. Но, честнее и целеустремленнее. А вот умнее — Егор Гайдар, который взвалил на себя бремя реформ. И всем, кто хочет стать умнее, я советую прочесть его книгу «Государство и эволюция».
— Почти все прославившиеся артисты, умные и не слишком, пишут воспоминания. А Вы пишете или готовитесь?
— Давно пишу, но непонятно что. И к тому же нечто бездарное. Настолько бездарное, что никому не показываю. Но делаю это, наверстывая таким образом упущенное в жизни.
— Если бы не Ваш герой «Служебного романа», а Вы побывали бы в тюрьме, Ваши записки были бы талантливее?*
— Не дай Бог. И думаю, что после лагеря никакой литературы быть не может. Даже Шаламов — это не литература, а страшные документы.
— А смерть для Вас еще страшнее?
— Знаете, нет. Жду ее, как освобождения. Даже не терпится пройти по Хевронской долине, откуда, Вы знаете, грешники сваливаются в ад. Кстати, ученые исследовали этот район и подтвердили наличие в нем энергетических масс. После этого сообщения мое нетерпение усилилось.
— Вы как-нибудь оцениваете мои вопросы?
— Для меня Ваше интервью служит самопроверкой. Мне вдруг стало интересно, что же я из себя представляю.
— Если Вы достаточно разогрелись, расскажите, каким Вы себя видите в старости.
— Очень тянет соврать, что хочу умереть на сцене, как Жерар Филипп. Но, конечно, не буду. Если можно говорить о времени до дряхлости, беспомощности, тогда мне хотелось бы рубить дрова, косить сено, много ходить, чтобы обдумать, а кем же я должен был быть. Я никогда не хотел быть актером. Всегда ненавидел тусовку, богему. Просто в 45 году я попал в Художественный театр и мне захотелось, нет, не артистом стать, а как бы попасть в прекрасный мир Чехова, Островского и т.д. Вот, например, в одной из лучших пьес, где мне пришлось играть — «Цена» Миллера, герою приходится выбирать между нравственностью и богатством. И это атмосфера и моей жизни тоже. Да, сейчас я получаю больше, чем при коммунистическом режиме, но вкалываю так же, а в мыльных сериалах сниматься отказываюсь. И жаль, что не все это умеют. Впрочем, что же говорить об этом, если даже мой любимый Маяковский хотел быть как все и сломался на этом.
— Вы много умеете, — но что же Вам мешало жить, как хочется?
— Видимо, надо признаться самому себе, что я мало себя реализовал из-за безнадежной привычки к театру и еще к оседлому образу жизни. Как ни странно это прозвучит, я очень домашний человек. Но если помечтать, то я вернулся бы в Москву, ходил по улицам, конечно, немного играл бы где-то, но это было бы хуже, чем в Товстоноговском театре. Главное же, что ходил бы, наблюдал, запоминал и
15
радовался. Помните, у Набокова, которого, я кстати, забыл перечислить: «Давай блуждать, глазеть, как дети на проносящиеся поезда и предоставим выспренным глупцам пенять на сновиденье единый раз дарованное нам».
— Вы так увлеклись, не опоздаете ли на поезд?
— Да, спасибо. Но на прощанье, я хочу поправиться. Мне сейчас кажется, что умереть будет все-таки жалко. Оттого, что не удалось осуществить юношеские мечты. Жаль невоплощенную в дела чистоту юношеских ощущений. Жаль мечту о монашеском служении делу. Жаль, что уйду без мира и покоя в душе...
16