 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Азимов Айзек :: Толстой Лев Николаевич :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Компьютерра :: Нортон Андрэ :: Херберт Фрэнк Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Храм Диониса :: Рагнарёк :: Аквариумист :: Ифтах и его дочь :: Александр Демьяненко :: Тюремные дневники :: Сказка про Evil Джека :: Ночной экспресс |
Черные Мантии (№6) - Роковое наследствоModernLib.Net / Исторические приключения / Феваль Поль / Роковое наследство - Чтение (стр. 1)
Поль Феваль Роковое наследство 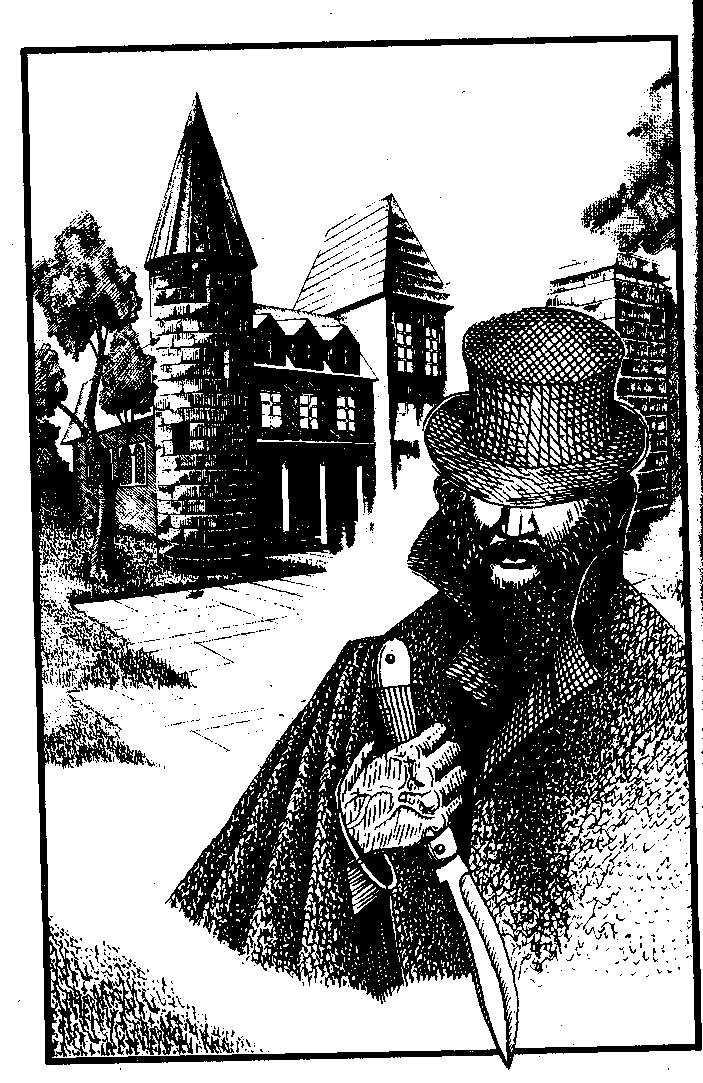 Часть первая УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВИНСЕНТА КАРПАНТЬЕ I БОЛЕЗНЬ ВИНСЕНТА В начале царствования Луи-Филиппа[1] в Париже, сотрясаемом заговорами республиканцев и легитимистов, существовал один дом, покойный и строгий, точно монастырь. Шум и суета большого города подступали к нему со всех сторон, поскольку расположен он был неподалеку от Пале-Рояля, в нескольких шагах от пассажа Шуазель, где в одном и том же помещении беззаботные водевилисты собирались на пирушки, а члены одного из самых знаменитых тайных обществ – на заседания. Но ни отголоски речей, ни мотивы куплетов не достигали той тихой, почитаемой едва ли не за святыню обители, которую безлюдье улицы Терезы оберегало от любых отзвуков человеческой комедии, будь то гневный протест или громогласное ликование. Ах, какой славой пользовался тогда чубчик короля-гражданина! А его серая шляпа! А его зонтик! Вряд ли существовал когда-либо монарх, более популярный, чем Луи-Филипп Орлеанский. Его портреты красовались во всех иллюстрированных журналах и на всех городских стенах, на каждом из этих портретов была изображена величественная груша с английскими бакенбардами, обладавшая поразительным сходством с оригиналом. Над душкой-королем шутили ласково, беззлобно, по-свойски; его величали «господином Вещью», «господином Некто», «Лучшей из республик»; его старшего сына никто не называл иначе, как «Цыпленочком», сестре его приписывали слабость к спиртному, все дружески похлопывали его по животу и обвиняли в том, что он обворовывает Тюильри и что однажды темной ночью он повесил на оконном шпингалете в Сен-Ле своего престарелого дядю, последнего Бурбона-Конде, дабы обеспечить будущность маленького герцога Омальского, – впрочем, очаровательного и умненького ребенка. Славное было время. Владельцы «Моды», «Шаривари», «Карикатуры» и других иллюстрированных изданий наживали бешеные деньги; зимой мальчишки лепили из снега тыквы, разумеется, тоже похожие на короля, и снабжали их пресловутой надписью: «Толстый, жирный, глупый». Куда уж популярнее? Лишь один человек в Париже был обласкан больше и обруган сильнее, чем король. Мы говорим о филантропе по прозвищу «Синее пальтецо», над которым от души потешались на всех перекрестках только из-за того, что он раздавал в районе Центрального рынка бесплатный суп беднякам. Не знаю, считается ли раздача супа занятием преступным или просто неприличным, однако дающие всегда кажутся подозрительными и бывают оболганными, а в конечном счете и уничтоженными теми, кто подобной благотворительностью не занимается. Причина проста. Последние составляют громадное, подавляющее большинство. Между тем мы с вами можем стать свидетелями торжества истинно высокой добродетели: тихий дом на улице Терезы принадлежал святому человеку, делавшему много больше, чем раздача супа. Имея немалое состояние, этот господин на собственные средства учредил благотворительное заведение типа государственного приюта. И можете мне поверить, что функционировало оно намного лучше казенного. Со временем к старику присоединилось несколько знатных особ, предпочитавших держать свои имена в тайне, и эти люди образовали вместе достойное восхищения коммандитное товарищество[2] помощи бедным. Дело было поставлено по всем правилам: заведение посещали всевозможные инспекции, служащие принимали посетителей и сортировали заявки. С утра до вечера здесь кипела работа, направленная на то, чтобы больше дать, подобно тому, как в других местах стремятся побольше взять. Делалось это без помпы и показухи, однако открыто и у всех на глазах. Так вот к чести парижан, они не только не преследовали полковника Боццо-Корона, хозяина того примечательного заведения, но и глубоко почитали старого филантропа, равно как и его умного генерального секретаря господина Лекока де ля Перьера. Париж не смеялся над их благотворительной деятельностью, тем более полезной, что направлена она была на ту категорию обездоленных, которых нужда нередко толкает на преступление. Полковник Боццо и его предприимчивый и пронырливый, как полицейская ищейка, помощник обследовали «дно» общества и несли его несчастным обитателям свои благодеяния. Париж не больно-то любит опеку, а тут, надо же, сносил заботу о себе без всякого раздражения и на особняк на улице Терезы взирал с благоговением. В субботу, 2 октября 1835 года, в начале шестого вечера высокий старец, зябко кутая свое сухощавое тело в просторное, подбитое ватином пальто, тяжело и медленно поднимался по широкой лестнице с первого этажа дома, где размещалась контора, в расположенные над ней апартаменты. Старик опирался на руку еще довольно молодого человека с энергичным и жизнерадостным лицом; сей господин был одет в щегольский, сшитый по последней моде костюм из добротной, хотя и кричаще-яркой ткани. Это были полковник Боццо и его «альтер эго»[3] господин Лекок; мы застали их в тот момент, когда по завершении праведных трудов каждый из этих людей мог вслед за Титом[4] воскликнуть: «День прожит не зря». Полковник, казалось, уже достиг самого преклонного возраста – мы говорим «уже», потому что жить ему предстояло еще долго, а, между прочим, те, кто был знаком с ним не один десяток лет, всегда знали его глубоким стариком. Уже во времена Реставрации ему давали более восьмидесяти. Лекок выглядел лет на тридцать-сорок, был крепок, широкоплеч и имел физиономию, которую можно было бы назвать банальной, если бы на ней не отражалась удивительная сметливость. Очки в золотой оправе смотрелись на этом человеке так уместно, что казались естественной чертой его лица, кроме того, всякий был бы неприятно удивлен, встретив сего господина без обычной связки брелков на поясе панталон, чуть оттопыренном наметившимся брюшком. – Мы раздали сегодня четыре тысячи триста двадцать девять франков, – заявил Лекок; полковник в это время переводил дух между первым и вторым пролетами лестницы. – Сегодня суббота, – будто оправдываясь, заметил старик. – Все равно, крутовато, на мой взгляд, – произнес Лекок. – Что за радость в мирное время выплачивать жалованье целой армии. – Зато, объявляя кому-нибудь войну, душа моя, мы разом зарабатываем вдвое больше, – мягко проговорил полковник. – Не спорю, но мы давно не воевали, – пробурчал Лекок. – А со времени последнего дела утекло уже более двухсот тысяч... – Последнее дело как раз и принесло нам двести тысяч, – напомнил старик. Лекок покачал головой. – Не спорю, – повторил он. – Но время – это тоже деньги, а мы потеряли уже по меньшей мере полгода. Полный простой! Старик поставил на ступеньку ногу, обутую в мягкую меховую туфлю. – Э-ге-ге! – усмехнулся он. – Время! Мы с тобой, Приятель, заживем получше, чем сейчас. Не пори горячку! Я как раз обдумываю одно дельце... Последнее в моей жизни! Лекок расхохотался. – Почему ты смеешься, душа моя? – спросил полковник. – Да потому, Отец, что с тех пор, как я себя помню, всякое дело, которое вы задумывали, бывало для вас последним... Их можно насчитать сотни две, не менее. – Одно из них станет-таки последним, Приятель, – печально проговорил старик, – самым последним! Все мы смертны – и даже я. Пойдем дальше, душа моя, держи меня покрепче. А еще меня беспокоит моя маленькая Фаншетта, ей пора замуж. Что за чудесное создание! Золотое сердце! Лекок промолчал. – Она тебе нравится? – осведомился полковник. – Да, – буркнул Лекок. – Ты ее ненавидишь, и она отвечает тебе тем же, иначе я непременно выдал бы ее за тебя, – произнес старик. – Благодарю! – отвечал Лекок. – Холостяцкая жизнь мне больше по нутру. К тому же, Отец, меня отодвинули на второй план. Вы теперь оказываете явное предпочтение дражайшему Винсенту Карпантье, архитектору-неудачнику, которого вытащили из штукатурной пыли. Не он ли поведет под венец мадемуазель Франческу Корона! Полковник искоса взглянул на Лекока. Глаза старика с мутными, будто старые стекляшки, зрачками, странно блеснули. – Не стоит завидовать моему другу Винсенту, – прошептал он. – У господина Карпантье – тяжелая работа. С этими словами полковник повернул ручку двери. Дверь отворилась с предупреждающим звоночком, на звук которого из соседней комнаты выбежала совсем еще юная девушка с невероятно огромными блестящими глазами, с уже сформировавшейся гибкой и чувственной фигуркой, с насмешливо вскинутыми бровями, высоким лбом и буйной гривой черных, как смоль шелковистых кудрей; девушка стремительно бросилась к старику, а тот сделал вид, что испугался ее порывистых движений. – Фаншетта, дорогая, – проговорил полковник, – в один прекрасный день ты меня сломаешь. – Мадемуазель Франческа ловка и прекрасна, как тигрица из Ботанического сада, – вставил Лекок с поклоном. – Я сделала тебе больно, дедушка? – спросило прелестное создание, именовавшееся Франческой или Фаншеттой. – Ну что ты, девочка! – воскликнул старик. – Твои руки, глаза, голос, улыбка – все в тебе мягче бархата. Фаншетта расцеловала деда в обе щеки, а затем повернулась к Лекоку. – Вы заставляете его слишком много работать, – недовольно произнесла она. – Вы обедаете с нами? Не думаю, поскольку в гостиной сидит Винсент Карпантье. Я его очень люблю, у него чудо, что за дочь! Ирен, какое красивое имя! Лекок передал красавице старика с рук на руки, а тот пробормотал, смеясь: – Ты, милочка моя, приглашаешь, одновременно указывая на дверь; впрочем, ты права, Приятель не смог бы сегодня остаться с нами. – Итак, мне отказали дважды, – воскликнул Лекок с наигранным весельем. – Не будет ли каких указаний, патрон? – Никаких, всего доброго! – ласково улыбнулся полковник. – Хотя... – спохватился он и выдернул руку из пальчиков Фаншетты. – Иди, голубушка, вели подавать обед. Сможешь ли ты и вправду заменить малютке Ирен мать, если... если... – пробормотал старик. Фаншетта замерла, устремив на него взор своих огромных глаз. – Иные люди, – продолжал старик скорбным тоном, – выглядят вполне здоровыми, но силы их подтачивает смертельный недуг. Полковник бросил быстрый взгляд на верного помощника, и морщины, набежавшие было на лоб Лекока, разгладились. – О чем ты говоришь?! Какой еще недуг?! – вскричала Фаншетта, всплеснув руками. – Неужели милая крошка останется сиротой!.. – Винсенту ни слова! – строго приказал полковник. – Можно мгновенно убить человека, открыв ему правду о его состоянии. Будь осторожна. Когда потрясенная Фаншетта удалилась, Лекок произнес: – Благодарю вас, патрон. Вы меня успокоили. Я и кое-кто из наших друзей опасались, что этот Винсент перебежит нам дорогу. – Неблагодарный! – воскликнул полковник. – Ты же мой сын! Ты мой наследник. В завещании так и написано. – Не продолжайте, а то я разрыдаюсь, – прервал старика Лекок с ироническими нотками в голосе. – Наследство получают после смерти завещателя, а мы хотим, чтобы вы всегда были с нами. Кроме того, нам очень интересно, каков в точности размер уставного капитала... – Ты имеешь в виду наши сокровища? – в свою очередь перебил Лекока полковник, и в его тусклых глазах появился странный блеск. – Вы будете богаты, очень богаты! На себя я не трачу ни гроша. Я собираюсь обделать одно дельце... Выручка пойдет на приданое Фаншетте. Так что все – ваше, все! Ну, до свидания, Приятель! – Еще одно слово, – остановил патрона Лекок. – Так что, Винсент обречен? – Боюсь, что так, сын мой, – скорбно закивал старик. – Скоро, скоро настанет день и мне понадобятся люди, способные привести приговор в исполнение... Ну, до встречи! Лекок послал старцу с порога воздушный поцелуй и удалился со словами: – Отец, вы просто прелесть. Полковник запер дверь за засов. Оставшись один, он выпрямился. Выражение его лица резко изменилось. Напряженные раздумья, составляющие разительный контраст с обычной маской старческого благодушия, омрачили чело полковника. Он направился в сторону столовой твердым, осмелюсь сказать, мужским шагом. Однако, дойдя до порога, полковник машинально, в силу привычки, как это свойственно великим актерам, ссутулился, и руки его вновь по-стариковски затряслись. В столовой его ожидала Фаншетта и уже неоднократно упоминавшийся здесь Винсент Карпантье. Винсенту можно было дать лет тридцать пять. На его красивом лице лежал отпечаток долгих страданий. Он беседовал с Фаншеттой, стоя у окна, выходившего в небольшой, но засаженный великолепными деревьями сад, уже чуть тронутый дыханием осени. – Вы знаете, – говорила Фаншетта, – дедушка мне никогда ни в чем не отказывает. Я хочу, чтобы Ирен стала моей маленькой подругой. Когда она подрастет, мы дадим ей приданое – дедушка так богат и великодушен! – и она сможет выйти замуж за славного Ренье, который к тому времени станет красивым юношей. Лицом и фигуркой Фаншетта была уже женщиной, но душу сохранила совсем детскую. Через несколько месяцев красавице предстояло сделаться графиней Франческой Корона и узнать жизнь со всеми ее горестями и трагедиями. – Винсент рассказывал мне о своей жизни! – воскликнула девушка, подбегая к старику, чтобы проводить его к столу. – Теперь я все о нем знаю. Что за грустная и трогательная история! Дед, дедушка, дай же ему скорее побольше денег! – Винсент не из тех, – ответил старик, указывая на гостя, лицо которого вспыхнуло, – кому можно что-то давать – особенно деньги. Он предпочтет их зарабатывать. Полковник сжал почтительно протянутую руку Винсента и с чувством потряс ее. – Разве я не прав, друг мой? – добавил старик. – Мы горды, как Артабан. Малышка моя, хоть и взрослая на вид, еще говорит порой очаровательные нелепости. Наливай же нам суп, сокровище! Присаживайтесь, Карпантье, старина! Вы были архитектором и опустились до того, что превратились в простого каменщика, но мы подставим вам лестницу, по которой вы снова подниметесь наверх. Я сегодня голоден, как волк. Фаншетта легкой пташкой подлетела к деду, чуть коснулась губами его лба и налила старику пол-ложки супа. Принимая тарелку, полковник усмехнулся: – Ты набухала мне полную миску, как в трактире. Это, видно, потому, что мы заговорили о каменщиках. – Поверьте, господин Карпантье, – обратилась Фаншетта к Винсенту, передавая ему тарелку с супом, – дедушку вам сам Бог послал. Наш старичок, конечно, будет подшучивать над вами, как и надо мной, и вообще над всеми, но знайте, что, когда он берется за дело, несчастья отступают... – Скажи уж прямо, что я – само Провидение, – перебил ее полковник, поднося ложку ко рту. – Суп вкусен, но не следует взимать за него слишком высокую плату. Винсент, голубчик, не будете ли вы возражать, если я выставлю отсюда эту девчонку, чтобы она не мешала нам говорить о делах? Винсент Карпантье, и в самом деле работавший простым каменщиком, хотя вовсе не походил на такового ни одеждой, ни манерами, испытывал в эти минуты сильнейшее волнение. – Сударь, – сказал он, – если вы намереваетесь помочь мне вновь обрести утраченное положение, разве не обязан я этим любезнейшей мадемуазель? – Да что вы! Нисколько! – запротестовал старик. – Я никогда ничего не делал ей в угоду... – Во-первых, – перебила деда Фаншетта, обвив его шею очаровательной ручкой, – мне совсем не хочется уходить. И, грозя меня выгнать, вы, дедушка, поступаете нехорошо. Во-вторых, вы лжете немилосердно, поскольку всякому известно, что я верчу вами, как хочу! Полковник притянул ее к себе и сжал в объятиях. – У вас у самого очаровательная дочь, господин Карпантье, – проговорил он – и можно было подумать, что старик не в силах совладать с невольным волнением. – Поэтому вы легко поймете мою любовь к этому чертенку. Приложив губы к самому уху деда, Фаншетта шепнула: – Дед, погляди на него хорошенько. Он вовсе не похож на больного. – Черт побери! – вскричал полковник. – Мы здесь не для того, чтобы разводить сантименты. Ешьте, мои дорогие! Надеюсь, наш друг Винсент будет доволен лакомством, которым я угощу его на десерт! Поверх седовласой головы деда Фаншетта устремила взор на гостя. «Дед ничего не ответил, – думала девушка. – По-моему, Карпантье выглядит вполне здоровым, но дедушке виднее... Бедняжка Ирен!» II ДЕСЕРТ В доме полковника внушала уважение каждая мелочь. Обед отличался ненавязчивым изобилием, вышколенные слуги больше всего напоминали лакеев из журнала «Поучительные истории». Полковник не пил ничего, кроме воды, но с игривым видом то и дело наполнял дрожащей рукой рюмку Карпантье. Фаншетта щебетала за едой, как птичка. – Я должна поведать тебе его историю, дедушка, – говорила она. – Он сам никогда не расскажет тебе всего того, что открыл мне. Они жили счастливо, я имею в виду Винсента и его жену. Ее звали Ирен, как и нашу дорогую крошку. Она была красавица-раскрасавица и совсем еще молодая. Винсент имел свою контору, для начинающего дела его шли совсем неплохо, и вдруг – раз! Ирен, его жена, всего через несколько месяцев после рождения дочери, похожей на нее, как две капли воды, начинает кашлять и чахнуть. Доктора прописывают воды, потом – Италию; работу приходится бросить. Да что там деньги! Винсент и жизнь бы отдал... – Бедняга Винсент! – перебил ее полковник, удачно замаскировав зевок. – Вот уж горе так горе! – Так продолжалось три месяца, – рассказывала дальше Фаншетта. – Ирен умирала в страшных мучениях! Винсент возвратился во Францию без жены, в глубоком трауре. Он привез с собой двоих детей, вторым был очаровательный мальчик, очень полюбившийся покойной госпоже Ирен. Мальчика зовут Ренье, он уже почти юноша. Чтобы вырастить двоих, Ренье и малышку Ирен, Винсент взялся за мастерок и стал зарабатывать на жизнь трудом своих рук... – Дорогая моя, – проговорил полковник, отодвигая тарелку, – как ты замечательно рассказываешь! Который час? – Это еще счастье, что ему повстречался Ренье! – продолжала Фаншетта с отчаянным упорством ребенка, которому не дают досказать начатое. – Ты глубоко заблуждаешься, дедушка, если полагаешь, что Ренье для Винсента стал обузой. Нет! Ренье следит за домом, на нем все хозяйство, он учит мою маленькую Ирен читать и писать. Ах! Если бы он мог найти работу, чтобы помочь своему старшему другу! Посмотри! У Винсента даже слезы выступили на глазах; он сегодня говорил мне: «Этот мальчик послан мне Богом. Если б не Ренье, кто бы приглядывал за моей дочуркой? Когда он с ней, я ни о чем не беспокоюсь. Он силен, а главное, смел, как взрослый мужчина. И при этом ласков и заботлив, как самая нежная женщина. Я словно оставляю Ирен со старшей сестрой». Он даже больше сказал: «Я словно оставляю Ирен с родной матерью!» Правильно я передаю, господин Винсент? Винсент обратил на девушку благодарный взгляд, вслух, однако, произнес: – Довольно говорить обо мне и моих делах. – Что вы, что вы, – вставил полковник, – меня чрезвычайно интересует ваша судьба. Фаншетта здесь полная хозяйка, не так ли, сокровище мое? Она, когда хочет, из меня прямо-таки веревки вьет. У меня никого нет, кроме нее, а потому... – А потому, дедушка, ты хочешь меня выставить, – перебила его девушка, лицо которой светилось умом и добротой. – Я вижу это по твоим глазам. Ну что ж, я буду послушной и тут же исчезну, если вы оба, ты и господин Карпантье, пообещаете мне одну вещь. Не бойся, дед, самая большая жертва потребуется не от тебя. Я хочу, чтобы Ренье поступил в коллеж, а Ирен – в пансион. Договорились? Фаншетта вскочила со стула, ее розовые губки замерли на высоте дедушкиного лба. – Договорились, – ответил полковник. Осыпав голову старика множеством нежнейших поцелуев, Фаншетта спросила: – А вы согласны, господин Винсент? – О! Я? – воскликнул тот, и глаза его увлажнились. – Если бы я мог дать своим детям образование... – Что ж, решено, – с явным нетерпением сказал полковник. – Вели подать кофе, киска, и иди почитай «Робинзона Крузо», пригодится: вдруг попадешь на необитаемый остров! По крайней мере, будешь знать, как сделать зонтик из шкур! Фаншетта совершенно по-мужски пожала Винсенту руку и исчезла за дверью. Старик поглубже уселся в кресло, запахнул полы теплого халата и покрутил в задумчивости большими пальцами. – Скажите, друг мой, – обратился он к Винсенту после продолжительного молчания самым спокойным голосом, – что бы вы сделали, если бы ваша дочь в возрасте моей Фаншетты полюбила бессовестного мерзавца? – Мерзавца? – вскричал Винсент с неподдельным ужасом. – Чтобы очаровательная Франческа полюбила мерзавца! Слуга принес кофе. – Сам бы выпил, – пробормотал полковник. – Прямо-таки волчий аппетит. Я положу вам сахару. Ступай, Джампьетро, нам ничего не нужно. Лакей удалился. – Джампьетро – сицилиец. У нас в Катании[5] это значит – Жан-Пьер. В Неаполе имени Жан соответствует Джован. Моего кучера зовут Джован-Баггиста. Мы все немного итальянцы. Полковник подержал полкусочка сахара над паром, поднимавшимся из чашки Винсента, и повторил свой вопрос: – Так что бы вы сделали? Винсент колебался. – Убили бы вы его? – осведомился старик. Ложка выпала из рук Винсента. Хозяин благодушно рассмеялся. – Я в былые времена слыл весельчаком, – проговорил он, – любил, знаете ли, пошутить... Пейте кофе, друг мой, пока не остыл. У каждого, разумеется, свои горести и беды. Хотите, я скажу вам правду? Вы затаенный честолюбец, вас распирают изнутри дьявольские желания. Полковник посмотрел на Винсента в ту минуту, когда тот подносил чашку к губам. Взгляды мужчин скрестились. Винсент вздрогнул. Старик грыз кусочек сахара. – На меня это подействовало возбуждающе, – заметил он, – сам знаю, но я и не собираюсь ложиться. Нам с вами предстоит поработать этой ночью. В глазах Винсента все явственней читался испуг. – Этого еще не хватало, – неожиданно поддел его полковник. – Неужто я имею дело с трусом? – Вы говорили об убийстве... – прошептал Винсент. Старик сухо усмехнулся. – Черт побери! – воскликнул он. – Тот чудак убьет себя сам. Не беспокойся и позволь мне называть тебя на «ты», мне так удобнее. Итак, мы говорили, что поместим малютку Ирен в хороший пансион, а Ренье определим в коллеж. Коллеж и пансион ты можешь выбрать по своему усмотрению, друг мой... – Как мне благодарить вас, сударь?.. – начал было Карпантье, и вызванный радостным волнением румянец оживил его бледное лицо. – Почему ты решил, что тебе стоит благодарить меня? – холодно прервал гостя старик. Карпантье был совершенно сбит с толку. – Я уверен, – пролепетал бывший архитектор, – что такой человек, как вы, не заставит меня делать ничего унизительного для моей чести. – Вот дьявол! – неприязненно поморщился старик. – В иные минуты, друг мой, мне кажется, что ты – круглый дурак. Не сердись: я слыву лицемером из-за того, что не швыряю денег в Опере и на Бирже, однако, котик, я еще никогда никого не убивал, а начинать поздновато... Не извиняйся, посмотри мне в глаза. Ты понравился Фаншетте, что ж, тем лучше для тебя! Это принесет тебе счастье. У тебя славное доброе лицо; у меня слишком много врагов, а потому я не бросаюсь друзьями. Ты честолюбив, как я тебе уже заметил. Знал ли ты это раньше? Под пристальным взглядом полковника Винсент опустил глаза. Архитектору было явно не по себе. – Ты зарабатываешь на хлеб своими руками, – продолжал полковник, – трудишься от зари до зари, но в твоей жизни были дни, когда ты страстно мечтал разбогатеть. Признайся. – Это верно, – чуть слышно проговорил Карпантье. – Моя жена была так хороша, и я так безумно любил ее! – Твоя дочь будет красавицей! – заметил полковник. – Прошу вас, сударь, – перебил его Карпантье, – скажите, чего вы от меня хотите. А то от ваших намеков меня бросает в жар. Старик в ответ лишь кивнул головой и позвонил в колокольчик, который находился на столе у него под рукой. – Джампьетро, – сказал полковник вошедшему слуге. – Джован-Баттиста доест свой обед через полчаса. А сейчас пусть запрягает. – Любезнейший, – произнес старик, вставая и опираясь на плечо Карпантье, – вы снова станете архитектором, это я вам гарантирую. Если бы я даже попытался забыть о своем обещании, Фаншетта быстро напомнила бы мне о нем. Придет время, и вы построите мне замок, особняк, часовню, но сегодня вы – каменщик: этой ночью мне понадобятся только ваши молоток и зубило. – Этой ночью? – Переспросил Карпантье с нескрываемым удивлением. Через несколько секунд он добавил: – У меня нет с собой инструментов. Полковник потрепал Винсента по щеке, как упрямого ребенка. – Пошли, пошли, – пробормотал старик, – поговорим по дороге. Птичка моя, нынче уже никому не выпадает пять номеров подряд. Со мной в свое время такое случилось, благодаря чему сама маркиза де Помпадур[6] пожелала взглянуть на меня. Премиленькая была плутовка. Не стану утверждать, что в лице столь древнего Мафусаила, как полковник Боццо, вам выпал крупный выигрыш, и все же это удача – и немалая. Что может меня разочаровать, так это лень, подозрительность или излишнее любопытство. Малютка Ирен, судя по всему, вырастет ослепительной красоткой. Для дочери бедняка это скорее несчастье. Если я говорю: «берись за дело», значит, инструменты у меня готовы. Хозяин и гость спустились в вестибюль. Слышно было, как во дворе пофыркивает лошадь, которую запрягают в карету. Винсент размышлял. Открывая дверь на улицу, старик оглянулся и снова в упор посмотрел на Карпантье. – Голубчик, – промолвил полковник, – если душа не лежит, еще не поздно повернуть назад. У меня есть тайна, которую тебе никогда не разгадать. – Необходимо что-то спрятать? – полушепотом спросил Карпантье. – Что-то... или кого-то, – ответил он. – Как знать... Запряженная в экипаж лошадь нетерпеливо била копытом. Джован-Баттиста взобрался на козлы, а ливрейный лакей застыл перед дверцей кареты. – Идемте, – решился Винсент. – У меня нет оснований не доверять вам, вы всю жизнь делали только добро; я боюсь самого себя. До сих пор я проигрывал всякий раз, когда пытался испытывать судьбу. – В таком случае, – возразил ему старик, – вам пришло время сыграть ва-банк. Удача, поди, давно вас поджидает. И полковник обратился к кучеру: – Джован, у тебя и суп остыть не успеет. Быстренько отвези нас на улицу Славных Ребят, ко второму входу в пассаж Радзивилла. Там мы выйдем, а ты прямиком домой. Карета тронулась и через три минуты уже была на улице Славных Ребят. За это время мужчины не произнесли ни слова. Покинув экипаж, полковник и его спутник нырнули в грязный и сырой пассаж – бельмо на глазу Пале-Рояля. Как только хозяин и гость вышли из кареты, Джован тронул поводья и умчался прочь. III ТАИНСТВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Винсент и полковник выбрались из пассажа Радзивилла неподалеку от того места, где вдоль стены Банка стоят фиакры. Вокруг не было ни души. Полковник Боццо зябко ежился в своем теплом пальто, но выглядел при этом весьма бодро. – У нас с тобой, мой милый, вроде как приключение получается, – заявил он. – Я, знаешь ли, не часто развлекаюсь! Хотя в свое время я любил поволочиться за юбками на пару с этим простачком Ришелье[7]. Он был неплохим малым, только я уводил у него всех герцогинь. С тех пор, понимаешь ли, прошло восемьдесят лет, а я все еще хоть куда. Впрочем, с годами я остепенился. Беги возьми фиакр, третий с краю, с зелеными фонариками, видишь, где кучер спит. Винсент исполнил приказание. Затем он помог полковнику сесть в экипаж, и старик, опустив переднее стекло, крикнул кучеру: – Улица Сены, пассаж Нового моста. Да поживей. Э-ге-ге! – добавил полковник, поднимая стекло. – От жары мы тут не погибнем. Скажи, надеюсь, ты не питаешь личной неприязни к семье несчастного Карла X[8], томящегося на чужбине. Знатный охотник был... – Если бы я знал, что дело носит политический характер... – живо перебил его Карпантье. – То что: обрадовался бы или наоборот? – вскинул брови старик. – Заклинаю вас, сударь, скажите мне откровенно, речь идет о спасении человека? – взмолился Винсент. – Прежде всего, – проговорил полковник, тон которого становился все более игривым, – я сделаю так, что вы сами, друг мой, не сможете ответить на собственные вопросы. Мы тут не на исповеди. Вы меня, черт побери, как судья допрашиваете! Старик расстегнул пальто и извлек из внутреннего кармана лоскут шелка, узкий и очень длинный. – Подставляйте-ка голову, – скомандовал полковник. – Ох, ей-ей, я сегодня в отличном настроении! Винсент посмотрел на него и постарался улыбнуться. – Клянусь честью, – произнес бывший архитектор тихо-тихо, словно в ответ на тайные сомнения, поднимающиеся в его душе, – я уверен, что у вас добрые намерения. – Что ж, благодарю! – отвечал полковник, завязывая Винсенту глаза шелковой лентой. – Очень мило с вашей стороны, что вы не считаете меня негодяем. Это уже немало. Не двигайтесь. В Неаполе я был знаком с дедушкой герцогини Беррийской. В хорошенькую же она влипла историю! Винсент вздрогнул. По всей Франции только и говорили, что о вдове герцога Беррийского, скрывавшейся от полиции своего дядюшки Луи-Филиппа после неудачной попытки поднять восстание в Вандее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
|||||||||