 |
|
Популярные авторы:: Грин Александр :: Борхес Хорхе Луис :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: БСЭ :: Желязны Роджер :: Кларк Артур Чарльз Популярные книги:: The Boarding House :: По заданию преступного синдиката :: «Фирма приключений» :: Невеста поневоле :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: Полет :: Созвездие Ворона :: Мертвые души :: Жизнь Чезаре Борджиа :: Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил |
Кому улыбается океанModernLib.Net / Природа и животные / Санин Владимир Маркович / Кому улыбается океан - Чтение (стр. 7)
Клавдия Ивановна ласково треплет Бориса за волосы. — Через два дня будешь учиться ходить, — сообщает она. Дед грустно кивает. Чтобы эти «через два дня» были уже сейчас, он пожертвовал бы своим лихим чубом. Я сочувствую Борису. Я уже дважды лежал на операционном столе и знаю, как выглядят затянутые в халаты хирурги с марлевыми масками на лице. К тому же действие происходит не в городской больнице, у дверей которой нюхает валерьянку преданная жена, а на море, на котором «Канопус» подпрыгивает, как цирковой акробат на сетке. — Боже, куда ты уставился? — возмущается моим созерцательным бездельем Клавдия Ивановна. — Привязывай больного к столу… Да не так, у него же руки замлеют! Витя, где ты выкопал такого бездарного ассистента? Витя краснеет и сконфуженным шепотом оправдывается. Клавдия Ивановна ухмыляется и фыркает. До меня доносится: «Фельетон про нас приехал писать?» На этот раз возмущаюсь я. Клавдия Ивановна жестом останавливает мои излияния и кивает уже доброжелательно. Я мгновенно обретаю уверенность, по всем правилам прикручиваю Деда к столу и набрасываю на него простыню. — Спирт! — командует Клавдия Ивановна. — Шприц! Отрешившись от всего земного, хирурги священнодействуют над Дедовым животом. Они перебрасываются ученой латынью, и это придает их действиям еще большую таинственность. Борис держится мужественно, хотя от ожидания и страха его лицо покрывается крупными каплями пота. Я вытираю пот и развлекаю Деда разными историями. Рассказчик я неважный, но сейчас лезу вон из кожи и трещу как сорока. Дед привязан, он беспомощен, как младенец, и вынужден меня слушать, хотя поначалу от злости готов дать мне по уху. И я рассказываю о своих операциях и переломах, о проделках товарищей по студенческому общежитию, когда в нашу комнату боялись войти из-за неожиданно падающей на голову кастрюли, грязной швабры или завернутых в газету картофельных очисток, о газетных ляпах, о шутках великих людей, вычитанных из «Науки и жизни» — словом, болтаю обо всем, что приходит в голову. И замечаю, что Дед слушает и даже улыбается. Клавдия Ивановна мне подмигивает и шепчет: «Молодец, продолжайте». Я чувствую необыкновенный прилив гордости от сознания того, что сама Клавдия Ивановна положительно оценила мою работу по психоанестезии, и с удвоенной энергией продолжаю болтать. Я до того смелею, что начинаю смешить Деда анекдотами про жену и командированного мужа. Он хихикает, и Клавдия Ивановна грозит мне пальцем: этак Дед может остаться без селезенки. Я прошу разрешения дать бедному больному закурить. Разрешение получено, и Борис с наслаждением потягивает из моих рук сигарету. Но вот его челюсть чуть перекашивается — больно. Я тут же обращаюсь с новой просьбой, и Борису делают добавочный укол новокаина. Челюсть возвращается на место, и Дед продолжает спокойно слушать, он даже задает вопросы. Операция идет к концу. Деда зашивают, как лопнувшую рубаху. На его бледном лице застыло ожидание. Я отвлекаю его пересказом шуточной автобиографии Марка Твена, и Дед тихонько повизгивает. Мне снова грозят пальцем — приходится менять тематику. Но вот наложен последний шов, Клавдия Ивановна сбрасывает маску и — улыбается. Она сразу становится совершенно другой — милой, добросердечной и совсем простой женщиной. Даже не верится, что именно она только что сердилась, командовала и говорила жестким металлическим голосом. Пока хирурги снимают халаты, я сую Деду последнюю сигарету и спешу за грузчиками. В коридоре — целая толпа добровольцев. Отбираем четырех поздоровее. Они входят в операционную, словно в церковь, и осторожно похлопывают ошкеренного Деда по плечам. Потом поднимают его, несут в коридор, протаскивают, как шкаф, по трапу и укладывают на койку в каюте. Все. Я возвращаюсь в медпункт, где врачи обмениваются впечатлениями. — Молодец, — коротко говорит Клавдия Ивановна, кивая на Витю. — Будет хирург настоящий. Я в него верю. Витя откровенно счастлив: он сдал экзамен на пятерку, и не кому-нибудь, а знаменитой Клавдии Ивановне, первоклассному хирургу, на счету которой двадцать тысяч операций. Теперь он абсолютно уверен в себе. Следующую жертву, моториста Володю Дугина, Витя будет оперировать сам, от начала до конца. Клавдия Ивановна будет стоять рядом и смотреть, только смотреть. Витя счастлив и беспричинно смеется. Нам весело и радостно на него смотреть. Мы вместе идем к каюте стармеха. Дед лежит на постели, чинный и серьезный, как святой. А над столом, уставленным всевозможной снедью, хлопочет Гриша Арвеладзе. Мы — это человек пятнадцать ближайших родственников — пьем за здоровье Бориса и с аппетитом закусываем. Мы едим, а он смотрит на нас горящими глазами голодного волка: у него сутки во рту не было маковой росинки. — Ничего, Дед, — успокаивает Саша Ачкинази, с наслаждением жуя копченую колбасу, — завтра мы тебе наварим манной кашки, и ты тоже набьешь свою утробу. Дед жалобно стонет. — И послезавтра манной кашки — отличная еда для отощавшего мужика! Я рассказываю, что академик Сергей Сергеевич Юдин после операции на желудке давал больному чарку спирта — для дезинфекции внутренностей. Клавдия Ивановна одобрительно кивает головой. В глазах у Деда загорается безумная надежда. — Это к тебе, Боря, не относится, — с иронией замечает Клавдия Ивановна. — Спокойнее, мой друг, потерпи еще… с недельку. Дед испускает разочарованный вздох и отворачивается. А потом мы долго, до поздней ночи, сидим с Клавдией Ивановной, и она рассказывает о своей жизни. Вот что я услышал от Клавдии Ивановны Кабоскиной, от нее самой, и от тех, кто ее знает. Совсем молодым врачом она ушла на фронт в первые дни войны, когда практики для хирургов было, увы, слишком много. Ей приходилось делать по двадцать пять операций в день — страшная цифра. Бывало, что отказывались служить ноги, перед глазами расплывались радужные круги, и тогда сестры делали ей уколы, приводили в чувство сильнодействующими средствами. Не работать было нельзя: лишний час сна мог стоить жизни раненому бойцу. Как и все труженики войны, Клавдия Ивановна работала на износ, и как о редком счастье вспоминает она о тех днях, когда можно было передохнуть, нормально, по-человечески поспать. В 1942 году она оперировала тяжело раненного комиссара полка Писаренко. Врачи приговорили его, но Клавдия Ивановна спасла комиссара и считает эту операцию самой сложной и волнующей в своей жизни. Писаренко долго разыскивал молодого хирурга и, найдя адрес, прислал ей письмо, которое так и пропало во фронтовой сутолоке. Где теперь этот человек, в излечение которого никто не верил, Клавдия Ивановна не знает. Может быть, он откликнется? В 1944 году во дворе госпиталя под Будапештом разорвался снаряд, и осколками буквально изрешетило пленного венгра. Друзья раненого молча внесли его в госпиталь и, увидев, что операцию собирается делать «девчонка», так же молча ушли. Шесть часов Клавдия Ивановна боролась за угасающую жизнь и победила. И когда венгры, все это время стоявшие во дворе в безнадежном молчании, узнали, что их товарищ будет жить, они так горячо и необычно благодарили «девчонку», что ей даже как-то неловко об этом вспоминать. — Понимаете, — смущенно рассказывает Клавдия Ивановна, — они подходили, по очереди становились на колени и целовали мне руки. Много жизней спасла Клавдия Ивановна и после войны, работая заведующей хирургическим отделением одной киевской больницы. Оттуда она в начале 1965 года и ушла в море, неожиданно для всех и для самой себя. А на море было всякое. И качка, которую сначала Клавдия Ивановна совершенно не переносила (она со смехом рассказывала про гамак, который повесили для нее в медпункте), и недоверие, с которым встретили на траулере женщину-врача, и сложнейшие операции, и всеобщее признание. Нынче о Клавдии Ивановне рыбаки говорят только в восторженных тонах: о том, как она бесстрашно, при любом волнении моря, прыгает в дорку; как выискивает у рыбаков малейшие намеки на заболевания, особенно связанные с хирургическим вмешательством; как излечивает болезни одним своим авторитетом. В доказательство приводят такой чуть ли не евангелический случай. На траулере «Муссон» один матрос лежал со столь жестоким приступом радикулита, что его психическое состояние начало внушать окружающим серьезную тревогу. Его мучили сильнейшие боли, которые никак не удавалось снять. Признав свое бессилие, судовой врач по требованию больного вызвал Клавдию Ивановну, которая, осмотрев страдальца, заявила ему: — Ну, дружок, хватит бока отлеживать. Вставай и иди! — Ты что, издеваешься? — завопил больной. — Я двинуться не могу! — Вставай и иди! — ледяным голосом повторила Клавдия Ивановна. — Ты совершенно здоров! Товарищи работают, а ты… Немедленно вставай! Потрясенный таким надругательством над своим седалищным нервом, больной встал… и пошел. И ходит до сих пор, счастливый. — Заурядная психотерапия, — смеется Клавдия Ивановна, давая пояснения по поводу чудесного исцеления. — Но в средние века меня бы сожгли на костре как колдунью. Клавдия Ивановна привыкла к рыбакам, и ей нравится здесь, на море, и необычность обстановки, и сами ребята, крепкие духом и телом, и ни с чем не сравнимая роль судового врача — единственной надежды попавшего в беду рыбака. Из бесед с разными людьми я установил, что, если бы не блестящие операции Клавдии Ивановны, по меньшей мере в шести рыбацких семьях на берегу был бы траур. Со всех судов на «Ореанду», как в хирургическую Мекку, сходятся на операции врачи, они учатся и восторгаются ювелирной работой «флагманского хирурга» — звание, присвоенное Клавдии Ивановне не штатным расписанием, а рыбацким фольклором. НА ДОРКЕ К АЛЕКСАНДРУ ХАРИТОНОВИЧУ Все-таки я неслыханно, сверхъестественно везучий человек. Едва лишь наша дорка направилась к «Балаклаве», как старпом Борис Павлович, заглянув в мои глаза, предложил мне стать рулевым. Вы представляете? Стать рулевым в открытом океане! Нет, вы этого не представляете, как сказал бы Гоголь, который, кстати, тоже этого не представлял. Так что в области вождения дорки в открытом океане я, безусловно, превосхожу великого писателя, хотя, с другой стороны, не гожусь в подметки любому матросу. Я поднял этот вопрос специально для того, чтобы великие люди не зазнавались. Быть может, в определенной области — в политике, сочинении рифм, в искусстве забивать шайбы они и в самом деле гениальны, но в смежных областях — игре в шашки, в вышивании болгарским крестом и вождении дорки в открытом океане — не более чем заурядны. И теперь, когда иной важный человек задирает нос, я сбиваю с него спесь простым и ясным вопросом: «Вы, — говорю я, — действительно крупная личность. Но скажите, умеете ли вы стоять за румпелем на дорке в открытом океане?» И важный человек немедленно тушуется, сознавая, что, имея такой пробел в своей биографии, он должен быть скромен и молчалив. Я знал одного такого, очень солидного человека, у которого на первый взгляд вовсе не было слабых мест: он умел выступать на собраниях, вырубать уголь, завинчивать гайки, сажать капусту и просто потрясающе разбирался в искусстве; но вдруг выяснилось, что он не умеет стоять за рулем, совершенно не умеет. И этому солидному человеку стало так стыдно, что он перестал со мною встречаться. Однако я отвлекся. Быть может, излишне красноречиво, но искренне поблагодарив Бориса Павловича за доверие, я уселся на корму и обеими руками крепко вцепился в румпель. Но старпом тут же откровенно сказал, что я совершаю позорный поступок. Оказывается, только слабонервные новички держат румпель руками. Настоящий моряк должен стать на корме и зажать румпель коленями. Причем по возможности небрежно. Я, разумеется, так и сделал, хотя, должен признаться, это оказалось сложнее, чем я думал. Стоять на самом краю стремительной дорки, да еще небрежно удерживать рвущийся из дрожащих колен румпель, да еще стараться сохранить равновесие — все это было очень свежее и предельно острое ощущение. К тому же было очень обидно, что никто не обращает внимания на мое героическое поведение, решительно никто. Лишь Борис Николаевич время от времени оборачивался и с неудовольствием замечал: — Маркович, дорку относит в сторону, вы следите за румпелем? Попробуй ему объясни, что я слежу не столько за румпелем, сколько за тем, чтобы не свалиться в море! 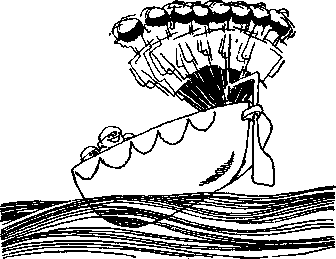 Однако я выстоял за румпелем мили три и под конец, хотите — верьте, хотите — нет, даже унял противную дрожь в коленках. Но когда я уже смаковал про себя, с какой отчаянной удалью развернусь и пришвартуюсь к «Балаклаве», Борис Павлович поднялся и сказал: — Ну, спасибо, теперь можете отдохнуть. Я с глубокой обидой уступил свое место, думая про себя примитивно-отсталую думу: «Так-то они всегда, начальнички! Ты вкалывай, а они сливки снимают!» Но обижался я недолго. Увидев, что такое швартовка, я понял, что неминуемо расшиб бы дорку о борт «Балаклавы». Встречали нас менее шумно, чем мы гостей с «Ореанды»: «Балаклава» — траулер, избалованный вниманием, он плавал все время в компании с другими судами и не успел соскучиться. Тем не менее мы один за другим бодро поднялись по штормтрапу (величественное название для веревочной с деревянными перекладинами лесенки!), причем я сделал это настолько лихо, что зацепился босоножкой за какую-то чертовщину и располосовал ее от края и до края. Оставшиеся до ухода домой дни я гордо носил эту зашитую обыкновенными нитками босоножку и на недоуменные вопросы небрежно отвечал: — Чепуха, разорвал, когда поднимался с дорки на «Балаклаву». — Что, штормило? — Э, говорить не о чем, баллов пять, не больше… В конце концов все узнали, где я разорвал босоножку, и, чтобы сделать мне приятное, спрашивали по второму разу. Или, показав глазами на прославленную обувь, коротко говорили: «На „Балаклаве“, значит?» И быстро убегали, пока я не начал рассказывать, как это произошло. А босоножка стоит теперь у меня дома на почетном месте, и вы можете ее осматривать по воскресеньям от 13 до 15 часов. Знаменитый Калайда внешне казался добродушным и совершенно домашним стариканом, из числа тех, кого Леонид Ленч называет «Тыбик»: «Ты бы, папуля, сходил с внучком погулять, ты бы, дедушка, сбегал за свежей булкой». Вот такого типа старикан, добрый такой, с походкой и манерами настоящего дедушки. Едва мы вошли в его каюту, как он тут же пожаловался на ноги, сердце, бессонницу и вообще на недомогание. Я уже было расчувствовался и даже раскрыл рот, чтобы посоветовать дедушке полечиться в санатории, но Аркадий Николаевич шепнул: «Это у него для затравки». — Вот так-то, сынки, — продолжал скрипеть Калайда, — годы не те. Не те годы, так-то. Годы — они свое берут. Берут, берут… Вы молодые, образованные (Аркадий Николаевич тут же сделал мне знак: «Сейчас начнется, следите!»)… Гм, гм… образованные, значит. Куда нам, старикам, за вами гоняться! Рыба — она к молодому идет, к молодому… как баба. Глаза у Харитоныча буквально засветились от хитрости. Он покашлял, быстро взглянул на Шестакова и Боголюбова и остался доволен впечатлением. Молодые капитаны почтительно слушали своего учителя, сдерживая улыбки: уж они-то знали, чего стоит такая самокритичность! Калайда, подведя свою «Балаклаву» к Рас-Фартаку, за один месяц выловил больше, чем остальные траулеры за два. Он таскал полные тралы даже тогда, когда ни у кого вовсе не было рыбы. В каких только переделках не побывал Харитоныч! И план ему увеличивали, и траулер старый подсовывали, и команду давали неопытную — Калайда скрипел, ворчал, жаловался на жизнь и морозил рыбы больше всех. — Без образования — разве рыбак? — сокрушался старик, весьма довольный тем, что ему не помешали оседлать любимого конька. — Особливо без этой… без философии. Аркадий — он Канта знает, ему и рыба в руки. — Харитоныч засопел. — Философия — она для рыбака первое дело! Самое, можно сказать, наипервейшее, философия и эта… как ее?.. наука логика. Широкое морщинистое лицо Харитоныча дрогнуло, он покашлял, встал и побрел к холодильнику. На свет появились красная икра, колбаса, масло и четыре бутылки боржома. Искоса взглянув на нас, Харитоныч на мгновенье задумался, покачал головой и сделал решительный жест. — Ради дорогих гостей… — забормотал он. — А то, может, боржомом обойдемся, сынки? — Конечно, конечно, — поддержали все фальшивыми голосами. — Да, уж так и обойдетесь, — проворчал Калайда, извлекая из тумбочки бутылку шотландского виски. — Только уговор: по одной рюмочке! Алкоголь, сынки, вредная штука. Калайда выполнил свою угрозу, и чуть начатая бутылка виски перекочевала на свое место. Но разговору это нисколько не помешало. Александр Харитонович, один из самых старых и опытных капитанов рыболовного флота, умен настоящим природным умом. Я с большим интересом слушал, как он, оставив в покое философию, излагал свое рыбацкое кредо. — Фишлупа — оно, сынки, хорошее дело, здорово помогает, только я рыбу чую нюхом. А что такое рыбак без нюха? Испортилась фишлупа — и садись, значит, закуривай? Дальше. Ваера проверь в десять дней раз — это одно. Трал по ячеечке перебери — это два. Доски сто раз проверь, чтоб горизонтально трал раскрывали — это три. И к этому — нюх: когда трал вытаскивать. Сию минуту, через час или через два? А может, я давно с полным тралом иду? Вот где нюх-то нужен! Ты, Николай, сколько тралений в сутки делаешь? Десять? То-то, сынок. Мало. А я — двенадцать! Хотя Шестаков и Боголюбов слушали наставления Калайды не в первый (и не в десятый) раз и, наверное, знали его принципы наизусть, монологу Харитоныча внимали с подчеркнутым уважением. Все чувствовали, что старик глубоко уязвлен перспективой длительного лечения, а то, быть может, и вообще расставания с морем. Наконец-то в полный голос напомнила о себе война, когда раненый солдат морской пехоты Калайда обморозил ноги: они теперь переступают неохотно, сильно болят, и дойти от каюты до кормы Харитонычу куда труднее, чем когда-то с пулеметом на плечах совершить многокилометровый марш-бросок. Штурмует радиограммами жена, требует возвращаться, и отворачивает в сторону глаза врач, когда капитан прямо спрашивает, выдержит ли он до конца рейса. Мы видим, что Харитоныч расстроен и неумело скрывает это напускной веселостью. Он подшучивает над своими ногами, кроет их в хвост и в гриву. — Вот, смотрите, сын тоже подключился к кампании… Это радиограмма сына Калайды, капитана БМРТ «Чернышевский»: «Дорогой батька зпт береги себя зпт не ходи больше в море тчк Тебе нужна постоянная забота матери тчк Конце сентября буду дома зпт твой внук принес пятерку зпт обнимаю Саша». — А как вы думаете, сынки, уйдет Калайда на сушу с авоськой по гастрономам шататься? — спрашивает Харитоныч, подмигивая. И, не дожидаясь ответа, ворчит: — Мы еще побачим, будет ли Калайда ходить с авоськой… Капитаны наперебой успокаивают Харитоныча, уговаривают его пересесть на «Шквал» и месяц-другой полечиться, а потом снова уйти в море. Но Калайда угрюмо молчит. Всем ясно, что дело сложнее, что старый капитан очень болен и что держится он на могучей силе воли и любви к морю, к своей рыбацкой профессии. И сам Калайда это знает, но никогда и никому этого не покажет. И только один раз он не выдержит — буквально на две секунды, не больше — когда простится с командой и перейдет на «Шквал». Но несколько самозваных и чужих слезинок быстро спрячутся в глубоких морщинах его лица. И никто их не заметит; во всяком случае, говорить о них никто не будет, потому что всем ясно, что они случайны… Мы возвращались в полной темноте. Куда-то спрятался наш «Канопус», и долго, больше часа, шла одинокая дорка по ночному океану. Только мы, звезды и океан — больше никого во вселенной. Я думал о том, какое невероятное ощущение одиночества испытал один из легендарных героев нашего века, Ален Бомбар. Все-таки нет большей муки для человека, чем лишиться общества себе подобных, остаться один на один с самим собой, с беспредельной природой. Беспримерен подвиг Робинзона, но он вынужден был пойти на него. А каким мужеством нужно обладать, чтобы сознательно бросить вызов самой коварной стихии — океану, чтобы на утлой резиновой лодчонке, которую могла легко опрокинуть или разрезать плавником акула, пересечь тысячи бушующих миль! И почему только поэты пишут о своих переживаниях, добытых в пределах Садового кольца, почему они не видят такой темы, как Ален Бомбар? Почему Икар, бросивший вызов тяготению, удостоился прекрасной легенды, а Бомбар, в одиночестве победивший океан, известен лишь благодаря своей книге и газетной хронике? Неужели я восторженный слепец и Бомбар не высшее проявление человеческого духа? Я думал об этом, стоя в ревущей дорке рядом с Шестаковым. Он тоже был задумчив. А потом мы долго, до самого возвращения на «Канопус», говорили о Бомбаре, о жизни вообще и о горе капитана Калайды. А еще потом Аркадий Николаевич вдруг начал читать Есенина, одно стихотворение за другим. Он читал удивительно хорошо — возможно, так мне казалось тогда, в ночной тьме, и трогательно, нежно звучали в разорванной тиши гениальные есенинские строки: Не жалею, не зову, не плачу, Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охваченный, Я не буду больше молодым… КАПИТАН АРКАДИЙ ШЕСТАКОВ Время от времени я спохватываюсь и перечитываю написанное. Больше всего на свете я боюсь ляпнуть какую-нибудь чушь. Об этой опасности меня в первый же день предупредил Аркадий Николаевич в присущей ему мягкой и деликатной форме. Он рассказал, что один журналист, возвратясь из морского путешествия, написал в общем-то сносную книжку, над которой теперь смеются все рыбаки. И все из-за одной фразы: «Каюта старпома находилась на солнечной стороне с видом на море». Эта чудовищно нелепая, невежественная фраза покрыла беднягу автора несмываемым позором. Отныне и во веки веков моряки уже не будут серьезно относиться к этому человеку. «Каюта старпома находилась на солнечной стороне с видом на море», — эти слова я произношу, как заклинание, начиная очередную главу. Пиши то, что видел и знаешь, иначе прослывешь последним ослом — такую мораль выудил я из этой истории. Поэтому, не желая стать всеобщим посмешищем, я ни единым словом не обмолвлюсь о таких недоступных моему пониманию вещах, как работа машинного отделения, рефрижераторных механизмов и локаторов. Кроме того, капитан посоветовал употреблять поменьше морских терминов: с этими фок-мачтами и клотиками можно такого нагородить… Напоследок капитан дал мне еще несколько советов, которые я принял, и высказал одну просьбу, которая заключалась в том, что о нем, капитане Шестакове, писать не надо — так будет лучше. Разумеется, эту просьбу я пропустил мимо ушей: не потому, что я такой уж черствый и бессердечный, а просто потому, что мне нужна глава о капитане Шестакове. Без нее мне не свести концы с концами в рассуждениях об интеллигенции на море — теме, которая кажется мне существенно важной. 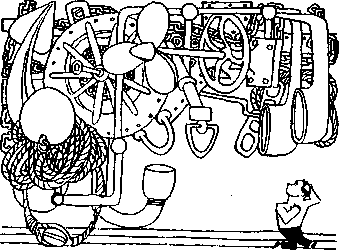 Внешне капитан очень мало похож на традиционного морского волка. Точнее, совсем не похож на эталон, который создал Джек Лондон в образе Волка Ларсена. Шестаков скорее напоминает аспиранта филолога, готовящего диссертацию, но не забывающего, что, кроме науки, в жизни есть такие интересные вещи, как разговор с друзьями, театры, шахматы и хорошее вино — в разумных дозах. Есть люди, которые, попав в рабочую среду, стыдятся своей интеллигентности: нарочито грубо разговаривают, по каждому поводу вставляют соленые словечки, одеваются неряшливо— словом, выдают себя за чертовски простых ребят, «своих в доску». К таким относятся плохо, с ироническим презрением. Современная рабочая среда таких не принимает — слишком сильно от них разит фальшью. Сегодняшний молодой рыбак обязательно где-то учится, впереди у него перспектива стать механиком, штурманом, технологом и тралмастером, и он, общаясь с более образованным человеком, хочет услышать от того умную мысль, а не скабрезный анекдот. Так вот, Аркадий Николаевич прежде всего очень интеллигентен — в самом хорошем смысле слова. Я сейчас поясню, что имею в виду, делая это уточнение. Даже сегодня, когда образованием никого и нигде не удивишь, к слову «интеллигент» иной раз относятся предвзято. В понимании некоторых людей — это Клим Самгин, брезгливо моющий руки после прикосновения к жизни и постоянно делающий «восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя». Безусловно, такие интеллигенты есть и сегодня, и среди них очень интересные. Ведь и Клим Самгин часто высказывал превосходные мысли, несмотря на все старания Горького изобразить своего героя типичной посредственностью. И такие люди, наверное, останутся и завтра и послезавтра; именно из них получаются философы — не те, которые переделывают мир, а те, кто пытается объяснить его. Однако Климов Самгиных всегда не любили и никогда любить не будут. Их существование слишком резко фиксирует разницу между умственным и физическим трудом, которая еще останется надолго. Они только мыслят, и часто без отдачи, — это справедливо раздражает, а иной раз приводит к совершенно неверным обобщениям. Потому что сегодня 999 из тысячи интеллигентов — это труженики. Конструкторы, поглощающие литры кофе, чтобы успеть к сроку закончить проект, редакторы, правящие верстку, пока слова не начинают плясать перед глазами, врачи, прыгающие с парашютом, — пусть кто-нибудь скажет, что эти люди не труженики! Да, среди них встречаются такие, которые не умеют держать в руках отвертку и вызывают мастера, когда нужно привернуть кран. Они стыдливо раздеваются на пляже — костюм все-таки маскирует полное отсутствие мускулов. Но не будьте к ним слишком строги: они за день перебросили тонны мыслей — работа, от которой пухнут не руки, а голова. Они не сумеют на воскреснике вырыть яму, но зато в своем рабочем кабинете придумают шагающий экскаватор, откроют новую элементарную частицу и поставят правильный диагноз. И все-таки, отдавая дань уважения этим людям, мы больше восторгаемся Мак-Алланом Бернгарда Келлермана, широкоплечим атлетом, который придумал и построил грандиозный туннель. Так уж мы устроены, что любой, самый интеллигентный человек в наших глазах становится выше, если он умеет забивать гвозди, играть в футбол и тащить с рынка рюкзак картошки. И это, наверное, справедливо, потому что одна лишь гармония совершенна. Сайрус Смит для нас всегда останется симпатичнее Клима Самгина, а молодой ученый Валерий Попенченко — неизмеримо выше только боксера Сонни Листона. Так представьте себе человека, который в школьном возрасте прочитал Бальзака и Достоевского, который умеет отлично спорить о живописи и поэзии, об относительной истине, смысле жизни, классической музыке и физиках и лириках; человека, который, прервав этот спор, идет на корму шкерить рыбу и делает это так здорово, что за ним не угнаться самым опытным матросам; человека, влюбленного в море и в свою профессию рыбака. Я не собираюсь сооружать для капитана Шестакова пьедестал — мне удалось познакомиться в море и с другими очень интересными людьми, настоящими интеллигентами — с Александром Сорокиным, Володей Ивановым и Иваном Голубем, с капитанами Николаем Боголюбовым, Анатолием Семеновым, Александром Мельниченко и Клавдием Улановским, культурными и начитанными моряками, умеющими широко мыслить. Со стыдом признаюсь, что я не ожидал встретить в море людей, великолепно знающих Есенина и Пастернака, Бальзака и Мольера, Пикассо и Сурикова. Я не хочу сказать, что мои собеседники были искусствоведами, но они образованны достаточно широко, чтобы сбить спесь с сухопутных гордецов, не представляющих себе, что такое современный рыбак. Так что Шестаков — это не исключение. Прошло то время, когда для того, чтобы командовать рыболовным суденышком, достаточно было уметь вычислять курс и знать рыбьи повадки. Нынешний траулер — это плавучий завод, а капитан его — капитан-директор. Очень многозначительная приставка. Чтобы стать директором, нужно знать многие важные вещи: прибыль, хозрасчет, дебет и кредит, организацию производства и финансы. Нужно владеть языком, чтобы лично объясниться с представителями торговых фирм в иностранных портах. Нужны культура и кругозор, чтобы уважал экипаж, который состоит из матросов со средним образованием. Капитан Шестаков, в двадцать шесть лет сделавший блестящую для рыбака карьеру, очень веселый человек. Он обладает счастливым даром шутить тогда, когда это необходимо, когда юмор спасает. Мне нравилось, что Аркадий Николаевич в самые безрыбные дни не изменял своему сангвиническому темпераменту. Юмор расходился от него концентрическими кругами, поднимая жизненный тонус команды. Мне так и не удалось найти повод, чтобы процитировать ему рефрен популярной песни: «Капитан, капитан, улыбнитесь». Когда нервы натянуты до предела и вот-вот ждешь какого-то взрыва, капитан вдруг начинает рассказывать о своих проделках в мореходном училище, и нервы расслабляются, как вожжи: слышится хмыканье, потом смех — напряжения как не бывало! Я помню, как Аркадий Николаевич предотвратил ссору двух друзей, рассказав в самый кульминационный момент историю своей любви. Лежа на операционном столе, он влюбился в ассистентку хирурга, удалявшего ему аппендикс. Далее следовали очень веселые подробности, которые приводить я не имею права, поскольку ассистентка ныне заботливая мама двух маленьких Шестаковых. Я бы мог рассказами Аркадия Николаевича заполнить два печатных листа, но, на свою беду, убедил капитана не раздаривать сюжеты корреспондентам, а использовать их самому. Кое-что, впрочем, мне перепало. Вместе с тем Шестаков очень серьезный человек. Раз и навсегда выбрав себе профессию, он постоянно совершенствуется в ней, не стыдясь учиться у каждого, кто в состоянии что-то ему дать, особенно у старых капитанов, которые недостаток образования пока еще компенсируют интуицией и огромным опытом. Он смел и принципиален — это не для красного словца. Очень характерен один эпизод, о котором мне рассказывали человек десять, — значит, он запомнился.  Шесть лет назад двадцатилетний Шестаков вышел в море матросом-практикантом, а по окончании рейса должен был стать штурманом. Через полгода траулер пришел в Севастополь, и Шестакову достаточно было протянуть руку, чтобы взять заветный диплом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|||||||