 |
|
Популярные авторы:: Joyce James :: Андерсон Пол Уильям :: Раззаков Федор :: Лондон Джек :: Желязны Роджер :: Тэффи Надежда :: Лавкрафт Говард Филлипс :: Толстой Лев Николаевич :: Пермяк Евгений Андреевич :: Саймак Клиффорд Дональд Популярные книги:: The Boarding House :: Бурый волк :: 64 килобайта о Фидо :: Сорок бочек арестантов :: Записные книжки (1925—1937) :: Хемингуэй :: Мальтийский сокол :: 1-е МАРТА 1917 года :: Падение Томаса-Генpи :: Ловля сазана на закидную удочку |
Кому улыбается океанModernLib.Net / Природа и животные / Санин Владимир Маркович / Кому улыбается океан - Чтение (стр. 5)
Гриша от возмущения просто не находит слов. Он уже забыл, что первый помощник портит ему людей и срывает план, он видит теперь в Сорокине человека, который усомнился в Котрикадзе — величайшем вратаре мира. — Твой Банников, — находится Гриша, — тоже дыра! И, бросив торжествующий взгляд на закашлявшего Сорокина, начпрод победителем выходит из каюты. Гриша бесконечно предан идеалам судовой торговли, хотя мне думается, что если бы он завел собственное дело, то неминуемо обанкротился. Когда под рукой нет заборной книги, Гриша всем верит в долг. В судовой лавке каждый может взять в сумку сигареты, конфеты, пасту, фотопленку, и Гриша записывает количество товаров со слов покупателя. Несмотря на педантичную, точно по инструкции выдачу соков и сухого вина, Гришу на «Канопусе» любят и относятся к нему доброжелательно. Этому способствуют и его смешная речь, и энергичная жестикуляция — Гришины руки говорят не хуже, чем его язык. В каюту входит Пантелеич. Его лицо равнодушно и бесстрастно, но что-то в Пантелеиче сейчас есть такое, что заставляет меня насторожиться. Я убежден, что готовится какой-то подвох. — За шахматы уселись? — домашним голосом говорит Пантелеич. — Ну, ну… Шахматы — они, конечно, интереснее… Пантелеич поворачивается и медленно движется к двери. Затылок его напряжен. — Интереснее, чем что? — спрашиваю я. — А, пустяки. — Пантелеич пренебрежительно отмахивается. — Не сравнить с шахматами. Ну играйте… Движение к двери продолжается. — Но что же все-таки? — допытываюсь я. — Да так, — нехотя выдавливает Пантелеич, — говорить не о чем. Киты… Я пулей выскакиваю из каюты в рулевую рубку. Кто-то подает мне бинокль, и я, даже забыв поблагодарить, шарю по горизонту. Никаких китов. Ну, если это розыгрыш — берегись, Пантелеич! — Кит! — раздается идущий из самых глубин души вопль доктора. — Я вижу настоящего кита! Я вижу двух китов! Трех! Ух! Я чуть не плачу от досады. Вдруг сердце екает: вдали, в миле от нас, из океана вырывается фонтанчик. Один, другой… Киты! Да здесь их целое стадо! Не отрываясь от бинокля, жму Пантелеичу руку. Он смеется и направляет «Канопус» в сторону фонтанов. Я вижу, как из воды высовываются огромные туши, и не верю своим глазам. Шутка ли сказать — киты! Ловлю себя на том, что начинаю впадать в детство. В голову назойливо лезут знаменитые стихи: «Папа спит, папа храпит, а из-под подушки вылезает кит и говорит: „Папа спит, папа храпит“. Мы с Витей возбужденно считаем фонтанчики, сбиваемся, снова считаем. Их не меньше двадцати пяти — тридцати. Видавший виды Слава Кирсанов, который несколько недель проходил практику в Атлантике, на глазок взвешивает китов и определяет их размеры. — Разве это настоящие киты? — пренебрежительно говорит он. — Лилипуты какие-то, метров по двенадцать—пятнадцать, не больше. Эх, пушку бы нам гарпунную! За день квартальный план бы выполнили! Я молчу и думаю про себя, какое это большое счастье, что у нас нет гарпунной пушки, что мы не китобои. Я сознаю, что это глупо, но избиение огромных, мирных и беззащитных животных, наверное, невыносимо жестокое зрелище. Мне жаль китов, их становится все меньше и меньше, и скоро они совсем исчезнут, как исчезли зубры и бизоны, бездумно и беспощадно перебитые людьми. Рыба — другое дело, она существо низшего порядка. И запасы рыбы неисчерпаемы — с точки зрения сегодняшних масштабов добычи. Но когда я читаю или слышу рассказы о добыче китов, мне становится не по себе. Знаю, что это нужно, что киты ценное сырье и прочее, и все-таки не могу заставить себя относиться к ним только утилитарно. Слоны тоже считались ценным сырьем, и били их когда-то, как бьют сегодня китов, но люди вовремя опомнились, осознав, что будущие поколения не простят уничтожения этих добродушных гигантов. Согласитесь, что смотреть, разинув от удивления рот, на живого слона куда приятнее, чем на его чучело в музее. Я совсем не хочу бросить тень на китобоев — это отважные люди, делающие свое дело. И все-таки надеюсь, что настанет время, когда люди оставят китов в покое, и бывшие китобойные суда выйдут в море, вооруженными тралами, а не гарпунными пушками. Почти вся команда вышла полюбоваться чудесным зрелищем. Аркадий Николаевич и Пантелеич под общее одобрение сочиняли для меня текст радиограммы в редакцию. — Заголовок нужен такой: «Кит-обманщик»! И дальше: «Удивительное происшествие! Только что встретили старого, седого кита, задумчиво бороздившего спокойные воды Индийского океана. На вопрос вашего корреспондента кит ответил, что ему уже около трехсот лет, а весит он двести тонн. Животное бегло говорило на английском языке XVII века — правда, с сильным иностранным акцентом. Однако утверждение кита, что он может умножать в уме трехзначные цифры, было поставлено под сомнение. Когда штурман Биленко предложил ему решить пример, кит покраснел как рак и под обидный смех присутствующих быстро погрузился в воду». Предлагались и другие варианты корреспонденции, но я уже не слушал: один кит начал двигаться прямо к траулеру, то погружаясь в воду и пуская фонтанчики, то выскакивая на поверхность. Затаив дыхание я следил за его перемещениями. Вот кит уже вынырнул метрах в двухстах от «Канопуса» и снова ушел в море. — Смотрите внимательно, — предупредил капитан, — полагаю, что в следующий раз он вынырнет примерно здесь. И Аркадий Николаевич показал рукой на точку в пятидесяти метрах от судна. Витя взвел затвор моего «Зенита» — я полный профан в фотографии и не решился взять на себя ответственность за такой кадр. Помните ли вы то место в Шестой симфонии Чайковского, когда почти притихший оркестр вдруг бурно взрывается? Сколько бы вы ни слушали симфонию, этот взрыв всегда будет неожиданным. Не отрываясь мы смотрели в точку, указанную капитаном, но, когда кит вынырнул и подпрыгнул, остолбенели от неожиданности — точнее, от неожиданной фантастичности этого прыжка. Кит взлетел в воздух совсем рядом с нами, взвился, сделал стойку, как собака, и словно замер, стоя вертикально на хвосте. Мгновенье — и двенадцатиметровый гигант, показав нам светло-серое брюхо, с шумом рухнул в воду.  И тогда Витя нажал на спуск. Он опоздал лишь на долю секунды, и это было непоправимо, как опоздание на самолет, на последний поезд метро, в магазин, который перед вашим носом закрыли на обед. Редчайший кадр, который мог бы украсить обложку «Огонька» и обречь на хроническую бессонницу репортеров всего мира, погиб безвозвратно. Я метался, стонал и рвал на себе волосы. Я был так неутешен, что Витя, сам убитый горем, тут же торжественно поклялся, что именно я, а не Саша Ачкинази, буду ассистировать ему на первой же операции. Это уже несколько примиряло с действительностью, а стакан холодного сока, принесенный заботливым доктором, окончательно вернул меня к жизни. Комментируя мальчишеское поведение кита, Аркадий Николаевич заметил, что такой прыжок он видит второй раз в жизни, и явление это очень редкое. Несколько забавных случаев, связанных со странностями китов, рассказал Слава Кирсанов. Как слонов преследуют разные мухи и блохи, так и китам портят жизнь малюсенькие рачки. Они забираются в складки на брюхе кита и устраиваются там со всеми удобствами, обрастая мелкобуржуазным бытом. Иногда киты пытаются выселить своих квартиросъемщиков при помощи прыжков, вроде того, который мы только что видели. А другие киты подплывают к судну и трутся о борт ниже ватерлинии — на нервных пассажиров это производит большое впечатление, так как по судну в это время идет такой треск, словно оно попало на подводные рифы. Слава рассказывал, что старые, опытные киты позволяют себе посмеяться даже над своими самыми страшными врагами. Незаметно подкравшись к китобойцу в мертвую зону и оказавшись вне досягаемости гарпунной пушки, они подплывают к борту и используют его, как мочалку. Насладившись яростными воплями беспомощных врагов, шутники исчезают в неизвестном направлении. Встреча с китами развязала языки, и в этот день я наслышался много разных морских историй. Анатолий Тесленко вспоминал о гигантской черепахе, на которой матросы катались по корме, а боцман Трусов — о морских львах, попадавшихся в прошлом атлантическом рейсе. Освободившись из трала, они отряхивались и начинали непринужденно разгуливать по палубе. Львы чувствовали себя в полной безопасности — они хорошо знали, что их добыча запрещена, а браконьерство наказывается штрафом в размере 200 фунтов стерлингов за каждую шкуру. С детской любознательностью они совали свои мокрые носы во все щели, охотно позировали перед фотоаппаратом и бурно негодовали, когда их силой сбрасывали в море. Особенно запомнился один лев, до невозможности невоспитанный и даже наглый. Несколько раз он цеплялся за трал, поднимался на корму и начинал бегать по судну, с воем отбиваясь от преследователей. Но однажды ему удалось прорваться в коридор, и четверо матросов с трудом оттащили его от камбуза. После этого происшествия шкуру хулигана пометили суриком, и отныне сталкивали в слип без всяких дипломатических церемоний. Ребята сменялись с вахты, переодевались и шли на пеленгаторную палубу, где стихийно начался «вечер художественной травли». Шел один из любимых номеров программы: рассказ Гриши Арвеладзе о том, как он сдавал экзамен по географии. — Учителка меня спрашивает: какой фауна в Австралии? А откуда я знаю, какой фауна в Австралии? Я малчу, она малчит, все малчат. Я ей гавару: хочешь, я тебе скажу, какой фауна в Грузии? Нет, гаварит, скажи, какой в Австралии. Тогда один в классе делает мне знак руками: прыг, прыг, вот так. Ну, раз фауна прыгает, значит, кто? Я ей гавару: лягушки! А она гаварит: двойка тебе за лягушки! Кролики и кенгуру, а не лягушки! Гришино выступление проходит с неизменным успехом. Рассказчики меняются один за другим. Тепло принимает аудитория и рассказ Александра Евгеньевича о шести студентах-практикантах. Прибыв на судно, они робко попросили стармеха дать им какую-нибудь работу. Дед оказался чутким и отзывчивым человеком. Он подумал и предложил ребятам перетащить дизель на один сантиметр вправо. Студенты вцепились в конец и добросовестно потели до тех пор, пока не смекнули, что сдвинуть с места наглухо закрепленный дизель весом в полторы тонны им не удастся за целое столетие. «Вечер травли» Аркадий Николаевич завершил рассказом, стенографическая запись которого следует ниже. «— Уникальное блюдо. В прошлом году, когда «Канопус» бродил по Персидскому заливу, кто-то распустил слух, что самое вкусное блюдо, перед которым меркнет все на свете, — это консервированная соленая креветка. Обычная вареная креветка нам порядком надоела, и Чиф (обычное прозвище старпома на судне) , отчаянный гурман, решил изготовить консервы. Он затолкал в большую банку килограммов пять отборной креветки, промыл забортной водой, сверху насыпал крупной соли, любовно обтер банку ветошью и накрепко завинтил крышку. Мы стояли вокруг и изо всех сил изводили его советами, но Чиф сжал зубы и не проронил ни слова. — На коленях будете ползать — не дам! — наконец заявил он и отнес драгоценную банку в рулевую рубку. Таинственная торжественность, с которой консервировалась креветка, разожгла любопытство всего экипажа. Вокруг банки начали ходить легенды. Говорили, что Чиф знает какой-то секрет и засыпал в банку особый состав, который делает креветку необыкновенно вкусной. А Чиф ходил по судну надутый и важный, как будто он только что поймал одним тралом пятнадцать тонн креветки — мечта всех рыбаков — или дал адмиральского козла — мечта всех козлятников. Через несколько дней, когда я утром вошел в рулевую рубку, Чиф, здороваясь, как-то по-особенному, загадочно улыбался. На лоцманском столике возвышалась банка с креветками, а на расстеленной бумаге лежало несколько ломтиков поджаренного хлеба. Я хотел было побранить старпома за неуважение к рулевой рубке, что, мол, за обжорку здесь устраиваете, но желание отведать экзотическое блюдо удержало меня от строгого соблюдения морских традиций. Но вот Чиф подошел к банке, подмигнул нам и подковырнул ножом крышку. Наши носы дружно сдвинулись к банке, чтобы втянуть волшебный аромат… Полчаса спустя, окончательно придя в себя, я понял, что произошло. А тогда раздался взрыв, мимо наших носов со свистом пролетела крышка, рубку заволокло голубоватое облако. Мы тут же рухнули на пол, корчась в предсмертных судорогах, и только Чиф, который ухитрился схватить насморк, не смог ощутить всей гаммы, букета засоленной при сорокаградусной жаре креветки. Но все же он догадался открыть настежь дверь рубки и впустить свежий воздух, который долго не мог пробиться сквозь густую пелену сероводорода, аммиака и, наверное, всех других зловонных газов. 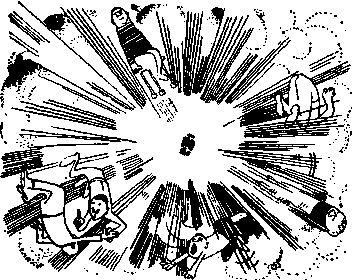 Наконец, избавившись от кашля, удушья и конвульсивного, идиотского смеха, мы выбрались на свежий воздух. За нами величественной походкой вышел Чиф, неся в руках свою банку, в которой что-то еще клокотало. Банка полетела за борт, и вода кругом запенилась и забурлила, стала менять окраску, как осьминог на палубе. Несколько дельфинов, которые мирно резвились неподалеку, сумасшедшими прыжками ринулись в сторону, отплевываясь на ходу. Наконец банку проглотила голодная акула-пила. Потом она три дня ходила за «Канопусом», рядом с иллюминатором медпункта, пока мы не догадались, в чем дело, и не бросили несчастной несколько пачек анальгина. О ее судьбе я больше ничего не знаю». — Насчет акулы вы, Николаич, малость того… — усомнился один из слушателей. — Цитирую Марка Твена, — невозмутимо ответил капитан: — «Такова эта правдивая история. Кое-что, впрочем, я выдумал». ДОКТОР КОТЕЛЬНИКОВ Полдень. Все свободные от вахты спасаются от зноя в каютах. На солнце, наверное, под пятьдесят градусов, в каютах — двадцать. Будь благословен во веки веков, несравненный и любимый кондишен! Только твоя божественная прохлада умиротворяет в тропиках наши северные души. Ты охлаждаешь тела и виноградный сок, ты возвращаешь нас в осеннюю Россию, заставляя на ночь укрываться теплым одеялом (а Володю Иванова— двумя). Благодаря тебе мы при желании можем даже мерзнуть — экзотическое удовольствие для людей, которые только что жарились на адской сковороде. Обливаясь потом, я сочиняю про себя гимн кондишену. Под руководством Валерия Жигалева мы с доктором вяжем трал на пеленгаторной палубе: неугомонный тралмастер в кабинетной тиши разработал новую конструкцию, которая позволит нам добиться неслыханных уловов, — Валерий в этом абсолютно уверен. Вообще-то говоря, трал уже готов — Вите и мне доверена только обвязка крайних ячеек, но для выполнения и этой несложной операции Валерий проводит длительный инструктаж. Он учит нас вязать узлы. — Беседочный узел вам еще пригодится, — поясняет он, делая хитрые манипуляции капроновой бечевкой, — для моряка он едва ли не самый важный. Смотрите: раз, два, три — и готово. — А для чего он может пригодиться? — интересуемся мы. — Чтобы спасаться, например, — хладнокровно отвечает Валерий. — Допустим, вы засмотрелись на акулу, перегнулись через борт и шлепнулись в воду. Тогда я бросаю вам конец, и вы должны обвязаться именно этим беседочным узлом. Вот так… Наше внимание обостряется. Мы с повышенным вниманием изучаем этот благородный беседочный узел. Валерий сначала возмущается нашей бездарностью, но в конце концов добивается того, что мы вяжем узел, как автоматы, с закрытыми глазами. Затем, дав нам последние инструкции, он уходит на корму, где работы всегда непочатый край: нужно дюйм за дюймом проверить трал, подвязать новые кухтыли вместо побитых, и прочее, и прочее — старшему тралмастеру для выполнения своих обязанностей не хватает двадцати четырех часов в сутки. Мы с Витей, переговариваясь, приступаем к работе. С первых же дней плаванья Витя горько жалуется на свою несчастную судьбу: у него нет практики. — Разве это жизнь? — хнычет он, ожесточенно орудуя деревянной иглой. — С позавчерашнего дня в амбулаторию никто даже не постучался. Не врач им нужен, этим голубчикам, а хороший тренер по боксу. Буйволы здоровые! И какой черт дернул меня согласиться на распределении? — Юристы в таких случаях говорят: «Господи, пошли мне кошмарное преступление», — поддразниваю я Витю. Но он меня не слушает. — Пока я здесь пальцы перевязываю, — продолжает хныкать доктор, — мои бывшие сокурсники имеют, что ни день, аппендицит, грыжу, а то и язву желудка. А тут хоть бы вывих какой, так и этого нет. Попал, как кур во щи… — Ничего, Витя, — успокаиваю я несчастного друга, — вот увидите, скоро Дед ляжет на операцию, он уже почти согласился. Лучше бы я об этом не вспоминал. Витя взвился на дыбы. — Дед — типичный эгоист! — закричал доктор. — Он думает только о себе! «Почти согласился» — ишь, какой нежный! Он должен лечь на операцию! Я напишу заявление в партбюро — пусть его обяжут! Я подам официальный рапорт капитану. Хоть это и бестактно, я не могу удержаться и кощунственно смеюсь над Витиным горем. Вот уже две недели доктор гоняется за Дедом по всему судну. Стармех прячется, запирается в своей каюте и жалуется всем, что при виде доктора у него и в самом деле начинаются аппендицитные боли. Витя Котельников — великолепный собеседник, красавец и умница. Но здесь ему труднее всех: у него действительно мало работы, и Вите часто бывает скучно. Он проводит обследования, выполняет общественные поручения, выходит на подхваты — и все-таки свободного времени остается много. Но что поделаешь, если рыбаки не желают и не умеют болеть, и — неслыханное вероломство! — легкие ранения перевязывают сами, подручными средствами. Хороших спортсменов на судне набралось столько, что хватило бы на сборную для целого города — разве такие ребята побегут жаловаться доктору на сердце, повышенное давление и переутомление? Была у Вити надежда на стариков, которым за тридцать. И что же? Александр Евгеньевич оказался боксером-перворазрядником, входившим в первую десятку на первенстве страны, а Коля Цирлин — мастером спорта по вольной борьбе. Лишь один я по долгу дружбы время от времени подбрасывал доктору кое-какую практику. Есть у Вити еще одно горе: он полнеет. Его не утешает то, что в весе прибавляют все: отличное питание, работа и морской воздух делают свое дело. Витя переживает, что его повышенная упитанность может не заслужить высочайшего одобрения Ириши, и по нескольку раз в день делает зарядку с десятикилограммовыми гантелями, толкает двухпудовую гирю и бегает по палубе. Но от всего этого мощное Витино тело наливается новыми соками, и доктор изводит себя диетой. Он мужественно отказывается от первых блюд, не ест хлеба и ходит голодный до тех пор, пока плоть не поднимает бунт. Тогда, махнув рукой на диету, Витя уминает блюдо креветки, снимает обеденные ограничения и несколько дней ходит счастливый. Но потом он замечает, что Ириша с фотографии укоризненно на него смотрит, и угрызения совести снова сажают Витю на диету… Часа через полтора приходит Валерий, проверяет нашу работу и ставит четверку с минусом — на два балла больше, чем я ожидал. Затем нежно, как кошку, гладит капроновую сеть. — Доктор, смотри, — смеется Валерий. — Твой приятель! На палубе появляется сутуловатая фигура в голубой пижаме. Это из машинного отделения вышел размяться Дед. Увидев бегущего к нему доктора, он позорно покидает поле боя. — Ничего тебе не поможет! — кричит ему вслед Витя. — Все равно ошкерю! ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК АЛЕКСАНДР СОРОКИН Погода стоит жаркая и ровная, дни бегут, похожие один на другой, как километровые столбы. Но нам грех жаловаться на однообразие, жизнь на «Канопусе» движется каким-то рваным темпом, бьющим кнутом по нервам. Три дня подряд — полные тралы хорошей рыбы, и вдруг — надоевшие до омерзения скаты, ничтожная, годная только на муку серебристая рыбешка по прозванию «доллар-шиш». Или просто пустяк — двести—триста килограммов всякой всячины. Круглые сутки штурманы вздыхают над картами, с надеждой смотрят в фишлупу и настороженно — на зигзаги эхолота: не прозевать бы косяк, который за полчаса может заполнить трал до отказа. Ох, как хочется удачи, большой и постоянной, настоящего рыбацкого счастья! Но сегодня — хороший день. Сегодня все улыбаются и шутят, кроме технолога. Анатолий Тесленко бегает по корме с несчастным лицом. Он вздымает руки кверху, и непонятно, кого он призывает в свидетели: Бога или капитана, стоящего на кормовом мостике. У технолога чудовищные неприятности: два трала, один за другим, принесли двадцать тонн рыбы. Ею завалена вся палуба, полны ванны. Рыбу не успевают обрабатывать, а сортировка и упаковка превращают Толину жизнь в сплошную муку. — У меня двенадцать сортов! — стонет он, обращаясь к Богу или капитану. — Я не успеваю! Давайте еще людей! Стопорьте машины! Пусть духи выходят на под-вахту! У меня двенадцать сортов! Я не… Капитан посмеивается, довольный. Осложнения, вызванные избытком рыбы, — приятные осложнения. Гораздо легче из рубля сделать полтинник, чем из ничего одну копейку. — Может, еще один трал забросим? — закидывает он удочку. Технолог хватается за сердце. — Ладно уж, — ворча, уступает Аркадий Николаевич. — За четыре часа управишься? — За пять! — повеселев, клянчит Анатолий. — Четыре — и ни минутой больше! — ставит точку капитан и, чтобы прекратить торг, уходит с мостика. А Тесленко весело бежит в рыбцех, куда по транспортерам плывет рыбная река.  Я сижу рядом с Александром Евгеньевичем на кормовом мостике. Я ошибся, сказав, что сегодня всем весело, кроме технолога. Первому помощнику тоже не до смеха. Он не выспался и очень хочет курить. Ну, до того хочет курить, что хоть вой. Но курить нельзя. Жене послана радиограмма, повсюду рыщут агенты Деда, принцип и самолюбие — о курении нечего и думать. Но что поделать, если думается только и исключительно об этой гнусной отраве? Особенно угнетает мысль, что Дед, по провокационным слухам, покуривает в каюте. За руку его никто не поймал, но в глазах у стармеха нет той библейской тоски, которая отличает людей, бросивших курить. Нервная система Сорокина настолько потрясена свалившейся на нее напастью, что я даже предложил капитану приказом по «Канопусу» обязать первого помощника начать курить — чтобы он снова стал нормальным человеком. Но Аркадий Николаевич и слышать не хочет об этом. — Пусть мучается! — мстительно восклицает он. — Два дня надо мной измывался: «У нас воля! Мы такие! Мы сякие!» На коленях проползет по всему пароходу — возвращу клятву, так и быть. Мы сидим и подсчитываем, что если будем морозить хотя бы по двадцать тонн в сутки, то к приходу плавбазы как раз успеем набрать полный груз — тонн четыреста рыбы. — Не будем загадывать вперед, — спохватывается Александр Евгеньевич. — Плохая примета. — Хорошо, не будем, — соглашаюсь я. Старая песня. С минуту мы считаем молча, про себя, шевеля губами и глядя в небо. — Если даже по восемнадцать—девятнадцать тонн, — не выдерживает один из нас, — все равно успеем! И мы смотрим на корму, где к разделочным столам, в раскрытые пасти ванн перебрасываются эти самые тонны, и мне кажется дикой и неправдоподобной мысль, что вот ту макрель, что притихла сейчас у стола, я через два-три месяца увижу в московском магазине, где ее будут продавать на килограммы, и, быть может, я сам ее куплю (В канун Нового года моя соседка Валентина Руднева подарила мне макрель, которую купила в б. Елисеевском магазине. Это конечно же оказалась та самая макрель!) . Александр Евгеньевич выглядит утомленным. В восемь утра он сменился с подвахты в рыбцехе, и отдохнуть ему не удалось — разбудили радисты. Из Севастополя прибыла важная радиограмма: от экипажа траулера требовалось срочно уплатить членские взносы в ДОСААФ. Указывалось, что в связи с некоторыми техническими трудностями (видимо, имелась в виду нецелесообразность немедленного возвращения экипажа в Севастополь для уплаты взносов), решено общую сумму вычесть из зарплаты первого помощника. Потрясенный мудростью такого решения, Сорокин ответил согласием и улегся снова. Но не тут-то было. Саша Ачкинази постучал в дверь каюты и, скаля зубы, протянул Александру Евгеньевичу еще одну радиограмму: «Немедленно сообщите новый состав судового комитета распределение обязанностей членов приветом». Я застал Александра Евгеньевича в тот момент, когда он произносил в иллюминатор длинный и темпераментный монолог. Закончив, он аккуратно застелил постель, с неудовольствием покосился на зеркало и продекламировал казенным речитативом: — Дышите морским воздухом! Морской воздух благотворно влияет на нервную систему! Принимайте воздушные ванны! Курение — вредно! И мы пошли на кормовой мостик. Я очень сблизился с Александром Евгеньевичем, а рассказывать о нем мне труднее, чем о других. Он помполит, парторг — персонаж, для описания которого в литературе создано несколько непреходящих, вечнозеленых штампов. Я читал о парторгах, которые были потрясающе человечны, проницательны, отзывчивы, принципиальны, сердечны — ну просто отцы родные. От них исходило сияние. Каждая клеточка их существа говорила о том, что они явились на землю творить добро и наказывать зло. Можно было раскрыть книгу посередине, и в толпе персонажей безошибочно определить парторга — по неоновому нимбу. Этот человек был настолько идеален, что от книги пахло дефицитным розовым маслом. От многократного употребления этот штамп стерся, и парторга начали наделять одним-двумя крупными недостатками, а иному даже подсовывали позорный порок, вроде морального разложения. Посильнее лягнуть парторга стало считаться хорошим тоном. Это было очень модно. Книги, в которых лягали парторга, пользовались повышенным спросом. — Ах, какой он талантливый, отчаянно смелый, этот писатель! — восклицал ошалевший от лакировки читатель. — Смотрите, каким отпетым негодяем он изобразил ответственного работника! А потом и этот штамп начал ржаветь: у читателя прошла новизна ощущений. Книга, в которой критиковался парторг, перестала быть сенсацией. Зевнув, читатель откладывал ее в сторону и с наслаждением погружался в «Петра Первого» — лучше в десятый раз побеседовать с умным другом, чем один-единственный — с нудным незнакомцем. Надоели и сплошные пирожные и сплошная горчица — захотелось нормальной, здоровой и вкусной пищи. Я сначала присматривался к Александру Евгеньевичу — человеку, которому по штатному расписанию положено заниматься воспитательной работой. Я вообще часто настороженно отношусь к людям, которым положено воспитывать взрослых, даже старших по возрасту — мы уже, слава Богу, совершеннолетние и убеждать нас нужно делом, а не собеседованиями. Кстати, убеждать — это точнее, чем воспитывать, даже чем «воспитывать в духе». Я помню, как среди ребят, только что вернувшихся с фронта, проводили воспитательную работу, как увешанного орденами бывшего офицера прорабатывали за то, что он не подготовился к диспуту «Моральная красота советского человека», как не нюхавший пороху активист холодно ронял: «В этом еще нужно разобраться, это у вас не случайность!» И такое говорилось комсоргу батальона, трижды раненному парню! Такой воспитательной работы Александр Евгеньевич не проводил. Он ее, такую, терпеть не мог. Я видел его в разных ситуациях. Вот он выходит из радиорубки, серьезный и озабоченный. Прошло больше месяца, а Н. не получил из дому ни одной весточки и сам ничего не послал. Н. замкнут, неразговорчив, чуждается других матросов и в свободное время не выходит из каюты. Некоторые матросы считают его нелюдимым зазнайкой, но Евгеньич чувствует, что дело сложнее. Очень плохо в море человеку, когда он одинок. Здесь нужно быть очень тактичным, нужна ювелирная осторожность: человеческая душа не бутылка, ее грубым рывком не откупоришь. Я был свидетелем того, как Евгеньич излечивал парня. Сначала он просто старался попасться ему на глаза, перекинуться ничего не значащими фразами. Потом начались столь же случайные, десятиминутные прогулки по верхней палубе, с разговором ни о чем, их сменили шахматы. Я однажды вошел в каюту, когда Н. и Евгеньич сидели за шахматной доской. Сорокин проигрывал, шутливо сердился, а Н. — я это видел впервые — улыбался. Я до сих пор не знаю, что было на душе у парня, но он явно выздоравливал. И постепенно, кроме Евгеньича, который стал поверенным в тайнах, самым близким ему человеком, у Н. появилось еще несколько друзей. Я видел и другого Сорокина. Когда останавливалась мукомолка или летел транспортер, первый помощник с удовольствием забывал о своем месте в штатном расписании. Он надевал видавший виды старый комбинезон и окунался в нежно любимую им «сферу материального производства»: Александр Евгеньевич без пяти минут инженер-механик, заочник выпускного курса института. На подвахту он выходил в ночь — ночью работать всегда труднее, и Евгеньич считал, что в это время его энергия и юмор нужнее всего. Когда шла большая рыба и команда уставала до изнеможения, Сорокин уставал вместе с ней, и ни один человек на судне не мог сказать, что первый помощник призывает к трудовым подвигам, не снимая пиджака. Я видел Евгеньича в окружении целой толпы матросов, таких же, как и он, отчаянных футбольных болельщиков. — Будем справедливы и объективны, — успокаивал Сорокин раскипятившихся ребят. — Я думаю, никто не посмеет возразить, что сильнейшая команда страны — киевское «Динамо»? (Возгласы: «Торпедо» сильнее! Посмотрим, как ваши киевляне в Ростове сыграют!») Итак, нет возражений? (Рев голосов: «Как нет?! Есть!» «Торпедо!») Значит, принято единогласно! И все смеются над фанатичным болельщиком «Торпедо». Тот протестует, но его уже никто не слушает, потому что Евгеньич рассказывает об одесских болельщиках, самых организованных в мире. Они собирают взносы и посылают своих представителей в другие города, на матчи с участием одесских команд. По возвращении командированные отчитываются в израсходованных суммах и докладывают о пристрастном судействе и нелепых случайностях, из-за которых одесские команды проиграли очередные матчи. Тут же посылается телеграмма в Москву с требованием отменить эти результаты и принимается развернутое решение — незаменимое пособие для тренера таких великолепных, но просто ужасно невезучих команд. Сорокин — страстный охотник; его охотничьи рассказы смешны и реалистичны, чувствуется, что их автор в самом деле протопал многие сотни километров с ружьем за плечами по таежному бездорожью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|||||||