 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Лесков Николай Семёнович :: Дансени Лорд :: Борхес Хорхе Луис :: Ламур Луис :: Чапек Карел :: Твен Марк :: Коллектив Рубоард :: Лавкрафт Говард Филлипс :: Биленкин Дмитрий Александрович Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Бурый волк :: Принц убивший дракона :: Странное заявление :: Обоюдоострый меч :: Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля :: Подарок для Тамухи :: Согровища негуса :: Солдат трех армий :: Волшебный напиток |
Пошехонская старинаModernLib.Net / Отечественная проза / Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович / Пошехонская старина - Чтение (стр. 32)
На красную горку Пустотеловы справляют разом обе свадьбы. Но ни приемов, ни выездов по этому случаю не делается, во-первых, потому что рабочая пора недалеко, а во-вторых, и главным образом, потому, что денег мало. Утром, сейчас после обедни, происходит венчальный обряд, затем у родителей подается ранний обед, и вслед за ним новобрачные уезжают в город, — к себе. Две дочери с плеч долой; остается еще восемь. Но ни Арсению Потапычу, ни Филаниде Протасьевне скучать по дочерям некогда. Слава богу, родительский долг выполнили, пристроили — чего ж больше! А сверх того, и страда началась, в яровое поле уже выехали с боронами мужички. Как образцовый хозяин, Пустотелов еще с осени вспахал поле, и теперь приходится только боронить. Вскоре после Николина дня поле засеют овсом и опять вспашут и заборонят. Словом сказать, постепенно подкрадывается лето, а вместе с ним и бесконечный ряд дней, в течение которых Арсению Потапычу, по примеру прошлого года, придется разрешать мучительную загадку, свершит он или не свершит, сведет ли концы с концами или не сведет. — Вот, Филанидушка, и опять лето-припасуха настало! — говорит он жене, стараясь сообщить своему голосу бодрость. Но в действительности тревога уже заползла в его сердце и не покинет его вплоть до осени. _____
Крестьянская реформа застала Пустотелова, как и большинство помещиков нашего захолустья, врасплох. Несмотря на кровавые изобличения кампании 1853–1855 гг., которая представляла собой лишь великий пролог к великой драме освобождения, — ничто не предупредило тупосамодовольный люд, никогда не умевший постигнуть внутренний смысл развертывающихся перед его глазами событий. Корни жизни слишком глубоко погрязли в тине крепостной уголовщины, чтобы можно было сразу переместить их на новую почву. Тина эта питала прошлое, обеспечивала настоящее и будущее — как отказаться от того, что исстари служило регулятором всех поступков, составляло основу всего существования? как, вместо довольства и обеспечения, представить себе такой порядок, который должен в самом корне подсечь прочно сложившийся обиход, погубить все надежды? Естественно, что при такой беззаветной вере в непогрешимость старых устоев, даже очевидность должна была представляться чем-то вроде призрака, на который стоило только дунуть, чтобы он мгновенно рассеялся. Пуще всего пугало будущее детей. Положим, старики виноваты: не все они олицетворяли собой тип благопопечительных патриархов — в этом уж почти единодушно стали сознаваться, — но за что же дети будут страдать? А на них между тем и обрушатся всею тяжестью последствия новоявленных и ничем не вызванных фантазий. Старики-то уж отжили век, попользовались; им, пожалуй, и на погост пора, но дети… Разве они причастны прошлому? Несомненно, что когда придет их очередь сесть на хозяйство, они человечнее отнесутся к крепостной практике. С их появлением исчезнет крепостная уголовщина, отношения приобретут характер правомерности, выражение: «вы наши отцы, мы ваши дети» сделается правдою. Чего еще нужно? Вот и теперь: сел на хозяйство молодой Бурмакин, — у него и в заводе нагайки нет. Лаской да добрым словом довольствуется — и все идет как следует. И везде постепенно разведутся Бурмакины, потому что время к тому идет. Нехорошо драться, нехорошо мужиков и баб на барской работе без отдыха изнурять, да ведь Бурмакин и не делает этого; стало быть, можно и при крепостном праве по-хорошему обойтись. Но, кроме того, ежели верить в новоявленные фантазии, то придется веру в Святое писание оставить. А в Писании именно сказано: рабы! господам повинуйтесь! И у Авраама, и у прочих патриархов были рабы, а они сумели же угодить богу. Неужто, в самом деле, ради пустой похвальбы дозволительно и веру нарушить, и заветы отцов на поруганье отдать? Для чего? для того, чтоб стремглав кинуться в зияющую пучину, в которой все темно, все неизвестно? Нет, нет! не может этого статься! Решимости недостанет, чтоб без всякого повода бросить в народную массу такой злой и безумный переполох! Так думало в то время большинство, а Арсений Потапыч шел, пожалуй, дальше других. Он был человек неглупый и между соседями слыл даже умницей. Но в подобных решительных случаях на умников находит затмение легче, чем на самых простодушных людей. Постоянная уверенность в собственных поступках и намерениях воспитывает упорство, с которым трудно справиться. Поэтому Пустотелое не только не изменил своего образа действий в виду возрастающих слухов, но просто-напросто называл последние ахинеей. Гоголем расхаживал он по полям и помахивал нагайкой, ни на йоту не отступая от исконного урочного положения: за первую вину — пять ударов, за вторую — десять и т. д. А молва продолжала расти. В сентябре 1856 года некоторые соседи, ездившие на коронацию, возвратились в деревню и привезли новость, что вся Москва только и говорит, что о предстоящей реформе. — Всех бы я вас за языки перевешал, да и московских тявкуш кстати! — без церемонии откликался на это известие Арсений Потапыч. — Тяф да тяф, только и знают, что лают дворняжки! Надо, чтоб все с ума сошли, чтоб этому статься! А покуда до этого еще не дошло. — Чудак ты, братец! точь-в-точь Струнников! тому, что ни говори, он все свое долбит! — убеждает его Григорий Александрия Перхунов. — Струнникова хоть и называют глупым, а, по-моему, он всех вас умнее. — Рассуди, однако. Кабы ничего не готовилось, разве позволило бы начальство вслух об таких вещах говорить? Вспомни-ка. Ведь в прежнее время за такие речи ссылали туда, где Макар телят не гонял, а нынче всякий пащенок рот разевает: волю нужно дать, волю! А начальство сидит да по головке гладит! — Белиберда пошла — от того! Вожжи распустили, бомбошкой заманивают… Всегда так на первых порах бывало. — И я знаю, что белиберда, да к белиберде-то к этой готовиться надобно. Упадет она как снег на голову; очнуться придется, туда-сюда — ан поздно! — Отстань!.. сказал, что никогда этому не бывать, — и не будет! Не к чему готовиться. Одним словом, ничто не могло его сломить. Даже Филанида Протасьевна, всегда безусловно верившая в правоту мужа, — и та поколебалась. Но разуверять его не пробовала, потому что боялась, что это только поведет к охлаждению дружеских отношений, исстари связывавших супругов. В то время старики Пустотеловы жили одни. Дочерей всех до одной повыдали замуж, а сыновья с отличием вышли из корпуса, потом кончили курс в академии генерального штаба и уж занимали хорошие штабные места. — Жить бы теперь да радоваться, — тосковала Филанида Протасьевна, — так нет же! послал под конец бог напасть! И написала сыновьям, чтоб хорошенько обо всем разузнали и осторожно уведомили отца. Действительно, оба сына, один за другим, сообщили отцу, что дело освобождения принимает все более и более серьезный оборот и что ходящие в обществе слухи об этом предмете имеют вполне реальное основание. Получивши первое письмо, Арсений Потапыч задумался и дня два сряду находился в величайшем волнении, но, в заключение, бросил письмо в печку и ответил сыну, чтоб он никогда не смел ему о пустяках писать. Наконец в газетах появился известный рескрипт генерал-губернатору Западного края. Полковник Гуслицын прислал Пустотелову номер «Московских ведомостей», в котором был напечатан рескрипт, так что, по-настоящему, не оставалось и места для каких бы то ни было сомнений. — Вот видишь! — осмелилась заметить мужу по этому поводу Филанида Протасьевна. — Что вижу! глупость вижу! — огрызнулся он точь-в-точь как Струнников, — известно, полячишки! Бунтуют — вот им за это и… Рескрипт, можно сказать, даже подстрекнул его. Уверившись, что слух о предстоящей воле уже начинает проникать в народ, он призвал станового пристава и обругал его за слабое смотрение, потом съездил в город и назвал исправника колпаком и таким женским именем, что тот с минуту колебался, не обидеться ли ему. — Вот я сам за дело возьмусь, за всех за вас наблюдать начну! — пригрозил он, — и первого же «тявкушу», какого встречу — мой ли он, чужой ли, — сей-ч: с на конюшню драть. Скажите на милость, во все горло чепуху по всему уезду городят, а они, хранители-то наши, сидят спустя рукава да посвистывают! И действительно, он начал наблюдать и прислушиваться. В Последовке страх покамест еще не исчез, и крестьяне безмолвствовали, но на стороне уж крупненько поговаривали. И вот он однажды заманил одного «тявкушу» и выпорол. Конечно, это сошло ему с рук благополучно, — сосед, владелец «тявкуши», даже поблагодарил, — но все уж начали потихоньку над ним посмеиваться. — Посмотри на себя, на что ты похож стал! — упрекал его Перхунов, — точно баба! только бабы нынче этому не верят, а ты все умен да умен был, и вдруг колесом ходить начал! Струнников — и тот над тобой смеется! Наконец он надумал решительную меру. Призвал приходского батюшку и предложил ему в первый же праздник сказать в церкви проповедь на тему, что никогда этого не будет. Но батюшка был из небойких, отроду проповедей не сочинял, а потому и на этот раз затруднился. Тогда он предложил собственные услуги. И действительно, не теряя лишней минуты, засел за дело, а часа через два проповедь уж была готова. В ней он изложил, что и у Авраама были рабы, и у Исаака, и у Иакова, а у Иова было рабов даже больше, нежели овец. Одним словом, доказал все так ясно, что малому ребенку не понять нельзя. В первое же воскресенье церковь была битком набита народом. Съехались послушать не только прихожане-помещики, но и дальние. И вот, в урочное время, перед концом обедни, батюшка подошел к поставленному на амвоне аналою и мягким голосом провозгласил: — Господа, мужички! прошу подойти ближе! подходите ближе! Толпа заколыхалась. Мужички слушали со вниманием и, по-видимому, поняли; но — увы! — поняли как раз наоборот ожиданиям Арсения Потапыча. Вслед за тем Струнников съездил в губернский город на общее совещание предводителей и возвратился оттуда. Дальнейшие сомнения сделались уж невозможными… Пустотеловы заперлись в Последовке и сами никуда не ездили, и к себе не принимали. В скором времени Арсений Потапыч и хозяйство запустил; пошел слух, что он серьезно стал попивать. — Вот он, образцовый-то хозяин! — говорили об нем соседи, — и все мы образцовые были, покуда свои мужички задаром работали, а вот, поди-ка, теперь похозяйничай! _____
В 1865 году мне пришлось побывать в нашем захолустье. В один из небольших церковных праздников отправился я к обедне в тот самый приход, к которому принадлежали и Пустотеловы. Церковь была совершенно пуста; кроме церковного причта да старосты, я заметил только двух богомольцев, стоявших на небольшом возвышении, обтянутом потемневшим и продырявленным красным сукном. То были старики Пустотеловы. После обедни я подошел к ним и удивился перемене, которая произошла в Арсении Потапыче в каких-нибудь два-три года. Правая нога почти совсем отнялась, так что Филанида Протасьевна вынуждена была беспрестанно поддерживать его за локоть; язык заплетался, глаза смотрели мутно, слух притупился. Несмотря на то, что день только что начался, от него уж слышался запах водки. — Арсений Потапыч! Филанида Протасьевна! наконец-то случай нас свел! — приветствовал я знакомых. Филанида Протасьевна, увидевшись со мной, молча указала на мужа и заплакала, но он, по-видимому, не узнал меня. Неподвижно уставив вперед мутные глаза, он, казалось, вглядывался в какой-то призрак, который ежеминутно угнетал его мысль. — Арсюша! старый знакомый с тобой говорит! — крикнула ему в ухо жена. Он медленно повернул голову в мою сторону и чуть слышно, коснеющим языком, пролепетал: — У-ми-рать… XXIX ВАЛЕНТИН БУРМАКИН Валентин Осипыч Бурмакин был единственный представитель университетского образования, которым обладало наше захолустье. Еще когда он посещал университет, умерла у него старуха бабушка, оставив любимцу внуку в наших местах небольшое, но устроенное имение, душ около двухсот. Там он, окончивши курс, и приютился, отказавшись в пользу сестер от своей части в имении отца и матери. Приехавши, сделал соседям визиты, заявляя, что ни в казне, ни по выборам служить не намерен, соперником ни для кого не явится, а будет жить в своем Веригине вольным казаком. Соседи ему не понравились, и он не понравился соседям. Думали: вот явится жених, будет по зимам у соседей на вечеринках танцы танцевать, барышням комплименты говорить, а вместо того приехал молодой человек молчаливый, неловкий и даже застенчивый. Как есть рохля. Поначалу его, однако ж, заманивали, посылали приглашения; но он ездил в гости редко, отказываясь под разными предлогами, так что скоро сделалось ясно, что зимнее пошехонское раздолье напрасно будет на него рассчитывать. Заперся он в Веригине, книжек навез, сидит да почитывает. Даже в хозяйство не взошел. Призвал старосту Власа, который еще при бабушке верой и правдой служил, и повел с ним такого рода разговор: — Слушай, Влас! Ведь ты честный человек? да? Староста изумился при этом вопросе и во все глаза смотрел на молодого барина. — Я тебя не подозреваю, а только спрашиваю: ведь ты честный человек? да? — приставал Бурмакин. — С чего бы, кажется… — пробормотал Влас. — Вот и прекрасно. И ты честный человек, и я честный человек, и все мы здесь честные люди! Я и тебе, и всем… доверяю! Валентин Осипыч протянул руку, конечно, для пожатия, но староста кинулся со всех ног и поцеловал ее. — Ах, что ты! я совсем не для того… Пожалуйста, ты эти глупости оставь! 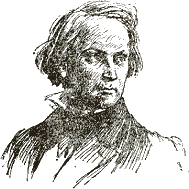
Очень возможно, что разговор этот был несколько прикрашен кем-нибудь из остряков соседей, но в применении к Бурмакину он представлялся настолько вероподобным, что обошел всю округу и составил предмет общего увеселения. К счастью, бабушкин выбор был хорош, и староста, действительно, оказался честным человеком. Так что при молодом барине хозяйство шло тем же порядком, как и при старухе бабушке. Доходов получалось с имения немного, но для одинокого человека, который особенных требований не предъявлял, вполне достаточно. Валентин Осипыч нашел даже возможным отделять частичку из этих доходов, чтобы зимой погостить месяц или два в Москве и отдохнуть от назойливой сутолоки родного захолустья. Это была чистая, высоконравственная, почти непорочная личность. Бурмакин принадлежал к числу тех беззаветных идеалистов, благодаря которым во тьме сороковых годов просиял луч света и заставил волноваться отзывчивые сердца. Впервые после многих лет забитости почувствовалось, что доброе и человеческое не до конца изгибло, что человеческий образ, даже искаженный, не перестает быть человеческим образом. Разумеется, возникшее в этом смысле движение сосредоточивалось исключительно в литературе да в стенах университета; разумеется, оно высказывалось случайно, урывками, но эта случайность пробивалась наружу в таком всеоружии страстности и убежденности, что неизбежно оставляла по себе горячий след. Светоч горел одиноко, но настолько ярко, что впоследствии, когда дальнейшее горение было признано неудобным, потребовались уже некоторые усилия, чтоб потушить его. Бурмакин был ученик Грановского и страстный почитатель Белинского. Не будучи «учеными», в буквальном смысле этого слова, эти люди будили общественное чувство и в высшей мере обладали даром жечь глаголом сердца. А для того времени это было всего нужнее. На призыв их проповеди откликнулась безвестная масса современной молодежи и, в свою очередь, сеяла горячее слово добра, человечности, любви. Сеяла на свой риск, не останавливаясь ни перед подозрительностью, которая встречала проповеднический подвиг, ни перед мыслью о пучине безвестности, в которой этому подвигу предстояло утонуть. Валентин еще в университете примкнул к этому кружку страстных и убежденных людей и искренно привязался к нему. Он много читал, изредка даже пробовал писать, но, надо сказать правду, выдающимися талантами не обладал. Это был отличный второстепенный деятель и преданнейший друг. Так понимали его и члены кружка, глубоко ценившие его честные убеждения. Но как ни безупречна была, в нравственном смысле, убежденная восторженность людей кружка, она в то же время страдала существенным недостатком. У нее не было реальной почвы. Истина, добро, красота — вот идеалы, к которым тяготели лучшие люди того времени, но, к сожалению, осуществления их они искали не в жизни, а исключительно в области искусства, одного беспримесного искусства. Это было, впрочем, понятно. Жизнь того времени представляла собой запертую храмину, ключ от которой был отдан в бесконтрольное заведывание табели о рангах, и последняя настолько ревниво оберегала ее от сторонних вторжений, что самое понятие о «реальном» как бы исчезло из общественного сознания. Музыка, литература, театр стояли на первом плане и служили предметом пламенных и бескорыстных состязаний. Всем памятны споры о Мочалове, Каратыгине, Щепкине и т. д., каждый жест которых порождал целую массу страстных комментариев. Даже в балете усматривали глашатая добра, истины и красоты. Имена Санковской и Герино раздавались во всех кофейнях, на всех дружеских беседах. Это были не просто танцовщик и танцовщица, а пластические разъяснители «нового слова», заставлявшие по произволению радоваться или скорбеть. Оторванность от реальной почвы производила печальное двоегласие и в существовании отдельных индивидуумов. Крепостное право было ненавистно, но таких героев, которые отказались бы от пользования им, не отыскивалось. Однажды установившаяся степень довольства и перспектива обеспеченного досуга были слишком привлекательны, чтобы ввиду их даже избранник решился взять посох в руки и идти в поте лица снискивать хлеб свой. Таким образом, жизнь сама собой раскалывалась на две половины: одна была отдана Ормузду, другая — Ариману. Но, кроме двоегласия в личном существовании, представлялась еще другая опасность, которую приводило за собой отсутствие реальных интересов… Опасность эту представляло вторжение некоторых противоречивых примесей, которые угрожали возможностью измен в будущем. Одною из заветных формул того времени была «святая простота». В ней заключалось нечто непререкаемое, и при упоминовении об ней оставалось только преклоняться. Но употребляли ее неразборчиво и нередко смешивали с пошлостью и невежеством. Это уж было заблуждение, которое грозило последствиями очень сомнительного свойства. Крестьянство задыхалось под игом рабства, но зато оно было sancta simplicitas; чиновничество погрязало в лихоимстве, но и это было своего рода sancta simplicitas; невежество, мрак, жестокость, произвол господствовали всюду, но и они представляли собой одну из форм sancta simplicitas. Среди этих разнообразных проявлений простоты дышать было тяжело, но поводов для привлечения к ответственности не существовало. Затем, рядом с легендой о святой простоте, выработалась еще другая, гласившая, что существующее уже по тому одному разумно, что оно существует. Формула эта свидетельствовала, что самая глубокая восторженность не может настолько удовлетвориться исключительно своим собственным содержанием, чтобы не чувствовать потребности в прикосновении к действительности, и в то же время она служила как бы объяснением, почему люди, внутренно чуждающиеся известного жизненного строя, могут, не протестуя, жить в нем. Разумеется, это было возможно только при целой системе таких оправданий и примирений, откуда было недалеко и до совершенной путаницы понятий. И будущее доказало, что измена очень ловко воспользовалась этими оправданиями. Тем не менее, как ни оторван был от жизни идеализм сороковых годов, но лично своим адептам он доставлял поистине сладкие минуты. Мысли горели, сердца учащенно бились, все существо до краев переполнялось блаженством. Спасибо и за это. Бывают сермяжные эпохи, когда душа жаждет, чтобы хоть шепотом кто-нибудь произнес: sursum corda! — и не дождется… ……………
Итак, Бурмакин поселился в родном гнезде и нимало не роптал на одиночество. Он читал, переписывался с друзьями и терпеливо выжидал тех двух-трех месяцев, в которые положил себе переезжать на житье в Москву. Как ни ревниво, однако ж, ограждал он свое уединение, но совсем уберечься от общения с соседями уже по тому одному не мог, что поблизости жили его отец и мать, которых он обязан был посещать. Старики Бурмакины жили радушно, и гости ездили к ним часто. У них были две дочери, обе на выданье; надо же было барышням развлеченье доставить. Правда, что между помещиками женихов не оказывалось, кроме закоренелых холостяков, погрязших в гаремной жизни, но в уездном городе и по деревням расквартирован был кавалерийский полк, а между офицерами и женихов присмотреть не в редкость бывало. Стало быть, без приемов обойтись никак нельзя. Поэтому в доме стариков было всегда людно. Приезжая туда, Бурмакин находил толпу гостей, преимущественно офицеров, юнкеров и барышень, которыми наш уезд всегда изобиловал. Валентин был сдержан, но учтив; к себе не приглашал, но не мог уклониться от знакомств, потому что родные почти насильственно ему их навязывали. — Он у нас бука, — говорили они, — а вы соберитесь компанией, да и растормошите его! В числе наиболее частых посетительниц стариковского дома была помещица Калерия Степановна Чепракова с четырьмя дочерьми. Она была вдова и притом бедная (всего пятьдесят душ, да и те разоренные), так что положение ее, при большом семействе, состоявшем из одних дочерей, было очень незавидное. Усадьба ее была расположена на высоком берегу реки Вопли, но дом был до того ветх, что ежеминутно грозил развалиться. Соседи называли его старым аббатством и удивлялись, как она не боится в нем жить. Полы ходуном ходили; из окон и из щелей стен дуло; зимой никакими способами ухититься было нельзя. Ремонтировать дом было не на что, да, пожалуй, и незачем; надо новый дом строить, а у вдовы не только денег, а и лесу своего нет. Однако ж вдова не унывала. Дочери у нее были погодки и все очень красивые, в особенности младшая, которой только что минуло семнадцать лет. Все офицеры, и молодые и старые, поголовно влюблялись в них, а майор Клобутицын даже основал дивизионную штаб-квартиру в селе, где жили Чепраковы. Там, притаившись в отведенной ему крестьянской избе, он, в обществе избранных субалтерн-офицеров, засматривался на чепраковских барышень, покуда они резвились, купаясь в Вопле, и нельзя поручиться, чтоб барышни, в свою очередь, не знали, что за ними следят любопытные глаза. По поводу этих наблюдений носились слухи, что вдова не очень разборчива на средства, лишь бы «рассовать» дочерей, но соседи относились к этому снисходительно, понимая, что с такой обузой справиться нелегко. — Извольте-ка, — говорили они, — от пятидесяти душ экую охапку детей содержать! Накормить, напоить, одеть, обуть да и в люди вывезти! Поневоле станешь в реке живые картины представлять! Неизвестно, досыта ли кормила вдова дочерей, но все четыре были настолько в теле, что ничто не указывало на недостаток питания; неизвестно, в каких платьях они ходили дома, но в люди показывались одетыми не хуже других. Вдова была изобретательна; перешивала, перекраивала, выворачивала — и всегда у ней выходило хоть куда. Одно горе — от приемов она должна была совсем отказаться: и средств нет, и дом никуда не годится. Впрочем, господа офицеры изредка все-таки заглядывали к Чепраковым и проводили время не скучно. Только вместо чаю пили молоко; вместо пшеничных булок ели черный хлеб с маслом. Положение Калерии Степановны было тем более неприятно, что у нее существовало сытое и привольное прошлое. Сама она принадлежала к семье Курильцевых, исстари славившейся широким гостеприимством, а муж ее до самой смерти был таким же бессменным исправником, каким впоследствии сделался Метальников. Весело им жилось, привольно; Чепраков добывал денег много и тратил без расчета. Муж пил, жена рядилась и принимала гостей. Казалось, и конца раздолью не будет. Дом уж и в то время обращался в руины, так что неминучее дело было затевать новый, а Чепраков все откладывал да откладывал — с тем и на тот свет отправился, оставивши вдову с четырьмя дочерьми. Умер он внезапно, ударом, запутавши дела до того, что и похоронить было не на что. День днем очищался, а об запасной копейке и в помыслах не держали. Еще накануне дом довольством кипел, а наутро —: хоть шаром покати. Это случилось лет десять тому назад. Полились вдовьи слезы. Не скоро поняла Калерия Степановна свое положение; к хозяйству она не привыкла, жила на всем готовом — натурально, что при первом же испытании совсем растерялась. Хорошо еще, что дети были невелики, больших расходов не требовали, а то просто хоть с сумой побираться иди. Однако пришлось понять, что прежнее приволье кануло бесповоротно в пучине прошлого и что впереди ждет совсем новая жизнь. И надо отдать вдове справедливость: хоть и не сразу, но она поняла. Пришлось обращаться за помощью к соседям. Больше других выказали вдове участие старики Бурмакины, которые однажды, под видом гощения, выпросили у нее младшую дочь Людмилу, да так и оставили ее у себя воспитывать вместе с своими дочерьми. Дочери между тем росли и из хорошеньких девочек сделались красавицами-невестами. В особенности, как я уж сказал, красива была Людмила, которую весь полк называл не иначе, как Милочкой. Надо было думать об женихах, и тут началась для вдовы целая жизнь тревожных испытаний. Взоры ее естественно устремились на квартирующий полк, но военная молодежь охотно засматривалась на красавиц, а сватовства не затевала. Даже старые холостяки из штаб-офицеров — и те только шевелили усами, когда Калерия Степановна, играя маслеными глазами, — она и сама еще могла нравиться, — заводила разговоры о скуке одиночества и о том, как она счастлива, что у нее четыре дочери — и всё ангелы. — Посмотрю я на вас, Семен Семеныч, — обольщала она майора Клобутицына, — всё-то вы одни да одни! Хоть бы к нам почаще заходили, а то живете через улицу, в кои-то веки заглянете. — Я, сударыня, готов-с. — А готовы, так за чем же дело стало! У меня дочки… песенок для вас попоют, на фортопьянах поиграют… Заходите-ка вечерком, мы вас расшевелим! Действительно, на следующий же день после этого разговора майор прифрантился, надушился и явился около семи часов вечера в аббатство. Дело шло уже к осени, сумерки спустились рано; в большой зале аббатства было сыро и темно. Не встретивши в передней прислуги, майор, покашливая и громко сморкаясь, ходил взад и вперед по зале, в ожидании хозяек. В голове у него бродила своекорыстная мысль: хорошо бы вот этакую девицу, как Марья Андреевна (старшая дочь), да не жениться бы, а так… чтобы чай разливала. Минут с десять он таким образом промечтал, пока наконец его заслышали. — А! Семен Семеныч! к нам, в гостиную! — крикнула в дверях Калерия Степановна, — у нас уютнее! Подали две сальных свечи, а затем, играя и резвясь, прибежали и все четыре дочери. Майор щелкал шпорами и играл зрачками. — Чем вас потчевать? — захлопотала вдова. — Мужчины, я знаю, любят чай с ромом пить, а у нас, извините, не то что рому, и чаю в заводе нет. Не хотите ли молочка? — Помилуйте! зачем же-с? Вдова начала горько жаловаться на судьбу. Все у них при покойном муже было: и чай, и ром, и вино, и закуски… А лошади какие были, особливо тройка одна! Эту тройку покойный муж целых два года подбирал и наконец в именины подарил ей… Она сама, бывало, и правит ею. Соберутся соседи, заложат тележку, сядет человека четыре кавалеров, кто прямо, кто сбоку, и поедут кататься. Шибко-шибко, Кавалеры, бывало, трусят, кричат: «Тише, Калерия Степановна, тише!» — а она нарочно все шибче да шибче… — Хорошо тогда жилось, весело. Всего, всего вдоволь было, только птичьего молока недоставало. Чай пили, кто как хотел: и с ромом, и с лимоном, и со сливками. Только, бывало, наливаешь да спрашиваешь: вы с чем? вы с чем? с лимоном? с ромом? И вдруг, точно сорвалось… Даже попотчевать дорогого гостя нечем! Вдова поникла головой и исподлобья взглядывала на майора, не выкажет ли он сочувствия к ней. — Не позволите ли мне, сударыня, фунт чаю?.. — наконец, вымолвил он, — да кстати уж и рому бутылку велю захватить. — Ах, что вы! как же это так! А впрочем, разве для вас! по крайней мере, вы пунш себе сделаете, как дома. А нам не нужно: мы от чаю совсем отвыкли! — Ничего-с. Бог даст, и опять привыкнете. Эти слова были добрым предзнаменованием, тем более, что, произнося их, Клобутицын так жадно взглянул на Марью Андреевну, что у той по всему телу краска разлилась. Он вышел на минуту, чтоб распорядиться. — Смотри же, Маша, не упускай! — шепнула Калерия Степановна дочери. Заварили майорский чай, и, несмотря на отвычку, все с удовольствием приняли участие в чаепитии. Майор пил пунш за пуншем, так что Калерии Степановне сделалось даже жалко. Ведь он ни чаю, ни рому назад не возьмет — им бы осталось, — и вдруг, пожалуй, всю бутылку за раз выпьет! Хоть бы на гогель-могель оставил! А Клобутицын продолжал пить и в то же время все больше и больше в упор смотрел на Машу и про себя рассуждал: «Хорошо бы этакую штучку… да не для женитьбы, а так… Она бы чай разливала, а я бы вот таким же образом пунш пил…» Разумеется, царицей импровизированного вечера явилась Марья Андреевна. Она пропела: «Прощаюсь, ангел мой, с тобою», и с таким чувством произнесла «заря меня не нарумянит, роса меня не напоит», что майора слеза прошибла. Затем она же сыграла на старых-старых фортопьянах, которые дребезжали как гусли, варьяции на тему: «Ты не поверишь», и майор опять прослезился. Он так жадно смотрел на девушку, что Калерия Степановна уж подумывала, не оставить ли их одних; но взглянула на Клобутина и убедилась, что он совсем пьян. — Прощайте-с! — вдруг молвил он в самый разгар матримониальных мечтаний Калерии Степановны. И с этими словами, едва держась на ногах, вышел из гостиной. Майор зачастил. Каждый раз, приходя в аббатство, он приносил бутылку рома, а чаю через каждые две недели фунт. Такое уж он, по-видимому, придумал «положение». Вдова радовалась, что дело идет на лад, и все дальше углублялась в матримониальные мечты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
|||||||