 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Борхес Хорхе Луис :: Дансени Лорд :: Твен Марк :: Лесков Николай Семёнович :: Ламур Луис :: Чапек Карел :: Картленд Барбара :: Коллектив Рубоард :: Дойл Артур Конан Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Странное заявление :: Бурый волк :: Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля :: Подарок для Тамухи :: Принц убивший дракона :: Ой, кто идет! :: Обоюдоострый меч :: Волшебный напиток :: Пм-2000 |
Пошехонская старинаModernLib.Net / Отечественная проза / Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович / Пошехонская старина - Чтение (стр. 18)
В числе последних только две-три «чистых» комнаты были довольно просторны; остальные можно было, в полном смысле слова, назвать клетушками. Парадное крыльцо выходило в тесный и загроможденный службами двор, в который въезжали с улицы через деревянные ворота. Об роскошной и даже просто удобной обстановке нечего было и думать, да и мы — тоже дворяне средней руки не претендовали на удобства. Мебель большею частью была сборная, старая, покрытая засиженной кожей или рваной волосяной материей.
В этом крохотном помещении, в спертой, насыщенной миазмами атмосфере (о вентиляции не было и помина, и воздух освежался только во время топки печей), ютилась дворянская семья, часто довольно многочисленная. Спали везде — и на диванах, и вповалку на полу, потому что кроватей при доме сдавалось мало, а какие были, те назначались для старших. Прислуга и дневала и ночевала на ларях, в таких миниатюрных конурках, что можно было только дивиться, каким образом такая масса народа там размещается. «Зиму как-нибудь потеснимся; в Москве и бог простит», — утешали себя наезжие, забывая, что и в деревне, на полном просторе, большинство не умело устроиться. Прибавьте к этому целые вороха тряпья, которое привозили из деревни и в течение зимы накупали в Москве и которое, за неимением шкафов, висело на гвоздиках по стенам и валялось разбросанное по столам и постелям, и вы получите приблизительно верное понятие о среднедворянском домашнем очаге того времени. — Хорошо еще, что у нас малых детей нет, а то бы спасенья от них не было! — говорила матушка. — Намеднись я у Забровских была, там их штук шесть мал мала меньше собралось — мученье! так между ног и шныряют! кто в трубу трубит, кто в дуду дудит, кто на пищалке пищит! Понятно, что в таком столпотворении разобраться было нелегко и недели две после приезда все ходили, как потерянные. Искали и не находили; находили и опять теряли. Для взрослых помещичьих дочерей — в в том числе для сестры Надежды — это было чистое мученье. Они рвались выезжать, мечтали порхать на балах, в театрах, а их держали взаперти, в вонючих каморках, и кормили мороженою домашнею провизией. — Да когда же наконец? — слышались с утра до вечера сестрицыны жалобы. — Хоть бы в театр съездили. — Нельзя в театр, надо сперва визиты сделать; коли дома скучно, ступай к дедушке. — Вот еще! что я там забыла! — Ну, жди. Единственные выезды, которые допускались до визитов, — это в модные магазины. В магазине Майкова, в гостином дворе, закупались материи, в магазине Сихлер заказывались платья, уборы, шляпки. Ввиду матримониальных целей, ради которых делался переезд в Москву, денег на наряды для сестры не жалели. Наконец все кое-как улаживается. К подъезду подают возок, четвернею навынос, в который садится матушка с сестрой — и очень редко отец (все знакомые сразу угадывали, что он «никакой роли» в доме не играет). Начинаются визиты. В начале первой зимы у семьи нашей знакомств было мало, так что если б не три-четыре семейства из своих же соседей по именью, тоже переезжавших на зиму в Москву «повеселиться», то, пожалуй, и ездить было бы некуда; но впоследствии, с помощью дяди, круг знакомств значительно разросся, и визитация приняла обширные размеры. Когда все визиты были сделаны, несколько дней сидели по утрам дома и ждали отдачи. Случалось, что визитов не отдавали, и это служило темой для продолжительных и горьких комментариев. Но случалось и так, что кто-нибудь приезжал первый — тогда на всех лицах появлялось удовольствие. Из новых знакомств преимущественно делались такие, где бывали приглашенные вечера, разумеется, с танцами, и верхом благополучия считалось, когда можно было сказать: — У нас все вечера разобраны, даже в театр съездить некогда. Или: — Ах, эта Балкина! пристает, приезжай, к ней по середам. Помилуйте, говорю, Марья Сергевна! мы и без того по середам в два дома приглашены! — так нет же! пристала: приезжай да приезжай! Пренеотвязчивая. Словом сказать, машина была пущена в ход, и «веселье» вступало в свои права на целую зиму. Утро в нашем семействе начинал отец. Он ежедневно ходил к ранней обедне, которую предпочитал поздней, а по праздникам ходил и к заутрене. Еще накануне с вечера он выпрашивал у матушки два медных пятака на свечку и на просвиру, причем матушка нередко говаривала: — И на что тебе каждый день свечку брать! Раз-другой в неделю взял — и будет! Замечание это, разумеется, полагало начало бурной домашней сцене, что, впрочем, не мешало ему повторяться и впредь в той же силе. Возвращается отец около осьми часов, и в это же время начинает просыпаться весь дом. Со всех сторон слышатся вопли: — Сашка! Анютка! где вы запропастились? куда вас черт унес! — кричит матушка. — Ариша! где моя кофта? — взывает сестра своей фрейлине. — Марфа! долго ли же мне не мыться? — жалуется Коля. — Ах, хамки проклятые! да убирайте же в зале! наслякощено, нахламощено. Где Конон? Чего смотрит? Степан где? Мы за чай, а они пыль столбом поднимать! Поднимается беготня. Девушки снуют взад и вперед, обремененные кофтами, юбками, умывальниками и проч. По временам раздается грохот разбиваемой посуды. — Бейте шибче! — слышится голос отца из кабинета, — что разбили? — Ничего, сударь! — Как ничего! сказывайте, кто разбил? Что? — допрашивает матушка. И так далее. Наконец, кой-как шум угомоняется. Семейство сбирается в зале около самовара. Сестра, еще не умытая, выходит к чаю в кофте нараспашку и в юбке. К чаю подают деревенские замороженные сливки, которые каким-то способом умеют оттаивать. — Вот белый хлеб в Москве так хорош! — хвалит матушка, разрезая пятикопеечный калач на кусочки, — только и кусается же! Что, каково нынче на дворе? — обращается она к прислуживающему лакею. — Сегодня, кажется, еще лютее вчерашнего мороз. — Ах, прах побери! всех кучеров переморозили. Что Алемпий? как? — Гусиным жиром и уши, и нос, и щеки мазали. Очень уж шибко захватило. — А он бы больше дрыхнул на козлах. Сидит да носом клюет. Нет чтобы снегом потереть лицо. Как мы сегодня к Урсиловым поедем, и не придумаю! — Ах, маменька, непременно надо ехать! Я уж мазурку обещала! — настаивает сестра. — Знаю, что надо… Этот там будет… предмет-то твой… — Какой же это предмет… старик! — Ну, что за старик! Кабы он… да я бы, кажется, обеими руками перекрестилась! А какая это Соловки-на — халда: так вчера и вьется около него, так и юлит. Из кожи для своей горбуши Верки лезет! Всех захапать готова. — Мне, маменька, какое платье сегодня готовить? — А барежевое диконькое… нечего очень-то рядиться! Не бог знает какое «паре» (pare), простой вечерок… Признаться сказать, скучненько-таки у Урсиловых. Ужинать-то дадут ли? Вон вчера у Соловкиных даже закуски не подали. Приехали домой голодные. — По-моему, уж совсем лучше ужинать не подавать, чем намеднись у Голубовицких сосиски с кислой капустой! — Что ж, сосиски, ежели они… — Ну, нет! я и не притронулась. Да, чтоб не забыть; меня, маменька, вчера Обрящин спрашивал, можно ли ему к нам приехать? Я… позволила… — Пускай ездит. Признаться сказать, не нравится мне твой Обрящин. Так, фордыбака. Ни наследственного, ни приобретенного, ничего у него нет. Ну, да для счета и он сойдет. Начинают судачить вплотную. Перебирают по очереди всех знакомых и не обретают ни одного достойного. Наконец, отдавши долг темпераменту, расходятся по углам до часа. В час или выезжают, или ожидают визитов. В последнем случае сестра выходит в гостиную, держа в одной руке французскую книжку, а в другой — ломоть черного хлеба (завтрака в нашем доме не полагается), и садится, поджавши ноги, на диван. Она слегка нащипывает себе щеки, чтобы они казались румяными. Чу, кто-то приехал. Входит Конон и возглашает: — Петр Павлыч Обрящин! Сестра поспешно прячет хлеб в ящик стола и оправляется. — А! мсьё Обрящин! садитесь! Маркиян сейчас придет. Обрящин — молодой человек, ничем особенно не выдающийся. Он тоже принадлежит к среднему дворянству, а состояние имеет очень умеренное. Но так как он служит в канцелярии московского главнокомандующего (так назывался нынешний генерал-губернатор), то это открывает ему доступ в семейные дома. Как на завидную партию никто на него не смотрит, но для счета, как говорит матушка, и он пользуется званием «жениха». Многие даже заискивают в нем, потому что он, в качестве чиновника канцелярии, имеет доступ на балы у главнокомандующего; а балы эти, в глазах дворян средней руки, представляются чем-то недосягаемым. Одет чистенько, танцует все танцы и крошечку болтает по-французски. — Мсьё Обрящин! — восклицает, в свою очередь, матушка, появляясь в дверях, — вот обрадовали! Начинается светский разговор. — Не правда ли, как вчера у Соловкиных было приятно! — говорит матушка, — и какая эта Прасковья Михайловна милая! Как умеет занять гостей, оживить! — Помилуйте! дает вечера, а в квартире повернуться негде! — отвечает Обрящин. — Мы, приезжие, и все так живем. И рады бы попросторнее квартирку найти, да нет их. Но Верочка Соловкина — это очарование! — Горбатое! — Ах, какой вы критикан, сейчас заметите! Правда, что у нее как будто горбик, но зато личико, коса… ах, какая коса! — От цирульника Остроумова с Горохового-Поля. Волосы покупает у цирульника, а наряды шьет в Хамовниках у мадам Курышкиной. — Однако попасться к вам на язычок… А я так слышала, что Верочка и вы… Матушка грозит Обрящину пальчиком и шаловливо приговаривает: — Мовошка! — Увольте, ради Христа! — отрекается молодой человек, — что называется, ни кожи… — Ах, оставьте! с вами просто опасно! Скажите лучше, давно вы были у нашего доброго главнокомандующего? — Не далее как на прошлой неделе, он вечерок давал. Были только свои… Потанцевали, потом сервировали ужин… Кстати: объясните, отчего Соловкина только через раз дает ужинать? — А вы и это заметили… Злой вы! Ну, зато в следующий раз покушаете. А на балах у главнокомандующего вы тоже бываете? Я слышала, это волшебство! — Особенной роскоши нет, напротив, все очень просто… Но эта простота!.. В том-то весь и секрет настоящих вельмож, что с первого взгляда видно, что люди каждый день такой «простотой» пользуются! — И нам князь Колюшпанский обещал приглашение достать… — Но отчего же вы не обратились ко мне? я бы давно с величайшей готовностью… Помилуйте! я сам сколько раз слышал, как князь говорил: всякий дворянин может войти в мой дом, как в свой собственный… — Ну, всякий не всякий… — Конечно, не всякий — это только facon de parler… Но вы… разве тут может быть какое-нибудь сомнение! — Благодарю вас. Так вы постараетесь? — Непременно-с. Поболтавши еще минут пять, Обрящин откланивается. На смену является Прасковья Михайловна Соловкина с дочерью, те самые, которых косточки так тщательно сейчас вымыли. — Ах, Прасковья Михайловна! Вера Владимировна! вот обрадовали! — Верочка! quelle charmante surprise!. — Не говорите! И то хотела до завтра отложить… не могу! Так я вас полюбила, Анна Павловна, так полюбила! Давно ли, кажется, мы знакомы, а так к вам и тянет! — И нас взаимно. Знаете ли, есть что-то такое… сродство, что ли, называется… Иногда и не слыхивали люди друг о дружке — и вдруг… — Вот именно это самое. Дамы целуются; девицы удаляются в зал, обнявшись ходят взад и вперед и шушукаются. Соловки-на — разбитная дама, слегка смахивающая на торговку; Верочка, действительно, с горбиком, но лицо у нее приятное. Семейство это принадлежит к числу тех, которые, как говорится, последнюю копейку готовы ребром поставить, лишь бы себя показать и на людей посмотреть. — А у нас сейчас мсьё Обрящин был, — возвещает матушка, — ах, какой милый! — Не знаю… не люблю я его! — отвечает Соловкина, предчувствуя, что шла речь о ее вчерашнем вечере. — Что так? — Да наглый. Втерся к нам уж и сама не знаю как… ест, пьет… — А он об вас с таким участием… Между нами: Верочка, кажется, очень ему нравится… — Далеко кулику до Петрова дня! — Но почему ж бы?.. — Да так. — Он нам обещал приглашение на первый бал к главнокомандующему достать. — Будете ждать, долго не дождетесь. Он в прошлом году целую зиму нас так-то водил. — Да ведь он туда вхож? — В лакейской дежурит. — Ах, что вы! будто уж и в лакейской! А впрочем, не он, так другой достанет. А какое на Верочке платье вчера прелестное было! где вы заказываете? — Там же, где и все. Бальные — у Сихлерши, попроще — у Делавос… — А я слышала, в Хамовниках, портниха Курышкина есть… Соловкина слегка зеленеет, но старается казаться равнодушною. — Не знаю, не слыхала такой, — говорит она сквозь зубы. — Не говорите, Прасковья Михайловна! и между русскими бывают… преловкие! Конечно, против француженки… — Я У русских не заказываю. — В Петербурге Соловьева — даже гремит. — Не знаю, не знаю, не знаю. Соловкина окончательно зеленеет и сокращает визит. — Итак, до свидания, — говорит она, поднимаясь. — До пятницы. — Ваши гости. Да что ж вы так скоро? посидели- бы! — И рада бы, да не могу… Аншанте! До пятницы. Дочку привозите. Мсьё Обрящин будет! — в заключение язвит гостья на прощанье. За Соловкиными следуют Голубовицкие, за Голубовицкими — Мирзохановы и т. д. Все остаются по нескольку минут, и со всеми ведется светский разговор одинакового пошиба. Около трех часов, если визиты перемежились, матушка кричит в переднюю: — Не принимать никого! обедать! Но иногда случается, что, вследствие этой поспешности, приходится отказать интересному кавалеру; тогда происходят сцены раскаянья, что слишком рано поспешили закрыть утро. — Это все ты! — укоряет матушка отца, — обедать да обедать! Кто нынче в три часа обедает! И затем, обращаясь заочно к интересующему гостю, продолжает: — И лукавый его в эту пору принес! Кто в четвертом часу с визитами ездит! Лови его теперь! Рыскает по Москве, Христа славит. Обед представлял собой подобие малиновецкого и почти сплошь готовился из деревенской провизии. Даже капусту кислую привозили из деревни и щи варили, в большинстве случаев, с мерзлой бараниной или с домашней птицей. Говядину покупали редко и тоже мерзлую. Дурной был обед, тяжелый, малопитательный. Впрочем, так как сестра, и без того наклонная к тучности, постоянно жаловалась, что у ней после такого обеда не стягивается корсет, то для нее готовили одно или два блюда полегче. За обедом повторялись те же сцены и велся тот же разговор, что и в Малиновые, а отобедавши все ложились спать, в том числе и сестра, которая была убеждена, что послеобеденный сон на весь вечер дает ей хороший цвет лица. Этого «хорошего цвета лица» она добивалась страстно и жертвовала ради него даже удобствами жизни. Обкладывала лицо творогом, привязывала к щекам сырое говяжье мясо и, обвязанная тряпками, еле дыша, ходила по целым часам. С шести часов матушка и сестра начинали приготовляться к вечернему выезду. Утренняя беготня возобновлялась с новой силой. Битых три часа сестра не отходит от зеркала, отделывая лицо, шнуруясь и примеряя платье за платьем. Беспрерывно из ее спальни в спальню матушки перебегает горничная за приказаниями. — Барышня спрашивают, какую им ленту надеть? — Барышня спрашивают, надевать ли локоны, или гладко причесаться? — Барышня спрашивают, для большого или малого декольте им шею мыть? — Шпилек, булавок несите! — раздается по коридору, — оглохли! Когда туалет кончен, происходит получасовое оглядыванье себя перед зеркалом, принятие различных поз, приседание и проч. Если вечер, на который едут, принадлежит к числу «паре», то из парикмахерской является подмастерье и убирает сестрицыну голову. — Шипси! — командует подмастерье (Ивашка из крепостных), подражая хозяину-французу. — Пропасти на вас нет! — кричит из своего угла отец, которого покой беспрерывно возмущается общей беготнёю. — Ну, батюшка, не прогневайся! — откликается ему матушка. Наконец вдруг, словно по манию волшебства, все утихло. Уехали. Девушки в последний раз стрелой пробежали из лакейской по коридору и словно в воду канули. Отец выходит в зал и одиноко пьет чай. — Что, как на дворе? — спрашивает он камердинера Степана, который прислуживает за столом. — Вызвездило. Мороз лютый ночью будет. — Ну, зима нынче. Того гляди, всех людей поморозят, ездивши по гостям. Отец вздыхает. Одиночество, как ни привыкай к нему, все-таки не весело. Всегда он один, а если не один, то скучает установившимся домашним обиходом. Он стар и болен, а все другие здоровы… как-то глупо здоровы. Бегают, суетятся, болтают, сами не знают зачем и о чем. А теперь вот притихли все, если бы не Степан — никого, пожалуй, и не докликался бы. Умри — и не догадаются. — И зачем только жениться было! — мысленно восклицает он, забывая, что у него от этого брака уж куча детей. Вспоминается ему, как он покойно и тихо жил с сестрицами, как никто тогда не шумел, не гамел, и всякий делал свое дело не торопясь. А главное, воля его была для всех законом, и притом приятным законом. И нужно же было… Отец пользуется отсутствием матушки, чтоб высказаться. «Близок локоть, да не укусишь», — мелькает в его уме пословица. — Степка! — обращается он к слуге: — помнишь, как я холостой был? — Как, сударь, не помнить! — Хорошо тогда было! а? — Уж так-то хорошо, так хорошо, что, кажется, кабы… — Тихо, смирно, всего вдоволь. Эхма! правду пословица говорит: от добра добра не ищут. А я искал. За это бог меня и наказал. — Это точно, что… Бьет десять. Старик допивает последнюю чашку и начинает чувствовать, что глаза у него тяжелеют. Пора и на боковую. Завтра у Власия главный престольный праздник, надо к заутрене поспеть. — Узнавал, будут ли певчие? — спрашивает отец. — Узнавал-с. Сказали, что певчие за поздней обедней будут петь, а за заутреней и за ранней обедней дьячки. — Ну, и дьячков послушаем. А дьякон свой или наемный будет служить? — Дьякона из Чудова монастыря пригласили. А свой за второго пойдет. — Какой это чудовской дьякон? рыжеватый, что ли? — Не могу знать-с. — Должно быть, он. Отец встает из-за стола и старческими шагами направляется в свою комнату. Комната эта неудобна; она находится возле лакейской и довольно холодна, так что старик постоянно зябнет. Он медленно раздевается и, удостоверившись, что выданные ему на заутреню два медных пятака лежат в целости около настольного зеркала, ложится спать. — В четыре часа меня разбудить, — наказывает он Степану, — а девкам скажи, чтобы не гамели. Между часом и двумя ночи матушка с сестрой возвращаются домой. Дни проходят за днями, одинаковые и по форме, и по содержанию. К концу, впрочем, сезон заметно оживляется. С рождества в Благородном собрании начинаются балы и периодически чередуются вплоть до самого поста. Из них самым важным считается утренний бал в субботу на масленице. Для девиц-невест это нечто вроде экзамена. При дневном свете притиранья сейчас же скажутся, так что девушка поневоле является украшенная теми дарами, какие даны ей от природы. Да и наряд необходимо иметь совсем свежий, а не подправленный из старенького. Билеты для входа в Собрание давались двоякие: для членов и для гостей. Хотя последние стоили всего пять рублей ассигнациями, но матушка и тут ухитрялась, в большинстве случаев, проходить даром. Так как дядя был исстари членом Собрания и его пропускали в зал беспрепятственно, то он передавал свой билет матушке, а сам входил без билета. Но был однажды случай, что матушку чуть-чуть не изловили с этой проделкой, и если бы не вмешательство дяди, то вышел бы изрядный скандал. — Мать-то! мать-то вчера обмишулилась! — в восторге рассказывал брат Степан, — явилась с дядиным билетом, а ее цап-царап! Кабы не дядя, ночевать бы ей с сестрой на съезжей! Тем не менее, несмотря на ежедневные выезды и массу денег, потраченных на покупку нарядов, о женихах для сестры было не слышно. — И куда они запропастились! — роптала матушка. — Вот говорили: в Москве женихи! женихи в Москве! а на поверку выходит пшик — только и всего. Целую прорву деньжищ зря разбросали, лошадей, ездивши по магазинам, измучили, и хоть бы те один! Матушка, впрочем, уже догадывалась, что в Москве не путем выездов добываются женихи, и что существуют другие дороги, не столь блестящие, но более верные. В скором времени она и прибегла к этим путям, но с этим предметом я предпочитаю подробнее познакомить читателя в следующей главе. Матушка званых вечеров не давала, ссылаясь на тесноту помещения. Да и действительно, было бы странно видеть танцующие пары в миниатюрной квартирке, в которой и «свои» едва размещались. Впрочем, однажды она расщедрилась и дала, как говорится, пир на весь мир. В эту зиму нам случайно попалась квартира с довольно просторной залой, и дядя воспользовался этим, чтобы уговорить матушку повеселить дочь. Затеяли бал. Мебель ссудил дядя из своей квартиры, посуду напрокат взяли, позвали кухмистера Гарихмусова, накупили конфект, фруктов и разослали приглашения. Бал вышел наславу. Приехало целых четыре штатских генерала, которых и усадили вместе за карты (говорили, что они так вчетвером и ездили по домам на балы); дядя пригласил целую кучу молодых людей; между танцующими мелькнули да-, же два гвардейца, о которых матушка так-таки и не допыталась узнать, кто они таковы. Веселились до пяти часов утра, и потом долго-долго вспоминали об этом бале, приурочивая к нему разные семейные события. Воскресные и праздничные дни тоже вносили некоторое разнообразие в жизнь нашей семьи. В эти дни матушка с сестрой выезжали к обедне, а накануне больших праздников и ко всенощной, и непременно в одну из модных московских церквей. Модными церквами в то время считались: Старое-Вознесенье, Никола Явленный и Успенье-на-Могильцах. В первой привлекал богомольцев шикарный протопоп, который, ходя во время всенощной с кадилом по церковной трапезе, расчищал себе дорогу, восклицая: place, mesdames! Заслышав этот возглас, дамочки поспешно расступались, а девицы положительно млели. С помощью этой немудрой французской фразы ловкий протопоп успел устроить свою карьеру и прославить храм, в котором был настоятелем. Церковь была постоянно полна народа, а изворотливый настоятель приглашался с требами во все лучшие дома и ходил в шелковых рясах. У Николы Явленного настоятелем был протопоп, прославившийся своими проповедями. Говорили, что он соперничал в этом отношении с митрополитом Филаретом, что последний завидовал ему и даже принуждал постричься, так как он был вдов. И действительно, в конце концов он перешел в монашество, быстро прошел все степени иерархии и был назначен куда-то далеко епархиальным архиереем. Что касается до церкви Успенья-на-Могильцах, то она славилась своими певчими. Помнится, что там по праздникам певал крепостной хор Ровинского. Матримониальные цели и тут стояли на первом плане. На сестру надевали богатый куний салоп с большой собольей пелериной, спускавшейся на плечи. Покрыт был салоп, как сейчас помню, бледно-лиловым атласом. Выезды к обедне представлялись тоже своего рода экзаменом, потому что происходили при дневном свете. Сестра могла только слегка подсурмить брови и, едучи в церковь, усерднее обыкновенного нащипывала себе щеки. Стояли в церкви чинно, в известные моменты плавно опускались на колени и усердно молились. Казалось, что вся Москва смотрит. Разумеется, по окончании службы, встречаются со знакомыми, и начинается болтовня. — Ах, какую он сегодня проповедь сказал! еще крошечку — и я разрыдалась бы! — слышится в одном месте. — Как это? как он выразился? «И всегда и везде — он повсюду с нами!» Ах, какая это святая правда! — раздается в другом. — А вы заметили, ma chere, гусара, который подле правого крылоса стоял? — шушукаются между собой девицы, — это гвардеец. Из Петербурга, князь Телепнев-Оболдуй. Двенадцать тысяч душ, ma chere! две-над-цать! — Joli! — И всё в Тульской, да в Орловской, да в Курской губерниях! Вообще, где хлеб… — Вот кабы… — потихоньку шепчет матушка, прислушавшись к разговору и любовно посматривая на дочку-любимку. Начинается разъезд, который иногда длится полчаса. Усевшись в возок, матушка упрекает сестрицу: — Какая ты, однако ж, Наденька, рохля! Смотрит на тебя генерал этот… как бишь? — а ты хоть бы глазом на него повела. — Вот еще! стану я… старик! — Нечего: старик! женихов-то не непочатой угол; раз-другой, и обчелся. Привередничать-то бросить надо, не век на шее у матери сидеть. — Не пойду я за старика. — А не пойдешь, так сиди в девках. Ты знаешь ли, старик-то что значит? Молодой-то пожил с тобой — и пропал по гостям, да по клубам, да по цыганам. А старик дома сидеть будет, не надышится на тебя! И наряды и уборы… всем на свете для молодой жены пожертвовать готов! — Как папенька, например… — Ну что папеньку трогать! Папенька сам по себе. Я правду ей говорю, а она: «папенька»… И т. д. Возвратясь домой, некоторое время прикидываются умиротворенными, но за чаем, который по праздникам пьют после обедни, опять начинают судачить. Отец, как ни придавлен домашней дисциплиной, но и тот наконец не выдерживает. — Как это у вас языки не отсохнут! — кричит он, — с утра до вечера только и дела, что сквернословят! При этом упреке сестрица с шумом встает из-за стола, усаживается к окну и начинает смотреть на улицу, как проезжают кавалеры, которые по праздникам обыкновенно беснуются с визитами. Смотрение в окно составляет любимое занятие, которому она готова посвятить целые часы. — Что в окно глазеешь? женихов высматриваешь? — язвит отец, который недолюбливает старшую дочь именно потому, что матушка балует ее. — И буду смотреть! Вам что за дело! — огрызается сестрица. — Вот как отцу она отвечает! — А вы не троньте меня, и я вас не трону! — Ах, ты… — Сидели бы у себя в углу!.. — Надин! Финиссе! — вступается матушка, не желая, чтобы подобные сцены происходили «деван ле жан». В воскресенье, последний день масленицы, ровно в полночь, цикл московских увеселений круто обрывался. В этот день у главнокомандующего назначался «follй journйe»; но так как попасть в княжеские палаты для дворян средней руки было трудно, то последние заранее узнавали, не будет ли таких же folles journйes у знакомых. Семья, которой не удавалось заручиться последним масленичным увеселением, почитала себя несчастливою. Целый день ей приходилось проводить дома в полном одиночестве, слоняясь без дела из угла в угол и утешая себя разве тем, что воскресенье, собственно говоря, уже начало поста, так как в церквах в этот день кладут поклоны и читают «господи, владыко живота». В чистый понедельник великий пост сразу вступал в свои права. На всех перекрестках раздавался звон колоколов, которые как-то особенно уныло перекликались между собой; улицы к часу ночи почти мгновенно затихали, даже разносчики появлялись редко, да и то особенные, свойственные посту; в домах слышался запах конопляного масла. Словом сказать, все как бы говорило: нечего заживаться в Москве! все, что она могла дать, уже взято! В понедельник же, с раннего утра, матушка начинает торопиться сборами. Ей хочется выехать, не позже среды — после раннего обеда, чтоб успеть хоть на кончике застать у Троицы-Сергия мефимоны. С часу на час ожидают из деревни подвод; Стрелкова командируют в Охотный ряд за запасами для деревни, и к полудню он уже является в больших санях, нагруженных мукой, крупой и мерзлой рыбой. В нашем доме в великий пост не подается на стол скоромного, а отец кушает исключительно грибное и только в благовещенье да в вербное воскресенье позволяет себе рыбу. Те же хлопоты, которые сопровождали приезд в Москву, начинаются и теперь. Беспрерывно слышится хлопанье наружными дверями, в комнатах настужено, не метено, на полах отпечатлелись следы сапогов, подбитых гвоздями; и матушка и сестра целые дни ходят неодетые. Один отец остается равнодушен к общей кутерьме и ходит исправно в церковь ко всем службам. — Подводы приехали! — докладывают матушке. Наконец все прибрано и уложено. В среду утром служат напутственный молебен. В передней спозаранку толчется Стрелков, которому матушка отдает последние приказания. Наскоро обедают и спешат выехать, оставив часть дворни и подвод для очистки квартиры и отправки остальных вещей. Но дорога до Троицы ужасна, особливо если масленица поздняя. Она представляет собой целое море ухабов, которые в оттепель до половины наполняются водой. Приходится ехать шагом, а так как путешествие совершается на своих лошадях, которых жалеют, то первую остановку делают в Больших Мытищах, отъехавши едва пятнадцать верст от Москвы. Такого же размера станции делаются и на следующий день, так что к Троице поспевают только в пятницу около полудня, избитые, замученные. 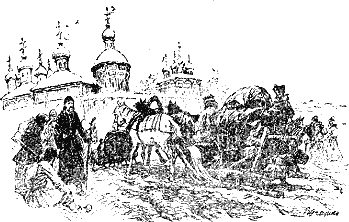
У Троицы вынимаются чемоданы и повторяются те же сцены, как и в Москве перед выездами на вечера. На мефимоны съезжается «вся Москва», и ударить себя лицом в грязь было бы непростительно. Одеваются в особые «дорожные» платья, очень щеголеватые, и на отдохнувших лошадях отправляются в возке (четверней в ряд, по-дорожному) в монастырь. Церковь битком набита, едва можно пробраться, при содействии Конона, который идет впереди, бесстрашно пуская в ход локти. Под сводами храма раздается: «Помощник и Покровитель…» Отец молитвенно складывает руки; у матушки от умиления слезы на глазах. А вот и Голубовицкие, и Гурины, и Соловкины — все! Даже мсьё Обрящин тут — est-ce possible! Так что едва произнесено последнее слово «отнуста», как уже по всей церкви раздаются восклицания: — Вы! какими судьбами? — В деревню! пора! — Парники набивать время! — У нас еще молотьба не кончена! — А у нас скотный двор сгорел. Пугнуть надо. — Но как сегодня пели! я и не знала, где я: на небесах или на земле!.. От Троицы дорога идет ровнее, а с последней станции даже очень порядочная. Снег уже настолько осел, что местами можно по насту проехать. Лошадей перепрягают «гусем», и они бегут веселее, словно понимают, что надолго избавились от московской суеты и многочасных дежурств у подъездов по ночам. Переезжая кратчайшим путем через озеро, путники замечают, что оно уже начинает синеть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
|||||||