 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Борхес Хорхе Луис :: Дансени Лорд :: Твен Марк :: Лесков Николай Семёнович :: Ламур Луис :: Чапек Карел :: Картленд Барбара :: Коллектив Рубоард :: Дойл Артур Конан Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Странное заявление :: Бурый волк :: Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля :: Подарок для Тамухи :: Принц убивший дракона :: Ой, кто идет! :: Обоюдоострый меч :: Волшебный напиток :: Пм-2000 |
Пошехонская старинаModernLib.Net / Отечественная проза / Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович / Пошехонская старина - Чтение (стр. 14)
Но когда она возвратилась в столовую, сердце у нее опять раскипелось. — С племянничком поздравляю! — обратилась она к отцу, — Поликсены Порфирьевны сынок, Федос Николаич… Нечего сказать, наплодила-таки покойница свекровушка, Надежда Гавриловна, царство небесное, родственничков! Отец, который при всякой неожиданности всегда терялся, пришел при этом известии еще в большее раздражение, нежели матушка. — Какой еще Федос? — кричал он, — гнать его отсюда! гнать! Никакого Федоса у меня в родне нет! Не племянник он, а беглый солдат! Гоните его! — Постой, погоди! — опять смягчилась матушка: — криком делу не поможешь, а надо его чередом расспросить, как и что. Позови-ка его сюда! — приказала она лакею. Через минуту в столовую вошел белокурый малый, в белой рубашке навыпуск, грубого холста и сильно заношенной, в штанах из полосатой пестряди, засунутых в сапоги. Он был подпоясан тоненьким шнурком, на котором висел роговой гребень. С приходом его в комнате распространился отвратительный запах ворвани. — Сними! сними сапожищи-то! ишь навонял! — крикнул на него отец. 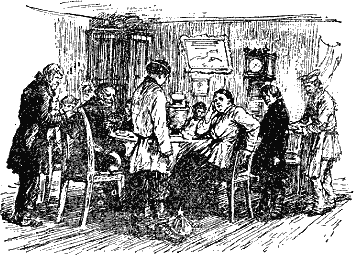
Федос безмолвно вышел и возвратился уже босой. Он стал у двери и, казалось, покорно ждал, куда его определят. — Ну-тка, покажи опять паспорт… Надо приметы сверить, — начала матушка. Федос сунул руку в карман и подал бумагу. Матушка читала вслух: — «Рост два аршина пять вершков» — кажется, так; «лицо чистое» — так; «глаза голубые, волосы на голове белокурые, усы и бороду бреет, нос и рот обыкновенные; особая примета: на груди возле левого соска родимое пятно величиною с гривенник»… Конька! возьми свечу! посмотри! Лакей Конон, прислуживавший за столом, подошел к Федосу со свечой, раздвинул прореху на рубашке и ответил: — Верно-с! — Ну, ежели верно, так, значит, ты самый и есть. Однако ж, этого мало; на свете белокурых да с голубыми глазами хоть пруд пруди. Коли ты Поликсены Порфирьевны сынок, сказывай, какова она была из себя? Федос и это требование выполнил отчетливо, без запинки. — Так, что ли? — обратилась матушка к отцу, — говори, сударь! ты сестрицу свою должен починить, а я и в глаза ее не видала. — Не знаю! Не знаю! — бормотал отец, по обыкновению уклоняясь от определенного ответа. Видно было, однако ж, что рассказ новообретенного родственника был согласен с действительностью. — Ну, ладно. Положим, что ты наш племянничек, зачем же ты к нам пожаловал? разве мало у тебя родных? Одних теток сколько! Отчего ты к ним не пошел? — Да так матушка, умираючи, говорила… — А ежели мы тебя не примем? — Как вам угодно, только я на первый раз порешил у вас основаться. — Решил! он решил!., ах ты, распостылый! — крикнула матушка, вся дрожа от волнения, и, закусив губу, подошла близко к Федосу. — Ты спроси прежде, как дядя с теткой решат… Он решил! Ступай с моих глаз долой, жди в девичьей, пока я надумаю, как с тобой поступить! По уходе Федоса матушка некоторое время сидела, покачиваясь на стуле, и обдумывала. — Не знаю, где и спать-то его положить, — молвила она наконец, — и не придумаю! Ежели внизу, где прежде шорник Степан жил, так там с самой осени не топлено. Ну, ин ведите его к Василисе в застольную. Не велика фря, ночь и на лавке проспит. Полушубок у него есть, чтоб накрыться, а войлок и подушчонку, из стареньких, отсюда дайте. Да уж не курит ли он, спаси бог! чтоб и не думал! Приказание это было исполнено уж прислугой. Ночь матушка провела тревожно. Беспрестанно будила дежурную горничную, спавшую на полу у дверей ее спальни, посылая ее в застольную, и наказывала, чтоб Василиса отнюдь не позволяла Федосу курить. — Ну, что Федоска? спит? — спрашивала она возвратившуюся девушку. — Спит-с. — Не курит? — Василиса говорит: трубочку на крыльце выкурил. — То-то, «трубочку»! А я что приказывала? Наутро матушка едва проснулась, как уже обратилась с вопросом: — Встал? — Еще до свету в ригу молотить ушел. Известие это смягчило матушку. Ушел молотить — стало быть, не хочет даром хлеб есть, — мелькнуло у нее в голове. И вслед за тем велела истопить в нижнем этаже комнату, поставить кровать, стол и табуретку и устроить там Федоса. Кушанье матушка решила посылать ему с барского стола. — А коли благородно себя держать будет — и с собой обедать посадим! Весь этот день Федос работал наравне с прочими барщинными. Молотильщик он оказался отличный, шел в голове цепи, стучал цепом не спеша, ровно, плавно, и прямо, и накрест. Когда же стемнело, его позвали к матушке. — Что это тебе молотить вздумалось? — спросила она его ласково. — Что ж так-то сидеть! Я всю дорогу шел, работал. День или два идешь, а потом остановишься, спросишь, нет ли работы где. Где попашешь, где покосишь, пожнешь. С недельку на одном месте поработаешь, меня в это время кормят и на дорогу хлебца дадут, а иной раз и гривенничек. И опять в два-три дня я свободно верст пятьдесят уйду. Да я, тетенька, и другую работу делать могу: и лапоть сплету, и игрушку для детей из дерева вырежу, и на охоту схожу, дичинки добуду. — Вот ты какой! Ну, поживи у нас! Я тебе велела внизу комнатку вытопить. Там тебе и тепленько и уютненько будет. Обедать сверху носить будут, а потом, может, и поближе сойдемся. Да ты не нудь себя. Не все работай, и посиди. Я слышала, ты табак куришь? — Курю, тетенька! да вы не беспокойтесь, у меня на табак деньги найдутся! Федос полез в карман и вынул оттуда пригоршню медных и мелких серебряных монет. — Что ж, можно изредка и покурить, только будь осторожен, мой друг, не зарони! Ну, ступай покуда, Христос с тобой! С тех пор Федос поселился внизу вместе с собакой Трезоркой, которую как-то необыкновенно быстро приучил к себе. Горничные со смехом рассказывали, что он с собакой из одной посудины и пьет и ест, что он ее в самое рыло целует, поноску носить выучил и т. д. — И накурено же у него табачищем в каморке — не продохнешь! даже Трезорка чихает, — говорили они, — а нагажено, напакощено — страсть! С своей стороны, он на помещенье не жаловался, а только пенял на еду. — Скажите тетеньке, — поручал он горничным, — мне бы хлеба да щец побольше, а разносолов не надобно. Справедливость требует сказать, что просьба его была уважена. Вскоре он раздобылся где-то ружьем и другим охотничьим припасом и принес матушке две пары тетеревей. — Ну, спасибо тебе, вот мы и с жарковцем! — поблагодарила его матушка, — и сами поедим, и ты с нами покушаешь. Эй, кто там! снесите-ка повару одного тетерева, пускай сегодня к обеду зажарит, а прочих на погреб отдайте… Спасибо, дружок! Мы, дети, сильно заинтересовались Федосом. Частенько бегал я через девичье крыльцо, без шапки, в одной куртке, к нему в комнату, рискуя быть наказанным. Но долго не решался взойти. Придешь, приотворишь дверь, заглянешь и опять убежишь. Но однажды он удержал меня. — Ты что же ко мне только заглядываешь, а не зайдешь? Небось, не укушу. Я стоял перед ним смущенный и безмолвствовал. — Что встал? зайди! — пригласил он, — посмотри, какого я коня тебе борзого вырезал! Хоть сто верст на нем скачи — не упарится! Он показал мне деревянного конька грубой работы, у которого под животом вырезано было четырехугольное отверстие, и по сторонам его фигурные столбики, долженствующие изображать ноги. Потом позвал Трезорку и стал проделывать с ним фокусы. — Шершь! — крикнул он, кидая в угол корку хлеба. Трезорка кинулся со всех ног, но, достигнув цели, не взял корки в зубы, а остановился как вкопанный и поднял ногу. — Это он стойку делает. Хоть два часа простоит, не двинется. Пиль, аппорт! — снова крикнул он. Трезорка схватил корку и принес ее Федосу. — Теперь давай ее сюда! — сказал Федос, отнимая корку и кладя ее Трезорке на нос. — Слушай команду, аз, буки, глаголь, добро… Федос отвернулся от Трезорки, как будто забыл о нем. Минуты две он сидел молча, так что у Трезорки потоками полились слюни с брыластых губ. — Есть! — скомандовал Федос неожиданно. Трезор мигом подкинул корку вверх и на лету проглотил ее. — Вот пес! — хвалился Федос, — необразованный был, даже лаять путем не умел, а я его грамоте выучил. На охоту со мной уже два раза ходил. Видел ты, сколько я глухарей твоей мамаше перетаскал? — Они у нас, братец, на погребе лежат. — И будут лежать, пока не протухнут. Это уж такой обычай у вас. — А вам, братец, весело здесь? — Какое веселье! Живу — и будет с меня. Давеча молотил, теперь — отдыхаю. Ашать (по-башкирски: «есть») вот мало дают — это скверно. Ну, да теперь зима, а у нас в Башкирии в это время все голодают. Зимой хлеб с мякиной башкир ест, да так отощает, что страсть! А наступит весна, ожеребятся кобылы, начнет башкир кумыс пить — в месяц его так разнесет, и не узнаешь! — Неужто… от кумыса? — Да, кобылье молоко квашеное так называется… Я и вас бы научил, как его делать, да вы, поди, брезговать будете. Скажете: кобылятина! А надо бы вам — видишь, ты испитой какой! И вам есть плохо дают… Куда только она, маменька твоя, бережет! Добро бы деньги, а то… еду! Он ощупал меня и продолжал: — Кости да кожа! И погулять вас не пускают, все в комнатах держат. Хочешь, я тебе лыжи сделаю. Вот снег нападет, все по очереди кататься будете. — Да маменька… Братец, попросите маменьку! — Послушает она меня… держи карман! Однако, ступай, брат, наверх — неравно хватятся! Когда-нибудь в праздник, после обеда, я сам к вам заберусь, покуда старики спят. 
Словом сказать, чем дольше он жил, тем больше весь дом привыкал к нему. Дворня полюбила его, потому что он хоть и «барин», а все равно, что свой брат; матушка была довольна, потому что племянник оказался трезвый и работящий. Беспрерывно оказывался у него какой-нибудь новый талант: то лошадь подкует на диво, то печку исправит, ежели дымит, то стекло в окне вставит. Сначала матушка боялась, чтобы нравственность в девичьей не испортилась, но и тут все обстояло благополучно. От времени до времени он, однако ж, исчезал. Уйдет, и дня два-три его не видать. Тогда у матушки опять разыгрывалось воображение. — Ну, помяните мое слово, что он беглый солдат! — ежеминутно беспокоилась она. Надо сказать, что она, тотчас после приезда Федоса, написала к белебеевскому предводителю дворянства письмо, в котором спрашивала, действительно ли им был выдан вид Федосу Половникову; но прошло уже более полутора месяца, а ответа получено не было. Молчание это служило источником великих тревог, которые при всяком случае возобновлялись. — Где побывал? — спрашивала она, когда Федос возвращался из своих временных отлучек. — Мужичок тут один, верстах в десяти, помочь помолотить просил. — Мужичок? не бабочка ли? — А может, и бабочка. Все нынче, и мужики и бабы, по холодку в полушубках ходят — не разберешь! Матушке становилось досадно. Все ж таки родной — ты мог бы и своим послужить! Чего ему! и теплехонько, и сытёхонько здесь… кажется, на что лучше! А он, на-тко, пошел, за десять верст, к чужому мужику на помочь! Но Федос, сделавши экскурсию, засиживался дома, и досада проходила. К тому же и из Белебея бумага пришла, из которой было видно, что Федос есть действительный, заправский Федос, тетеньки Поликсены Порфирьевны сын, так что и с этой стороны сомнения не было. Замечательно, что среди общих симпатий, которые стяжал к себе Половников, один отец относился к нему не только равнодушно, но почти гадливо. Случайно встречаясь с ним, Федос подходил к нему «к ручке», но отец проворно прятал руки за спину и холодно произносил: — «Ну, будь здоров! проходи, проходи!» Заочно он называл его не иначе, как «кобылятником», уверял, что он поганый, потому что сырое кобылье мясо жрет, и нетерпеливо спрашивал матушку: — Долго ли этот кобылятник наш дом поганить будет! Посуду-то, посуду-то после него на стол подавать не смейте! Ведь он, поганец, с собакой из одной чашки ест! Может быть, благодаря этому инстинктивному отвращению отца, предположению о том, чтобы Федос от времени до времени приходил обедать наверх, не суждено было осуществиться. Но к вечернему чаю его изредка приглашали. Он приходил в том же виде, как и в первое свое появление в Маликовце, только рубашку надевал чистую. Обращался он исключительно к матушке. — Вот бы вам, тетушка, в нашу сторону перебраться, да там бы усадьбу выстроить, — соблазнял он. — А что? — Земля у нас черная-черная, на сажень глубины. Как подымут целину, так даже лоснится. Лес — дубовый, рек много, а по берегам всё луга поемные — трава во какая растет, словно тростник тучная! — Манна с неба не падает ли? — Нет, я верно говорю, не хвастаюсь. Именно на редкость земля в нашей стороне. — Кто же на ней живет? помещики, что ли? — Нет, башкиры. Башкиро-мещеряцкое войско такое есть; как завладели спервоначалу землёй, так и теперь она считается ихняя. Границ нет, межеванья отроду не бывало; сколько глазом не окинешь — все башкирам принадлежит. В последнее, впрочем, время и помещики, которые поумнее, заглядывать в ту сторону стали. Сколько уж участков к ним отошло; поселят крестьян, да хозяйство и разводят. — Ведь землю-то, чай, купить надо? — Самые пустяки стоит. Кантонному начальнику по гривеннику за десятину заплатить, да обществу, за приговор, ведер десять водки выпоить — сколько угодно отмеряют! — Ах, прах побери, да и совсем! Матушка даже повернулась на стуле при одной мысли, как бы оно хорошо вышло. Некоторое время она молчала; вероятно, в голове ее уже роились мечты. Купить земли — да побольше — да крестьян без земли на своз душ пятьсот, тоже недорого, от сорока до пятидесяти рублей за душу, да и поселить их там. Земля-то новая — сколько она приплода даст! Лошадей развести, овец… — У нас от одних лошадей хороший доход получить можно, — продолжал соблазнять Федос, — содержание-то их почти ничего не стоит — и зиму и лето в степи; зимой из-под снега корм добывают… А в Мензелинске, между прочим, ярмарка бывает: издалека туда приезжают, хорошие цены дают. Опять овчины, шерсть… — Да замолчи ты, сделай милость! — Как угодно, а я бы вам это дело чудесно подстроил. Но матушка отрезвлялась так же быстро, как и увлекалась. Мечты рассеялись, и через несколько минут она уж всецело принадлежала действительности. — Нет, голубчик, — сказала она, — нам от своего места бежать не приходится. Там дело наладишь — здесь в упадок придет; здесь будешь хозяйствовать — там толку не добьешься. Нет ничего хуже, как заглазно распоряжаться, а переезжать с места на место этакую махинищу верст — и денег не напасешься. Однако, во всяком случае, рассказ Федоса настолько заинтересовал матушку, что она и потом, при всяком новом свидании с ним, говорила: — А ну-ка, расскажи про сторону про свою, расскажи! Повторяю: Федос настолько пришелся по нраву матушке, что она ему даже суконный казакин и шаровары приказала сшить. — Нехорошо все в рубашке ходить; вот и тело у тебя через прореху видно, — сказала она, — гости могут приехать — осудят, скажут: племянника родного в посконной рубахе водят. А кроме того, и в церковь в праздник выйти… Все же в казакинчике лучше. Федос не противоречил и надел казакин, хотя и неохотно. Мне, впрочем, и самому показалось, что рубашка шла ему больше к лицу. — Скажи Христа ради, зачем ты свое место бросил? — добивалась иногда от него матушка. — Да так… и не у чего, да и не все же на одном месте сидеть; захотелось и на людей посмотреть. — Все же надо себя к одному какому-нибудь месту определить. Положим, теперь ты у нас приютился, да ведь не станешь же ты здесь век вековать. Вот мы по зимам в Москве собираемся жить. Дом топить не будем, ставни заколотим — с кем ты тут останешься? — Уйду! — Да куда ты уйдешь, непутевый ты человек?! — Паспорт у меня есть, свет не клином сошелся. Уйду. — Заладил одно: уйду да уйду. Пить, есть надо. Вот о чем говорят. — Найду. Без еды не останусь. — В приказчики, что ли, нанялся бы. Ты сельские работы знаешь, — это нечего говорить, положиться на тебя можно. Любой помещик с удовольствием возьмет. — Не по рылу мне с помещиками вожжаться. Словом сказать, на все подобные вопросы Федос возражал загадочно, что приводило матушку в немалое смущение. Иногда ей представлялось: да не бунтовщик ли он? Хотя в то время не только о нигилистах, но и о чиновниках ведомства государственных имуществ (впоследствии их называли помещики «эмиссарами Пугачева») не было слышно. «И не разберешь его, что за человек такой! — думалось ей, — бродит без надобности: взял да — и пошел — разве между людьми так водится? Наверное, заразу какую-нибудь разносит!» По этому случаю она позвала на совет даже старосту Федота. — Что? как у нас? все благополучно? — спросила матушка. — Все, кажется, слава богу, — ответил Федот, втайне, однако ж, недоумевая, не случилось ли чего-нибудь, о чем матушка узнала прежде него. — Что мнешься! Федос как? — Ничего, сударыня, и Федос Николаич… Только чудо это! барин, а как себя беспокоит! — Ну, и пускай беспокоится — это его дело. Не шушукается ли он — вот я о чем говорю. — С кем, сударыня, у нас шушукаться!.. Нет, слава богу, кажется, ничего! — То-то «ничего»! ты у меня смотри! Ты первый будешь в ответе, ежели что случится! После этого совещания матушка окончательно успокоилась и становилась все более и более благосклонною к Федосу. Однажды даже предложила ему гривенничек. — Вот тебе гривенничек! — сказала она, — это на табак. Когда свой выйдет, купи свеженького. Но Федос отказался. — Благодарю покорно, — ответил он, — я на той неделе у мужичка три дня проработал, так он полтинник дал. Целый запас у меня теперь табаку, надолго станет. — Полтинник! вот как! Ну, и слава богу, что добрые люди не оставляют тебя. Матушка слегка обиделась; ей показалось, что в словах Федоса заключается темный намек на ее скупость. «Полтинник! Это чтоб я полтинник ему дала — за что, про что! — думалось ей, — на вас, бродяг, не напасешься полтинников-то! Сыт, одет, чего еще нужно!» В одно из воскресений Федос исполнил свое обещание и забрался после обеда к нам, детям. И отец и мать отдыхали в спальнях. Мы чуть слышно расхаживали по большой зале и говорили шепотом, боясь разбудить гувернантку, которая сидела в углу в креслах и тоже дремала. — Вот и я, братцы, к вам пришел! — приветствовал он нас, — а вы всё в клетке да в клетке, словно острожные, сидите… Эх, голубчики, плохо ваше дело! Что носы повесили? давайте играть! Мы молча указали на гувернантку. — Ничего, пускай ведьма проснется! а станет разговаривать, мы ей рот зажмем! Во что же мы играть будем? в лошадки? Ну, быть так! Только я, братцы, по-дворянски не умею, а по-крестьянски научу вас играть. Вот вам веревки. Он вынул из кармана два пучка веревок и стал их развязывать. — Я по-дворянски ничего не умею делать — сердце не лежит! — говорит он, — то ли дело к мужичку придешь… «Здравствуйте!» — Здравствуй! — «А как тебя величать?» — Еремой. — «Ну, будь здоров, Ере-ма!» Точно век вместе жили! Станешь к нему на работу — и он рядом с тобой, и косит, и молотит, всякую работу сообща делает; сядешь обедать — и он тут же, те же щи, тот же хлеб… Да вы, поди, и-не знаете, какой такой мужик есть… так, думаете, скотина! Ан нет, братцы, он не скотина! помните это: человек он! У бога есть книга такая, так мужик в ней страстотерпцем записан… Давайте же по-крестьянски в лошади играть. Вот я, мужик, вышел в поле лошадей ловить, вот у меня и кормушка с овсом в руках (он устроил из подола рубашки подобие кормушки), — а вы, лошади, во стаде пасетесь. Бегите от меня теперь, а я к вам подходить стану… Сначала вы не поддавайтесь. В бок шарахайтесь; шарахнитесь — и остановитесь… А потом, как я с кормушкой поближе встану, вы помаленьку на овес и подходите… Овес-то, братцы, лаком; когда-когда его мужичий коняга видит! Мы пустились вскачь в угол, Федос за нами. Поднялся визг, гвалт; гувернантка вскочила, как встрепанная, и смотрела во все глаза. — Что такое, что такое! — кричала она. — Дети! по местам, сию минуту! Hеrr Федос! как вы здесь находитесь? — По щучьему веленью, по моему хотенью… Ах, Марья Андреевна! красавица! позвольте остаться, с детьми поиграть! Слово «красавица» и смиренный вид, который принял Федос, видимо смягчили Марью Андреевну. — Это не я… но Анна Павловна… — Что Анна Павловна! Анна Павловна теперь сны веселые видит… Красавица! хотите, я для вас колесом через всю залу пройдусь? И прошелся. — Хотите, вприсядку спляшу? И сплясал, да так сплясал, что суровая Марья Андреевна за бока держалась от смеха и прерывисто всхлипывала: — О, Негг Федос! Негг Федос! Наконец вызвался басом октаву взять и действительно загудел так, словно у него разом все мокроты поднялись и в горле заклокотали. — О, Негг Федос! Негг Федос! — заливалась Марья Андреевна. Затем мы возобновили игру в лошади. И пахали, и боронили, и представляли, как подвода парой везет заседателя… Шум поднялся такой, что наконец матушка проснулась и застигла нас врасплох. — Это что такое! сейчас по местам! — послышался в дверях грозный окрик. Ну, и была же у нас тут история!.. Прошла масленица, молотьба кончилась, наступил полный отдых. Жалко зазвенел наш девятипудовый колокол, призывая говельщиков. Батюшка с тетеньками-сестрицами каждый день ездили в церковь, готовясь к причастию. Только сенные девушки продолжали работать, так что Федос не выдержал и сказал одной из них: — Посмотрю я на вас — настоящая у вас каторга! И первую неделю поста отдохнуть не дадут. Разумеется, слова эти были переданы матушке и возбудили целую бурю. — Так и есть! Так я и знала, что он бунтовщик! — сказала она и, призвав Федоса, прикрикнула на него: — Ты что давеча Аришке про каторгу говорил? Хочешь, я тебя, как бунтовщика, в земский суд представлю! — Представьте! — отвечал он безучастно. — То-то «представьте»! Там не посмотрят на то, что ты барин, — так-то отшпарят, что люба с два! Племянничек нашелся!.. Милости просим! Ты бы чем бунтовать, лучше бы в церковь ходил да богу молился. Этому совету Федос последовал и на второй неделе очень прилежно говел. Наступила ростепель. Весна была ранняя, а Святая — поздняя, в половине апреля. Солнце грело по-весеннему; на дорогах появились лужи; вершины пригорков стали обнажаться; наконец, прилетели скворцы и населили на конном дворе все скворешницы. И в доме сделалось светлее и веселее, словно и в законопаченные кругом комнаты заглянула весна. Так бы, кажется, и улетел далеко-далеко на волю! Федос становился задумчив. Со времени объяснения по поводу «каторги» он замолчал. Несколько раз матушка, у которой сердце было отходчиво, посылала звать его чай пить, но он приказывал отвечать, что ему «мочи нет», и не приходил. — Ну, ежели гневаться на меня изволит, пускай куксится, — сердилась матушка, — была бы честь приложена, а от убытка бог избавил! Впрочем, в Светлый праздник, у заутрени, он честь-честью похристосовался со всеми, а после поздней обедни даже разговелся вместе с нами. К концу апреля поля уже настолько обсохли, что в яровом показались первые сохи. С дорог тоже мало-помалу слила вода. Матушка надеялась, что Федос в первой сохе выедет в поле, а ей, напротив, совершенно неожиданно доложили, что он ночью исчез и пожитки свои унес, только казакин оставил. — Чай, мужичок какой-нибудь на помочь попахать зазвал! — негодовала матушка: — вот ужо воротится, я ему отпою! Но прошло три дня, прошла неделя, другая — Федос не возвращался. Федос исчез, исчез без следа, без признака; словно дым растаял. Выел ли он кому очи? или так, бесплодно скитаясь по свету, потонул в воздушной пучине?. XII ПОЕЗДКИ В МОСКВУ Поездки эти я подразделяю на летние и зимние, потому что и те и другие оставили во мне различные впечатления. Первые были приятны; последние ничего, кроме скуки и утомления, не представляли. Летом, до поступления в казенное заведение, я совсем в Москве не бывал, но, чтобы не возвращаться к этому предмету, забегу несколько вперед и расскажу мою первую поездку в «сердце России», для определения в шестиклассный дворянский институт, только что переименованный из университетского пансиона. Это было в начале августа, и матушка сама собралась вместе со мною. Вообще, во всех важных делах она надеялась только на собственную находчивость. Институтское начальство ей было знакомо, так как все мои старшие братья воспитывались в университетском пансионе; поэтому ей думалось, что ежели я и окажусь в каком-нибудь предмете послабее, то, при помощи ее просьб, ко мне будут снисходительны. Сверх того, она была уверена, что если будет лично присутствовать при экзамене (а это допускалось), то и я не посмеюотвечать худо… Стоял прекрасный, полуосенний августовский день. Я встал спозаранку и целое утро пробегал по саду, прощаясь со всеми уголками и по временам опускаясь на колени, целуя землю. Была ли это действительная, искренняя экзальтация, или только напускное подражание каким-нибудь примерам, вычитанным из случайно попадавших под руку книжек, — решить не берусь. Скорее, впрочем, склоняюсь в пользу последнего предположения, потому что не помню, чтоб во мне происходило в то время какое-нибудь душевное движение. Впоследствии то же самое явление не раз повторялось, когда я, уже продолжая воспитание в Петербурге, езжал домой на каникулы. Обыкновенно сговаривалось три-четыре воспитанника из москвичей; все вместе брали места в одном и том же дилижансе и всегда приказывали остановиться, не доезжая Всесвятского, на горе, с которой открывался вид на Москву. Мы вылезали из экипажа, становились на колени и целовали землю… Мы выехали из Малиновца около часа пополудни. До Москвы считалось сто тридцать пять верст (зимний путь сокращался верст на пятнадцать), и так как путешествие, по обыкновению, совершалось «на своих», то предстояло провести в дороге не меньше двух; дней с половиной. До первой станции (Гришково), тридцать верст, надо было доехать засветло. Я уже в самом начале этой хроники описал местность, окружавшую Малиновец. Невеселое было это место, даже мрачное; но все-таки, когда мы проехали несколько верст, мне показалось, что я вырвался из заключения на простор. Ядреный воздух, напоенный запахом хвойных деревьев, охватывал со всех сторон; дышалось легко и свободно; коляска на старинных круглых рессорах тихо укачивала. Ехали легкой рысцой, не больше шести верст в час, при каждой гати, при каждой песчаной полосе пускали лошадей шагом. От времени до времени Конон-лакей соскакивал с козел, шел пешком за коляской, собирал белые грибы, которые по обеим сторонам дороги росли во множестве. Матушка дремала; Агаша, ее неизменная спутница, сидя против меня, тоже клевала носом. Перед матушкой, на свободном месте передней скамейки, стояло большое лукошко, наполненное большими поздними персиками (венусами), которые были переложены смородинным и липовым листом. Они предназначались в подарок дедушке. — Ты что не спишь? — спрашивала меня матушка, просыпаясь. — Агашка! ты хоть бы на колени лукошко-то взяла… ишь его раскачивает! — Да оно, сударыня, веревками к козлам привязано. — Наказание с этими персиками! Привезешь — скажут: кисель привезла! не привезешь — зачем не привезла? — Да вы бы, маменька, в Москве купили, — догадался я. — Это по два-то рубля за десяток платить! На-тко!.. Алемпий! много ли до дубровы осталось? — Да верст с пяток еще будет. — Пошевеливал бы ты, что ли. Часа уж два, поди, едем, а все конца-краю лесу нет! — Вот сейчас выедем, — уж видко! потом веселее — в горку пойдет. — Ах, что-то будет! что-то будет? выдержишь ли ты? — обращалась матушка снова ко мне, — смотри ты у меня, не осрамись! — Постараюсь, маменька. От меня матушка опять обращалась к лукошку и приподнимала верхний пласт листьев. — Ничего, сверху еще хороши. Ты, Агашка, смотри: как приедем в Гришково, сейчас же персики перебери! Я и сам с нетерпением ждал дубровы, потому что оттуда шла повёртка на большую дорогу. Скоро мы выехали из леса, и дорога пошла полями, в гору. Вдали виднелась дуброва, или, попросту, чистая березовая роща, расстилавшаяся на значительное пространство. Вся она была охвачена золотом солнечных лучей и, колеблемая ветром, шевелилась, как живая. Алемпий свистнул, лошади побежали крупною рысью и минут через двадцать домчали нас до дубровы. Рядом с нею, сквозь деревья, виднелась низина, по которой была проложена столбовая дорога. — Вот когда сущее мучение начнется! — молвил Алемпий, доехав до повёртки и осторожно спуская экипаж по косогору. — Конон! иди вперед, смотри, все ли мостовины-то целы! Да, это было мучение. Мостовник, только изредка пересекаемый небольшими полосами грунтовой дороги, тянулся более шести верст. Мостовины посередине сгнили и образовали выбоины, в которые с маху ударялись колеса экипажа. Случалось, что пристяжная ступала на один конец плохо утвержденной мостовины и тяжестью своей приподнимала другой конец. По обеим сторонам расстилалось тонкое, кочковатое болото, по которому изредка рассеяны были кривые и низкорослые деревца; по местам болото превращалось в ржавые бочаги, покрытые крупной осокой, белыми водяными лилиями и еще каким-то растением с белыми головками, пушистыми, как хлопчатая бумага. Матушка держалась за край дверцы и шептала: — Помяни, господи, царя Давида и всю кротость — его! Помяни, господи… Тише, тише! Куда сломя голову скачешь! Агашка! да держи же персики! ах, чтоб тебя! Помяни, господи… Агашка обеими руками держалась то за дверцу, то за лукошко; меня подбрасывало так, что я серьезно опасался быть вышвырнутым из экипажа. Приехали мы в Гришково, когда уж солнце закатывалось, и остановились у старого Кузьмы, о котором я еще прежде от матушки слыхивал, как об умном и честном старике. Собственно говоря, он не держал постоялого двора, а была у него изба чуть-чуть просторнее обыкновенной крестьянской, да особо от нее, через сенцы, была пристроена стряпущая. Вообще помещение было не особенно приютное, но помещики нашего околотка, проезжая в Москву, всегда останавливались у Кузьмы и любили его. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
|||||||