 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Толстой Лев Николаевич :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Чехов Антон Павлович :: Станюкович Константин Михайлович :: Сименон Жорж :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: Скандальная леди :: Песнь Крови :: Рагнарёк :: The Boarding House :: Любовь на темной улице (сборник рассказов) :: Женская интуиция :: Русский Дом :: Дюна (Книги 1-3) :: Белая ворона :: Бездна |
Приключения Каспера Берната в Польше и других странахModernLib.Net / Исторические приключения / Шишова Зинаида / Приключения Каспера Берната в Польше и других странах - Чтение (стр. 28)
Трясясь в своей великолепной карете по фромборкской дороге, Тидеман Гизе, думая обо всем этом, только в бессильном гневе сжимал свои сухие кулачки.
Но, в конце концов, такое пренебрежение к памяти великого усопшего останется на совести короля и всех иже с ним… Разочтется за это с ними история! Брат Миколай никогда не придавал значения мнению королевского двора, не искал покровительства вельмож, не заискивал перед скоротечной и бренной славой… И рассудит его с великими мира сего опять та же история! Одно только обстоятельство самым непосредственным образом оскорбляло память покойного… Мало того – оно как бы сводило на нет многолетние труды великого астронома! Сообщив Касперу Бернату о том, что он вынужден будет несколько задержаться по возвращении на Хелмщину, бискуп, прибыв в Любаву, не отдохнув после томительных придворных празднеств, не приступив к исполнению своих пастырских обязанностей, снова двинулся в путь. Дело в том, что в Любаве его дожидался уже пересланный Иоахимом де Лаухеном свежеотпечатанный экземпляр «Обращений» брата Миколая. Слуга, явившийся помочь бискупу раздеться, а также получить распоряжения на завтрашнее утро, с удивлением увидел, что владыка в ночной одежде сидит за письменным столом, а на полу валяются вырванные из книги, еще слипающиеся от типографской краски листы. – Ты пришел? Хорошо! – сказал бискуп. И, потребовав свечу, тут же запечатал сургучом два пакета. – Возьми, – сказал он. – Этот нужно отправить в Нюрнберг, типографу Петрею, а этот – в Лейпциг, Иоахиму де Лаухену! Поторопись… Скажи на конюшне, чтобы немедленно закладывали карету. И пускай отправят вперед, во Фромборк, верхового… Слуга нырнул в коридор, испуганный донельзя: такого гневного лица у своего благостного бискупа он никогда еще не видел. Тут же про себя малый решил, что, как только бискуп отбудет, он подберет и разгладит скомканные листы и таким образом узнает причину гнева и внезапного отъезда владыки. Дело в том, что хелмской епархией до Тидемана Гизе управлял Ян Дантышек, тот, что нынче так пошел в гору… Сам не брезгуя соглядатайством, он приучил к этому и своих слуг. Возможно, что вырванные листы заключают в себе нечто важное, а его преосвященство вармийский бискуп Ян Дантышек в таком случае за наградой не постоит! Однако, возвратившись в епископские покои доложить, что карета заложена, слуга никаких изорванных листов на полу не обнаружил. Посланный вперед верховой сообщил обитателям Фромборка, что вслед за ним следует ждать епископа. Прижавшись в притворе храма к стене, Вацек пропустил вперед толпу светских и духовных лиц, сопровождавших епископа хелмского к месту вечного упокоения отца Миколая Коперника. Как хорошо, что Вацку удалось до их прихода возложить на усыпальницу цветы! Отца Миколая мальчик узнал сразу, и совсем не потому, что был заранее предупрежден об этой встрече. Он узнал ученого по его глазам, по его улыбке, по тому особому трепету, который Вацек ощутил где-то в самой глубине груди… А вот что касается отца Гизе, о котором так много и с таким расположением говорили в домах у Бернатов и Суходольских, то мальчик поначалу его и не заметил в толпе сопровождающих. Только разглядев лиловое одеяние и митру на голове (епископ прибыл отслужить заупокойный молебен над могилой друга), Вацек догадался, что этот маленький сухонький старичок и есть Тидеман Гизе! Какой же он невзрачный, и как не пристала ему его пышная мантия! Отец и дядя дожидались епископа с нетерпением. Фромборкский капитул подготовил его преосвященству подобающую встречу, сейчас Тидеман Гизе вернется в замок, а с ним, вероятно, вся эта толпа разряженных господ… Нет, Вацек в замок не пойдет, а снова отправится в рощицу. Может быть, эта дама… да что там скрывать, – может быть, Анна Шиллинг еще не уехала? Как жалко, что хорошие мысли так поздно приходят в голову! Ведь он мог бы поговорить с ней… Или помолчать с ней… Она ведь знала, она любила отца Миколая! Две глубокие колеи вели от опушки рощи к фромборкской дороге, и Вацек пошел по следам Анны Шиллинг. Здесь дорога свернула на Гданьский шлях. Пролежав до самого захода солнца под кустом жимолости, мальчик только к вечеру вернулся в замок. Там же, в роще, он пришел к заключению, что все планы, которые он строил по дороге из Гданьска во Фромборк, не стоят и выеденного яйца. Сейчас труд Миколая Коперника уже отпечатан в тысяче экземпляров, тысяча людей не сегодня-завтра ознакомится с ним, а темные церковники уже ничего не смогут сделать тому, кто покоится в пышном Фромборкском соборе! Как это сказала Анна Шиллинг? «Мертвому, но бессмертному человеку»… Ходить по селам и городам и проповедовать учение Коперника? Когда Вацек заикнулся об этом отцу Миколаю, тот притянул его к себе и с улыбкой погладил по волосам. «Для того, чтобы ходить и, как ты говоришь, проповедовать мое учение, нужно делать это во всеоружии знаний!» – заметил он. Отец Миколай взял с Вацка слово, что тот в будущем году в славной Краковской академии все свои силы положит, чтобы стать примерным и сведущим студентом. «Предсказываю тебе, что в таком случае астроном, и притом астроном отличный, из тебя получится», – сказал он с уверенностью. Перед тем как подняться наверх, где в большом полутемном покое помещались они с отцом и дядей Збигневом, Вацек заглянул в каморку к Войцеху. – Ушли уже гости? – осведомился он. – В приемной только епископ, отец твой и дядя да еще Левше… Всех прочих его преосвященство отослал… Он дважды справлялся о тебе. Нехорошо! Отец и дядя надеялись тебя ему представить. Заглянув в бывшую приемную отца Миколая, Вацек понял, что ни епископу Гизе, ни отцу, ни дяде сейчас не до него. Тидеман Гизе с воспаленными от волнения щеками мерил шагами комнату с такою стремительностью, что только свистело его шелковое одеяние. Дядя Збышек, бледный до синевы, сидел, уронив голову на руки, а отец… Вацек даже попятился. Шрамы на лице капитана Берната, которые давно уже зарубцевались и сгладились, сейчас багрово-синими буграми выступили на его лбу и щеках. – Мы присутствуем при том, – гневно говорил отец Тидеман, – как на глазах наших вторично опускают в могилу астронома Миколая Коперника! Я не так сказал. Прах его покоится в катедре, душа его вознеслась в горние края, а это вот, – епископ потряс огромной толстой книгой, – это его сердце! И сердце Коперника жалкие и наглые враги хотят замуровать в склеп, света его учения хотят лишить человечество! Как же вы со Збигневом не удосужились до сих пор хотя бы раскрыть том «Обращений»! – Много забот и хлопот было, ваше преосвященство, – сказал Збигнев виновато. Каспер Бернат молчал. Конечно, как ни заняты были они, нужно было найти время, чтобы хотя бы просмотреть труд Учителя! Вацек потихоньку вошел и пристроился, незамеченный, на своем обычном месте, у окна – на скамеечке для ног. – Ах, Ретик, Ретик, недаром Миколай так опасался этого лютерского попа! – вздохнул Тидеман Гизе. – Однако, может быть, удастся исправить это ужасное деяние: я послал письмо в магистрат города Нюрнберга с просьбой изъять из типографии Петрея первые страницы набора… А Ретику отправил просьбу проследить за этим через друзей. Эта преступная фальсификация произошла ведь по его вине! – Ваше преосвященство, – возразил Збигнев удрученно, – нарочный из Нюрнберга, доставивший книгу, сообщил, что через пять дней будет отпечатана вся тысяча экземпляров… А с тех пор прошло уже дважды по пять дней… Но, ваше преосвященство, может ведь случиться и так, что читатель книги, не обратив внимания на предисловие, углубится в текст «Обращений» и таким образом цель мерзкого попа не будет достигнута… Мальчик мало понял из того, что ему довелось услышать. Что-то произошло с книгой Миколая Коперника, кто-то захотел помешать торжеству знания и разума… Кто – это уж не так важно… А может быть, дядя Збигнев прав и его преосвященство преувеличивает размеры несчастья? Вацек не произнес ни слова, но в комнате воцарилась на мгновение такая тишина, что даже легкий вздох, вырвавшийся из груди мальчика, привлек внимание епископа. Разглядев прижавшегося к стене Вацка, его преосвященство поманил его пальцем. – Молодой Бернат? Да, даже я своими старческими глазами разглядел, что это молодой Бернат! Видел, юноша, я твои чертежи, читал мне отец Миколай и твои письма… Как я мог заключить, доля астронома привлекает тебя больше всего… Так… Так… Вот теперь, когда ты сможешь изучить от доски до доски творение отца Миколая… – начал было Тидеман Гизе и вдруг схватился за голову. – Боже всевидящий, всеправедный и милосердный, не оставь без кары людей, которые надругались над святой памятью великого человека! Вацек, подойдя к самому креслу епископа, испуганно смотрел на него. Вытащив из широкого рукава смятые листы, Тидеман Гизе протянул их мальчику: – Читай, сын мой! Добрый отец Лукаш Косидовский, наверно, сгорел бы со стыда, услыша чтение своего первого ученика, так дрожал голос Вацка и так запинался он на каждом слове: – «Читателям о гипотезах этого труда…» – прочел он заглавие предпосланного трактату предисловия. – Дальше, – нетерпеливо сказал епископ. – Тут несколько строк пропусти. Читай отсюда: «Ведь задача астронома…» И Вацек послушно принялся читать: – «Ведь задача астронома заключается в том, чтобы после тщательных и точных наблюдений неба составить себе правильное представление о движении небесных тел. Затем он должен изложить причину этих движений. Если же он не может найти подлинной их причины, то его обязанностью является измыслить гипотезы, при помощи которых он был бы в состоянии правильно исчислить эти движения на основе геометрических построений, притом как для прошлого времени, так и для будущего. Автор настоящего трактата удовлетворил обоим этим требованиям наилучшим образом. Ибо вовсе не требуется, чтобы гипотезы эти были верны! Они даже могут не быть правдоподобны. Совершенно достаточно, если они дадут возможность производить расчеты, результаты коих будут находиться в соответствии с небесными явлениями». – Ты понял то, что прочел? – спросил епископ. Мальчик отрицательно покачал головой. От волнения он читал только слова, не вникая в смысл. Тидеман Гизе сам уже понемногу стал успокаиваться. Обратив внимание на побелевшие от волнения губы мальчика, на его дрожащие руки, он ласково привлек Вацка к себе: – Успокойся, сын мой. Сейчас и все мы, присутствующие тут, должны быть как можно более спокойны… Читай дальше, вот с этого места. В самом конце. И Вацек прочел заключительный абзац предисловия к труду Коперника: – «И пусть никто не требует от гипотез астрономии безусловной достоверности. Астрономия вовсе не желает давать ее! Если же кто-нибудь примет за правду то, что измышлено автором для иных целей, то благодаря знакомству с этим учением он сделается лишь еще глупее, чем был раньше! Всего наилучшего, читатель!» Прочитав эту заключительную часть предисловия вслух, Вацек потом еще раз пробежал ее глазами. Затем, не веря себе, медленно снова прочел это место вслух. И только тогда поднял глаза на епископа. – Как мог Миколай Коперник написать эти строки? – спросил Тидеман Гизе. – Не волнуйся, сын мой, всё, что ты прочитал нам вслух, перечти еще раз про себя, подумай хорошенько и скажи, как мог он написать это предисловие?! Каспер Бернат беспокойно пошевелился в кресле. – Ваше преосвященство, – сказал он с мольбой, – я воспитал сына в уважении и благоговении к светлому образу Учителя… Вы помните, так я называл отца Миколая в молодости. Вацек прилежно занимается астрономией, изучил главу труда Коперника «Об углах», он даже разрешал себе время от времени пересылать отцу Миколаю свои чертежи и вычисления… – Я знаю, – сказал Тидеман Гизе. – И вот книга Коперника перед нами. Книге предпослано предисловие. Оно, на взгляд Вацека, призвано полностью отражать взгляды Учителя на свой труд. Но мне не хотелось бы… – Почему Коперник написал такое предисловие? – спросил, кладя руку Вацку на плечо, епископ хелмский. – Ты смотришь на эти измятые листы? Я вырвал их из книги, потому что мне пришлось не по душе, как излагаются в предисловии взгляды на науку астрономию… Однако возможно, что Миколай это сделал, чтобы защитить свое детище от нареканий… Может быть, мучившая его за последние годы болезнь так расшатала его силы, что он решил не противостоять более своим врагам? Вацек поднял на епископа заблестевшие глаза, и только скорбь, запечатлевшаяся на лице владыки, помешала мальчику вложить в свой ответ всю меру негодования. – Я был с отцом Миколаем последние дни его жизни. Ослабленный болезнью, он часто терял сознание, но никогда, ни на единый миг не мог он согласиться с врагами своего учения… Только я не стану вас обманывать: простите меня, ваше преосвященство, я вошел в приемную так тихо, что вы не расслышали моих шагов. В тот момент вы говорили о том, что кто-то надругался над священной памятью астронома… Я понял, что кто-то другой, а не отец Миколай написал это мерзкое предисловие. Вот вы и вырвали его из книги! Но, даже если бы я не слышал всего этого, не видел вашего гнева и горя, я все равно никогда и ни за что не поверил бы, что такое предисловие может написать Миколай Коперник! Вацек никогда не думал, что слова его приведут к таким тяжелым последствиям. Епископ поднялся с кресла, потом снова сел и вдруг, положив голову на стол, громко заплакал. Когда спустя несколько минут он, утерев глаза, повернулся к испуганным и смятенным Касперу и Збитневу, все уже разглядели, какой он маленький, слабый и жалкий. 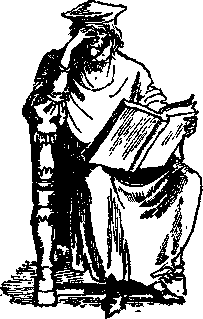 – Или как Генрих Адлер, – сказал Вацек. Отец Тидеман кивнул головой. – Дело не в религии. Люди верят так, как им подсказывает совесть… Оссиандер же поступил так, как подсказала ему бессовестность… Но не плакать и не горевать должны мы, а положить все свои силы на то, чтобы донести до читателей эту тысячу экземпляров труда Миколая Коперника очищенными от примечаний Оссиандера, в полной неприкосновенности его учения. Кое-что для этого я предпринял. Но я не устану и дальше предпринимать все возможные шаги для этого. Прощальный ужин в замке Фромборк прошел грустно. – Годы идут, – сказал отец Тидеман. – Миколай ненамного был старше меня… Сколько еще господь разрешит мне пробыть на земле, не знаю. Единственная радость для меня – сознавать, что на смену уходящей старости подымается молодая поросль! И все-таки не только Каспер Бернат, но и Збигнев, и Левше, и даже старый Войцех заметили, что епископ хелмский уезжает в несколько лучшем настроении, чем приехал. Скромный Каспер несколько раз отгонял от себя эту мысль, но она снова и снова возвращалась: слова Вацка несколько утешили отца Тидемана! По старой памяти, его преосвященство занимал ту самую комнату, которую отводили ему и при жизни Коперника. Распрощавшись с гданьщанами и пожелав им всех благ, епископ отправился к себе: гданьские гости должны были отбыть домой на рассвете, а Тидеман Гизе с годами усвоил привычку вставать поздно… Однако не успели еще Каспер со Збигневом улечься, как внезапно, поздно ночью, епископ появился у них в комнате. В руках он держал целую кипу мелко исписанных листков. – Идемте ко мне, друзья мои, у вас темно и сыро, а я велел Войцеху затопить камин и подать вино. Я-то, к сожалению, пью его только разбавленным водой… Збигнев, твои мысли об истории Польши вдохновили меня, и вот я записал некоторые свои заключения… Ты прав, что историку не следует углубляться только в седую древность, – то, что происходит у нас на глазах, тоже история… Не бойтесь, всего этого я вам читать не стану, но поговорить с вами о том, что меня волнует, что не может не волновать каждого любящего Польшу патриота, я считаю необходимым. Как ни хотелось Вацку послушать отца Гизе, но, понимая, что приглашение его преосвященства никак не может его касаться, он повернулся к стене. Гизе ласково принялся его тормошить: – Звездочет, ты тоже должен быть моим гостем! Фромборкские башенные часы пробили три часа пополуночи, когда все разместились в покое епископа. Тидеман Гизе сокрушенно покачал головой. – Завтра спозаранку вам в дорогу, а я отнимаю у вас драгоценные минуты сна! – сказал он. – Но я должен так поступить! – И он надел свои большие очки с толстыми стеклами. – Збигнев, и ты, Каспер, и ты, молодой астроном, все вы должны знать, что я долгое время вынашивал в душе план – изложить для потомства ту часть истории Польши, которой бог сподобил меня быть свидетелем… Этому споспешествовало еще и то, что его величество король Зыгмунт время от времени поручал мне вести записи наиболее знаменательных событий его правления… Да, так вот, я полагаю, что человек, поставивший себе задачей изложить жизнеописание великого деятеля нашей эпохи, тем самым изложил бы и огромный отрезок историй Польши! Придвинув поближе кипу листков, Тидеман Гизе, не заглядывая в них, положил на бумаги свои маленькие руки. – Слушайте внимательно… Я тешу себя надеждой, что кое-что из моих рассуждений западет вам в душу… Если когда-нибудь кто-нибудь найдет в себе силы приняться за жизнеописание нашего великого современника, польского астронома Миколая Коперника, три имени большими буквами должны будут быть вписаны в это жизнеописание. Первое – это имя епископа вармийского Лукаша Ваценрода! Говорил его преосвященство вдохновенно и несколько книжно, но в листки свои почти не заглядывал. «Наверно, он затвердил всё наизусть», – подумал Вацек. – Многие знают Ваценрода, – продолжал епископ, – как ревнителя объединения польского королевства… Это так… Немало забот, сил и трудов положил епископ на то, чтобы Польша была единой, сильной и процветающей… Да и отравили-то его именно враги Польши… Но что же, как не забота о прославлении Польши, заставило Ваценрода с бережностью и тщанием взрастить Коперника и дать развиться его таланту? Епископ с самых ранних, отроческих лет Миколая понял уже, что это будет человек необычайный, что он больше чем кто бы то ни было придаст блеска польской короне… Многие злопыхатели твердили, что хорошо живется канонику вармийскому за широкой спиной Ваценрода… Не могли уяснить себе невежды и клеветники, что эта широкая спина в течение долгих лет защищала от них славу и гордость Польши! Каспер вспомнил свои долгие беседы с отцом Гизе в Лидзбарке. И тогда отец Тидеман говорил примерно то же, но с какою явственностью проступает сейчас его правота! – Второе имя, – отпив из стакана немного воды с вином, продолжал хелмский епископ, – которое большими буквами должно быть вписано в жизнеописание Миколая Коперника, это имя Анны Шиллинг. Збигнев, минуя взглядом Вацка, удивленно оглянулся на Каспера, но отец мальчика молча и сосредоточенно смотрел в лицо отцу Тидеману. Волнение Каспера улеглось, шрамы побледнели, лицо его снова приняло обычный вид. – Дальняя родственница Ваценродов, – говорил отец Гизе, – девица неописуемой красоты, дочь известного чеканщика Мацея Шиллинга, мастера монетного дела, обладавшая в совершенстве знанием латыни, а также языков итальянского, испанского, не говоря уж о немецком, Анна в подлиннике читала творения великих писателей древности, заучила наизусть итальянских поэтов, рисовала углем и красками, и вот – с четырнадцати лет отказывала женихам из самых знатных польских фамилий, потому что горячо и на всю жизнь полюбила Миколая Коперника! Не догадывалась она, что ученый также полюбил ее с первого взгляда… Шестнадцать лет молчали они о своей любви. Однако до Анны дошли слухи, что отец Миколай болеет, стареет, покинутый друзьями и врагами, пребывает в одиночестве, безвыездно проводя годы во Фромборке, отвлекаясь от наблюдений за небесными светилами только для того, чтобы вылечить больного хлопа, помочь голодающему или утешить несчастного… Тогда она, пренебрегая пересудами, приехала к Копернику и взяла на себя, как считается, заботу о его хозяйстве… Нет, Анна взяла на себя не только заботу о его хозяйстве! Как солнечный свет вошла она в его жизнь, как весна прошла по мрачным фромборкским покоям. В замке поселились цветы, музыка, песни… Отец Миколай, сам неплохой музыкант, любил слушать ее игру на лютне… Сидя перед камином, Анна пела ему польские, немецкие, французские, испанские и итальянские песни… Это были самые богатые успехами, самые плодотворные годы в его жизни! Анна ведь всерьез занялась астрономией, вела вместе с отцом Миколаем наблюдения за звездами… Она точно могла сказать, на каком месте своего труда он остановился… Вы и сейчас могли бы в его черновиках распознать страницы, исписанные ее почерком, – это вставки, которые она делала под его диктовку… И она же, девица из богатого дома, обходясь без услуг повара, готовила отцу Миколаю его любимые блюда… Когда у Миколая распухали ноги, она приносила к нему в опочивальню соты с живыми пчелами и прикладывала их к его ногам. Ведь именно таким образом излечил Миколай Коперник Яна Дантышка, которого он пользовал – себе же на беду… Часто случалось, что Ганнуся выходила к столу, закутав лицо в платок до самых глаз: озлобленные пчелы не щадили ее, зато больному становилось лучше… – Матка бозка, и после всего этого Дантышек выслал ее из Фромборка! – не мог удержаться от восклицания Вацек и тотчас же с испугом огляделся по сторонам. Подобно старому Войцеху, он не хотел титуловать Яна Дантышка «его преосвященством»! Однако никто не сделал ему за это замечания. – Не могу сказать точно, что руководило при этом епископом, – отозвался отец Гизе. – Возможно, его честолюбивую душу постоянно раздирала зависть к великому Ваценроду, с коим ему никогда не сравняться, и он зависть эту перенес на отца Миколая… Его преосвященство – Ян Дантышек – умный и ученый человек, но постоянное пребывание при суетных и лукавых европейских дворах сделало свое дело… Сам легкомысленный и влюбчивый, он и не понимал никогда, какие высокие чувства связывают Миколая и Анну… Боюсь ошибиться, но мне думается, что, потеряв однажды любовь и уважение Миколая (в молодости они были близки, но потом дороги их разошлись), Дантышек потом всю жизнь тщился то завоевать расположение бывшего друга, то наказать его за высокомерие… Высокомерием Дантышку представлялась отрешенность Коперника от мелких житейских дел… Хелмский епископ говорил уже с трудом, задыхаясь и то и дело прихлебывая воду с вином. – Отдохните, ваше преосвященство, – с заботой в голосе сказал Каспер Бернат. – Я должен договорить… Это моя святая обязанность по отношению к покойному… Так вот, как слепорожденному напрасно было бы толковать о красках, так и Яну Дантышку напрасно было бы говорить о настоящей, подлинной любви! Придравшись к тому, что Анна Шиллинг с Ваценродами и Коперниками состоит в очень отдаленном родстве, а также что она по возрасту значительно моложе обычных экономок, ведущих хозяйство духовных особ, епископ вармийский потребовал от своего каноника удаления Анны из Фромборка… После этого Миколай выпустил из клеток всех щеглов и пеночек, которые будили Анну по утрам, рассчитался со старушкой, которая помогала Анне по хозяйству, и замкнулся у себя в башне. Четыре дня спустя его снесли оттуда на руках. Это было первое обильное кровотечение. Ослабленный большой потерей крови, он пролежал несколько недель в постели. Здоровым по-настоящему он после этого уже никогда не был… Подняв голову, отец Тидеман различил слезы на глазах у своих слушателей. – До меня доходили слухи об Анне Шиллинг, – сказал взволнованный Збигнев, – но мог ли я думать, что дело обстоит таким образом! – Вы устали, дети мои, – сказал епископ, – я тоже устал, но, кто знает, сведет ли еще нас случай? А закончить я должен… Слушай внимательно, – повернулся он к Збигневу, – это ведь тоже история Польши! Да, так я продолжаю о жизнеописании Коперника: третье имя, которое должен будет упомянуть в своем труде будущий биограф Коперника, – это имя Георга Иоахима де Лаухена, прозванного Ретиком… Отец Гизе замолчал, сплетая и снова расплетая пальцы. Потом виновато обвел слушателей тускнеющим взглядом. – Я особо озабочен тем, чтобы имя это было поставлено наряду с именами Лукаша Ваценрода и Анны Шиллинг, потому что единственно по моей вине Миколай не упомянул его в своем посвящении папе Павлу Третьему. Ретик сделал для астрономической науки примерно то же, что делает опытная повивальная бабка, помогая ребенку появиться на свет… Он помог рождению польской астрономической науки! Пославшие Ретика требовали от него отчета во всем, что он усвоит, пробыв около года бок о бок с «отравленным гордыней папистом». И Ретик отчитался с тщательностью ученого, храбростью воина и самоотвержением одного из первых христиан. Проникшись идеями Коперника, он стал их ревностно распространять сперва в труде своем «Первое повествование», потом в лекциях, читанных с высоты виттенбергской кафедры, а когда его изгнали из этого гнезда лютерцев – в Лейпцигском университете и повсюду, где он мог собрать вокруг себя слушателей… Каждый любящий науку с благоговением отнесется к этому прославленному математику, человеку, уважаемому в лютерских странах, который, пренебрегая опасностями, добрался до Вармии, чтобы с любовью и скромностью внимать наставлениям Коперника. Сердце замирает, когда представишь себе, что Ретик мог попасть в лапы Гозиуса или – да простит мне господь! – к тому же Дантышку, который только для того, чтобы досадить отцу Миколаю, мог передать еретика святейшей инквизиции! Пусть враги и завистники омрачили праздник выхода из типографии творений Коперника, но свет, зажженный отцом Миколаем, благодаря таким людям, как Ретик, возгорится над всей землей! И ни Лютерам и Мелангтонам, с одной стороны, ни Гозиусам и Дантышкам – с другой, уже не затушить этого света! Скромные бакалавры и лиценциаты вдохновенно будут разносить его по городам и селам! Сожаления достойно то обстоятельство, что Ян Дантышек, человек, одаренный умом и знаниями, отлично разбирающийся в правоте взглядов Миколая, ничего не сделал для распространения такого светлого учения! Именно в эту минуту сын Каспера Берната понял наконец, что и как ему следует делать. Приобретя в Краковской академии достаточно знаний, чтобы не посрамить перед лютерцами Польши, он проберется к Ретину, а тот наставит его, каким образом лучше всего проповедовать учение Коперника. Сжав побелевшие пальцы, мальчик мысленно дал себе клятву, что этому делу он посвятит всю жизнь. А поскольку он был сыном и внуком Бернатов, надо думать, что от них он унаследовал умение держать клятву! Усталый, весь посеревший, сидел Тидеман Гизе, постукивая пальцами по столу, когда Каспер Бернат отважился произнести слова, которые давно вертелись у него на языке. – Вы забыли, ваше преосвященство, упомянуть еще одно имя, – сказал он тихо. А сам подумал: «Не этот ли человек на протяжении долгих лет был опорой отцу Миколаю во всех его горестях, не он ли в записях своих осветил как подобает мужество и распорядительность Коперника во время обороны Ольштына, не он ли, наконец, доходил до ссор, настаивая, чтобы Коперник издал свои труды! Конечно, Тидеман Гизе не менее других имеет право на внимание биографа Коперника!» – Нет, я не забыл, – отозвался отец Тидеман, – я только собираюсь с мыслями, чтобы должным образом отметить, как благостно отразились на воззрениях отца Миколая узы, их связывающие. Не замечая удивленных взглядов, епископ хелмский продолжал: – Имя это он носил в сердце с самых ранних своих лет, слушая рассказы о Союзе Ящерицы, в рядах которого боролся с врагами Польши его отец, имя это согревало его, когда он переваливал с братом Анджеем через снежные Альпы, имя это он шептал с нежностью и тоской, когда враги Ваценрода упрекали епископа в том, что племянник его забывает среди роскоши и нег Италии свою родную страну… С именем этим для Миколая было связано представление о высшем проявлении гуманизма, о независимости науки, о расцвете искусства… Где еще могли найти себе пристанище такие изгнанники, как Конрад Цельтес и подобные ему?! Не от нее ли заимствовал Миколай лучшие свои порывы? Это она наставляла его, направляла, это она окрыляла его мысли, это она водила его рукою, когда он ночью производил свои вычисления во славу ее… Это она благословляла его на труды и подвиги… Вацек слушал и думал: «О ком же говорит отец Тидеман? О матери отца Миколая, пани Барбаре Коперниковой?» Но мальчик отлично помнил, что Коперник рано был разлучен с родным домом… А отец его и дядя сидели молча и с благоговением внимали словам отца Гизе. Они уже не переглядывались изумленно, мысли их и рассуждения текли согласно с мыслями и рассуждениями говорившего. Отец Гизе продолжал: – Пусть темные, глупые люди – невежды и завистники – много стараний приложили для того, чтобы отравить эти светлые чувства, расторгнуть эти священные узы, пусть пытались они представить Коперника одиноким звездочетом, ни о чем, кроме планет своих, не помышляющим, пусть представители шляхты и королевского двора не удосужились даже отдать последний долг перед его разверстою могилой, но она-то, она в сермяге и лаптях, рыдая и ломая руки, в слезах брела за его гробом! И умственным взором своим я предвижу то время, когда она сможет воздвигнуть ему усыпальницу, превыше Парфенона и Пропиллей, превыше храма Дианы Эфесской! Ибо не из мрамора и не из золота воздвигнут ее заботливые и трудолюбивые руки! Храмом разума назовут ее люди! Потому что она, та, которую всю жизнь носил Миколай в своем сердце, тоже никогда не забудет своего великого сына! И человек, сподобившийся приняться за жизнеописание Коперника, самыми большими буквами впишет в биографию ученого ее имя. Теперь уже и Вацек понял, о чем говорит отец Гизе. – Золотыми буквами, подобными тем, кои с любовью и тщанием выводили некогда в старинных рукописях прилежные переписчики, будет занесено в жизнеописание Коперника твое дорогое для каждого истинного патриота, твое милое и нежное имя – Польша! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
|||||||