 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Чапек Карел :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Толстой Лев Николаевич :: Лондон Джек :: Чехов Антон Павлович Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: Рагнарёк :: Скандальная леди :: The Boarding House :: Неучтивый церемониймейстер Котсуке-но-Суке :: Отречение :: Бегущая по волнам :: Ассистенты :: Опаловый кулон :: Авитаминоз |
Вацлав Дворжецкий – династияModernLib.Net / Биографии и мемуары / Гройсман Яков Иосифович / Вацлав Дворжецкий – династия - Чтение (Весь текст)
Рива Левите, Яков Гройсман Вацлав Дворжецкий – династия Даты жизни ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ВАЦЛАВА ЯНОВИЧА ДВОРЖЕЦКОГО
3 августа 1910 – родился в Киеве. Социальное происхождение – дворянин. Национальность – поляк. 1917 – учился в кадетском корпусе. 1918 – учился в гимназии. 1920 – учился в трудовой школе. – вступил в комсомол. – исключен из рядов РКСМ «по причине социального происхождения». 1926-1929 – студент политехнического института. 1926– 1927 – параллельно закончил полный курс театральной студии при польском театре. 1929 – арестован в Запорожье, где на заводе «Коммунар» находился на практике – работал слесарем, токарем, строгальщиком. Осужден «особым совещанием» ОГПУ по ст. 58 УК на 10 лет. Обвинение: участие в студенческой организации «Группа освобождения Личности» («ГОЛ»). 1929-1937 – лагеря ГУЛАГа: Котлас, Пинега – Сыктывкар, остров Вайгач, Соловки, Беломорско-Балтийский канал, Медвежьегорск, Тулома. 1937 – освобожден с «минусом 100». 1937-1940 – актер, режиссер Харьковского драматического театра, Омского и Таганрогского ТЮЗов. 1939 – рождение сына Владислава. 1941 – актер Омского драматического театра. Второй арест, осужден «особым совещанием» на 5 лет лагерей. 1941 – 1946 – Омский лагерь (землекоп, чертежник в мастерской Туполева, руководитель Центральной культбригады). 1946 – освобожден с «минусом 100». 1946-1956 – актер, режиссер Омского драмтеатра. 1946 – рождение дочери Тани. 1955-1958 – актер, режиссер Саратовского театра драмы. 1956 – снята судимость по первому сроку. 1958 – 1970 – актер, режиссер Горьковского театра драмы. 1960 – рождение сына Евгения. 1967-1993 – постоянные съемки в кино. Работа в Горьковской студии телевидения. 1970, 1989 – играл в спектаклях «НЛО» (московский театр «Современник») и «Марат/Сад» (Горьковский академический театр драмы). 11 апреля 1993 – скончался в Нижнем Новгороде. Похоронен на Бугровском кладбище. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ВЛАДИСЛАВА ДВОРЖЕЦКОГО
26 апреля 1939 – родился в Омске. 1946– 1956 – учился в средней школе. 1957 – закончил школу в Саратове, поступил в медицинское училище в Омске. 1960– 1964 – закончил медицинское училище, призван в ряды Вооруженных Сил, служил на о. Сахалин. 1964– 1968 – учился в театральной студии при Омском ТЮЗе. 1968-1972 – закончил театральную студию – актер Омского областного драматического театра. 1968– 1969 – снимался в роли генерала Хлудова в фильме «Бег» А. Алова и В. Наумова. 1970– 1978 – съемки на разных киностудиях СССР. 1975 – присуждена Государственная премия Украинской ССР за участие в фильме «До последней минуты». 28 мая 1978 – скончался в Гомеле на гастролях. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. Валентина Пьянкова HOMO SAPIENS – ЧЕЛОВЕК СОПРОТИВЛЯЮЩИЙСЯ Последнее интервью 
Этот разговор произошел незадолго до телевизионной премьеры фильма «Белые одежды», где Вацлав Дворжецкий сыграл роль профессора Хейфица, восстающего против скудоумия в науке, образ в чем-то сходный, совпадающий с собственной личностью. – Homo sapiens – существо разумное, а следовательно, всему неразумному сопротивляющееся. Так сложилось, что с юности пришлось противостоять обстоятельствам. Мог ли я, скажем, радоваться разорению и уничтожению своего старого дворянского рода, если всегда относился – и отношусь! – к своей родословной с глубочайшим уважением! Мог ли подчиниться большевистским догматам и схоластике, если с детства меня окружали люди одаренные, образованные, интеллигентные! Я видел, как их втаптывают в грязь за их прошлое, за их убеждения. – Не детские ли впечатления и воспоминания уже в 19 лет сделали вас, как сейчас принято выражаться, диссидентом? А по-тогдашнему – антисоветчиком, врагом народа? – До революции для всякого культурного человека было нормальным изучать философов, читать лучшую современную и классическую литературу. А тут, в конце двадцатых, стали сжигать книги. Горели Флоренский, Бердяев, даже «Солнечная машина» Короленко горела. Я учился в Киеве в политехническом институте. И мы создали у себя подпольную группу – «Группу освобождения Личности» («ГОЛ»). Только за создание нелегальных групп тогда давали десять лет. Мы не были террористами, анархистами, мы – читали. Читали много, вслух, в том числе и по ночам, – Спенсера, Ницше, Гегеля в оригинале, Федорова, «Бесов» Достоевского. Все это было строжайше запрещено. – «ГОЛ» и привела вас в ваш первый лагерь? – И это, и мое дворянское происхождение, от которого многие скрежетали зубами. В девятнадцать лет, со студенческой скамьи, меня забрали «туда». Я сейчас анализирую то, что со мной произошло, и вот парадокс: иногда моя судьба кажется мне сложившейся на редкость удачно. «Там» я многое наблюдал, многое увидел и понял. До лагеря мне пришлось заниматься в театре – в глухой Медвежке довелось играть в самой, может быть, великой труппе в своей жизни. Лагеря собирали лучших людей страны, большую часть творческой элиты, цвет науки, там была огромная концентрация порядочности, мужества, доброты и – свободы. Это объективно, поверьте мне, и это не идет ни в какое сравнение с сегодняшней разобщенностью и отчужденностью людей, формально свободных. В Соловках, на Беломорканале, в Сибири – везде, куда меня «перемещали», – мы уже ничего больше не боялись. – Но ведь такое понимание свободы не могло не стать причиной не познавательного, а разрушительного для вашей личной жизни возвращения в ГУЛАГ. – Отбыв срок с 1929 по 1937 год, я оказался на так называемой свободе. По существу вокруг, во всяком случае для меня, была все та же зона, только большего размера и с меньшим числом блестящих людей. Я попал в Омск и стал интенсивно двигаться, интенсивно жить. Так лихорадочно живут люди, когда знают, что это ненадолго. Омск не был режимным городом, поэтому меня приняли в театр – сразу и актером, и режиссером. Там я женился, жена была балериной. Там родился мой первый сын – Владик, Владислав. Ему было два года, когда за мной пришли. Началась война, и Омск тоже стал закрытым. Мне прислали повестку о немедленном выезде. Я отказался уезжать, написал заявление с просьбой не трогать меня, так как я нужен театру, что подтверждали и его руководители. Через три дня после этого заявления меня и забрали. Кому был нужен под боком социально опасный элемент, имевший судимость по решению особого совещания по 58-й статье! Отчетливо помню момент второго ареста. Я купал сына в ванночке. Он был очень болезненным мальчиком. И когда зашли в комнату люди, я только сказал им: «Дверь закрывайте, ребенок простудится». В нашей маленькой квартирке тогда жили эвакуированные, так что посторонние меня не удивили. Поднимаю глаза – стоят трое военных: «Сесть на стул, руки назад…» Перед уходом я обернулся в последний раз: «Владинька, не плачь, я скоро вернусь». Вернулся… Через пять лет. Во внутренней тюрьме допросы, угрозы, унижения, требования подписать какие-то бумаги, доносы. Но я уже был опытен, держался независимо. Наточил на цементном подоконнике отрезок металлической скрепки от ботинок, чтобы в любую минуту перерезать себе вены и уйти из их рук. Вернулся, когда кончилась война. Снова поступил в Омский театр. Семья наша распалась. Сын очень долго не мог меня понять и простить, даже когда меня реабилитировали. Он никогда ни о чем не расспрашивал, а я так никогда ничего ему об этом времени и не рассказывал. Мы сошлись по-мужски, по-деловому и по-товарищески, когда уже и он стал актером кино, познакомился со многими интересными людьми. – Ваш сын, Владислав Дворжецкий, буквально ворвался в кино, ярко и светло, и в памяти остался навсегда. Его уход поразил своей внезапностью и до сих пор как бы покрыт ореолом недосказанности. Знаю, что вы не любите говорить на эту тему, но все же, Вацлав Янович… – Ореол – это хорошо. Но Владислав не был богом. Я некоторым образом причастен к его приходу в кино. Он очень трудно жил. Буквально из жил рвался. И никак не мог вырваться на хотя бы относительную материальную свободу. У него не было даже пальто. И он снимал угол у пожилой ассистентки «Мосфильма». Однажды на банкете, устроенном генералом милиции, отмечали актеров, игравших в фильме «Возвращение «Святого Луки». Санаеву и Дворжецкому вручили почетные знаки милиционеров. Выпивали, закусывали, говорили. Кто-то попросил – дескать, артисты, скажите что-нибудь. Мой сын и сказал «чего-нибудь». Вы, сказал, мне этот знак даете, – и швырнул его генералу через весь стол, – а вы знаете, что я третий год не могу получить прописку, сегодня в одном месте ночую, завтра в другом. А вы мне – знак! Он постепенно становился Homo sapiens. После 69-го года они с Мишей Ульяновым (кстати, Миша учился в Омске в театральной студии, где я преподавал технику речи и художественное чтение) должны были ехать в Чехословакию. Владик так заполнил анкету: где родился – не помню, чем занимался – не помню, отец, мать – не помню, цвет волос – лысый. Он был уже актером Владиславом Дворжецким – и считал это самодостаточным. Без анкет и без виз. И ведь уехал! В Чехословакии после показа большого куска из «Бега», Миша Ульянов не даст соврать, Владика тоже попросили выступить. И он выступил. С тостом. Мол, ввиду того, что я родом из многонациональной семьи – отец поляк, в матери вроде бы течет грузинская кровь, – позволю себе грузинский тост: «Жил человек в ауле. У него дом, жена, дети. И каждый день, и каждый год всё одно и то же, всё плохо. И решил он посмотреть свет. Пошел на запад. Когда солнце зашло, лег спать. Чтобы утром не ошибиться, лег головой по направлению своего пути. Ночью мимо шли люди. И повернули его головой в обратную сторону. Он проснулся, пошел и пришел в собственный аул. А там всё по-старому, всё плохо. Так выпьем за то, чтобы нас не поворачивали во сне». Такой тост в 69-м году, после советского вторжения в Чехословакию, да при дипломатическом корпусе… При Сталине только бы его и видели. Но было все-таки другое время, слава Богу. И когда он работал над Хлудовым, рылся в архивах, познакомился с семьей Булгакова, со многими писателями, поэтами, он стал другим человеком, стал внутренне независимым. Но материальные трудности и вся его неустроенность привели к тому, что однажды во время съемок – инфаркт. А этого не поняли ни он, ни окружающие. И он еще неделю снимался, пока его не свалил второй. Он тогда полгода лежал в реанимации в Ливадии. Тот срыв и предопределил его судьбу. Тут как раз появилась первая в жизни квартира. Кооперативная. Он забрал из Омска мать, дочку. Сыну от последнего, тоже распавшегося брака надо было помогать. И он снимался, выступал на встречах, играл в спектаклях. Получал по сто рублей за спектакль – как много, как хорошо, скоро выкарабкаюсь. Иногда играл по десять дней подряд, до изнеможения, до потери сознания. У меня осталась фотография его последней встречи со зрителями. На следующее утро за ним приехали в гостиницу, чтобы снова отвезти на встречу. А он… Через два дня его похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. Ему было всего 39 лет. – Простите, что причинила вам боль, заставив вспоминать. Только ведь вы сами мне как-то говорили, что людям надо или ничего не рассказывать, или рассказывать правду. Как потом сложилась судьба? – Много лет живу в Нижнем Новгороде. До сих пор играю в местном драмтеатре. После 80 лет удостоился-таки чести получить звание народного артиста России. До этого никаких званий не имел. Как видите, много снимаюсь. Только вот с глазами стало плохо. Хорошо бы к Станиславу Федорову попасть, но мне до него не достучаться. Конечно, полностью реабилитирован, иначе как бы мне и моим сыновьям сделаться киноактерами! – Многие узнали молодого актера Евгения Дворжецкого после фильма «Узник замка Иф», где он сыграл главную роль. Доводилось слышать предположения, что Евгений – сын Владислава… – Женя – мой младший сын. Работает в Москве в Центральном детском театре. По тому, что я видел, работает, мне думается, интересно. У него жена, ребенок, он не ввязывается ни в какие политические драки. Во всяком случае до сих пор не ввязывался. И я ему этого делать не советую, как и своей дочери Тане, которая живет в Санкт-Петербурге. У меня заботливая жена, теплый дом. – А жена не возражает, что вы теперь всегда носите бороду? Мне кажется, без бороды вам лучше. – Бороду мне наши кинорежиссеры никак не дают сбрить. Эксплуатируют который уже год этот мой облик. Но я всё равно сбрею, им назло. Может, дадут роль мягкого и покладистого дедка или молодящегося пижона в джинсах. Сколько можно воевать во всех ипостасях, в том числе и в актерской! Не успел – вылечить глаза, сбрить бороду, сыграть покладистого дедка… Он умер в дни премьеры на телевидении «Белых одежд». Роль профессора Хейфица была его 90-й ролью на экране. «Вечерний клуб». 17 апреля 1993 г. Рива Левите СОРОК ЛЕТ И ТРИ ГОДА 
Очень трудно говорить о человеке, с которым прожито почти 43 года, в прошедшем времени. Попробую просто вспоминать в более или менее хронологическом порядке, насколько удастся. Вацлав Янович был человек с юмором, рифмоплет и страшно любил всякого рода афористические высказывания. И всегда мне говорил: «Риченька, записывай, тебе пригодится». Я улыбалась, отмалчивалась, мне казалось, что время просто идет своим чередом, мы вместе и так будет всегда. А оказывается, что совершала действительно большую глупость, не записывая за ним. Иначе рассказ был бы много интереснее. Он любил писать письма, слава Богу, их осталось очень много. Однажды я отдыхала в Рузе, в доме творчества актеров под Москвой, одна: сын был в пионерском лагере, а Вацлав Янович – на гастролях. Вдруг в столовую приносят телеграмму. И тот, кто принес, так загадочно улыбается и говорит: «Не волнуйтесь, в этой телеграмме ничего страшного нет, и вообще я хотел бы ее огласить». Я пожала плечами: «Ну, пожалуйста». Дед без бабы очень слабый, Не годится никуда. Но и баба не смогла бы Жить без деда никогда. Это смешно, конечно, но так оно в общем-то и было. Потому что жизнь наша совместная была непростая и, естественно, в ней было всё, но, как говорил мой любимый писатель А. П. Чехов: «Хорошего в ней было значительно больше». А началось всё это 49 лет назад. В 1950 году, закончив режиссерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС), я получила назначение в Омск. За год до этого я провела замечательные месяцы моей жизни в Тбилиси, где в русском ТЮЗе ставила дипломный спектакль. Приехала в Москву, защитилась… и надо было выбирать место работы. Похвастаюсь тем, что кончила институт с отличием и мне делали предложения пойти ассистентом режиссера в какой-нибудь московский театр. В частности, Юрий Александрович Завадский, у которого я еще до ГИТИСа училась в актерской студии при театре им. Моссовета, хорошо меня знал и предлагал свою помощь. Но, будучи человеком одержимым творческой перспективой, я не представляла себе, что моя жизнь в театре в качестве режиссера может начаться не самостоятельной работой, а в помощниках кому-то. «Нет», – сказала я, наверное, нахально и самоуверенно, так как считала, что, получив такую уникальную для женщины профессию, надо начинать самостоятельно. В группе по классу Николая Васильевича Петрова, народного артиста, замечательного человека и прекрасного мастера, было всего две девушки и десять парней. То ли по этой причине, то ли по какой еще мы должны были получать распределение в Министерстве культуры Российской Федерации, куда обычно поступали заявки. А чаще это были «живые заявки»: приезжали директора, главные режиссеры театров, знакомились с выпускниками и выбирали себе по вкусу. 
Несмотря на то что это был пятидесятый год – разгар борьбы с «безродными космополитами», заявок на меня было достаточное количество. Среди претендентов оказался директор Омского театра драмы Петр Тихонович Черемных, который, познакомившись, просто не оставлял меня ни на минуту. Наши переговоры длились дня три-четыре, и каждый раз, встречая меня на пороге министерства, он говорил: «Ну что, ты уже решила?» И рассказывал про Омск и про Омский театр так, как будто это лучшее место на земном шаре. Убеждал в том, что, во-первых, очень хорошая труппа, во-вторых, очень интересный, интеллигентный и образованный главный режиссер и, в-третьих, город сам по себе перспективный: большой промышленный центр, огромная река – красивый замечательный Иртыш. В общем, всё, что можно было рассказать соблазнительного, с его точки зрения, он повторял каждый день. Я думала, думала… «Какие мои годы, еще успею вернуться в Москву, а то, что рассказывает Петр Тихонович, очень интересно». И дала согласие. Надо сказать, тогда было правило, что молодой специалист должен был три года отработать по распределению, а после этого имел право уволиться и уехать. Дома, конечно, все охали и ахали, но сладить со мной в этом смысле было невозможно – умела проявить волю. В начале сентября мы договорились, что, получив документы, я жду телеграмму-приглашение в театр. Так оно всё и получилось. Села в поезд и поехала. Тогда в Омск надо было ехать около трех суток. Дорога дальняя, дома меня все путали морозами, друзья говорили: «Ты сумасшедшая, зачем тебе это надо, в Москве останешься – всё будет прекрасно». Нет, решила и поехала. Приезжаю в Омск, помню, что была суббота, меня встречает у вагона Петр Тихонович. «Ой, как замечательно!» Чуть ли не в объятия меня хватает. Мы садимся в машину, отъезжаем от вокзала буквально метров десять – пятнадцать, а навстречу – огромное стадо баранов. «Петр Тихонович, это промышленный центр?» – «Да, Ривочка Яковлевна, это промышленный центр». Бараны шли просто недуром, притом пыльные, серые, потому что было сухо. Омск стоит на семи ветрах, климат резко-континентальный, а был сентябрь – значит, еще дуют суховеи. Думаю: «Ничего себе, начинается…» Проехав мимо театра, спустились в Газетный переулок, где находилось театральное общежитие. Петр Тихонович привел в предназначенную мне комнату – двенадцатиметровый пенал, в котором стояли стол, шкаф, несколько стульев и какая-то очень небольшая кушеточка. После войны и эвакуации всё это воспринималось спокойно: своя комната, порядок. Меня сразу познакомили с комендантом. Как потом выяснилось, это была замечательная семья. Комендант – прекрасный человек, виолончелист, работавший в оркестре театра музыкальной комедии, жена – прелестная женщина, трое детишек. Их комната стала «клубом» общежития. На следующий день, в воскресенье, утром я отправилась в театр на спектакль и знакомиться с главным режиссером Александром Васильевичем Шубиным. Он произвел на меня очень приятное впечатление. Человек умный, интересный, высокообразованный, интеллигентный, настоящий петербуржец. Познакомились, поговорили о каких-то общих вопросах, и я пошла в зрительный зал. Шел спектакль «Ромео и Джульетта». Спектакль уже с возрастом, очевидно, шел много лет. Было скучно. Потом, смотрю, Бенволио и Меркуцио, играют два красивых мужика. Один высокий, другой немножко пониже, коренастый, и сцену всю ведут в стихах, ничего общего не имеющих с Шекспиром. Содержание сцены сохраняют, но «собственный перевод», лупят просто в полное свое удовольствие. Вы можете себе представить мое состояние? После институтских семинаров по Шекспиру, которые вел Михаил Михайлович Морозов, слышу такое!.. Все-таки досидела до конца, хотя многое меня огорчило. Ромео был уже немолоденький, и Джульетта тоже не очень юна. И вообще всё выглядело серым и обветшалым. Но в полном раже я была именно от этой сцены. Вхожу в кабинет главного режиссера, а он человек ироничный: девчонка стоит перед ним, интересны ее впечатления. А у меня всё кипит внутри: «Ну что ж, спектакль, я понимаю, не новый, ряд моих претензий разобьётся об этот главный постулат. Но такое безобразие! Два артиста, причем хороших, – говорю я вся «на ноздрях», – сплошная отсебятина. Такое позволить себе!..» А он спокойно отвечает: «Не волнуйтесь, вы ведь в театр приехали. И не такое увидите». Мы еще поговорили, решили, что будем выбирать пьесу для первого спектакля. Тут надо сделать маленькое отступление про одежду. Когда я собиралась выезжать из Москвы, пальто у меня было. Его привез дядя, он в Западной Белоруссии всю войну партизанил. Такое черненькое пальтишко, с воротничком, которое я носила уже пять лет. Но надо же шляпку! Как же режиссер поедет без шляпки?! И мы с сестрой пошли в шляпный магазин на улице Горького, неподалеку от телеграфа, и выбрали очень симпатичную полуамазоночку-полуцилиндрик, голубого цвета, с маленькой черной вуалеткой. После разговора в кабинете главный режиссер подал мне пальто, я надела свою шляпку и в полной форме спускаюсь по лестнице. Внизу на площадке стоят эти два мужика, Бенволио с Меркуцио, и явно ждут. Я понимаю, чего они ждут. Иду по лестнице, а они так демонстративно с головы до ног оглядывают меня и тут же обсуждают. Вы можете себе представить, как я возмутилась! Пулей пронеслась мимо. Это были Вацлав Дворжецкий и Геннадий Нежнов, хороший артист, который стал позже профессором Вильнюсского университета. 
Прошло несколько дней, и мы определили пьесу, которую я должна ставить, – «Кандидат партии» А. Крона. Начала готовиться к постановке. Смотрю спектакли, понимаю, какие артисты, кто чего стоит, как надо распределять роли. Александр Васильевич был очень внимателен, помогал во всем. Познакомилась с еще одним замечательным режиссером Омского театра, приглашенным после разгрома его творчества «за формализм» из Куйбышева. Это был Мейер Абрамович Гершт, который впоследствии стал главным режиссером Горьковского театра драмы. Так что мне было у кого поучиться в то «прекрасное время». 
Постепенно стала знакомиться с актерами. Познакомилась я, конечно, и с артистом Дворжецким, отметила: элегантен, красив, аристократичен, прекрасные голубые глаза. Довольно скоро он стал проявлять ко мне внимание. А я долго не могла простить его дерзкого поведения при нашей первой встрече. К тому же я жила в общежитии, и можете себе представить, какой поток информации в адрес каждого артиста на меня обрушился. Мало этого, в том же коридоре, наискосок была комната, где жила бывшая жена Вацлава Яновича, Таисия Владимировна Рэй, со своей мамой и одиннадцатилетним сыном Владиком. Сам Вацлав Янович жил на частной квартире. Владик буквально через несколько дней после того, как я въехала, пришел ко мне, постучался и спросил: «Можно?» Мы с ним очень быстро подружились. Он стал ко мне часто приходить. И у нас завязались очень близкие и хорошие отношения. Он потом говорил: «Раньше мы с тобой подружились, а потом и папу прихватили». И с мамой его мы быстро познакомились, всегда были в прекрасных отношениях, я не явилась разрушительницей семьи, они с Вацлавом Яновичем уже давно не были вместе. Надо сказать что я не могла жаловаться на отсутствие внимания со стороны сильного пола. Но всегда иронично относилась к мужчинам, которые были намного старше и притом проявляли ко мне интерес. Мне было интересно с ровесниками или с теми, кто чуть старше или чуть младше. Но знакомство с Вацлавом Яновичем становилось все увлекательнее и неожиданнее. Мне посчастливилось: я любила театр еще со школьных лет и видела лучшие спектакли московских театров. У меня была школьная подруга, которая хорошо знала и любила музыку. Я больше тяготела к драматическому искусству, и мы очень помогали друг другу. Смотрели лучших актеров Москвы и гастролеров. Прибегала домой, кидала маме дневник: «Это тебе, а я пошла». Училась я в студии, когда рядом были такие величайшие мастера, как Мордвинов, Марецкая, Оленин, Плятт. С этими актерами посчастливилось близко общаться, так что критерии сложились высокие. А. Д. Попов тогда был художественным руководителем института. На защите диплома председателем ГЭК был И. Н. Берсенев, а членами комиссии – Ю. М. Завадский, Н. М. Горчаков, А. Н. Лобанов, Н. В. Петров. Мы, студенты, видели работы этих мастеров и общались с ними. Так что мне было с чем и с кем сравнивать. Поэтому я сразу поняла, что Вацлав Янович – актер очень интересный, один из лучших в театре, хотя вся труппа была сильная. Вообще ему в этом смысле везло и в Омске, и в Саратове, и в Горьком – всегда вокруг были интересные люди, замечательные актеры. Нельзя не вспомнить наших омских друзей, замечательных актеров, таких, как Марина Владимировна Щуко, Михаил Павлович Малинин. Он был просто уникальной личностью: художник, режиссер, прекрасный актер и совершенно удивительный человек. Хороших актеров было много, не буду перечислять всех. Кстати, Омск и до сегодняшнего дня сохраняет эту славу театра замечательных артистов и интересных режиссеров. Это было время очень напряженной, серьезной и интересной творческой работы. Вацлаву Яновичу было тогда сорок лет. Когда теперь я говорю «сорок лет», а нашему сыну Жене сейчас уже тридцать восемь, то я не в состоянии это соотнести. Мне кажется, что это какие-то странные возрастные соединения. Через месяц после приезда начались репетиции моего первого спектакля «Кандидат партии», где Вацлав Янович тоже был занят. Вел он себя на репетициях очень скромно, сдержанно, корректно. Вообще актеры приняли меня доброжелательно. Но прошло несколько репетиций, я им что-то говорю и вижу, что ничего с места не двигается. Начинаю заниматься самоедством, понимаю, что ничего не могу сделать. Кончается одна из репетиций, я, еле сдерживаясь, вся в напряжении, наэлектризованная, вылетаю из зала и попадаю в объятия к Гершту. Когда Гершт обнял меня за плечи, я не удержалась и слезы полились градом. «Что случилось, объясни, в чем дело?» – «Я твержу им по пять-шесть раз одно и то же, никто ничего не делает: я ничего не понимаю, ничего не умею». А он был человек очень эмоциональный, говорит: «Дура! Как тебе не стыдно! Надо миллион раз сказать». В общем, он меня встряхнул как следует, и я поняла, что надо действительно много сил, труда и терпения, пока добьешься желаемого. Чтобы лучше узнать театр и актеров, я продолжала ходить на спектакли. Внимание Вацлава Яновича ко мне начало проявляться довольно скоро, весьма активно и изобретательно. Как-то я пришла на спектакль «Коварство и любовь», где он играл Вурма – мерзкого, хитрого и коварного. Когда он ко мне подошел, я испугалась. Грим был совершенно невероятный. И с тех пор, как только я появлялась на этом спектакле, он каждый раз гримировался по-разному. Для того чтобы я его не узнавала, путал. Разнообразный мир героев Дворжецкого меня удивлял и завораживал. После спектаклей мы много гуляли, разговаривали обо всем на свете. Потом меня со всех сторон стали окружать его отношения с миром. Началось с того, что он мне рассказал про голубей. Я, как городской житель, ничего о них не знала. Оказалось, что он увлекался голубями, у него их было очень много. Специально ездил по городам и весям и покупал голубей разных пород. Потом показывал мне, как их гоняют, как он свистит. Вацлав Янович жил на квартире, и там была голубятня. Я узнала, что еще он занимается спортом, яхтсмен. Сам построил яхту, которая называлась «Марс», и пригласил меня на нее в качестве матроса. Мы ходили по Иртышу. Красота – дух захватывало. Дальше – больше, и как-то отношения становились всё серьезнее, что никак не входило в представления о Дворжецком очень многих окружающих. Потому что, вернувшись из лагеря в 1945 году, с женой он расстался, был человеком свободным. Первый артист – на асфальте писали его имя, тучи поклонниц, играл очень много и очень разное: и героев, и характерные роли. Почему-то никто вообще не мог представить, что Дворжецкий кардинально решит свои семейные дела. И появилось много всяких «доброжелателей». Как-то в очереди в магазине ко мне подошла пожилая женщина, долго извинялась, а потом сказала: «Ни в коем случае! Вы понимаете, что вы делаете? Не соединяйте свою судьбу с этим человеком». Я поначалу не поняла, о чем она говорит. Но она всё расшифровала. Многие в театре и общежитии считали, что серьезного между нами ничего быть не может, ведь я такая молоденькая, только начинаю жизнь. Хотя внутренне у меня было совсем другое ощущение. Я прекрасно понимала, что всё это забурлило только потому, что наши отношения носили вовсе не соответствовавший его репутации характер. И в один прекрасный день (об этом я ему рассказала через очень много лет) меня вызвали в горком партии. Я, естественно, была комсомолкой. Три дяди и какой-то четвертый, молоденький, на подхвате, повели со мной душеспасительно-предупредительную, в какой-то мере угрожающую беседу по поводу того, что «человек, который отсидел 14 лет, недостаточно благонадежен, не говоря уже о том… А вы молодой специалист с перспективой, вы понимаете, что вы делаете?» Долго-долго я слушала, потом вклинилась в паузу и произнесла речь демагогически-патриотическую. Мне было ясно, что иначе с ними разговаривать невозможно. Главный постулат речи заключался в том, что «мое государство освободило человека, позволило ему работать на фронте эстетического воспитания и прочее и прочее, а вы мне…» В общем, такой спич я толкнула. Они подобного не ожидали. Потому что я была на вид совсем девчонка, хотя уже имела за плечами три курса юридического института, театральную студию и ГИТИС. Словом, привлекла все свои знания. Они заявили, что, мол, их дело предупредить (благородный такой порыв), а вы, конечно, можете поступать так, как считаете нужным. «Конечно», – сказала я. На следующий день ко мне подходит тот парень, что стоял в уголочке. Я еще тогда подумала, что это какой-нибудь комсомольский работник, которого, наверное, пригласили, чтобы посмотрел, как себя вести, что делать, как надо бороться за чистоту нравов и тому подобное. Подходит ко мне робко-робко, кстати, красивый такой парень, и спрашивает: – Можно мне с вами поговорить? – Пожалуйста. А что? – Можно, я вас провожу? – Проводите. Он сказал, что я их просто повергла в ужас, потому что они не ожидали такой дерзости. – Ты так с ними разговаривала! С ними никто так не говорил. Их же все боятся. – А ты так со мной разговариваешь? Тебе ничего за это не будет? – Нет, ну что ты. И я поняла, что он глаз на меня положил совсем по другой причине, потому что долго мялся, извинялся. Я ему: «Ты слышал, что я говорила? Так я и думаю. И всё, дорогой друг. Кончен бал». Он сказал, что очень сожалеет, просил разрешения меня проводить, встретить. Я отрезала: «Нет, нельзя». Такая была замечательная встреча в горкоме партии. К тому времени мы с Вацлавом Яновичем уже много работали вместе. Телевидения еще не было, но было много радиопередач в прямом эфире, и мы стали делать композиции. Тогда они были в моде – композиции к разным датам. Даты мы сами придумывали, были всякие: и пушкинские, и маяковские. Это продолжалось на протяжении всех трех лет, которые я провела в Омске. Итак, близилась премьера моего первого спектакля, где Вацлав Янович играл инженера Частухина. Перед генеральными репетициями он садился к зеркалу и буквально преображался. Надо сказать, мне нравилось наблюдать, как он гримировался, а он это любил, у него были совершенно потрясающие внешние характеристики образов, и всё рождалось на глазах. Он садился с собственным лицом, а потом то приклеит нос, то поднимет бровь, то что-то подрисует… и рождался внешний образ персонажа. На генеральной репетиции он выходит на сцену, и мне просто становится дурно, потому что передо мной человек, которого я очень хорошо знала, наш семейный приятель. Он был главным инженером в одном из московских главков, сибиряк по происхождению, типичный интеллигент. И он прямо передо мной. У Вацлава Яновича было какое-то удивительное чутье к воссозданию внешней характеристики образа, не говоря уже о воплощении «жизни человеческого духа». Меня это совпадение, удивительное попадание в характер сразило в самое сердце. Дворжецкий так играл, как будто знал того человека. Родился его двойник. Тоже инженер, тоже человек мягкий по характеру, интеллигентный, ошеломленно реагирующий на какие-то катаклизмы. Премьера была 24 декабря 1950 года. Она прошла с успехом, и после премьеры в помещении Театра музыкальной комедии должна была состояться актерская встреча Нового года. Пошли туда и мы… Пробыли довольно долго: карнавал, поздравления, всё прекрасно. Выходим, погода замечательная, снег сыплет, и на улицах нет народа – просто чудо какое-то. Снег искрится в лучах фонарей, настроение прекрасное. Мы идем, идем, идем, и вдруг Вацлав Янович говорит: «Всё, хватит дурака валять. Я, как ни смешно это звучит, делаю тебе предложение», – и встает на колено. Для меня это было неожиданно, он меня ошеломил… И я, недолго думая, сказала: «Хорошо». С тех пор 24 декабря мы считали днем решения наших судеб. Причем мы специально этого не афишировали, не докладывали, никому ничего не рассказывали. Я не представляла, как всё это расскажу дома. В Москву поеду нескоро. Написать? Для домашних это небольшой подарок. Во-первых, возрастная разница двенадцать лет. Во-вторых, Владик, сын. Еще у Вацлава Яновича была дочь, которая жила в Иркутске со своей мамой. Она родилась в 1946 году. И масса всяких атрибутов, которые, конечно, в нормальной, обычной семье с восторгом приняты быть не могли. Потом бум, который возник вокруг, мне не нравился, я не любила такого пристального внимания к себе со стороны, да он и сам не мог привыкнуть к тому, что вдруг решил свою судьбу. И это можно было понять: человек за свои 40 лет столько пережил, через такие испытания прошел… У него было ощущение, что никаких обязательств, никакой ответственности за кого-то он не может взять на себя. И вдруг… Я его позднее как-то спросила: «Как же ты такое сказал?» – «Не мог не сказать, потому и сказал». Тут тоже, наверное, проявилась актерская природа, которая, как мне кажется, определяла всё, что он делал. Он выжил благодаря ей и жил ею всегда. Так что мы своих отношений не афишировали, только близкие люди знали, естественно. Мы просто за ручку ходили, не расставаясь, а через какое-то время, когда всё уже устаканилось, он мне рассказал очень смешную историю. Оказывается, когда директор театра П. Т. Черемных приехал из Москвы, он сказал Вацлаву Яновичу: «Во-первых, я договорился с молодым режиссером, а во-вторых, я нашел одновременно тебе жену. Она будет твоей женой». Можете себе представить, когда такому человеку, как Дворжецкий, свободному абсолютно, поступавшему как ему хотелось, и вдруг такое сказали! Вот почему в ту первую встречу они меня так разглядывали. А потом уже и сам Черемных мне всё рассказал. Между прочим, Петр Тихонович действительно был очень хорошим директором, хорошо знал свое дело, любил театр. Обожал розыгрыши, эпиграммы, разные необычные поздравления и получал от этого огромное удовольствие. Так решилась наша судьба. И началась очень интенсивная совместная творческая работа в театре и на радио. Теперь прямой эфир бывает очень редко и считается верхом мастерства, когда человек способен у телекамеры или у микрофона вести свободную беседу или произносить текст, а тогда это было естественно. В радиостудии два человека садились рядом, включали микрофон, и всё шло в эфир. Мне это было исключительно приятно по двум причинам: мы работали вместе, и багаж, накопленный за годы учебы, не лежал мертвым грузом. Я исполняла весь свой институтский и студийный репертуар. Как режиссер делала композиции спектаклей, вела целые оперы. Опера транслировалась из театра, а комментарий вел человек из радиостудии. Таким образом я вела «Онегина», «Демона», читая почти всю поэму. Это было замечательно. Начались и совместные работы в спектаклях. Вацлав Янович играл очень много, был одним из ведущих артистов. Артистом глубоким, интересным и многоплановым. Он был способен создавать диаметрально противоположные характеры, что и называется театральным искусством. Как говорил Станиславский, вершина актерской профессии – это импровизационное самочувствие и способность к перевоплощению. Играл, например, в «Анне Карениной» и Каренина, и Вронского. Создал замечательный гротесковый образ генерала Родзянко в «Незабываемом 19-м» Вс. Вишневского и одновременно играл Клайда Гриффитса в «Американской трагедии». Играл Клода Фролло в «Соборе Парижской Богоматери», очень любопытно и оригинально Петруччио в «Укрощении строптивой», кавалера Рипафратта в «Трактирщице» – такой разброс, который под силу не каждому современному актеру, а ему в этом смысле, как говорят артисты, фартило. Любой приглашенный режиссер, любой режиссер, который вел театр, всегда считал необходимым занять Вацлава Яновича для того, чтобы получился увлекательный, высокохудожественный спектакль. В пьесе «Порт-Артур», где Дворжецкий филигранно играл князя Кирилла Владимировича, был эпизод, который определял успех всего спектакля. Кто бы ни смотрел его из критиков, при анализе девяносто процентов внимания уделял этой работе. Там было всё: и аристократизм, и изощренность, и отпечаток уже подернутого тлением, уходящего общества, и ум, и тонкость души, и вместе с тем ироническое осмысление всего, что происходило. Этот характер был вкраплен жемчужиной в ткань действия. «Анну Каренину» видеть не пришлось, но мне много рассказывали о спектакле. Главную героиню играла актриса, которая, на какую бы мизансцену ее ни выводили, всё равно поворачивалась лицом к залу. И у Вацлава Яновича всегда была одна задача: поворачивать ее спиной, просто как игровой манок, он так развлекался. Спорил с актерами, что повернет ее и она несколько минут всё-таки будет спиной к зрителю. Замечательная была работа в пьесе Г. Ромашова «Огненный мост» о том, как интеллигенция приходит – или не приходит – в революцию. Я очень любила этот спектакль, поскольку то, что создал в своей роли Дворжецкий, вызывало у меня ассоциацию с булгаковскими «Днями Турбиных». Это не было клеймением белогвардейских офицеров, скорее это являлось попыткой проникнуть в психологию людей, попавших в такую сложную ситуацию, как революция и гражданская война. Еще спектакль «Персональное дело», где он играл человека, которого исключили из партии. А шел 1953 год, когда наконец после смерти вождя пошатнулась система. И для Дворжецкого это стало серьезным проникновением в психологию человека, который попадает в экстремальную ситуацию, связанную, а для него это было важно, с тем, что творится вокруг, в стране. Вацлав Янович всегда связывал роль с тем, что она отображала, мировоззрение персонажа всегда имело для него огромное значение. 
Мы с Вацлавом Яновичем вместе ставили пьесу Симукова «Девицы-красавицы» о заводских девушках. Он играл старого рабочего-наставника. Всех удивляет, когда я рассказываю, что он играл рабочего или председателя колхоза, а потом – Каренина или Вронского. Но надо сказать, что он и в жизни был такой человек, легко общался с людьми абсолютно не похожими друг на друга – и с профессурой, и с простыми людьми, которые называли его «Василий Иванович», потому что «Вацлав Янович» им трудно было произносить. Итак, он играл мастера, наставника девиц, а в них Дворжецкий толк понимал, это было весьма забавно… Вот так в Омске завязался этот узел – на Программа спектакля «Девицы-красавицы» всю жизнь. Тогда же я увидела, как широк круг его интересов, помимо театра. А не зря говорится: первые впечатления очень важны, и то, что мне только приоткрылось в Омске, дальше развивалось и развивалось. Чем бы он ни был занят, занимался этим с полной отдачей. Например, теперь мы все об этом отзываемся с юмором, с насмешкой, но это была жизнь – всех нас заставляли заканчивать университет марксизма-ленинизма. Я это сделала одной левой – только что пришла из института, и мне это ничего не стоило. А над Вацлавом Яновичем я постоянно иронизировала, так как он конспектировал все работы «классиков». При этом доводил меня до белого каления, потому что с кем еще можно было полемизировать? Только со мной, естественно. В силу многих причин: во-первых, он уже понял, что не всегда и не всем можно высказывать во всеуслышание то, что думаешь, во-вторых, я была экспертом, поскольку только что вылетела из-под крыла профессуры. Но с какой тщательностью, с какой ответственностью, причем неформальной, он изучал всякие «антидюринги», осмысливая их, вступая в полемику, на всё имея свою точку зрения! И параллельно с этим своими руками он строил яхту. Потом у нас появилось новое увлечение: мотоспорт. Мы приобрели мотоцикл БМВ без коляски. Сели на мотоцикл и поехали. Надо сказать, что с ним мне ничего не было страшно, абсолютно ничего. То, что у нормального человека должно было вызывать опасение, страх, куда-то улетучивалось. Дворжецкий – человек волевой, увлеченный, умел рассказать и преподнести всё таким образом, что окружавшие развешивали уши, раскрывали глаза и получали море удовольствия. Итак, сели мы на мотоцикл, мчимся по городу, и я чувствую, что мы что-то очень долго едем, едем и, наконец, врезаемся в забор рынка и останавливаемся. Слава Богу, без членовредительства. Дворжецкий сказал: «Знаешь, а я ведь первый раз сел на мотоцикл». Он просто не знал, как затормозить. Было, конечно, много всяких волнующих историй, связанных с мотоциклом. Как-то поехали за город, и из-под седла стали вылетать гайки. Я сижу сзади, держусь за него, а гайка с одной стороны выскочила, с другой стороны выскочила. Я тормошу Дворжецкого – он не слышит. Все-таки остановились, посмотрели. Мотоцикл был немецкий, очень хороший, но, как водится, побывал в наших руках, и, оказывается, гайки были недостаточно хорошо прикручены. Всякое бывало. Потом у нас появился мотоцикл с коляской, это уже была просто разъезжающая ложа. Жизнь вокруг нас бурлила и кипела. В это время начали происходить всякие серьезные катаклизмы. В марте не стало нашего незабвенного «отца, учителя и друга всех народов». Помню, мы вышли из театра и шли почему-то не домой в Газетный переулок, а к почтамту. Я получала все письма до востребования. Встретившийся нам актер эту новость сообщил. Слез у нас не было, не поверили. Вернулись в театр, там уже все всё знали. А через энное время сняли портрет Берии. Ну, опять очень «расстроились», как вы понимаете. Вацлав Янович отдал Омску восемнадцать лет творческой жизни, в Омском драматическом театре проработал, за вычетом лагерей, около одиннадцати. Туда его пригласила художественный руководитель театра Лина Семеновна Самборская. Это была чрезвычайно колоритная личность. О ней и об атмосфере, царившей тогда в театре, Вацлав Янович рассказывал в беседе с критиком Александром Свободиным. «Самборская – это было чудо. Она не допускала никакого амикошонства. Требовала, чтобы актеры на улице, где угодно вели себя не так, как „окружающее население“. Однажды я получил от нее выговор в приказе за то, что из театра нес домой в общежитие два ведра воды. Представляете: я в шубе с бобровым воротником, в бобровой шапке иду с ведрами. Все оглядываются, смотрят: «Вот это – Дворжецкий! Ведущий актер!» Я был известен, имя на тротуаре писали, девчонки всякие окружали, поклонников было полно. И Самборская напомнила мне, как актер должен вести себя в жизни. Ее муж, Шевелев, тоже был режиссером, хотя не имел никакого отношения к театру. Она ему помогала, если нужно. Это был красивый мужчина, высокий, стройный, с крупной челюстью. И у них была пролетка с кучером, кобыла. Пролетка проезжала, и все в городе видели: едет Самборская, главный режиссер, сидит, не оглядываясь по сторонам, направляется в театр. Бывало, так улыбнется всем – в 360 зубов. Одета обязательно как полагается. Навстречу выходят люди, снимают шляпы, целуют руку, в проходе открывают двери, пошла… Такой ритуал. Но, между прочим, если было нужно, она на сцене могла матом покрыть и рабочих, и тех, кто там напорол, и еще кого-то. Гром гремел, «завтра выгоню из театра, и всё!» Вот такой художественный руководитель театра. А когда она выходила на сцену в «Анне Карениной» читать текст от автора… Сидела у рояля, играла и говорила: «Всё смешалось в доме Облонских…» Это было чудом». Оставаться дольше в Омске Дворжецкий никак не хотел, и меня тоже тянуло уехать. О Москве речи быть не могло, потому что его туда никто бы не пустил. Как только мы об этом заикнулись, в управлении культуры сказали: «Нет. Вас, Рива Яковлевна, мы задерживать не можем, потому что вы три года отработали, а Вацлав Янович плотно занят во всем репертуаре, и мы сможем его отпустить только через два сезона». Мы решили, что другого выхода всё равно не будет. Поэтому я (напоминаю, был 1953 год) подала заявление об уходе, и нам в управлении культуры какая-то дама дала слово, что через два сезона она его отпускает. И я уехала. Два сезона проработала в Москве. Там о моем браке родным уже было известно, причем мама узнала, что ее дочка вышла замуж, весьма странным путем. Приехал мой двоюродный брат из командировки, из Алма-Аты, а ему, в свою очередь, рассказал один сослуживец, что, мол, был в командировке в Омске, там театр замечательный. И есть такой артист, который очень понравился, он женился на молоденькой девочке, режиссерше. А у брата лицо так и вытянулось: он знал, что я в Омске. Вернувшись в Москву, он пошел к маме,, она вырастила всех папиных племянников, которые остались сиротами, и сказал: «Тетя, я как-то от вас не ожидал! Такое событие, а вы….» Она в ответ: «Какое событие?» Он маме и рассказал о том, что я вышла замуж. Мама была мудрой женщиной и всегда говорила: «Предупреждать и высказывать неудовольствие нужно всегда до того, как что-то свершилось. А если уже свершилось, то надо только помогать». И когда Вацлав Янович появился, они подружились, и он к маме очень нежно относился. Как-то, когда я была в Омске, он приехал в Москву. Сидят, обедают, еще кто-то в гостях был. Квартира была коммунальная, большая. Звонок в дверь. Соседка впустила молодого человека, который, войдя в комнату, начинает объяснять: «Я приехал сейчас из Казани, а мои родственники из Минска…» Мама говорит: «Знаете что, вот рядом ванная, вымойте руки, сядьте, пообедайте, а потом вы нам всё расскажете». Вацлав Янович, вернувшись в Омск, говорил друзьям: «Ребята, если кто приедет в Москву и негде будет пообедать, придите и сообщите: «Я родственник». Вы только откроете рот, и вам скажут: «Садитесь кушать». Вас хорошо покормят, а потом уже расскажете, кто вы такой». 
Короче, прошло два сезона, я, правда, ездила в Омск, ставила по приглашению спектакль в ТЮЗе, потом мы встречались на театральных конференциях, я специально ездила из Москвы, а он из Омска. Так два года кантовались. Многие рассчитывали, что раскантуемся вообще. И в это время я получила приглашение от Н. А. Бондарева, главного режиссера Саратовского областного драматического театра им. Карла Маркса. Первая встреча с Бондаревым была очень интересной. Николай Автономович пригласил меня в гостиницу «Москва». Он там остановился со своей женой, драматургом Елизаветой Максимовной Бондаревой. Когда я появилась, она сразу вышла в другую комнату (номер был люкс), и мы остались вдвоем. Это был высокий, сутуловатый мужчина, с круглой головой, умными и чуть хитрыми глазами. Я понимала, что представляю не только себя, поэтому очень волновалась. И он мне рассказал, что принимает театр, что слышал много хорошего об артисте Дворжецком и обо мне тоже не так плохо говорили, и поэтому он предлагает нам переехать в Саратов. Я, конечно, в какой-то степени робела, но старалась никак этого не показывать. Он задавал всякие вопросы, просил рассказать о Вацлаве Яновиче подробнее. Как потом уже в Саратове мне говорила Елизавета Максимовна, она ходила по соседней комнате и думала: «Ну что же он так долго мучает эту девчонку, и вообще что это за режиссер – тоненькая, худенькая, так, в общем, ничего девочка, но все-таки девочка». И мы дали согласие: девочка – в качестве режиссера, Вацлав Янович – в качестве актера. В Саратове мы получили квартиру во дворе театра. С Вацлавом Яновичем приехал в Саратов и Владик, он тогда учился в девятом классе. Дружба наша становилась глубже и сердечнее, и я понимала, что он очень тянется ко мне. Во-первых, у него было ощущение не очень большого возрастного разрыва, во-вторых, с папой отношения складывались всегда непросто, потому что жили отдельно. Владик жил у мамы, а иногда у отца. Но все равно трещина, естественно, для мальчика осталась. А мы с ним очень близко сошлись, я его любила. Мальчик был сложный, потому что обстоятельства его жизни не способствовали формированию простой и легкой личности. Он поступил в школу, и началась наша саратовская жизнь и работа. Для дебюта артиста Дворжецкого был выбран спектакль «Великий государь», где Вацлав Янович играл Ивана Грозного. В театре это событие обставили очень красиво и празднично. А накануне дебюта, утром он говорит: «Мы уезжаем на охоту, сколько тебе лисиц привезти? Пяток хочешь?» – «Нет, это много, мне трех вполне достаточно». На том и порешили. Компания любителей охоты и рыбалки там сколотилась очень быстро, и они уехали. И что вы думаете? Открывается дверь рано утром, и к моим ногам падают три рыжие лисы. Я, конечно, была ошеломлена. Все говорили: «Теперь тебе будет шуба из мехов». Всё-таки лис этих отдали в охотничье общество, никаких мехов не было, но факт такой был. И это всё к характеристике того, как он работал. Перед дебютом ему нужен был допинг: глоток свежего воздуха, лес, размяться физически, а потом он сыграл спектакль, сыграл очень хорошо. И город, и театр сразу его приняли. В театре появилась стенгазета со стихами: Привет Дворжецкому Вацлаву Он и охотник, и артист. Сыграл он Грозного на славу И в тот же день убил трех лис. 
Так замечательно встретили его в Саратове. Первые два сезона были просто удивительными. Николай Автономович – очень интересный режиссер, волевой и абсолютно независимый человек. Я это подчеркиваю, потому что, надеюсь, помните, что это были за времена – 1955 год. А через два сезона Николай Автономович, напрочь разругавшись с руководством обкома, хлопнул дверью и уехал из Саратова. Работа шла чрезвычайно интенсивная. Среди ролей, сыгранных Дворжецким в Саратове, стоит выделить Ивана Грозного, Крутицкого в «Не было ни гроша, да вдруг алтын» – это в моей постановке, что мне было особенно приятно. Сыграл инженера Забелина и был сорежиссером в спектакле «Кремлевские куранты». И когда Николай Автономович уехал, он восстанавливал спектакль. Были такие примечательные работы, как адмирал Макаров в «Порт-Артуре», Каренин в «Живом трупе», Неизвестный в «Маскараде», в «Чудаке» Назыма Хикмета – Наджеми. «Чудак» – мой первый спектакль в Саратове, притом он был освещен моей встречей с Назымом Хикметом. Я приехала в Москву, когда готовилась к постановке, и нас познакомили. Три раза я была у него в гостях, и эти встречи незабываемы. Таких красивых людей можно пересчитать по пальцам: высокий, голубоглазый, пепельно-русые вьющиеся волосы. В беседах с ним чувствовалась удивительная теплота и доброта, невероятная эрудиция, образованность, несмотря на то что он столько времени провел в тюрьме. Поэтому спектакль для меня был одним из самых значимых в моей режиссерской биографии. Надо сказать, что труппа в театре собралась первоклассная. Было много интересных, сильных артистов, вошедших в историю русского театра. Тогда еще работал такой кряж, монумент русского театра, как Степан Муратов. С ним был очень смешной казус. Он репетировал у меня в спектакле «Светит, да не греет» купца Восьмибратова, и у него был огромный монолог. И я просто уже из себя вылезаю, даю ему задания, высказываю пожелания, просьбы, пытаюсь анализировать, подсказывать – и чувствую, что уже иссякаю, а воз и ныне там. В полном отчаянии говорю: «Степан Михайлович, ну, пожалуйста, теперь вот сядьте и просто расскажите, что там с вами произошло». И когда он начал рассказывать, у меня отвалилась челюсть, настолько было замечательно и точно то, что мне хотелось раскрыть в этом монологе. Муратов был актером стихийного дарования, очень красивый, мы все говорили, что он как пароход, который ходит по Волге и носит его имя. Там же я сделала свои первые педагогические шаги, набирая студию при театре. Нам очень повезло, потому что создалась хорошая, дружная когорта людей, которые понимали друг друга, а Бондаревы были к тому же очень хлебосольными. Мы собирались вместе не ради застолья. Люди театра не могут не разговаривать о театре, где бы они ни находились. Они дают обет: будем говорить обо всем, только не о театре, но через пять минут начинается то же самое. Это естественно. Жили мы эти два года творчески интересно. Приезжала масса критиков, анализировались, разбирались спектакли и роли, жизнь била ключом. Ну и, конечно, охота и рыбалка. У нас во дворе жили три так называемые подсадные утки для охоты, одну из них, серенькую, рябенькую, звали Маруська. Тогда же у нас появилась замечательная собака. Вацлав Янович называл ее «сеттер Блютельтон, Каро де Лаверак». Даже в одном из охотничьих журналов был портрет этого самого Каро и подпись: «Собака Дворжецкого». Однажды Вацлав Янович возвращается с рыбалки с рюкзаком за спиной. У нас в квартире был квадратный холл, три двери из этого холла и поворот в маленький коридорчик, в ванную и кухню. Он входит и говорит: «Ты дай мне полотенце, а я сразу в ванную, потому что сапоги грязные». Я прошла в комнату за полотенцем, а потом вхожу к нему и замираю: в ванне лежит осетр желто-розового цвета и занимает ее всю. Вы представить себе не можете, что это за рыба, когда видишь вот так, рядом. Вацлав Янович сам его разделал, в нем было 4,5 кг черной икры, он ее протер через металлическую сетку, посолил, все сделал как положено, а я сварила из головы уху. Я такого янтарного цвета никогда потом вообще не видела. Посолила, попробовала – живой керосин. Мы тут же, конечно, всё вылили, а тушка оказалась хорошей. Было много всяких интересных событий, одно из них – появление у нас «москвича». Это сейчас машина не фокус, а вполне естественное явление. Даже наоборот, «москвич» уже становится неестественным явлением, а тогда это «нечто», так мало было персональных машин. Это длиннющая эпопея: встали на очередь в Москве, отмечались, наконец, мы его получили, пригнали в Саратов. Разумеется, сразу захотели учиться. Выехали за город. Я села за руль, не рядом с мужем, конечно, – сидеть рядом с ним, когда учишься, дело просто опасное, – и сразу поехала. Кстати, я потом так и не стала водить машину, потому что поняла: если буду за рулем, то конфликтам и нервотрепкам не будет конца… Хотя потом Вацлав Янович меня упрекал, когда стал терять зрение: «Вот, ты не водишь машину… Так бы мы продолжали ездить». С появлением машины открылись еще большие возможности. Причем надо сказать, что наша страсть к путешествиям сохранялась очень долгие годы. Началось это с 1954-го, еще в тот период, когда я была в Москве, а Вацлав Янович – в Омске, и мы вместе поехали в Сочи. Наше первое путешествие было замечательным. Мы приехали в Сочи рано утром, поезд пришел в четыре часа утра. Город весь спал, а мы сразу пошли к морю. Стоял штиль, море чуть-чуть волновалось. Так называемый цвет морской волны. Словами его описать невозможно, потому что он то чуть зеленоватый, то голубоватый, переливающийся. Чуть-чуть уже светало, и на горизонте появилось такое розовое покрывало, которое начинало стелиться по морю, а на рейде – парусник «Товарищ». Зрелище незабываемое. У Вацлава Яновича была путевка в санаторий, и мы сняли рядом, буквально через забор от санатория, застекленную веранду, на которой я жила. В это же время в санатории отдыхал один из лучших комиков свердловской оперетты Маринич, который каждый раз брал нам билеты в кино и говорил: «Ваша дочечка тоже пойдет?» Мы очень много ходили, гуляли, лазили по окрестностям. Это было замечательно. У меня есть фотография, где мы вдвоем стоим на камне. Сейчас на это смотреть грустно: какие-то другие люди стоят. В саратовский период были очень интересные гастроли, почему я и вспомнила о путешествиях. Когда, например, театр поехал в Ригу, мы наш мотоцикл погрузили вместе с декорациями, и в то время как артисты, бедные, мучились, когда им куда-то надо было поехать и посмотреть, мы на мотоцикле объездили всю Латвию. Очень помогало то, что Вацлав Янович разговаривал по-польски и у него была фуражка белая, парусиновая, с околышем. Такие фуражки были тогда еще не в моде и сильно напоминали западные, поэтому никаких вопросов нам не задавали. Театр хорошо принимали. И местное театральное общество с таким вниманием, пониманием, стремлением к тому, чтобы нам было удобно, интересно, заботилось о нас, с любовью показывали город. Когда прошел первый спектакль и артистам подарили по два-три цветочка, мы были в недоумении: «Как, а где букеты?» – тогда в России этого не было принято. А в Прибалтике уже тогда всё было на западный манер. Так прошли два года в Саратове. Одним из лучших для Дворжецкого был спектакль «Соперницы», который поставил Николай Автономович по пьесе жены. Вацлав Янович играл председателя колхоза. Этот спектакль во многом определял успех театра. Там играли очень хорошо Юрий Иванович Каюров и замечательная актриса, тогда еще очень молодая, очаровательная, потом она тоже играла в Москве, Лиля Шутова. Такое очаровательное женское обаяние, тепло, задор и отдачу я потом очень редко встречала у молодых актрис. «Соперницы» был веселым и умным спектаклем: все проблемы, которые тогда возводились в абсолют, были построены таким образом, что при желании можно было увидеть и негативные, и достойные иронии явления. И вот однажды Дворжецкий, возвратившись с рыбалки, тут же пошел на репетицию. На нем была старая военная фуражка, и во время репетиции, когда он ее снял, у него оказались абсолютно белые большой лоб и лысина в контрасте с загорелым лицом – он же на рыбалке был. Все, конечно, с полчаса смеялись. А потом это стало гримом, он так и гримировался. Вацлав Янович придумал много трюков, например, попадал в лужу и выливал воду из сапога! Все получали массу удовольствия от его фантазии. Было интересно, весело, накопилось много впечатлений. Помню первый свой спектакль. Я всегда любила перед премьерой заходить в гримерку к актерам, так и в тот раз зашла к актрисам. Они мне: «Знаете, Рива Яковлевна, ведь сегодня вся профессура города здесь». Я говорю: «Да, хорошо, очень приятно». А потом они мне рассказали, что в Саратове существует традиция: на премьеры приходит профессура, местная интеллигенция, и к мнению этой публики город прислушивается. Ни в Омске, ни в Нижнем Новгороде потом никогда такого не было, а тут я вышла в зрительный зал и поняла – да, сидит профессура в первых рядах. В Саратове в то время была очень сильная консерватория, туда приезжали прекрасные музыканты, Нейгауз и другие. Город жил очень интересной жизнью. Оперный театр, отличная картинная галерея, и надо сказать, что фраза из Грибоедова «…в деревню к тетке, в глушь, в Саратов» тогда уже не соответствовала действительности. Но во всяком случае город гораздо размереннее, спокойнее, менее грубый, менее резкий, чем Нижний Новгород, а зритель был исключительно доброжелательным. Рядом работал в апогее славы, в расцвете творчества Саратовский ТЮЗ, которым руководил Юрий Петрович Киселев. Это был очень интересный театр, с отличными спектаклями. Во многом он конкурировал с нами и репертуаром, и отношением к основам драматического творчества. После ухода Бондарева в 1957 году началась годовая, я бы сказала, «страдательная» пора. Пришел человек, первый шаг которого меня, несмотря на то что я по натуре склонна к дружбе и во всяком случае к терпимости в отношениях с людьми, поверг в невероятный гнев. Он восстановил чужой спектакль и на афише даже фамилии постановщика не указал. Отсюда началось неприятие этого человека, хотя он был очень хороший актер, гораздо сильнее, чем режиссер. И у нас возникло желание покинуть Саратов во что бы то ни стало. Было много всяких неприятных вещей, в таких условиях жить и работать просто не хотелось. В театре стало неинтересно, а у нас сил еще было очень много. К этому времени Владик закончил школу. Как-то пришел домой, тогда он учился в десятом классе, и сказал: «Надо кому-то пойти, папе или тебе, в школу, у нас день открытых дверей, и рассказать о том, что такое профессия актера или режиссера». Папа заявил: «Я не пойду», – пришлось вызваться мне. Пришла в школу, в одной комнате собрали сразу два выпускных класса, сидят близко друг к другу… За третьей партой – Владик, вижу, что он нервничает. Ужас! Я никогда не видела его в таком состоянии, он волновался, какое я произведу впечатление. Но все прошло благополучно. Он, бедненький, потом ко мне подскочил: «Я знал, я понимал, что все будет нормально, но я так волновался! Спасибо тебе». Владик кончил школу и уехал в Омск. Только после выяснилось, почему отъезд был такой неожиданный. Он хотел поступить в мединститут, а отец девочки, в которую он был влюблен (девочка была совершенно прелестная, теперь она очень хороший кардиолог), был там профессором. Потом Владик мне объяснял: «Ты представляешь, если бы я пошел сдавать экзамены в мединститут и провалился? Как мне было бы стыдно!» И он решил исчезнуть, уехать в Омск. В Омске он поступил в военное медицинское училище, закончил его и уехал на Сахалин, где проработал несколько лет: был заведующим аптекой, акушером, принимал роды, принял 84 ребенка. Потом вернулся в Омск и закончил там театральную студию. И опять нам повезло, как говорится в хорошей поговорке: «На ловца и зверь бежит». Мы сохранили тесные, дружеские отношения с М. А. Герштом, который в то время работал в Горьковском театре драмы, и регулярно получали от него письма и телеграммы. Он и пригласил нас в Горький. Мы очень быстро приняли решение. Загвоздка была только одна: нам ответили, что свободной режиссерской единицы нет ни в драматическом, ни в других театрах города. А так как тогда очень важно было получить перевод, иначе прерывался рабочий стаж, то мне оформили перевод в филармонию в качестве режиссера, а Вацлаву Яновичу, естественно, в театр драмы. Итак, началось путешествие по Волге. К тому времени мы обросли скарбом: машина, собака, много книг. Погрузились с имуществом на теплоход и поплыли. Это было замечательно: настало некое умиротворение. Начинаем новую жизнь, решились, путешествуем, что ждет нас впереди, не знаем. Отправили только контейнер с мебелью, полученной в свое время из театра. Живя в Саратове, мы не купили ни одного стула, театр нас оснастил всем, что было нужно, да и запросы наши были небольшие – жили очень скромно, но уютно. У нас была хорошая трехкомнатная квартира рядом с театром, на одной площадке с Бондаревыми. Время было замечательное, да еще все молодые, что, конечно, немаловажно. Прибыли в Горький. Нас встретили и отвезли в незабвенную гостиницу «Москва» напротив театра, которой сейчас уже нет. Надо сказать, что это были времена, для меня во всяком случае, очень похожие на студенческие. Хозяйства никакого, следовательно, ответственности за дом тоже мало. Зато свободного времени хоть отбавляй, и мы стали ходить в театры. Впечатлений было много, и самые разные: теплота и искренность ТЮЗа произвели большое впечатление, а мощь некоторых актеров театра драмы весьма порадовала. В Саратове до нас доходили разговоры о том, что Горьковский театр драмы очень интересный. Но когда входишь в новое дело, естественно, трепещешь, как перед первым любовным свиданием. Бог знает что за люди, Бог знает как встретят и как пойдет работа. Я вообще ехала как птичка, совсем не зная, что буду делать и что мне предстоит. В гостинице мы прожили несколько месяцев. Там в это время были интересные постояльцы, и жизнь завертелась. Опять охота, откуда Вацлав Янович привозил зайцев, и мы их в гостиничных условиях готовили: мочили в уксусе, потом жарили. Короче, всё это было любопытно, но не отвлекало от будущих дел. Затем мы очень недолго, несколько недель, прожив в общежитии ТЮЗа на Грузинской, получили коммунальную квартиру. Соседи были удивительными людьми, и мы дружно прожили довольно долго. А потом началась работа. У меня – ни шатко ни валко. Я должна была придумывать себе дело: то с чтецами, то с певцами делала какие-то композиции. А замечательный человек и мастер своего дела Л. М Гельфонд, директор филармонии, сам дважды отец, каждый раз, встречая меня, говорил: «Когда же, когда же вы позаботитесь о том, чтобы увеличить ваше семейство?» Такая у него была присказка. Первый спектакль, в котором был занят Вацлав Янович, – по какой-то советской пьесе, очень плохой, как все понимали. Но хотя роль у него совсем неинтересная, волнений всё же много. Для актера с огромным стажем, вступающего в такую труппу, очень важен первый шаг. Актера с репутацией, именем, не мальчика. И я помню, как приходит Вацлав Янович после худсовета, а тогда это было очень ответственно, и рассказывает: «Большинство членов художественного совета, потупив очи долу, говорили очень сдержанно. И вдруг встала какая-то девушка из горкома партии и сказала: «Мы, город, приобрели замечательного артиста. Товарищи, дорогие, вы посмотрите внимательно…» – и произнесла такой спич, что я просто открыл рот». Оказалось, это Антонина Николаевна Соколова, которая через год или два стала директором ТЮЗа. Она была удивительным человеком, тонкого вкуса, прекрасного глаза, широкой эрудиции, с настоящими корнями российской культуры. Вскоре мы стали большими друзьями. Она оказалась первым человеком, который так принял Вацлава Яновича. У него началась очень творческая, насыщенная и, как говорят спортсмены, результативная жизнь. А затем уже и все остальные в театре поняли, кто появился в театре, хотя труппа была сильная да еще пополнилась такими замечательными актерами, как В. Я. Самойлов, Л. С. Дроздова, В. И. Кузнецова. В Горьком Вацлав Янович сыграл много ролей. Джейб Торренс в спектакле «Орфей спускается в ад», «Чайка» – там он сыграл Медведенко, казалось бы, роль второго плана, но какое-то удивительное тепло и нежность были в этом затравленном жизнью учителе. Замечательная работа в спектакле «Юпитер смеется», Ките в «Острове Афродиты», Терехин в «Палате», Марсиаль в «Интервенции». Перебирая фотографии в его архиве, можно найти портрет Эйнштейна, который послужил прототипом грима к роли Друэта в спектакле «Юпитер смеется». Вацлав Янович всегда работал серьезно и вместе с тем легко. Он, собираясь к выходу на сцену, не произносил никаких заклинаний. Не заботился о том, чтобы казаться сосредоточенным, как-то обратить на себя внимание. Нет, мог перед выходом рассказать анекдот, пошутить, кого-то разыграть. И в то же время на сцене он становился абсолютным хозяином площадки. Однако Вацлав Янович всегда заботился о целостности спектакля. Он не был из тех артистов, которые, как говорится, тянут одеяло на себя. Для него участие в спектакле становилось участием в данном отрезке человеческой жизни, в данной ситуации, в данных обстоятельствах, и он всегда должен был себе ответить на вопрос: зачем? почему? про что он играет? Его темперамент, который проявлялся и в других сферах, был определяющим и тогда, когда он работал над ролью. Мир ассоциаций, воображения, фантазии всегда выходил за рамки текста. Для него важно было вырастить этот образ, этот характер. Причем в нем, как у очень немногих артистов, это сочеталось с заботой о том, в какую форму выливается, какую форму обретают характер и его внутренние сложные психологические переливы, причины, побуждения. Вацлав Янович был чрезвычайно требовательным и к себе, и к режиссеру, и к своим партнерам. Что касается последних, то он никогда не ставил их в неловкое положение. Для него общение с партнером было делом родным, он помогал актерам, начинающим в первую очередь, с открытой душой, прекрасно понимал, что произведение театрального искусства обязательно должно быть цельным, оно не имеет права распадаться на части и актеры не имеют права его растаскивать, а режиссер обязан отвечать за спектакль в целом. В Горьком Вацлав Янович два года работал педагогом актерской студии, которая открылась при театре. Ее окончили Наташа Малыгина, Костя Кулагин, Леня Кулагин, Рита Алашеева, Маргарита Юрьева. В Нижнем Новгороде хорошо знают этих актеров. Дворжецкий работал с полной отдачей, с удовольствием делился опытом, умением, любил молодежь и страшно увлекался. 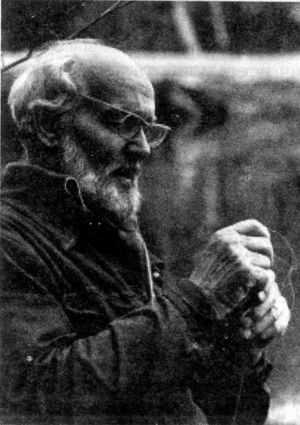
Увлеченность делом, которым Вацлав Янович занимался, определяла его успехи. И всем он занимался досконально, никогда – поверхностно. Машину знал до винтика, сам за ней ухаживал, ремонтировал, мыл и «вылизывал». Продолжались охота и рыбалка: летняя, зимняя, с грандиозным оснащением. Как-то мы, встречая Новый год, всю елку украсили блеснами. И гости были в восторге от того, как переливались золотые и серебряные блестящие металлические рыбки, рачки и мушки. Затем у нас появился сад. После огородничества и садоводства он перешел к пчеловодству. Эта страница его жизни была весьма обширной, до сих пор сохранились журналы, отражающие его работу с пчелами. Я боялась их смертельно, а он любил. Приходил домой, показывал: «Вот двадцать ужалений, рука распухла. Ничего, назавтра спадет, всё замечательно». У нас огромная библиотека рыболова, охотника, пчеловода, садовода, потому что Вацлаву Яновичу надо было знать о предмете своей страсти как можно больше. Рассказывал он о своих увлечениях упоительно. Слушатели открывали рты и удивлялись, когда узнавали, что тем или иным делом он начал заниматься совсем недавно. Дворжецкий увлекался фотографией. Как только появились восьмимиллиметровые кинокамеры, занялся любительской съемкой, у нас масса пленок, слайдов. Короче, не знаю, чем он не увлекался! Очень часто задают вопрос: почему Вацлав Янович не работал в Москве? Ведь очевидно, что это актер столичного масштаба. Впервые его пригласил в Москву перед самой войной Александр Яковлевич Таиров в Камерный театр, но тут началась война, и вся биография поехала вспять. Затем, работая в Саратове и Горьком, много раз получал приглашения, но ему уже не хотелось уезжать. Он не любил Москву за ее суетность, многолюдье, шум, гам. А самое главное, живя в Нижнем Новгороде, Вацлав Янович обрел, кроме театра, то, чем он так дорожил: сад, гараж, прекрасную Волгу, пчел, и это заполняло его жизнь помимо актерской работы. Совершенно очевидно, что в Москве всё это рядом иметь невозможно. В столицу мы ездили часто на машине, там жили моя мама и сестра, масса друзей, и, разумеется, старались не пропускать интересные выставки, спектакли, концерты. 
А в 1960 году произошло событие, которое стало, конечно, наиглавнейшим в жизни, – родился наш сын Женя. Дружба с моим учителем по театральной студии Ю. М. Завадским продолжалась. У нас было заведено, что когда я приезжала в Москву, – это относилось, естественно, не только ко мне, а ко всем его ученикам, – надо было отчитаться за прошедшее время. Я и похвасталась: у меня сын! Первый вопрос был – как я его назвала. Говорю: «Женя». – «Ну, молодец», – сказал он. – «Это в честь Евгения Багратионовича Вахтангова». Родился Женя, и наша жизнь обрела новые радости, волнения, чаяния. Так как у нас в Нижнем Новгороде не было никаких родственников, то первые три года были довольно сложными, да еще при наших характерах… Мы оба работали. Я вернулась в театр, когда Жене было полгода, – без этого я тоже не могла. Мы путешествовали и до появления Жени, и, естественно, когда он стал подрастать, путешествия наши продолжились. Объездили очень много мест. Это происходило летом, во время наших отпусков. Ребенок летом отправлялся в Москву, с бабушкой и тетей на дачу. Мы дорабатывали сезоны, если наступали гастроли, Вацлав Янович уезжал, потом мы как-то объединялись и отправлялись путешествовать все вместе. К тому времени у нас появилась еще одна собака, ее звали Гера, богиня Земли, – дратхаар, немецкая легавая. Замечательная собака, мы ее очень любили. Она погибла, когда ей было почти пятнадцать лет, собаки этой породы редко доживают до такого возраста. Один раз она стала мамой – период просто несусветный. Причем собака – «аристократка», и всю процедуру принимания родов проводил, естественно, Вацлав Янович. Роды продолжались целые сутки. Восьмерых приняли, а девятый задохнулся, просто не дождался своей очереди. И начались совершенно чумовые полтора месяца от звуков и от того, что тряпка не исчезала из моих рук. Щенки росли, наливались на глазах, и кормить их ей было очень трудно. Мы через пару дней стали подкладывать Гере по два щенка, потом решили, что этого им мало, их надо кормить из соски. 
Ни у меня, ни у Вацлава Яновича ничего не получалось. Тогда бутылку брал Женя – ему было лет десять-одиннадцать, – тыкал в морду щенка бутылку с соской, и тот начинал, нервно дрожа, высасывать ее. Потом мы поняли, что и этого им мало, тогда я начала готовить манную кашу. Стали кормить по два щеночка, остальных в это время запирали. Какой они устраивали концерт в ожидании кормежки! Щенки залезали в миску всеми четырьмя лапами, что было вокруг – трудно себе вообразить. И конечно, совсем потрясающее зрелище было, когда Вацлав Янович выводил всю свору на прогулку. Впереди шел хозяин, справа совершенно ленивая, как будто абсолютно не заинтересованная в этом выводке, трусила Гера, и эти восемь щенят топ-топ-топ… Со всего двора собирался народ поглазеть. Всех восьмерых мы выкормили и раздали, хотя расставаться было ужасно тяжело. Однажды Вацлав Янович, уходя в театр, сказал, что придет какой-то дядя за щенком, тогда их еще оставалось четыре или пять. В назначенное время раздается звонок, я подхожу к двери, открываю. Стоит этакий Ноздрев, огромного роста, улыбается в тридцать три зуба: «Это дом Дворжецких?» Дом – это было сильно сказано. Мы переехали в квартиру, в которой до нас жил заведующий музыкальной частью театра. Холостяк, квартира совсем неухоженная, хотя дому всего года два, и когда я впервые вошла, то сказала: «Ребята, это вообще не квартира, это декорация». Ну, ничего, обжились, и я полюбила эту квартиру, с ней связано много интересного и дорогого. Итак, гость прошел в комнату, я посадила его за стол, положила перед ним справку, родословную, он сел, подпер щеку рукой и стал читать. Справка была на одном листочке. Читает, читает. Я думаю: что он вычитывает? Поднял на меня глаза, внимательно так посмотрел и спросил: «Сталин где?» Я говорю: «Что, что?» Он, абсолютно меня игнорируя, снова стал читать. Прошло какое-то время, и он опять меня спрашивает: «Сталин где?» – Вы меня простите, но я не понимаю, о чем вы выговорите! – У нас в доме – и вдруг разговор о Сталине. Он молчит, как не слышит. Тогда я громче: – Вы меня извините, но я не понимаю о чем вы меня спрашиваете. Он, опять не отвечая, уставился на справку. – А-а-а… это ж с другого колена! – Я ничего не понимаю, объясните, пожалуйста! Он, уже миролюбиво: – Ну чего ж ты не понимаешь? Эту породу привез в Москву Василий Сталин! А эта справка с другого колена. Вот такой был эпизод. Нам невероятно повезло в Горьком, прежде всего потому, что обрели здесь очень хороших друзей. Однажды, это было, наверное, на второй год нашего пребывания в городе, Вацлав Янович сказал: «Мы должны обязательно познакомиться с удивительным человеком». – С кем познакомиться? Что случилось? – Я был на лекции искусствоведа Юлия Иосифовича Волчека и в полном потрясении от эрудиции, от личности этого человека. Я очень хочу, чтобы мы с ним познакомились. К этому времени я уже работала режиссером-постановщиком в ТЮЗе, ставила пьесу по повести Тендрякова «Чудотворная», была знакома с Лазарем Шерешевским, поэтом. Он вместе с Анной Кузнецовой инсценировал повесть и принес к нам в театр. Шерешевский нас и познакомил с Волчеками. Сложился замечательный кружок российской интеллигенции. Это были искусствоведы Волчек, Фих, Берта Соломоновна Маранц – превосходная пианистка, ученые, физики, математики, биологи, конструктор Юра Соколов, его жена Лена, журналистка, биолог Саша Зевеке и его жена Тамара – красавица и умница, чета Неймарков, режиссер Табачников с женой, Идой Богдановой. Душой всего собрания была жена Юлия Иосифовича Волчека – Ирина Сидорова, отличный редактор, человек удивительной красоты, и внешней и внутренней. Ирина Великолепная – называл ее Вацлав Янович. Необыкновенно добрый, мудрый, прекрасный человек, мы с ней дружим до сих пор. Этих людей интересовало всё, что происходило в мире. Собирались за чаем, за обедом, за праздничными столами, но это было не просто времяпрепровождение. Среди нас были люди, которые не могли не поделиться тем, что открыто, прочитано, узнано, и это обязывало всех не дремать, а активно жить и узнавать постоянно что-то новое, интересное. Меня всегда страшно огорчает, когда приходят гости и начинается разговор только о бытовых, малозначительных вещах, лишь о том, кто на кого как посмотрел и что сказал. Этого совсем не было в нашей среде. Когда мы получили трехкомнатную квартиру, было всеобщее ликование: значит, есть чуть большая площадь для того, чтобы встретиться и поговорить. И всё, что я видела в Москве, Ленинграде, всё, что мы успевали почерпнуть, бывая где-то на гастролях, – всё это неслось в общее собрание, собрание друзей, которые в тяжелую минуту всегда оказывались рядом. Это тесное дружеское общение свойственно больше провинциальным городам. Духовное, интеллектуальное обогащение сейчас вызывает ностальгическое ощущение, потому что иных уж нет, а те далече. Остались считанные друзья, очень близкие, очень дорогие, но их становится все меньше, а жизнь – все суетнее. Своим студентам мне хочется и в этом смысле что-то передать, привить любовь к общению с людьми, умение ценить это. Дороже быть ничего не может. Как говорила моя мама: «Нет ничего лучше, чем большой накрытый стол, за которым собираются родные и друзья». При всех своих увлечениях, при всех своих заботах, а их всегда было очень много, Вацлав Янович любил дружеские встречи, общение, всегда ощущал себя лидером. Внимание к друзьям ему было очень свойственно, и мы многим обязаны нашим друзьям по Нижнем Новгороду. В этот круг входили многие приезжавшие из Москвы замечательные актеры, чтецы, такие, как Сергей Юрский, Тоня Кузнецова, гастролеры-музыканты. Таким образом нить, связывавшая нас с тем, что творилось в столицах, никогда не прерывалась, мы не ощущали себя бедными, ограниченными провинциалами. И до сих пор я следую этому принципу жизни – как можно больше общаться с друзьями. У Вацлава Яновича еще до нашей встречи было двое детей: Владик, родившийся в 1939 году, и дочь Татьяна родилась в 1946-м, а через много лет появился наш общий – Женя. Только Женя рос в нормальной семье, где были папа, мама, определенные устои и традиции. С Владиком наши отношения сложились еще в Омске, потом нас сроднила совместная жизнь в Саратове. Мы очень дружили, просто любили друг друга, он называл меня «родная мачеха», всегда был откровенен и доверчив. Я с Владиком очень тесно, дружески общалась с пятидесятого года, но ни разу не слышала от него ни малейшего желания стать актером. Когда он вернулся с Сахалина в Омск, помню, он сказал: «Вот открылась студия, и я подумал – а почему бы мне не попробовать?» Заниматься фельдшерским делом ему стало неинтересно, хотелось резко поменять свою жизнь, и он поступил в эту студию при Омском ТЮЗе. Совершенно неожиданно для всех в двадцать шесть лет пошел учиться актерскому мастерству, никогда до того не проявляя к этому интереса. Руководил этой студией талантливый человек, Владимир Соколов, с которым я потом познакомилась. Закончил Владик студию обычно, без особенных взлетов, и взяли его в театр драмы, потому что он был Дворжецкий да еще с такими внешними хорошими данными. В театре он сыграл несколько эпизодических ролей и никаких открытий совершить не успел. 
В это время в Омск приехала киногруппа. Ей нужен был «антигерой» для фильма «Бег», и кто-то сказал, что Влад Дворжецкий очень похож на антигероя. Кстати, Владик в это время уже был лысый; красивый, большой, с совершенно потрясающими глазами. Его пригласили в Москву на кинопробу. Режиссеры-постановщики Алов и Наумов пробовали его на три роли. Сначала на вестового и на Тихого, а потом кому-то из них пришла в голову мысль: а не попробовать ли его на Хлудова? Попробовали. Первый его эпизод в кино был, когда Хлудов в вагоне просыпается от страшных снов и просит ординарца почитать ему Библию. Это первый эпизод в жизни! Он снимался месяц, потом приехал в Горький и рассказывал, что не знает, будет ли продолжать съемки. Прошло какое-то время. Мы поехали в Подмосковье за Женей, который с бабушкой был на даче в Малаховке. Возвращались на машине через Люберцы, а там песчаные карьеры, в которых снимали все сцены со слепыми. Был такой символический эпизод – «слепые ведут слепых». Мы пришли на съемочную площадку, и режиссеры нам тихонечко, как родителям, сообщили, что как будто бы всё движется замечательно. Я шла по тропиночке, и вдруг меня кто-то обнял сзади. Это был Владик в гриме: с морщинками, иссушенное страданиями лицо. Потом улыбнулся так, как всегда, и совершенно переменился. 
Он был удивительным человеком, совсем иного склада, чем отец. Сходство было внешнее, казалось бы, он очень похож на Вацлава Яновича, а стоило приглядеться – совершенно другие черты лица, другой темперамент. Вацлав Янович был взрывной, непосредственный, заводился с полуоборота, потом отходил. Владик – спокойный. Он поражал всех тем, что сидел на съемочной площадке и вязал. Знаете, как артисты говорят: «Пять минут снимают, целый день ставят свет и камеры». На это надо иметь невероятное терпение. А он – ничего. Кругом всё может рушиться, ставить свет могут день, два… всё равно он сидит спокойно, вяжет. Владислав вырос в интересного артиста с головокружительной, но, увы, очень короткой судьбой – всего десять лет он работал в большом кинематографе. Фактически Владик с Вацлавом Яновичем жил вместе четыре года за всю его, к сожалению, очень короткую жизнь: в 1939 году он родился, а в 1978-м его не стало. Что касается Тани, то ее вскоре после рождения мама увезла в Иркутск, а в 1955 году они перебрались в Кишинев. Совсем не зная Таниной мамы, я относилась к ней с удивительным уважением, потому что она воспитывала девочку с таким тактом, с абсолютной нетребовательностью, что если кому-то рассказать, то не поверят. Женщины обычно ведут себя иначе. Вацлав Янович, естественно, помогал им. Уже когда мы переехали в Горький, Таня, которой исполнилось четырнадцать лет, написала из Кишинева письмо папе. Её мамы уже не было в живых, Таня жила у ее подруги. И Таня приехала к нам на один день. Мы очень быстро познакомились и поняли друг друга. Помню, что еще взяла ее в театр на какой-то спектакль. На следующий день она вернулась в Кишинев. Летом Вацлав Янович отдыхал в Ялте, там он получил телеграмму: «Я больше в Кишиневе жить не могу». Он тут же помчался в Кишинев и привез Таню в Горький. Жене было три года, а ей – пятнадцать. Таня переехала к нам и стала любимой и дорогой девочкой. Она была… к сожалению, «была», ее нет уже два года, по-настоящему одаренной, умной девочкой, с непростым характером, пытливым, любознательным. К тому времени Таня успела закончить музыкальную школу и поступила в школу № 13 в девятый класс. У нас началась настоящая семейная жизнь. Училась она хорошо, а человеком была замкнутым. К счастью, на меня это никак не распространялось. Между нами были доверительные, близкие отношения, я ее очень любила, так же как и Владика. Это были родные мне люди. А Владик любил повторять: «Ты мне родная мачеха». Действительно, сложилась семья: двое детей – Владик был уже взрослым и жил самостоятельно. Потом, когда Таня кончала школу, вдруг возникла идея её поступления в ГИТИС на актерский факультет. Я поехала в Москву, в ГИТИС, поговорила с деканом, мол, это моя падчерица, мне она как дочка. Таня поехала сдавать экзамены, прошла на второй тур и вдруг всё бросила, вернулась в Горький и заявила мне: «Ри Яковлевна – она так меня называла, – я выхожу замуж». И вышла. Потом она прошла через очень многое. Родился сын, она училась в инязе, потом решила с мужем порвать, уехала в Коми АССР, пробыла там год, потом вернулась к мужу, кончила иняз. Было множество всяких перипетий, потому что надо было переводить ее на заочный, потом возвращать на очный, и это были сплошь мои актерские экзерсисы. Декан, когда я к нему пришла и попросила перевести Таню на заочный, сказал: «Что вы, Рива Яковлевна, на третьем курсе уже все студенты наперечет, мы готовим педагогов для школы, и об этом речи быть не может». Тут пошло в ход всё мое искусство, я его еле уговорила, а через год пришлось его уговаривать, чтобы он сделал наоборот. Затем Таня опять вернулась в Горький с сыном. Жила какое-то время с нами, начала работать в театре, её устроил туда Вацлав Янович. Взяли секретарем-курьером просто для того, чтобы она могла работать. Но быстро поняли, с кем имеют дело. Она практически стала референтом: писала все бумаги, протоколы, сочиняла письма. Потом Таня уехала жить в Питер. Она была удивительно одаренным и красивым человеком. Таня – моя страшная боль. Вацлава Яновича уже не было, когда ее не стало. Я говорю об этих в общем-то глубоко личных переживаниях, потому что это была наша жизнь, а о творческих успехах и неудачах скажут профессионалы, люди со стороны. Мне кажется, чтобы создалось верное впечатление о жизни и творчестве такого замечательного артиста, как Дворжецкий, важно сказать обо всем, что ему было дорого как человеку. Итак, вернемся в шестидесятый год: родился Женя, началась очень заполненная и какого-то другого ракурса жизнь. Через некоторое время театр драмы поставил свои лучшие спектакли: «Юпитер смеется», «Орфей спускается в ад», «Палата», «Ричард III». Рядом работали такие замечательные артисты, ставшие друзьями, как Владимир Самойлов, В. Кузнецов, Галина Демина, Раиса Вашурина, Эра Суслова, Лилия Дроздова. Театр перешел в новое качество. Корифеи, с которыми начал работать Вацлав Янович в 1958 году, уже ушли из труппы. Но режиссеры Гершт и Табачников создали крепкий, новой формации театр. Большую роль в жизни труппы после Гершта сыграл главный режиссер Б. Д. Воронов, спектакль которого «На дне» занял заметное место в биографии Горьковского драматического театра. Уже покинул его Николай Левкоев, который был главой театра и всей театральной жизни Горького, – его называли «папой». Такие молодые актеры, как Георгий Демуров, Владимир Вихров, стали ведущими артистами. Вацлав Янович был занят во многих спектаклях Воронова. Спектакль «На горах» – очень значительный среди постановок театра. В нем Дворжецкий сыграл Егорушку с невероятной внутренней актерской иронией: хамелеон, представлялыцик, изображающий собой святого, но прогнивший до предела человек, с наклеенными ресницами, со взыванием к Богу. Вацлав Янович любил роли, где можно было развернуться. Например, совершенно фантастически играл сатирическую роль в спектакле «Операция «С Новым годом!». Он вошел в золотой фонд репертуара, сами актеры просто не вылезали из кулис, потому что каждый раз импровизация Дворжецкого доходила до невероятных высот. Спектакль «На дне» получил множество премий. Однако Вацлав Янович, конечно, не получил ничего. Были случаи, когда он на гастролях играл Луку, а рецензенты писали «Левкоев». Театр к этому времени попробовал подать его документы на получение звания заслуженного артиста. Ничего, казалось бы, особенного, но из определенного дома стукнули кулаком и сказали: «Да вы что, с ума сошли, вы понимаете, кому вы собираетесь давать звание?» И не случайно актеры шутили, что в театре столько-то народных, столько-то заслуженных и один настоящий. Это была ирония сквозь слезы. Нам казалось, что мы относимся к этому и мужественно, и иронически, мол, это ничего не определяет, но вместе с тем это наносило не один шрам на сердце Дворжецкого. Действительно, глупо, потому что, куда бы он ни приезжал, где бы ни гастролировал, что бы ни смотрели критики, приезжавшие в Горький, все только пожимали плечами. Как говорится: «иди и рассказывай всю биографию», хотя она уже известна. Он был абсолютно невыездной, заграницы ему были недоступны, и, естественно, по законам того времени это распространялось и на меня. Но вернемся к спектаклю «На дне». Работая, Вацлав Янович много перечитал из того, что было написано о Луке, помимо всего, что писал сам Горький. Причем Горький был великим путаником в анализе того, что сочинил. Я никогда не забуду, как в Омске Вацлав Янович репетировал Сомова в пьесе «Сомов и другие». В ней путаница вообще потрясающая во всяких вопросах, связанных с социологией, политикой. Алексей Максимович, увлекаясь афоризмами, зачастую опускал все расшифровки того, что он собирался довести до зрителя. И как-то утром просыпается Вацлав Янович и говорит мне: «Ты знаешь, я сегодня видел великого пролетарского писателя во сне. Стал ему жаловаться: «Вот, Алексей Максимович, мы вот этого не можем понять, вот тут не можем разобраться», – а он ко мне наклонился и сказал: «Не старайтесь, это всё словоблудие». Так вот, можете себе представить, как Вацлав Янович пытался через «словоблудие» проникнуть в материал. Сколько путаницы в образе Луки в разных трактовках, школьных и нешкольных, не надо рассказывать тем, кто проходил пьесу «На дне» в школе. Но Вацлав Янович отнесся к тому, чтобы разобраться в этой путанице, очень серьезно. Он оправдывал Луку, пытался раскрыть в нем человеческие побуждения. Это было необычно и очень интересно. На концертах, на встречах со зрителями он любил читать монологи Луки в костюме и гриме. Потом, когда появилась собственная большая борода, даже не надо было гримироваться. Наступил 1970 год, и вместе с ним шестидесятилетие Вацлава Яновича. Театр гастролировал в Минске. Там мы отпраздновали его юбилей. Жене исполнилось десять лет. К сожалению, не сбылось мальчишеское предсказание Жени: «Папа, тебе было пятьдесят, когда я родился. Значит, когда мне будет пятьдесят, тебе будет сто». Итак, ему исполнилось шестьдесят. И Вацлав Янович категорически сказал мне: «Всё, ухожу из театра. Мне шестьдесят лет, я имею право на пенсию. Хватит». Я знала, что это было сопряжено со многими причинами, мы хорошо понимали друг друга. Он долго мучился, думал, но когда решение принято, оно было неколебимо. Дворжецкий пришел в театр и сказал: «Всё, господа. Я отработал то, что положено советскому гражданину, и ухожу на пенсию». Мы уехали в отпуск, к концу августа вернулись в Горький. Перед началом сезона, как обычно, сбор труппы в театре драмы, Вацлав Янович на него не явился. Начались звонки: просьбы, мольбы, угрозы. К нам домой приехал Анатолий Степанович Люсов, который в то время возглавлял управление культуры, приезжали директор театра, главный режиссер. Ничего не получилось. Угрожали как только могли. Вацлав Янович сказал: «Ведь я же предупредил. Я сделал это не явочным путем». – «Как, а заявление вы не написали! Значит, у нас нет бумаги, по которой вас можно отправить на пенсию». Короче, такой шум продолжался с неделю, но решение было принято окончательное. Так в 1970 году Вацлав Янович покинул театр. У Дворжецкого уже возникали отношения с кино, но непрочные, так как он всегда был невероятно занят в спектаклях. Был в то время очень хороший спектакль «Жили-были старик со старухой». Вацлав Янович играл старика, Галина Яковлевна Демина – старуху. Кроме того, там были очень интересные актерские работы Владимира Самойлова и Нади Самойловой, его жены. И как раз в то время, когда шли репетиции «Старика и старухи», над экранизацией пьесы работал Григорий Чухрай. Вацлав Янович пробовался у него, уже был вывешен график съемок с его фамилией, но Чухрай приехал в Горький, посмотрел спектакль и сказал, что Дворжецкий так играет в театре, что переделывать и перетрактовывать будет невозможно, а это произведение Чухрай видит совсем иначе. Так связи с ним оборвались. Но к тому времени Вацлава Яновича пригласил на картину «Щит и меч» Владимир Басов. Именно Басов – человек, который открыл Дворжецкому дорогу в кино. Его судьба в кино состоялась: Вацлав Янович сыграл в девяноста двух фильмах. Работа с Басовым была особенно интересной еще и потому, что момент встречи даже очень хорошего театрального актера с кино всегда сложен, но им этот Рубикон удалось перейти. Басов, репетируя с Дворжецким, порой напоминал: «Это не театр». Причем поиски характерного грима все-таки были связаны с театральным опытом: Вацлав Янович сделал себе из гуммоза нос, как любил гримироваться в театре, и показался Басову. Басов одобрил. Фильм «Щит и меч» для Дворжецкого стал большой школой, школой по всем статьям, и существованием в новой актерской природе. Если в театре образ выстраивается от начала до конца сюжета, то в кино сегодня снимается конец, завтра – середина, а в самом конце съемок – первые эпизоды. «Щит и меч» – большая многосерийная картина. Все снималось вразброс, и надо было уметь сохранить ощущение цельности образа не только режиссеру, но и актеру, да еще актеру театральному, который к этому не привык. Это во-первых. Во-вторых, встреча со всей машинерией и техникой кино. В-третьих, знакомство с новыми актерами. Кстати, тоже к чести Басова, в фильме впервые снимались такие актеры, как Дворжецкий, Любшин, Янковский, Мартынюк. В большинстве это были молодые артисты, очень перспективные, и тому свидетельство – наша киноистория. Но тогда, на съемочной площадке, они были в первый раз. Для Валентины Титовой это была одна из первых главных ролей. Снималась Алла Демидова, целая обойма замечательных театральных актеров: Вербицкий, Глазырин… Это большое счастье – попасть в такое сообщество талантливых людей, и работа поглотила Вацлава Яновича целиком. Он всегда вспоминал о съемках у Басова с огромной любовью и благодарностью. Владимир Басов был замечательным актером и очень интересным режиссером. С его творчеством мы познакомились еще в Саратове. Тогда вышла экранизация по роману Федина «Первые радости», и Басов привез свой фильм в Саратов. Мы смотрели его с интересом, помню даже зрительские конференции, куда нас приглашали, чтобы мы делились впечатлениями. Басов – это судьба. И он не случайно возник в нашей жизни. Замечательный, поразительного масштаба человек. 
А потом началась серьезная бесконечная работа в кино. Новизна увлекала Вацлава Яновича, кроме того, это всегда была интересная актерская работа, независимо от масштаба роли и количества съемочных дней. Он говорил, что его увлекает также то, что в каждом фильме новое знакомство, приобщение к какой-то неизвестной группе людей. Это некий новый театр, новое открытие. Подобное свойство кино замечательно отражено в фильме Панфилова «Начало» – когда героине Чуриковой приходится рассчитываться с бухгалтерией и ее спрашивают: «А вы кто?» Она, начинающая актриса, только что потрясающе сыграла роль, а ей говорят: «Вы кто?» Кино этим очень отличается. Сегодня вы нужны, и вам звонят миллион раз, в кино всегда горит. Если звонят, это значит, что съемка сегодня, завтра, послезавтра. А потом актер приезжает, и начинаются бесконечные промедления, связанные с техникой, с организацией, с чем угодно. Но Вацлава Яновича и это увлекало. Его в группе всегда очень любили, начиная с актеров и кончая рабочими, не говоря уже об ассистентах, вторых режиссерах, которые непосредственно имели с ним дело. В последние годы своей жизни Вацлав Янович очень быстро терял зрение и потерял его почти до нуля. Это было большой трагедией, а съемки тем не менее продолжались. Я его провожала, сажала в поезд, в Москве или в Питере его встречали и брали под свое крыло ассистенты, проявляя к нему фантастическое внимание, и он снимался. Зрители даже не могли представить, что он почти ослеп. Внешне это никак не проявилось. Глаза были все такими же голубыми, по-прежнему отражавшими его внутренний мир, и невозможно было предположить, что это человек, который не видит. Так его киноэпопея продолжалась до последнего дня. На 28 марта 1993 года была намечена акция в ресторане «У Шаховского» в нашем Доме актера – встреча Нижегородского театрального училища с влиятельными людьми города, и одним из «аттракционов» должна была стать встреча с семьей Дворжецких. Приехал Женя, должны были участвовать Вацлав Янович и я как представитель театрального училища и член семьи, одна в двух лицах. Двадцать четвертого числа Вацлав Янович себя плохо почувствовал, и мы пошли в больницу. Врачи сказали, что надо немедленно лечь. Но мы договорились, что его одежда и пальто будут висеть в палате, его обследуют, назначат какое-то лечение, а двадцать восьмого марта разрешат пойти на эту встречу, и потом он вернется в больницу. А дома уже лежал железнодорожный билет на одиннадцатое апреля с вызовом на съемки фильма «Хаги-Траггер». Одна из причин, по которой Вацлав Янович захотел сниматься в этом фильме, – на роль журналиста там был приглашен Женя, а отцу очень хотелось сняться с ним вместе. Вацлав Янович играл мастера-кукольника. Фильм неординарный, с мистикой, любопытными сюжетными ходами. Двадцать восьмого марта на встречу врачи его уже не выпустили. Второго апреля Вацлава Яновича прооперировали, а одиннадцатого его не стало. Воистину человек закончил жизнь в строю. Последними кадрами в его жизни был эпизод, который придумали режиссер Василий Пичул и сын Женя. Пичул снимал, с моей точки зрения, очень интересный фильм по «Золотому теленку» – «Мечты идиота». Весьма своеобразное прочтение, чем вообще отличается Пичул. Заключительный эпизод фильма – когда Шура Балаганов, которого играл Женя, не выдерживает соблазна, залезает в карман проходящей даме, и его забирает милиция. Снимался эпизод в метро, и на скамейке там сидел нищий. Вот этого нищего, свидетеля краха Шуры Балаганова, играл Вацлав Янович. Причем поначалу решили, что этот нищий – такой опустившийся интеллигент, и Вацлав Янович даже записал на английском языке песенку, которая в фильм не вошла, – не было возможности, пленка уже кончалась, и песенка не ложилась в контекст всей сцены. Это был последний фильм и последний эпизод, в котором снялся Вацлав Янович. Надо сказать, что раньше, в 1982 году, Василий Пичул сделал удивительный фильм по повести Бориса Васильева «Вы чье, старичье?» Это была дипломная работа режиссера. Причем наша «семейная» связь с ним началась ещё раньше. Когда он был на третьем курсе ВГИКа, а Женя учился в Щукинском училище, Пичул пригласил его на роль Мити в фильме «Митина любовь» по Бунину. Это была его курсовая работа. А на дипломную работу (37-минутный фильм, три части) он пригласил Вацлава Яновича. Режиссер не следовал точной композиции, не буквально воспроизвел замечательную повесть Васильева, а как-то изумительно прочел ее изнутри. В этом фильме главные роли играли прекрасные и очень разные актеры: одного из стариков играл Вацлав Дворжецкий, а другого – Сергей Плотников, народный артист Союза. Дворжецкий играл философско-иронически, Плотников – бытово, зримо, ощутимо. Вообще в этом коротеньком фильме был потрясающий подбор актеров: Носик, Жарков, Лена Майорова, и эта дружная компания единомышленников дала замечательный результат. Когда Пичул показал свою работу на ученом совете, поднялся страшный бум. Ему грозили поставить «неуд» – уж больно лихо он раскрыл жизнь наших пенсионеров. Шуму было много. Правда, он оказался победителем и ему в конце концов поставили пятерку. Фильм существует в одном экземпляре и находится у нас дома. Его показывали по Горьковскому телевидению, в московском Доме актера, но тогда, в 1982 году, лента была запрещена к показу. Шла настоящая битва за высокохудожественное произведение. Я считаю, что эта работа – одна из лучших в творчестве Дворжецкого и Плотникова. В ряду других ролей Вацлава Яновича в кино трудно на что-то обратить особое внимание – их действительно очень много. Причем в кино часто используют «породу», а такой «породы» людей – аристократической, дворянской – у нас всегда недоставало. Дворжецкий переиграл почти всех представителей духовенства высокого звания, огромное количество князей, графьев. В «Отце Сергии» он изображал директора кадетского корпуса. В фильме «Где-то плачет иволга» играл генерала, дочь которого уходит в революционное движение. Там есть трагическая сцена – встреча-прощание с дочерью в тюрьме перед казнью. Действительно, нужна была фактура, порода. Кроме этого, он сыграл массу характерных образов. В фильме «Улан» Вацлав Янович играл центральную роль спившегося, потерявшего профессию земского врача, который так и остался жить в тех местах, куда его забросила судьба. Он спасал героя фильма, который тоже прошел через многие жизненные перипетии, пил, бросал всё на свете. И персонаж Вацлава Яновича как бы вдохновил героя на второе рождение примером своей биографии: как не надо человеку терять волю к жизни, уверенность в себе. Замечательная работа, трогательная, проникновенная. В съемках фильма принимала участие собачка-дворняжка по имени Булька, которую по сюжету приручил этот бывший земский врач. Она очень скучала, когда съемки закончились. Запомнилась работа в совместном с югославами фильме «Свадьба» о сербских партизанах. Съемки проходили в Грузии, в курортном месте Базалети. Там в горах было замечательное озеро с целебной водой, где 3 августа мы праздновали день рождения Вацлава Яновича. Когда мы приходили плавать, то наблюдали занимательные жанровые картины. Полные стареющие женщины, которым вера запрещала купаться, стояли, задрав подол, потому что колени было полезно мочить в этой воде, стайками населяли прибрежную часть. Туда приезжали целыми семьями, с огромными арбузами, разводили мангалы, делали шашлыки. Мы тогда тоже были на машине, у нас была «Волга». С «Волгой» связан забавный эпизод. Вацлав Янович очень любил дарить подарки и делал это, конечно, не просто так. Всё должно было быть надлежащим образом обставлено. Однажды я вместе с подругой была на просмотре спектакля в театре драмы. В антракт мы зашли к нему в гримерную. А перед этим он ездил в Польшу сниматься в фильме «Щит и меч» и привез мне оттуда «золотые» сапоги. Так их называли, это было очень модно. Сапоги действительно очень красивые, блестящие, «золотого» цвета, осенние, высокие. И на просмотре я была в них. Вацлав Янович сказал: «Девочки, накиньте пальто». Мы вышли к служебному входу и увидели: стоит «Волга» точно в цвет моих сапог. Вацлав Янович говорит: «Вот, мать, это я тебе к сапогам дарю «Волгу». Я, конечно, подозревала, что готовится нечто, но никогда не задавала вопросов, потому что понимала – ему доставляет огромное удовольствие таинственность, которая окружает серьезное дело. Ведь в те времена купить машину было невозможно. Это через кого-то, через обком ему помогли «Волгу» приобрести. Таким образом он мне подарил машину. 
Он вообще любил изобретать разные подарки. Как-то в мой день рождения сидим за столом, застолье в полном разгаре, я не беспокоюсь, понимаю, что какой-нибудь подарок все равно будет. И вдруг он неожиданно ставит на стол целую банку рублевых монет. Было очень смешно. Кроме кино, большое место в работе Вацлава Яновича в Горьком заняло местное телевидение, причем с первых лет своего существования. Мало того что Вацлава Яновича приглашали на роли в спектаклях, постановках – он снимался и в телефильмах. Нельзя не назвать первый и очень значительный по тем временам фильм, который делал Марк Анатольевич Скворцов об А. М. Горьком, – «Снова на Родине». Вацлав Янович сыграл целую обойму исторических персонажей: Горького, Рахманинова, Чернышевского, Шевченко, а в театре – Блока. Работал он на телевидении и как режиссер. Одной из первых его постановок был опус, который назывался «Революционный этюд». Имелся в виду «Революционный этюд» Шопена и связанные с ним события. Впоследствии телевидение посвящало ему целые передачи, которые он вел, рассказывая о театре, кино, жизни. Эти записи сохранились. Телевизионщики вообще были очень внимательны к Вацлаву Яновичу – редакторы, режиссеры любили иметь с ним дело. В последний период его жизни, когда создавалась новая передача «Ковчег» (ее задумал журналист Юрий Немцов), Вацлав Янович был избран у них капитаном. Он вел передачи этого цикла, много интересного рассказывал. После того как Вацлав Янович ушел из театра и начал сниматься в кино, в его жизни было несколько возвращений в театр. Одним из таких его, несомненно, значимых появлений было приглашение в «Современник» на роль Старика в пьесе «НЛО». Ставила спектакль Галина Борисовна Волчек, а режиссером был али-Хусейн. Он и вел переговоры. Потом Вацлав Янович подписал договор и приехал в «Современник». Это было удивительное время в его жизни, потому что он встретился с новым коллективом, замечательной режиссурой. Еще это было и отдушиной – возвращение в театр. Работа шла напряженная, серьезная, и результат был удачным. Само приглашение имело для него большое значение: из Москвы артисту специальное приглашение – это ведь очень лестно. Был интересный спектакль, интересный образ мудрого старика, который помогал молодому человеку понять и осмыслить жизнь, – образ емкий, современный. Его партнером был Миша Жигалов, с которым Вацлав Янович подружился. Надо сказать, что в «Современнике» его приняли очень хорошо. Он обладал удивительной способностью приобретать друзей, потому что работал с полной отдачей, увлеченно, обаяние его было безграничным. Работа в московском театре, да еще таком, как «Современник», – заметный эпизод в жизни артиста Дворжецкого. Потому что там, разумеется, другие правила игры, другая ситуация, другая атмосфера. Это было внове и вместе с тем стало замечательным аккордом жизни. В Нижнем Новгороде его неоднократно приглашали на некоторые спектакли из уже им сыгранных. А последней работой на сцене была роль в постановке талантливого режиссера Ефима Давидовича Табачникова, который вернулся в Горьковский драматический театр. Он поставил пьесу о Жан-Поле Марате и маркизе де Саде, ту самую пьесу, которая имеет такое длиннющее название1 и в которой Вацлав Янович играл маркиза де Сада. Спектакль был интересно задуман, с трудом (в силу целого ряда обстоятельств) рождался – и, однако, родился. Спектакль острой формы, с попыткой проанализировать безумную ситуацию, ложь и предательство, которые сопровождают всякого рода революции. Действие пьесы происходит в сумасшедшем доме и сочинено тем самым маркизом де Садом, который является пациентом этого заведения. То, что делал Вацлав Янович, исполнитель главной роли, было очень глубоко, иронично, с желанием понять катаклизмы, которые настигают ввергнутое в революционные события человечество. Спектакль шел два сезона – в 1988 и 1989 годах, пользовался зрительским успехом. К этому времени стало, как я уже упоминала, катастрофически падать зрение Вацлава Яновича. Вся его биография, всё прожитое давало себя знать. Свинцовые рудники не прошли даром, съемки тоже не прибавляли зрения. И вместе с тем работа не останавливалась. Подготовка к съемкам шла уже другим образом. Сам Дворжецкий не читал – я наговаривала на магнитофон текст роли, и он, многократно прокручивая запись, заучивал, а потом мы вместе сверяли. 
Мы пытались лечить глаза: ездили в Питер, Москву, делали операцию, но результат был почти нулевой. Для того чтобы продолжать общаться с миром, сниматься, мы нашли замечательный способ – слушание лучших произведений русской и зарубежной литературы через магнитофон, который выдал ему библиотечный фонд для слабовидящих. У них была записана почти вся отечественная и зарубежная классическая литература, весь Солженицын. Последние два года жизни Вацлав Янович эти записи тщательно прослушивал. Естественно, многое по второму кругу, потому что литературу он знал хорошо. Всегда много читал: и «толстые» журналы, и книги. Так вот, чтобы это не прекращалось, на помощь пришла библиотека с записями. Всю русскую классику: Толстого, Тургенева, Гоголя – Вацлав Янович прослушал с огромным интересом. Возникла новая для него ситуация общения с литературой звучащей, кстати, записанной хорошими мастерами художественного чтения. Мне хотелось бы несколько слов сказать о его общественной деятельности. Как только начался перестроечный процесс, Вацлав Янович активно включился в него. Он принимал участие во всевозможных пикетах, связанных, например, с протестом молодежи против строительства метро на площади Горького или сноса исторической застройки. К нам приезжали его молодые соратники, советовались по поводу того, как себя вести, во имя чего и как надо высказывать свои соображения по тому или иному явлению нашей жизни. Когда впервые заговорило «Радио России», Вацлав Янович пришел в восторг, что возник свободный голос, без цензуры, без насилия! Он написал поздравительное письмо, и «Радио России» откликнулось, ответило ему. Затем Вацлав Янович принял участие в организации музея А. Д. Сахарова, занимался «Мемориалом», работал над публицистическими статьями и эссе. Одним словом, участвовал в возрождающейся жизни страны. Естественно, что надежды, которые пробудило это время, были созвучны его представлению о том, куда и как надо двигаться стране, чтобы можно было свободно дышать, говорить и думать. Они отразились в стихотворении, написанном Вацлавом Яновичем не для печати – для себя: Опять встрепенулась Россия, Чуть-чуть шевельнулась надежда, Что новый Великий Мессия - Борец за порядок и трезвость, Дарует права и свободы, Введет демократию, гласность, И возликуют народы, И сгинет вдруг госбезопасность. И красть перестанут завмаги, И врать перестанут газеты, И дело заменит бумаги, И мясом запахнут котлеты. Смеюсь (за закрытою дверью) Над этой наивной мечтою, Но Боже! Как хочется верить, Что оттепель станет весною. В свое время вторжения в Венгрию, в Чехословакию вызывали у Вацлава Яновича сильный протест. Отнестись спокойно к таким событиям, как ввод танков в Чехословакию или война в Афганистане, такой человек не мог. Поэтому понятна любовь и приверженность к А. Д. Сахарову, к увековечению его памяти, к «Мемориалу». Когда готовился вечер памяти Андрея Дмитриевича Сахарова и не оказалось холста для портрета, Вацлав Янович отдал парус нашей яхты «Марс», и на нем художник С. Ф. Алексеев написал портрет великого правозащитника. Тогда же он работал над книгой воспоминаний: садился за машинку, если она была (печатал он любительски, двумя пальцами), или писал от руки. Какая-то часть главы заканчивалась, вечером мы собирались, и я это читала. Обсуждали написанное и очень мало что меняли. Я примерно так же писала сочинения в школе. Ходишь, ходишь, а потом садишься и пишешь. Но там короткий промежуток времени отнимала тема, над которой приходилось работать. Вацлав Янович написал свою книгу почти не отрываясь, почти не правя. Просто давно вынашивал ее – так он рассказывал мне. Очень долгое время он вообще не возвращался к воспоминаниям. Для этого существовало много причин. По отношению к детям – понятно почему. Ведь в 60 -70-е годы об этом ничего ни говорить, ни вспоминать было нельзя. Нужно учитывать, что кто-нибудь разболтает или что-нибудь кому-нибудь передаст. Поэтому всё копилось и вылилось на бумагу достаточно быстро. Слова на бумагу ложились легко, однако эмоциональные затраты были невероятны – Вацлав Янович всё проживал заново. Я часто думала: что же определило его поступки, отношение к жизни, к событиям, к людям? И пришла к выводу: его спасала актерская природа. В его воспоминаниях это отражено. Книга пишется с ощущением отдаленности от происходившего. Работает воображение, фантазия, возникают образы. Но все, что делал Вацлав Янович, было пронизано тем, что он артист до мозга костей. На одной из встреч я об этом сказала, и мне задали вроде бы очень щекотливый вопрос: «Как же так, вы говорите, что он артист, а артист играет, и значит, он был не так искренен в отношениях с людьми?» Ничего подобного. Артист – это человек, который прежде всего верит и отдается тому, чем он сию секунду занят. Подобная увлеченность дает прекрасный результат в любом деле. Все увлечения Вацлава Яновича были не зря. Ему доставляло огромное удовольствие общение с людьми разными по всем статьям и профессиям, включая тех, кто не имел никакого отношения к искусству, к творчеству. Для него было важно одно – чтобы они были значительными личностями. Тому пример – наши близкие друзья. В творческой натуре разорвать понятия «аналитик», «прагматик», «философ» и «человек, творчески воплощающий замысел» очень трудно. Дворжецкий умел проанализировать явление, проникнуть в его суть и любил это делать. Это обретало у него образную, художественную форму. Просто сухо «разобрать» у него не хватало терпения, потому что его всегда обуревала фантазия, которая моментально проявлялась, хотя надо сказать, что он был не из тех эмоциональных людей, которые не ведают, что творят, и идут только вслед интуиции. Ему доставляло удовольствие вовремя остановиться, понять и определить место, которое это явление или человек должны занять в его жизни. Трудно кратко определить характер Вацлава. Он был страшно ревнив, как всегда казалось, абсолютно уверен в себе. Однако эта уверенность была результатом сомнений, переживаний, волнений. Он всегда оставался требовательным к себе. «Работа должна быть сделана на «отлично», – считал Дворжецкий. Вместе с тем рациональное начало было ему не чуждо, как всякому думающему человеку и художнику. А что касалось ревности – так это тоже актерская черта. Актерская профессия предполагает эгоистичность: человек должен утверждаться, быть замеченным, обязательно должен накапливать, чтобы потом отдавать… Он ревновал меня и к мужчинам, и к женщинам, и к работе. Вацлав Янович обладал удивительной способностью молниеносно реагировать словом на всё происходящее. Такая реакция, способность моментально включаться – тоже свойство настоящего актера. Он им обладал в полной мере. Например, однажды он ехал по Одессе и превысил скорость. Милиционер его останавливает и говорит: «Куда же вы так торопитесь?» Дворжецкий отвечает: «Навстречу XXII съезду!» Оказывается он увидел плакат-растяжку, где было написано: «Вперед, к XXII съезду партии!» И таким образом на любое явление мгновенно возникала реакция – стихотворная или в прозе, но очень хлесткое определение, меткое выражение. Вот, например, фрагмент цикла «Чернобыльские частушки», написанного им в 1986 году как отклик на официозные публикации о катастрофе. Хочу сказать несколько слов о родителях Вацлава Яновича и близких родственниках. Родители его были чистокровными поляками. Папа по происхождению -дворянин (корни рода восходят к временам восстания Костюшки), по образованию агроном, мама – домохозяйка. Она жила с нами в Саратове и какое-то время в Горьком. Прежде жили они под Киевом, в Ирпене. Можете представить, какие выпали годы: революция, гражданская война. Маме Вацлава Яновича пришлось испытать очень много. Муж умер во время войны, а сын попал в страшную мясорубку. Женщина она была строгая, замкнутая, безумно любила сына. В ее представлении у Вацлава не могло быть изъянов. Человек она была сложный и во взаимоотношениях с внуками, и с людьми из окружения сына. Она всегда относилась к ним ревниво, требовательно и очень непросто. Скончалась она в Горьком, где и похоронена. Не боись, моя Феклуша, Тех чернобыльских лучей! Опасайся лучше слушать Вражьих радиоречей! Нас пугают ерундою, Не тревожься и молчи. Хороши у нас удои, Хороши у нас лучи! Луч не трогает того, Кто у нас сознательный. Он лишь классовых врагов Губит обязательно! Облучает всех «до кучи», А Ивана – н и к о г д а! Человека не облучит, Если он Герой Труда. Повстречались, «облучились»… Целовались, не умылись… И теперь, как видно, я Радиоактивная. Облучай меня глазами, Я не стану возражать. Мы прекрасно знаем сами, Что теперь нельзя рожать… Под твоими я очами Издаю и плач, и стон, Будто бы рентгенлучами Прошпигован начисто! Я рентгенов не боюся, Все согласен облучить. И тогда меня Маруся Будет титьками лечить. Ни компоты, ни варенья, Ни грибы, ни овощи… От «стратегии ускорения» Дожидайтесь помощи. Нас и раньше облучали, И теперь облучили. Мы с тобой всегда молчали, Как бы нас ни мучили. Из близких родственников Вацлава Яновича осталась его младшая сестра Ира, она живет сейчас в Аргентине. С ней мы (я, Женя и Владик) познакомились в 1975 году, когда она впервые после отъезда из СССР приехала в Киев, потому что в Горький (тогда наш город был закрытым) ее не пустили. Женщина она необыкновенная, просто замечательная. В свое время была чемпионкой Киева по плаванию, закончила физкультурный факультет Киевского педагогического института. Умная, складная, красивая, добрая. Славная женщина с исключительно трудной судьбой. Война застала ее в Киеве. Она с детьми, двумя мальчиками, добралась до Аргентины. Подумайте, сколько это в пространстве, во времени, а главное, в душевных тратах. Она добралась, работала, вырастила прекрасных детей. Старший ее сын живет в Варшаве с семьей, а младший – в Венесуэле, видится она с ними нечасто. В Аргентине у нее есть внуки. С ее старшим сыном мы хорошо знакомы. Было время, когда он приезжал в Москву, и мы все увиделись, полюбили друг друга, стали близкими людьми. С Ирой мы переписываемся по сей день, это дорогой мне человек. В Ирпень, к родным пенатам, Вацлав Янович нас с Женей возил в 1966 году. Показывал дом, в котором жил в юности, огромные деревья, которые посадил вместе с отцом. А на пляже сохранился даже столбик, с которого он нырял, будучи мальчишкой. Мы с Женей тоже попробовали. Место там чудесное: река, лес, воздух – дух захватывает. Сейчас я хочу рассказать немного о младшем сыне, который всегда был счастлив тем, что рос в семье, папа и мама были рядом. Родители, каждый в меру своего понимания, участвовали в его развитии и воспитании, кто-то громче, кто-то тише, кто-то более настойчиво, кто-то менее. То, что у него был такой отец: сложный, талантливый, неоднозначный, – для сына в результате оказалось очень серьезным примером. Правда, Женя однажды на вопрос: «Кто тебя воспитывал?», связанный с каким-то проступком, ответил: «Рива Яковлевна Левите и улица». Женя не принимал активного участия в увлечениях Вацлава Яновича, его подавлял авторитет мастерства и требовательности. Но когда он стал взрослеть, то понял, что даже присутствие рядом такого человека, как Вацлав Янович, – пример его жизни, его интереса, его кругозора, требовательности к профессии. Пример отца, безусловно, внедрялся в характер сына. Он теперь умеет многое. В Вахтанговское училище Женя попал со второго захода, потому что первый раз он наделал массу ошибок в сочинении, не был принят и поступал на следующий год. И поступал одновременно (как это делают все абитуриенты в Москве) в несколько учебных заведений: в Школу-студию МХАТ и в Вахтанговское училище, прошел на третий тур и выбрал Вахтанговское. Сделал он это абсолютно правильно, потому что его представления о творчестве, способе воплощения, существования на сцене были ближе, мне кажется, к школе Вахтанговского училища, чем к Школе-студии МХАТ. Женю всегда еще интересовала и форма, яркость, игровая стихия, воплощающие «жизнь человеческого духа». Надо сказать, что его работа в Центральном детском театре, который сейчас называется Российский академический молодежный театр, началась с интересных и глубоких ролей. Психология актерской профессии, создание разных характеров – это его очень занимает и вдохновляет. За 16 лет, которые он работает (окончил училище в 1982 году), Женя сыграл много разных ролей. Одна из первых была в пьесе Ю. Щекочихина «Ловушка-46, второй рост», вызвавшей большой отклик. Только что переступив порог профессионального театра, он привлек к себе внимание и зрителей, и критиков. Затем он сыграл Фауста, в «Пра-Фаусте», раннем варианте трагедии Гете, Тита в «Беренике», Эдмунда в «Лире». А еще шута в «Короле Лире» в Театре на Малой Бронной, куда его пригласил режиссер Сергей Женовач. Было очень интересно, потому что он репетировал в этих спектаклях параллельно. У себя в театре – Эдмунда, а с Женовачем – Шута. Это два совершенно разных спектакля. Он получил признание прессы, зрителей, уважаемых и понимающих людей, даже с моей точки зрения Евгений – интересный актер. Женя, работая в своем театре и в театре, который называется «Школа современной пьесы», сыграл в пьесе Гловацкого «Антигона в Нью-Йорке» (постановке Леонида Хейфица). Очень интересные пьеса и роль. Спектакль на четырех актеров: в нем занят Владимир Стеклов, играют Татьяна Васильева, Михаил Глузский. Спектакль пользуется огромным успехом у зрителя и отмечен критикой. Помимо этого, Женя работает ведущим на различных каналах телевидения и снимается в кино. Он полон творческой энергии, замыслов, желаний. Во всяком случае, как мне кажется, из него получился серьезный актер широкого диапазона. Должна сказать, что Вацлав Янович к работе своих сыновей относился с трепетом, но очень требовательно. Всё, что он успел увидеть, мы обсуждали дома, анализировали, ему всегда хотелось что-то улучшить, что-то подсказать. Женю Вацлав Янович успел увидеть, во-первых, в дипломных спектаклях, во-вторых, в замечательном спектакле «Сон с продолжением». Это пьеса Сергея Михалкова по мотивам «Щелкунчика», спектакль-балет в постановке главного режиссера Алексея Бородина. Красочный, с фантазией, добрый спектакль. Вацлав Янович страшно его любил, ему нравилась игровая среда этого спектакля, а сын еще и танцевал в нем. И так бывает в жизни: в книге Вацлава Яновича «Пути больших этапов» есть несколько строк, посвященных «Принцессе Грезе» Ростана. Он вспоминает, как хотел поставить «Принцессу Грезу», какие она пробуждала в нем удивительно чистые мечты и надежды. И пишет, как он читал заключенным в лагере монолог из этой пьесы. А два года назад Женя сыграл в «Принцессе Грезе», которую поставил у них в театре очень талантливый режиссер Адольф Шапиро. И я услышала, как Женя произносит со сцены те же слова, что его отец читал в лагерном бараке зекам (дома он нам часто их повторял): Любовь – это сон упоительный, Свет жизни, источник живительный. В ней муки, восторг, в ней весна, Блаженства и горя полна, И слезы, И грезы Так дивно дарит нам она… Совсем недавно Женя сыграл Медведенко в «Чайке» Чехова, ту же роль, что и Вацлав Янович. В «Снежной королеве» Женя играет Сказочника, а Вацлав Янович его играл в 1938 году. Эта преемственность дорога… Кстати, она ни в коей степени не подражание – всего этого Женя не мог видеть по молодости лет. Он совсем другой артист, и время другое, но преемственность, продолжение традиции есть, и мне это очень дорого и важно. У Жени прекрасная, умная, талантливая жена Нина. Она актриса того же РАМТа, занимается педагогикой в ГИТИСе. Женина замечательная дочка Анечка учится во втором классе, она наша общая слабость, любовь и надежда. Папа их всех очень любил. Вацлав Янович был интересным рассказчиком. Причем он мог рассказывать и о том, что было, или тут же, на ходу, на заданную тему фантазировать таким образом, что слушали все развесив уши и открыв рот. Даже если речь шла о самых обыденных вещах, как в шуточном письме ко мне: Рича дорогая, милая, привет! Сегодня мне темы для поэзии нет. Сегодня проза простая и быт. (Ой, кажется чайник на кухне кипит!) Вчера же я ездил с утра на рыбалку. Делиться, ты знаешь, мне рыбой не жалко. Я всем раздаю окуней, карасей. «Бросаюсь рыбёшкой», но только не всей. Больших карасей я оставил себе, И щуку еще, чтобы был и обед, И завтрак хороший, и может быть, ужин. Запас в холодильнике, знаю я, нужен. А всех окуней я Ирине отдал - Готовить уху для себя я не стал. Я в кухне один, и с тобой говорил, И суп из грибов макаронный сварил, Потом в майонезе я рыбу испек, И взял из мешочка готовый творог. На старой сметане пожарил блины, И кашу сварил «20 дней без жены», Сделал компотик и вкусный салат… Поем и оденусь, и двигаю в сад! Буду до вечера землю копать, Грядки полоть, урожай собирать. Вечером: радио, «Время» и… спать! Только что встал и обратно в кровать ? Сколько же можно ложиться, вставать, Снова вставать и ложиться опять? Скоро, дружище, вставать перестанешь. Ляжешь в кровать, а обратно не встанешь. 16/VIII-87 Он очень увлекательно рассказывал сны. А сны у него были обычно фантастически-философского характера, часто цветные, сопряженные с тем, что было наяву. Вацлав Янович обладал примечательной способностью: он мог отключиться от происходящего и пребывать в своих мыслях, в своих заботах, как бы внимательно слушая, а вместе с тем не слушая, если собеседник был ему неинтересен. Очень любил, рассказывая, обращаться к теме творчества. Когда, например, он «повествовал» о виденном спектакле или о том, как проходит работа в кино, рассказ всегда еще был сдобрен его собственным отношением, ощущениями. Причем у него было такое свойство, довольно редкостное: если с ним что-то происходило, а происходило много всего, то на следующий день он мог ничего не рассказать, а потом выкладывал, всё нес мне. Обладая громадным терпением, я завела правило – никогда не задавать вопросов и, наверное, умела создать ситуацию, в которой через какое-то время он обязательно приходил и рассказывал абсолютно все, независимо от того, в какой области его деятельности, переживаний, встреч это случалось, связано ли было с письмами, которые он получал и которые писал. Это было привычно мне, нормально, а когда о таком свойстве мужского характера заходила речь с друзьями, они удивлялись. У него была потребность поделиться. И поэтому я принимала участие в решении всех его проблем, казалось бы, самых личных, не говоря уже о тех периодах, когда он начинал работать над какой-то ролью в кино или в театре: все равно он делился, задавал вопросы. Я должна была принимать в этом самое непосредственное участие. Хотя я лично никогда не любила рассказывать о себе, даже близким людям, и не испытывала потребности делиться. Это, наверное, плохо, но факт. А Вацлав Янович относился к этому как к естественному желанию, естественному импульсу. Всё, что он делал, в какой-то степени проходило через меня. Поэтому трудно кому бы то ни было представить, какая в моей жизни образовалась пустота и горе. В каждой семье есть традиции. Очень хочется еще раз напомнить, что Вацлав Янович был счастливым человеком, всегда внутренне свободным, непростым, подчас нелегким, упорным, но свободным в любых обстоятельствах – удивительное, превосходное качество. Естественно, что день рождения и день памяти Вацлава Яновича в нашей семье – это святые даты. И мы всегда стараемся быть в эти дни вместе и отмечать их, вспоминать, говорить о нем, хотя и так не забываем ни на минуту. У нас такое ощущение, что всё происходит при нем, под его взглядом. Вацлав Янович как бы всё видит и продолжает участвовать в нашей жизни, и у нас выработалось правило: когда его вспоминаем в день его ухода, мы чокаемся, нарушая обычай. Потому что он с нами. Вацлав Дворжецкий ПУТИ БОЛЬШИХ ЭТАПОВ ТЮРЬМА 
Киевская Лукьяновская тюрьма – «Лукьяновка». С. К.– 7-2. – Следственный корпус, седьмой коридор, вторая камера. Одиночка. Ноябрь 1929 года. С пересылки привезли ночью, в «черном вороне» (Ч. В.) – это большая закрытая железная грузовая будка с одиночными отсеками внутри и охраной сзади. Процедура оформления заняла часа три. Формуляр: фамилия – имя – отчество, год рождения, место жительства, работы, родители, родственники, оттиски пальцев рук, цвет волос, глаз, рост, национальность, образование… Дальше – фото, стрижка, баня. И все время один. Почему один? Чувствуется дыхание множества людей, запах цирка и паленой серы, старых лежалых тряпок и пота человеческого. Вот почему один: в одиночку привели. Узкая высокая камера с железной койкой у стены, такая же табуретка и в углу ведро… Зачем ведро? (Позднее я узнал, что это «параша».) Дверь захлопнулась, загремел засов, зазвенели ключи, замок. Заперт! В двери – форточка, в форточке – глазок. Сзади, высоко в нише, – узкое окно, решетка, на нише – глубокая трещина (царапина). Это след от пули. Толщина стены, видимо, больше метра. Пол цементный – пять шагов вдоль, два поперек. Лампочка электрическая над дверью под потолком. Всё… Что дальше?.. Вещей у меня никаких: взяли на улице. Родители ничего не знают… Будут искать, конечно… Новая, другая жизнь начинается. Фаза. Страница! Новая глава – в 19 лет! Бог знает, что ждет впереди, но уже ясно, что прошлое рухнуло, что будущее полно тяжелых неизвестных испытаний. Надо быть готовым ко всему самому худшему и надо выстоять, выдержать, вытерпеть. И вдруг: тук, тук, тук! Что это? Стучат в стенку! Послышалось? Нет! Опять стучат! Со временем (а времени хватало) в сознании оставалась какая-то закономерность, последовательность: вначале много стуков подряд («Вызов»!), затем стуки в определенном ритме («Слова»!). И всегда – завершение в ритме «ламца-дрица-ламца-ца» («Конец»!). В чем же ключ? Однажды в туалете оказался обрывок бумаги, на нем написано: «буквы 5 х 5». Потом (не сразу) осенило: «Это же расположение букв для перестукивания!» Скорее бумагу, карандаш! Расчертить, расписать буквы по клеткам. А теперь попробовать записать какое-нибудь слово цифрами-стуками на бумаге. Самое подходящее и короткое– «Привет»! «П» – это третья строчка, пятый ряд – «3 – 5», «р» – четвертая строчка, первый ряд – «4– 1». И дальше «и» – «2 – 4», «в» – «1-3», «е» – «2-1» и, наконец, «т» – «4 – 3» – «Привет»! А как же паузы между буквами? Сообразил, что ровный ритм, который часто повторялся, мог означать эти паузы. А периодически повторяющиеся три удара – конец слова. Обратил внимание и на то, что только 25 букв из 33 вошли в таблицу. Догадался, что не вошли те, без которых в крайнем случае можно обойтись: вместо «э» – «е»; вместо «ю» – «у»: вместо «щ» – «ш», вместо «й» – «и», а «ь» и «ъ» не нужны. До всего этого пришлось догадываться месяца два. А теперь можно пробовать! Ну, с богом!.. Сначала постучать пальцем по книжке – потренироваться тихонько. «Вызов» – тук, тук, тук! Пауза (ждать ответа). Так… теперь слово «Привет» – шесть букв. Выдержать ровный ритм… медленный темп, чтобы не сбиться. Ну: раз, два, три – паузочка, раз, два, три, четыре, пять – пауза, дальше: 4-1, 2 – 4, 1-3, 2-1, 4 – 3 – три стука. Еще раз! Еще раз! Ритм выдерживать! Не сбиться бы! Теперь можно постучать в стенку… Вдруг не ответит?! Вдруг надзиратель услышит? Смелее! Тук, тук, тук, тук… тишина… (А сердце колотится…) И вдруг: «тук, тук, тук, тук»! – ответ! Начал: 3 – 5, 4-1, 2 – 4, 1-3, 2-1, 4 – 3. Тук, тук, тук. И «ламца-дрица-ламца-ца» (залихватское)! Пауза… как понял? И вдруг оттуда сразу быстро: «Привет!» – то есть 3 – 5 и т. д. Ура! Значит – правильно! И еще стуки, много, но ничего пока непонятно. Это только потом, через полгода легко удавалось «читать» стуки на слух. Даже отдельные стуки из других камер в другие стенки. «Окно в мир» открыто! Постепенно стало известно всё: фамилии, профессии, возраст всех моих «соседей». О «делах» никто не сообщал, а новости с воли приходили. Открывшаяся возможность общения очень поддержала, укрепила дух. Одиночка. Окно, видимо, на юг, так как лучи солнца в одно и то же время, в середине дня проникают и ложатся ненадолго на стенку. Было интересно отмечать карандашом эти следы. За тринадцать почти месяцев на стене получился «веер» полосок… На бетонной стене много «отметок». Камера, в которой, между прочим, сидел Бауман («Грач – птица весенняя»)… А вот гравировки вязью: «Из-за политики украинской вышиваннои сорочки невинно здесь томился русский инженер». Камера стала уже домом родным. Особенно когда возвращаешься после допросов – длительных, изнурительных, мучительных. Сразу стучишь в стенку, сообщаешь или узнаешь новости… И книги есть, и бумага, и карандаш, и читать-писать можно, только свет очень плохой. Тусклая лампочка светит под потолком день и ночь. А книги приносит заключенный библиотекарь с надзирателем. Выбирай: «Анти-Дюринг», Пушкин, Спиноза, Жюль Берн. Много книг, которые на воле изъяты. Например: Отто Вейнингер, Ницше. Как раз то, за что забрали и посадили в тюрьму. Теперь, в ходе следствия, уже выяснилось, в чем «дело». Следствие – это отдельная тема. Потом… А «дело» серьезное. Студенты – пять человек в возрасте 18-19 лет – образовали кружок «ГОЛ» – «Группа освобождения Личности». Что мы там делали? Собирались изредка вечерами у кого-нибудь на квартире или в общежитии, читали Гегеля, Шопенгауэра, Спенсера, вслух читали. Разбирали, спорили. Говорили о свободе мнений, о свободе совести, о праве на убеждения, ратовали за открытые дискуссии, за свободу слова и печати, за свободу разных партий, за демократию, против диктатуры. Было много наивного, даже малограмотного, но много было честного, чистого в спорах, мыслях. «Хорошо было до революции! Было с кем вести борьбу: царь, помещики, капиталисты, всякие угнетатели и эксплуататоры. Но теперь? Советская власть! Все враги свергнуты. А свободы нет! Плохо живем! Почему? Кто виноват? С кем бороться конкретно? Как бороться?» Программы никакой не было, плана никакого не было. А что-то делать надо?! Во-первых, энергии до черта, потом – запретов много. А когда пошло интенсивное «избиение» нэпа – совсем стало невмоготу: и галстук – нельзя, и фокстрот-чарльстон – нельзя, в «строю» все время нужно быть, ругать что велят, хвалить что требуют. Тупость, ограниченность, ритуальность, муштра… «Коллектив! Коллектив! Коллектив!» Масса! А личность? Где она? Что с ней? Интеллигенция замерла. Вокруг – «советские служащие». Если кто из студентов чем-либо выделялся, он – «белая ворона!» Лекции скучные, занятия неинтересные, спорт – ГТО – примитивно, энтузиазм плебейский. Ой, как хотелось расшуровать, раскачать, сдвинуть что-то с прямолинейности, «ковырнуть» корку, заглянуть в середку, взорвать, увидеть, услышать, попробовать… Стоп! Нельзя! Нельзя! Ничего нельзя! Лермонтова нельзя – он шотландский дворянин! Достоевского нельзя – он провокатор! и предатель! Оперу слушать нельзя – это искусство дворян! Ужас! Ну вот и возникла «Группа освобождения Личности» – пять человек, «конспираторы-борцы»… Хотелось что-то открыть, ниспровергнуть, жертвовать всем, рисковать. Было интересно и тревожно носить в себе тайну, быть конспиратором. После 1925 года былая «разноголосица» молодежи стала резко ограничиваться, зажиматься, и уже примерно к 1928 году оставалось место только для комсомольской песни и лозунга: «Кто не с нами – тот против нас!» Для общей массы «общежителей»-студентов политика – это «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем», а нэп – это «нэпманы». Все шумело вокруг… Украинские националисты (ОУН), Скрипник, польский театр закрыт, обыски, спекулянты, пятилетка, вредители, индустриализация, «Долой церкви и попов!», Днепрострой, кулаки и… Маяковский! Вот такая «каша»! И стихийно возникали какие-то интеллектуальные кружки. Вот и «ГОЛ» тоже. Но до этого был «АДХ» – «Ассоциация декадентских хулиганов» (срывали плакаты, «вырубали» свет во время собраний), затем «Банда рыжих» (собирались по детекторному приемнику, читали стихи Саши Черного, Хлебникова, Бурлюка, Блока, Маяковского). Так какое обвинение предъявят мне? За что арестовали? Кто донес? Как себя вести? Как? Конечно, независимо, смело, твердо: не бандит, не уголовник. Свобода – вот платформа! Преступления не было! И никого не выдавать! Никто ни в чем не виноват! А страшно… Тюрьма… одиночка… ночь. Скоро допрос. А мысли опять идут по кругу. «Как там родители? Они ничего не знают. Сколько боли, горя им уготовано. И сестру очень жаль. Отец… Господи! Вспомнить страшно, как они трудно-нищенски жили последние годы! А я? Чем я облегчил им жизнь? Что я сделал для того, чтобы они, Родители мои, любимые Мама и Папа, мученики разрухи и голода, труженики мои дорогие, чтобы они были счастливы? Что я сделал?..» СЛЕДСТВИЕ Ужасно медленно тянется время! День… час… минута… Мучительно… бесконечно. Не вызывают. Не объясняют ничего. Надзиратель молчит. Выводят на прогулку одного, в закрытый дворик, на пятнадцать минут. Два месяца – как десять лет! Шестьдесят дней и шестьдесят ночей… один. Мысли, мысли, мысли… Знают ли родители, где я? В Запорожье ведь задержали, на улице, и в квартиру не пустили за вещами. В подвале каком-то на соломе ночевал. На работе ничего не знают… В кузнечном цеху только стенгазету закончил. К празднику, к Октябрю. Не успел вывесить!.. Сволочи! Я им говорил – буду жаловаться! Молчат. И ремень брючный забрали. Три рубля халвы купить! Ведь хотелось! Не купил… а теперь куда их, три рубля?.. Из подвала еле-еле слышно кто-то поет: «Ты жива еще, моя старушка, жив и я. Привет тебе, привет!..» Гады! И поесть не дали… Который час, интересно?.. Люсенька… Вчера утром письмо получил. Не ответил… Отобрали письмо… Фу! Солома какая-то вонючая… Холодно… Темно… Утром загремели засовы, принесли поесть… Не могу… – Выходи с вещами! Какие вещи? Штаны в руке, чтобы не свалились… Куда? Может, выпустят? Как же! Знал бы, когда забирали, что это через адских десять лет будет, – сбежал бы! А ведь зря не сбежал! Можно было: в поезде повезли, в общем вагоне. Один охранник. И не связан был, и ремень вернули, и ничего не писали… А паспортов в то время не было еще вообще. Думал, ошибка. Разберутся – отпустят. Такие вот мысли и сейчас даже, после двух месяцев одиночки… А тогда? В Киеве повел меня мой охранник пешком по Бибиковскому бульвару, в сторону Бессарабки. Очутился я в большом зале, а там – битком! Еле протиснулся. Сидели на полу, спина к спине, коленки в коленки. Всю ночь так. Сосед справа, пожилой, в пенсне, форменная фуражка инженера, говорит: – Все сегодня поступили. Киевляне. Угостил меня бутербродом. Памятная ночь. Человек двести пятьдесят… Утром разобрали, развезли. В одиночке хуже – как в гробу… Поговорить бы с кем… На допрос не вызывают… Послезавтра новый год – 1930-й… Вдруг: «На допрос!» Как так? Ведь 31 декабря! От Лукьяновки до центра (управление ГПУ) в «воронке» далеко. А там: «Руки назад!» И по лестнице наверх. Один этаж, два, три. Пролеты перекрыты сеткой (чтобы не броситься вниз головой). Все это как во сне и в то же время все осознается четко и ясно. За письменным столом молодой человек в штатском. Расписался. Отпустил конвоира. Велел сесть. Стул в двух метрах от стола, прикреплен к полу. Настольная лампа с зеленым абажуром. Уютно. Вежливые вопросы. Приятный голос: «Фамилия? Имя? Отчество? Год рождения…» – и т. д. Всё аккуратно записано на листке «Протокол допроса». Рядом папка с какими-то бумагами. Пауза… Долго перелистываются какие-то бумаги… Следователь внимательно читает, перечитывает, останавливается, задумывается, покачивает головой, ухмыляется, иногда внимательно поглядывает на меня, опять возвращается к бумагам, постукивает как бы в раздумье пальцами по столу, вздыхает… долго так… Тишина. Часы на стене тикают и… сердце. Я ведь еще ничего не знаю! Первый раз. Что-то где-то когда-то читал, но… это со мной! И я не знаю, что все это игра. Думаю, что там, в бумагах, которые он так внимательно просматривает, что-то про меня написано! Что, ну! Говори! Спрашивай! Бесконечное молчание. И вдруг щелкает выключатель, в лицо мне ударяет яркий свет. Я уже не вижу человека за столом, слышу холодный голос, резкие слова: – Имейте в виду – органам известно всё! В ваших интересах ничего не скрывать, признаться во всём, не пытаться нас обмануть! – Я ничего не знаю… В чем вы меня обвиняете? Я ни в чем не виновен… – Органы ГПУ никого зря не арестовывают! Ваше увиливание от чистосердечного признания будет расценено как враждебный выпад! – Я не знаю, в чем мне признаваться… – А вы признавайтесь во всем, – перебивает следователь. – Назовите всех и не надейтесь, что вам удастся что-нибудь скрыть от нас! Нам все известно! Свет гаснет. – Всё изложите вот на этой бумаге и распишитесь. Входит еще один человек. Меня переводят к столику у стены, на котором бумага, перо, чернила. – С вами останется дежурный следователь, я скоро вернусь. Ушел. Тот, другой, сел на его место, закурил: – Пиши, пиши давай! Что писать? Чего они хотят? Что им известно? А может, ничего не известно, может, поклеп какой? В чем могут обвинить? «ГОЛ» – это, конечно, «преступление», мы это знали и собирались тайно, но, во-первых, действия никакого не было, а во-вторых, никто же не знает про «ГОЛ», кроме нас, пятерых. Может, сболтнул кто? Из наших донести никто не мог! Если действительно «ГОЛ», я все возьму на себя. А может, на заводе что-то случилось? Там, кажется, лозунг какой-то сорвали недавно. Кто-то портрет Троцкого на демонстрацию вынес… А может, наша «Банда рыжих»? Павлика мы уже неделю не видели, может, его раньше забрали? Или, может, каникулы в Шепетовке? Там граница рядом… Коля Мовчан тогда предупреждал – не ходите на свадьбу. Мы пошли. Нас тогда в сельсовет привели. Мы студенческие билеты показали… Черт его знает! Что же мне писать? Ничего не буду! Пусть делают что хотят! Сидел я, сидел у столика и мучился… А «дежурному», видимо, нужно было идти Новый год встречать. .. Меня увезли обратно в тюрьму. Здравствуй, «родная» камера. Каша холодная… Уснуть надо. Попробуй, усни… Еще хуже, еще тревожнее стало… Это надолго… Надо жить! Со следующего дня я стал систематически заниматься гимнастикой и ходил по камере десять тысяч шагов. Обязательно десять километров ежедневно! Нечего ждать! Это надолго! Надо жить! Месяц никуда не вызывали. Ни писем, ни передач, ни книг. «Следователь не разрешает». Приходил начальник тюрьмы: «Какие жалобы?» Какие могут быть жалобы? В соседних камерах та же картина. (Я уже перестукивался.) Продолжается истязание томлением, сомнениями, неясными тревогами… С ума можно сойти! Наконец, повезли на допрос. Ночью. Со сна. Снова следователь начал меня «пугать». – Обстоятельства осложняются. Если вы будете продолжать так себя вести, придется ужесточить условия содержания. И я начал «хитрое наступление», начал говорить что-то о заводе, о «Банде рыжих», о Шепетовке со свадьбой, говорил долго и невразумительно. Наконец следователь перебил раздраженно: – Что вы мне голову морочите, рассказывайте, где вы собирались и как сговаривались свергнуть Советскую власть! Я понял: всё дело в «Группе освобождения Личности»! Наконец я избавился от сомнений! Теперь я знаю, чего от меня хотят. Рано ты прекратил «пытку», друг следователь. Теперь я спокоен: «ГОЛ» – это моя идея! Мое убеждение. Имей мужество признаться. Но откуда узнали? Ничего. Я всё скажу. Скажу всю правду, а называть никого не буду. – Давай бумагу! К утру исписал четыре страницы. Вот что я там изложил: «Да – личность! Масса безлика. Человек! Его талант, способность, призвание, его ум, красота, все – индивидуально! Нельзя всех стричь под «одну гребенку». Долой «прокрустово ложе»! Только свобода личности – путь к максимальному раскрытию человеческих способностей с наибольшей пользой для общества! Вот идея «ГОЛ». Интеллигенция – передовая часть общества! И не следует «разрушать до основанья» веками созданную культуру и искусство. Да, читали Спенсера, Гегеля, Достоевского и социалистов-утопистов. И монархистов. Все читали, что удавалось доставать, и считаю, что это не вредно, а, наоборот, полезно для каждого. И несправедливо ограничивать личность человека и навязывать ей «твердые установки поведения», запрещать анализировать события, запрещать думать. Это против природы Человека». Все, все подробно писал. Цель была – не скрывать свои идеи и проповедовать Свободу. И декабристов вспомнил, и французскую революцию, и революционеров-демократов, и победу Октября. Никто не собирался «низвергать» Советскую власть, но пытаться совершенствовать ее – долг каждого честного человека. А рассказывать что-либо о «соучастниках», о своих единомышленниках и не намерен. Было уже утро… Днем меня опять увезли на допрос. Не успел выспаться, успел поесть. Привели в тот же кабинет. Двое незнакомых. – Следователь Шмальц уехал. Я буду вести твое дело2… Мы с тобой покруче поговорим, – продолжал следователь. – То, что ты тут нацарапал, уже на «десять лет» хватит, а если честно расскажешь всё о вашей контрреволюционной организации, будет тебе облегчение. Обещаю. Сколько народу было? Кто поименно? Где собирались? С кем связаны? Давай всё выкладывай! – Я свои показания больше ничем дополнить не могу – всё написал, как было. Я за всё отвечаю. А товарищей своих называть не буду. Помощник следователя подошел и прикрепил меня к стулу, на котором я сидел, двумя ремнями – к спинке и к сиденью. Я не мог понять, зачем. Бить будут? И не привязывая можно. И вдруг я почувствовал какую-то помеху на сиденье, прямо против копчика… Через час страшная, жгучая, ноющая боль пронизывала позвоночник до самого затылка. Онемели руки и ноги, потемнело в глазах, из носу пошла кровь. Я уже даже не слышал вопросов, но не мог не кричать, помню… Развязали меня. Двое надзирателей на лифте спустили меня в подвал, в карцер. Я там отдохнул… на бетонном полу. Не знаю, сколько времени прошло… Поднял меня надзиратель сапогом в бок. Суп принес, хлеб. – Давай, пошли на оправку! – Ну да! «Пошли!» – ноги ватные, не держат. Всё человек может вынести! Через пару часов я уже двигался, как живой. И опять был на допросе, и опять ничего не сказал! Когда начинал кричать, рот завязывали полотенцем. Глупо: а если вдруг захочешь сказать? Ничего… Поймут: опытные. Глазами «скажешь». Вот таким способом и не раз выясняли мои следователи «обстоятельства дела». Прошел год… Я уже передачи получал от мамы, книги мне приносили, стихи писал. Не стригся ни разу – волосы на плечах… Ничего не подписывал. Били. Иногда держали на допросе сутками. Сознание терял. Есть не давали. Следователи менялись, ели при мне жаркое, пили пиво. Однажды, в мае уже, после длительного моего молчания следователь приказал увести меня, передав конвоиру какую-то бумажку. В лифте спустились в подвал. Я думаю – опять карцер. Нет. Поворот направо. Железная дверь. Часовой. – Забери, – сказал конвоир и передал бумажку часовому. Часовой открыл дверь и велел идти вперед. Длинный каменный низкий коридор, маленькие лампочки под потолком, под ногами лужи. За мной – шаги часового. Впереди – стена. Тупик. – Стой! Руки на затылок! Не поворачиваться! – Щелкнул замок пистолета… Кирпичная стена… следы от пуль… Стоял, ждал… Почему-то смешно показалось вдруг. Ну! Ни о чем не думал. Тошнило только. Часовой повел меня обратно. Не помню, как я оказался в «черном вороне». Жизнь продолжалась. Май… Июнь… Июль… Август… Сентябрь… – это не месяцы, это – века. Еще один допрос. Незнакомый следователь велел написать подробную биографию. Написал. А в сентябре – очная ставка. Передо мной – друг мой, студент Василевский, член пятерки! – Знаком? Как фамилия? – Василевский. – Вместе работали? – Учились вместе. – Где встречались? – В институте, в польском клубе. – Назовите, с кем еще встречались. – У нас много студентов. – Подпишите. Оба. Подписали. Всё… А в ноябре я очень быстро подписал последнюю «бумажку»: «Решением особого совещания (окрэмой нарады) по ст. УК 58, пункты 11, 54/12 УК УССР приговорен к десяти годам с отбыванием в СОЛОВКАХ». Меня перевели в общую камеру. Разрешили свидание с родителями. Я сумел даже передать маме свои записки, стихи и… волосы! Когда меня переселяли, велели постричься. Отказался. Я за этот год стал закоренелым «узником». Вел себя независимо и, честно говоря, зачастую глупо. Ну, кому я и что хотел доказать своей «романтикой»? Но с волосами – это принципиально! Я не хотел потерять независимость! Внушал себе, что я свободен. Пользовался всеми возможностями, чтобы доказать это себе, чтобы утвердиться. В общем, я отказался стричь волосы. Начальник пришел меня уговаривать. Я поставил условие: согласен постричься, но… переводите меня в общую камеру, а через час пусть придет парикмахер и спросит: кто желает постричься? Я выйду и скажу: «Я желаю». Так и поступили. И волосы длинные мои я потом передал маме. Через десять лет они еще сохранились. Собирают народ в пересыльную камеру… Жаль, привык. Прощай, тюрьма! Ой ли? Много тюрем еще ждало меня: Лубянка, Бутырка, Вятка, Архангельск, Омск… Но это – впереди. А пока – в путь! НАЧАЛО ПУТИ Январь 1931 года. Поезд пришел в Котлас. Главная пересылка УСЛОН – Управление северных лагерей особого назначения. Поезд особый из Киева. Четыре вагона пассажирских, с купе-клетками внутри, и пять теплушек – товарных вагонов с нарами и печками. Этап прибыл. Разгрузка, перекличка, построение, «следование» к проходной… Легко сказать, а часа четыре прошло. Человек пятьсот прибыло. Женщины отдельно. Вьюга, холод, ночь. Исключительно интересная процедура сдачи-приемки «контингента»! Долгое-долгое ожидание у ворот. Наконец возвращается начальник конвоя, который передал формуляры начальнику лагерной охраны. Открываются ворота, выходят человек двадцать «дневальных» с дубинками и выстраивают коридор по десять человек с каждой стороны. Начальник охраны остается в зоне, а конвой окружает этап снаружи. Наконец начальник охраны приказывает: «Буду называть фамилии, отвечать: имя, отчество, статья, срок и бегом в зону!» Кто расслышал, кто не расслышал: ночь, вьюга, из зоны светит сильный прожектор. И вот тут-то начинается! – Петров Иван Петрович, 58, десять лет. – Бегом! На ходу отвечать! И бегут в зону с вещами, с узлами, с корзинами, бегут сквозь «коридор» дневальных, а те подгоняют дубинками и матюками. Бегут старики, бегут больные, запаздывают, падают, поднимаются. Бегут сквозь строй в лагерь-пересылку «Котлас». А потом долгая, изнурительная процедура. Вещи оставляй, в баню по десять человек заходи, одежду в жарилку сдавай! Стригут машинкой наголо и голову, и прочие места. В бане холодно и грязно, нет мыла, воды мало, приходится ждать в предбаннике одежду, разбирать вещи, которые остались, «следовать» в барак. Опять перекличка. В общем, до утра! А там – поверка. Опять выходи строиться. И оставаться надо в строю до отбоя – пока не закончится поверка по всему лагерю. Многие ведь на нарах остаются, живые и не живые, а «населения» десятки тысяч, много бараков, зоны в зоне, изоляторы, санчасть! Это видеть надо! Поверка! Многие уже сидят на снегу, другие двигаются, греются, топают ногами. А что делать? Перед каждой колонной надсмотрщики-дневальные. Им тоже невесело, хотя они одеты хорошо и у них перспектива: после поверки, каши и развода можно отоспаться в бараке. Наконец – отбой! Звенит рельс. – По баракам! Надо быстро за миской смотаться и в раздаток – за кашей! Эта наука уже через день усвоена! Все надо делать быстро. В хлеборезку и за кашей, чтобы очередь поменьше, если в баню, чтобы мыло и шайку захватить, с кашей в барак побыстрее, чтобы перед разводом успеть отдохнуть, покурить. А то в рельс ударят на развод, а многие еще в очереди за кашей и кипятком. Ориентироваться надо! Новые условия быстро изучать и осваивать, иначе опередят, оттолкнут, затопчут! Тут каждый за себя, за выживание, за лучший кусок, за лучшее место, за лучший бушлат, за лучшую лопату и… за лишнюю пайку! Это – главное! Средство выживания – пища. У вечно голодного «зека» всегда на уме: где бы чего достать пожевать? Любым способом! Есть сила – отобрать у слабого, есть возможность – украсть. И за счет мертвого поживиться не грех. Из барака больные обычно на поверку не выходят, их пересчитывают на месте дневальные, а кто на верхних нарах – тех по ногам, и потом им приносят хлеб, кашу и баланду. Некоторые давно неживые, а соседи молчат и получают за них пищу. Или дневальные скрывают до поры, а кашей и хлебом торгуют. Не всех и на работу отправляют. Пересылка ведь! Народу много, работы мало. Лесопилка – за зоной и перегрузка леса. А в зоне ежедневно формируются этапы. Каждый раз волнуешься: вызовут – не вызовут? Отправляют на лесозаготовки, на лесоповал. И часто прибывают новые этапы с разных концов великой России. Тут, как в адском котле, все перемешалось, все грешники, все нечистые, все «зеки»! Новички растерянные, старожилы хитрые, ловкие, «ласковые». Пожилые, интеллигентные люди жалкие, крестьяне тупые, безразличные, священники испуганные, над ними все издеваются, пока их не постригли наголо, а постригут, переоденут, смотришь – просто «зеки». Туркмены, узбеки, таджики и еще каракалпаки – те быстро гибли. Умирали без болезни, без мучений, без шума. Сидят у стены на солнышке, хоть и мороз, сидят в халатах, в чалмах, в папахах, старики, сидят, молчат, ничего не едят и тихонько умирают. Что еще помнится хорошо – это речи. Перед строем каждого отправляемого этапа выступал начальник. Кто он? Какой начальник? Неизвестно. Выступал громко, внушительно и всегда одинаково: «Заключенные! Вы прибыли сюда на разные сроки для того, чтобы честным трудом искупить свою вину перед Родиной! Только трудом вы можете добиться сокращения своего срока заключения. В нашей великой стране труд является делом доблести и славы! Труд поможет вам скорее выйти на волю и стать равноправными гражданами советской России!» А дальше уже конвой командует: «Шаг направо, шаг налево считается побегом! Оружие применяется без предупреждения. Вперед, следовай!» Завтра опять этап и опять та же речь. Оратор, возможно, другой. Они какие-то похожие: в добротных полушубках, белых бурках или валенках, в серых военных меховых шапках-ушанках. Никаких признаков различия, без оружия. Вот в конторе они выглядят иначе: в шинелях или во френчах, украшенных ромбами, шпалами, кубиками. Контора – большой двухэтажный бревенчатый дом с множеством комнат и длинными коридорами. С крыльцом! Вот с этого-то крыльца и выступали ораторы. Над крыльцом красный лозунг: «Тут не карают, а исправляют!» На бараках: «Позор нарушителю лагерного режима!» На воротах: «Работа освобождает!» Внутри барака: «Боритесь за чистоту!» Много разных красивых лозунгов и плакатов. По лагерю все время шатается народ. Придурки снег сгребают, на кухне дрова заготавливают, что-то разгружают. Среди них и услужливые, «вежливые» сексоты, готовые посочувствовать, выудить и продать с потрохами. Никто никому не верит, все чужие, все друг другу враждебны. И с вещами очень плохо. Ведь есть еще какие-то вещи с воли! Ну, куда девать? Залезаешь спать, обувь оставляешь под нарами, утром встаешь – нет обуви! А все остальные вещи или с собой, или на себе. Пересылка! Соседи меняются, нет покоя, никого не знаешь. Правда, и здесь, на пересылке, много постоянных «жителей»: обслуга, контора, дневальные, охрана. Многие осели, крепко понаживились на пересыльных. «Барахла» вон сколько валяется, только успевай подбирать! В лагере за все платить приходится: за лучшее место на нарах, за то, чтобы на поверку не выйти, за то, чтобы с развода вернуться, остаться в бараке, за то, чтобы поработать на кухне, в конторе, на складе, – за всё! Всё отдашь, что привез с воли: и теплую рубаху, и кальсоны, и носки. И все эти «шмутки» за зону потом уплывают через бесконвойных, а оттуда прибывают деньги и продукты. Среди «долгожителей» самый разнообразный народ. Художника одного, например, четыре года не посылали на этап: был нужен, жил при КВЧ, при клубе, писал лозунги и плакаты типа: «Даешь индустриализацию всей страны!» (и улыбается этакий красавец, «социальный герой», с кувалдой на плече на фоне Днепростроя). Тут и клуб был, зал человек на 200, и эстрада. Чаще всего в зале оформляли этапы, но и концерты устраивали. Артисты, музыканты попадались нередко. Их выявляли во время прибытия и потом привлекали в клуб. Завклубом долго была расконвоированная, а баянист чуть ли не постоянный. В женской зоне, куда мужчинам запрещено входить, командовала старшая дневальная «Машка» – бой-баба, Мария Федоровна, бывшая фрейлина двора Ея Императорского Величества. Материлась – жуть! – в «семь этажей» и командовала тут уже года четыре. А прибыла из Соловков. Оттуда же – и князь Ухтомский, высокий, сухой старик, лет восьмидесяти, и княгиня Трубецкая с сыном. Князь Ухтомский еще в двадцатом году был отправлен в Соловки пожизненно. Бумагой от Ленина ему разрешалось писать мемуары и запрещалось посылать его на работу. Потом отобрали и сожгли и бумагу, и мемуары… Дежурил в конторе дневальным, имел помощника-уборщика. А Трубецкую с сыном вскоре куда-то увезли (говорили, в Москву). Не на волю же! Начальство, говорят, часто менялось. Прибывала комиссия, что-то разбирала, кого-то расстреливала, кого-то назначала. А ритм жизни не менялся. Этапы прибывали, убывали. Гремели подъемы, отбои, поверки, разводы. Штрафников-отказчиков, «бегунов» – ставили к проволоке под конвой, мертвых вывозили ночью на плоской телеге, а то и днем, если за ночь не управлялись. Телега прикрыта брезентом, а ноги, руки свисают, болтаются. Голых вывозили: одежда живым сгодится! Высшее начальство к десяти утра «как штык» являлось. Оно жило в городе, на квартире. Приезжало в коляске, но, конечно, не в той, что «голых» вывозила, а лошадь, возможно, была та же. Лошади все равно кого возить – сено, овес дают… И зекам все равно, лишь бы пайку давали. Жить! А там видно будет! Важно приспособиться, не высовываться. Если вдруг вызывают к оперу – идешь с дневальным, холодок под ложечкой: «Чего бы? Хорошего не жди!» Или настучал кто, или в изолятор? И если опер за стол посадит, чаем-бутербродом попотчует – всё подписывай, что скажет, и ни в чем не перечь! Холодок-то из-под ложечки и уйдет… временно. Ты же особый. 58-я, 10 лет, и это только начало пути, а выжить надо! Всякие приказы приходят из ГУЛАГа, и всякие комиссии бывают, все ведь засекречено, все может случиться. Выжить надо! Вся жизнь осталась там, на воле! А может, то был сон? Или это сон? Нет! Это не сон. Беспрерывно хочется есть. Скоро хлеб будут давать, хоть бы горбушка досталась! Мечта! Тупеешь жутко! Нет книг, газет, радио, никакой информации, никакой связи с домом – без права переписки! Подъем, поверка, каша, развод, баланда, пайка, поверка, отбой! Ночь. Два ряда трехэтажных нар. Верхний этаж сплошной. Два фонаря «летучая мышь» – у двери и в конце (у окна), две железные печки в проходе. Две параши у входа. Ночью выходить в лагерь запрещено, утром дежурные выносят параши. Двести человек в бараке и двое дневальных – в специальной загородке. Ночь. Храп. Вонь! Опять подъем, поверка, каша, развод! Все повторяется, как заведенный механизм… И вдруг – аврал! Эвакуация лагеря! Ликвидация! Сразу отменили развод. Прибили на воротах большую вывеску: «Общежитие рабочих Северолеса. Котласское отделение». Лозунги поснимали. Людей стали выводить по спискам, группами, с вещами. Хлеба выдавали на пять дней. Погружали в товарные вагоны, надписывали мелом: «пропс», «баланс», «шпала», пломбировали вагоны и загоняли в тупики. Делалось все быстро, организованно, по заранее намеченному плану. В зоне шла полная перестройка. Появились разные вывески и плакаты. Например, «Клуб рабочих Северолеса». В бараках убрали нары, привезли и поставили койки с постелью, тумбочки и прочее. Сплошная маскировка. Что случилось? Оказывается, приказ ГУЛАГа. Франция, Швеция и некоторые другие западные страны заявили, сволочи, протест по поводу якобы принудительного труда в РСФСР! И отказались, гады, покупать лес! Экспорт леса шел через Архангельск. На погрузке работало много заключенных. Летом лес доставляли по Сухоне, Вычегде и Северной Двине сплавом, плотами и на баржах. В Архангельске на огромной бирже этот лес сортировали и погружали в вагоны или корабли. На бревнах надписи: «Спасите наши души», «СОС»!» Фамилии заключенных, адреса лагерей, количество заключенных и прочее. Все это стало доходить до мировой общественности. Появились воззвания, протесты, требования. И, наконец, Лига наций приняла решение – все проверить на месте. Создали комиссию. Готовилась она долго. Наконец сообщение: «Проверочная комиссия направляется в Котлас». Приказ ГУЛАГа: срочно ликвидировать Котласскую пересылку. И решение: людей – в товарные вагоны и в лагеря Севлага, а пока – в тупики! И вот товарный вагон, без нар и без печки. Решетки на окнах, дыра зарешеченная в середине. Солома на полу. Пятьдесят человек, заключенных на разные сроки, по разным статьям, разного возраста. Ну, тут сразу своя власть – власть сильного! И хлеб, и бушлат, и солому отберет! Или сопротивляйся из последних сил, или отдай все сразу и помирай. А есть сила – забери у соседа! Надо выжить! Никакой жалости, никакого сочувствия, никаких других мыслей и желаний, только выжить! Не околеть, не замерзнуть, не сдохнуть с голоду. Выжить! Еще сутки! Еще день! На третий день без воды выли всеми тупиками, всеми вагонами! Это надо слышать, видеть! Выли, орали, стучали те, кто еще был жив! Далеко был слышен звериный, страшный ор! Некоторые, более дружные, раскачивали и переворачивали вагоны, ломали их. Стрельба, шум, крики. Привезли наконец кипяток, перегрузили всех в этапный эшелон. Опять перекличка. Мертвые остались, живых повезли. Опять своя власть, опять пересортица людская, опять драки. Поехали! Куда! ЭТАП Дай бог памяти! Признаться, многое крепко засело в памяти! Зафиксировалось как на фотографии: «Кто не был, тот будет, кто был, не забудет!» И не мысли, не чувства, не переживания, а факты, события. Чувства и мысли невозможно запомнить, если их описывать, непременно все будет окрашено отношением «из сегодня», а факты не выдумаешь. Пятьдесят лет прошло, а все помнится! Закроешь глаза – вот оно все! И запахи. Запахи остались до сих пор. Запах этапа – всей длинной серой колонны – это запах пота, смешанный с запахом серы, навсегда пропитавшим одежду в жарилке, в вошебойке. Запах костра на стоянке, сохнувших портянок, подгоревших валенок, запах снега, какой-то кисловатый, отдающий сосновой корой. Запах хлеба, того хлеба! Самый чудесный запах! Этот кусок «черной глины» жуешь, нюхаешь, вдыхаешь с наслаждением и не торопясь, чтобы полностью впитать этот источник жизни. Вот ощущение, которое запомнилось! Не разукрасишь, не добавишь – хлеб. Везли эшелоном трое суток до станции Луза. Ехали с остановками. Кормили баландой раз в сутки. Видимо, в эшелоне был вагон, в котором готовили пищу, и вагон с конвоем. На остановках конвоир вызывал трех дежурных, они приносили бачок баланды в 25 литров и мешок с пайками по 400 граммов на 50 человек. В бачке – черпак. На месте разливали «суп» и раздавали хлеб. В этом же бачке приносили кипяток. У каждого вагона конвоир. Вокруг лес. Через час вагоны закрывали, поезд следовал дальше. «Кормежку» эту надо видеть! Кто раздает пищу? Тот, кто захватил «власть» в вагоне! Группа здоровенных парней-уголовников распоряжается всей жизнью! Кому черпак, кому два, кому половину, а кому и ничего не достанется. Жаловаться некому. Из пятидесяти человек уже через сутки пятерых недосчитались, потом еще троих… Их складывали в один угол, рядом с «доходягами» – теми, чей черед скоро наступит. Холодно не было. Пятьдесят человек в теплушке! Пар через окошки выходит. Стены инеем покрыты, с потолка капает. Надышали. Пока дышат… Урки на нарах в карты играют, в стос и буру, на чужие шмутки, на чужие пайки. Кто-то стонет, скорчившись на соломе, кто-то спустил штаны над дырой в полу, кто-то ходит лихорадочно от стенки к стенке, переступая через лежачих, курят (передавая друг другу «бычок»), махорку выторговывают за хлеб. Ругаются, дерутся за место. Редко объединяются. Дружны только воры, и то лишь потому, что «паханы» «права качают». Командует один главный, самый известный и популярный рецидивист – вожак блатных. Он говорит тихо, солидно, мало говорит, но каждое его слово – закон! Все живут по «старородским законам» и пользуются «феней» (жаргоном). Помощники у него – воры («люди»). А дальше вся мелочь, шпана: «урки», «жлобы» и «фраера» – для того, чтобы их «косили» (обирали, обманывали, били). Дисциплина у блатных страшная! За проступок – смерть! И никуда не спрячешься! Ни в другой этап, ни в другой лагерь, ни на волю, ни в тюрьму. Везде «свои», везде найдут, и возмездие настигнет. А главные проступки – «скурвиться» и «заиграться». Первое – значит выдать кого-нибудь из своих, а второе – проиграть в карты и не рассчитаться. Со временем «скурвиться» стало означать – пойти на работу: воры не работают, не «втыкают!» «Жлобы» пусть втыкают, на то они и жлобы! С блатными справиться лагерное начальство не могло нигде! (Только потом, на Беломорканале, при «перековке».) Везде командовали «паханы». Не страшны ни карцер, ни изолятор. Какая разница? У пахана на нарах всегда постель, пара полушубков, жратва «от пуза», курево и даже выпивка! Откуда? Все воры – «отказчики». А если, бывало, силой под конвоем вывезут в котлован или лесоповал – сидят у костра, в карты играют! А паханы «уходили» и с воли командовали, если не было рядом пахана посолиднее. «Уходили» незаметно, непонятно, тихо. Побег всегда был организован хорошо. И охрана подкуплена (не продаст никто), и транспорт устроен, и «ксивы» (документы) нужные есть, и запасы на дорогу. А все остальные зеки в этапе редко объединялись. Интеллигентные – инженеры всякие, вредители и прочие «контрики», – те просто боялись друг друга, не доверяли: «А вдруг провокатор?» Никогда не рассказывали о своем «деле». Все были осуждены «ни за что». К «простым» людям снисходили: «Товарищ! Оставьте покурить!» Простые (чаще всего крестьяне) не отказывали, относились к интеллигентам с уважением, даже, бывало, место уступали или ложку одалживали даром. Интеллигенты были самыми неприспособленными… Бытовые тяготели к уркам. Заигрывали, подражали, пытались приблизиться. «Мелюзга» (ворье) пользовалась этим, а «люди» и паханы презирали подхалимов, не замечали их или велели бить без всякой причины. К интеллигентам блатные относились по-особому и по-разному. Если урки любопытничали и подворовывали, то паханы, бывало, пытались пообщаться. Особенно с артистом. К таким у больших воров особое отношение: «Отнеси-ка вон тому папаше пайку». Выдавали все, что положено, не обижали, не издевались. Над попами издевались до безобразия и над сектантами. Сектанты стоически терпели, не сопротивлялись: «Христос терпел и нам велел». Они были счастливы! Это надо видеть! Святые! С улыбкой переносили все страдания, с каким-то вызовом, с восторгом фанатиков! До последнего вздоха. И умирали, как в рай уходили. Чудо! Это непостижимо, невероятно! И в лагере тоже издевались над сектантами, главным образом охрана: за невыход на работу, за неповиновение раздевали догола, ставили к проволоке под конвой, обливали водой на морозе. Стоит молодой, худой, стриженый. Улыбается, молится, стоит, за проволоку колючую держится, стоит, не сдается, уже не молится, еще улыбается… уже мертвый стоит. Он в раю! «Христос терпел и нам велел»… Шел поезд из Котласа до станции Луза. Ехали люди в этом поезде. Разные люди. Заключенные в вагонах-теплушках. ЭТАП. На третьи сутки, ночью, вдруг неожиданная резкая остановка. Гудки, выстрелы, крики! Оказалось, в одном из вагонов выломали решетку из дыры в полу и бежали человек двадцать уголовников. Поезд шел на подъеме медленно. Люди выпрыгивали под вагон и выкатывались между колесами на полотно, под насыпь – и в лес! Ушли все. Один только под колеса попал. Поезд остановился, стреляли. А кто в лес побежит? Куда? Да и конвоя не хватает. Поехали дальше. Через три часа Луза. Выгрузились, пересчитались (многие «остались» в вагонах, за ними потом приедет телега с брезентом), накормились и пошли. Думали – в лагерь, ан нет: в лагерь только больных отправили. Дальше следовать приказано! Куда? Сплошной лес. Узкая дорога, малонаезженная, снег глубокий. Куда? Мороз. Пошли. Кто как может. Сзади телега с вещами конвоя и довольствием, за ней – походная, военная кухня. Значит, будут кормить. Уже к концу дня стали отставать старики. Тащились с трудом, вещи побросали по дороге. Часто приходилось останавливаться. Кормежка, перекличка, ночлег. Костры. Конвой поставил себе две палатки – впереди и сзади. Кухню перевели на середину: все же народу около пятисот человек. Разрешили нарубить лапнику для подстилки. Отдыхай кто как, кто где. По сторонам колонны большие костры и конвой. Конвоя мало, всего человек двадцать. Ни одной собаки. Часть конвоя отдыхает, часть дежурит. Молодой начальник с ног сбился, охрип, мотается вдоль колонны туда и обратно. Не спит. Говорят, уже сегодня убежали двое. А идти еще двое суток! До седьмого рабпункта Пинежского участка. Там идет строительство железной дороги Пинега – Сыктывкар – очередной гигант индустриализации – 31-й год. Ночь прошла. Как? Кто отдохнул, кто «остался отдыхать». Как спали? Что снилось? Что там, дома, за тысячи километров? Редко вспомнишь – некогда! Подъем, перекличка, кипяток, хлеб. Пошли дальше. Плетется колонна зеков по узкой зимней лесной дороге. Конвой покрикивает: «Не отставай!» И вдруг: «Стой! Стреляй! Ложись! В бога душу мать!» Впереди двое, нет, трое прыгнули налево – и в кусты, в лес через глубокий снег. И сзади, говорят трое, и все в разные стороны. «Лежать!» Выстрелы. Пули свистят над головами. Все лежат на дороге, не шевелятся. Конвой следит уже не за теми, кто убежал, а за лежащими. За беглецами двое налево и направо подались в лес. Стреляют. Снег глубокий, солдатику быстро бежать трудно, стреляет, не попадает, ели густо стоят, кусты. А те, кто бежит, – они жизнь свою спасают! У них не то что «второе» – «четвертое» дыхание открывается. На что только не способен организм человека в минуту смертельной опасности! Лежит колонна на дороге полчаса, лежит, не шевелится. Никого не поймали. Кого там убили – неизвестно. Кончилась стрельба. «Становись! Стройся по четыре! Опять перекличка. Через два часа пошли. Уже третью ночь не останавливались на ночлег, осталось до лагеря два часа идти. Шли четыре. Вот он, лагерь! Как мечта, как дом родной. Огни на зоне. Прожектор на проходной. Собаки лают. Бараков не видно в темноте, только столбы дыма на почему-то светлом небе. Опять будет передача «контингента» охране, баня, барак, поверка, каша… Дошли! Кончился ЭТАП! ПОБЕГ 1931 год. Лагерь большой. Много бараков, много печей – нужны дрова, много дров. Вокруг лес. Дремучий, непроходимый. Туда отправляли людей для заготовки дров. Нужно выбирать сухостой, разделывать на метровые бревна, складывать в штабеля, ветки сжигать на кострах. Далеко вокруг по лесу разбросаны штабеля дров. Заготовщики после работы привозили дрова в лагерь. Изредка посылали еще группы с дровнями – санями без лошадей. Человек тридцать, четверо саней и четыре конвоира, как правило. Километрах в десяти от лагеря находили штабеля, загружали сани, везли дрова в лагерь. Тащить груженые сани нелегко, для этого подбирали людей здоровых, сильных, молодых. Лагерь есть лагерь! Что тюрьма, что клетка – одно. Неволя. Тяжелая работа, плохая пища, худая одежда – это все привычно в нашей «веселой» жизни и на свободе, но неволя, тюрьма – к этому привыкнуть нельзя! Можно приспособиться, притерпеться, но смириться? Никогда! Преодолевать нужно свое положение и состояние. По-разному можно пытаться преодолевать: работа, дело, как ни странно (если попробовать увлечься делом), помогает, надежда на скорое освобождение, вера в правоту свою, вера в идеалы, вера в Бога. Стремление сохранить себя для жизни – это внимание к здоровью, гигиена, гимнастика и, наконец, постоянное и непрерывное обдумывание и планирование побега. Не дай бог впасть в состояние безнадежности: «Все равно гибель… каторга… отсюда не выйти… все пропало… бесполезно сопротивляться… ничего уже не поможет… конец». И, действительно, наступает конец. Человек не умывается, не раздевается, вши его заедают, он избегает работы, чахнет от тоски, ничему не сопротивляется, тихо гибнет, превращается в доходягу. Это, к сожалению, судьба и участь большинства интеллигенции. 58-я статья, 10 лет – «враг народа»… Такие быстро теряли надежду и никогда не подумывали о побеге. «Побег? Как? Куда?» Выпусти такого за зону – иди, мол, куда хочешь! – вернется обратно и погибнет. И гибли. К тяжелому физическому труду неприспособленные, слабые здоровьем, легко ранимые духовно, в жутких лагерных условиях гибли лучшие умы и таланты русской интеллигенции. Невосполнимая утрата… После обеда опять отправили бригаду в лес за дровами. Третий раз почти те же тридцать человек (везде штамп), тоже четверо саней. День хороший, солнце. Скоро кончится зима. Запах свежей хвои, дым от костров (конвойные греются). Грузят мужики дрова. Штабель от штабеля далеко, выбирают бревна получше, носят с разных сторон, к разным саням. А эти вот, свои ребята, два раза были тут вместе… Можно! – Братва! Завалите меня в штабель. Останусь. Завалили. А там носят бревна, грузят, увязывают. Пора возвращаться… – Становись! – считают конвойные… пересчитывают, вроде не хватает одного… (О том, что один остался, знают только трое, они никому не скажут, боятся: виноваты.) Опять пересчитывают. Одного не хватает! – Ложись! Все упали в снег. Двое конвойных остаются с винтовками наготове, а двое пошли искать. Где искать? Штабелей много, вокруг лес густой. Ушел ли, здесь ли спрятался? А уже начинает смеркаться, до лагеря идти более двух часов. И так уже завозились, как бы в потемках остальные не разбежались. Выстрелы! Это в воздух. Чтобы в лагере услышали (может, пришлют кого). – Становись! Пошли! – По сторонам конвой и сзади двое, все с винтовками наготове. Пошли медленно… А «заваленный» всё слышит, всё чувствует. Лежит на ветках, на снегу, поленницей дров прикрытый, продрогший, промерзший, весь в поту – вот-вот обнаружат! Уже и не думается, какие там последствия… «Тише! Тише, сердце, не выдавай своим стуком!»… Стороной прогромыхали… ушли. А может, остался кто и ждет? Сторожит? Не двигаться! Ждать. Слушать. Тишина. Сердце стучит. И вдруг совсем дикое ощущение: дальше-то что? Куда? Когда шли в лес, еще в первый раз, видел дорогу, потом говорили, что деревня близко. И второй раз оглядывался, уточнял (ведь задумал давно). И сегодня, когда шли, думал, куда следует уходить. Темнеет уже. Дорога где-то рядом. Нельзя по дороге двигаться: может быть погоня. Но пока там разберутся – кто? Список на вахте, но кого именно нет? А может, на выстрелы придут искать? Надо уходить поскорее. Спина застыла, ноги затекли, онемели… Повернуться набок. А что если бревна не расшевелятся? Похолодел весь… Ну! Еще! Еще сильней и без шума… Подаются, сбоку свалились! Руку подвинул, поддел плечом… за шапкой наклонился… выглянул, вылез! Уже усталый, потный… уже дышать тяжело! А надо идти. Быстрее. Вот она, дорога! Совсем темно. Лагерь позади. Пошел! Вперед. Свобода. Жизнь! Остановился, послушал тишину… Дальше… Спиной чувствуешь направление. Быстрей, быстрей! Кажется – мчишься, а – ползешь! Сил нет, вязнешь в снегу. Пни, валежник, кусты. Лишь бы не сбиться, не свернуть с пути… А куда путь? Есть ли там та деревня? Далеко ли? Снег. Стволы, стволы. Вроде светлее стало. От неба. От темного неба. Звезды… вот одна справа, большая… А времени сколько ушло? Шел, падал, вставал, шел. Ничего не чувствовал, какое-то железное отупение… надо вперед, надо идти! Отдыхать нельзя, замерзнешь, а сил нет. Надо спасаться, надо идти… Выбрался на поляну. Огонек впереди… может, показалось? У плетня, у самой избы лежачего облаивали собаки. Долго никто не выходил. Очнулся в избе на лавке. Щами пахнет. Баба онучи разматывает, ботинок с левой ноги стаскивает. Больно – значит, ноги целы. Запричитала: «Ой, сыночек!» Воды горячей в бадейку налила. Ноги в бадейку… «А ну-ка, поднимайся, горе горемычное». Ребята малые стоят, глазеют… Раздела, молоком горячим напоила, на печь уложила, полушубком прикрыла. «Спасибо, матушка…» А баба плачет: «Спи, Господи». Сон… какой-то хороший, светлый… Проснулся от удара прикладом!.. Потом в штраф-изоляторе рассказывали, будто в каждой деревне спецпосты. За выданного беглеца платят: две пачки махорки и пять фунтов муки… «Спасибо, матушка…» ШТРАФНОЙ ИЗОЛЯТОР Конец зимы 1931 года. Седьмой рабпункт Пинежского участка УСЛОНа ОГПУ. Это строительство железной дороги Пинега – Сыктывкар. Концлагерь. Лес, зона, ограда из колючей проволоки, вышки-будки на ограде. Внутри десять бараков. В самой середине еще один барак, окруженный колючей оградой с двумя вышками, – это штрафной изолятор. В лагере – нормальные «работяги», з/к. В изоляторе – штрафники. Их немного – сотни три. Они не работают. Они ждут… Одни ждут «вышку» уже после решения «тройки», другие ждут «тройку» после неудачного побега. Разные тут – за убийство, за «разговоры», за «организацию», за отказ от работы, за сектантское неповиновение. Этим хуже всех. Над ними и тут издеваются. Изолятор как тюрьма: камеры, решетки, замки, глазки, параши. На прогулку выводят, на оправку, пайку раздают – 400 граммов. Тюрьма! В камерах, конечно, очень тесно, жарко, душно и… клопы! Клопы всесильны, от них нет спасения, они невидимы и вездесущи! Клопами буквально пропитаны все три яруса нар. Каждая щель, каждая трещина, морщинка, складка, углубление деревянных нар, стен, потолка, пола заполнены клопами. Они всегда готовы жрать, в любое время дня и ночи. Они ненасытны! Они неистребимы! Кошмарная мощь агрессии и вони! Жуткой вони, постоянно заполняющей воздух, одежду, тело, пищу… А привыкаешь! Что делать? Ко всему, ко всему привыкаешь. Выхода нет. Ну, не уснешь сутки, ну еще сутки, ну спрячешь голову, лицо, шею в рубаху. В конце концов свалишься в сон как убитый. А проснулся, шевельнулся в сторону – под тобой лужа собственной крови от тысяч раздавленных насекомых. Жуть! Повернешься на другой бок: «Нате! Жрите!» – и в сон. Днем легче. Днем – прогулка, днем можно на ногах простоять, можно кипятком, который приносят, ошпарить внизу часть нар, часть пола, где можно сидеть и играть в карты. Жить можно! А куда деваться? И что делать, кроме карт и борьбы с клопами? Сказки рассказывали. Кто знал много сказок и умел их рассказывать – того ценили. И покурить дадут, и пайкой поделятся. А пайки лишние у некоторых всегда были. Карты ведь! То один выиграет, то другой. А играть на что? Пайка, баланда, парашу выносить, клопов давить, а больше нет ничего. Все одинаково голые, в белье. Восемнадцать человек в камере. Молодые, здоровые, стриженые. Не пускают в белье, а на прогулку? Принесут и кинут телогрейки, штаны, валенки, шапки – расхватывай! Твой, не твой размер – напяливай! Прогулка – час. Дворик маленький – бегай, дыши. Комендант с наганом за проволокой стоит, наблюдает, чтобы из лагеря чего не подбросили, чтобы не сбежал кто. В лагере нет охраны. И с оружием ни конвой, ни начальство не появляются. Запрещено. А в изоляторе на прогулке комендант с наганом за загородкой из колючей проволоки имеет право стрелять, если потребуется. Вот они, штрафники (смертники отдельно) – восемнадцать мужиков здоровых, молодых. Бегают, гогочут, толкаются, смеются, матерятся. И комендант гогочет и матерится. Жизнь! – Кончай. В камеру! Обратно в барак вонючий, душный. В клоповник. А там дневальные пол моют, парашу выносят, котел с баландой принесли. Шмутки раздевай и в подштанниках в камеру. Пожрать, а там вечернюю кашу и… делай что хочешь… Думай… Думать можно – время еле-еле тащится. Долго ли тут ждать? Чего ждать?.. Что там, дома? Суждено ли увидеть?.. Суждено ли выжить? Надо выжить! Непременно! Лампочка на потолке всю ночь горит, на окне решетка и щиток железный снаружи, чтобы ничего не видно было. Изолятор. Ни читать, ни писать… Ложись к клопам на голые нары, закрывайся одеялом, натягивай рубаху на голову. Еще один день прошел. Надо жить… Сейчас уснуть надо. А вдруг клопы сегодня не тронут? (Бывало и так.) Может, сон приснится? Воля… Ирпень… детство, песчаная горка около Чоколовои дачи… там речка, луг, коростель кричит так знакомо, так по-родному… клевером пахнет… туман… ранний туман. Скоро солнце взойдет… вот-вот… сейчас. Однажды утром загремел засов – барахло принесли. – Одевайтесь, десять человек на работу! Хорошо! Лишняя прогулка! – Выходи за зону! Еще лучше: прогулка дольше! Построились, вышли за вахту. Конвоя тоже десять человек с винтовками. Перекличка. – Разберись по два! Следовай! Погода – чудо! Оттепель, солнце, небо синее! Пахнет весной! Идем. По пять конвоиров по сторонам. Идем. Куда? В полукилометре впереди лес. Сзади лагерь. Вокруг открытое пространство… снег, светло. Как хорошо-то, Господи! А это что? Чернеют пни?.. Нет, это люди! Голые. Мертвые… мерзлые люди… везде… вокруг… самые невероятные позы, из-под снега торчат колени, руки, ноги, головы… спины. Пошли дальше по снежной целине… все гуще трупов под снегом, под ногами… друг на друге… – Стой! Яма глубокая, снегом засыпанная… длинная яма – ров. – Слушай команду: всё собрать, снести в захоронение! Гробовая тишина. Никто не шевельнулся. – А ну, давай! – щелкнули затворы. – Управитесь к обеду – каждому двойную пайку! И премиальные!.. Управились к вечеру. Сравняли яму… Оставили так… Растает, потом засыпят… Другим штрафникам работа будет… Вернулись в камеру. По кило хлеба получили и пирожок с капустой. А руки немытые… Впереди ночь страшная… и руки немытые… В эту ночь и клопы замерли… не жрали клопы. Уснуть… уснуть! Где уж тут… «Захоронение»… Как таскали их, скрюченных, голых, за ноги, за руки, волоком, как сталкивали в яму… а они цепляются, они не хотят… они ВИДЯТ! Глаза-то, глаза встречаются, как живые!.. Вот они, глаза!.. Вот они, скелеты, обтянутые кожей… Люди. Бывшие люди!!! Почему? Откуда? Ну, стреляли на просеке штрафников. Все знали об этом. Один, два, пять! Но это-то откуда? Сотни! Много! Откуда? В лагере десять тысяч. Кроме штрафного изолятора в зоне еще два барака «нерабочие». Это изолятор сифилитиков и прокаженных и барак санчасти. Из изолятора вывозили и сжигали, это тоже всем было известно, а вот санчасть – настоящая мясорубка! Всех «доходяг» – туда. Кто на разводе падает от истощения – туда, кто на поверку не поднимается с нар – туда. Там, в санчасти, вповалку, народу битком. Там хозяйничают сильные, здоровые уголовники-санитары и «лекпом» – царь и Бог. Идет по проходу между валяющимися «доходягами» лекпом в сопровождении свиты санитаров и мелом отмечает, кого в «расход». Санитары потом тащат «отмеченных» в мертвецкую. – Я еще живой! – Лекпом лучше знает. Вот они откуда – эти сотни! Их отвозили в яму, а они расползались! Вот они, сотни, тысячи скрюченных, черных бывших человеков – «лагерная пыль»… Не уснуть!.. Все равно не уснуть… долго не уснуть… Через неделю выпустили из изолятора («ангел-хранитель»!). А случилось это так. Еще в Котласе, на пересылке, перед «стремительной эвакуацией» как-то вызвал нарядчик на разводе чертежников. Я отозвался. Меня привели в контору. Заместитель начальника управления Кариолайнен Эркий Иванович приказал мне скопировать какой-то чертеж. Ему понравилось, и целую неделю я занимался чертежами. И вот теперь в изоляторе вдруг открывается дверь, и на пороге я вижу Кариолайнена. Оказывается, прибыла инспекция, он ее возглавлял. Он меня сразу узнал, но не показал виду (режим!). – За что людей держите? А на трассе не хватает рабочих! А этот за что? Немедленно отправить на трассу. Этого, этого и… этого! Через три дня прибыла «тройка»! А я уже был на трассе. ТРАССА Весна! Апрель 1931 года. Лес. Дикий, густой еловый лес. Тайбола – так называли этот лес. Это где-то между Кировской областью и Коми. Мало там людей. Изредка по речке Пишме, Лузе, Малане, Летке встречаются бедные деревеньки. Болота, мхи, ели, валежник. Тут подготовка к строительству железной дороги Пинега – Сыктывкар. Трасса. Просека вырубается. А погода – чудо! Тает, тепло, рыхлый снег местами в пояс. Огромные мохнатые ели широкими лапами стоят на болоте. Корни-то у них растут в ширину, не «морковкой», как у сосны. Когда падает такой великан, выворачивается пласт величиной с трехэтажный дом. Повсюду торчат такие дома – валежник. И вот рубится просека в сторону Сыктывкара. Пинега уже позади, верст сто. Там уже корчевка. Там, на десятом, двенадцатом пункте, уже бараки построены, а тут, на пятнадцатом, – лес, просека. Ни барака, ни поселка. Палатка на краю для охраны и склада. Людей немного, тысячи полторы. Большинство – крестьяне средних лет, из раскулаченных. И урки. Интеллигенции не видно, а уголовники в самоохране или командуют. Есть и прораб, и начальник колонны. Просека завалена деревьями, кострищами, бревнами. Одни валят ель, другие разделывают, третьи растаскивают и укладывают в штабеля бревна, иные жгут ветки и разрубают вывороченные корни. Большинство – в обмундировании третьего срока: телогрейка, бушлат, ватные штаны, серая шапка-ушанка, на ногах изредка валенки, а то и ботинки и лапти с обмотками, голицы-варежки, кушаки-веревки. Вот они, ударники индустриализации! Пилят, рубят, копошатся, ругаются, шутят! Куда денешься? Дома родного или вовсе нет, или где-то за тысячи километров. А жить надо! Надо выжить, надо двигаться, у костра подсушиться, отдохнуть маленько и опять: «Давай! Давай!» Ночью спать тут же, на лапнике, на постели из веток ели, у костра. Дымятся портянки, подсыхают валенки… А еды горячей – чаю, хлеба – нетути! Изредка хлеб привезут с десятого рабпункта – вот тебе и радость! А так – соображай сам: дают тебе кружку муки и кружку пшена. Котелок есть? Снега вокруг навалом, и костер есть. Какого тебе еще рожна? Тюрю делай из муки и воды, а пшено доварилось, не доварилось – ничего! В желудке доварится. Многие, конечно, мучаются желудком, у многих травмы, ушибы или ранения: все же пила, топор. Вначале лекпом и санитар делали перевязки и даже увозили в больницу на десятый рабпункт. А потом пришел приказ: не оказывать помощь «саморубам». Бывали и такие. Не выдерживает, тяпнет топором по пальцу, его в больницу, там кормят, отдохнуть можно. Ну и началось. Чуть ли не ежедневно – то один, то другой: то ногу, то руку. Разоблачили таких «вредителей» свои же, «сознательные» товарищи. Перестали их лечить и даже прибавляли срок по статье «за саботаж». Ничего! Выживали. Один нечаянно сильно ранил кисть. Портянкой замотал, одной рукой работал, костры жег. Долго гнила ладонь, все пальцы постепенно отвалились. Зажила култышка! Лекпом хотел ему перевязку сделать – на общие работы попал (товарищи выдали). Все всё друг у друга воруют! Кружку из рук выпустил – попрощайся: привязывать нужно. Остаток пищи прячь на ночь в штаны. А то спишь, как убитый, тебя обыщут и отберут. Топоры и пилы на ночь сдавать надо в склад. Это еще мука! Мокрый весь, еле на ногах держишься, а тут стой в длинной очереди. Сдашь топор – получай кружку муки и кружку пшена. Такую небольшую алюминиевую кружку, граммов на двести. И забирай скорее свой «сухой паек» во что хочешь. Если нет посуды, хоть в шапку. Бывало, и баланду в шапку получали, а ложки нет – хлебай так! Ложка, особенно деревянная, – большая сила! Были такие, что наживались: по пять ложек имели, давали напрокат. А что делать? Выжить – это главное! Посуды не хватает. Иной хозяин котелка или чайника зарабатывает на этом, даром не даст, выторговывать надо, ждать, терпеть. Ничего! Живой! Не болеешь! И не простужаешься! Были и побеги: охраны мало, лес. Разные побеги были, чаще неудачные: куда? Но были и страшные… Крепкий мужик сговаривается с другим бежать вместе. Прячут топор. Ночью уходят. На четвертые сутки мужик напарника убивает (тот же не может двигаться, все равно погибать, так хоть я выживу). И питается им в течение двух недель. Не все же части человека съедобны, он предварительно разделывает его. Когда поймали мужика на станции Луза, у него нашли еще кусок. Вот какие побеги! А бывает – не поймают! Удивительные бывали побеги! Один уголовник зимой босиком («колеса» – ботинки несчастливые!) через две зоны: из изолятора в лагерь и из лагеря через просеку в лес бежал. Стреляли! Ведь через колючую проволоку перебираться надо! Он первый раз одеяло, а потом бушлат набрасывал. Бежал, падал, бежал и ушел! Через месяц в изолятор с воли прибыл вор и передал от него привет. В Москве, говорит, две палатки взял. А трасса продолжалась! Многие оставались навечно среди пней и проталин, прибывали подкрепления, двигались вперед. Дошли до поселка Лойма на речке Луза. Оттуда двигался встречный поток – 16-й и 17-й рабпункты. Уже бараки построены, уже баня есть, уже баланду и пайку выдают. Тут и пофилонить, и покантоваться. И контора есть, и блатных полно. Не тех блатных, что «паханы», «свои», «люди» (хотя и этих хватает), а тех блатных из «фраеров», которые в хлеборезке, на кухне, в кладовой, в каптерке, в санчасти, в бане, в дневальных! Это – целый мир! Высшее общество! И бушлаты у них первого срока, и рожи мало на «зеков» похожи. Эти и на поверке не стоят, и едят отдельно, и бесконвойный выход из зоны на поселок имеют, откуда, конечно, доставляют и выпивку, и табак. У такого бесконвойного все можно достать. Народ этот по служебным статьям сидит, их на общие работы не посылают. На общих – «контрики», по 58-й которые: вредители, кулаки, шпионы, сектанты разные, в общем, все враги народа и «чучмеки» – не русские, муллы (значит, баи, басмачи) и прочие, ну и рецидивисты, конечно, хотя они не работают. Они или отказчики (и сидят по карцерам), или кантуются на месте работы, или «больные». На трассе воров брали в помощники охраны. Охраны мало, собак нет (собаки только в лагере, и то немного и плохие), а мелкие уголовники чувствуют себя в лагере как дома: и в доверии, и «кабарчат» – воруют вволю. Итак, лагерь! Есть и женский барак, и карцер, и КВЧ (культурно-воспитательная часть), и опер – третья часть. Чуть свет – развод и ежедневно выход на трассу, на корчевку. А оттуда вечером пять километров нести в лагерь чурку (если один) или бревно (есть вдвоем) как доказательство, что дал норму. За то дают помимо пайки пирожок! С капустой! Хорошо! Только вот ноги опухли так, что в коленках не сгибаются, и веревки на обмотках впились в тело, а тут «чурка» на плече. И отставать нельзя: в строю «по четыре». Когда солнце заходит, ничего не видно, ну совсем ничего, смешно даже! Старайся не спотыкаться, упадешь – не поднимут… Но ведь не у всех «куриная слепота»! Парню 21 год исполнится только в августе. Здоровый, боксом занимался, гимнастикой волевой по системе Прошека и Анохина, и вдруг – «слепота» и ноги опухли! Вот незадача! Ну что руки подпухают, понятно – все-таки корчевка, веревками коряги на свал вытаскивать трудновато. Бывало, вечером ложку никак в руке не удержать, падает. Приходится баланду из миски через край хлебать. Хорошо хоть миски теперь выдали, ложки, и место на нарах есть, правда, на третьей полке, но ничего, зато над головой мокрые портянки не висят. Правда,' воздух не тот, но терпимо, зато на трассе воздух отличный, дыши сколько влезет! Май! Красота! Прошлогоднюю бруснику можно жевать… Только вот нет никого рядом. Один. Тысячи людей. Каждый – один. Ничего. Думать можно. Уже два года, еще восемь впереди. Выжить надо! Дом за тысячи километров! Господи! Хоть бы солнышко медленней опускалось!.. Опять тащить бревно в зону. – Стройся по четыре!.. ВАЙГАЧ Лето 1931 года. По пинежским участкам УСЛОНа собирают этап. Уже третий день как с работы сняли. Комплектуют в отдельном бараке. Все больше молодежь здоровая, интеллигентные тоже, видать, есть (учителя, может, священники или артисты, кто их разберет? Все вроде одинаковые). Выдали всем новые телогрейки, штаны, белье, ботинки. Куда это собираются гнать? Хуже не будет, куда уж! Пайки раздали на пять дней. Народу много. Человек двести. Опять перекличка. Комендант передает конвою формуляры. Построились, вышли. Прощай, лагерь «родной», чтоб ты провалился!.. Станция Луза, опять теплушка – поехали! Не то Котлас, не то Великий Устюг… не разобрать. Река – Северная Двина. Загнали на пристань. Куда? Никто ничего не знает. В Архангельск на лесопогрузку? Загнали на пароход «Глеб Бокий», в трюм, прямо на днище, шпангоуты торчат, вода по щиколотку. Заорали, зашумели: «Доски давай!» Взяли десяток парней – приволокли доски. Стояли сутки, пока загружали пароход. Пить, жрать охота, на оправку не выводят. Закрыли трюм – пошел, поплыли! Еще только через сутки накормили, дали воды. На палубу не пускают. Параши не поставили… А в трюме – друг на друге. Темно, вонь… Прибыли, Архангельск. Еще сутки держат. Ор, грохот, шум: «Жрать давай! Воды!» Это, конечно, урки орут. Интеллигенты – те молчат, терпят. Если б вызвали: «Клади голову на плаху!» – интеллигенты осведомились бы робко: «В шапке или без шапки?» И очередь строго выдерживали бы… Арест, лагерь, этап – это потрясение! Шок! От которого ни в жизнь не отойти, не избавиться, не вылечиться. И чем интеллигентнее человек и чем старше – тем глубже и сильнее это состояние. Для уголовников-рецидивистов тюрьма – дом родной, а лагерь – почти свобода. Они быстро приспосабливаются к любой обстановке. Интеллигенция в ужасе присматривается и ждет… Были, конечно, и смелые, и протестующие, и в обиду себя не дающие. Им очень трудно… Были такие, но мало. Наконец, накормили, пересчитали выживших и перегрузили в трюм большого грузового корабля. Добавили еще человек сто. Через день вышли в открытое море. Слухи были: не то остров Колгуев, не то Новая Земля, не то Соловки. Белое море, Баренцево, Карское – это было путешествие! В этом же трюме груз: трубы, доски, ящики, бумажные мешки с цементом, железные бочки с соляркой и керосином – и люди! Триста человек! Без какой-либо «подстилки». День и ночь страшная качка! То килевая, то бортовая. Шторм! Временами через открытый люк высоко-высоко горизонт виден, море, волны. Морская болезнь – рвота, стоны, вонь; грохот волн, падают ящики, рассыпается цемент, люди, пытаясь удержаться, хватаются за что попало, все вповалку, без еды, питья и воздуха. Затихло… Прибыли. Сколько времени длится этот ад – сообразить трудно. Потом выяснилось – трое суток (высадились 10 августа 1931 года). Высаживаются живые. Сколько там в трюме осталось – неизвестно, да и неважно: выгружаются! Корабль на рейде, в бухте, километрах в десяти от берега. Льдины-айсберги рядом; низкий песчаный берег, скалы, до горизонта тундра, бараки и запах еды… Остров Вайгач. Честно говоря, жили там хорошо. В бараках нары «вагонкой», столовая, питание хорошее, обмундирование хорошее, охраны нет, зоны никакой нет, поверка – раз в два месяца, баня хорошая с изобилием воды и мыла, стричься не обязательно, в прачечной смена белья регулярно. Электростанция, фактория для ненцев рядом, туда шкурки песцов привозят в обмен на патроны, винтовки. В клубе много книг, шахматы, шашки. Стадион, футбольное поле, турники, кольца, лестницы. Зимой – лыжи. Рядом речка. Летом воду брали из нее. Зимой оттаивали снег. Вечная мерзлота. Заполярье. Три месяца светло, три месяца темно, а остальное время «серятина». Летом (июнь, июль, август) – в оврагах остаются ледники, а в бухте – айсберги. Зимой всегда сильный ветер и мороз 35 градусов. Волшебное северное сияние временами охватывало все небо от горизонта до горизонта, казалось, эти разноцветные переливающиеся фантастические лучи потрескивают! Это когда тихо вдруг и вьюги нет. А когда вьюга, по веревке ходили из барака в барак, лицо приходилось закрывать теплой маской из тряпки – только глаза открыты. Часто обмораживались. А летом без накомарника ни шагу! Крупные, какие-то особенные комары загрызали до смерти оленей. Олени летом уходили от комаров на север, переплывали Маточкин Шар и Югорский Шар. Бывало, зарежут оленя, сдерут с него шкуру, а она вся в дырках и под ней черви, вроде мотыля, только белые – это личинки комара. Оленей было много, ненцы часто посещали факторию, заглядывали в лагерь, и собак-лаек было много и в лагере, и у ненцев. Песцы ночью в ящиках с отбросами копались. Много песцов. Они питались пеструшками-хомячками, которые живут в тундре во мху. Занятное это место, Вайгач! И совы белые, полярные, иногда прилетали, сидели вдали, как столбы ледяные, и тюлени в бухте жили, выныривали на свист любопытные. И берега пологие, песчаные, оставляли нетронутые человеком полоски-терраски – многолетние следы регрессии моря. На айсбергах – пепел метеоритов, а в тундре морошка, ягода волшебная, и гаги в собственном пуху выводят детенышей… Чайка стонет человечьим голосом, С моря в тундру тянется туман, В небе туч седые полосы, В скалы плещется холодный океан… С криком вьются над болотом утки, Под ногами мокнет мох олений, А на склонах плесенью осенней Грустно расцветают незабудки. А работа? Работа страшная! За бухтой Вернека, в десяти километрах от лагеря – шахты: свинцовые, цинковые рудники. Летом на карбасах отправлялись туда, зимой пешком шли по льду. Столбы, веревки, тропа. По веревке шли. Рудники жуткие! Людей в ствол спускают «бадьей», вручную, коловоротом, как в колодец. Штреки – на разной глубине. Вагонетки, груженные рудой, выкатывают тоже вручную. Руду сортируют под открытым небом и под навесами. В забоях орудие шахтера – отбойный молоток (компрессор снаружи), освещение – лампочка на каске. Крепление слабое – вечная мерзлота, «жила» узкая – в забое работаешь лежа с киркой. Всю зиму – работа в шахтах, в светлое время года – сортировка. А в августе – отгрузка руды на пароходы. Вот такой «рабочий цикл»! И еще геологоразведка. Полевые поисковые группы вели разведку в глубине территории: били шурфы, изучали россыпи, собирали образцы породы. В местах предполагаемых месторождений полиметаллов разведку вели буровыми «крельюсами». Встречались золотые самородки, серебро, свинец, цинк, медь, флюорит, олово. Часто обнаруживались россыпи благородных камней: рубинов, изумрудов, яхонтов, аметистов, горного хрусталя. Независимо от статьи и срока, всем идут «зачеты» (день за два), а на особо трудных участках – три дня за день. Начальник лагеря Дицкалн Александр Федорович имел право досрочно освобождать и сокращать срок особо отличившимся, за исключением 58-й статьи. О начальнике стоит сказать несколько слов. Начальник лагеря был внешне незаметен, появлялся в лагере редко, был одет в бушлат или полушубок, никогда ни к кому не обращался (иногда приходил в клуб на спектакли), жил на отшибе в доме, окруженном оградой из колючей проволоки, рядом с радиостанцией и бараком охраны. Но однажды мы увидели нашего начальника другим: он встречал начальство с материка и стоял на пристани в военном мундире (четыре ромба в петлицах!) – член Военно-революционного совета! Однажды после очередного выступления «Живгазеты» за мной пришел охранник. – Куда? Зачем? – Начальник вызывает. Ну, думаю, в карцер посадят (накануне, когда оформляли зал к 8 Марта, я нечаянно сел на портрет Крупской, а когда кто-то сделал мне замечание, что-то дерзко ответил). Решил, что донесли. Привели меня к начальнику. Он один. – Садитесь. Чаю хотите? Маша! Дайте нам чаю. Маша (что-то вроде домработницы) принесла ужин. Пробыл там часа два. Александр Федорович оказался человеком образованным. Разговаривали мы о театре, о литературе, о музыке. (Настороженность моя не исчезла.) Он читал стихи Блока, подарил мне книжку, велел не «распространяться» о визите. Еще два раза я был в гостях у начальника. Не знаю, приходил ли кто-нибудь и когда-нибудь еще. Семьи у него не было, видимо, он был страшно одинок. Я хранил тайну. Однажды мы даже играли на бильярде, и он исполнил на фортепиано Шопена. А ведь слава о Дицкалне была как о суровом, строгом, даже жестоком человеке: это по его распоряжению был устроен карцер в заброшенном шурфе в вечной мерзлоте (этот карцер называли «могилой»). Вот таким был остров Вайгач, «экспедиция» УСЛОНа ОГПУ. Невозможно не сказать о моей собственной роли в жизни Вайгача. Я – актер. Всегда, везде и во всем – актер. От рождения, по призванию. И где бы я ни был, чем бы ни занимался, – всё окружающее я всегда воспринимал по-особому. Я и сам не могу определить совершенно точно, какие ощущения владели мной в ту пору. На все происходящее со мной я смотрел как бы со стороны. Было страшное любопытство: зачем все это? Что дальше? Имеет ли это какой-то смысл? И вместе с тем я испытывал жадное удовольствие и даже наслаждение от возможности участия в этой жизни, от познания окружающей действительности. Конечно, я прекрасно знал и помнил, что нахожусь в заключении, но это не было главным! Удивительно: в то время я не стремился на свободу. Свобода была всегда внутри меня. Я мог внушать себе чувство независимости и свободы. Это еще в тюрьме и, пожалуй, до тюрьмы было у меня: я сам так хочу! Никто меня не принуждает! А будоражащее «Что дальше?» не позволяло тосковать. Интересно! Ей-богу, интересно! Где еще увидишь такое?!. И… понесла меня волна судьбы из тюрьмы в тюрьму, из лагеря в лагерь, от этапа к этапу. Подумать только! 1931 год, август, всего-то восемь месяцев после тюрьмы, а путь – Котлас, эвакуация, этап, Пинега, побег, изолятор, трасса, опять этап, трюм корабля и, наконец, Арктика, Вайгач. Чудо! И всего-то восемь месяцев! Сначала я работал в шахте на откатке, но в первые же дни увидел КЛУБ! Пианино. Хор разучивал «Смело, товарищи, в ногу». Я немедленно проник в клуб. Через месяц я организовал «Живгазету» и уже показал начальнику КВЧ какую-то программу. И – пошло! Каждую неделю – выступление. «Парады», «оратории», «концовки», «хоровая декламация», песни, танцы. От работы в шахте меня освободили, назначили на ближайшую буровую вышку мотористом. Легче, времени больше для «Живгазеты». Восемь часов я, как ненормальный, провожу в клубе. Тексты пишем сами, репетируем новые материалы на местные темы. Наконец, ставим спектакли. Первый спектакль – «Штаб-квартира». Ведь обнаружил же я с открытием навигации в прибывшем этапе целых пять актеров. Помню Елену Петровну (Зонина или Зинина?), немолодая уже, хорошая актриса, играла Василису («На дне»). Потом Жаркова помню, Колю Бурцева, Николая Литвинова, которого я встретил позднее на Беломорканале. Боже мой! Сколько забыто имен… Чудом сохранились у меня кое-какие материалы, заметки, списки участников эпохи вайгачской «Живгазеты», «стихи», сочиненные тогда: …Не будем мы чарами недр восхищаться! Не будем гармонию чудес созерцать! Нам надо поглубже в скалу пробиваться, Нам надо руду добывать!.. Растут ударников могучие полки! Мы старый мир и быт берем в штыки! Вот участники, молодежь, почти все студенты: Егерев, Подгоренский, Каледенко, Чуприков, Калинников, Дегожский, Середняков, Клодницкий, Малаховский, Солонин, Александрович, Ильин. Были еще две девушки. Фамилии их не сохранились. Немудрено, ведь с тех пор почти шестьдесят лет прошло. А события, спектакли помню все подробно. Декорации преимущественно были условными, а костюмы самодельными. Все мы, помню, были искренними энтузиастами нашего театра. Он был для нас «окном на волю». Вскоре наш клуб-театр становится подлинным культурным центром, а выступления «Живгазеты» и спектакли исключительно популярными. Их посещали все лагерники без исключения. Другого ведь ничего не было. Тогда не было кино, радио, телевидения. Письма и газеты поступали два-три раза за лето. Был у нас небольшой оркестр: гитара, балалайка, мандолина. Выпускали мы и стенгазету. В ней очень часто менялись заметки, карикатуры, последние известия. Начальник лагеря имел связь с материком по радио, и некоторые важные новости через начальника КВЧ попадали к нам, в стенгазету. Я везде работал с удовольствием. На буровой вышке уже стал мастером и бурил скважины глубиной до двухсот метров. Увлекался геологией. Геолог профессор Витенбург четыре года был моим учителем. А профессор Сущинский познакомил меня с основами петрографии. Летом я уходил в поисковую партию с геологами: палатки, лаборатория, инструменты, топография. Мы собирали образцы породы, составляли топографические карты, а зимой занимались камеральной обработкой материала, делали геологические разрезы полезных ископаемых. Я гордился, что на одной из наших карт была помечена речка моего имени. Случилось так, что я открыл флюорит (плавиковый шпат) у одной из маленьких, безымянных речек, которых летом повсюду было много. Их обычно на карте отмечали номерами, а про эту речку говорили: «Та, на которой Дворжецкий нашел флюорит». А потом сделали общую топографическую карту, а на ней осталась «речка Дворж». Я от всего получал удовольствие: изучил язык ненцев, ездил на оленьих упряжках по стойбищам, умел на нартах орудовать хореем (шест для управления оленями), присутствовал на ритуале «священного жертвоприношения» – «пропасти жизни». Было на возвышенности каменное плато, а в середине дыра, в поперечнике метра три. Если туда бросить камень, то не слышно, когда он упадет, – что-то бездонное. Туда ненцы бросали поджаренного «олешка», которого обрабатывали тут же, на костре. Вокруг валялись кости. «Святое место!» Туда никто не ходил – боялись. А однажды я заблудился в тундре. Закончив буровую разведку на западе острова, километрах в двадцати от базы, я отправил группу и оборудование на карбасе через залив, а сам пошел в обход пешком, надеясь часа через четыре-пять добраться до места. Мог бы вместе со всеми поехать – нет: интересно! Одному в тундре! Уже часа через три я понял, что заблудился. Потерял направление. Шума моря не слышно. Тундра повсюду одинаковая: холм – долина, холм – долина. Солнца нет, пасмурное, блеклое, молочное небо без туч. Ветра нет, тишина… Только тундра, тундра, тундра – во все стороны одинаковая… бесконечная… Так продолжалось трое суток. Уже на вторые я выбился из сил. Спал урывками, на возвышенности, выбирая сухое место. К ночи становилось темно. Начались галлюцинации. То в одной стороне вижу огоньки, то в противоположной. Уже не шел – полз. Часто впадал в какое-то полусонное, полусознательное состояние. Лежал долго. Очнулся однажды, открыл глаза и увидел возле руки живые существа – хомячков-пеструшек. Чувство голода, мысль о жизни… Откуда сила взялась? Стремительно набросился… Удалось схватить одного. Сжал в ладони, прижал ко рту этот теплый комочек и зубами впился в кровь, в косточки, в шерсть. Опять потерял сознание. Когда очнулся, уже мог встать, мог мыслить, жил… Опять поймал хомячка и опять съел его живьем. Пошел. Через два часа я услышал шум моря! Меня нашли. В больнице я пролежал недолго – дней десять. И еще раз был в больнице: отморозил руку – тоже было «приключение» Зима. Ночь. На бухту Долгую нужно отправить десять бочек солярки. Это сто километров на север. Сделали сани – площадку из бревен, погрузили, увязали бочки, переоборудовали трактор (сделали закрытую, утепленную кабину), взяли палатку, фонари, компас. Впереди двое на лыжах для разведки дороги. На холмах ветер сдувает снег, а овраги и каньоны полностью засыпаны снежной пылью. Вот и провалился я в каньон, лыжу сломал, под снегом с головой оказался. Выбирался – не выбрался. Выбился из сил, устал, уснул под снегом… Сутки, оказывается, искали меня, бочку солярки сожгли. Отправили обратно, хорошо, что недалеко еще было. Выяснилось, что левая рука, с которой сдуло снег, замерзла. Врач был хороший – отходил! Хотели было отнять руку, через неделю только пальцы зашевелились. А рана на предплечье долго не заживала. И еще было приключение. Но тут уже без больницы обошлось. Разгружали бревна с «Володарского». Судно стояло на рейде, километрах в пяти от берега. Уже лед, торосы, а между торосами и судном – «сало». Это полузамерзшая вода, как каша. Толстый слой. Ни лодка не пройдет, ни пешком не добраться до корабля. Стали на сало бросать бревна и делать мостки, что-то вроде настила. Сверху еще и доски положили и стали бегом разгружать. Останавливаться нельзя – начинает прогибаться все «сооружение». Ну, постепенно стали привыкать, осторожность мало-помалу исчезла… А на разгрузку выходили все – это как аврал! Ведь бухта замерзает, последние суда. «Рабочий» и «Володарский» в ударном порядке разгружаются день и ночь. И угораздило меня провалиться в сало с бревном на плече. Опять мой «ангел-хранитель» помог! Чудо! Рука вынырнула рядом с бревном. Вытащили меня, в кочегарку, раздели, стакан спирта дали… Высох и опять пошел разгружать. Не принудительно, а добровольно. И не заболел. Вот какой был организм, вот какой был энтузиазм. И я не уверен, что многие работали так исключительно ради зачетов. Но… и ради зачетов. Как-то при разгрузке свалилась в море «бухта» каната. Не раздумывая ни секунды, двое бросились в воду, им подали «круг», вытащили на палубу, подняли «бухту» каната. И – приказ начальника экспедиции (мы так называли Вайгачский лагерь): сократить каждому на год срок заключения. Было, конечно, и тяжело, трудно. Весной слепли от постоянного яркого, низкого, едкого какого-то света. Выдавали темные защитные очки, но их было мало. Мучительно отражалась на глазах, на зрении разница: темная шахта и сверкающий снег! Весной – цинга, несмотря на то что выдавали клюквенный экстракт. И даже спирт выдавали: 50 граммов в неделю (далеко не всем и не регулярно, что становилось предметом раздоров). Распухали ноги, выпадали зубы. И волосы выпадали от «дистиллированной» снежной воды, которой всю зиму пользовались. Летом – комары, зимой – морозы. Очень многие зимой обмораживались. Их направляли через залив к рудникам. Некоторые сбивались с пути, несмотря на веревку, то обвал, то газ. И на разгрузке-погрузке были несчастные случаи. А однажды осенью карбас с рабочими не смог подойти к берегу, ветром нагнало «сала», в тридцати метрах застряли. Больше суток бились и с берега, и с карбаса: и настил строили, и на брюхе ползли – не удалось спасти никого. Пурга началась. На глазах у всего лагеря погибли люди. Ни проплыть, ни подойти… Только через две недели, когда лед окреп, вырубили их, двадцать человек, уложили в штабеля, закрыли брезентом – временная могила. Летом схоронили в пустых шурфах, они и сейчас там целенькие – вечная мерзлота… Невероятные «чудеса» были на Вайгаче. Например, никто никогда не болел. Там можно было замерзнуть, но не простудиться. Никаких микробов! Любая травма – без воспаления! Никакой инфекции. Я, например, однажды осенью в шторм был смыт волной с тонущего, наскочившего на банку бота «Силур». По глупости, конечно: залюбовался бурунами, а команда в это время спешно высаживалась на карбас, находящийся на буксире, и рубанула конец. Вынесло меня к берегу (опять «ангел-хранитель»!). Выбрался я, разделся, выжал рубаху и подштанники, надел и бегал, пока не обсох. Выжал гимнастерку, надел и опять бегал, а когда рассвело немного, обнаружил в полукилометре карбас и людей у костра, укрывшихся от ветра за выступом скалы. И что? Насморка даже не схватил. Молодость, здоровье и романтика. Мне всегда казалось, что романтикой там охвачено большинство. Просто не помню унывающих в своем окружении. И люди были значительные, интересные. Кроме вышеупомянутых профессоров, помню инженера Кузьмина – веселого, доброго, вечно изобретающего что-то, восторженного и чуткого. Он и в спектаклях принимал участие. Помню барона Кунфера Отто Юльевича, «чопорного» джентльмена, исключительно остроумного. Он ведал библиотекой в клубе, был в высшей степени эрудирован, закончил когда-то Кембридж или Оксфорд. Хвалился, что успел «прогулять» последнее имение предков буквально накануне Октябрьской революции, потом пропивал фамильные драгоценности вплоть до конца нэпа, а когда пришли к нему с обыском, он успел последний оставшийся у него крупный бриллиант проглотить. Позже спрятал его в ножку венского стула, а стульев было… двенадцать! Оригинал необыкновенный. Он здесь, на Вайгаче, успел собрать коллекцию чудесных драгоценных камней и самородков. Работяги приносили, геологи. Можно было все это хранить как сувенир, а вывозить ничего не разрешалось. Освобождающихся подвергали тщательному обыску, все отбирали, даже кубики пирита или кристаллы хрусталя. Когда выдавали новую телогрейку, а старую отбирали, ее тут же сжигали в специальной печке, сделанной из железной бочки, с поддоном и нефтяной форсункой. Кстати, эту печку сконструировал инженер Кузьмин. Вентилятором сдувало золу, а расплавленное золото оставалось на поддоне из керамики. Иногда немало оставалось. Тот же Кузьмин помог мне устроить в клубе юбилейную выставку. Один из экспонатов производил необыкновенно яркое впечатление. Идея, признаюсь, была моя. Представьте: на большом листе фанеры – карта острова Вайгач, на ней отмечены все месторождения полиметаллов, они обозначены образцами меди, золота, серебра, цинка, олова, свинца, камушками флюорита, граната, аметиста, рубина – всем, что нашлось в коллекции. Около каждого образца вмонтирована электропроводка, а сбоку – обыкновенные часы-ходики, на циферблате – клеммы, вместо цифр в центре – одна минутная стрелка, маятник снят, отчего держатель маятника качается очень быстро и стрелка движется по циферблату, задевая клеммы, замыкается контакт – и вспыхивают лампочки на карте поочередно. Все это выглядело чудесно и всем нравилось («чем бы дитя ни тешилось»…). А Кунфер ухитрился даже «ликер» варить, кофейный: спирт, сахар, кофе «здоровье». И рюмочки маленькие сделал из лекарственных пузырьков; срезал горлышки ниткой, намоченной в керосине. Нитка горит, а пузырек опускают в воду. Изобретатели! В тюрьме ухитрялись спичку раскалывать на четыре части, носки штопать при помощи рыбьей кости, шахматы из хлебного мякиша «творили». На Вайгаче и махорку нам выдавали. Только денег не платили. На берегу громоздились штабеля мешков с мукой, коровьи туши, бочки с сельдью. Для овощей – утепленный склад, а овощи всегда мороженые. Охрана – вооруженные часовые – постоянно дежурила у радиостанции, у особняка начальника, у складов с продуктами и около цистерны со спиртом. К начальнику экспедиции относились хорошо. Он благоволил нашему театру и через КВЧ одаривал всех участников подарками и благодарностями в приказе. Мы понимали, что и ему несладко. Какие чувства были, какие настроения у вайгачцев-«каэровцев» (К. Р. – контрреволюционеры)? Вот в основном: все репрессированы без вины, в результате «классовой борьбы». Живы, слава богу. Начальство не издевается. Условия жизни и работы хорошие – ничуть не хуже, чем у «вольных» в экспедиции, трудности одинаковые. В других лагерях, знаем, хуже. Тут идут большие зачеты – это хорошо, это сокращает срок, может быть, приближает час освобождения. Неволя, разлука? Время такое – у всех разлука, у всех неволя. Надо держаться, надеяться на лучшее, выжить!.. Для всего этого тут, на Вайгаче, шансов больше, чем где-либо в другом месте, в другом лагере. А у меня еще любимое дело – театр! Это отдушина исключительная. Понятно поэтому, что я был потрясен, когда мне объявили: – Собраться с вещами для отправления на материк! И сразу меня изолировали и не дали попрощаться с друзьями. Конец кажущейся свободе. Это было 10 августа 1933 года. Опять! Куда? Но все же где-то в глубине души снова начала подниматься волна интереса и любопытства: «Что дальше?» ЛУБЯНКА 1933 год. 10 августа. Очередной Большой этап: Вайгач – Москва! Не могу не вспомнить о том, что меня тогда волновало. С Вайгачом я сроднился. Мне было интересно там быть, работать. Конечно, сознание того, что ты заключенный, остается. Не избавиться от этого даже на Вайгаче. Но… Срок – десять лет. Прошло четыре плюс два года зачетов. Итого – шесть. Остается еще четыре. А на Вайгаче это всего два года! И уж лучше там пробыть и освободиться, чем уходить куда-то в неизвестность. Может быть, впереди что-то лучшее? Таких иллюзий не было. На свободу? Не верю! Значит, опять тюрьмы и лагеря. А Вайгач? Театр? Не успел закончить «Женитьбу» Гоголя. А остальное, незабываемое? …Когда «Силур» наскочил на бурун, я стоял на палубе гибнущего бота, держался за мачту, потрясенный красотой бушующего моря. Светилась вода, пена, волны, брызги – сказочно, прекрасно, страшно… «Какая красота»! И волна смывает меня в ледяную пучину. А дикари – ненцы-самоеды? («Самоед» – это не от того, что «сам себя ест», это «сам един». Он один в тундре. Сосед – за сто верст!) Вот они, ошеломленные, впервые увидевшие колесо, перепуганные электрической лампочкой, с опаской прикасающиеся к стеклу в оконной раме! Сидят на земле вокруг только что убитого, еще теплого оленя. Старейший отрезает куски и швыряет каждому члену семьи, главной жене – кусок печени. У каждого узкий острый нож, рукоятка – ножка олененка или лапка песца. Едят сырую оленину, обмакивая в подсоленную кровь, отрезая кусочки у самых своих зубов быстро-быстро, глотают, не прожевывая. А вот они в «каяках» – лодочках из шкуры морского зайца (разновидность моржа) – охотятся на нерпу: свистнут, нерпа вынырнет, пуля попадает прямо в глаз. А вот одежда, атрибуты: савики, малицы, пимы, липты, пыжик, чумы из оленьих шкур, нарты, лыжи, хореи!.. Это всё – вот оно! Свое! Совсем свое! Где еще увидишь такое? А как спасали ледокол «Малыгин»! Он застрял на всю полярную зиму, затертый торосами, в сорока километрах от базы. Как через «ропаки» в подвижку льдов, на собачьих упряжках, на себе, во тьме и вьюге, доставляли пищу и горючее оставшейся части экипажа! Это разве можно забыть? А медведя, пришедшего за ворванью к палатке? (Ворвань – кусок тюленьего жира, мы им сапоги натирали, лежал у входа в палатку.) Медведь рядом, в полуметре! А? Дикое побережье, не тронутое ногой человека, с выброшенными неизвестно когда обломками кораблекрушений… Сказка! Я ведь видел все это! Все в меня проникало… Теперь уходит все. Корабль отчаливает… Архангельск. Поезд. Закрытое купе. Вдвоем с конвоиром. Корзина моя заветная при мне. (С самого Киева сохранилась, будет сопровождать меня до самой Туломы.) Кормит меня мой «страж», выводит в туалет, на станции (размяться) или за кипятком. Сплю, в окно гляжу, записываю что-то (сохранились записки!). Скоро Москва. Километров сто не доезжая – страшное зрелище: люди у самой насыпи что-то кричат, протягивают руки! Много людей! Некоторые лежат в траве, иные сидят, глядят на поезд. Женщины, дети… Им что-то бросают из вагонов, они подбирают, падают. Поезд идет быстро, паровоз все время гудит, а люди кричат и протягивают руки к вагонам… Кошмар! Ничего я не понял тогда. Потом, в Бутырской тюрьме, объяснили – голод на Украине. А вокруг Москвы оцепление ОГПУ. Москва. Опять «воронок». Площадь Дзержинского. Железные ворота. Лубянка. Во дворе ворона каркнула три раза… Ночь… Ворона…. К чему бы это?.. Записали, сдали, приняли, повели. В коридоре ковровая дорожка, шагов не слышно. Надзиратель в форме с кубиками в петлицах – офицер! Просторная светлая комната. Четыре кровати. Стол. Стулья. Трое мужчин. Один пожилой. Военная выцветшая гимнастерка, на груди «пятна» – следы двух орденов Красного Знамени. – Здравствуйте! Располагайтесь. Вот свободное место. – Здравствуйте, – поставил корзину, повесил бушлат (вешалка!). Снял телогрейку, шапку, сел. Гостиница? Постель, полотенце, тумбочка! А параша? Нет! Открылась дверь – надзиратель с помощником принесли ужин: каша, хлеб белый, чайник, сахар и винегрет! Чудеса! Конечно, все мигом съедено. «Жители» комнаты поняли, что я из лагеря, – оказывается, винегрет полагался только тем, кто уже долго находился в заключении. Выяснилось, что тут и папиросы выдают. Полпачки в день! Для нас, зеков, табак – валюта! Бывало, полпайки отдашь за щепотку махорки, и то если бумажка своя для закрутки. Из губ в губы на затяжку бычок передают! А тут полпачки папирос в день! Все! С сегодняшнего дня бросаю курить! (Бросил. Пять пачек папирос унес я с собой в этапы!) Конечно, мои «сожители» интересовались: «как там», «что там». Рассказал… Через неделю меня вызвали на допрос. Следователь, начальник КРО Наседкин (помню ведь!), очень деликатно и вполне уважительно обратился ко мне: – Формальность простая. Нужно кое-что прояснить. Там, в Туле, в группе инженеров-вредителей, почему-то была и ваша фамилия упомянута… вот (?!): «В 1931 году по проекту инженера В. Дворжецкого…» – (?!) Я уже в то время два года был в заключении, а в Туле вообще никогда не был… – Вот, вот, пожалуйста, всё это напишите подробно, уличите их во лжи… Там некто Геллер возглавлял эту шайку. Он еще утверждает, что вместе с вами участвовал в организации «ГОЛ» и что оружие, которое у них отобрали, принадлежало раньше «ГОЛ». – Не было у нас никогда никакого оружия… – Очень может быть, я понимаю. Всё об этом Геллере и напишите… И еще этот, как его?.. Залынский, кажется? – Зелинский? Это тоже наш студент… – Пожалуйста, не торопитесь. Можно завтра, если вы устали. Если вам нужно подумать… отдохните… Ну, а как там на Вайгаче? Мы имеем хорошую характеристику на вас. Считаем, что представляется возможность ходатайствовать о сокращении срока. У вас, может, есть какие-нибудь желания, жалобы, претензии к режиму? Пожалуйста, выкладывайте, не стесняйтесь. Чем можем – поможем! Ха-ха-ха! – Ничего мне не нужно, всё в порядке. Разрешите только письмо родителям написать. И еще прошу отослать меня обратно на Вайгач. Это можно. Письмо напишите, вот вам бумага и конверт, отдадите мне, я сам отправлю, это будет вернее. Ха-ха-ха! А на Вайгач? Завтра же оформлю заявку, и все будет точно выполнено. Отдыхайте. На днях я вас приглашу. Вернулся я от следователя какой-то обалделый. Хороший такой, добрый… Что ему нужно от меня? Ничего не пойму… Что там с Геллером? Ладно. Потом! Сейчас письмо надо написать. Написал. Не мог уснуть… все думал о Туле, о Геллере… Через день я отдал следователю письмо и написал свои показания: «Институт я не кончал. Учились вместе с Геллером и Зелинским, в «ГОЛ» их не было, в Туле я никогда не был, оружия я никакого не видел, с апреля 1929 года по сей день никакой связи у меня с моими бывшими товарищами-студентами не было». Подписал. Ничего не понимаю. До сих пор не могу понять, зачем я понадобился им? Подпись? Из-за этого нужно было меня привозить с Вайгача? Я еще написал, что раньше был вместе с ними на рабфаке (ПМПШ) и что параллельно учился в театральной студии, а с ними встречался еще в польском клубе. С соседями по камере я ни о чем не говорил. Они, все трое, всего два месяца как арестованы. Один – москвич, другой – военный из Ленинграда. Ни фамилии, ни «дела» никому не сообщал, каждый был занят собой. Надзиратель, когда вызывали на допрос, входил тихонько и манил пальцем: «Пойдемте». На одиннадцатый день подманил меня и тихонько сказал: «С вещами». Через два часа я уже оказался в Бутырской тюрьме, в «пересыльной камере». Вот где было интересно! Если бы я не рвался на Вайгач, то готов был остаться здесь хоть до конца срока! Во-первых, тут были почти все интеллигентные люди, среднего и пожилого возраста, большинство – москвичи; во-вторых, у всех закончено следствие – на допросы никого не выдергивают, почти все получали передачи и пользовались «закупами», т. е. покупали продукты в тюремном магазине. Порядок. Староста – выбранный, дежурные – три человека. В первый же день моего прибытия ко мне отнеслись внимательно и чутко. Когда узнали, что я актер и прибыл из лагерей, сразу назначили мой «доклад». Тут, оказывается, ежедневно кто-нибудь читал лекцию или делал доклад. Поэты, биологи, физики, историки, экономисты, художники, инженеры! Я попал в университет! Мне определили место на нарах, потеснились (там были нары вдоль стен, тюфяки). Я рассказал о лагерях, о Вайгаче, читал стихи Блока, Пушкина, Шевченко (на украинском языке), Мицкевича (на польском). И был там хороший закон: все делить поровну! Тем, кто был не из Москвы, кто не получал передач, писем и не имел денег, с каждого «закупа» выделялся солидный «паек». Делились продуктами и вещами из передач. Мне подарили фуфайку, теплые кальсоны, шерстяные носки. Не могу не вспомнить одного заключенного – Олега Ивановича. Ему было лет шестьдесят. Потомственный дипломат, работал с Чичериным, много путешествовал, знал несколько иностранных языков. На нарах наши места были рядом. Он учил меня английскому. До сих пор помню английские песенки. Кормили нас хорошо. Приносили утром кашу, хлеб и чай. Кружки и ложки были у всех свои. Обед из двух блюд! В коридоре ставили два бака с едой и еще бак с посудой. Очередь в дверях. Раздатчик черпаком наливает, не считает, можешь второй раз подойти. Щи. Каша. Некоторые пропускали свою порцию или предлагали другому. Сыты были все. Я вспомнил страшные картины у железной дороги. Люди, умирающие с голоду. А тут, в Москве, в тюрьме – пироги… На прогулку нас выводили ежедневно по часу. Два раза в баню попадал, где удалось даже постирать белье. Играли в шахматы, в шашки, книги были (газет не давали, даже из передач газетную бумагу отбирали). Иногда пели хором, чаще группами (тихонечко!). Интересные и полезные три недели провел я в Бутырке! Но все же скучал о Вайгаче! Напоминал начальству об «обещании» следователя… Время шло. Приходили новые люди, уходили «старые жители». Никто тут дольше трех месяцев не сидел: отправляли на этап. Но мне долго нельзя! Навигация закроется! Наконец вызвали меня!! И радостно, и тревожно! Собрался! С друзьями попрощался. Замечательные люди! Долго ли я с ними прожил? Всего около трех недель. А провожали меня как родного… В поезде – двое суток. Вдруг Вятка. Почему Вятка?! Мне в Архангельск нужно!.. Вятка. Жуткая пересыльная тюрьма. В огромной камере – битком народу! И нас, десять человек, впихнули, дверью «утрамбовали». Уркаганы!.. Сплошь уголовники, воры?! Ну и я – вор! Я – пахан! Со мной «носильщик» из блатных (за курево и подкормку) с корзиной моей. Я ему без колебаний: – Валяй вперед! Дави босяков! Он знал по этапу, что я Сеня-Рыжий, из Киева. «Рыжий» – значит «золотой». Это кличка специалиста по «ювелирным делам». Ее я придумал в изоляторе. В изоляторе я такие «истории» заливал, что приобрел популярность «чистого проборщика», т. е. вора-специалиста, который сквозь стены проходит. Помнить надо, что я «феню» – жаргон – в совершенстве выучил, «поведение» наиграл, а кроме того, мне 23 года, рослый, смелый, здоровый, красивый боксер. Это вначале у меня отбирали, а потом я сам научился это делать. – Топай! Топай к своим! И… в зубы! Первый! Первого попавшегося! (Если у «параши», значит, «сявки», можно бить!) А «носильщик» мой: – Дуй отседа!.. в ро… для… е… И пошли пробиваться к «своим» (расступаются!), туда, к нарам, к паханам… Добрались! Я, громко, весело: – Вот они! Ничего себе житуха у блатных!.. Век свободны! – и пачку папирос открываю, угощаю… А «носильщик» корзину уже на нары просовывает, спрашивает: – Сюда, Сеня? – Сгинь, с-сука! – я ему. – Куда прешь!.. Старики скажут – куда. И когда вы, бля, научитесь вежливости?! Ну, жлобы! Душа, бля, рвется в котлован, а тело просится на нары! Ну кто тут из фраеров соскучился по параше? Нету, нету марафету. На-ка, Шурок, стащи деду «колеса»! Не на бану, в натуре! – И уже сел… а Шурок старается, стаскивает сапоги. Смотрят. Переглядываются. Никто сам не хочет попасть впросак, мол, не знает, кто это явился… – Откуда? – От верблюда! Много знать, трудно срать! Левка, здорово! – И руку ему протягиваю. (Я сразу увидел, что у него нет правого глаза и ухо рассечено почти пополам. Левка-Кривой – известный вор-«майданщик», на всем бану свой, давно признанный «пахан». С поезда на ходу скакал, покалечился. О нем подробно рассказывал в изоляторе Гога-Тихоня, дружок Левкин. Расстреляли его на просеке за третий побег.) Гогу при мне пришили на седьмом в 31-м. – Привет от Длинного, он в Бутырке, «крепкий». (Я не говорю, что с ним вместе был, можно «погореть», а что он в Бутырке и что он известный «тихушник», я узнал на прогулке, в тюрьме, запомнил. Пригодилось.) Киргиз не знаешь где? – Это я уже придумал, чтобы произвести впечатление, что я больше их знаю. – Далеко… – отвечает дипломатично Левка, нарочно неопределенно, чтобы не оконфузиться передо мной и остальными. А я уже на нарах. Сапоги сняты, бушлат под боком, из корзины кулебяку достаю (друзья снабдили), ломаю, ем, утощаю… Берут! (Живу!) Три дня я жил там как «аристократ». Место на нарах, баланду приносят в руки, по две порции (рассматриваешь еще, не слишком ли жидко!). В карты играл, и с собой колода была в заначке (я знал четыре способа «передергивания»). Слава богу, не «заигрался»! На четвертый день вызвали меня на этап. Шурок мой остался, другой урка понес корзину. Архангельск! Почему-то лагпункт, а не тюрьма. Вроде тут собирают этап на Вайгач. Встретил вайгачцев, даже одного живгазетчика своего (родным повеяло), ему на волю через полгода (бытовик). Тут кантуется. Октябрь уже! Как там с навигацией? Говорят, грузят последнее судно? Через двое суток погрузились, отошли. Туман, густой, тяжелый туман! Стоим. Опять трюм. Ничего не видно, ничего не знаем… Вроде пошли. Стоим. – Выходи с вещами! – Куда? Что такое? Земля… Соловки! А что же Вайгач? Кончилась навигация! Лед. Нагнало с востока. А ледокол поведет грузовой транспорт. – Выходи строиться! На разгрузку! Пересчитали, накормили, на разгрузку всех поставили. Рядом скалы, тут же и ночевали. Три дня разгружали корабль. Повели нашу колонну на «Секирку», распределили по баракам, по бригадам. Цивилизация! Крепкие, благоустроенные бараки, дневальные с «дрынами», зона, вышки. Столовая, хлеборезка, каптерка, клуб – все как у людей… Хороши по весне комары, Чудный вид от Секирной горы… Со всех концов Русской земли Нас с конвоем сюда привели… Эти точки, точки, огоньки Нам напоминают лагерь Соловки, Посидите здесь годочков три, четыре, пять, Будете с восторгом вспоминать!.. Недолго я тут пробыл. Выкапывал свинцовые трубы монастырского водопровода. Начальник КВЧ подбирал артистов для Медвежьегорского театра. Нас, восемь человек, отобрал: певицу, трех музыкантов, меня… Через Кемь – на Медвежку!.. МЕДВЕЖКА «Крепостной театр эпохи принудительного труда». Карелия. Город Медвежьегорск. 1933 год. Здесь управление ББК НКВД – Беломорско-Балтийского канала Народного комиссариата внутренних дел. Центральная усадьба. Город сам по себе маленький, а «усадьба» – это огромная территория, застроенная конторами, складами, мастерскими, бараками, кухнями, каптерками, банями, особняками начальства. И здесь же здание ТЕАТРА. Настоящий, большой, удобный театр! Великолепно оборудована сцена, зал, фойе, закулисные службы – всё! И труппа настоящая, большая, профессиональная: директор, главный режиссер, администраторы, режиссеры, актеры, певцы, артисты балета, музыканты, художники – все заключенные. И зрители все – заключенные. Правда, два первых ряда отгорожены – для вольнонаемных и две ложи боковые – для начальства. В лагере никакой охраны, никакого конвоя. «Свободная» образцовая центральная усадьба и… строгий режим. Актеры живут вместе, им выделен барак. Актрисы отдельно – в женской зоне. Порядок образцовый. За любое нарушение режима – или карцер, или перевод на общие работы. Движение по территории запрещено. Можно в организованном порядке направляться на работу – в театр и обратно. Питались в бараке. Комендант назначал дневальных, которые вместе со сменными дежурными приносили в котлах еду и тут же раздавали ее. И утром, и днем, и вечером. И хлеб дежурные приносили – «пайки». Потом в столовой ИТР было выделено место и время для «кормления» артистов. На общую «поверку» строиться не выходили – дежурный по лагерю ежедневно утром сам заходил в барак и всех пересчитывал. Общаться с «вольняшками» запрещено. Контакты с заключенными других бараков разрешались только по служебной необходимости под ответственность бригадира (режиссера) с разрешения коменданта. Забора или проволочной зоны не было. Охрана и контроль за выполнением режима мало заметны, но организованы исключительно четко. 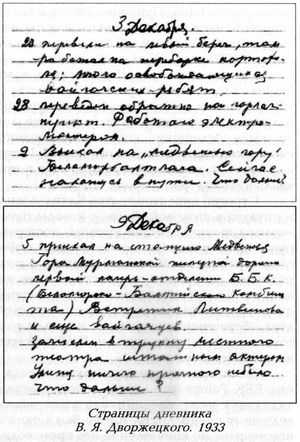
Были и группы бараков в закрытых зонах с вахтами и охраной. В баню ходили тоже организованно, по графику. Отдел снабжения помогал театру с организацией спектаклей. Главное начальство («министерство культуры») было в КВО (культурно-воспитательный отдел), его представитель всегда присутствовал на репетициях, а также представитель «третьей части» – кто-нибудь из оперуполномоченных НКВД. В бараке для актеров помещалось до ста человек. Здесь жили и работники редакции газеты «Перековка». Среди них были исключительно интересные люди: литераторы, философы, ученые. Особенно запомнился художник Василий Васильевич Гельмерсен – бывший библиотекарь царя, маленький, худенький старичок лет девяноста, всегда улыбающийся, приветливый, остроумный, энергичный. Он когда-то был почетным членом разных заграничных академий, магистр, доктор-филолог, свободно владел многими иностранными языками, потрясающе знал историю всех времен и народов, мог часами наизусть цитировать главы из Библии, декламировал Державина, Пушкина, Блока и еще вырезал ножницами из черной бумаги стилизованные силуэты из «Евгения Онегина»: Татьяна, Ольга, Ленский… С закрытыми глазами! Он находился в лагерях с 1920 года… Был на Соловках. Привлекать кого-нибудь в театр можно было только с разрешения коменданта лагеря, по ходатайству режиссера и инспектора КВО. Спектакли были на высоком уровне. Декорации строились отличные, костюмы шились настоящие, добротные, по эскизам художника. Освещение, как в любом столичном театре, под руководством специалистов высокого класса. И все остальные атрибуты – звонки, гонг, занавес, увертюры и пр. и пр. – все настоящее, как в «вольном» театре. Строгий директор театра Кахидзе жил отдельно, в бараке ИТР, и питался в столовой. Связь с начальством: репертуар, снабжение, «командировки», состав труппы, поощрения, взыскания – все в руках директора. Он мог отправить любого актера в бригаду на общие работы, мог ходатайствовать о разрешении на свидание с родными, разрешить отправить лишнее письмо на волю (позволялось не более одного письма в два месяца), обратиться по поводу снижения наказания или досрочного освобождения работника театра. (Естественно, это могло касаться только осужденных по бытовым и служебным статьям. К 58-й статье никогда никаких льгот не применялось.) Были исключительные случаи, когда сам начальник управления ББК Раппопорт лично, демонстративно, при многих свидетелях давал указание снизить срок заключения какому-нибудь ведущему специалисту. Какие были окончательные результаты – неизвестно, но впечатление это производило на всех окружающих очень сильное. А что касается «социально близкого элемента» – воров и проституток, то Раппопорт очень часто приказывал освободить «ударника труда», «ударницу Великой стройки» как «исправившихся досрочно». Об этом сразу же выпускались «молнии», «аншлаги», а газеты «Перековка» и «Заполярная перековка» помещали портреты передовиков, которые вчера сознательным ударным трудом заслужили свободу! Родина простила их! Пусть все берут с них пример! Труд – дело чести! И в театре на концерте (а концерты были часто) тоже воспевали это событие. На строительной же площадке инструкторы КВО устраивали митинг. Выступали «освобожденные» и по бумажке читали «пламенные речи», вроде: «Я всю свою жизнь воровал, из тюрем не вылезал, и вот спасибо советской власти, спасибо товарищу Сталину, которые научили меня честно трудиться и стать полезным человеком» и т. д. Кончалось это призывом: «Да здравствует товарищ Сталин! Да здравствует наш начальник стройки, товарищ Раппопорт!» Недалеко от театра находился двухэтажный дом – «гостиница». Там останавливались приезжие, и туда приводили заключенных на час, на сутки, на неделю – как разрешит начальство. К артисту оперетты Армфельду приезжал на свидание из Ленинграда Юрий Михайлович Юрьев, знаменитый актер Александринки. Он пробыл целую неделю. В барак актеров ему приходить не разрешалось. Армфельда ежедневно уводили на свидание. Алексей Григорьевич Алексеев, художественный руководитель, тоже хорошо знал Юрия Михайловича. Алексеев жил вместе со всеми в общем бараке, питался тоже вместе со всеми, но часто получал посылки из Москвы, выделялся и одеждой, и поведением. Не был «общедоступным», не допускал амикошонства, сквернословия, пошлятины и грубости. Это был интеллигентный, деликатный, умный и талантливый режиссер. Обычно «жители актерского барака» мало разговаривали о статье и сроке. Известно было, что ни воров, ни убийц среди актеров нет. Была 58-я и срок 10 лет. Все судимы «особым совещанием», все в одинаковом положении, а оттенки личного дела-«формуляра», «пункты» не имеют значения. Пункт 6 – шпионаж, 8 – террор, 10 – агитация, 11 – организация, 12 – недонесение. Известно, что ничего этого не было, и никого это не удивляло. Была еще просто 58-я – «разложение армии и флота». Это было комично, так как относилось к физиологическим свойствам или биологическим аномалиям, а точнее к гомосексуалистам. В театре эти люди ничем не отличались от остальных, только, пожалуй, терпели больше от случайных ухмылок и бестактных намеков. Часто выезжали с концертами на отдаленные участки. Отправлялись поездом в Беломорск, Сегеж, Сосновец и даже Кемь, хотя там уже не канал, а перевалочная база, лесобаза. В поезде ехали без конвоя, в сопровождении «опера». По всей линии железной дороги – тайная охрана. Вылавливали беглецов. «Зеков» видно издалека: стриженые, худые, воняют серой. В поезде контроль и проверка от Мурманска до Петрозаводска беспрерывно – не прошмыгнешь, а в сторону, в любую – сплошь лагеря, куда деваться? Урки уходили. Их ловили, били, возвращали. Если же уходил осужденный по 58-й – расстреливали, а «портрет» вывешивали (предостережение). А тем, кто рядом с бежавшими на нарах лежал, – карцер, изолятор, следствие, срок за «содействие», «недонесение». Боялись. Друг за другом следили… Из бригады убежал – вся бригада в карцер! Ответственность! Порядок! Горький приезжал, Алексей Максимович. В этот день баланда была без гнилой капусты и постели в бараках прибрали. А он и не ходил никуда. На митинге на строительстве выступил тут же, у последнего шлюза, у Повенецкого залива. Плакал. От умиления… Говорил о великом энтузиазме, о преобразовании природы, о капиталистическом окружении, о социалистическом соревновании, о том, что труд облагораживает. Актеры декламировали «Буревестника», и все кричали: «Слава Сталину!» Не приходил Горький даже в театр: говорили, что уехал в Апатиты или на Соловки… А в театре для него подготовили специальную программу с отрывками из спектаклей «Мать» и «Егор Булычев», с «Песней о Соколе», но потом эта программа шла и без Горького. Во вступлении говорилось: «Посвящается великому пролетарскому писателю», и всегда полный зрительный зал орал: «Ура Горькому!» Хороший был зритель – непосредственный, жадный, голодный до зрелищ, разнообразный и ненасытный. Надо было видеть это «вавилонское столпотворение»! Многие вообще впервые в театре. Все советские республики, союзные и автономные. Все возрасты. Все статьи Уголовного кодекса. Идет спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Зал бурно реагирует. С невероятным энтузиазмом поддерживают Глумова! Свист, топот, взрывы хохота, и вдруг – полная тишина… Чудесный зритель! Спектакли «крепостного театра» на Медвежке были всегда праздником и для зрителей, и для актеров. Театр этот был еще как бы «придворным театром». Очень часто приезжали «гости». Много начальства из ГУЛАГа, правительство, комиссии разные, корреспонденты и даже иностранцы бывали. Начальство ББК демонстрировало все «достопримечательности», в том числе главную – театр. Для представительства актеров одевали соответствующе, и всё выглядело «комильфо». Репетировали «Интервенцию» и «Разлом», играли «Бронепоезд 14-69» и «Перековку» и др., кроме того, концерты симфонического оркестра, вокал и дивертисмент. В марте 1934 года из состава труппы была сформирована «культбригада» во главе с бывшим режиссером МХАТ-2 Игорем Аландером для отправки на новую стройку ББК – Туломскую гидроэлектростанцию. Так начался новый театр, театр на Туломе, «Ту-Тэкс», как его в шутку назвали актеры: «Туломская Театральная Эспедиция». ТУЛОМА В мае 1934 года из Медвежки на Тулому была отправлена группа актеров для будущего Туломского театра. Тулома – это река на Кольском полуострове, недалеко от Мурманска – станция Кола, поселок Мурмаши. Стройка в сорока километрах от поселка, дороги нет. Первое впечатление – много людей. Очень много! Сотни тысяч. Строят бараки, живут в больших палатках, расставленных всюду. Солдатские, походные кухни, вагончики для прорабов, начальников, только что выстроенный новый большой дом для начальника лагеря. Все это на изрытой, вздыбленной почве из валунов и пней, в огромном ущелье среди скал и редких сосен, у холодной, быстрой реки. Строится лагерь. Первое лето целиком на строительстве жилья. Работали все. Но требовались выступления культбригады для «поднятия духа». Было кое-что из готового репертуара: чтение, баян, пение, гитара, а кое-что нужно было срочно готовить «на местном материале». Для подготовки давали сначала день в неделю, потом два. Писали и репетировали в палатке, материалом снабжал инспектор КВЧ. Выступали на открытом воздухе, на временно построенной эстраде, если погода позволяла. Лето. Заполярье. Светло долго. К зиме уже перебрались в барак и клуб был готов, но холодно было ужасно. Зрители сидят в бушлатах, в шапках, топают ногами – греются. Пар от сотен дыханий и дым от плохой печки поднимаются к потолку, туман в зрительном зале; слабые лампочки светят робко, как в бане. На сцене света никакого: горят какие-то лампы, но все равно ничего не видно. Давали водевиль. Актриса в открытом платье отморозила соски (нарывы потом были). Температура на сцене до двадцати градусов мороза (на улице – 35 и вьюга). А завтра на работу, в котлован, скалу ковырять, тачки возить. Мороз, вьюга, полярная ночь, костры для освещения и обогрева. Грузить, возить – еще терпимо, двигаешься, согреться можно, а вот бурение – очень трудно. Сидишь на корточках, держишь в руках бур – долото (это длинный такой метровый стальной прут, шестигранный, как лом, заточенный на конце), держишь в рукавицах, конечно, вертикально так, а партнер ударяет большой кувалдой по этому буру: ты поворачиваешь: а он ударяет. Руки цепенеют. Потом ты вычерпываешь специальной «ложечкой» из дырки пыль, и опять бей дальше, пока дырка не станет глубиною полметра. Так делали «бурки» в скале, чтобы потом туда заряжать аммонал и взрывать. Весь день грузят в тачки и увозят камни, большие разбивают кувалдой, а после смены взрывают заготовленные за день «бурки». Назавтра опять все сначала. 
Глубокий котлован для «водосброса» делали два года. А потом стало трудно вывозить отвалы. Тачка тяжелая, мостки узкие, в одну доску, скользко, соскочит тачка, перевернется – и ты за ней… А тут «норма». Учетчик все отмечает: если норма не выполнена, пайку полную не получишь. У актеров «норма» – полнормы. И работали только три, а то и два дня в неделю (вот радость-то!). Рабочих очень много в котловане – муравейник! На третий год случился обвал. Несколько тысяч людей под обломками остались, полгода потом откапывали, вынимали по кускам. Объясняли зекам так: «Вредители! Везде вредители!» И еще: «Великие дела без жертв не обходятся!» Расстреляли главного инженера. Пригнали новый этап. Работа продолжалась. Большинство заключенных были нерусскими: узбеки, таджики, каракалпаки, очень много басмачей. Впрочем, всех нерусских считали басмачами почему-то… Урки, как всегда, работали плохо, крестьяне, как всегда, работали хорошо. Зона была далеко за лесом, и туда подходить не разрешалось – стреляли. Первый год, пока не было клуба, вывозили культбригаду на соседние лагпункты, «на гастроли». Однажды были в Кеми. Туда только что привезли эшелон «людоедок» с Украины. Дикие, полупомешанные женщины разных возрастов, худые или распухшие, мрачные, молчаливые. Рассказывали, что были такие – съедали своих детей… и якобы рассуждали так: «Или мы все помрем, или я выживу и опять рожу…» Много их привезли. Там, в Кеми, тогда же из культбригады пропал гитарист. Через два часа нашли его в женском бараке… Его изнасиловали. В больнице пролежал две недели там же, в Кеми. И на Туломе «чудеса» творились. То девку обнаружат повешенную на ветке за ноги, юбка завязана на голове, а там песку и щепок набито. То парень на чердаке голый, живот вырезан, тряпками набит, завонялся. В карты урки проигрывали, «наказывали», даже квартиру начальника лагеря однажды проиграли. Никакая охрана не помогла – ночью квартиру обокрали. И проститутки «работали», никакой комендатуре не угнаться, никакой карцер не помогал. Одна девка как-то готовилась на волю, решила «подработать», устроилась в туалете на окраине зоны. Брала пятьдесят копеек или пачку махорки. Когда ее забрали – уже было десять пачек махорки и 15 рублей. А матерщина! Постоянное, повседневное сквернословие… Грязная ругань была нормальным лагерным языком. Блатной жаргон, манеры – страшная зараза для всех заключенных. Атмосфера лагеря засасывала всех! Трудно было сохранить себя. Повседневное, длительное общение с уголовниками, преступниками, отбросами общества непреодолимо откладывало отпечаток и на людей хорошо воспитанных, образованных, интеллигентных. Театр воистину вел непрерывный бой с этим уродством за культуру, за красоту! Невероятно трудно было сохранить этот «оазис». А еще труднее сделать театр целенаправленным и боевитым. С одной стороны – сложно найти общий язык со зрителями, чтобы быть понятными и принятыми, а с другой – непрерывный и тщательный контроль КВЧ и оперуполномоченного, который стремился выдержать театр в «определенном русле». Нужно учитывать и контингент: примерно 10% уголовников-рецидивистов – самая влиятельная и разлагающая прослойка, 10% интеллигенции – самая разобщенная и подавленная часть и 80% «работяг» – неграмотных крестьян и «нацменов». Да и в самой труппе театра только 15 актеров и интеллигентных людей, остальные – тоже уголовники. Не всегда удавалось преодолевать привычки, манеры, «сложности» речи у наших самодеятельных артистов. Однажды в «Хирургии» Чехова исполнитель роли врача «оговорился», вызвав восторженную реакцию зрителей. Вырывая зуб у Дьячка, он должен был сказать: «Это тебе, брат, не на клиросе читать!» А актер громко и темпераментно воскликнул: «Это тебе, блядь, не на крылосе читать!» Гром аплодисментов! Матросы в массовке «Разлома» яростно матерились! Было очень органично… Ходить по лагерю вечером было опасно. После спектаклей мы провожали актрис вместе с комендантом. И… все же не уберегли нашу Юлю! Была такая чудесная восемнадцатилетняя, нежная, красивая студентка из Ленинграда. Родителей, «врагов народа», расстреляли, а ее сослали в лагерь – ни статьи, ни срока, вроде вольно-высланная, вроде заключенная. Мы взяли ее к себе. Без вещей прибыла, в легком пальтишке… шляпка, туфельки, перчатки, сумочка. Юля Яцевич. Два года была она с нами. Репетировала, играла роли, но никак не могла избавиться от потрясения, не могла привыкнуть к обстановке. На общие работы ее не посылали. Мы всячески ограждали и берегли ее. Не уберегли… Ее изнасиловали десять сволочей – проиграли в карты. Ночью из женской зоны с кляпом во рту вытащили во двор (другие женщины всё видели, боялись поднять тревогу)! Утром обнаружили ее без сознания, за штабелями бревен… В больнице через неделю она повесилась. Косынкой за спинку кровати. На «свалку» вывезли. Мы и не видели ее… Милая Юля. Вот в такой обстановке ставились спектакли. В клубе стало теплее, хотя зрители по-прежнему сидели в зале одетые. Освещение хорошее наладили. Декорации строили настоящие. Прибавилось много талантливых людей – музыканты, художники, литераторы, актеры. Примерно раз в два месяца выпускали новый спектакль. И еще десятки концертных программ: песни, танцы, чтение, сценки, скетчи, конферанс, построенный на местных актуальных темах. Много помогал театру начальник строительства ГЭС Владимир Андреевич Сутырин. Надо признать, Сутырин был личностью исключительной. Партийный работник с дореволюционным стажем, в гражданскую войну командовал дивизией, позже одно время возглавлял РАПП. Писатель, поэт, драматург, личный друг Киршона и Афиногенова, он был направлен в органы НКВД, на стройку пятилетки. Можно себе представить, как он относился к театру. Всегда присутствовал на сдаче спектаклей вместе с уполномоченными НКВД и начальником КВЧ, а иногда появлялся и на репетициях. Чувствовалась его поддержка, его шефство (хотя лично к нему обращаться было запрещено, только с заявлением через начальника КВЧ)3. Ставили спектакли раз в неделю, иногда два, а концерты и отдельные выступления в бараках были почти ежедневно. В лагере существовала «система соревнования и ударничества». Победителям выдавались премии: продуктовая «передача» или новое «вещдовольствие» – ботинки, гимнастерка, бушлат. И культбригаде выпадали награждения и поощрения. Выдавали «грамоты», «книжки ударника», заносили фамилию на «красную доску», помещали портрет на Доске передовиков, в газете «Заполярная перековка». Все как на воле! В декабре 1935 года погиб Игорь Сергеевич Аландер, руководитель театра. Покончил жизнь самоубийством – бросился в «водосброс». Было ему тогда 32 года. Талантливый, умный, красивый, чудесный человек! Все любили его. В Москве у него была семья – жена и сын. Вроде вначале были письма, а потом большой перерыв. Наконец он якобы получил известие, что жена от него отказалась, развелась, вышла замуж и переменила фамилию сына. Это все открылось потом, после его гибели, и было недостоверно, основано на слухах. Для театра это был тяжелый урон. Главным режиссером стал Николай Иванович Горлов. Он был «вольно-ссыльным», но жил со всеми, тут же, в лагере, только в другом бараке. Он был профессиональным режиссером и актером. Поставил несколько удачных спектаклей, актеры его уважали, но Аландер остался в сердцах навсегда. А тут еще горе постигло; всем, кто сидел по 58-й статье, прибавили срок – сняли «зачеты». Это был, как объяснили, ответ на выпады «классовых врагов», после убийства Кирова в декабре 1934 года. Тогда, ни много ни мало, по два года прибавили: Дворжецкому, Волынскому, Пелецкому. Некоторым прибавили по году, кое-кому по полтора. В тот тревожный период, когда близится конец срока, когда готовишься к воле – каждый день тянется как год, каждый час и каждая минута занята мыслями о том, что будет. Как будет? Куда ехать? Что дома? Когда рисуешь в воображении своем картины будущей долгожданной свободной жизни, ночи не спишь, день торопишь – вдруг вызывают к оперуполномоченному. Бегом, с радостным чувством… готов обнять весь мир! – Здравствуйте! – Распишитесь. – Где? Тут? – расписался. – Что это? – Прочтите… «…решением комиссии НКВД… снять зачеты… пересмотреть сроки заключения… Апреля 1937 года…» – Ничего не понял! Понял. Сердце ледяное: еще два года. – Проходите. Следующий!.. Вот так. Шесть лет прошло. Работал, ждал, надеялся. На Вайгаче два года адского труда все же оплачены тремя годами зачетов. И тут, в Заполярье, были зачеты – день за полтора. Где же все эти вымученные, выношенные, высчитанные дни, месяцы, годы? Еще два года! Постой… но не четыре же, значит, что-то все же осталось?! Вот какие мысли, вот какие чувства… А что делать? Надо идти работать. И поменьше рассуждать и обсуждать. Кто-нибудь «стукнет» – и остальные зачеты снимут. Хорошо, что театр есть. Я САМ ХОЧУ ОСТАТЬСЯ В ЭТОМ ТЕАТРЕ, в кругу своих хороших друзей. И хорошо еще, что не хуже, что не на общих, тяжелых работах, что можно заниматься любимым делом, искусством помогать людям остаться людьми, сохранить или обрести достоинство, не отупеть окончательно, не превратиться в скотину! Ну, это ли не счастье! Это святая миссия! Не надо изменять делу, к которому призван СУДЬБОЙ! Надо работать! ВОЛЯ-НЕВОЛЯ Трудно описать волнения и тревоги последних дней. 1937 год! «Густо» прибывают новые этапы. Начинается новая «волна» событий. Тревожно… непонятно, слухи разные: «освобождающихся – возвращают», «не будут освобождать по статье 58-й», «опять сроки добавляют, снимают зачеты…» Господи! Ни сна, ни пищи! День! Час! Минута! – как годы! Наконец, вызывают: «С вещами, на волю!» Вы слышали когда-нибудь эти слова?! Уже не веришь… Нет! Не может быть! Расписался. Получил ПАСПОРТ! Пятигодичный! Деньги, паек на четверо суток (я же говорил, что я счастливый!)… Еще расписался. А это что? «Минус сто»! Нельзя, значит, жить в больших городах, вблизи границ, вблизи морских портов, в промышленных центрах… А где жить? Там, где пропишут. Билет выдали до Киева. Поехал… Как я ехал? Как в тумане… Оцепенение такое, будто это не я, будто с кем-то другим все это происходит. Замирал только, когда охранники документы проверяли… До Ленинграда несколько раз. Ленинград, Москва, Киев, ИРПЕНЬ! ДОМА! Отец… Мать… Сосны вокруг усадьбы. Выросли как! Я их сажал двенадцать лет назад. Сюда мама часто ходила, слезами поливала… вырос лес! Господи!!! Я – дома!.. Вот мои рисунки киноартистов: Мэри Пикфорд, Глория Свенсон, Гарри Пиль. Коллекция бумажных денег, книги, книги… Потрогать… прикоснуться. Отец старый очень почему-то… а ведь ему, кажется, нет и семидесяти. Свобода! Непривычно совсем, совсем… Значит, можно идти куда хочешь? Пошел! Пошел по дороге, пошел полем, лесом, ложился в траву на спину, глядел на вечное синее небо, на живые, тающие облака. Вставал, опять шел. Шел вперед, без цели, без охраны, без конвоя, без надзора, без разрешения!.. Вечером мать сказала мне почему-то шепотом: «Тут, когда еще не было тебя, приходили какие-то, спрашивали…» Спрашивали… Вот он, знакомый «холодок под ложечкой»! Без прописки ведь… Да… Вот тебе и без охраны… Ночью ходил в поле, соломы украл, принес для подстилки, козе травы накосил. Привязать бы козу на поляне к колышку – веревки нет… Подождите, милые мои, родные, все будет, все сделаю! Ничего я не сделал, совсем ничего… В Киеве начальник управления культуры сказал мне, что у нас безработных нет, а в театрах не будет для меня больше места. Поехал в Белую Церковь – сто километров от Киева, там разрешена прописка. Предложил себя в театр. Рады. Пошли в НКВД выяснять… Выяснили… Можно, но… но отвечать за меня режиссер не хочет: у него семья… В Ирпене в мое отсутствие опять приходили. Уехал в Барышевку. Устроился работать слесарем в весоремонтную мастерскую. Через месяц хозяйка, где я снимал угол, отказала: приходили из милиции. Вернулся в Ирпень. «Сыночек, уезжай! Тут все время о тебе спрашивают. Весь Ирпень знает, что ты вернулся. Спрашивали, где ты, а я не знаю». Уехал в Харьков. Там училась в институте физкультуры сестра, жила в общежитии. Пошел к начальнику управления культуры. – Актер нужен? – Конечно! Я вас сейчас познакомлю с директором и главным режиссером хорошего театра. – Позвонил по телефону: – Я хорошего актера вам нашел. Приходите! Пришли: директор Чигринский, режиссер Мальвин. – Очень хорошо. Можете поехать на гастроли? – Куда угодно! Поехал. Выглядело так, будто меня рекомендовал начальник управления культуры! Меня ни о чем не спрашивали. А я ничего и не говорил. Рабоче-колхозный театр № 4 (РКТ-4). Работаю!! Купянск, Дебальцево, Донецк. «Анна Каренина», «Слава». Зарплату получаю! Живу! Родителям не пишу. Они знают, что я в Харькове, у сестры. Мама уже не плачет. У нее там внук, Леопольдик, ему пять лет, и бабушка сердце свое целиком отдала ему – утешение. Слава богу! Прошел месяц, забрали того, кто меня рекомендовал. Меня пригласил директор. – Откуда вы? Я рассказал все. – Ради бога, уезжайте! Получите за две недели вперед и уезжайте. Уехал под Москву, на станцию Заветы Ильича, там жила моя двоюродная сестра, она меня приютила. Подрабатывал на дачах. Крыши, заборы ремонтировал, дрова пилил. Однажды ткнул пальцем в географическую карту СССР, стараясь метить повыше и поправее, и попал в Омск. Как ехал и как устроился – этого не забыть!.. Вещей никаких, все на себе, денег – три пятерки в кармане, билет в общем вагоне. Трое суток на верхней полке. Продуктами на дорогу сестра снабдила. Ничего. Хорошо. Поезд пришел ночью. Мороз -30. Я в ботиночках, в пальто на «рыбьем меху», на голове – шляпа… Вокзал забит пассажирами, присесть негде. До города, оказывается, семь километров. Трамвай. Последний. Надо ехать. Адреса, конечно, никакого нет. Ничего – «ангел-хранитель» поможет! Стенки в трамвае покрыты толстым слоем льда. Двери не закрываются. Ноги замерзают, надо топтаться все время. Пустой трамвай. Приехали. Темно. Никого. Вдали огонек. Бегом туда. Оказывается, «забегаловка»! Еще не закрыта! Стулья на столах ножками кверху – уборка. В углу вроде кто-то спит за столом… За стойкой буфетчица щелкает на счетах. – Закрыто! Закрыто! – Я на минутку! Разрешите погреться! Может, чай есть?! Посетитель за столиком зашевелился. – Друг!.. Выпей со мной! Все паразиты бросили меня! Я что, не человек? В общем, я с ним выпил и закусил и пошел к нему ночевать. Оказалось – заведующий Домом колхозника. Больше я его не видел, а жил бесплатно в этом Доме целую неделю! Вот какие чудеса творит «ангел-хранитель»! В Омске меня и прописали, и приняли в ТЮЗ, хотя я все рассказал о себе. Уже декламировал на избирательном участке: Мы знаем людей и видим дела, А правду – мы сердцем чуем. За сталинский путь, прямой, как стрела, Мы все, как один, голосуем! Из Заветов Ильича я получил письмо. Оказывается, и там уже спрашивали… В театре в Омске я много и успешно работал. В Омске женился на актрисе Т. В. Рэй. В 1939 году родился мой сын Владислав. В Омске ко мне хорошо относились, но… Дружить со мной было непохвально, что ли, не особенно «престижно» и небезопасно… Про меня все знали. Я не афишировал ничего, но и не скрывал. В анкетах писал правду: «Соц. происхождение – дворянин». «Судимость – Особое совещание ОГПУ, статья 58, срок 10 лет». Это тебе не Герой Соц. Труда, не орденоносец, а «недострелянный классовый враг», явно. Многие, особенно начальство, думали так: «Лучше пусть меня обвинят в чрезмерной бдительности, чем в отсутствии классового чутья». Время суровое. Было объявлено «обострение классовой борьбы», поэтому к «чуждым элементам» относились, мягко говоря, не очень дружелюбно. Уехал я в Таганрог: все же Сибирь, Север, холод – столько лет! Можно понять желание погреться у южного моря. Год работал там успешно! Вызвали в милицию, перечеркнули паспорт и приказали как «нарушителю закона» выехать из города в двадцать четыре часа. «Погрелся». Оказывается, город стал «режимным»! А ведь работал хорошо, успешно, интересно. Был режиссером и героем в театре! Ну что ж, спасибо, что не посадили… «Нарушитель» уехал обратно в Омск. ТЮЗ, театр драмы. Опять интересная, творческая работы, успех, любимая семья, возможность помогать родителям. Перспективы! И вдруг война! Беженцы, скудный паек, пустой рынок. Родители и сестра в Киеве, связь потеряна… А в театре – чудо как хорошо! Занят во всем репертуаре. Новые, прекрасные партнеры: Вахтеров, Ячницкий, Лукьянов. Вахтанговский театр – в нашем здании. Режиссеры – Симонов, Дикий, Охлопков. Спектакли идут через день: у них «Кутузов» – у нас «Кутузов», у них премьера «Много шуму из ничего» – у нас премьера «Ночь ошибок». И кружок самодеятельности, и дома дел полно. Моя жена – балетмейстер в театре и в Доме пионеров. Владику два года. Трудно, но интересно и хорошо было… Жили мы в парке. Буквально. Бывший дом губернатора – Дом пионеров, а в парке Дома пионеров – бывший домик садовника губернатора. Хороший домик, двухкомнатный, одноэтажный, без водопровода, с печным отоплением. Одну комнату уступили беженцам. Кухня общая. Нам эту «квартиру» дали потому, что мы вели кружки в Доме пионеров – драматический и танцевальный. (Помню, репетировал я «Снегурочку» Островского. Маленькая Верочка: «Мама! Любви хочу! Любви девичьей!» Директор Дома пионеров возмутилась: «Запрещаю!» Сейчас эта Верочка Михайлина – народная артистка.) Вот там я и получил повестку: «Выехать из города в течение 48 часов». Руководство театра возмущалось: репертуар под угрозой срыва. – Идите, хлопочите! Просите, чтобы не выселяли. (А сами не хлопочут: боятся, как бы чего не вышло.) Ну, написал я заявление с просьбой разрешить мне остаться в театре. Я все, мол, осознал, исправился, больше не буду… А надо было уехать. В район. Приезжать – играть! Не умел я комбинировать… Днем пришли. Трое. Я ребенка купал в тазике. Велели сесть на стул в стороне. Обыск. Мокрый мальчишка плачет. – Разрешите ребенка одеть! Пришла теща, унесла Владика на кухню. (Я увижу его только через пять лет.) При обыске разбросали все книги, забрали письма родителей и фотографии… жены. В обнаженном виде. У нее была чудесная фигура, какая и должна быть у балерины, прошедшей школу Большого театра. Я сам фотографировал ее, у меня был «Фотокор». Много было разных снимков, но эти, «неприличные», я хранил в книжке. Вот их и взяли. Я протестовал: «Вы не имеете права! Это личное, интимное, никого не касается!..» Потом следователь со своими помощниками разглядывал эти снимки, обменивался впечатлениями и циничными замечаниями… Я не мог дать ему по морде – был привязан к стулу. Только плакал от беспомощности. И помню это! Помню за все время, за все годы мук, пыток, боли – помню и не прощу! Не могу простить это оскорбление! Если меня били резиновым жгутом за то, что я произнес нерусское, непонятное им слово – «реабилитируют», – простить можно: они же неграмотные! А потом, они же не допускали непризнания вины! «Это клевета на органы! У нас зря не берут!» Поэтому, если заявить, что ни в чем не виноват, – готов уже и срок, и статья… Все это дико, жутко, больно… Опять статья 58, опять «особое совещание», разница только в сроке: первый раз осужден на десять лет, теперь на пять. Опять одиночная камера. И, как ни странно, снова это удивительное чувство внутренней свободы. Несмотря на решетки, стены, допросы, ложные обвинения, угрозы, пытки. Я все время искал и находил в себе возможность смотреть на все это чуть-чуть со стороны, видеть «мизансцену», «диалог», «развитие действия», ощущать себя в «предлагаемых обстоятельствах». А чего стоит одно сознание того, что ты сам волен распоряжаться собственной жизнью! Волен сам решать, жить или не жить. Заключенному ведь не дают такого выбора: отбирают ремень, подтяжки, срезают металлические пуговицы, отнимают шнурки, сохраняют круглосуточное освещение, наблюдают через глазок, постоянно обыскивают, не разрешают днем спать, ночью тревожат. И все это, как ни странно, для того, чтобы лишить заключенного возможности покончить с собой. А теперь представим себе, что удалось (это невероятно!) припрятать где-то, допустим, в рукаве, в манжете рубашки, лезвие бритвы! А? Это создает ликующее чувство независимости! Это ощущение безграничной свободы! «Вы всеми силами держите меня в тюрьме и понятия не имеете, что я в любой миг, зависящий только от меня, могу освободиться от вашей власти и уйти совсем!» А мне действительно удалось кое-что припрятать в манжете рубашки: на ботинках когда-то были металлические крючки для шнурков. При досмотре крючки были вырваны. Один случайно остался. Я его вынул, выпрямил, наточил на цементном полу, спрятал и стал независим. Я – что? Очень хотел умереть? Отнюдь! Я хотел жить. Но я не хотел, чтобы это зависело от кого-то. «Я! Я сам! Я так хочу! Я могу!.» Я много двигался – пять, десять километров в день отмерял. Работал обязательно. Как? Например, штопал носки. Занятие? О, это была сложная и интересная процедура! Во-первых, нужно найти и сохранить «иголку» – подходящую рыбью кость. Во-вторых, добыть нитки из этого же носка, распустив немного верхнюю часть. Дальше носок надевается на деревянную ложку, затем «иголкой» делается дырочка в нужном месте, нитку кончиком вдеваешь осторожненько в дырочку и протягиваешь. Потом то же самое – в обратную сторону. И еще… И еще… Много раз. А потом сооружается поперек плетеночка-клеточка. Наконец после многих переделок – классическая штопка готова, размером 5 на 5 сантиметров. А прошло дней десять! Это ведь тоже была своеобразная форма протеста, форма вызова: трудиться не разрешалось. Заключенный должен чувствовать себя все время безнадежно угнетенным, одиноким, подавленным, беспомощным, слабым, виноватым во всем, в чем бы его ни обвинял следователь! Адская система воздействия на психику узника! А тут вдруг человек, уверенный в себе! Разрушается система! Это помогло выжить, сохранить человеческое достоинство, быть готовым встретить любые трудности, любые неожиданности. Когда через полгода после окончания следствия и объявления приговора особого совещания (пять лет лагерей) перевели меня в «пересылку», где собрано более сотни самых разнообразных зеков, я сразу «сыграл» роль старосты и не без усилий, конечно, «захватил власть». Устроился на столе (с двумя помощниками под столом)! – единственном месте, где можно было лежать. А все остальные сидели на полу, спина к спине, как обычно. Правда, через десять дней, когда меня вызвали на этап в числе еще сорока человек, а потом через два часа вернули по обычной «недоработке» (то ли транспорта не хватило, то ли конвоя не было), «власть» в камере уже была захвачена, и я сидел на полу еще неделю, пока следующим этапом не угнали наконец в колонию. В «пересылке» была возможность познакомиться с людьми. В большинстве – интеллигенция. Пожилые. Педагоги, инженеры, военные. Немцев много, видимо, из области. Больные, грязные, перепуганные, голодные… Следствие не было таким жестоким, как когда-то. Даже «разговорчики» допускались. Следователь «снисходил» до того, что рассказывал о событиях на фронте, в частности о разгроме немцев под Москвой. Внезапно зачитывал мне показания моих друзей-актеров. Все осуждали и оговаривали меня: «…он говорил, что в газетах пишут, как в Германии выдают по сто грамм масла, а у нас, мол, и этого нет. …он говорил, что наше бездарное командование не сумело организовать оборону, …как Сталин мог допустить неожиданное нападение фашистов, …говорил, что на базаре картошки не стало…» Помню, одна лишь Надя Сахарных, актриса ТЮЗа, сказала про меня только хорошее. Следователь издевался: «На! Читай! Любовница твоя, что ли?» И «пришивал» мне распространение «пораженческих слухов» и «агитацию против советской власти». А я удивлялся: зачем вообще ему показания Сахарных? Оставили в «деле». Зачем?.. Страшно во время следствия было только одно: окно за спиной следователя… Комната на пятом этаже. Стул, стол, следователь, а за спиной его большое окно. Вот там-то, за этим окном, вся мука моя и боль. Следователь не подозревал ни о чем, я лишил его этого удовольствия… Дело в том, что «серый дом» НКВД возвышался как раз напротив сада Дома пионеров. А в саду – домик, а в домике – окошко, а в окошке – свет… Я вижу – это мой дом! Это мой свет. Там Владик… Я его только что купал в тазике… Господи!. Я вынесу и эту пытку! Надо жить! Обязательно надо жить! ОМСКИЕ ИТАК 1942 год. Лагерь. ОЛП-2 (Отдельный лагпункт № 2). Обычная, знакомая картина. Такие же бараки, нары… Такие же поверки, разводы, отбои, «шмоны». Такая же пайка и баланда. Людей очень много. Тесно, грязно, холодно, голодно. Зона освещена электричеством, а в бараках – фонари «летучая мышь», железные печки-«времянки», трехэтажные нары, соломенные тюфяки. Люди все кажутся одинаковыми, одинаково грязно, плохо одеты, заросшие. Интеллигентных людей мало, уголовников мало. Такое впечатление, что это даже не люди – отупевший, безвольный «скот». Не принято спрашивать: «За что?» И так ясно, что ни убийц, ни грабителей, ни вообще преступников здесь нет – таких или расстреливают, или содержат в другом месте, тут – трудовой лагерь, «принудиловка». Общие работы – разгрузка железнодорожных вагонов, рытье котлованов под фундамент зданий, строительство овощехранилищ, дорог, насыпей, прокладка канализационных труб. В лагере много немцев. (В области были немецкие колонии.) Прогульщиков много, «расхитителей». Действовали строгие указы и военного времени, и от седьмого августа – Указ, по которому за собирание колосков после уборки урожая давали десять лет! Нужны были дармовые рабочие. Слабыми получались эти рабочие… Война, очередной голод. В лагере только лозунги: «Все для фронта!» А хлеба по 200 граммов давали и баланда – вода и капуста. Пухли от голода. Двигались с трудом. Очень много «отходов» было – не способны были подняться с нар, умирали. Больничный барак не вмещал всех. Пеллагра и цинга косили людей. Не успевали вывозить мертвых. Стали «актировать» доходяг – выпускать на волю, а они двигаться не могут! Ничего – лишь бы за ворота… Местных все же иногда подбирали родственники, а иногородние так и оставались там, куда успевали доползти, ими уже другая служба занималась. А жестокость оправдывалась «военным положением в стране». Идет, бывало, колонна на работу мимо овощехранилища. Остатки гнилой картошки белеют в темноте подсохшим крахмалом, все уставились с жадностью, смельчаки – один, другой – бросаются, подбирают эту гниль, запихивают в карманы, в рот… В них стреляют – «Назад!» Конвой выполняет свой долг: «Шаг вправо, шаг влево – оружие применяется без предупреждения…» Кто-то там остался, пробитый пулей. Ничего – «актируют». Тоже ведь фронт, только «похоронки» не отсылают родным. Лагерь недалеко от города, сияние видно, гудки заводов слышно. Развод рано – темно еще. Слякоть, дождь. Куда сегодня? Неизвестно. Молча идут. Шлепают шаги, тяжелое дыхание, кашель… И вдруг из темноты далекий женский голос: «Ко-оля-а!», и еще: «Ко-о-о-оля-а!», и еще один: «Ива-а-ан!» Идущий впереди поднял голову, приостановился: «Ой… Мария! Она…» А там: «Ива-а-ан!» – «Ма-ша-а!» – «Прекратить разговоры!» Пошли дальше шлепать по грязи… Кончилось «свидание». А все еще доносится: «Ива-ан!» – «Ко-о-ля-а!» – «Же-е-еня-а!» Как они там, бабы, живут? Как справляются? Ребятишки как? Свидания не дают, а письма только через полгода разрешат. Пришли. Разгружать кирпич! Хорошо. Копать мокрую глину труднее. А ноги в коленках сгибаются с трудом – распухли… Рассвет. «Начинай!» «Давай!» Тяжелое, больное слово это: «Давай!» И въелось это слово бичом этаким в нашу речь, в нашу подневольную жизнь! «Давай!» Со всей гадостью лагерной, с матерщиной, через все котлованы и лесоповалы, как призыв к «светлому будущему» – «ДАВАЙ!» Тут будка-сторожка стрелочника, печка, уголь есть, тепло. Охранник разрешил заходить погреться. Ведро нашли, воду. Собачонку мужики принесли. Заманили ее: «Тютя! тютя!» – приласкали, погладили и… убили. Просто – головой об рельс. Ободрали – и в ведро! Пятеро – один варит, остальные работают, по очереди. Соли достали у стрелочника. Сварили, съели впятером все и бульону полведра без хлеба съели. Как все завидовали им!! А что? Вареными собаками, говорят, люди туберкулез лечат. А голодные зеки что хочешь съедят! Зеки – тоже люди!.. Всего месяца четыре пришлось мне побывать на общих работах. Нарядчик «отыскал» меня и направил как чертежника в мастерскую Туполева. Было нас там десять человек. Два конвоира водили нас ежедневно в пустую контору, где мы чертили разные детали по указанию приходившего к нам изредка бесконвойного инженера. От лагеря пять километров. Двух-трехчасовая прогулка была очень полезной. На месте мы сами себе варили суп из «сухого пайка». Никак не могли уложиться в норму – съедали за два дня все, что полагалось на десять. Но утреннюю и вечернюю кашу нам давали в лагере, хлеб тоже. Жили. Туполева мы не видели ни разу, инженера-конструктора фамилию не помню, помню инженера Оттена, который тоже заходил к нам. Он был из ЦАГИ, уже пятнадцать лет в заключении, а в Омский лагерь прибыл недавно. Три месяца я работал чертежником, пока не организовал культ-бригаду. Центральная культбригада создавалась постепенно. КВЧ иногда проводила в клубе мероприятия. Приказ ли какой надо было зачитать, доклад ли сделать, это всегда должно было заканчиваться художественной самодеятельностью. Однажды я выступил с чтением Маяковского и тогда же присмотрел некоторых участников. Меня Кан-Коган, начальник КВЧ, похвалил. А я ему предложил подготовить программу к Октябрьской годовщине. После нескольких удачных выступлений последовал приказ начальника управления «о создании центральной культ-бригады под руководством з/к Дворжецкого». Нас совсем освободили от общих работ, выделили отдельный барак, выдали новое обмундирование, разрешили мне подбирать людей из всех новых этапов, составить репертуар и действовать. И мы начали действовать. Пять. Десять. Двадцать пять человек! Я собрал актеров, музыкантов, литераторов, певцов, танцоров (мужчин и женщин, молодежь и пожилых) и, не хвалясь, скажу, завоевал и лагерь, и управление. Нас хвалили, поощряли, премировали и, конечно, нещадно эксплуатировали, посылали на «гастроли» во все лагеря и колонии Омского управления. А нам это не мешало. Мы были нужны – это главное! Мы выступали в бараках, в цехах, на строительных площадках, в поле во время сельскохозяйственных работ, в клубах, на разводах, при выходе на работу и при возвращении людей с работы. Я все больше и больше влезал в организацию быта заключенных. Это они видели, чувствовали и ценили. Уже потом, когда наша бригада окрепла, появился «Дядя Клим». Вскоре он стал не только самым популярным номером, но превратился в «клич», что ли, стал «защитником», «символом правды». К «Дяде Климу» обращались за помощью, угрожали «Дядей Климом», ждали его вмешательства и поддержки. А это был раешник, сочиняемый мной на местные актуальные, острые темы. Каждый раз заново. Обычно в самом финале выступления я вынимал из кармана бумагу и говорил: «Вот опять получил я письмо от Дяди Клима!» И уже в зале аплодисменты, визг, смех… Со временем мифический «Дядя Клим» превратился в реальное лицо – в меня. Меня стали называть дядей Климом, писали мне письма, с жалобами обращались… Острые критические выступления с эстрады (а шутам и комедиантам все дозволено) помогали где-то улучшить питание, облегчить режим и прочее. Я начисто отключил себя от сознания, что нахожусь в лагере, что я без всякой вины, несправедливо оторван от семьи, лишен свободы, театра… Я жил! Я занимался любимым делом. Я верил, я видел, что мы помогаем преодолевать чувство безнадежности, чувство неволи. Мы воодушевляли людей и сами обрели чувство свободы. Все для фронта, все для победы, искренне, в меру сил и своих возможностей! Лагерь преобразился за два года! Были созданы два образцовых барака, проведено электричество, получено постельное белье, сделаны кирпичные печи. Построен еще один больничный барак. Появились медикаменты и врачи. Лучшим рабочим на разводе стали выдавать молоко и дополнительный хлеб. Со временем наша культбригада окрепла и расширилась. Нам помогали начальник КВО и главный бухгалтер управления Мазепа, который создал струнный оркестр народных инструментов. В этом я совершенно не разбирался, но все же выучился играть на домре-альте. За один только первый год наш коллектив провел 250 выступлений в клубах разных лагпунктов и, пожалуй, столько же в бараках, в поле и на стройплощадках. Это был воистину колоссальный труд. Приходилось сочинять, репетировать, собирать материал, много читать, писать. Двенадцать новых программ в год! И помнить надо, что мы в лагере, что мы заключенные, связаны, как и все зеки, режимом, строгими законами лагеря – поверки, обыски, отбои, бани, конвои и пр. Мне была разрешена переписка раз в месяц и передача раз в месяц. Жена передавала мне книги и эстрадные миниатюры, которые я просил. Свидания не было ни разу. Мучительно было постоянно чувствовать свою беспомощность, зная, что они голодают, что Владик болеет, что жена, уходя на работу, запирает ребенка на ключ, что однажды он съел мыло, что он плохо одет, что в квартире не топят. Мальчику уже пять лет! Мне удалось тут сшить ему два костюма – матросский белый (брючки, френч с погонами, фуражка с крабом) и красноармейский (защитные бриджи, гимнастерка с погонами, пилотка со звездочкой, сапожки брезентовые и даже золотая звездочка героя). Нам шили униформу, материала было много, и портные с удовольствием выполнили мою просьбу. Труднее было передать все это. Рискнул помочь мне сам начальник КВЧ Кан-Коган. Здесь, в Омске, Кан-Коган, Софья Петровна Тарсис, инспектор КВЧ, очень помогали. А особенно Мария Васильевна Гусарова, инспектор КВО, не только постоянно снабжала нашу бригаду литературой, материалом, не только была нашей заступницей в трудные минуты, но и выполняла частные поручения и просьбы, не всегда безопасные для нее. Нельзя забывать, что лагерный режим запрещал всякую связь вольнонаемных, в том числе и начальства, с заключенными по 58-й статье. В культбригаде не было плохих людей. Люся Соколова – поэтесса, актриса, много писала по моему заданию – частушки, репризы. Десять лет ей «особое совещание» присудило за стих: «Сталин – это тень, перекрывающая солнце над Россией…» или что-то в этом роде. А бывший редактор «Омской правды» (фамилию не помню, обнаружил я его в очередном этапе, больного, опухшего, почти слепого – очки потерял, зубы выбиты, грязный, заросший – кошмар!) – три месяца мы его откармливали, отмывали, лечили, одевали. Отличный журналист! Десять лет – «особое совещание». Он, видите ли, утверждал, что пакт с Германией был ошибкой. А Василий Пигарев! Талантливейший человек! Инженер. Десять лет – «особое совещание». С 1937 года сидел в разных лагерях. Мастер на все руки, музыкант, композитор, механик, изобретатель, актер. Когда я освободился, он стал руководителем. Чудесный, добрый, интеллигентный человек! В Таганроге осталась у него семья… Матвей Фридман – музыкант, великолепно играл на саксофоне, дирижер нашего оркестра… Получил пять лет от «особого совещания» за то, что однажды вздохнул: «Ой! Когда это кончится!..» Марыся Войтович, польская актриса, в 1939 году приехала в Ленинград навестить родственников, застряла там, когда началась война. Выразила возмущение и была сослана в Ишим, а оттуда в лагерь на десять лет за то, что сочувствовала интернированным польским солдатам. Научилась говорить по-русски. Великолепная актриса, певица, очаровательная женщина. Был у нас еще прекрасный скрипач из оркестра Эдди Рознера. Бывало, мы заслушивались – до слез.. Но лагерь есть лагерь. Мы постоянно находились под наблюдением оперуполномоченного и коменданта. И в карцер нас сажали «за нарушение режима», и обыски устраивали нередко, и в этапы отсылали, и на репетициях торчали. Все было. После отбоя и нам не разрешалось передвигаться по территории, задерживаться в клубе, находиться женщинам в мужском бараке. Я как-то собрал всех и читал «Принцессу Грезу» Ростана: Люблю мою грезу прекрасную, Принцессу мою светлоокую, Мечту дорогую, неясную, Далекую… Слушали ребята, плакали… Было уже очень поздно. Ворвались оперативники и забрали всех женщин в карцер. Был еще случай во время концерта. Я в качестве ведущего объявил: «В зрительном зале находится мой друг Саша Акчурин. Сегодня у него день рождения. Посвящаю ему свое исполнение стихотворения Максима Горького «Песня о Соколе»: О, смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью! Но будет время, и капли крови твоей горячей Как искры вспыхнут во мраке жизни И много смелых сердец зажгут Безумной жаждой Свободы, Света!.. Меня тут же после концерта забрали в карцер на пять суток! Ведь Саша Акчурин – враг народа! «Особое совещание», статья 58, срок десять лет. А я ему: Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом Всегда ты будешь живым примером, призывом гордым К свободе, к свету! Даже начальник лагеря Бондарчук не смог меня высвободить – пять суток! Хорошо, что срок не добавили. А все-таки несли мы свет в это темное царство, слава богу! Бывало, заходим в барак, грязный, темный, вонючий… Фонарь под потолком, дым от печурки, вонь от сохнущих портянок. И людей-то не видно. Лежат, сидят тени какие-то, тишина гробовая. Зажигаем четыре фонаря, баян заиграл, девушка красивая сбрасывает бушлат, остается в светлом открытом платье, высоким голосом запевает «Любушку». «Братцы! Ребята! Не падайте духом! Скоро свобода! Надо жить! Нас ждут на воле, жены, матери, друзья!» И люди открывают глаза, люди, подыхающие, встают, поднимаются, улыбаются… Живут! «Недолго уже! Война кончится – всех освободят!» «Недолго уже!» Война кончилась. Всех не освободили, но мой срок подошел к концу. И опять воля! Воля ли? Кончились мои «пути больших этапов». Но я продолжал ощущать нашу жизнь как большой Лагерь, размером со всю нашу страну. Удивительно успешно разрушили мы до основанья старый, традиционный уклад жизни, а построили лагерную систему. И лагерный жаргон, и взаимное недоверие, и нравственный принцип: «Бери все, что плохо лежит» и «Настучи на другого, пока он не успел на тебя настучать». И еще – скотское иждивенчество: «Скажут, что надо; дадут, что надо; пошлют, куда надо; решат, как надо… Молчи! Жди! В крайнем случае проси. И будь благодарен!» 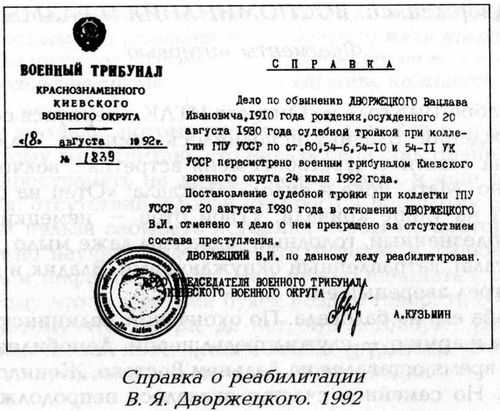
«Будь благодарен за все! Всегда «спасибо»!» «Спасибо великому Сталину…» «Спасибо родной партии…» «Спасибо родному коллективу за то, что вырастил и уберег…» «Спасибо за наше счастливое детство!» «Спасибо за нашу веселую юность!» «Спасибо за нашу обеспеченную старость!» (Хочется сказать: «Спасибо за место на кладбище», но это за тебя скажут близкие.) «Спасибо!»? В то время как каждый человек имеет право на все это. В то время как каждый человек – это личность. Неповторимая! Более шестидесяти лет прошло со времени моего осуждения «за контрреволюционную пропаганду и агитацию», а я и сейчас готов вести ту же самую «агитацию» во имя подлинной свободы и раскрепощения личности. И, ей-богу, готов пройти заново, если это нам поможет, все эти этапы – ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ. Вацлав Дворжецкий: ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ Фрагменты интервью
В декабре 1945 года из Омского ИТАК я вернулся со справкой об освобождении. Владику исполнилось семь лет. Я любил его и надеялся на ответное чувство. А меня встретил… волчонок. И неудивительно. Мать, пока я сидел, убеждала: «Отец на фронте». А мальчишки на улице кричали: «Твой отец – немецкий шпион». Каково? Болезненный, голодный (однажды даже мыло съел, пока мать работала), затравленный окружающими, Владик и на мир поэтому смотрел зверенышем. Судьба его не баловала. По окончании медицинского училища забрали в армию – служил фельдшером. Демобилизовавшись, некоторое время оставался на Дальнем Востоке. Женился, родился сын Саша. Но семейное счастье оказалось непродолжительным. Владислав внезапно уехал в Омск. Один. Поступил в театральную студию при ТЮЗе. И влюбился в молодую актрису. Возникла новая семья. Но и она потом распалась. Я писал сыну. Но он редко откликался: отношения между нами оставались натянутыми. Киноактером он стал неожиданно для всех. Трудно ему было: неустроен, денег в обрез. Даже проснувшись знаменитым после премьеры фильма «Возвращение «Святого Луки», он остался должен 164 рубля «Мосфильму». Ему не на что было купить даже кепку – сшил ее сам. А уж о пальто он и не мечтал. …Нам внушали, что мы строим справедливое будущее, и в то же самое время у людей не было никакой возможности доказать свою невиновность. Тысячи людей гибли от изнурительного труда в лагерях. Я видел это собственными глазами и в Пинеге, где мы строили железную дорогу, и на острове Вайгач, где работал в глубоких шахтах, на лесоповале и лесосплаве, и на Соловках, и на Беломорканале, и в Туломе… Да, партия признала свои ошибки, но где гарантия, что они не повторятся. И потом, никто ведь – по большому счету! – за них не ответил. Почему я должен верить, что у нас не появится новый лидер, которому захочется считать людей винтиками? У О. Берггольц есть стихи, написанные после освобождения: А те, кто вырвался случайно, Осуждены еще страшней - На малодушное молчанье И недоверие друзей. И молча, только тайно плача, Зачем-то жили мы опять. Затем, что не могли иначе Ни жить, ни плакать, ни молчать. Мы молчали, потому что боялись доносов и повторений террора. К тому же я считаю, что нельзя свои собственные переживания распространять на других людей. Была и еще одна причина молчания: отсутствие у детей интереса к прошлому родителей. Нам нельзя забывать историю, чтобы не повторить ошибок. Нам нужно научиться действовать, оставив в стороне ненужную мягкость и инфантильность. Нам нужно начинать с сегодняшнего дня, потому что завтра уже будет поздно говорить о возрождении души. Потому что завтра, да нет, что я говорю, уже сегодня – всегда, как сказал поэт, душа обязана трудиться, чтобы мы могли создать то лучшее, о чем мечтали наши предки. Тишина, вода как зеркало, небо отражается вдали. Спускаешь лодочку, без всплеска, осторожно двигаешься к кувшинкам, туда, где камыши, забрасываешь удочку. Солнце начинает выглядывать самым краешком… Это чудо! Жаль, что я не могу заставить остальных людей пережить то же. Но не только это. У меня много хобби: и охота, и собака, и сад, и парусный спорт, и подводный спорт. Очень люблю подводный, совершенно необыкновенный мир. И сад, и пчел. Пчелы – невероятное чудо. Мне они интересны не только с той точки зрения, что дают мед, прополис, воск, пиргу. Меня интересует диалог с ними. Это красота! Эта необыкновенная жизнь проникает в человека, делает его богаче, добрее. Потому что каждый цветок, каждый росточек – он живой. Одновременно я думаю и размышляю о своих ролях, вынашиваю их. Знаете, как я себя иногда закалял? Приду домой после тяжелого спектакля, охрипший, в доме холодно. Разделся, залез под одеяло, вытянулся. Думаешь: вот если б сейчас надо было встать, одеться, пойти принести ведро воды во-о-он оттуда, с колонки за два квартала… Что?! А ну-ка встань! Встаю, одеваюсь… Сам себе: не торопись, что это ты ботинки кое-как надел? Зашнуруй! Перчатки возьми, шарф завяжи. Ведро воды полное? Вылей! Иди туда, за два квартала, наливай полное, приди, поставь… А знаете, как себя человек после уважает? Я считаю, что человек всё может. Есть в нем скрытые силы, второе дыхание… Секрет, рецепт… Нет рецептов ни для молодости, ни для таланта. Душа нужна! Можно ли научиться… душе? Можно вызубрить роль, научиться смеяться и плакать на сцене, в совершенстве овладеть техникой игры – а твой герой будет мертвым. Жизнь в него может вдохнуть только духовно богатый человек. Истоки этого богатства я ищу и нахожу в общении с природой. Она дает пищу душе, из ее материала я строю художественный образ. …Мой прапрапрадед был Шимон Дворжецкий, мелкопоместный крестьянин, фермер, как теперь говорят. Во времена Ивана Грозного и войны России и Польши, в 1562 году, Стефан Баторий присвоил ему дворянский титул. Когда я был в Кракове, нас водили в королевский дворец Вавель, фундамент которого состоит из огромных, высеченных из камня глыб, покрытых зеленым мхом. На этих камнях высечены древние польские фамилии. Там есть фамилия моего деда – Шимон Дворжецкий, я сам читал. У меня хранится пергамент, на котором нарисовано наше родословное древо. А у Брокгауза и Эфрона есть описание герба рода Дворжецких. И указано, какие места в нынешней Литве принадлежат нашему роду. Одна из грубейших ошибок нашего прошлого – презрение к понятию «сегодня». Нам внушали, что «вчера» – это проклятое прошлое, а «завтра» – светлое будущее. И всё! То, как человек живет сегодня, было несущественной мелочью. Вспомните, ведь даже великие поэты утверждали: не важно, что ты сегодня умер, но ты можешь стать ступенькой для счастья других людей. Я убежден: нельзя защищать великие идеалы, забывая о людях. Большая часть стремлений человеческих призрачна, иллюзорна, относительна. Достоверны и абсолютны две ценности: любовь и свобода. Противоестественно то, что человек не знает, что делать с этими благами, боится их, а потому всячески избегает таких несомненных даров. Вот причина нашего разъединения вместо объединения. Вспомните, как говорит апостол Павел в Новом Завете: «Любовь долготерпима, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится… не раздражается, не мыслит зла… всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит». Михаил Ульянов О ВАЦЛАВЕ И ВЛАДИСЛАВЕ ДВОРЖЕЦКИХ 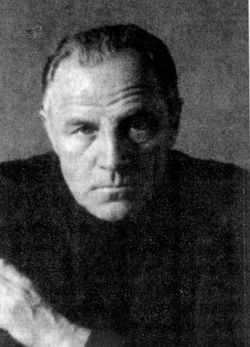
В 1945 году я учился в театральной студии при Омском областном театре. После войны и даже на кончике войны руководитель этого театра знаменитая Самборская. Лина Семеновна организовала студию с очень серьезной преподавательской школой. Вскоре в студии появился Вацлав Янович Дворжецкий, только что освободившийся из лагерей. Очень своеобразный, с гордой посадкой головы, с большим лбом из-за ранней лысины, поджарый и веселый человек. Думаю, что веселость была в его характере, потому что, встретив его через много лет на съемках, я увидел его таким же, не утратившим своего веселого нрава, оптимизма, надежды и… фатального отношения к жизни. Он принимал ее такой, какая она есть. Я уж не знаю, что у него творилось в душе, но ни тогда, в сорок шестом, ни много лет спустя он не выглядел сломленным, хотя судьбина у него была не очень счастливая… Там, в Омске, мне довелось играть с Вацлавом Яновичем в спектакле «Давным-давно». Он играл поручика Ржевского – блистательно!.. Была в нем какая-то мужская задиристость, уверенность в себе, и Ржевского он играл очень мужественным и в то же время – с отношением к этому герою, как к петуху… Очень многослойным получился у него образ. И среди молодых актеров, изображающих гусар, был я. У меня сохранилась фотография тех лет – мальчишеское лицо с приклеенными усами. Смешные, конечно, из нас были гусары… но рядом-то был настоящий гусар – Вацлав Янович! Потом я уехал в Москву, где попробовал продолжить свою театральную учебу, и, к счастью, у меня это получилось – меня приняли в Щукинское училище. Я потерял Вацлава Яновича из виду. Прошли годы, и когда в 1987-м я начал сниматься в картине Владимира Наумова «Выбор», то опять встретился с Вацлавом Яновичем. Тогда он уже ушел из театра на пенсию и жил по тому принципу, по которому всем нам, актерам, надо бы уходить из театра и жить дальше: пришли годы – уходи, а там уж – по договорам, если пригласят. Он был влюблен в природу, в Волгу… Был настоящий профессионал-рыболов, очень много рассказывал про это подробно, со смаком, похохатывая, веселясь… Вацлав Янович искренне пытался донести до собеседника ощущения, которые сам когда-то испытал: какая это радость – ранним утром выйти на лодке, закинуть крючок и слушать птиц… Он очень радовался полноте жизни, которую продолжал ощущать, и хотя был уже в общем-то глубоким стариком, но тем не менее это был прежний Вацлав Янович, который не склонил голову ни перед годами, ни перед сединой, ни перед чем… «Меня не волнует, будут меня приглашать в театр или нет, – говорил он. – Пригласят – хорошо, не пригласят – у меня есть лодка, у меня есть ружье, у меня есть Волга, у меня есть жизнь». В этом смысле его сын Владислав, с которым мы снимались в «Беге», был другим, почти противоположным человеком. Влада трудно было назвать компанейским. Скорее он был замкнут в себе и, как мне показалось, не пускал никого в свой мир, но при этом был очень учтив и скромен. Владик попал на «Бег» совершенно случайно. Одна из ассистенток, перебирая фотографии актеров, просто споткнулась об его странные и огромные глаза, глаза-блюдца… Как известно, он был приглашен на маленькую роль из окружения Хлудова, а в результате был утвержден на самого Хлудова. Этот сложный образ давался Владику совсем непросто, но Алов и Наумов с тонкостью и изящной осторожностью вылепливали из молодого актера (по сути новобранца в кино) этого странного, смертеподобного человека, существующего на грани жизни и смерти. Думаю, что выше «Бега» Влад ничего не сделал. Наумов фонтанировал всякими идеями и придумками, а Алов был более земным, и они друг друга очень уравновешивали. Они лепили Владика, а он был всецело в их руках. И в результате они вылепили замечательный характер. Но это все – киноработа. Это работа, в которую иногда берут типаж человека, далекого от кино и от профессии актера, и оказывается, что он делает все выше, чем актер-профессионал. Он не играет, а существует. И вот что-то в этом роде, я думаю, происходило и с Владиком. Он ничего не играл, а просто существовал в заданных Аловым и Наумовым координатах, в четко заданном эмоциональном режиме, в строго обговоренном психофизическом состоянии. Уверен, что в театре Владик не сыграл бы Хлудова так, как это получилось у него в картине Алова и Наумова, потому что театр требует образа, а кино – типажа. В театре на типаже ничего нельзя сделать, а у Влада было совершенно поразительное лицо – лицо человека-марсианина и пока еще полное отсутствие опыта. Однажды мы летели с картиной «Бег» в Чехословакию, где было организовано большое мероприятие по встрече деятелей культуры, и среди этих деятелей оказались мы – Алов и Наумов, Владик и я, а возглавлял нашу группу тогдашний министр культуры Демичев в компании с каким-то большим «чином». Пока летели, Демичев с «чином» пригласили нас сыграть в домино. Сели… и мы втроем обыграли их вдрызг. Ну, вот просто поперло!.. И это было тем более удивительно, что никто из нас троих никогда не увлекался этой игрой. Ну, мы посмеялись в кулак, но от души… Вдруг Наумов толкает Владика под бок и говорит тихонько: «Скажи Демичеву, что у тебя квартиры нет, скажи, что ты живешь черт знает где… Давай, не мнись!» – «Да неудобно мне…» – «Да чего неудобно?! Нормально!..» Еле-еле он все-таки заставил Владика раскрыть рот и сам поддержал разговор. В те годы дать человеку квартиру (который ее заслужил) было плевым делом, не то что сейчас. Только нужно было выйти на нужных, высоких людей. Наумов был в этих делах уже мастер и сразу смекнул, что лучшего момента просто может и не быть больше – в самолете, за домино, а еще лучше за рюмочкой коньяка… И они договорились. Потом я видел Владика в других картинах, в которых он, как мне кажется, ничего не играл, а только воплощал замыслы режиссера. Самого Владика в этих ролях не было. При том, что внешне Владик был очень красив и необычен, актерски, на мой взгляд, он так и не успел дозреть, осознать свой потенциал, свои резервы и границы, изучить и понять себя – как инструмент актерской игры. И, безусловно, он вырос бы в крупного и серьезного актера, если бы не такая ранняя смерть. В нем была порода. Порода, так сказать, еще не раскрытая, еще не расцветшая. Увы, так и не расцветшая… Запись и литературная обработка Н. Васиной. Лазарь Шерешевский МОЙ ДВАЖДЫ ЗЕМЛЯК 
Есть под Киевом чудесное дачное место с певучим названием – Ирпень. Знакомо оно не только киевлянам – оставило свой след в литературе, увековечено строками Бориса Пастернака: «Ирпень – это память о людях и лете…» Я, родившийся в Киеве, с детства знал Ирпень и в предвоенном году провел школьные каникулы там в пионерском лагере. Помню начало нашей тогдашней песенки: Эх, Ирпень, Садовая, двенадцать, Золотые лагерные дни… Но лишь много лет спустя мне стало известно, что Ирпень – родовое гнездо целых поколений замечательных артистов. В Ирпене жили родители Вацлава Яновича Дворжецкого, который, в свою очередь, стал отцом Владислава и Евгения – целая актерская династия! А мне в детстве привелось ходить по тем же киевским тротуарам, вымощенным желтым кирпичом, под теми же тополями и каштанами, где бродил в пору своей юности Вацлав Янович Дворжецкий – мой земляк-киевлянин. Но в жизни мы встретились с ним намного поздней – через два десятилетия, и не в Киеве, а в Горьком. Ставший в конце пятидесятых годов главным режиссером Горьковского театра драмы М. А. Гершт решил обновить состав труппы и пригласил ряд хороших актеров из других городов. Так в Горьковском, богатом традициями театре появились Владимир Самойлов, Лиля Дроздова, Виктор Кузнецов и Вацлав Дворжецкий. Появился и новый ведущий режиссер – Ефим Табачников, осуществивший тогда ряд оригинальных постановок: «Палата», «Четвертый», «Ричард III», «Жили были старик со старухой». Горьковские театралы в полной мере оценили талант Вацлава Яновича Дворжецкого: природа подарила ему неповторимый, особого задушевного тембра голос, горделивую стать, четкость жеста – все это, доведенное до высокой степени мастерства опытом и умением, волновало зрительские сердца и принесло артисту большую популярность. Но наиболее тесные отношения с Вацлавом Яновичем у меня возникли не через сцену: в его дружеский круг я попал благодаря Юлию Иосифовичу Волчеку и жене Вацлава Яновича – режиссеру ТЮЗа Риве Яковлевне Левите. В 1960 году вместе с Анной Кузнецовой мы инсценировали повесть Владимира Тендрякова «Чудотворная», и эта пьеса была принята Горьковским ТЮЗом к постановке. Ставить спектакль должна была Рива Левите, и она начала работать с авторами и актерами. Сидели мы над текстом и в театре, а иногда, чтобы не отвлекаться, Рива Яковлевна приглашала меня домой – в дом Дворжецкого, где мы теснее сошлись с Вацлавом Яновичем, и я смог в большей мере узнать этого удивительного человека. И тут я был посвящен в еще одну страницу его жизни, что сделало нас еще более близкими: за его спиной стояли годы страшного ГУЛАГа: северные лагеря начала 30-х, гибельный остров Вайгач, Беломорско-Балтийский канал, а потом, в 40-х, еще один срок – в лагерях Сибири. Мой лагерный опыт был короче и благополучней, – но был он и у меня. Так что мы с Дворжецким оказались не только земляками, но и собратьями по судьбе. Новый 1961 год мы встречали уже в общей компании в университетской квартире математика Юрия Неймарка. Там были Дворжецкие, Волчеки, Соколовы, Табачниковы, Любавины – самые разные люди: физики, философы, артисты, врачи, литераторы, объединенные личными симпатиями и схожестью взглядов на многие вещи и события. Позднее эти встречи стали регулярными: праздничные дни, дни рождения, разные семейные происшествия – все отмечалось этой небольшой компанией, если можно так сказать, интеллектуальных вольнодумцев «оттепельной» и «послеоттепельной» поры. Вацлав Янович был душой этих встреч: он демонстрировал плоды своих подводных съемок, рассказывал о своих поездках и разных житейских ситуациях. Его положение в театре было по вине тогдашних обстоятельств очень странным: завоевав прочное признание у зрителя, широкую известность, он не мог получить даже звания заслуженного артиста республики: хрущевские реабилитации коснулись только тех, кто был незаконно арестован после 1934 года, – те же, кто пострадал до этого, реабилитации не подлежали. И поэтому, будучи полностью оправданным по второму сроку 40-х годов, Дворжецкий не был реабилитирован по необоснованным обвинениям 1929 года, вырвавшим из его жизни почти 10 тягчайших лет! Отмечу, что его, наконец, реабилитировали и по этому давнему «делу»… в 1991 году и тут же присвоили звание народного артиста… Но ждать этого ему пришлось более шестидесяти лет, целую жизнь! А шестидесятые годы, кроме блестящих театральных спектаклей, ознаменовались для Вацлава Яновича и началом регулярной работы в кино, где его талант проявился в десятках фильмов. Как-то «в лад» отцу на рубеже 60 -70-х годов начал блистать на экране и старший сын Вацлава Яновича – Владислав: «Возвращение Святого Луки», «Солярис» и, конечно, «Бег», где Владислав Дворжецкий сыграл – да как сыграл! – сложнейшую роль Хлудова. Вацлав Янович все чаще уезжал на киносъемки, но каждый раз, если очередное сборище нашей дружеской компании заставало его в Горьком, он обязательно приходил к нам. Он был замечательным другом, всегда готовым помочь товарищу не только в беде, но и в любой творческой и житейской заботе. Не могу не вспомнить, как, когда Волчекам нужно было переезжать на новую квартиру, беспрерывно трудился Дворжецкий – единственный в нашей компании владелец машины: на ней переселялась вся огромная библиотека Волчека. Дворжецкий обладал завидным умением видеть вещи и людей в их истинном свете и постигать сущность предмета. До сих пор помню, как он точно сформулировал: «В Англии все можно, кроме того, что нельзя, в Германии все нельзя, кроме того, что можно, во Франции можно и то, чего нельзя, а в России – нельзя и то, что можно». Жизнь не раз его сталкивала с горькой правдой последнего наблюдения… Семидесятые годы стали очень тяжелыми для всех нас, а для Вацлава Яновича в особенности: внезапно скончался сын Владислав на самом подъеме своего выдающегося дарования, ушел из жизни Юлий Иосифович Волчек, стали болеть и уезжать старые друзья, пошатнулось и богатырское здоровье самого Дворжецкого. В это время я уже жил в Москве и с Вацлавом Яновичем встречался либо на кино– и телеэкране, либо во время моих нечастых приездов в Нижний Новгород, – отрадно было посетить его первоэтажную квартиру, где тебя всегда дружески принимали, где бывали добрые и умные люди… А там – началась другая эпоха: всплыли дни, о которых десятилетиями долго и трудно молчали. И тут Дворжецкий предстал перед земляками не только в облике актера, но и как гражданин, оратор, публицист. Он начал писать историю своей жизни– той, еще дотеатральной, где были годы учения, тюремные казематы, лагерные зоны, этапы и пересылки. Эта книга, главы из которой он своим неподражаемым голосом читал по нижегородскому радио, книга, названная «Пути больших этапов», была поистине взволнованным монологом, написанным экспрессивно, фразами, выражающими силу, глубину и, можно сказать, ритмику чувств… Эта лагерная тема, тема неправедно обвиненных людей, возникла и в его кинематографической работе в фильме «Защитник Седов»… Жизнь Вацлава Яновича складывалась трагически – и потому не перестаешь восхищаться его стойким и неистребимым жизнелюбием, проявившимся и в самые последние его годы, когда он потерял зрение. Вспоминаю его творческий вечер в Москве, в Центральном Доме работников искусств. Уже совершено слепой выходил Дворжецкий на сцену, чувствуя рампу и кулисы, которых он не мог видеть… О нем тепло говорили лучшие артисты страны. К этому времени появилась уже целая гора статей, посвященных Вацлаву Яновичу и сыгранным им ролям, с огромным полувековым опозданием пришло к нему и официальное признание… Наверное, последняя наша встреча состоялась весной 1992 года на конференции «Сопротивление в ГУЛАГе», куда Вацлав Янович приехал прямо из больницы, где безуспешно пытались вернуть ему зрение. Всё такой же прямой, всё той же твердой походкой вышел он на трибуну и вдохновенно говорил о героях и жертвах времени, призывая и пробуждая память и совесть. В апреле 1993 года вечером я смотрел по телевизору фильм по книге Дудинцева «Белые одежды», в котором Дворжецкий играл профессора Хейфица, старого генетика, и в это время позвонили из Нижнего Новгорода и сообщили, что Вацлав Янович скончался… Сквозь слезы я продолжал глядеть на экран, где продолжало жить, сверкать проникновенными глазами, звучать глубоким голосом его такое знакомое лицо… И я не верил в горестную весть, что не стало моего дважды – по Киеву и Горькому – земляка, многолетнего друга, прекрасного человека и художника… Я запомнил его живым и только живым. Виктор Калиш ОН ВСЕГДА КАЗАЛСЯ МНЕ ПРИШЕЛЬЦЕМ 
О смерти Вацлава Яновича я узнал с запозданием – Женя никак не мог дозвониться. При первой же возможности еду в Нижний, хочу повидать Риву. Она рассказывает о последних днях Вацлава, о печальных подробностях его ухода. Мы вспоминаем наши омские ситуации, долго перебираем кипы домашних фотографий, и вот находится портрет как раз для меня. Прямо перед собой глядит белобородый мудрец, непричесанный, неприглаженный, словно намеренно желающий выглядеть стариком, хотя в лице ни малейших примет старческого безволия – сильный мужчина, которому шевелюра вокруг резко очерченного и красивого черепа и борода служат ширмой, способной дистанцировать человека от реальности. Когда он стал носить бороду, то будто бы провел границу между прошлым и нынешним временем, соединился с природой, от которой столько лет его отделяла, отбрасывала собственная биография. С тех пор как мне был передан этот портрет, лик папы-Дворжецкого сопровождает меня во всех житейских переездах, одним из первых водружается на стенах каждого нового жилища, и я никогда не смогу снять его и навечно заточить в альбом – пусть смотрит, пусть спрашивает, пусть задает тон. Я не пишу о нем как театральный критик. Когда он играл в Омске, я был еще мал, чтобы понимать. Период в Саратове пропустил вовсе, да и на нижегородской сцене видел не так уж много. Но все-таки отдельные случаи бывали. Однажды в Горьком я отправился на выездной спектакль театра драмы во Дворец культуры автозавода. Спектакль был так себе, не стоил разговора, но после его окончания я пошел в закулисную часть, где в одной гримерке сидели все представители мужского состава. В том числе Дворжецкий и мой товарищ по Омску Толя Бугреев. Он встретил меня на пороге гримерки, обнял и всем представил. В том числе и Дворжецкому: знакомьтесь, мол, это Витя Калиш, который про нас все знает. Дворжецкий на это ухмыльнулся и проскрипел «под сурдинку»: – Он знает то, что и ты не знаешь. Вацлав Янович имел все основания сказать свою реплику. Я знал о нем больше, чем об актере. Он, как и мой отец, родился в Киеве. Когда же в этом славном городе на свет появился я, потомок польских дворян Дворжецких уже «отмотал» первый срок в ГУЛАГе и, оказавшись в Омске, поступил на работу в ТЮЗ. Надо бы ему там меня дождаться, ан нет, в первый год войны ему выпал второй срок, и он оказался в одной из омских исправительно-трудовых колоний, куда совершенно иными путями устремился юный автор сих воспоминаний. Да, мы бежали из Киева, бежали не от своих, а от немцев, бежали в Сталинград вместе с детским домом для испанских детей, куда мама, киевский комсомольский работник, была второпях устроена нянечкой; потом бежали из Сталинграда, чудом оказались в Омске («Война гоняла нас по свету белому, но иногда я думаю тайком: она одно незлое дело сделала, что сделала меня сибиряком» – издадут после в Новосибирске мои прочувствованные стишата), и там нас разыскал отец, направленный после харьковского окружения в тыл на оборонный завод – завод, между прочим, из Киева. Маму же, как комсомольского работника и педагога, откомандировали в распоряжение… НКВД, а в этом ведомстве было управление, непосредственно нуждавшееся в педагогических кадрах, – УИТЛК. Так Софья Петровна Тарсис оказалась на должности инспектора культурно-воспитательной части (КВЧ) той самой «исправиловки», где вкалывал землекоп Дворжецкий, благословленный туда «особым совещанием» на пять лет. По приезде в Омск семья наша поначалу снимала угол у сердобольных хозяев, потом нам дали комнату от папиного завода, затем сестренку устроили в ясли, а меня мама частенько забирала с собой на работу. За ней пригоняли полуторку (помню цепи, намотанные на колеса для лучшей грязепроходимости, – но годы спустя эти цепи виделись мне резкой метафорой движения в кандалах), и машина везла нас по улице 10-летия Октября, где в пригородной зоне уже начинались заборы с колючей проволокой (теперь там кладбища, и на одном из них покоятся мои родители). Ох, не зря припомнилась мне эта трасса, и убогие наши жилища, и последнее пристанище папы и мамы: на той же улице 10-летия Октября, на задах краснокирпичного, старосибирского здания, оставшегося от казачьей крепости и теперь приютившего публичную библиотеку, чернело двухэтажное строение, на фоне архитектурной серости Омска воспринимавшееся памятником деревянного зодчества, – это было священное для омских театралов место, ибо здесь, в плотно заселенном общежитии, жили ведущие актеры омской драмы, которых публика нередко провожала домой после спектаклей. Отбыв свои горькие пять лет, получив вместе с освобождением запрет жить где-либо («минус 100!»), Вацлав Янович восстановится в правах артиста, поступит в труппу омской драмы, чем еще более украсит ее «коллекционный» состав, получит комнатку в этой самой общежитейской Мекке и станет жить там вместе со своей женой Таисией Владимировной Рэй и моим будущим дружком Владиком… Вот так и мечется моя память вперед и назад по улице 10-летия Октября, которая в силу прихотливой топографии была одновременно и центральной, и окраинной. Возвращаюсь на окраину. Воспоминания наплывают из зыбких источников: видимо, к пяти-шестилетнему возрасту я начал уже различать лица (поначалу воспринимал только вышки над территорией колонии, миролюбивых охранников в кузовах полуторок и трехтонок, набитых людьми в одинаковых тужурках, чаепития-согревания в конторе и походы в гости по праздникам, когда все друг друга чем-то угощали, а наутро друг у друга занимали денег до получки). Мне уже разрешалось заключенного Акчурина называть дядей Сашей (в 1943 году художник дядя Саша, в промежутках между плакатами и транспарантами, на маленькой картонке писал карандашиком мой портрет, который я храню как высший для меня художественный раритет) . Я уже мог заключенного музыканта Фридмана называть дядей Мотей. Меня уже брали в лагерный театр, просторный барак, где никогда не было свободных мест, потому что все зрители, как я узнал годы спустя, были несвободными, – а на маленьком подиуме, тогда казавшемся мне настоящей сценой, играли скрипачи, трубачи, аккордеонисты, замечательные и красивые мужчины и женщины читали стихи, представляли смешные клоунады и серьезные сценки, призывали хорошо работать за право воевать с фашистами в штрафном батальоне… И в домашних разговорах, какие часто вели родители о прожитом дне (вот второй источник питания для моей памяти), рядом с Сашей, Матвеем, Борей и другими именами как-то особенно уважительно произносилась фамилия Дворжецкий. Я не хочу сочинять мнимые детали, но я помню интонацию: о нем говорили как о таланте, о личности, об организаторе таких программ и таких «мероприятий» агитационно-культурного содержания, что наполняли жизнь колонии чем-то стоящим человеческого разговора. К большим государственным праздникам, которые в те годы отмечались и всенародно, и в каждом доме, Вацлав Янович Дворжецкий, переставший быть чернорабочим и уже переведенный из чертежной мастерской КБ ссыльного Туполева (этот дом, сохранившийся по сей день, стал омской достопримечательностью) в художественные руководители агиткультбригады, готовил большие концерты, и в колонию съезжалось все областное начальство. «Еще бы, – комментировал мой папа, партийно-хозяйственный работник, книжник и меломан, – ведь в те годы получить в Омск исполнителей такого уровня было непросто». Но это для людей вне лагеря программы Дворжецкого были концертами «такого уровня!». Для заключенных же, как жизнь объяснила десятилетие спустя, все содержало иной смысл, иные контакты с миром свободы, иные духовные цели. О «втором», общественном «плане» программ агиткультбригады напишет в книге «Пути больших этапов» сам Вацлав Янович, который последнюю главу так и назовет: «Омские ИТАК». Книга посмертная, выйдет через год после ухода ее автора. Соответственно и я получу экземпляр, подаренный, как говорится, не собственноручно. Но, открыв обложку с «бородатым» портретом, с волнением прочту такие слова: «Дорогому, родному и любимому нашему Вите, так написал бы автор этой книги. Я с ним абсолютно согласна. Мы с тобой все и всех помним! Р. Левите-Дворжецкая». Вот Рива написала: «Всех помним!» Это очень точная фраза. Точная по отношению к Вацлаву Яновичу. Поразительно, что, повествуя о своей участи, он излагает историю куда более общую, воспроизводит мир более широкий, нежели сфера личных переживаний. Он считает важным и должным назвать всех, с кем проходил каторгу, кого зарубцевал в памяти, чье имя восстановил из сохранившихся документов. Он хочет рассказать, как вместе с народом убивали интеллигенцию этого народа и как Интеллигенция в общей массе своей не хотела умирать, находя себе достойное применение даже в неволе. Интеллигенция в робе з/к невидимо объединялась с интеллигенцией в гражданских одеждах вольнонаемных служащих, а порой и в офицерских мундирах, чтобы сохранить достоинство, пережить беду, восстановить равновесие сил и убеждений. Вот почему Дворжецкий перечисляет поименно сотрудников НКВД, перешагнувших через лагерные запреты. Как я горд и как благодарен папе-Дворжецкому за строчку, посвященную моей маме: «Рискнул помочь мне сам начальник КВЧ Кан-Коган. Здесь, в Омске, Кан-Коган, Софья Петровна Тарсис, инспектор КВЧ, очень помогали». Не раз годы спустя, навещая дом Дворжецких в Горьком, я в ответ на его корректные вопросы о моих родителях рассказывал истории, которых он знать не мог. Например, о сердечной встрече мамы с бывшим заключенным Борисом Петровичем Лернером – тем самым, о ком Дворжецкий упомянул в книге («Был у нас еще прекрасный скрипач из оркестра Эдди Рознера»). Лернера из омской колонии этапировали в Норильск, где он находился «до звонка», где остался на некоторое время, освоив специальность экономиста и зарабатывая деньги на возвращение в Москву. Во второй половине пятидесятых годов он приехал с оркестром Рознера на гастроли в Омск и бросился разыскивать нашу семью. Как найти маму, он не знал, предполагая, что у нее могли быть неприятности из-за контактов с заключенными, и всех тормошил именем секретаря райкома Калиша. Гастроли проходили в здании театра музкомедии, и однажды после дневной репетиции Лернер нос к носу столкнулся с моей мамой, которая теперь в этом театре и работала. В этом месте Вацлав Янович вздрогнул и тихо проговорил: «Представляю себе эту встречу…» Да что там, они просто стояли посреди внутреннего дворика, стояли в обнимку и плакали. А потом мама привела его к нам домой, где еще сохранились предметы лагерной мебели, сколоченной тогдашними зэками. Борис Петрович щупал эти «остатки колониализма», как он их тут же окрестил, потом дождались прихода папы, и они обнялись, как близкие люди. Так вот: перевод Лернера на другое место отсидки и мамины «неприятности» были связаны между собой напрямую. Сестра Бориса Петровича, Бианка, жила в Москве, она была женой знаменитого кинооператора Эдуарда Тиссэ. Мама, используя время отпуска, появлялась в доме Тиссэ и становилась негласным почтальоном между Борисом и Бианкой. Помогала она и другим зэкам. Нередко давала идущим на волю какие-то скудные деньжата, и папа, насколько я знаю, ее за это не осуждал. Я помню случай, когда в конце сороковых годов нас разыскивал бывший мамин «воспитанник», посидел у нас часок, попил чаю и торжественно вернул деньги. А были и такие, кто сразу пропивал, шел воровать и вскоре попадал обратно. Мамины «прегрешения» стали известны, над нею сгущались тучи. Когда личный состав сотрудников колонии представляли к медали «За победу над Германией», ее имя вычеркнули из наградного списка. Дворжецкий уже освободился, стал актером Омского драматического театра, когда моему отцу, «секретарю райкома Калишу», удалось каким-то чудом убедить начальство отозвать маму из органов НКВД и направить ее… куда бы вы думали?., на работу в театр – в только что созданный в 1947 году театр музыкальной комедии для формирования там партийной организации. Мама освоила специальность заведующего постановочной частью, и более двадцати лет весь театр ее так и называл: мама. – Да, – подтверждал Дворжецкий, – мы с ней встречались теперь только на собраниях ВТО или профсоюза РАБИС, встречались тепло, но о прошлом старались не говорить. Нам нравилось настоящее. В этом театре ее и обнаружил Боря Лернер. В этот же театр мама устроила освобожденного Матвея Фридмана, который стал артистом оркестра, «попав в яму, о которой мог только мечтать». Я подробно рассказывал Дворжецкому о дяде Моте, о том, что это был первый саксофонист в моей жизни (потом на саксофоне-баритоне у Рознера будет играть и скрипач Лернер, и при трогательной встрече с Фридманом шутку насчет «удачной ямы» отпустит именно он). Вацлав Янович припомнил подробность, которую позже вставит в книгу, – насчет того, что Матвей Фридман был посажен за неосторожный возглас: «Ой! Когда же все это кончится!» И что же он теперь восклицает? Я так же шутливо замечаю, что не встречал более молчаливого человека, чем дядя Мотя. Теперь у него во рту почти всегда кларнет и он улыбается только глазами. Шутки шутками, но когда гроб с телом моей покойной мамы подвезли для прощания к театру, там как раз был антракт, и музыканты оркестра выбежали на улицу, чтобы сыграть маме хотя бы несколько тактов классической мелодии. И я видел в глазах Фридмана слезы. Он играл на кларнете, а глазами прощался с ней. Зашел разговор о других маминых «выпускниках». Дворжецкий дружески любил Акчурина, но тут я ничем его порадовать не мог. Дядя Саша не нашел себя на воле, стал пить, я помню его багровое лицо, папа и мама очень сердились на него, уговаривали, устраивали на работу. Но запои его одолели, и он очень скоро ушел из жизни. Разные, очень разные люди проходили через то время. Мне часто кажется, что Дворжецкий сильнее многих из них, идейнее, что ли. Им руководило не то чтобы желание выжить любой ценой, но стремление постоянно доказывать свое превосходство над обстоятельствами. Из другого теста он был, что ли? Когда я стал общаться с ним осознанно, когда и он почувствовал во мне не того «кареглазого сыночка Тарсис», а может быть, собеседника, он снял покровительственную интонацию, но не в силах был измениться по сути – он все равно казался мне пришельцем, не таким человеком, как все другие. Может быть, за то его и заточили. Может быть, потому там, в колонии, он лидировал безусловно и отчетливо, хотя внешне устава зоны не нарушал, начальству не грубил, солагерникам помогал. А внутри что-то такое неопределимое в нем отзвучивало, заставляло с ним считаться, его запоминать, не слишком ему препятствовать. Его товарищи тянулись к этой воле, образовывали вместе какой-то круг. Вацлава развеселил мой рассказ о начале маминой карьеры в театре. Артисты – народ своенравный, а порой и склочный, и со всеми своими амбициями идут к ней, мучают ее. «Не могу больше! – рыдала она однажды дома. – Хочу в лагерь, там люди хорошие…» Слава богу, никто из них в лагерь не вернулся. 
В театральной судьбе тех, о ком я сейчас вспоминаю, стали происходить перемены другого рода. В начале пятидесятых годов в Омском драматическом театре, по-прежнему перенасыщенном отменными артистами, но тогда еще неважно организованном и режиссерски безвольном, появилась черноволосая красавица Рива Левите с гитисовским дипломом. Ее поместили в то же общежитие, где обитали ведущие актеры. Она начала ставить первые спектакли, и все заметили, что выбор ее постоянно падает на Вацлава Дворжецкого. Я помню один такой спектакль – инсценировку «Американской трагедии» Драйзера: Клайд Гриффите не просто оказывался в центре композиции, он приковывал к себе внимание каким-то двойным бытием, напором и вкрадчивостью, обаянием и низостью, его съедал страх, его пожирало вранье, глаза останавливались, голос утончался и обрывался… Впервые я обнаружил, что театральный спектакль может рассказать о «негерое» с такими непостижимыми подробностями. Дворжецкий был для меня безусловно лучшим артистом этого театра, и я гордился тем, что знаю о нем чуть больше, чем положено знать человеку из зрительного зала. А затем, когда мой названный брат, потрясающий актер оперетты, а после и драмы, Володя Раутбарт подружится с Вацлавом и Ривой, пустит их на время пожить у себя, а сам перейдет к нам (мы жили с ним, с его мамой, а позже и всей его семьей как единое целое), восторгу моему не будет предела. Я чтил Таисию Владимировну Рэй, приятельствовал с Владом, но союз Вацлава и Ривы представлялся мне знаком абсолютно нового времени. Насчет нового времени – это верно. «Дело» по обвинению Дворжецкого начало подтачивать себя изнутри. И вот уже ему дали возможность выехать за пределы Омска. Он мог бы великолепно работать и там, дождаться лучших времен этого театра, но надо было, надо было уехать, растоптать «минусовку», все построить заново. Так появился Саратов, так позже все образовалось в Горьком. …Прошел десяток лет. Моя собственная биография поросла своими колючками, но, когда судьба связала с театром, главный режиссер ТЮЗа (того самого ТЮЗа, из которого в 1941 году забрали Дворжецкого) Владимир Дмитриевич Соколов призвал меня в созданную им студию. Он предоставил в мой «душевный приказ» два десятка школяров, среди которых я обнаружил уже изрядно облысевшего Владика, прошедшего армию, замкнутого, неулыбчивого, жизнью потертого, разговаривающего тихо и внушительно, какую бы чушь ни нес. По сравнению с остальными студентами он точно уж был другим человеком. Таким же таинственным, как отец, лобастым и глазастым, как Вацлав Янович, таким же непредсказуемым, как и его родитель. Хотя мама Влада была известным хореографом, единственным настоящим в Омске педагогом классического балета, сын не воспринял от нее ни единой приметы грации: был высок, нескладен, неуклюж, неритмичен, но умел каким-то образом все эти свои антиактерские задатки подать с чувством превосходства. Это он потом в кино обретет осанку, а тогда, в Омске, был простоват и намеренно себя сдерживал. Если вспомнить, каким он был студентом (не забывая при этом, что речь идет об актерской студии), то я скажу лишь, что мы все ценили его за интуицию, ум и начитанность. По окончании студии его, конечно же, взяли в омскую драму, но большие роли ему пока «не светили», он играл либо в массовке, либо в сказках. Труппа его приняла, с ним было о чем поговорить. Однажды за кулисами театра появилась энергичная дама, объявившая, что ищет для Алова и Наумова исполнителей эпизодических ролей в булгаковском «Беге». Омские артисты, любители закулисных розыгрышей, вытолкнули вперед молодого Дворжецкого с единственной прибауткой: «Вот у нас знаток Булгакова». Что ж, знаток так знаток. Записали фамилию в блокнотик. А вскоре в моей московской квартире (к тому времени я уже работал в столице) появился смущенный Владик, вызванный для кинопроб. Смущение достигло невозможного для его сдержанной натуры эмоционального градуса, когда авторы-постановщики фильма разглядели в нем возможности для Хлудова, а не то что для эпизодического есаула. Дворжецкий был смят, растерян, перед ним открывалась совершенно новая перспектива. Ошарашен был и Дворжецкий-папа. Он знал об учебе старшего сына, но скептически относился к его профессиональному потенциалу. Однако же отказываться от выпавшего испытания – это как-то не по-дворжецки. И Владик «продал душу дьяволу». Пишу об этом так прямо и так уверенно, ибо на меня отныне стали проливаться все владькины комплексы и сомнения. Жил он во время съемок в хорошей гостинице, принадлежавшей СЭВ, но каждый раз прибегал к нам в коммуналку на Спиридоновке, снимал в коридоре башмаки, бегал по квартире в носках и зычно орал о происходящем. Съемки ошеломляли его, но не столько обилием техники и непривычной для воспитанника театральной провинции спецификой кино, сколько непостижимым уровнем партнерства. Хлебнув водки, наскоро закусив и оттаяв, он короткими фразами набрасывал картину дневных приключений, когда засматривался на репетиционные шедевры Ульянова, Евстигнеева или Баталова, терял нить эпизода, рвал действие, захлебывался текстом. Судя по всему, А. Алов и В. Наумов понимали, что происходит с молодым актером, и нередко прикрывали его растерянность своими «кинематографическими штучками». Всеобщему фантастическому киноуспеху Владислава Дворжецкого я искренне радовался. Он много времени проводил в моей семье, часто мы с ним отправлялись в театр, и я видел, как на него «западает» публика. Влад все больше закрывался, мучительно думал о продолжении, потом вдруг решал бросить, уехать далеко-далеко, заняться то ли медициной, то ли фармацевтикой (я уж по нетрезвой памяти не упомню), снова получал выгодные контракты, снова снимался, играл каких-то супербандитов или сверхгероев; нарабатывал метраж и послужной список, но иногда отчаянно твердил, что его используют, а он так и не знает, актер он по сути или нет. Тут мы вспоминали, что, когда их курс приблизился к моменту выпуска, я собрал студийцев на последнюю беседу и сказал им вполне откровенно: актеров из вас не получится, но в театре много других профессий, тоже очень хороших. И правда, мало кто из них обрел имя в искусстве. Ну разве что Валера Дик, замечательный Бумбараш у Адольфа Шапиро в Риге, ну разве что Влад в кино… Остальные, столь же мною любимые, либо канули в театральную безвестность, либо, действительно послушав «дядьку», сменили профессию, став театральными администраторами, помрежами, зав-литами, а один даже защитил докторскую диссертацию в филологии. И вот теперь Владик поднимал на меня свои знаменитые кинематографические глаза и вопрошал ими, не его ли я имел в виду, когда предупреждал остальных. Рубежным моментом в его метаниях (так я и доложил об этом папе-Дворжецкому) стало предложение Анатолия Васильевича Эфроса поступить в Театр на Малой Бронной (он готов был переговорить об этом с главным режиссером А. Л. Дунаевым и полагал, что тот не откажет). Эфрос мне об этом ничего не говорил, я передаю факт только со слов Владика. Он спрашивал совета, и я велел ему предложение принять. «По крайней мере поймешь, актер ли ты, и перестанешь терзаться». Владик испугался. Не Эфроса, нет, не его значительных актеров, – испугался именно неизбежности понимания своей судьбы. Потом его приглашали в Киев. Русский театр им. Леси Украинки сулил ему хорошие условия. Морально он готов был к бегству из Москвы, устал от механистичности съемок, от притязаний женщин, от неудачных женитьб, а вскоре встретилась замечательная и верная подруга, но ей уже суждено было только похоронить Владика. Он сердце свое надорвал. Сочувственно сказал об этом на панихиде А. В. Баталов: кино дало ему, Владиславу Дворжецкому, всё, но оказалось ему не по силам. 
Какую боль, какое разочарование пережил Дворжецкий-старший, понятно без слов. И он сам, и Рива, и младший Женька – все нежно любили Владика, и он платил им тем же. Обо всех поворотах судьбы старшего сына тут знали и желали только одного: чтобы испытал себя, чтобы выдержал, чтобы не врал, чтобы сохранил достоинство. Думаю, что достоинство – главную ценность дворянской традиции Дворжецких, сквозной мотив жизненного сюжета отца, – Владик сохранил. Но он оказался чуть более хрупким, растерянным, мягким и рефлексирующим, нежели Дворжецкий из другого поколения, и ушел раньше, чем мог ожидать отец. Вацлав Янович не раз говорил мне, что надеется сыграть с Владом в одном фильме, ждал сценария, искал его. Накануне собственной смерти он готовился к кинодуэту с Евгением, незаурядным человеком из третьего актерского поколения Дворжецких. Тут уж он сам не успел. Стальные нервы, твердая мускулатура, зоркий глаз, здоровое дыхание – всё разом дало слабину, всё отказало. Но, поскольку я не видел его ни в больнице, ни на смертном одре, он остался в моей памяти во всей своей природной силе, моральной непогрешимости, все в том же ореоле превосходства над земными слабостями. Я думаю, он был отправлен на нашу планету, чтобы познать людей, приняв на себя их облик, их противоречия, их страдания. Но никогда он не чувствовал себя слабым, жертвенным, требующим вздоха в ответ. Однажды, провожая меня из-за своего обеденного стола, он шутливо и жестковато пробурчал: – Маме передай привет, но скажи, что она меня не перевоспитала. Я не оклеветанный, не по доносу, я за дело сидел. Так я и передал. Так и сам помню. Валентина Титова ВЕРНУВШИЙСЯ С ДУЭЛИ 
Я смотрю на его спокойное лицо и думаю: какие тайны хранит его душа?! Такой красивый, ладно скроенный, такой воспитанный и очаровательный. Надо долго жить, чтобы научиться «читать» людей. Мы очень разные, но иногда Бог дает встречи с такими, которые представляют сгусток своего поколения, целый пласт жизни, экземпляр уникальный – музейную редкость. У Пифагора, проходя испытание, ученики должны были молчать пять лет. В нашей стране человек должен был молчать всю жизнь. В глазах Вацлава Дворжецкого – молчание. Но такое горящее! Это ненависть ко лжи и смирение, дружелюбие и великодушие. Школа страдания и мужества, которую он прошел, – вот точное определение того покоя, которое заставляет вновь и вновь всматриваться в его лицо. Это и возраст, и опыт, и школа жизни – самая совершенная, самая жестокая. Дебют Вацлава Яновича в кино состоялся в фильме «Щит и меч» у режиссера Владимира Басова. Фильм снимался быстро. Это всегда переезды, суета, кропотливая работа, а на экране заняло считанные секунды. И только потом, когда работа завершена и тебе кажется, что тебя вышвырнули «из дома», а ты все ходишь кругами и хочешь прорваться обратно, – начинают всплывать на поверхность воспоминания. Воспоминания об утраченном. Аура еще долго держится вокруг нас, и полное ощущение, что мы все еще те персонажи, что остались на экране. Вацлав Дворжецкий произвел на всю съемочную группу огромное впечатление. Это была личность. Мы полюбили его сразу. И ему было прощено то, что никому не прощалось: Басов оставил его голос на экране, и никогда ни один критик не произнес ни слова о «немецком офицере», говорящем с волжско-омским акцентом. Такова сила правды. И Вацлав Янович занял в кинематографе свое место. Прошло много лет. Мы встретились с Дворжецким в ЦДРИ – я вела его творческий вечер. Зал был заполнен не просто друзьями и знакомыми, здесь были свидетели его жизни, ее разных периодов. Любящие свидетели! Вызываю их из зала. Это действительно трогательные сцены. Прошлое всегда рядом. Вацлав Янович волнуется. Я на правах хозяйки-распорядительницы рядом с ним. Рассказываю, как однажды на съемках фильма «Обмен» познакомилась с необыкновенным человеком – Леонидом Оболенским. Было ему тогда семьдесят четыре года. Прошел год, и он женился. Чувство жуткой потери ошеломило меня. О, если бы я знала, что он хочет жениться, я бы сама предложила ему руку и сердце! Я знала только двух таких людей, и один из них – Вацлав Дворжецкий. В зале овация. Дворжецкий отвечает: – Но я не могу – я женат! – Я сразу догадалась, что женщина в кулисе – ваша жена. Ей плохо слышно. Давайте позовем ее к нам на сцену, иначе она не узнает, что мы все о вас думаем. К вашему торжеству она имеет прямое отношение. 
Рива Яковлевна выходит на сцену. – Нам всем кажется, – говорю я ей, – что вам очень повезло с мужем! Аплодисменты. Она смеется, усаживается в кресло… И пока зал принимает жену, сына, я смотрю на счастливое лицо Дворжецкого и вспоминаю еще одну нашу совместную работу – фильм «Официант с золотым подносом», который снимался уже в 1991 году. Мы жили в ведомственном санатории под Гагрой, на высоком горном откосе, нависшем над морем. И каждый вечер Вацлав Янович с полотенцем через плечо, на ощупь спускался по крутой витой лестнице к морю. Сам, без чьей-либо помощи, как всегда, несмотря на очень-очень плохое зрение – результат лагерной жизни. Никаких претензий, никаких амбиций. Ни слова о своем самочувствии. Он и на сцене принимает поздравления стоя, усадить его невозможно. Что бы ни творила с ним советская власть, перед нами человек – сильный и могучий. Его взгляд сквозь столетие – чудовищное и жуткое, его память, видящая человеческие руины, его манера держаться… Вот он стоит с прямой спиной, веселый и, по-моему, счастливый, оттого что он нужен, что жизнь продолжается, – несомненно, белая ворона из нашего прошлого, из XIX века! Не надо никаких подтверждений – его дворянство от Бога. Человек, вернувшийся с дуэли! Василий Пичул ОН НИ ОТ КОГО НЕ ЗАВИСЕЛ 
Впервые с Вацлавом Дворжецким я встретился в 1982 году, когда снимал во ВГИКе свою дипломную работу по повести Бориса Васильева «Вы чье, старичье?» Это очень трогательная, социально правдивая история, и мне нужен был актер на роль деревенского старика. Я хотел найти не просто старика из киноколхоза, а пожилого человека, в котором была бы глубина. Случайно увидев фотографию Вацлава Дворжецкого, который визуально никакого отношения к простому русскому мужику не имел, я почему-то все-таки решил с ним познакомиться. До этого с его сыном Женей Дворжецким я снимал «Митину любовь», поэтому какая-то связь с этой семьей у меня уже была. Посмотрев Вацлава Яновича в гриме (были сделаны фотопробы), я понял: при всем при том, что он мне очень понравился как человек, он мне не подходит – лицо вовсе не деревенское, внешность довольно холодноватая… Я решил: вряд ли он сможет быть русским стариком из заброшенной деревни, и попытался как-то мягко объяснить ему это, как вдруг он достал платочек и вынул изо рта челюсть… И его дворянское лицо как бы опало, осело к подбородку, и все ахнули. Это было как чудо, я увидел именно то лицо, тот типаж, который мне был нужен. Дальше все было делом техники, потому что фактически картина уже состоялась в эту самую секунду. Не могу сказать, что между мной и Вацлавом Яновичем происходило какое-то особенное человеческое общение. Конечно, были разговоры, он что-то рассказывал, вспоминал лагеря, но я, признаюсь честно, не всегда его слушал… Ведь съемки – это в основном ожидание, и как только что-то становится уже отснятым, то голова моя мгновенно заполняется тем, что должно быть дальше, теми проблемами, которые нужно решить, чтобы это «следующее» состоялось. И часто я просто как бы выключаю звук: смотрю на человека, а сам в это время думаю о своей картине… Но с Вацлавом Яновичем у нас были ровные и очень доброжелательные отношения, мы очень удачно существовали как партнеры по работе, и это «ожидание» всегда заполнялось его рассказами, а он очень любил поговорить. Мне тогда было двадцать два года, и я помню, что его лагерные истории нас всех просто ошеломили – как его арестовали в девятнадцать лет, как он сидел, как пытался выжить… Его никто не провоцировал на эти воспоминания, никто не задавал никаких вопросов, он просто вспоминал что-то и начинал рассказывать, не стараясь никого ни поучать, ни удивить, но воспринималось с шоком. Это сейчас все знают про ГУЛАГ, все читали Солженицына, а тогда мне всё это казалось какой-то виртуальной реальностью, это была первая моя встреча с такой человеческой судьбой, с такого рода материалом. В первый же съемочный день Вацлав Янович простудился, но работа шла своим чередом, поскольку он всех убедил в том, что отменять съемки из-за него вовсе не стоит. И съемки продолжились, но в последний день мы работали в присутствии бригады скорой помощи. Когда стоит камера, а за ней люди в белых халатах, которые со свойственным их профессии цинизмом, держа в руках наготове шприцы, рассказывают о том, как могут повернуться события, "когда человек переносит инфаркт «на ногах», то работа превращается в хаос, не знаешь, как себя вести, как доснять картину, не превратившись при этом в такого же циника… Когда все было кончено и мы стали прощаться, я почувствовал, что Вацлав Янович прощается со мной так, словно мы расстаемся уже навсегда. Конечно, слава Богу, все потом обошлось, но для меня этот день был тяжелым испытанием… В моей картине «В городе Сочи темные ночи» Вацлав Янович сыграл пожилого актера-юбиляра. Мне хотелось создать трогательный, комичный образ старого артиста, но мы все немного перетончили, нужно было работать грубее, это я уже сейчас понимаю… Однако с ним у нас не было никаких конфликтов, недоговоренностей. Он работал в такой, я бы сказал, американской манере, когда актер работает независимо от того, насколько хорош или плох партнер, когда он способен сам вести сцену, никогда ни от кого не зависел, равно как и никого не ставил на площадке в зависимость от себя. Однажды Женя мне рассказал историю о том, как тесен мир. Как-то раз он и его жена Нина сидели и рассматривали старый фотоальбом Нининой семьи. «А вот это, – сказала она, ткнув пальцем в фигурку на групповой фотографии, – второй муж моей бабушки, то есть отчим моего папы». На фотографии были изображены люди, судя по всему, лагерники, окружавшие начальника деда. «А вот это – мой папа…» – сказал Женя через минуту, глядя на фигурку одного из заключенных. Так выяснилось, что муж бабушки Нины и Вацлав Янович познакомились задолго до собственно знакомства Нины и Жени. Вот такая почти апокрифическая история… В фильме «Мечты идиота», снятом мною в 1993 году, есть эпизод, где Шуру Балаганова, которого играет Женя Дворжецкий, арестовывают в метро. В кадре на лавочке сидит седобородый нищий старик – Вацлав Дворжецкий. Этот кадр в кино стал последним в его жизни. Женя хотел быть с отцом всё время и сняться с ним в кино вместе, но как-то ничего не выходило… Он привез отца на съемки этой сцены. Вацлав Янович был уже слепой и совсем слабый. Мне не хотелось ничего придумывать, никакой роли… Мы его просто переодели и усадили на лавочку. В кадре он протягивает на звук руку за милостыней… Это было мое прощание с ним. Так все странно перевернулось… Тогда, в восемьдесят втором, он прощался со мною серьезно и навсегда, и после этого было целое десятилетие бодрой и вполне счастливой жизни. Но в девяносто третьем я понимал, что это уже действительно прощание… Поскольку Вацлав Янович жил не в Москве, а в Нижнем Новгороде и появлялся в моей жизни достаточно редко, то, когда он умер, я не ощутил его смерть – как смерть. Я и сегодня ощущаю, что он существует где-то недалеко, где-то рядом с нами и обязательно еще объявится в той или иной форме. Он стал для меня тем человеком, глядя на которого, слушая которого я понял самое главное: жизнь, несмотря ни на что, – это большое удовольствие. Когда мне совсем становится плохо, особенно в последнее время, поскольку жизнь сегодня нечасто радует удачами и победами, я вспоминаю Вацлава Яновича Дворжецкого – этого очень нежного и доброго старика, который все время звал меня куда-то на Волгу ловить рыбу… Запись и литературная обработка Н. Васиной. Георгий Демуров СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА 
В 60-е годы я вел дневник. По тем временам в театре было заведено, чтобы молодые артисты выбирали себе наставника из старшего поколения. И я, испытывая к Вацлаву Яновичу всяческие симпатии и даже любовь, каждый раз выбирал его. Немало записей в дневнике посвящено моему наставнику. РЕПЕТИЦИЯ
Репетируем, оставшись после спектакля. Время позднее, все злые, уставшие. У всех одна мысль – быстрее слинять. Вацлав Янович, ответственный за репетицию, старается разрядить обстановку, но тщетно. Помахав всем ручкой, оставляет меня и артистку. Щадя Марину, в основном долбает меня. – Мастер! Пока вы не перестанете любоваться собой, ничего в этой роли не получится. Не бойся быть угловатым, неуклюжим, даже неряшливым! Голос у твоего персонажа бесцветный, тусклый. Не носись со своей внешностью и поставленным голосом! Ломай себя. Ведь можешь, когда других копируешь. Заруби на носу – ты острохарактерный актер. И выкинь из туфель эти каски! У тебя нормальный, хороший рост! Поверь, никому не нужно, чтоб ты был на полтора сантиметра выше! Они же мешают нормально передвигаться. А то ведь ходишь – как будто тебе трусы в одном месте натирают. Тут я понял, что у меня есть все основания обидеться и отпроситься в курилку. – Только не делай вид, что ты обиделся и ненавидишь меня! – кричал он мне в спину. – Я знаю, что всё наоборот! И он был прав. Не помню, чтобы мне когда-нибудь удавалось по-настоящему на него обидеться. ГАСТРОЛИ В ОДЕССЕ
Одесса, пляж Ланжерон. Жара нестерпимая. Сегодня Вацлав Янович узнал, что я не умею плавать, и был крайне возмущен, обозвав меня лодырем и размазней. Сам при акваланге, ластах, с кучей каких-то трубок и шлангов, с непромокаемыми часами выше локтя, играя мышцами, вприпрыжку несется к воде, кричит мне: – Что, князь (в зависимости от обстоятельств обращается ко мне по прозвищам: дружочек, мастер, князь – есть в этом что-то лагерное), так и будешь сушить себя на песке? Ведь ты даже представить себе не можешь, что там (указывает на море). Я говорю: – Почему не могу? Рыба. Делая вид, что оскорблен в лучших чувствах: – Рыба в гастрономе! И та – минтай! А там – симфония красоты! Что-то еще хотел рассказать про тайны морских глубин, но то ли споткнулся, то ли запутался ногами в ластах, упал, энергично вскочил, на лице одни глаза, все остальное – в песке. Очень смешно, все ржут, он – радостнее всех. Через мгновение только мы его и видели – сверкнув ластами, ушел под воду. А ведь вечером у него «На дне» – Лука, и щадить он себя не будет, не умеет. Играет он Луку чрезвычайно живо, неожиданно смешно, остро и горько. Никогда не думал, что в этой роли столько юмора. И вообще юмор является неотъемлемой частью его органики как в жизни, так и на сцене. ГАСТРОЛИ В ВОРОНЕЖЕ
Едем на гастроли в Воронеж. В купе Вацлав Янович, я (мы на нижних местах) и еще двое посторонних. Он – прыщавый бугай с волосатыми плечами, пахнет вчерашним пивом. Она – с аппетитными икрами и совершенно плоским задом, сливающимся со спиной. Вацлав Янович, перехватив мой взгляд, негромко и назидательно: – Это оттого, что часто прислоняют к стене. Всю ночь они шумели дверью взад-вперед, взад-вперед. С каждым их возвращением дышать становилось все тяжелее. Вацлав Янович спит как младенец (что значит лагерная закалка), я же, взмокший больше от негодования, чем от жары, до рассвета ворочаюсь с боку на бок. Утром Вацлав Янович бодр и свеж. Я же – вял и раздражителен. Вдруг обладатель волосатых плеч свесил еще более волосатые ноги с татуировками. На одной: «Они устали», на другой: «Им требуется покой». Вацлав Янович, играя желваками, сквозь зубы, но громко: – От дурной головы ногам покоя нет. Через мгновение, показавшееся мне вечностью, бугай осклабился и добродушно прогремел: – Обижаешь, отец, мы старались по тихой все делать. Вацлав Янович: – Да, настолько по тихой, что стука колес не было слышно. От этого бугай пришел в еще больший восторг, достал из-под матраца бутылку пива и торжественно предложил ею позавтракать. На что В. Я. ответил: – Что вы, что вы, голубчик! С утра, натощак, желудок ничего, кроме мизансцен, не принимает! И, не вставая с постели, начал делать дыхательные упражнения по системе йогов. – Ну! – взревел бугай. – Тебе, отец, артистом надо быть! СОЛНЦЕ
Едем на гастроли в Киев. В купе Дворж, супруги В. и я. Не спится. Встаю. На часах двадцать минут шестого утра. В девять должны быть на месте. Вацлава Яновича в купе нет. Супругам В. также не спится – таращатся в газеты. Нарушаю тишину, спрашиваю: – А что, В. Я. передумал и сошел на предыдущей станции? Зло отвечают: – Мы бы не удивились. От него всего можно ожидать. Схватил фотоаппарат и вылетел, как умалишенный, фотографировать восход солнца, как будто из этого окна нельзя было. Смотрю в окно. Говорю: – Восход с той стороны. Пропустили мимо ушей, зашуршали газетами, захрустели печеньем. Да, очень, чувствуется, «любят» Вацека! Оно понятно, артист-то хороший. Забрасываю в рот конфету, иду в тамбур курить, где и застаю сияющего от счастья Дворжецкого. Стараясь перекричать стук колес, обращается ко мне: – Ты только взгляни, какой восход! Какое небо! Смотрю. И действительно, не всегда увидишь такое! – А лес? – продолжает кричать Вацлав Янович. – Смотри, смотри! Видишь, на горизонте макушки деревьев как стрелы вонзаются в кровавое солнце! Вот уже в который раз в свои двадцать пять лет я чувствую себя стариком рядом с этим шестидесятилетним красивым человеком. ПАЛЬТО
Зимний день сегодня солнечный, но ветреный и морозный, градусов под тридцать. Скорее бегу, чем иду. Навстречу так же энергично идет Вацлав Янович, улыбается. Спрашивает, куда держу путь. Говорю – вышел за сигаретами. Предлагает дойти с ним до охотничьего магазина, а оттуда по пути вместе домой – поболтаем. Отказываюсь. – Холодно, – говорю, – замерзаю, у меня пальто, видите, на рыбьем меху. Он, на голубом глазу: – А что не купишь себе теплое зимнее пальто? Говорю: – Бедный я, денег нет. – Тогда ходи по солнечной стороне улицы. Вот Акакий Акакиевич в своей старой шинели ходил по солнечной стороне. Солнце-то у всех есть, и у богатых и у бедных. В ту минуту, стуча зубами, я чуть было не обиделся. А сейчас отогревшись, записывая всё это, понимаю, как важно поддерживать в себе ощущение солнечности. Невзирая на все жизненные перипетии, В. Я. Дворжецкому всегда удавалось это. ГАСТРОЛИ. ОДЕССА. ПЛЕМЯННИЦА
Шестнадцатая станция Фонтана. Лежу. До окончания гастролей осталась неделя. Вчера увидел себя в зеркале голым, отчего восторга не испытал. На теле одни ребра, на лице одни глаза. Полтора месяца гастролей в Одессе в бархатный сезон – мало не покажется. Приеду к маме в отпуск – она не переживет того, как я выгляжу. Все! Надо завязывать! А потому лежу и лежать буду каждую свободную от спектакля минуту. Боже, какое это блаженство – лежать и ничем не двигать! Лежать и ни о чем не думать! И очень хорошо, что не умею плавать, а то размахивал бы сейчас в воде конечностями. Только я об этом подумал, как услышал над собой родной голос: – Нет, нет, он уже не опасен. Это он только с виду такой. А так он даже воспитан недурно. К тому же, если верить слухам, княжеского происхождения! Если его не трогать, он будет только лежать. 
Встаю: – Здравствуйте, Вацлав Янович! – О! Здравствуйте, князь! Познакомьтесь – племянница! Приехала ко мне на оставшуюся недельку погреться на солнышке. Хрупкая, тоненькая племянница смотрит мимо меня и неожиданно басом называет свое имя. Блюдца глаз – цвета мокрого асфальта при полном, как мне показалось, отсутствии зрачков. Боже! Где я видел эти глаза? Вспомнил! На портретах Модильяни. Ни крапинки косметики. Вздернутый нос, не давая верхней губе сомкнуться с нижней, обнажает перламутровый ряд зубов. Кожа цвета слоновой кости. Пахнет утренними яблоками. – Вот так, дружочек! – вдруг громко и победоносно восклицает Вацлав Янович. И я понимаю, что лежать каждую свободную от спектакля минуту – мечта идиота. – Мы, – продолжает Вацлав Янович, – до волнореза и обратно, а ты пока последи за вещами. Тут у меня в авоське минералка, не стесняйся. И они не спеша двинулись к морю. Не знаю, сколько я стоял, глядя им вслед, но когда они уже подплывали к волнорезу (до него 200 м), я оказался между ними. Может, кому-то и показалось, что я плыл неведомым доныне никому стилем, но я не плыл. Плавать я не умел! Я продирался вперед, избивая всеми частями тела окружающее пространство воды, оставляя за собой пенящиеся буруны. Взобравшись вместе с ними на волнорез, я испустил вопль, пытаясь уложить буквы в слова: – В-о-о-т-т т-а-а-к!!! Вот так, вот так, – подхватил, ликуя, Вацлав Янович, – вот мы и научились плавать, дружочек мой, – и тут же вновь вернул меня в воду, столкнув с волнореза. Обратно мы плыли в обнимку, объединяя наши усилия в стремлении не уйти на дно, и, достигнув берега, повалились на песок. Раньше всех оклемалась племянница. – Ну все, я пошла, – деловито сообщила она Вацлаву Яновичу, благодарно целующему ей ручку. И, не удостоив меня взглядом, чеканя шаг, растворилась в лучах солнца. «Да никакая она не племянница!» – осенило меня. – Что, – я сделал попытку докричаться, – Мавр сделал свое дело?! – но, поперхнувшись слюной, закашлялся. – Приманка, подсадная утка! – Ну-ну-ну-ну, князь! Подобного рода выкрики вас не украшают. А что? Как прикажешь заманить тебя в воду, неблагодарный?! – возмущался Вацлав Янович. – В одночасье научился держаться на воде! Скажи спасибо! – А если б я утонул? – все еще кашляя, прохрипел я. – Тебе это не грозит. – Что вы этим хотите сказать? – Совсем не то, о чем ты мог подумать. Боже меня упаси делать в твой адрес подобного рода предположения! Но не научиться плавать, будучи наделенным способностями, которые ты сегодня продемонстрировал, было бы ошибкой. Всю оставшуюся неделю, включая день отъезда, ежеутренне под неусыпным наставничеством Вацлава Яновича я постигал премудрости пребывания в воде. В последний день гастролей, прощаясь, маэстро сказал мне: – Если лодка, в которой ты оказался, дала течь – не паникуй, но и не медли, – прыгай в воду и плыви к берегу. Ты достигнешь его. Смею утверждать, что немногими достижениями, имеющими место в моей жизни, я во многом обязан этому светлому человеку. СНОВА РЕПЕТИЦИЯ
Режиссер А. так ничего и не добился от нас. Люба чуть ли не ревет. Сцена не идет. Голос из темноты зала: – Юрий Александрович! Дайте мне их на часок. Режиссер, махнув рукой, мрачно: – Валяйте! Вацлав Янович взлетает на сцену, по пути имитируя падение на лестнице, мастерски, очень смешно прихрамывает. Все смеются, обстановка разряжается. Его любят. И он начинает. К концу репетиции мы мокрые, счастливые, сцена пошла, задышала. Люба сияет. Режиссер А., смущенный, но довольный, обнимая Вацлава Яновича: – А я что, разве я не то же самое им предлагал? Вацлав Янович мне на ухо: – Одно дело предлагать, другое – делать руками. Идем с репетиции домой, спрашиваю: – Вацлав Янович, а почему вы не преподаете в училище? Замахав руками: – Что ты, что ты! Боже упаси! Тебе что, Ривы Яковлевны мало? На семью одного преподавателя вполне достаточно. А если серьезно (и вдруг под Ленина), это дело, голубчик, архиответственное, а я человек совестливый. СВЕРДЛОВСК. ГАСТРОЛИ. КАМНИ
Просыпаюсь от стука в дверь, телефона в номере нет, зато живу один. Стучат громко й часто. Спрашиваю: «Кто?» В ответ слышу раздраженный голос дежурной по этажу: «Вас срочно к телефону!» Смотрю на часы – без четверти семь утра. Теряясь в догадках, натягиваю брюки, бегу к телефону. Не успев приложиться к трубке, слышу ровный голос Вацлава Яновича. Несколько укоризненно: – А ведь я уже 15 минут как жду тебя, дружочек! – Вацлав Янович! Не помню, чтобы мы договаривались о встрече! Вздыхает. – О, а вот это уже хуже, чем просто проспать! Я внизу, в холле. И больше десяти минут ждать не смогу, иначе мы опоздаем на электричку! – Господи, какая электричка, Вацлав Янович! Я сплю! В ответ частые гудки. Недоумевая, несусь вниз. Сверкая фарфором недавно вставленных зубов, поглядывая на часы при моем появлении, поприветствовав взмахом руки, Вацлав Янович торопится к выходу. Вприпрыжку, застегивая в разных местах пуговицы, преодолевая одышку, пытаюсь задать вопрос, чтобы хоть что-то понять, но не тут-то было. Переходим на бег. И только влетев в полупустой, громыхающий, довоенного образца трамвай, слышу назидательно и добродушно, с болью и всерьез: – А ведь все это, дружочек, результат того образа жизни, который ты ведешь, оказываясь на гастролях. Иначе чем объяснить тот факт, что ты сегодня забываешь то, о чем вчера мы так тщательно договаривались. Ведь как ты загорелся, когда я тебе рассказал о том, что познакомился с крупным коллекционером-минералогом и что мы можем приобрести у него незадорого понравившиеся нам камни. Видит Бог, я слышал всё это впервые, но не стал возражать – так искренне и с такой правдой говорил об этом Вацлав Янович. Уже в электричке он необыкновенно красиво и вдохновенно продолжал рассказывать о застывшей в камне поэзии и о том, как он рад тому, что я, будучи «сыном гор», понимаю и чувствую красоту и обаяние камня. После столь лестных слов в свой адрес «сын гор» лишь кротко пробурчал себе под нос о том, что суточные никак не потянут на «застывшую в камне поэзию», хватило бы на порцию пельменей. Последнее услышано не было, поскольку к этому времени Вацлав Янович возвращал себя к тревожащей его теме о недопустимом образе жизни, от которого я теряю не только в весе, но и в памяти. Почувствовав толчок в бок, я понял, что нам пора выходить, и, не открывая глаз, шаркая, поплелся за ним к выходу. То, что предстало нашему взору, было настолько уныло и серо, что на мгновение блеск фарфора скрылся за тонкими губами, а на нос были насажены солнцезащитные очки, в чем не было никакой надобности. Это была секунда замешательства, и я злорадно подумал: «Ну вот, наконец-то ему нечем восторгаться!» Однако я поторопился. Глубоко вздохнув, потянувшись всем телом и смахнув с носа очки, Вацлав Янович восторженно воскликнул: – Ты когда-нибудь дышал таким чистым, я бы сказал, хрустальным воздухом? Я был краток: – Дышал! Еще и не таким. В горах Армении. – А, ну да! У вас ведь там гора Арарат! А у нас степи калмыцкие, что тоже неплохо для того, кто понимает. Так, пикируясь, приблизились к покосившейся, почерневшей от времени избе с выкрашенной в ядовитый желтый цвет дверью. – Это здесь, – сказал Вацлав Янович. Стучать в дверь не понадобилось. На гвозде висел тетрадный лист в клеточку, и крупный детский почерк сообщал нам: «Уважаемый товарищ Дворжецкий! Свои камни Вы можете обнаружить в двух специальных чемоданах в сарае слева, за углом дома». – Слава Богу, что не в мочевом пузыре, – проворчал Вацлав Янович, явно расстроенный отсутствием крупного коллекционера-минералога. Не дочитав слов извинения, перевернул клетчатый листок и так же крупно написал: «Спасибо за товар, уважаемый товарищ Центриняк. Жмем руку. Дворжецкий и К0». Отошел на шаг, затем вернулся и приписал: «Чтоб Вы знали – запах от яичницы в помидорах да на сале разносится аж до самой станции, что, собственно, и помогло нам найти Вашу запертую изнутри дверь. С лаг. приветом! Те же». Спрашиваю: – Зачем же вы так, Вацлав Янович? – А затем, что дома он, старая лиса! В сарае мы очень быстро обнаружили два фанерных чемодана с ячейками для каждого камня. Представшее нашему взору не то чтобы впечатляло, но завораживало, и отвести от всего этого глаза было невозможно. Не знаю, сколько в минутах, но долго, молча, не притрагиваясь, мы всматривались в эту поразительную радугу из камней. Порой казалось, что это и не камни вовсе. Первым тишину нарушил Вацлав Янович: – Теперь ты понимаешь, дружочек, каким было бы кощунством проспать такое чудо! Вот это, розовый, – сердолик, яшма… Смотри! Голубовато-зеленый агат, кристаллы горного хрусталя. А вот какие-то иглообразные камни с перламутровым блеском… Этот густо-зеленый – халцедон. Видишь, как бархат! Вацлав Янович говорил тихо, придавая голосу таинственность, по-прежнему не прикасаясь к камням, а только указывая слегка подрагивающим пальцем. И мы опять молчали. – А сколько мы должны за эти россыпи? – придя в себя, почти выкрикнул я. – Нисколько. Он их нам дарит! – Ну, а при чем тут я? – Успокойся! Он мне дарит, я тебе. Мы с ним восемь лет в лагерях… А дверь он нам не открыл, чтобы яичница досталась ему одному. Привычка. Он не жадный. Он, скажем так, странный. На обратном пути в электричке мы не раз приподнимали крышки чемоданов, привлекая тем самым внимание пассажиров. Один из них по прибытии в Свердловск, предъявив удостоверение, потребовал проследовать в ближайшее отделение милиции. Все наши клятвенные заверения, что это не мы разграбили гробницу Тутанхамона, разбивались о непоколебимое: «Там разберутся!» Там нас встретили чуть ли не аплодисментами. Буквально с порога Вацлав Янович был опознан дежурным майором, оказавшимся большим почитателем кинематографа. Осыпаемые благодарностями за то, что мы есть, и извинениями за нанесенный моральный ущерб, мы были с почетом препровождены до гостиницы «Урал» на милицейской «Волге». Этот день своей жизни я без преувеличения считаю «Днем рождения Камня». Не скажу, чтобы я тащил в дом каждый приглянувшийся мне булыжник. Но в череде духовных ценностей, которые оставил мне в наследство Вацлав Янович, любовь к камню занимает не последнее место. ТВ
Сегодня наконец-то «вживую» выдали в прямой эфир телеспектакль «Ожерелье для моей Серминаз». Роль у меня трудная, многословная. Очень волновался, но, слава Богу, все обошлось без накладок. Вацлав Янович хвалил, говорил много хороших слов. Мне это очень дорого, врать он не умеет, и я ему верю. Сам же Вацлав Янович играл роль аксакала. Роль небольшая, эпизодическая. Это было потрясающе! Играл легко, без напряжения, грустно и весело. Бесподобный грим, просто неузнаваемый и очень смешной. В студии стоял тихий стон. Операторы то и дело вздрагивали плечами и покусывали губы, дабы не расхохотаться в голос и не сорвать передачу. Закончился спектакль, и все в студии аплодировали Мастеру. Очень обязан я этой семье, не только Дворжецкому, но и Риве Яковлевне, милой, умной, красивой женщине. Я, конечно, влюблялся в нее на уроках по мастерству актера. С Вацлавом Яновичем мы сидели в одной гримерной, и я записывал разные истории, связанные с ним. Но был эпизод, который я не записал. Играем спектакль, а он человек очень пунктуальный. Никто не помнит, чтобы он куда-то пришел с опозданием или что-то в этом духе. Поскольку мы в одной гримерке, сижу, гримируюсь. Вацлава Яновича нет. Помощник режиссера волнуется, но пока еще не шумит. Заходит, поправляет занавески и даже не спрашивает, почему Вацлава Яновича нет. Остается двадцать минут до начала спектакля. Вдруг он врывается, мокрый, совершенно запыхавшийся: «Ни о чем не спрашивай, ни о чем не спрашивай! Я тебе всё расскажу. Хочу попросить твоей помощи. Всё расскажу в антракте, ну, а ты играй первый акт». Играю первый акт. В антракте он мне говорит: «В двух словах, всё остальное опять же потом. Ты представляешь, свалился на голову!» Я спрашиваю: «Кто?» – «Сын! Можешь себе представить, можешь себе представить, хочет быть актером, хочет быть актером! Это безумие! Это безумие, поскольку у него на то никаких оснований нет, в этом я нисколько не сомневаюсь. Я уже не говорю о внешних данных. Ты увидишь его. Я вас познакомлю. И я прошу тебя найти несколько слов вразумить его. Я, конечно же, помогу ему поступить в сельхозинститут, в медицинский. Куда угодно, только не в артисты! По окончании спектакля он будет ждать меня, он прямо с вокзала. Я вас познакомлю». И действительно, выходим на проходную. До реконструкции это было полуподвальное помещение. Одеваемся. В углу, в коридоре стоит высокий, огромный парень в ушанке, в полуваленках (правда, они тогда были модными, вся Москва ходила в таких полуваленках). И с кованым чемоданом, на что я обратил внимание. «Вот, познакомься. Ты хотя бы головной убор снял. Ты в помещении». – говорит Вацлав Янович. Тот снял. Глаза в пол-лица, как у отца, лысина, от которой в коридоре стало светло, и что-то промычал, назвав свое имя. Это был будущий популярный артист кино Владислав Дворжецкий, сын Вацлава Яновича. Я не отважился что-то такое советовать и откланялся. Ну, а как сложилась дальнейшая судьба сына и отца, известно всей России. Воспоминатель, пишущий о дорогих и близких ему людях, пишет немного и о себе тоже, даже и не желая этого. Хорошо, если немного. Я старался. Эра Суслова ОДНА НОЧЬ С ДВОРЖЕЦКИМ 
Не могу забыть одну южную, теплую ночь, которая была связана с Вацлавом Яновичем. Это было в Сочи в 1960 году. Наш Горьковский театр был там на гастролях. Играли в зимнем театре с огромным успехом, с аншлагами. Труппа состояла из очень сильных актеров. Вацлав Янович был одним из лидеров. Главным режиссером был блестящий М. А. Гершт. В тот вечер шел спектакль «Обрыв». Я играла Веру. Роль большая, трудная. После спектакля я не торопилась разгримировываться и вышла из театра поздно вместе с мужем, художником В. Я. Герасименко, и М. А. Герштом. Шли мы в гостиницу через парк. Шли медленно. Слева мы слышали морской прибой, аромат цветов, легкий ветерок касался щек. Огромная луна висела над парком. Мы шли и наслаждались этим воздухом, цветами, ритмом прибоя. Подойдя к гостинице, мы остановились. Не хотелось уходить, покидать этот сказочный мир. Постояв немного, вошли в гостиницу и поднялись на второй этаж. Когда проходили мимо номера, где жил Вацлав Янович, то услышали шум голосов, возгласы, смех. Внезапно открылась дверь, на пороге появился кто-то из актеров и, увидев нас, закричал: «Идите скорее сюда! Сегодня у Вацлава Яновича родился сын!» Мы вошли. В номере было много наших артистов. Кто-то стоял, кто-то сидел на подоконнике и на кровати. На столе – шампанское и фрукты. Центром пиршества был Вацлав Янович. Он ходил, вставал на стул, что-то громко, радостно говорил, произносил какие-то монологи. Актеры, как хор, повторяли его слова. А припев был один: «За сына, за Риву, за Вацлава!» Это была не песня, не стих, это было заклинание. Колдовство. Стихийное и абсолютно трезвое. Широкое окно было открыто. Луна занимала половину окна. Она не двигалась, не уходила, не хотела уходить, казалось, что она сидела рядом с нами. Стоило повернуть голову в сторону окна, как я встречалась глазами с луной. И может быть, она передавала наши вибрации в далекий город Горький и малышу, и его маме. Я смотрела на Вацлава Яновича и не узнавала его. Он был высокого роста и стал еще выше. Огромные глаза стали еще больше. И голос стал другим. Я узнавала и не узнавала его. Это был Вацлав и не Вацлав. С рождением сына родился другой человек. В ту ночь родился не только сын, но родился и сам отец. 
Радость, радость, так редко посещающая нас, жила в тот миг в этом номере. Мы присутствовали при священной минуте – родился человек. Он пришел в мир, когда луна ослепляла нас своим светом, аромат цветов одурманивал запахом, а море ритмично отбивало Время своими волнами. Вацлав Янович работал в нашем театре с большим успехом много лет. В его трудной судьбе я застала и светлую полосу. В ней – мгновение сияния радости. Это было самое яркое впечатление о Вацлаве Яновиче, о новом Вацлаве. Прошло почти 40 лет. Мальчик, который появился тогда на свет, стал известным артистом Евгением Дворжецким. И когда я вижу его на экране телевизора, меня охватывает воспоминание о той дивной ночи. Становится и радостно, и грустно. Грустно потому, что Вацлава Яновича уже нет с нами. Когда я прихожу на Бугровское кладбище и стою у могилы Вацлава Яновича, перед моим взором проходят эпизоды из жизни, и самый яркий – та южная ночь. Впечатления так сильны, что у его могилы мои мысли светлеют. Лилия Дроздова 
О Вацлаве Яновиче Дворжецком говорить легко. Это была удивительная личность. Бог дал ему всё. Мне кажется, что если бы он не был артистом, а стал каким-нибудь ученым, то и ученым был прекрасным. Он был очень талантлив и обладал замечательной внешностью. Бог, если награждает, то награждает всеми дарами. Помню мое первое впечатление о Вацлаве Яновиче. Когда он приехал в Горький, я уже работала в драматическом театре. Главный режиссер представил его: «Вот Вацлав Янович Дворжецкий – новый актер». И встал такой красавец! Я тогда подумала: «Бог мой, ему только королей играть!» С громадными глазами, с благородной осанкой. А потом начались прекрасные дни работы с ним. Первая наша совместная работа была в спектакле «Юпитер смеется». Он отлично играл доктора Друэтта. Там были еще заняты В. Самойлов, Э. Суслова. Это был очень интересный, хороший спектакль. Вообще же играли вместе мы много, очень много. Как-то у меня был творческий вечер на телевидении. И Дворжецкий сказал так: «Я с Лилей играл всех. Я был ее мужем, был ее любовником, был ее отцом, но я еще надеюсь сыграть ее сына». К сожалению, не получилось. Годы брали свое. С Вацлавом Яновичем в моей памяти связано много интересных историй. Мы с ним дружили. Он очень трогательно относился к моему мужу, главному дирижеру симфонического оркестра Израилю Борисовичу Гусману. Однажды мы отдыхали вместе в Крыму. У меня там жил папа, и мы с мужем остановились у него. В доме не было света, а Гусману хотелось побриться. Вацлав Янович жил в доме отдыха, в которой было два корпуса. В одном из них он отдыхал. И он предложил: «Приди ко мне, я предупрежу дежурную, скажи – в 128-й номер. Побрейся, в чем дело?» Гусман пошел к дежурной. Она дала ему ключ. Побрился он, заодно сходил в туалет. Вышел на балкон, удивился – висят какие-то вещи непонятные. Закрыл комнату. Пошел, сдал ключ. Навстречу идет Вац. (Мы всегда называли его «Дворж» или «Вац».) Гусман говорит: «Я сейчас побрился в твоем номере. Смотрю, какие-то странные вещи у тебя». – «А какие странные?» – Он рассказал. – «У меня этого нет». – «Ну как нет? Я же у тебя был!» – «Стой, стой, стой, а ты где брился?» – «Вот в этом корпусе». – «Да ты в чужом номере брился! Я-то вон в том корпусе живу!» 
Он вообще любил делать людям хорошее. Когда мой муж очень сильно болел, была поздняя-поздняя осень, даже снег ложился. А у него было высокая температура, и он попросил арбуз. Я отправилась искать. Стою, жду транспорта. Вдруг подъезжает Вацлав на своей машине. «Ты что стоишь?» – «Да вот хочу купить арбуз». Он говорит: «Давай на машине объездим все рынки». Мы их объездили, но арбуза не купили, кончился сезон. Я возвратилась в больницу. Прохожу мимо палаты, а там восточные люди навещают какого-то своего больного, и у них огромный арбуз уже открытый! Я не постеснялась, попросила у них кусочек и отдала Гусману. Потом позвонила Вацу. «Вац, я нашла арбуз для Гусмана в больнице!» Он очень увлекался подводным плаванием. У него было столько снаряжения: ласты, баллон с кислородом, маска. И вот эпизод, тоже в Крыму. Сидим мы с Гусманом на берегу, и вдруг из глубины кто-то подплывает. Выходит Вац весь в снаряжении для подводного плавания. Я говорю: «Вац (а мы его не видели, он не отдыхал там), ты откуда?!» – «Я приплыл из Ялты». Конечно, он приехал на машине, а переоделся, не доезжая до пляжа, чтобы всех разыграть. Но думаю, что если бы надо было, то Вацлав и из Ялты поплыл бы. Вацлав Янович всем на свете увлекался. Он и машину водил, и рыбаком был прекрасным. Когда театр гастролировал в Вильнюсе, Дворжецкий был там на машине. Он предложил: «Лиля, ты белоруска. Все эти места знаешь. Я тебя приглашаю – давай вместе на машине доедем из Вильнюса до Минска». И мы поехали. Это была прекрасная поездка. Он все умел: и костер развести, и обед приготовить. По пути мы проезжали мимо какого-то старинного католического монастыря, а Вац ведь был католиком. Мы там остановились. Монастырь не был действующим, но вот костел, маленький, провинциальный, был открыт. Погода стояла солнечная. Зашли в костел, и голову Дворжецкого осветило солнце. Это было так красиво! Он молился, разговаривал с Богом. Может, о чем-то просил, может, благодарил за что-то. Я встала в сторонке и просто любовалась им. Он излучал такую духовность, такую красоту! Потом зашли в монастырский двор, посидели на скамеечке и поехали дальше. Мы были в костеле только вдвоем, больше никого, впечатление осталось незабываемое.  Еще одна история связана со спектаклем «На горах», где я играла Флёнушку, а Дворжецкий – Егорушку. Вацлав наклеивал себе в этой роли большие ресницы. Мы до сих пор вспоминаем, как он произносил, глядя на Дуню: «Останься как была!» – пожирая ее глазами под этими мохнатыми ресницами. Но это присказка, а вот и сама история. У нас был знакомый по фамилии Тэн, второразрядный драматург. Его пьесы шли в Театре комедии. Но более известен он был как коллекционер. Мы (я и Гусман) с ним очень дружили, потому что долго жили в одной гостинице. А в Москве, когда были на гастролях, Тэн как-то зашел в театр, а мы с Дворжом в это время читали расписание. И Тэн пригласил нас к себе на квартиру. Дома у него никого не было. Квартира – настоящий музей. Столько картин я никогда не видала. Все стены закрыты русской классикой, западной классикой – богатейшая коллекция. Потом Тэн показал нам картины Константина Коровина. Он сказал: «Коровина у нас в музеях очень мало. На выставки берут всегда у меня». Показал журнал «Огонек», где была статья о нем, о его картинах. А потом вынул из-за дивана свернутую в рулон картину «Послушницы» Нестерова. Это удивительная картина. Юные послушницы гуляли по лугу, плели венки. Все это перекликалось с темой спектакля «На горах» – старообрядцы, жизнь в скитах… Квартира Тэна была напротив Бутырок. И он сказал: «Смотрите, моя квартира напротив тюрьмы. Как бы мне не оказаться напротив». И как в воду глядел. Он оказался в Бутырках из-за картин. Мы все долго потом вспоминали картину Нестерова, гадали, где она оказалась, у кого – я до сих пор не знаю ее судьбы. Дворжецкий, кроме того что был прекрасным актером, был еще и прекрасным отцом. Очень переживал за своих детей. Как-то я встретилась с Вацем у театра. Рядом с ним стоял высокий молодой человек. Он попрощался и ушел. Я спросила: «Дворж, кто это?» – «Это мой сын. Из Омска едет на пробы. Конечно, он не пройдет. Ты посмотри, какая у него внешность. Он работает в Омске, в драме. Играет всяких червячков, паучков и прочее, и прочее. Радости никакой от этой жизни. Я ему говорил в свое время: занимайся медициной! Он окончил медицинское училище. Но вот, видишь, так у нас в крови, в роду, что нас всех привлекает искусство. Вот и он в театре. Трудно ему работается, и настроение всегда плохое. Сейчас пригласили на пробы на «Бег». Но сын пошел по стопам отца и стал великим актером. Я благодарна судьбе за дружбу с таким замечательным человеком и артистом. Не забуду его творческий вечер в Доме актера, когда он вышел на сцену весь в программках. Вацлав был горазд на выдумки. Талантливый человек, во всем талантливый. Вышел красивый, большой. Он никогда не был стариком. Уже ходил слепой, с палкой, а не был дряхлым. А тело какое красивое! Какие у него были руки! И ведь такую фигуру он приобрел не на тренажерах в спортивных залах. Тело ему сделал на рудниках и в лагерях наш диктатор. Судьба трудная, яркая. Но ведь не зря говорят: «Не пройдя того ужаса, я бы не был так обогащен». Люди, прошедшие тот ад, как правило, очень стойкие, умеющие ценить жизнь. Одна из наших последних встреч с Вацлавом Яновичем произошла в троллейбусе. Он ехал в СТД. Я спросила: «Вац, как же ты?» – «С горем пополам добираюсь». – «Как ты живешь?» Он ответил: «Лиля, слепым быть интересно, – даже в этом состоянии, когда человек теряет зрение, он нашел что-то новое. – Ты знаешь, я сейчас в основном слушаю записи, классику. Различных чтецов. Так интересно! Всю жизнь, всю природу воспринимать только на слух. Как много нового я узнал!» Таким сильным, мужественным был этот человек, который жизнь отдал искусству и театральную судьбу передал сыновьям. Раиса Батурина 
Вацлава Яновича пригласил в наш театр замечательный режиссер Мейер Абрамович Гершт. Но еще до этого мои друзья из Саратова писали мне: «Имей в виду, к вам едет чудесный артист, Вацлав Янович Дворжецкий. Мы очень жалеем, что он от нас уезжает, так как он прекрасный актер и человек. Обрати внимание». И вот – наша первая встреча. Выглядел он прекрасно: высокий, стройный, подтянутый, хорошая спортивная фигура. Я сразу подумала: вот, наверное, наш герой. Однако в нашем театре он начал не с главных ролей. Вацлав Янович был удивительный мастер эпизода. Даже в эпизоде было видно, что Дворжецкий большой актер. Он вел себя очень скромно. Я знала, что его судьба была трагичной, что он пережил ГУЛАГ, но сам он никогда об этом не говорил. И никогда ни о чем в театре не просил. И, разумеется, не просил ролей. Актер должен иметь ощущение полноты жизни, только тогда на него интересно смотреть. Дворжецкий обладал завидным ощущением жизни. Ведь как жизнь его била, как била, бедного, но он не потерял остроты чувств. И какова бы ни была эта жизнь, он так ее любил! Мы были на гастролях в Ленинграде. Вацлав Янович меня и еще одну актрису возил по окраинам, показывал нам какие-то травки (я и названия-то их не знаю) и рассказывал о них с редкостным увлечением и любовью. О пчелке тоже мог рассказывать долго и увлеченно. И человеческое горе, и радость он чувствовал очень тонко, поэтому с ним легко было говорить. Я звала его Вацлавик и Дворж: «О, Дворж приехал!» Мы играли с ним в пьесе «Орфей спускается в ад». Он был замечательным партнером, очень помогал мне. Здесь надо вот что отметить: Вацлав Янович любил и умел гримироваться, был удивительным мастером грима, а в наше время на это мало обращают внимания. Он играл Джейба Торренса, человека страшного, жестокого. Мы репетировали финальную сцену, он спускался с лестницы, я бежала ему навстречу: «Смерть, я не боюсь тебя!» Я сказала ему: – Вацлавик, ты должен быть похож на смерть, а ты такой красивый. В ответ он только засмеялся. А когда началась генеральная репетиция, он сделал грим. Это было что-то страшное. Я сразу испытала подлинный ужас. Но дело было не только в гриме. Он помогал мне вжиться в роль, углубить ее. Не каждый актер может так работать на сцене, постоянно помогая партнеру. От Вацлава Яновича буквально исходили флюиды. Он по-настоящему знал жизнь, в роли у него всегда чувствовалась прожитая судьба. Дворжецкий был глубоким актером, внутренне, от истоков постигал образ. Замечательно читал стихи и прозу. Сыграл много отрицательных ролей – с такой-то внешностью, с такими чудными «говорящими» глазами. Это ведь не просто фраза: глаза – зеркало души. Они могут и приласкать, и обидеть. У Вацлава Яновича глаза были очень выразительные: огромные, голубые, обычно смеющиеся. Он никогда ни о ком не говорил со злобой. В его характере было заложено стремление прощать. Может быть, он и не простил советской системе того, что с ним сделали, но на людях за грехи власти не отыгрывался. Дворжецкий скептически относился к разным канцелярским бумажкам, удостоверениям. Мне, например, не дали удостоверения, что я была во фронтовых артистических бригадах, и я это переживала. Пожаловалась ему. А он мне: – Глупая ты все-таки. Неужели тебе нужна эта бумажка? Ты ведь жалеешь, что тебе деньги не дают. Наплюй! А сам на своем юбилее появился в балахоне из мешковины, а все почетные грамоты нашиты на задницу! В нашем репертуаре бывали такие спектакли, названия которых я и не вспомню сейчас. В пьесе под названием, кажется, «Куда текут реки» я играла большого партийного деятеля, а Вацлав Янович – прохиндея Сидорцева, инженера горкомхоза. И вот вся моя роль – как передовица из газет того времени (это был пятьдесят восьмой год). Я ему говорю: – Вацлавик, я свою роль сыграла! Он смеется: – Как это? – Всю передовицу в газете наизусть выучила! Он так надо мной хохотал! С ним хорошо было играть, он умел радоваться за партнера. После спектакля обнимет, поцелует: «Ты молодец, что все поняла!» Вместе мы играли в спектаклях «Фальшивая монета», «Ричард III», «Дачники». Он был актер очень тонких и выразительных красок. Исключительно хорош он был в спектакле «Юпитер смеется», где его партнерами были Владимир Самойлов, Эра Суслова и Лилия Дроздова. Спектакль этот прекрасно принимали зрители не только в Горьком, но и на гастролях. В Ленинграде, например, зрители очень долго артистов не отпускали со сцены. Кричали «браво» и даже «ура». В театре его любили все: и артисты, и гримеры, и парикмахеры, и рабочие. От него шло столько ласки, обаяния, без которого ему невозможно было сыграть даже отрицательного героя. И от Дворжецкого пошла еще такая отличная традиция: в Доме актера за чашкой чая он собирал «стариков» (старых актеров, ветеранов), и они там общались. Его все вспоминают с благодарностью. Дворжецкий был актер от Бога, родился актером. И при этом не имел никаких званий (лишь в конце жизни он стал народным артистом России), потому что был когда-то репрессирован. Я считала его своим другом, хотя дома у него не бывала. В моей жизни был трагический момент, когда умерла внучка. Вацлав Янович был знаком с нашей семьей. И я его как-то спросила: «Как мне быть?» Он ответил: «Ты в Бога веришь?» Я говорю: «Не знаю». Нас ведь воспитывали атеистами. Тогда он мне сказал: «Вот я какую молитву читаю. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя…» Это молитва оптинских старцев. Я у него переписала и выучила и теперь читаю. Вацлав очень любил и умел делать подарки. Дарил радость, даже когда самому было тяжело, плохо. Вот эпизод, который запомнился навсегда. Я готовилась к своему юбилею: 75 лет, 55 лет в театре. Директор театра лежал в больнице, и некому было мне помочь. Я со слезами пошла к Вацлаву: «Что же мне делать?» Он подсказал, к кому обратиться, и мне помогли. Конечно же, я пригласила его гостем на юбилей, и какой же он мне сделал подарок! Объявляют: юбиляршу поздравляет Вацлав Янович Дворжецкий. До того он сидел в зале. И вот взлетает, словно юноша, по лесенке на сцену. А сам красивый, неизменно подтянутый, и борода большая серебряная, как у патриарха. Я кинулась ему навстречу, протянула руки, ведь он уже был совсем слепой. Я хотела ему помочь, но Дворжецкий жестом, исполненным достоинства, отвел мою руку и поднялся на сцену сам. Я растерялась. Сценарий вечера был известен, я со всеми репетировала. И тут вдруг слышу собственный голос! Вацлав Янович выбрал сцену из спектакля «Дачники» и где-то нашел фонограмму. Мы играли в нем вместе: я – Юлию, он – Суслова. Мои реплики звучат по радио, а он произносит свои, отвечает живым голосом. Это было для меня самое дорогое поздравление. Зрители тоже приняли его очень тепло и долго нам аплодировали И все признали, что это из всех поздравлений лучшее. И еще это был его последний выход на сцену в 1993 году. В том же году Вацлава Яновича не стало. Я его любила как большого актера и человека. …Когда я стояла перед его гробом, то не могла выступить, не могла найти слов. Словно чувствовала какую-то вину. Мне казалось, что с его уходом из нашего театра уходит справедливость, правда. Уходит настоящий человек. Самое дорогое – когда годы проходят, а человек остается в памяти. Вацлав Янович Дворжецкий остался в памяти у многих. Александр Панкратов-Чёрный НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ 
В 1965 году я поступил в Горьковское театральное училище. С начала учебы мы, студенты, получили возможность не только посещать каждый вечер театр, смотреть спектакли, но и принимать участие в некоторых постановках, где требовалось большое количество массовки или групповки, автоматически став артистами «миманса». Среди моих однокурсников больше всех повезло мне – доверили крохотную рольку гонца к Ричарду III, который в последнем акте выбегает из-за кулис со «страшным известием»: «О, мой король! Уж Ричмонд близок!..» И так далее, сейчас уже не помню, что там вложил в мои уста великий Шекспир. Студенты, а многим из нас было по 15-17 лет, имели счастье оказываться на сцене театра, в кулуарах, гримерных с такими (для нас великими) артистами, как Н. А. Левкоев, В. И. Разумов, Н. С. Хлибко, В. Я. Самойлов и, конечно же, Вацлав Янович Дворжецкий. Было фантастически интересно наблюдать за ними, учиться у них, молиться – боготворить. Быть свидетелем, как эти мастера готовятся к спектаклю, одеваясь в сценические костюмы, гримируясь, кто-то – шутя, бросая реплики, подсмеиваясь над коллегой, кто-то – ворчливо, делая замечание костюмерам, кто-то просто возмущаясь, обнаружив чей-то незначительный просчет. Кто-то «травил» анекдоты, вспоминая работу в других театрах, о давно прошедших встречах, знакомствах… Для нас, молодых, было интересно всё. Я наблюдал за всеми, особенно за В. Я. Дворжецким. Реагируя на всё, что его окружало, он, так мне думалось, при происходящем как бы не присутствовал, хотя реакции его на анекдот ли, на чью-то вспыльчивость или, наоборот, серьезный рассказ всегда были остры, динамичны по характеру проявления, а если говорить о «физике», то это всегда была пластика, выраженная в каком-то неожиданном жесте, в повороте головы или туловища. Почему-то мне казалось, что он был очень музыкален, хотя ни разу не видел его играющим или поющим. Музыкальность жила в его пластике, а может быть, он сам – весь – со своей органикой жил в музыке и в пластике окружающей его среды. Поэтому не случайно ему в театре была поручена роль Александра Блока в пьесе «Вьюга». Он обладал удивительным слухом и прекрасным зрением, эти два качества тратились им нещадно – потому, вероятно, в последние годы и то, и другое было потеряно. Помню, когда он отмечал получение звания «Народный артист России», был творческий вечер в актовом зале ЦДРИ, и я, выйдя к нему на сцену, заговорил (а для меня присутствие на этом вечере было предметом гордости, тешило мое тщеславие) – я волновался, как мальчик на экзамене. Разве мог я допустить, что мне доведется присутствовать при столь долгожданном событии – долгожданном не Вацлавом Яновичем, а его зрителями, его поклонниками, потому что те, кто искренне относился к театру, к творчеству этого замечательного артиста, мастера, все знали, что власть предержащие не давали ему званий на протяжении всей творческой жизни. Даже после реабилитации эти чинуши, а в этом я уверен, боялись, не смели и не хотели оказывать внимание художнику, который никогда (а я его знал, наблюдал более тридцати лет и знаю, о чем говорю) ни у кого ничего не просил, ни перед кем не «гнулся». Он был горд и независим, если в чем-то и нуждался, так это в «чашечке кофе», чтобы слова сочинять, придумывать, репетировать, путешествовать (черт знает где), снимать свои любительские фильмы, сниматься в кино, смотреть работы коллег и так далее. Так вот, на сцене ЦДРИ я заговорил и увидел, как он напрягся, чтобы узнать, кто же это. Зрение уже было слабым, если не сказать больше, но слух еще жил, и он, как мне казалось, с неуверенностью и даже детской робостью, боясь из-за своей природной, не выбитой лагерем интеллигентности – не обидеть бы неузнаванием, – проговорил: «Шура?.. Шура… Это же – Шура Панкратов!» – «Да, Вацлав Янович! Это я – Панкратов…» Он обрадовался, как ребенок: не тому, что я здесь оказался, рядом, он и не сомневался, уж если я, узнав, что будет вечер В. Я. Дворжецкого, и я окажусь в Москве, то, естественно, буду присутствовать, участвовать… Он обрадовался тому, что угадал, что – не ошибся… Для него не ошибиться значило больше, чем для любого смертного. Не ошибиться для него имело огромный смысл – философский, важный… Его судьба пережила всю страшную историю России на себе из-за чьей-то «ошибки», оплошности, мелкой гадости. С юных лет, со студенческих, до зрелости эта «история» бросала его со сцены – в барак, от «блатарей» – к интеллигентным людям, от несчастных и униженных – к сытым и хамящим быдлам. Целых пятнадцать лет жизни и потом, после этих пятнадцати страшных лет, столько еще на пути приходилось сталкиваться с подозрительностью, недоверчивостью, завистью и клеветой, но сколько же в этом человеке аккумулировалось доброты, радости, любви и надежды, веры в хорошее, веры в людей. Как много он умел – жить, любить, удивляться, восхищаться и работать, работать, работать. И всё-всё отдавать другим. Не случайность, а закономерность, что его этапная работа – Лука в пьесе «На дне» М. Горького. Не зря он вышел на сцену ЦДРИ в этой роли, чтобы отметить получение высокого в нашем Отечестве звания. И как органично было явление его бывших товарищей, еще живших, таких же народных, прошедших с ним лагеря и тюрьмы людей, артистов. Это было настолько неожиданно. И о лагерях, допросах эти седые люди вспоминали и рассказывали как о необходимости, которой «наградили» народ и страну любители революций и репрессий. И не было зла, и не было желания мстить. Была память и уважение к людям, с которыми, снимая фуфайку из барака, надев фрак, они поднимались на сцену, чтобы на какое-то мгновение жизни уйти от страшного и увести за собой других в иной мир, в иное измерение… Чтобы выжить духовно и дать эту возможность другим, сохранив свое «Я» под фуфайкой в холод и голод. Союз кинематографистов (поздно, очень поздно, но слава Богу) добился для Дворжецкого звания «Народный артист России», минуя звание «Заслуженный артист России»… Это была милость, в которой уже давно, а может быть и никогда в жизни, он не нуждался. Вацлав Янович знал, что зрители его любят, ценят, а у него, как у каждого индивидуально творящего, был свой зритель, он даже и нас, зрителей, ни у кого не отбирал, не перехватывал. Он нас поражал и заражал тем, в чем всякий смертный испытывает нужду, – искусством. Спасибо Всевышнему, что на нашей Земле, в нашем Мире нет-нет да и появляются такие, как он, как Смоктуновский, Ефремов… 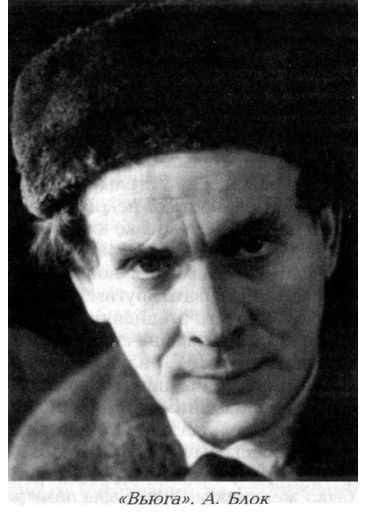
После премьеры спектакля «Вьюга» А. П. Штейна в Горьковском драматическом театре мы, студенты театрального, пригласили Вацлава Яновича в училище поговорить с ним об этой роли, о роли Александра Блока. Не потому что спектакль удивил – удивил Дворжецкий, причем весь город. Во-первых, совершенной непохожестью на Блока и вместе с тем – похожестью абсолютной. Как ни странно, именно этот парадокс явился тем, что многих, во всяком случае меня, заставило иначе взглянуть на Блока как на личность, как на художника, увидеть трагедию поэта, который сказал о себе: «Во мне все сгорело!» Вот это «аутодафе» революции актер и сыграл, дал зрителям почувствовать и подумать! Думаю, потому тогдашние власти и не позволили долго жить этому спектаклю. Поражали глаза актера. Синие-синие, огромные, горящие изнутри. Это синее, какое-то газовое горение души, как бы свет угасающей ауры поэта, чувствовал зритель. Когда поэт – Дворжецкий – привставал из-за столика ночного ресторана, хотелось привстать в зрительном зале следом за ним. Как больно звучали его слова – слова Блока, – когда Дворжецкий, осмотрев окружавшее его пространство, людей, выходил на авансцену к зрителям, глядя уже куда-то за зрительный зал – вдаль… не мигая (широко распахнутый взгляд), и произносил: «Русь моя!» Зрители невольно оглядывались и, ничего, кроме тьмы за собой, не увидев, ощущали не только пустоту, но и боль, – и от этого становилось не по себе, охватывала тревога, необъяснимо… Вацлав Янович долго рассказывал о спектакле, о своих коллегах, о Блоке, об истории. И я помню, когда спросили: «А что для вас роль – вообще… Как результат работы?..» – Вацлав Янович улыбнулся и сказал: «Роль для меня, говоря словами человека мыслящего образами, – это одна сплошная лента, она тянется из-за кулис, может быть, из твоего актерского прошлого, может быть, из твоего человеческого, и уходит опять за кулисы. Словом, исчезает за занавесом, но на этой ленте актер обязан поставить три, может, пять очень ярких точек. Если зритель увидит две такие точки – очень хорошо, три точки – отлично, а если все пять – значит, роль сделана, значит, ты, актер, не зря ешь свой хлеб». У Вацлава Яновича Дворжецкого точки были всегда видны. 
На удивительных психологических контрастах была выстроена роль Бекингема в «Ричарде III». На тончайших нюансах жил его профессор в спектакле «Юпитер смеется». И о каждой роли можно говорить много и много, так же как и о его киноролях. Он всегда был «современен» в хорошем смысле этого слова, любая его роль имела будущее, она уводила нас за рамки пьесы, за рамки кинокадра. И уводил он нас в Прекрасное, где всегда – мысль, чувство. А это так необходимо нам, смертным, и этого так не хватает после ухода Вацлава Яновича и его удивительного сына Владислава – без них холодно и неуютно. Но есть младший сын – Женя Дворжецкий. Дай Бог ему продолжить то, чему отдали свои жизни брат и отец, чему продолжает служить мама – Рива Яковлевна Левите, верный друг Вацлава Яновича, педагог и режиссер театра и моя учительница. Дворжецкие, в этом нет сомнения, в культуре, как на «сплошной ленте», всегда будут «точками», и эти «точки» будут всегда видны нам, зрителям, друзьям, коллегам. Низкий поклон за всё, что было, есть и будет… Михаил Жигалов СТАРИК 
С Вацлавом Яновичем Дворжецким мы встретились на спектакле «НЛО». Поставила его Галина Борисовна Волчек, а режиссером был Михаил али-Хусейн. Это был откровенный парафраз «Утиной охоты» Вампилова. Написал эту пьесу Володя Малягин, тогда еще первокурсник Литературного института. Там – Зилов, здесь – Мазов. Там официант – как бы друг, здесь официант – друг, но тоже оказывается «как бы»… Главный герой просыпается с большого перепоя, и наступает момент, когда жизнь, что называется, подошла к самым ноздрям, еще чуть-чуть – и… можно захлебнуться. Но принципиальное отличие нашей пьесы было в том, что если там Зилов «сдавался», то здесь всё заканчивалось тем, что главный герой Мазов, которого я играл, все-таки находил огонек в конце туннеля, все-таки звучала в финале какая-то надежда. И вот в этот критический момент своей жизни мой герой случайно в ресторане встречает Старика, которого играл Вацлав Янович. Мой герой, сидя за своим столиком, слушал разговор, который происходил между Стариком и его дочерью (ее играла Лиля Толмачева). Старик когда-то их бросил, и, судя по всему, такая развязка семейных отношений была не единственной в его жизни… Но персонаж Вацлава Яновича тоже оказывался на какой-то этапной точке своего существования, на определенном рубеже, который он должен либо перейти, либо «сдать все свои позиции». Дочь обвиняла отца в несложившейся жизни своей матери, в своей неустроенности, в их брошенности, в беспросветном одиночестве… Затем дочь уходила, оставив своего отца наедине со всем высказанным, мой герой подсаживался к Старику, и между ними завязывался разговор. 
Два человека разного возраста оказались на одной и той же точке, на переломе. Они встретились, и каждому из них нужен был другой, тот, кто выслушает всё от начала до конца, кто-то новый, кто увидит всё беспристрастно, со стороны… Всего, конечно, невозможно рассказать друг другу вот так за один вечер, и они договариваются встретиться на следующий день здесь же, в этом ресторане. Это слышит официант, человек из компании Мазова. И когда назавтра Мазов приходит на эту встречу, официант – его бывший друг, из одной компании, с которой Мазов решает больше не иметь никаких дел, – дает знак своим ребятам. Те, спровоцировав драку, избивают моего героя, заломив руки, связывают, упрятывают под стол со скатертью, свисающей до пола, и садятся за этот стол. Я брыкался как мог, получая тычки и пинки под столом, а в это время официант говорил пришедшему старику: «Да, приходил ваш вчерашний знакомец и так нехорошо о вас говорил… Просто облил вас с ног до головы такой грязью, такими помоями… И даже попросил, чтобы вас, «старое дерьмо», сюда больше не пускали». Вот ведь какие люди бывают…» Старик уходил, не проронив ни слова. Таким образом, у Вацлава Яновича по сути было только три сцены в этом спектакле, единственном, сыгранном им в театре «Современник». Галина Борисовна с Мишей очень долго искали исполнителя на эту роль и даже вели переговоры с Сергеем Апполинариевичем Герасимовым… Нужен был человек в возрасте, которому далеко за шестьдесят, но по сути еще молодой, живой, который вовсе не считает, что жизнь уже прожита и пора удалиться на покой замаливать грехи… Но в то же время во внешности, в темпераменте исполнителя этой роли не должно быть «коня», «кобелины»… Таким артистам очень трудно сыграть органично всю сложность перерождения героя, «сбрасывание кожи», которое происходит со Стариком в этом спектакле. Его прежняя жизнь, в которой он уходил и бросал много раз, за которую его мордовала в ресторане дочь, она всего лишь часть большого потока. И эта часть уже ушла от Старика, он исчерпал ее и стал другим. Вацлав Янович играл совершенно замечательно – проникновенно и неспешно. Как бы ничего не играя… Для меня, как и для Дворжецкого, это была тоже первая работа в новом коллективе, в новой труппе. Я работал в Центральном детском театре. Галина Борисовна пригласила меня на главную роль, и «НЛО» стал моим дебютом в «Современнике». Мы с Вацлавом Яновичем оба были «со стороны» и оба в каком-то смысле оказались на одном рубеже. Я вообще мечтал играть в этом театре и только еще обдумывал, как к нему подступиться, и вдруг – приглашение на главную роль!.. Мы много репетировали, общались, ходили, гуляли, я его часто провожал до метро – одним словом, мы сблизились. Я понял, что у Вацлава Яновича был какой-то свой мир, в котором он жил и который бережно охранял. Он очень много рассказывал, но… никогда не доводил свои рассказы до конца. Поначалу это было немного странно для меня, но я быстро привык. Он рассказывал о сыне Женьке и безумно гордился всеми его успехами. О Владе говорил «впроброс», мол, ну, с ним-то все понятно… В том малом, что Вацлав Янович говорил о Владиславе, мне даже показалась какая-то полушутливая и полусерьезная профессиональная ирония – мол, Актер Актерычем стал!.. А вот за Женьку очень здорово волновался: как экзамены сдаст? в какой театр попадет? как устроится?.. Он рассказывал о своей прежней жуткой жизни, о том, что его спасало в лагерях и т. д., но все это были фрагменты. Яркие, но незаконченные. Обрывки… Он начинал говорить и вдруг, как будто вспомнив о чем-то другом, замолкал и переходил к совершенно иному или просто обрывал себя и затихал. Я понимал: жизнь-то у него какая была – ого-го! Какой страшный путь… Может быть, и не стоит лезть с уточнениями, переспрашивать: а что было дальше? а та история чем закончилась? Несколько раз я попытался: «Вацлав Янович, а вот вы вчера недорассказали…» – «Да? А-а-а-а… Да-да-да… А вот знаешь, однажды…» – и опять возникала какая-то новая история. Между нашими героями там, на сцене, самым главным была внезапная обоюдная нужда друг в друге, несмотря на то что их общение по пьесе было довольно жестким. Наше человеческое общение с Вацлавом Яновичем со временем тоже приобрело черты не дружбы, но тяги друг к другу. И я понял, что эти его «уходы» от завершения начатых историй и рассказов, неожиданные переходы на другую тему нацелены на завтра, на послезавтра… У меня возникло ощущение, что недосказанные развязки, такое легкое маневрирование между темами – это не просто очень свободный полет его мыслей, его фантазии, его памяти. В этом заключена какая-то большая мудрость, глубина. И свое общение со мною он строил именно так: сознательно, чтобы все время оставалось главное – интерес, взаимное притяжение, желание общаться друг с другом дальше. Причем общаться не по-светски, не фальшиво, а по-настоящему, с подлинным интересом. И если он возник, то его необходимо беречь. Мне кажется, что интерес вообще был главным поводырем в его жизни. Интересно ему играть в театре – он играл, интересно рыбу ловить – ловил рыбу, разводил пчел, присылали интересный сценарий – бросал пчел и летел на съемки и т. д. Он никогда ни от чего не зависел и делал только то, что ему нравилось. У него был какой-то колоссальный внутренний стержень, но при этом мягче человека я просто не встречал. Он пришел в «Современник» открытым, даже порою обезоруживающе открытым, и все это в театре сразу заметили. А ведь у нас как: чем больше открыт человек, тем большая возникает настороженность к нему: черт его знает, что выкинет? как отреагирует? где не сможет промолчать? Даже Галина Борисовна, мне кажется, иногда пасовала сделать Вацлаву Яновичу замечание или внести какую-то поправку в его работу на репетиции, хотя у нее задержек с этим не бывает. Вацлав Янович сам подходил ко мне и спрашивал: «Слушай, Миша, ну чего она молчит? Ведь я чувствую, что ее не всё устраивает в том, что я делаю, но почему нельзя мне об этом сказать?..» И тогда он подходил к ней сам. Я думаю, что для него эта роль была не просто очередной ролью, а какой-то очень важной смысловой акцией, может быть, даже связанной с его собственной жизнью, его реальными мыслями и ощущениями. Он ведь был не только актером, но и режиссером-постановщиком и волей-неволей пришел в эту работу уже со своим решением спектакля и своего образа. Это происходит автоматически: когда режиссер читает пьесу, он уже видит, как ее поставит. Но его решение, естественно, никому в «Современнике» не понадобилось, спектакль был поставлен гораздо жестче, чем была написана пьеса. Но Вацлав Янович запросто мог поспорить, предложить что-то свое… И в разговорах со мной он иногда делился своим видением сцены, разбирал то, что получается у нас в репетициях, говорил мне, с чем он категорически не согласен, и размышлял, как плавно перейти от того, что ему не нравится, все-таки к своему решению. Искал внутренний ход, оправдание этой, положа руку на сердце, довольно распространенной актерской «хитрости». С ним было чрезвычайно легко существовать партнерски. Он был абсолютно открыт и прост. Мог подойти и спросить, посоветоваться со мной (!): как здесь лучше сделать? тебе будет удобно, если я вот здесь сделаю так?.. Я на него смотрел как на «утес», а он со мною советовался… и я просто изумлялся. А иногда у нас получалось мимоходом переглянуться, как бы свериться друг с другом прямо во время спектакля, перемигнуться, мол, у тебя все в порядке? все хорошо! я ничего не напутал? не волнуйся – в порядке!.. «НЛО» мы играли и возили несколько лет. Уже поиграли в нем и Марина Неёлова, и Лена Майорова… И в какой-то момент стало ясно, что все труднее и труднее согласовывать репертуар «Современника» с Вацлавом Яновичем. Он мотался из Нижнего в Москву, из Москвы на гастроли со своим театром, откуда-нибудь из Воронежа ему приходилось лететь сразу, допустим, в Минск, чтобы успеть отыграть наш «НЛО», и опять куда-то лететь… Согласовать всё это было очень сложно: случались накладки, из-за чего на нем просто не было лица. Он ведь был профессионально очень дисциплинирован, и если, например, опаздывал на репетицию, то сам огорчался больше других… И Вацлава Яновича заменили другим актером. Он очень переживал замену, но понимал, что это производственная необходимость. 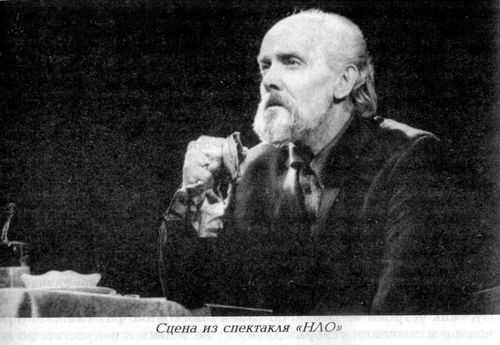
Он научил меня одному психологическому приему, которым он сам, я думаю, пользовался постоянно. У меня случилась беда (скажу только, что все мои переживания были связаны с женщиной), и я ходил сам не свой. Вацлав Янович, видя мое состояние, понял всё молниеносно, подошел ко мне и, ни о чем не спрашивая, посоветовал отнестись к сложившейся ситуации по-другому, иначе: мол, отнесись к ней так, чтобы она если не обратилась тебе на пользу, то хотя бы не мешала тебе. Есть такая мудрость: «Если ты не можешь изменить ситуацию, то измени свое отношение к ней». Ее я услышал много позже, но именно Вацлав Янович научил меня этому приему, который с тех самых пор, вот уже двадцать пять лет, меня здорово выручает… Запись и литературная обработка Н. Васиной. Юлий Волчек КАК УСТРОЕН ЧЕЛОВЕК4 
В жизни Вацлава Яновича Дворжецкого отчетливо проступают два разных ритма: ритм «делания» – с перевозбужденными нервами, с победами над усталостью, с азартом бесконечных импровизаций – и ритм «созерцания», когда поспешность становится враждебной ему. На протяжении десятилетий два этих начала то враждовали, то примирялись. Возникали они не случайно. Дворжецкий, актер-психолог с постоянным интересом к тому, «как устроен человек», по-своему постоянно размышляет о решающем значении «сверхзадачи» – не только в искусстве, но и в реальной жизни человека, о том, что путь вослед за брошенным камешком может вести и к добру, и к злу в зависимости от главной цели, что человеку деятельному, много занятому в жизни необходимы часы пересмотра самого себя, и этот «бунт человеческого духа», эту искру самосознания всегда должно приносить искусство. Но лирическая и философская сущность его творчества как бы несколько зашифрована постоянным стремлением к характерности. Он не знает ограничений рамками современного либо классического репертуара. Он не знает «специализации» на отрицательных либо положительных образах. Дворжецкий одинаково убедителен в облике советского ученого Вязьмина («Все остается людям» С. Алешина) и фашистского оберштурмбаннфюрера Грейфе («Операция «С Новым годом!» Ю. Германа). Он легко переходит возрастные барьеры. Семидесятилетний старец профессор Шанхаузер («Жаркое лето в Берлине») соседствует в его творчестве с двадцатисемилетним Егорушкой Денисовым («На горах»). Он удивительно «восприимчив» к профессии героя, его образовательному уровню, кругу интересов, и учитель Терехин («Палата» С. Алешина) так же неоспорим у него в своем профессиональном существовании, как и председатель колхоза Иван Степанович в антоновском «Разорванном рубле». 
Он замечательный мастер грима и внешней характерности, но никогда не ограничивается внешним подобием, всегда воссоздает живые натуры людей, их суть. Трудно забыть впечатление от доктора Друэтта в спектакле «Юпитер смеется». Натопорщенный халат с воротничком, не прилегающим к шее, удивительно неуютный и необжитый, хотя и совсем не новый, подчеркивает неустроенность старика. Кажется, у него нет в жизни ничего, кроме медицинских опытов. Он мог бы и ночевать прямо тут, в кабинете. Но не потому, что научные исследования или медицинская практика захватили его без остатка. Просто остальное уже совсем его не занимает. Он видел ее, эту остальную жизнь, испытал, узнал и равнодушно отвернулся. Друэтт не страдает от одиночества, настолько оно привычно для него. Глаза его поверх очков презрительно следят за миром, он влезает в свой халат, как улитка в раковину, и при этом презирает самого себя за грязную оболочку. Джейб Торренс в спектакле «Орфей спускается в ад» интересен органическим сочетанием обобщенности, почти символичности образа с той конкретностью мысли, которая всегда свойственна Дворжецкому. Худая длинная смерть на заплетающихся ногах – таков Джейб. Есть в нем что-то кащеевское. У него бледное, патологическое, страдающее лицо. И он отвратителен в своем страдании, потому что страдает от ненависти к людям, от желания мстить и стрелять. Изношенность всего его физического механизма, беззвучность хрипловатого голоса – это завершение долгой жизни человека, иссохшего в злобе. Умирая на своем втором этаже, он знает совершенно точно, что делается внизу, и спускается, чтобы выстрелить, когда жена обрела смелость свободы. Проповедник секты «хлыстов» Егорушка Денисов («На горах») стоит в ожидании встречи с «новообращенной», и трепещут от счастья его длинные ресницы. В эту минуту на его лице можно прочитать всё: и тонкое издевательство над окружающими, и радостное сознание собственного превосходства, и увлечение лицедейством, и чуть ли не готовность поверить в чудо своей особой «избранности», раз уж ему так везет! Фантазия всегда легко подсказывает Дворжецкому характерность. Но на самом же деле он – актер импровизационный. Это более всего заметно в процессе репетиций. Спектакль уже подходит совсем близко к премьере, его партнеры давно установили точные задачи и приспособления, а он продолжает преподносить неожиданности. На премьере он может испробовать нечто новое. И на втором, и на третьем, и на четвертом, и на пятом спектакле от Дворжецкого можно ждать новых вариантов. Во время репетиций «На дне» Дворжецкий, игравший Луку, прежде всего решил не «разоблачать», а «защищать» своего героя. Попробовать отнестись к нему так: поскольку у обитателей «дна» нет ничего впереди, кроме гибели, постольку справедливо и человечно поддерживать их «спасительной ложью». Но таким образом получалось, что Лука утешает, заведомо не веря в свои утешения. На первом прогоне товарищи сказали Дворжецкому, что его Лука слишком неактивен и равнодушен, как бы отстраняется от всего. Утром следующего дня состоялась просмотровая репетиция. Каково же было удивление актеров, когда они увидели, что на сцену вышел не печальный старец Лука, а молодой, еще крепкий и веселый мужик, с румяным лицом, быстренько пристроил свои вещички в ночлежке, запел что-то бодрое и сейчас же пошел знакомиться с новыми соседями. В нем был большой запас деловитости и практичности. Этот новый Лука так обстоятельно давал советы Пеплу, Насте и прочим, что, казалось, стоит им немного постараться, и все в жизни станет на свои правильные места. Как ни странно, новый «защитительный» план актера оказался более «разоблачительным», чем прежний: Лука сохранял свою бодрость до самого конца спектакля, не замечая, что все его советы и пожелания ни к чему не приводят и люди вокруг гибнут. Поэтому доброжелательность Луки оборачивалась мнимым, показным доброжелательством при полном равнодушии на деле. 
Позднее у Дворжецкого в роли Луки возник иной образ. Из-под лохматых бровей Луки глядят смелые и строгие глаза. Он ловок и легок на ногу, этот странник с сильными плечами и руками, привыкшими к разнообразному труду. В интонациях его речи слышится не только ласковое журчание, но очень часто и гнев, ирония, укоризна. Особенно строгим и воинственным становится он, когда «дно» засасывает молодых – Ваську Пепла и Алешку. Их он хочет спасти прежде всего. Между ним и Сатиным возникает острейший поединок. Лука измерил трудность своей задачи и потому лишен безмятежности. Но зато и поражение его не обескураживает. Он пойдет по земле выполнять свою миссию. При импровизационной манере Дворжецкого невозможно представить, чтобы он когда-нибудь «устал» от повторения спектакля в пятидесятый или в сотый раз. Если роль наскучит ему от повторения, он просто изменит все приспособления, пойдет на самые неожиданные импровизации, начнет озадачивать партнеров и заставлять их «выкручиваться». Особая манера репетиционной работы Дворжецкого приводит к тому, что многие сценические образы возникают у него первоначально как бы в чертеже. Так было с Бекингемом в трагедии Шекспира «Ричард III». На первых спектаклях Бекингем запоминался «великолепием своей наглости». Гордое крупное лицо, нескрываемая оскорбительная усмешка, самоуверенный размах плеч, какая-то выступающая походка привычного солиста. Он приводил делегацию горожан, просивших Ричарда стать их королем. Но при этом Бекингем не делал ни малейшей попытки придать этому зрелищу благопристойный характер. Наоборот, он грубо и бесцеремонно дирижировал робкой хоровой декламацией горожан, суфлировал и науськивал их, стремился, чтобы все запомнили, что это – инсценировка. Ричарду он хотел показать, что народ – быдло, стадо, а людям – что они вынуждены действовать без энтузиазма. У Бекингема не одна цель, а клубок взаимопереплетенных целей. Во-первых, он хочет сейчас возвести на престол «своего» короля. Во-вторых, король должен знать, чем обязан ему персонально. В-третьих, нужны все улики против короля на будущее, чтобы когда-нибудь самому оказаться у власти. Слишком уж он привык чувствовать себя первым. Было ясно, что этот ловкий политический делец в конце концов должен погибнуть именно оттого, что видит себя на шахматной доске королем, а всех остальных – пешками. 
Позднее, посмотрев пятидесятый спектакль «Ричард III», я заметил, как от многочисленных «мелочей» выросла у Дворжецкого роль. Все по существу оставалось тем же самым, но теперь бросалось в глаза, как привычно чувствует себя Бекингем во дворце еще задолго до воцарения Ричарда, какой он здесь «свой». Все, кого он завтра предаст, сегодня еще чувствуют себя его ближайшими друзьями, и все они думают, что могут на него положиться в трудную минуту. Характер этой показной дружбы Бекингема с каждым различен, окрашен в особый «цвет». Одному он доверительно протягивает руки, другого вежливо слушает, внимательно склонив голову. На премьере этого еще не было, замысел постепенно обретал полноту и богатство жизненных оттенков. …Лука Купьелло, герой пьесы Эдуардо Де Филиппо («Рождество в доме синьора Купьелло»), живет трагической и нелепой жизнью. В спектакле к нему отнеслись как к «большому ребенку» в соответствии с характеристикой, данной ему в пьесе. Дворжецкий наполнил эту жизнь на сцене глубоким и горьким ироническим смыслом. Это опять связано с неожиданностью его мышления. Однажды на репетиции, когда обсуждался по ходу действия вопрос о жизни и смерти, Дворжецкий сказал, что человек всегда умирает неожиданно. «Купи мне новые калоши!», «Пришей мне новую пуговицу!» – говорит он и умирает. Так налетел на смерть и Лука Купьелло, ретиво бежавший многие годы вслед за брошенным камешком. Всю жизнь он был занят бесконечной вереницей заведенных и неостановимых дел. В хаосе мелких повседневных забот, которым он отдается со всем увлечением и даже фанатизмом, Купьелло некогда задуматься о самом смысле жизни. Может быть, в этом сказывается своеобразный «итальянский колорит»? Да, конечно, артист старается передать национальные особенности характера. Но еще больше он хочет сказать о другом: слишком многим и разным людям присущи эти черточки «большого ребенка», этот увлеченный, но легкомысленный способ существования. Необходимы когда-то часы пересмотра самого себя. Можно сказать об этом в искусстве жестко и назидательно. Дворжецкий сказал иронически, ласково и грустно. Ведь он говорил в сущности о неплохом человеке и для хороших людей. Самое удивительное, что Дворжецкий умеет использовать иронию и для создания положительных характеров. Ирония как средство разоблачения – это кажется чем-то парадоксальным! Так оно, впрочем, и есть. Для творчества Вацлава Дворжецкого это неоспоримая реальность. Только при создании положительных образов ирония у него еще более ощутимо, чем всегда, вступает в контакт с другими качествами: мужеством и чрезвычайной деликатностью. Роль учителя Терехина из пьесы С. Алешина «Палата» – одна из самых доказательных в этом отношении работ Дворжецкого за все горьковское десятилетие. Терехина – Дворжецкого мы видели не на уроке и не в общении с учениками, а в больничной палате в минуту решения сложнейшей личной проблемы, но и тут его педагогический такт и пожизненная увлеченность делом служили опорой этому человеку. Недаром же сразу так дружно отметили рецензенты удачно найденные актером характерные спутники учительской профессии – прозрачный взгляд близоруких глаз, едва заметные движения беспокойных пальцев. Но это лишь малые признаки. Терехин в спектакле был празднично талантлив, и не он принадлежал профессии, а профессия принадлежала ему. Парадокс этой роли, обнаженный Дворжецким, состоял в том, что жена Терехина – женщина легкомысленная и безответственная, уверенная в его безволии и способности стерпеть все, – как будто бы имеет основания для такого суждения. Его мягкая интеллигентность и долголетняя, безграничная любовь могут выглядеть безволием. Актер не торопится нас разубеждать. Но именно мягкость, интеллигентность и любовь дают ему силу быть непоколебимо решительным в минуту разрыва. И тут – второй парадокс: то, что могло казаться слабостью человека, оказалось силой. 
Терехин расставался с Любой устало, но внешне спокойно. С тех пор как ему разрешили сесть для свидания в кресло, он не шевельнулся ни разу. Только глаза чуточку прикрыл, потому что они устали смотреть на эту женщину. У Любы не должно было оставаться ни малейшего сомнения в его непоколебимости. Значит, за словами она не должна была почувствовать ни любви, ни страдания: за это она зацепилась бы, чтобы избежать разрыва и продолжать прежнюю жизнь. Поэтому он говорит, взвешивая каждое слово, сдержанно и спокойно. После ухода Любы он вдруг опускает плечи, откидывает голову на спинку кресла и словно впадает в забытье. Только теперь понятно, какого напряжения сил стоил ему разговор. Создавая образ Терехина, он защищал одну из самых любимых своих мыслей: о жизненном значении душевной интеллигентности, которую он понимает как чувство справедливости, как способность к «бунту человеческого духа» против всего, что подчиняет человека случайным внешним обстоятельствам и привычкам. Но даже среди самых «своих» ролей этого разнообразного характерного артиста, умеющего интересно играть и «чужие» роли, нет более прозрачной, чем роль Григория Ивановича Гусакова в спектакле «Жили-были старик со старухой». Такой откровенности высказывания, такого прямого лирического начала я не видел у Дворжецкого ни до, ни после. Спектакль был поставлен по киносценарию Ю. Дунского и В. Фрида задолго до того, как на экраны вышел одноименный фильм. По дальней дороге под ветром и снегом идет упрямый старик, чуть-чуть похожий на шекспировского Лира, не замечающий непогоды, с торчащим клочком седой бороды и воспламененными глазами. Это и есть ветфельдшер Григорий Иванович Гусаков. Он за руку ведет едва поспевающую Наталью Максимовну. В северном шахтерском поселке Угольном, куда приехали старик со старухой, чтобы помочь дочери, и где старик долго не мог найти работы по специальности, ему доводится принять участие в диспуте, организованном комсомольцами на модную тему: «Что такое счастье». Девушка с чудной косой и сияющими глазами приводит знаменитую цитату из Короленко о том, что человек создан для счастья, как птица для полета, и добавляет от себя, что только в нашей стране могут быть счастливы все и всегда. Сию минуту она действительно бесконечно счастлива своей молодостью, красотой и успехом выступления. Передавая слово Гусакову, председательствующий просит его изложить подробно, почему у нас счастлива не только молодежь, но и пенсионеры. Григорий Иванович рассказывает о светловской «Гренаде» и о собственном сыне, погибшем в боях за свободу Испании. Гусаков пришел на диспут благообразный, старательно расчесанный, тихий. Вызванный на сцену, он волновался, одергивал пиджак, церемонно поправлял старомодный галстук, раскланивался с сидящими в зале и затем долго поочередно здоровался за руку со всеми членами президиума. В его вежливости было что-то «домашнее», не от собрания. Это задерживало время и создавало у членов президиума чувство неловкости: нельзя же было прервать этого приветливого, но, очевидно, глубоко провинциального чудака! Однако Гусаков был не так прост. Он пришел сюда не поучать и не наставлять на путь мудрости, а внимательно разглядеть молодое поколение и поделиться своим, пережитым. Поэтому ему хотелось каждому в отдельности поглядеть в глаза и каждому пожать руку. Рядом с молодежью Гусаков выглядел не фельдшером и не Деревенским, а просто интеллигентом былых поколений. Для Гусакова нет складного, заранее сочиненного текста, ему ясна лишь главная мысль, а остальное рождается по ходу выступления. Несколько раз он думает, что сказал всё, прощается, а затем вспоминает что-то и возвращается на сцену. Гусаков говорит о подвигах во имя счастья других и совсем тихо – о сыне, погибшем в Испании. Он ведь не собирался приводить его в качестве примера и образца для подражания, а просто не смог не вспомнить в эту минуту. Он досказывает свою мысль: человеку всегда есть дело до счастья всех остальных людей и до всякого несчастья в мире. А само по себе ощущение личного счастья есть «короткое, даже минутное состояние». После этих тихих слов Гусаков решительно уходит со сцены, но вдруг, невесело махнув рукой на свою «стариковскую забывчивость», возвращается с извинениями: «Совсем забыл…» И он рассказывает про обезьяну: пока она была довольна собой, то и оставалась обезьяной, а когда «обуяла ее тоска, что живет неправильно», на четвереньках ползает, то и «произошла она в человека». Он начинает снова прощаться за руку с членами президиума, явно задерживая следующего оратора. Дворжецкий превосходно владеет редким даром сценической иронии. Этот мини-юмор – основное его оружие. Но кроме открытого юмора, всегда окрашенного добротой и свойственного многим русским актерам, у него есть именно ирония, то есть такой способ подачи материала роли, когда нечто утверждается с совершенно серьезным видом, а по существу это нечто утверждать невозможно, оно достойно только полного отрицания. Иногда же, наоборот, он делает вид, что отрицает то, что на самом деле стремится утверждать. Он не навязывает зрителям своего отношения к действительности, а дает возможность прийти к решению самостоятельно. Таков же и характер его драматизма. Он не любит открытых драматических воздействий и не использует в этом смысле прямых возможностей, содержащихся, скажем, в роли Терехина, Гусакова или Купьелло. У него есть драматизм скрытый, скрываемый, о глубине которого должен догадаться сам зритель. Очевидно, зрителя чуткого, с разбуженной фантазией это приглашение «догадаться» манит к себе. Очень велико обаяние благородства в сдержанном и мужественном стиле игры. Тем более что прямых, непосредственных и ярких впечатлений сценическое творчество Вацлава Яновича Дворжецкого доставляет более чем достаточно. Ирина Сидорова ЭТЮДЫ О ВАЦЛАВЕ Лирико-ироническая проза  В ГОСТЯХ
Вечером после спектакля «Юпитер смеется» мы с мужем, Юлием Волчеком, остановились около театра попрощаться с одним из знакомых. Прямо на нас из темноты вышел высокий мужчина. Я узнала артиста, который мне очень понравился в роли Друэтта. По программе заметила, что у него очень красивая фамилия – Дворжецкий. Нас познакомили. А через короткое время Юля сказал: «Я пригласил к нам Дворжецких». – «Очень хорошо». О Господи! Мы жили тогда в коммуналке, в старом-престаром, обшарпанном доме. В смысле гостей это меня как-то не смущало – Шерешевские тогда вообще жили на чердаке, и к ним приходили Слуцкий, Окуджава. И к нам в изобилии приходили хорошие люди – так, запросто. Поэтому я не придала особого значения этому приглашению. На стук открываю дверь и тут же раскаиваюсь в своей самонадеянности. В прихожую вошли весь элегантный Вацлав Янович Дворжецкий и дама в яркой ослепительной красоте. Он был в тройке, а она в чем-то блестящем, звенящем на руках, в ушах, на пальцах, на шее. Конечно, мне нужно было испытать чувство стыда за наше коммунальное убожество и скромную снедь на столе, но вместо этого всё во мне засмеялось. Нет, конечно, я не смеялась, как идиотка, вслух, но потому и не помню, о чем мы говорили в тот вечер, что все мое нутро разрывалось от сдерживаемого смеха. Думаете, я смеялась над собой? Ничего подобного! Над ними. «Бедные, бедные, – думала я. – Считали, что идут в респектабельный дом известного театрального критика…» Но слава Богу, эта неувязка не помешала нашей более чем тридцатилетней большой дружбе. ДЕЛО НЕ В СВИТЕРЕ…
Золотая Паланга. Переменная облачность. Общий пляж. В растянутом виде на песке Дворжецкие с сыном и мы с дочерью Людой. Что очень важно – солнце показалось из-за облака. РИВА: Женечка, Люленька, жарко, сними, пожалуйста, свитер. (Женя долго выпутывается из бесконечных рукавов. И тут, как нарочно, солнце зашло за облако.) ДВОРЖЕЦКИЙ (приказательно): Женя, холодно! Надень свитер! Женя покорно всовывает голову в длинную шею свитера и долго борется с рукавами. Но солнце, словно играя, опять выкатилось из-за тучки. И все повторилось сначала. И еще. И еще раз… Пока шаловливый летний дождь не прогнал нас с пляжа. ПО ПУТИ
Машина идет по Казанскому шоссе в сторону Лыскова. Едем в Макарьев. Машина битком. За рулем Дворжецкий, рядом Женя, с краю Люда, а сзади я, Аля и Геля Шерешевская. Так что не дадут соврать. Тихо беседуем, дети воркуют. Можно сказать, что мы и не видели тех мальчишек на обочине, которые кинули под машину то ли комья грязи, то ли мелкие камешки. Но вдруг перед нашими глазами взметнулась большая рука и врезала Жене по затылку. Женя повернулся к папе и, натягивая кепчонку, с обидой, басом сказал: – Ты чего дерешься? – Все вы такие! В машине наступила абсолютная тишина. ЭТО БЫЛО НА МОРЕ…
«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!» Это у Гоголя. А у нас это было в Ялте 10 сентября, в день рождения Табачникова. С утра в «Актере» говорили, что Дворжецкий часов в пять ушел в море наловить рыбы к вечернему сборищу. Стояло нераннее утро. Все млело и сверкало на жарком солнце. И вдруг видение, затмившее солнце! На фоне серой бетонной стенки, которая огораживала пляж артистов от остального мира, появился молодой бог. Все у него было как у бога в Древней Элладе: бронзовый, словно высеченный десницей великого мастера из цельного золотистого камня. А ноги! Он шел по гальке актерского пляжа, и взгляды всех женщин провожали его. И он видел это! Так он подошел к нам с Идой Богдановой и положил на камни сетку со свежей рыбой. – Девочки, это надо жарить скорее, – сказал он, и нам – увы – пришлось уйти. А иначе именно нам достались бы завистливые взгляды всех пляжных дам! ПО СЕКРЕТУ
Я думала, что никогда и никому не расскажу эту историю. Но чем черт не шутит… Тот вечер у Табачниковых закончился большим конфузом. Он проходил во дворике дома, где жили Ида с Наташей. Так вот, еще гости сидели за столом, а именинник уже заснул на том тюфяке, который предназначался мне. Я осталась в ночи без ночлега, и пришлось принять предложение Вацлава Яновича пойти с ним в «Актер» и переночевать на ложе Табачникова. Весь дом уже спал, и мы на цыпочках вошли в темную комнату, где посапывали двое мужчин. Никто не шевельнулся. От чувства неловкости я проснулась рано-рано утром и не увидела Вацлава Яновича на кровати напротив. «Вот это да! Как же я выбираться буду?» Чуть слышный шепот с лоджии позвал меня. Вацлав Янович встречал солнце! Так было каждое утро. Ида Богданова МАРКИЗ ДЕ САД. ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ В ТЕАТРЕ 
В ту пору, когда Горьковский театр драмы принял к постановке пьесу Петера Вайса «Марат/Сад», Вацлав Дворжецкий уже не состоял в его труппе. Судьба бросала его из города в город, с одной съемочной площадки на другую – он активно снимался в кино, и время его было расписано по дням и часам. На горьковской сцене он не появлялся несколько лет, и уже историей стал его знаменитый уход из театра на пенсию, рассказывающий, что посреди очередной репетиции, посмотрев на часы, он поднялся, церемонно раскланялся и, сказав: «Вот, господа, в эту минуту мне исполнилось шестьдесят», – вышел из репетиционной комнаты. И больше не вернулся… Он мог всё. Он на всё имел право. Так он считал. Это право давала ему его нелегкая судьба. Было это невероятно привлекательным в нем, но и удивляющим, и раздражающим, и вызывающим ненависть – в зависимости от вашей личной установки. Так было везде – и в оценке его человеческих поступков, и в оценке его работ на сцене и в кино. Он был неординарен, часто непредсказуем, не сливался с толпой, а это, как известно, наказуемо… Так вот, прошло уже ошеломление от экстравагантного его поступка, и стал забываться этот театральный анекдот, с поступком связанный, и все реже появлялся на улицах города знакомый всем подтянутый седой человек. Был 1989 год, когда судьба уготовила ему новый поворот, зная, наверное, что совсем немного, всего четыре года, остается ему до берега Великой реки. Поворотом этим было, увы, кратковременное, но блестящее возвращение на горьковскую сцену, с которой связан самый продолжительный период его работы в театре. Спектакль о временах французской революции, в центре которого полемика трибуна революции Марата и маркиза де Сада, ставил мой муж, режиссер Ефим Табачников. В его спектаклях в 60-е годы Вацлав Дворжецкий блистательно сыграл несколько ролей, надолго оставшихся в памяти зрителя. Тут и «Орфей спускается в ад» Уильямса, и «Палата» Алешина, и «Жили-были старик со старухой» по киносценарию Дунского и Фрида (какая это была пара – Вацлав Дворжецкий и уехавшая позже в Малый театр Галя Демина…). На самом изломе жизни страны, в начале перестройки, пьеса Вайса, острая, философская, удивительным образом перекликалась с болевыми процессами российской жизни. Проблемы, рожденные французской революцией, о которых повествует Вайс в пьесе с длинным названием «Преследование и убийство Жан-Поля Марата, представленное артистической труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством господина де Сада», оказались вновь живыми. Сыграть де Сада – какая трудная задача! Парадоксальнейшая фигура прародителя садизма, французского аристократа, писателя, философа, до сих пор окутана тайнами. Разрушительный ум, вселенское неверие ни во что, уничтожающая ироничность, наконец, безумие, приведшее его в стены знаменитой психиатрической больницы в Шарантоне. Здесь, сколотив труппу из больных, он ставил спектакли, на которые съезжался весь светский Париж. Парадоксальный исторический факт, тоже из реальности агонизирующей революции. Факт, который и стал отправной ситуацией для пьесы Вайса. …Ну, конечно, Дворжецкий. Он вспоминался первым, когда нужно было решать, кто сможет сыграть де Сада. Его аристократизм, та самая порода, которую невозможно было упрятать ни под какую немудрящую одежонку, – она одинаково просматривалась и в фигуре человека во фраке, и в деревенском деде в валенках и ватнике. Постоянная ироничность, то мягкая, то острая язвительность – обычная манера его общения. Лукавый, острый, внимательный глаз. Высокомерие, вроде вовсе и не обидное, одетое в ласковые интонации, – всё от той же отшлифованной поколениями предков породы. Все сходилось. Конечно, Дворжецкий. И он дал согласие, выкроив каким-то чудом несколько месяцев для репетиций спектакля. 
По многим причинам судьба у этого спектакля была трудной. Пьеса Вайса написана в традициях политического театра. В самом тексте политические диалоги предельно обнажены и даже прямолинейны, политическим пафосом исполнены все сцены и явления пьесы. Однако за бурной политической дискуссией кроется глубоко философская суть. А потому нет здесь прямых и однозначных ответов, нет и складно льющегося сюжета. А есть фанатичные крики глумливой толпы, вырванные из контекста истории эпизоды реальной жизни, а главное – бесконечные вопросы, задаваемые Маратом и де Садом друг другу и самим себе. Есть великое сомнение и великое желание избавиться от него. И все это облечено в яркую гротесковую форму почти площадного народного действа с песнями, масками, глашатаями и прочими атрибутами балагана. Таким был этот спектакль. Соединение гротесковой формы и философской сути – а именно в этом столкновении и на этой грани существовал спектакль – оказалось «не по зубам» многим зрителям да и, к сожалению, актерам. Дворжецкий же чувствовал себя в этой стихии как рыба в воде. Как актер он всегда блистательно ощущал форму, а как личность был не чужд высоких философских обобщений. Его де Сад был внешне предельно спокоен, даже как-то тих. Его монологи разрывали ткань яростного действия, создавая зоны тишины. Но тишина эта была исполнена невероятной внутренней динамики, а за негромким течением речи были слышны внутренние бури, будоражившие душу, казалось, не только маркиза де Сада, но и самого Дворжецкого. В его словах была боль пережитого страдания, личного страдания. И потому он был чрезвычайно убедителен. Кричать ему было не нужно… еще и потому, что подобные крупные мазки и резкие краски, свойственные театру политическому и уж тем более – площадному, были для такого мастера слишком грубыми средствами. Каждую свою роль Дворжецкий выписывал филигранно, используя пастельные тона. А потому великий ниспровергатель маркиз де Сад был в его исполнении фигурой сложной, многоликой, подверженной сомнениям. Итогом мучительных многолетних раздумий о судьбах революции звучит монолог, названный Вайсом «самоистязание маркиза де Сада». В исполнении Дворжецкого это была кульминация роли. …сегодня, Марат, я вижу, к чему ведет твоя революция… Она ведет к обезличиванию отдельного человека, к утрате возможности самостоятельно мыслить, к пагубной беззащитности перед лицом государства… Вот почему я навсегда отошел от идей революции, замкнулся в самом себе. …Отныне – я лишь наблюдатель. Да и сам Дворжецкий в ту пору, когда играл де Сада, был, кажется, тоже немного «наблюдателем», отстраненным от мирской суеты, а точнее – от человеческой мелочности. Взирал он на все это как бы свысока и был снисходителен к страданиям. Он был Мудрецом. Он был Мастером. Чем больше проходит времени, тем чаще думаешь, что есть нечто глубоко символичное в том, что последней его ролью в театре стала именно эта роль, именно этот характер – скептика и бунтаря с манерами аристократа, холодным рассудком философа и страстной душой жизнелюба. Евгений и Нина Дворжецкие ЖИТЬ И НЕ УСТАВАТЬ ЖИТЬ  Интервью
– Как родители познакомились и жили до вас? – Они познакомились в 50-м году. Мама приехала в Омск в областной театр драмы, окончив ГИТИС, в качестве режиссера-постановщика. Отец был тогда первым артистом в своем театре. Мама сразу же заметила его и как артиста, и как человека, но ее предупредили – зэк. Две судимости. Сыну Владику одиннадцать лет. Освобожден с «минусом сто» – то есть ему запрещено было жить в ста крупнейших городах СССР. При этом свободный, очень крутой, жесткий и своевольный мужик. Яхты, охота, рыбалка… Нина: – Наша мама тоже не лыком шита… Она сделала вид, что не обратила на него никакого внимания. Мама Владика, его бабушка и Владик жили в соседней с ней комнате в общежитии театра, а Вацлав Янович – на частной квартире. Евгений: – Жили, конечно, бедновато, но отец никогда в жизни не относился к вещам, к одежде как к чему-то хоть мало-мальски ценному… Хотя в Омске он считался пижоном: отглаженные брюки, кепочка набекрень, всегда начищенные ботинки. Давным-давно, в Риге, отец сшил на заказ черный костюм, я его сейчас донашиваю. А второй выходной костюм мы его заставили купить году в девяностом. При этом у него всегда была машина, кино– и фотоаппаратура, удочки, спиннинги – всё-всё-всё последней марки и модели. Ролей в театре у отца в то время было очень много. С 1967 года он начал интенсивно сниматься в кино, а это был заработок посущественнее, чем в театре, и снимался до конца своих дней. На пенсию он ушел день в день – в шестьдесят лет и потом еще двадцать три года снимался и играл в театре, когда звали. Но никогда работа для отца не была главным в жизни. Никогда. Он говорил: «Я работаю для того, чтобы жить, а не живу для того, чтобы работать. Если я еду на съемки, то еду прежде всего посмотреть на новое место, познакомиться с новыми людьми, заработать денег». Он был жаден и ненасытен до новых впечатлений и ощущений, поэтому им были изъезжены все соседние города и области с охотой, рыбалкой, кино– и фотосъемкой. У нас всегда была машина, в Омске – мотоцикл. Были акваланги. Отец собственноручно склеил водолазный костюм из резины. В Омске сам построил яхту и катамаран… Я уверен, что если бы он сейчас был жив, то давно бы уже освоил компьютер, наверняка сидел бы в Интернете, изучал кибер-миры и выдумал какую-нибудь свою виртуальную реальность. – Как это всё совмещалось с профессией артиста ? Он был артистом уже по своей природе, независимо от профессии, и, я считаю, именно это и помогло ему выжить. Природное актерство сидело у него в крови, а профессиональное актерство существовало где-то на десятом месте, но ему оно было интересно. Могут сказать: «Тогда он поверхностный артист, актеришка, нахватавшийся приемов и ремесленных штучек!» Ничего подобного. Дома на полках рядом с книгами по охоте, рыбалке, автомобилю, киносъемке, фотографированию стоят Горький, Чехов, Станиславский, Мейерхольд и т. д., и т. п. С другой стороны – сказать о том, что отец во всем пытался дойти до самой сути, не могу. Он – «человек эпохи Возрождения», который мог утром ловить птиц в силок, днем препарировать труп, при этом думать, как скрестить вишню с персиком, вечером рисовать картины, а ночью наблюдать небо и пытаться открыть новую звезду… Микеланджело! Кстати, отец и картины рисовал. Наш гараж весь был расписан какими-то рисунками, портретами, набросками. Как ребенка меня это до какого-то момента, с одной стороны, восхищало, а с другой – очень настораживало. Вроде как артистом работает, но для него это не является главным, – как так? При том, что мама – режиссер, папа – актер и режиссер, я не был актерским ребенком, родители никогда не выводили меня на сцену исполнять маленькие детские рольки в спектаклях. Хотя к десяти годам я мог бы иметь уже театральную карьеру. – Отец был строгий? – За непослушание, естественное в мальчишеском возрасте, он меня даже дважды порол. Правда, потом пил валидол… Конфликт у нас был всю жизнь. Конфликт… до бешенства. Он все говорил мне: «Потом поймешь!.. Вот я подохну, и ты поймешь…» Но это не было тупое противостояние друг другу. Это, как я теперь понимаю, такой способ воспитания, и как мне кажется – самый правильный. Конфликт носил чисто мужские свойства в плане формирования характера, умения отстаивать свои мысли, жизненную позицию, осознания своего мужского начала. Во всяком случае в отношении молодого человека – чтобы, например, он не стал гомосексуалистом. Когда он преподал мне– жизненный урок, не помню. Наверное, это было всегда… Я не знаю когда он случился, этот «первый» раз. Первый раз меня пороли в пять лет за то, что мы с дружком ушли на Волгу без спроса. Когда я пошел в школу, отец сказал раз и навсегда: сначала я должен прийти домой, предупредить, куда собираюсь, и только потом могу идти куда мне нужно. И вот однажды я пошел провожать девочку (а учился в первом классе), никого, естественно, не предупредив. Еще чего! Что же мне, сначала нужно было сбегать домой, предупредить, галопом вернуться в школу и только потом провожать девочку из школы?!. Выйдя из ее двора, я уже собрался было перейти трамвайные пути, как вдруг увидел отца, идущего мне навстречу с чемоданом. Я понял, что он ходил сдавать белье в прачечную и заметил меня. По всем правилам перехожу дорогу: посмотрел налево, дошел до середины, посмотрел направо, дохожу до него. Мы идем рядом в полном молчании. Доходим до нашего серого подъезда, и, прежде чем подняться на наш пятый этаж, он говорит: «Я тебя предупреждал?.. Я тебя просил о том, чтобы после школы ты сначала шел домой?.. Сейчас я буду тебя пороть». А я говорю: «Ну и бей». – «За это получишь не пять ударов, а десять». Мы поднимаемся, он начинает меня пороть. Я выдерживаю пять или шесть ударов, потом, естественно, начинаю рыдать. Закончив, отец идет на кухню пить корвалол с валидолом… Это я потом, много позже понял, что ему тогда было больнее, чем мне… А за обедом отец сказал, что я – молодец, что, мол, выдержал и не запросил пощады. Когда я был маленький (это мама мне рассказывала), я никогда не убирал за собой игрушки. Мы жили в коммунальной квартире. Однажды папа сложил мои игрушки в большой детский грузовик и повез его к дверям. А внизу жила катастрофически бедная семья, где детей было человек десять-пятнадцать. Я, видя этот «беспредел», сначала пытался держаться молча и достойно, потом не выдержав, подбежал к двери, заслонил ее собой как мог, и сказал: «У, гад! Куда повез?!» Родители, конечно, еле сдержали смех, но… тем не менее урок состоялся. Никогда ни слова не было им сказано о том, как нужно вести себя с девочками, девушками, как строить отношения с ними, но… Вот когда меня спрашивают: «Женя, сколько лет ты за рулем?» – я отвечаю: «Всю жизнь». Когда я научился водить машину? Я не смогу ответить, потому что машина у отца была всегда и с тех пор, как я себя помню, я копался в машине, включал рычажки и кнопки, рулил, нажимал на педали и спрашивал: а это что? а это для чего? а это зачем? Сначала отец позволял мне рулить, когда сам вел автомобиль. Потом я начал ее «воровать», когда отец был в отъезде, чтобы повыпендриваться перед друзьями и покатать девчонок… Поэтому сказать, когда отец научил меня водить машину, невозможно. Да никогда!.. Так и с девчонками. Специальных каких-то слов, советов не произносилось, мое взросление, так сказать «мужание», происходило безотчетно. У меня было много историй с девчонками, начиная с детского сада, и одну из них расскажу. В театральный я с первого раза не поступил. Естественно, из-за девушки: так влюбился, что сочинение написал на «два». В расстроенных чувствах я вернулся домой, в Горький, оставив эту девушку в Москве, что было для меня самым печальным. Отца и мамы в это время дома не было, и мне было удобно дать себе, своим друзьям и подружкам возможность расслабиться и утешиться нашими посиделками и гулянками с каким-то там спиртным. После одной из таких гулянок я проснулся рано утром. Одна из моих подружек принесла поесть. Вот сижу я, полуголый, в кресле, ем, и мы еще играем в карты. И тут входит отец. Приехал со съемок. А мы этой ночью как раз взорвали газовую колонку, нечаянно… Отец проходит, спокойно смотрит на меня, полуголого, на девицу с картишками в руках, «привет-привет»… и как врежет мне! Этой пощечины хватило для того, чтобы я улетел в другой конец комнаты. И все это при девушке… Со мной истерика. Дело в том, что отец имел такое здоровье, которое, если бы он не отсидел в лагерях почти пятнадцать лет, позволило бы ему дожить лет до ста пятидесяти. Поэтому дать сдачи я не мог и помыслить даже в самые отчаянные моменты своих конфликтов с ним – он мог бы меня просто убить. Несмотря на «сорванный» желудок, на куриную слепоту после Севера… Потом, когда он взял меня с собой на съемки и мы ехали в машине, я спросил: «Почему? Почему так сурово?». Он ответил мне: «Это было ужасно смотреть, как ты в трусах сидишь при девушке». Прошло полгода. Я работал не в театре, как это принято у большинства не поступивших в театральный, – монтировщиком сцены, осветителем и т. д. Я пошел в институт «Сантехпроект» чертежником-конструктором, чертить унитазы, канализацию, системы водоснабжения… Сделал это для того, чтобы у меня был твердый рабочий день – от звонка до звонка, чтобы я был занят серьезным делом, а не с артистами водку пил. В результате пил я не с артистами, а со студентами Горьковского театрального училища. И конечно, опять меня поразила в самое сердце любовь. Новая. Несмотря на то что отец был почти единственным в Горьком артистом, который снимался в кино, телефона у нас не было, и с ним связывались телеграммами. Я со своей новой пассией провожу время на горьковском Откосе, выпиваю какие-то вина… Говорю ей, что должен съездить к родителям и предупредить, что дома ночевать сегодня не буду. Она все понимает. Я приезжаю домой, вижу отца и выпаливаю фразу: «Папа, я сегодня должен ночевать не дома». Несколько секунд отец молчит с непроницаемым лицом, затем отвечает: «Ты, конечно, можешь поступать как хочешь, но я тебе советую этого не делать». А если эта фраза когда-либо произносилась, то это был закон. Это означало, что нужно было сделать именно так, как он хочет. Вот это «но я тебе советую» было хуже, чем «нельзя» или «ни в коем случае». Потом мне был прочитан краткий курс о благоразумии, мужской чести и даже мужской… невинности, мужской чистоте. Отец сказал, что сам он стал «мужчиной» чуть ли не в 22 года, хотя намекнул, что, мол, это не так важно, во сколько лет «это» произойдет, главное совсем в другом… Я уехал, естественно. На следующее утро вернулся, но десять дней отец со мною не разговаривал. Мать, конечно же, пыталась нас помирить, зная причины обоюдного молчания… – Ну… и тогда всё случилось? – Всё случилось еще до того. Задолго. Но вопрос ведь не в «когда»… Улица и друзья научили меня всему. Роман этот длился у меня года полтора. В 1979-м я прилетел домой на зимние каникулы, матери говорю: «Мне нужно лететь в Челябинск к моей девушке, дай, пожалуйста, денег». Тут вмешался отец: «Да что же это такое… В твоем возрасте у тебя их должно быть штук десять как минимум одновременно. Что это всё одна да одна и та же! Нельзя так. Это не тот возраст». После той краткой лекции о мужской чистоте мне, как это ни странно, было вовсе неудивительно услышать от отца эту несколько запоздавшую «вторую часть»… Такое он давал воспитание. С Владиком тоже была смешная история в 1976 году. Мы ехали с ним в машине, и он спросил: «Ну как… это уже произошло?» Сказать старшему брату: «Нет, еще не произошло» я не мог, это для меня было стыдно, хотя я еще был чист, как ребенок. Пока я раздумывал, что ответить Владику, он сам продолжил эту тему так: «Никогда не имей дело с девушками». Вот такой урок по части «женского полу» я получил от брата. Потом Владик как-то спросил меня: «Как у тебя с отцом-то?» А у него тоже всегда был внутренний конфликт с отцом, потому что и здесь тот хотел, чтобы все делали так, как он считает нужным. Отец свою жизнь строил сам и поэтому думал, что имеет право требовать от близких полного подчинения. Я ответил Владику, мол, сам знаешь как – трудно… И тогда он сказал: «Знаешь, когда у вас с отцом будет все в порядке? Когда он поймет, что ты его можешь на… послать». Как?!. Послать!?. Отца?.. Я выпучил глаза и не смог ничего ответить… Потом я понял смысл слов Владика. Дело, естественно, не в том, смогу я или не смогу сказать отцу вот эту страшную фразу, а в том, что когда отец убедится в моей решимости на этот поступок, тогда всё в наших отношениях будет значительно лучше. Ровнее. Тогда я смогу хоть чем-то соответствовать отцу. Тогда я смогу хотя бы разговаривать с ним на равных. Это самое «равновесие» между мной и отцом случилось только через много лет после этого разговора с братом. Мне было тридцать три, когда отца не стало. Перед его смертью, в конце марта, мы поговорили. Он лежал в больнице, я уговаривал его все-таки сделать операцию. Не на глаза, нет, это было непоправимо (он был слеп уже два года). А в начале апреля мы должны были сниматься вместе у Эльдора Уразбаева в картине «Хаги-Траггер». Отец выучил нашу совместную сцену в этом фильме. Читать он уже не мог, и мама начитывала на магнитофон, а он с ее голоса потом учил… Я приехал из Москвы в Нижний Новгород, и мама мне сказала, что отец в больнице – решили все-таки делать операцию, ту, к которой приходят в итоге 99% мужиков. Отец страшно мучился этой болью уже лет десять. Операция эта и сейчас считается не из легких, делается под общим наркозом, а еще до того, как болезнь у отца начала прогрессировать, его друг умер во время этой операции – сердце не справилось. И отец очень боялся ее. А в результате всё оказалось до такой степени запущенным, что отец говорил: «Да зачем она мне теперь, эта операция? Кому я теперь нужен? Сделаю ее, выйду на улицу и в крайнем случае – застрелюсь или повешусь в гараже… Я буду сидеть на вашей шее… Зачем мне это нужно?» Естественно, стреляться или вешаться он не стал бы, поскольку не раз говорил мне о том, что всё в воле Божьей и, стало быть, только он распоряжается нашими жизнями и душами, что его самого столько раз спасал от смерти и помогал его ангел-хранитель… Я слушал его и видел перед собою несломленного болью человека, хотя и в этот момент она его не отпускала. Просто многолетнее желание отца выжить стало настолько привычным свойством его организма, что внешне он почти не менялся, как бы больно или тяжело ему ни было. Сам я в эти дни простудился и после этого разговора слег. Лежал, никуда не выходил. Когда через три дня снова пришел в больницу и увидел отца, я поразился, насколько за какие-то три дня человек может… высохнуть. Довел его до туалета, проводил обратно в палату. Я думаю, сказал он мне на прощание, эта операция чуть-чуть подвинет съемки, ничего страшного, выберусь… Второго апреля ему сделали операцию, и до одиннадцатого он пролежал в реанимации, десять дней не приходя в сознание. Только однажды, на четвертый день, матери показалось, что он пришел в себя, открыл глаза, она даже подумала, что он узнал ее… Умер отец в воскресенье, 11 апреля. Это была католическая Пасха. Был у нас сосед по последней горьковской квартире – Марк Борисович Ровнер, почти что родственник. Они с отцом общались очень тесно, не раз сиживали за рюмкой. И он как-то сказал: «Вацлав Янович считал, что Господь Бог уготовил ему другое, нежели смерть. То есть Вацлав Янович был уверен, что никогда не умрет». – Когда и как ты узнал, что отец был репрессирован? Я рос нормальным советским школьником, октябренком, потом пионером. Правда, к тому времени, как стать комсомольцем, я уже все знал. Отец слушал «вражеские голоса», бабушка – мамина мама – была его старшей подругой. Они иногда садились друг против друга и обсуждали политическую обстановку в мире, начиная с антисемитизма и заканчивая баталиями в каком-нибудь Гондурасе. Причем бабушка всегда рассказывала так, как будто всё это происходило при ней и она была непосредственной участницей описываемых событий. Касалось ли это Библии или политических событий в мире. Прямо как Эдвард Радзинский… Даже лучше. Помню, я сидел и делал уроки, а по радио передавали историю вывоза за границу Солженицына. А я это слушал и конспектировал. Политэкономию и марксизм я постиг дома, на гвоздях – отец мне всё пояснил, взяв в пример гвозди. Сколько стоит производство гвоздя, и за сколько гвоздь продают, и что такое прибавочная стоимость, орудия производства, средства производства. Я сам сделал игру, которая называется «Монополия», только об этом узнал несколько позже. На даче под Москвой меня прозвали «американцем», поскольку эту игру я очень любил и поэтому всем казалось, что я был большим поклонником капитализма. Что отец сидел – мне никто не рассказывал, и уж тем более он не любил говорить об этом, – я не узнал, а… почувствовал. Это произошло как-то подспудно, просто я понял это. Когда я прочел «Один день Ивана Денисовича» и поделился с отцом, типа «ой, папа, как это всё ужасно», он мне ответил: «Бывало хуже». – «В каком смысле, папа?» И вокруг этого начался разговор. Я не знал, в каком году отец сидел, где, за что, – это было необсуждаемо. Просто иногда в наших разговорах возникала та или иная история, слушая которые я понимал только сам факт: мой отец сидел. Нина: – Сначала Вацлав Янович эти истории, которые с ним произошли на Вайгаче, в Котласе или на Беломорканале, рассказывал мне. А потом, как бы опробовав, Жене. Как мы понимаем, он так готовился к своей книге. Евгений: – Нас поразила история о крючке, который Вацлав Янович снял с ботинка и заточил об камень, когда его посадили в камеру-одиночку. Такие истории никогда не возникали в разговоре сами собою – это было всегда по поводу. Если кто-то, допустим, в разговоре начинал размышлять о свободе, отец мог вступить в разговор с тем пониманием свободы, которое пришло к нему в той самой камере. «Что такое свобода? Свобода – это осознанная необходимость. И вот когда я осознаю, что та ситуация, в которой я сейчас нахожусь (в тюрьме или в лагере), – это необходимость, то есть то, что я не могу обойти, то я становлюсь свободным». Нина: – Он заточил крючок, как он сам говорил, не для того, чтобы порезать охранника или чего-то иного… «Мне важно было иметь «про запас» свой выход из этой одиночки. Я вовсе не собирался покончить с собой, но этот самый заточенный крючок давал мне ощущение «хозяина» ситуации, пусть даже относительное, ощущение того, что в итоге я собою распоряжаюсь сам». Про побеги, о которых отец нам рассказывал, вообще можно фильм снимать. Однажды его спасла медицинская сестра. На лесоповалах, когда мороз и нет даже шалаша, где можно отогреться и поесть, еду готовили так: котелок пшена, сверху кипяток. Нет котелка – в шапку. И одна медсестра ухитрилась незаметно сунуть отцу в руки пузырек с рыбьим жиром – хоть какая-то защита от цинги… А ведь за общение с заключенными вольнонаемным полагался срок!.. Прятать этот пузырек некуда, да и потерять жалко было такое сокровище, и отец привязал этот пузырек к руке. Так из-под рукава и прихлебывал… А люди мерли как мухи. Он перенес всё это еще и потому, что молод был и до конца все-таки не понимал, насколько близка смерть. Умудрялся сочинять, выдумывать, предлагать себе какие-то фантастические обстоятельства, когда рыл котлованы, представлял себя кладоискателем, пиратом… Причем рассказывал он это про себя не романтично, не так, как об этом его личном способе бороться за жизнь писали журналы и газеты. Он видел людей, которые переставали сопротивляться, видел князей и потомков графских кровей, которые ломались и опускались на самую низшую ступень существования. А были те, кто научился сверлить мерзлоту и поворачивать сверло во сне. Они научились делать свою работу механически и спать, потому что другого времени на сон просто не было. Его рассказы о человеческих возможностях всегда были не монотонными поучениями, а живыми, эмоциональными картинками, актерскими зарисовками. Как он смог хомяка поймать? Провалившись по шею в снег!.. Кровь из него пил, чтобы выжить. Как не замерз, когда упал в ледяную морскую жижу, когда принял бревно не на то плечо? Принял на грудь спирту (спасибо охранникам!) и бегал по берегу в окаменевшей одежде – мороз, не разденешься!.. И высох. И не заболел даже… Евгений: – Некоторые люди живут, опережая свое время, так вот отец – из этой породы. Вся его жизнь была построена как жизнь свободного человека, свободного внутри себя. Он был таким от рождения. Никогда в жизни он не считал себя жертвой сталинских репрессий – сидел заслуженно, так он говорил, потому что не признавал закона этой власти. – Как он отнесся к реабилитации? – Отец не суетился по поводу реабилитации. Ему незачем было об этом заботиться. По второй судимости отца реабилитировали в 1956 году. А в 1992-м пришло письмо, в которое была вложена справка, что Дворжецкий Вацлав Иванович, 1910 года рождения, осужденный 20 августа 1930 года… реабилитирован на основании пересмотра его дела. Судебное постановление отменено, а дело прекращено за отсутствием состава преступления. Таким образом, отцу сняли его первую судимость. А в день смерти пришли деньги. Компенсация. Что-то около двадцати пяти тысяч – по тем временам смешные деньги! Так оценили моральный ущерб, нанесенный Вацлаву Дворжецкому. Но на почте мне их не дали, потому что получатель – отец – уже умер. К этой бумаге о своей реабилитации отец отнесся безразлично. Это только в плохом кино: «Ах!.. Наконец свершилось правосудие!» Жизнь уже прожита – как можно отнестись к этому? Как отнестись к тому, что погибли миллионы, а некоторые до сих пор хотят, чтобы коммунисты пришли к власти! Как вообще тянется рука выводить на избирательном листке: «Зюганов»! Может быть, он прекрасный человек, но он – коммунист, и этим все сказано. Отец был человеком кипучего гражданского темперамента. Он даже баллотировался в депутаты!.. Ему всегда было небезразлично, в какой стране мы живем, кто у руля, куда идем… Но опять-таки это была тоже своего рода актерская увлеченность. – С кем он дружил, общался? – Друзей у отца было много. Прежде всего – компания, в которую входили режиссеры, консерваторские преподаватели, врачи, ученые… Отец часто ездил на рыбалку с бывшим милиционером. Ему было интересно общаться с разными людьми. Мне не всё нравилось из его увлечений. Например, я не любил ездить в сад, копаться в земле, ухаживать за деревьями, за пчелами – я ненавидел всё это. А отец, искренне любя садоводство и пчеловодство, пытался привить и мне эту любовь – от этого я ненавидел сад и несчастных пчел еще больше. Он мне «советовал», считал, что если этим увлечен, то и мне также должно нравиться. 
– Были ли у вас семейные конфликты? – Семья, дом у нас были самыми обычными. Были и хлопанья дверями. Уходили в разные комнаты. Но через пятнадцать минут или полчаса отец мог выйти как ни в чем не бывало и разговаривать легко и непринужденно. Конфликты между мной и отцом всегда разрешала мать – она выполняла функцию «лечь на амбразуру». Ни разу в жизни я не слышал, чтобы мать с отцом выясняли отношения на повышенных тонах. Они находили способ все оговорить тихо и спокойно, прежде всего, я думаю, чтобы не волновать и не пугать меня. Это большое счастье – иметь таких родителей. В конце августа мы с матерью куда-то ездили. Возвращаемся домой… А отец в это время должен был быть на рыбалке. И на подходе к нашему подъезду видим такую картину: отец, обвязанный чем-то белым вокруг поясницы и держась за нее, стоит и неторопливо разговаривает с соседями с пятого этажа. Что такое? Что за маскарад?.. Подходим ближе: «Что случилось?» Он поворачивается к нам: «Я, наверное, три ребра сломал». Мать тут же отвезла его в больницу, где сделали рентген. Что произошло? Он приехал на рыбалку, за сто километров от города. Пошел погулять по крутому берегу, держась за размытые корни деревьев. И вот один из них оторвался, и отец, скатившись вниз, упал спиной на нос лодки. Ощущение такое же, словно бьют под дых и ты, согнувшись, не можешь ни вздохнуть, ни разогнуться… Ведь это чудо, что он не повредил себе позвоночник. Сломанных ребер на самом деле оказалось четыре. Но что сделал отец? Отдышавшись, он порвал простыню (на рыбалку приехал с ночевкой), обмотал себя, закрепив позвоночник в одном положении, установил кинокамеру на лодку, заснял себя, собрал все шмотки, сел в машину, проехал сто километров до дома, поставил машину в гараж и пешком дошел до подъезда. Прошло месяцев пять – всё вроде зажило. Зима. Отец отправился на подледный лов, на мормышку. Я прихожу из школы и вижу: на кухне валяется табуретка, рядом с плитой, внизу, около ведра стоит «чекушка» из-под водки, у отца дверь в комнату закрыта. Первая горькая мысль, которая у меня возникла от увиденной картины: напился (чего никогда не бывало)! Оказалось, что отец провалился под лед. Кое-как выбрался – одежда-то (полушубок, толстый свитер, теплое белье, сапоги) становится чугунной, когда намокает… Пешком, мокрый добрался до магазина, купил чекушку водки. Пришел домой, выпил её, залез в горячую ванну – и спать. Наутро даже не чихнул. Через пару дней я услышал вялое: «Что-то там побаливает». Пошел сделал рентген – а ребра с предыдущей рыбалки к тому времени еще не срослись. – Вацлав Янович рассказывал о своих душевных потрясениях? – Однажды я услышал такую историю. Когда отцу было года четыре, родители подарили ему огромную очень красивую коробку конфет. Он стоял около забора, а мимо проходила девочка, и он протянул ей эту коробку. Она протянула к ней руки, а он р-р-раз – и дернул эту коробку обратно к себе. Девочка заплакала, и мама ее увела. Потом зарыдал он. Затем долго искали эту девочку, но не нашли. Я знаю, что отцу было очень больно, когда они поссорились с Таней, моей сестрой. Почему поссорились – семейные дела. Людям зачастую свойственно воспринимать дела давно минувшие не такими, какими они были, а какими хотелось, чтобы они были. И если, например, два-три человека начинают описывать какой-нибудь яркий эпизод, они делают это по-разному, а иногда эти воспоминания прямо противоположны. И начинается спор. Нине я в таких случаях говорю: «Уйди. Это мы не обсуждаем, потому что это бессмысленно – спорить, как это было… Тебе так нужно? Всё, пусть будет так». У меня есть такие родственники, которые любят вспоминать былое, но каждый делает это по-своему, и желать согласия в этом случае просто безумие. Я сразу прекращаю эти разговоры и со всем соглашаюсь, потому что никогда не удастся доказать, что ты не верблюд. А вот отец любил такие вещи, он говорил матери: «В следующий раз я буду за тобою записывать! А потом тебе это буду показывать!» По-видимому, из-за подобного же бреда, высказанного Таней, и поссорились. Отец очень обиделся, они не разговаривали лет шесть. Врачи отмерили Тане жизни лет на двадцать пять. У нее было очень маленькое, почти детское сердце… Таня прожила 48 лет. Я помню, как она сначала принимала таблеточку нитроглицерина, а потом закуривала сигаретку… Нитроглицерин – сигаретка. Но она держалась. Мать Тани была вольнонаемной, и отец познакомился с ней во время второй отсидки. Таня родилась в 1946 году. К нам в Горький Таня приехала в 1962-м, когда мне было два года, а до этого жила в Кишиневе. У Таниной мамы было заболевание крови (поэтому она рано умерла), а сама Таня родилась с пороком сердца. Отец увидел Таню впервые, когда ей было уже лет семь, хотя и до этого помогал им. Ее тетка и разыскала своей племяннице отца. До этого Таня по отчеству была Васильевной. Официально у нее не было отца. В Горьком она окончила школу, институт, вышла замуж, потом жила в Ленинграде. – А Владислав? – Его мать, Таисия Владимировна Рэй, была балериной, руководила танцевальными коллективами, преподавала в студии при Омском ТЮЗе. Влад недолго жил с отцом. Он родился и вырос в Омске, два последних класса школы жил с моими родителями в Саратове. Потом в Омске закончил медучилище, студию при Омском ТЮЗе, работал в омском театре, а в Москву переехал после «Бега». Приезжал в Горький, в гости. «Семейные предания» хранят такую забавную историю: когда я родился, Владик прислал отцу телеграмму с текстом: «Я слышал – у вас опять ребенок?» Они с отцом были резкие. Оба похожи в своей непохожести. Каждый из них был самостоятельной и грандиозной личностью – а такие всегда одиноки. Никогда, ни разу не было сказано отцом, что Влад – хороший артист. Отец вообще не считал Владика артистом, потому что, по его мнению, артист тот, кто играет в театре. Кино – это фактура, глаза, поворот, любил он говорить. Ну а если серьезно, то в «Беге» есть один-два классных кадра крупным планом: когда Хлудов кричит «есаул!» в цирке и куски из сна в вагоне. Ведь такой фактуры не было больше в кино! Не было и нет. А вот остальное – если посмотреть сегодня эту картину первый раз, не зная что за артист… Ему там было 29 лет. «Бег» – его первая работа в кино… Как может человек да еще выдернутый из Омска, стоя перед камерой первый раз в жизни да еще в главной роли, избежать чудовищных зажимов? Мне лично больше нравится работа Влада в «Возвращении «Святого Луки», а Нине – «Возврата нет». Он сделал очень много за десять лет. К вышедшим на экран фильмам я отношусь очень по-разному и к своим тоже. Когда я сегодня смотрю «Танцплощадку», то понимаю что это просто чушь!.. Что я делаю? Ужас! А вот, допустим, «Мечты идиота» – эта работа мне по-прежнему нравится, я нахожу в ней какой-то свой смак, свою прелесть. Пересматривая какую-нибудь «Монсору» – ну, ничего, ничего… Ох ты!.. А вот это вообще не помню, как снимали… Нина: – Мне всегда казалось, что Вацлав Янович относится к своим сыновьям – Владу и Жене – не как к детям, а как к своим заготовкам, что ли. Ну, давай, подрастай скорее сам, а там разберемся, потягаемся!.. Женя: – С Таней у него были немного другие отношения. До их дурацкой ссоры. Я только недавно случайно узнал от мамы, что Таня вышла замуж потому, что была беременная. «Папа, где нам жить?» – «А это, ребята, ваши проблемы. Где хотите, там и живите. Уезжайте на какую-нибудь стройку, на целину… Вы решили вдвоем жить, вот и идите». Я таких крутых мужиков, по-настоящему крутых, в своей жизни не встречал. И говорю это совсем не для того, чтобы вот таким образом увековечить память отца, не для того, чтобы это было где-то написано, – просто так было на самом деле. Честно говоря, если написать сценарий и снять фильм про жизнь отца, матери, ее брата, папиной сестры, живущей сейчас в Аргентине, будет потрясающая история. Но среди нас, современников, я пока не вижу человека, который смог хотя бы напомнить чем-то (не внешне, разумеется) отца. Вот был актер Владимир Белокуров – может быть, такого уровня личность нужна на этот материал. Из современных актеров не вижу никого, кто мог бы не передать, а сыграть отца. Нина: – Он был разным… Хотел быть сельским добряком – был им, захотел побыть благообразным старцем – побыл, решил вдруг стать рафинированным интеллигентом – пожалуйста, навешать лапши журналистам – с удовольствием!.. – Вы обсуждали с отцом трудности, успехи, неудачи? Евгений: – Я пытался пару раз рассказать, что у меня творится внутри… Мы шли от метро, я что-то возбужденно рассказываю, делюсь… Было сказано: «Ты сегодня ничего такого не курил?» Мне это и обидно, и оскорбительно – но это было в порядке вещей. Никаких советов. Не получается что-то – начинай все сначала. Учись доходить до всего сам. Сам строй свою жизнь, себя. Я родился, когда ему было пятьдесят. Когда мне было только десять лет – ему шестьдесят, мне еще двадцать – ему уже семьдесят… Семьдесят!.. Я вообще очень рад, что довелось общаться с моими старшими родственниками и что эта связь существует во мне. Для моего поколения отец с матерью по возрасту – словно бабушка и дедушка. У моей дочери Анны дед родился в 1910 году, а она – в 1990-м. И вот эта связка чуть не в век сама по себе – урок. – Вацлав Янович ощущал свое дворянство? – Я уверен, что отец ощущал такую связку между поколениями, для него это было важно. Дворянские корни были для него важны. Дома даже где-то лежит бумажка с воссозданным отцом нашим родословным древом. И еще купчая на владение землей не то в Брестской области, не то на Западной Украине… Отец описал нам герб рода Дворжецких и рассказал, что в Кракове, во дворце Вавель, он нашел захоронение своих предков. Я не был в Кракове и отношусь к изысканиям отца спокойно… Наверно, до поры до времени. Вот когда совсем нечего будет делать – может быть, займусь. – Почему, с одной стороны, «делай свою жизнь сам», а с другой – такой диктат? Характер у папы был нелегкий. По словам мамы, все-таки он страдал от каких-то своих поступков… А я думаю – нет. Не страдал он. Он не придавал значения своему характеру и поступкам в отношении родных. Он обижал, а через секунду находил оправдание тому, что сказал правду, а не что-то резкое или обидное. Но – это он мог делать только с семьей. Это касалось только меня, мамы, Таньки. Всё. Владик всегда жил своей жизнью. Папа никогда не просил маму, Таню или меня извинить его. Ни разу такого не было. При этом никогда у них с мамой не было «разбора полетов». Вот мы с Ниной после ссоры начинаем разбираться – и опять ругаемся. Отец никогда этого не делал. У него всё происходило за секунду – и ссора, и примирение. И спустя эту самую секунду он говорил: «Ну, пойдем обедать». То, что сегодня интересно, завтра становилось для него пустым местом. Когда отец ослеп, ему в обществе слепых дали магнитофон. Он слушал кассеты типа «Перечитывая Достоевского, Толстого…» и т. д., а потом вдруг начинал говорить: «Толстой – это самый величайший русский писатель!.. Женя, вот ты его перечитывал когда-нибудь?» – «Папа, но ведь ты же говорил мне: «Не надо учить жизни, а Толстой только этим и занимается, учит и учит, как правильно, как неправильно… Зачем нужна вся эта художественная литература? Дайте мне факт, дайте мне историю!» Ты же мне это сам говорил?!» Не обратив внимания на мои слова, он продолжает: «Только художественная литература! Неосмысленный факт никому не интересен!» Проходит какое-то время – и всё переворачивается с ног на голову. Нина: – Когда в доме появлялись новые люди, которые всё принимали за чистую монету, Вацлав Янович мог устроить такое представление!.. Мы-то всё это слушали уже много раз, а гости-то в первый – и он морочил им голову с таким удовольствием, что ты сам, глядя на этот спектакль, забывал обо всем и начинал хохотать или удивляться вместе со всеми. В сотый раз. А главное – понять, что он морочит голову, совершенно невозможно!.. Жениных подружек Вацлав Янович встречал так: «Раздевайся, ложи… э-э-м-м… садись». Девушки его очень любили и не обижались. Евгений: – Главный отцовский завет – жить и не уставать жить. В одном из интервью, когда папе было уже под восемьдесят, после перечисления своих увлечений он сказал: «И еще языки учу»… Думаю, что это опять же было дурачеством перед журналистами. Он мог сказать всё что угодно!.. По-польски действительно говорил и писал свободно с детства. Ане, нашей дочери, он пел песню по-английски, не понимая ни слова!.. В тридцать четвертом году, когда отец сидел в тюрьме на доследовании, кто-то научил его этой песне. Или по-французски выдавал целые монологи, выученные когда-то для театра, он играл Вронского, Каренина… Думаю, что режиссерам с отцом работать было очень нелегко, потому что он сам всегда знал, как нужно сделать сцену или эпизод, – ему казалось, знал лучше, чем постановщики. Но интересных, настоящих режиссеров он любил и умел их слушать. Роли он играл самые разные. Не было у него ролей на сопротивление. Он играл всё – от китайца до Ивана Грозного. Как-то я перебирал отцовские театральные фотографии, переснимал их, и у меня возникло ощущение, что отец вообще никогда не напрягался на сцене, а делал это легко и радостно. Он обожал грим. Клеил себе всякие бороды и носы… Разукрашивал себя, дурачился, менял голос, походку… Специально отращивал бороду, а мама вела борьбу с этим «безобразием». Но папа был непоколебим. Вдруг он становился немощным, глубоким стариком… Ему просто хотелось побыть немного и таким вот «Толстым». Потом вдруг борода сбривалась, отец «оживал» и сбрасывал с себя одним махом лет сорок, и все вновь видели привычного Вацлава Яновича. Мне кажется, что все мучения над сложными ролями, ролями на сопротивление – от неуверенности в себе. А отец был актером от природы. Вот в картине Василия Пичула «Вы чье, старичье?» отец снимался вместе с Сергеем Плотниковым. Дядя Сережа был настолько естествен в роли деревенского мужика, что, глядя на него, можно было подумать – фильм документальный. В то, что Плотников – актер, просто невозможно было поверить, казалось, что его взяли из какой-то деревни и посадили перед камерой. Отец же всё делал по-другому. Он чувствовал природу игры. Один старик в этом фильме – от природы, от сохи. А второй дает чуть обобщенный образ, чуть больше, чем просто человек. И когда идет игра (не проживание, а игра), то остается зазор между образом и личностью, играющей этого человека, а также зрителем, который суммирует намек на образ, личность артиста и свои собственные ощущения во время просмотра. Я никогда папе этого не говорил, он бы мне голову разбил за это… Шучу, конечно. А как он хвастался своей придумкой во время проб у Васи!.. Когда он вынул вставную челюсть, ошарашив тем самым бедного Василия мгновенно изменившимся лицом. Как он был доволен собою тогда!.. Я думаю, что это самое трудное в актерской профессии – просто играть. Не жить, не переживать, не показывать зрителю: как я точно понимаю это! и как я могу вывести себя на это переживание! – а играть. Играть ситуацию, характер. Играть легко. Играть так, чтобы зритель не видел пота, творческих мучений… Но пошлость и состоит в том, что артист по своей природе очень хочет, чтобы зритель все-таки увидел, понял – тяжелая у него работа!.. И полюбил бы его (артиста!) именно за это. Не за то, что он развлекает публику, хотя изначально профессия артиста существует именно для этого, а вот за эти «мучения». Не буду врать, но действительно очень многие вещи я сейчас воспринимаю через отца. Какие-то свои, противные мне самому черты характера, все мои «взбешения», «вспыления»… Нина: – Они орали по-разному. Отец – не затрачиваясь, Женька – иногда просто изводя себя криком… Однажды Вацлав Янович приехал в Москву, а нас дома не было. Мы жили еще на Колхозной (ныне Сухаревке), в девятиметровой комнатке. Приходим вечером, а на столе его фотография с очередных проб (сам он уже уехал на киностудию). А на обратной стороне снимка написано: «Хорошо живете, ребятки». То есть, казалось бы, никакой интонации нет, услышать ее нельзя, мы же не кассету прослушиваем… А тем не менее она до нас дошла. Евгений: – На другой фотографии, которую он нам оставил, было написано: «Брось курить». До сих пор, когда натыкаюсь на такие вот записочки, я испытываю холод под ложечкой. Казалось бы, ерунда какая – «брось курить»… Но я слишком хорошо усвоил отцовские интонации в детстве, чтобы их когда-нибудь забыть. Я очень боялся того, что может мне сказать (или даже сделать!) отец после того или иного поступка. Поскольку он всегда занимался и охотой, и рыбалкой, и пчелами и еще черт знает чем, у него и в прошлой, и в нынешней квартире имелась кладовка. Он сам встраивал глубокий шкаф, где помещались табуретка, монтажный стол, на котором он монтировал свои фильмы, отснятые на восьмимиллиметровой пленке, и полки до потолка, на которых в строжайшем порядке были разложены инструменты, ружья, удочки, ножики… Если я что-то брал оттуда, то сначала, для верности, отмечал мелом очертания предмета, чтобы потом в точности положить на место и стереть. Действовал я почти хирургически, но все равно на меня бросался взгляд с точным знанием того, что я – брал. Наверное, у меня на лбу было написано, что залезал в эту кладовку… До сих пор стоит перед глазами картина того, как я стоймя ставлю нож (который я спер из отцовской кладовки, чтобы показать ребятам) в щель между подъездной дверью и косяком. Мне года четыре или пять, и я думаю: «Сейчас отец уже дома, ножик я пока спрячу, а потом, когда меня позовут домой, я его заберу, тихонько внесу в квартиру и положу на место». Я не помню, как это все разъяснилось (наверное, ножик просто украли), но помню свой смертный страх. Ножик никак не закрывался, потому что я или сломал кнопку фиксатора, или просто неправильно ее нажимал. На себе этот ножик никак не спрятать!.. И вот тут я понял, что мне – конец. Всё. Жизнь кончена. Меня убьют… Мы очень много путешествовали с отцом и с мамой. Начиная с 1967 года, объездили на машине почти всю европейскую часть Советского Союза. И везде палатки, костры, дикие пляжи… Я всегда удивлялся тому, как отец выглядит… Нина: – В восемьдесят лет, глядя на Вацлава Яновича со спины (то есть не видя бороды), его можно было принять за пятидесятилетнего, потому что он выглядел очень молодо. Удивительно, но морщины его почти не коснулись… Евгений: – И казалось, что он действительно будет жить всегда… – Как отец отнесся к твоему решению стать актером? – Мне всегда казалось, что папа как-то странно относился к моему актерству. Когда я не поступил, отец сказал: «Меняй фамилию». А когда я поступил (это случилось после смерти Владика), не было вообще никакой реакции. Ну, поступил и поступил. Для меня это было счастье! Я уехал из Горького, от родителей – значит, теперь свободная, бесконтрольная жизнь!.. Потом отец приехал на какой-то спектакль, не то курсовой, не то дипломный, и очень удивленно сказал: «Ничего, ты знаешь, ничего…» Он крайне удивился, когда я получил красный диплом и остался работать в Москве. Это было для него как снег на голову: «Ничего себе!.. Что это? Как это?!» При этом он побывал у нас на свадьбе… Она была веселой, многолюдной, длилась с утра до утра. Это было семнадцать лет назад… Нинин отец достал какой-то «уазик»… В двенадцать мы расписались, в час я показывался в Театре на Малой Бронной. Потом приехал, мы чуть-чуть посидели с родственниками, которые, собственно, и настояли на свадьбе… Она была в коммунальной квартире, в комнате, в которой жила моя тетя, а до этого – бабушка. Таня привезла из Ленинграда здоровенный торт… Народ то приходил, то уходил. Мама без конца носилась между комнатой и кухней. А когда возникла возможность купить кооперативную квартиру, отец дал три тысячи. При том, что он никогда не давал денег. Было время, когда мы с отцом играли в «шарики». Поясню. Когда я совершал (по его мнению) хороший поступок, то получал обыкновенный шарик из подшипника. Когда набиралось оговоренное количество – десять штук, то исполнялось мое желание: велосипед и т. д. А потом был период, когда мы договорились на какие-то смешные карманные деньги – двадцать или тридцать копеек, но практика эта довольно быстро сошла на нет, и я, естественно, стрелял деньги у матери. Когда я учился в институте, мать присылала по сорок рублей в месяц, отец – никогда. На квартиру он дал, но как бы в долг. Потом сказал, что возвращать деньги не надо. Он дал деньги на первый наш телевизор, кажется, это было шестьсот рублей. Когда Нина была уже беременна, мы переселились в ту квартиру, в которой сейчас живем, и отец дал еще недостающие три тысячи. Потом, когда я сказал Тане, что и машину он нам отдает, она не поверила… Нина: – Вацлав Янович тогда уже был слепой, но вывел машину из гаража сам. Не видя. Евгений: – Так же он ездил в сад, различая перед собой только свет и тень. Это тоже характер. Это – жажда жизни на «полную громкость»… Сам. Только сам. Праздники в семье справляли замечательно. Только папин и мой дни рождения отмечали редко, потому что числа неудобные: двенадцатого июля у меня – все на каникулах, а у папы третьего августа – все в отпусках. Однажды, я учился в пятом или шестом классе, пришел из школы с грандиозной обидой: «У всех день рождения как день рождения, а у меня летом. Мамуля, давай праздновать полрождения, когда все ребята в городе». И мы стали отмечать его в последний день зимних каникул. А вот мамин день рождения, 1 октября, справлялся всегда шумно, большой компанией, потому что все были в городе. Огромный стол, всегда было весело, отец разворачивался как мог: вел стол, рассказывал байки, анекдоты. Он сам настаивал водку на лимонных корочках, и она в доме была всегда. На его поминках мы выпили ящик водки, купленный самим отцом по талонам… И даже в 1998 году, когда я приезжал в свой родной Нижний на двадцатилетие окончания школы, мы с одноклассниками допили еще отцовскую водку… Запись и литературная обработка Н. Васиной. Наталья Литвиненко ВЛАДИСЛАВ 
Однажды позвонила моя подруга Зоя и пригласила на посиделки. Я замялась… «Зой, я устала…» – «Вот у нас и отдохнешь!» Я приехала, когда наш общий друг приглашал на вечеринку по телефону своего знакомого, актера Владислава Дворжецкого. В тот вечер Владислав не смог приехать. Поблагодарив и извинившись, он спросил: возможно ли перенести «веселье» на два дня? И, действительно, приехал. Я ожидала, что появится такой… Актер Актерыч. Но приехал совсем другой человек!.. Меня совершенно поразил его рост: я-то думала, что этот «Хлудов» невысок, а оказалось… Когда мы здоровались и знакомились, я смотрела на него как в потолок. За весь вечер он не произнес почти ни слова, всё слушал других, разглядывал… Без всякой тени какого-либо превосходства или собственной значимости. Он просто сидел и молчал. А я не могла оторвать от него глаз, точнее, я старалась не смотреть на него, но всё время следила за ним боковым зрением. Он притягивал к себе, ничего не делая, забирал всё внимание, и с этим ничего нельзя было поделать… Когда Владислав собрался уходить – у него в тот вечер была съемка, – Зоя спросила его, придет ли еще. И тогда он спросил: «А Наташа будет?» Он необыкновенно красиво ухаживал. При встрече всегда целовал руку… Мы очень долго говорили друг другу «вы»… В первое время Влад много рассказывал о себе. О детстве в Омске в общежитии театра, где дети с утра собирались в школу бесшумно, чтобы не потревожить поздно возвратившихся накануне после спектакля и угомонившихся далеко заполночь родителей. О своем желании после окончания школы стать медиком, сформировавшемся под влиянием талантливого врача – отца Наташи, его первой юношеской любви. Так в биографии Влада появилось медицинское училище. Вспоминал он о службе на Сахалине, возвращении затем в Омск, чтобы поступить в медицинский институт. К вступительным экзаменам он опоздал и по совету матери, чтобы не терять год, поступил в только что открывшуюся при Омском ТЮЗе студию, где Таисия Владимировна преподавала танец. Студию он закончил в 1968 году. «В театре драмы, где работал после окончания студии и где практически вырос, – вспоминал он, -я по-прежнему оставался Владиком». Неудовлетворенность работой, безденежье (а к тому времени у него уже были сын и дочь) заставляли задумываться о другой работе. Может быть, ушел бы с геологической экспедицией, не появись тогда в Омске Н. Коренева, второй режиссер с Мосфильма, которую Влад называл киномамой, – благодаря ей он вскоре пробовался в «Бег» (первоначальное название фильма – «Путь в бездну»). Ни разу, ни одним словом или намеком он не дал мне понять, что ему негде жить. Если бы мне еще раньше об этом не сказала Зоя, я так и осталась бы в неведении… Уже потом, после инфаркта Влада, когда наши отношения стали определенными, я вызвалась помочь правильно собрать и подготовить документы и выписки. Он был совершенно беспомощен в этих делах и даже не верил, что это все-таки возможно – иметь свою квартиру и привезти туда свою маму… Но когда всё получилось (для этого Владу пришлось взять в долг у кого было возможно) и ему выдали ордер на квартиру в Орехово-Борисове, он радовался как ребенок. И тут же взялся обустраивать, искать мебель, покупать для нового дома всякие мелочи – ручки, полочки… Это доставляло ему немыслимое удовольствие… Что бы он ни делал, что бы ни рассказывал, всё было подчинено одному – получше узнать меня. А узнавал он так: просто входил в мою жизнь, и всё. Когда мог – встречал после работы, спрашивал, что нравится, что люблю, как работаю, что делаю сейчас? куда собираюсь вечером? а завтра что? еду к маме? а можно вас подвезти? После поездки в Быково к маме, где она отдыхала, мы вернулись к моей подруге. «Приехали вы, сели вдвоем за стол на кухне, – вспоминала потом она. – На столе стояла большая тарелка зелени. Свет был приглушенный, полумрак… и эти двое сидят, о чем-то тихо разговаривают и с обеих сторон обрывают эту траву». А мы целый день с Владиком ничего не ели: полдня провели в дороге и о еде даже не вспомнили… А мама во время первой встречи в Быкове мне все говорила: «Ой, дочка…. Только актера тебе еще не хватало… Да еще с тремя детьми!» Но позже все вопросы и сомнения отпали сами собой, когда родители познакомились с Владиком. По дороге в Подольск, где жили мои родители, я предупредила Владислава о том, что они, привыкшие к кочевой военной жизни, живут очень скромно и чтобы он не удивлялся аскетизму обстановки, которая всегда была в родительском доме… «Ну что вы, Наташа!?» – смутился он ужасно… У меня был замечательный отец, который много лет заведовал охотничьим хозяйством, боролся с браконьерством, любил и знал природу. И едва Владислав познакомился с отцом и за столом было произнесено слово «охота», ни о чем другом они уже не хотели говорить… Потом съемки продолжились вне Москвы, и приблизительно месяц его не было. Мы редко общались, в основном по телефону. Вернувшись, он позвонил, а у меня за этот месяц произошел какой-то перелом, и я почувствовала какое-то отчуждение: мне казалось, что у него там что-то произошло и я ему, по большому счету, не нужна… В общем, я решила прекратить всякие отношения, хотя они меня глубоко взволновали. Мы встретились накоротке, он вернул спальный мешок, который я давала его сыну Саше в поход, и я постаралась быстрее откланяться. Потом Владик как-то гостил у Митьки5. Они поговорили обо всем, и Владику захотелось позвонить мне. Думаю, что если бы он не выпил тогда пару рюмок, то так и не решился бы побеспокоить меня вновь, поскольку был человеком чрезвычайно деликатным, глубоко чувствующим, с тонкой нервной конституцией. Позвонил, я почувствовала, что он раскован (а ведь был чрезвычайно зажат!), и говорит именно то, что ему сейчас хочется сказать. Я попыталась как-то сформулировать, что всё происходящее между нами – не то… не так… На что он ответил: «Я сейчас приеду». И приехал, несмотря на приготовления к ноябрьским праздникам и перекрытые в связи с этим дороги. Примчался, вошел в квартиру, лег на пол и обнял мою собаку. И что-то такое сказал, потом встал, подошел ко мне и обнял. И всё встало на свои места. Мы пошли к моей Зое. Шли и по дороге обнимались. А он всё говорил: «Ой, как хорошо, что уже можно прикоснуться, руку погладить, обнять!» Каких-то конкретных слов не было, да они и не были нужны… Зоя как-то мне рассказала, как они с Владиком однажды гуляли, говорили о жизни, о том о сем: «О тебе много разговаривали, о женах и мужьях, о женитьбе… И Владик сказал: «Что я могу оставить Наташе? Раннее вдовство, детей и долги…» А в общем-то умирать ведь не собирался, собирались жить… К моменту тяжелейшего инфаркта у Влада со дня нашего знакомства прошло четыре неполных месяца. Он никогда не жаловался и всегда всё переводил в шутку… Я, например, вижу, что он просыпается бледный, спрашиваю: «Как ты себя чувствуешь?» – «Прекрасно!» – «Владик, тебе плохо? Может быть, таблетку? Ну ведь вижу, что плохо!..» – «Нет, мне прекра-а-а-Сно… Замечательно». Он нравился женщинам. И думаю, именно потому, что в нем видели истинно мужское начало. Не фальшивое, показное, а настоящее, без всяких жеманных штучек, которыми так или иначе обрастает мужчина-актер (в большинстве случаев). От навязчивых особ Владик находил способ сбежать, замести следы. Пересаживаясь с одного троллейбуса на другой, скрываясь в переулках и проходных дворах, он старался прийти домой без «хвоста». В картине «Встреча на далеком меридиане» Влад снимался вместе с отцом и рассказал об этом так: «После съемок был банкет, пьянка, а мне было так плохо!.. Я валялся в соседней комнате, корчась от болей. Но отец-то, конечно, подумал, что я был с женщиной…» Еще когда мы только познакомились, разговаривали об этом фильме, Зоя полусерьезно-полушутя сказала Владику: «Ты, Владик, там ученый бабник!» А он вдруг посмотрел на меня и сказал: «Ну, ты-то так не думаешь?» При всех его влюбленностях и браках он не был бабником, не был человеком, которому необходимо было пополнять свой донжуанский список. Влад был целомудренным человеком. Именно целомудренным. Он был более чем сдержан. «Недругов у меня нет», – говорил он. С людьми Влад знакомился запросто: на съемках, в поездках, перекусывая за одним столом… Так, случайно он познакомился с Михаилом Адамянцем, который стал его близким другом, а вся его семья стала для Владика, его мамы, а потом уже и для меня просто родной. Миша рассказал мне такую историю. Когда после съемок какого-то фильма и ресторанных проводов съемочная группа должна была улетать, партнер толкнул Владика в бок и тихо сказал: «Да спрячь ты свои деньги, Владик, вон тот заплатит… Ему же за счастье – посидеть с такими актерами». Изменившись в лице, Владик резко осадил коллегу. Это был случай из ряда вон выходящий, поскольку каких-то ярких проявлений эмоций и уж тем более резких слов Владик старался не допускать никогда. Он просто уходил от всего, что его раздражало или не устраивало в жизни. Физически самоустранялся. Он был очень обязателен в том, чтобы встретить, проводить, отвезти куда-то и меня, и моих родителей. Папа как-то возвращался из санатория. Мы переговорили с ним по телефону, Владик услышал этот разговор и тут же заявил: «Я поеду встречать папу! Когда? Во сколько?» Или звонил Мите, уезжая из Москвы, чтобы обязательно позаботились, непременно встретили, отвезли… Папа мой, конечно, обалдел, когда увидел улыбающегося Влада в огромной лисьей шапке у трапа самолета, в метель… В конечном итоге дней, когда мы были вместе, очень мало. Он беспрестанно уезжал, возвращался усталый и… счастливый от того, что вернулся. Однажды Влад поехал досниматься во «Встрече на далеком меридиане» с Митей на машине, с Гитаной. И уже на обратном пути из Белоруссии остановились передохнуть, размяться и дать собаке погулять. Пока Влад с Митей курили, не заметили, как Гитана исчезла. Она просто сбежала. По возвращении мне Влад ничего не рассказал, а на мои расспросы: «Что случилось?» – сказал только: «Всё… Гитаны больше нет». А что произошло, мне потом рассказал Митя: «Мы ее искали, звали, выкликали – нет и нет. Исчезла. И в какой-то момент Владик как-то так сжался весь и сказал: «Всё. Поехали. Она не вернется». Ты знаешь, наверное, какая-то часть Владика умерла уже тогда… Я его уговаривал поискать еще… – «Нет, мы поедем». Ну, конечно, с Гитаной жить было уже невозможно: машину она не переносила, оставить ее было не с кем. А в моей однокомнатной квартире две большие собаки просто не ужились бы. Гитана была огромной!.. Таисия Владимировна, мама Владика, поначалу отнеслась ко мне с некоторой осторожностью. Я ее понимаю… Когда единственный сын столько раз обжигался и столько раз по самому высокому счету платил за свою доверчивость, мать уже автоматически старается оберечь его от любой женщины… Она долго приглядывалась ко мне. Потом мы с ней подружились и уже на всю жизнь, особенно после того, как Влада не стало. Характер у нее был сложный, упрямый, с нею было не так просто договориться. Она была строгим (иногда, может быть, слишком) ценителем того, что делал Влад в кино и в театре. Безусловно, он считался с ее мнением. До самой смерти (она ушла через два года после Влада) она оставалась тоненькой, стройной. Даже на кладбище к Владу она приходила летящей, девичьей походкой, так что люди, незнакомые с ней, не могла поверить в то, что идущий навстречу силуэт – не молоденькая девушка, а мать, похоронившая более чем взрослого сына. Когда Влада не стало, я часто бывала у Таисии Владимировны и каждый раз слышала: «Так, сегодня мы не говорим о Владе». И каждый раз всё заканчивалось им. Позднее она мне говорила: «Наташа, вы должны думать о себе, о жизни. Владика не стало, но на этом ваша жизнь не должна заканчиваться. Я вас должна выдать замуж…» Часто повторяла: «Наташ, ну Владик же совершенство…» – «Да, Таисия Владимировна, совершенство». Она была очень требовательным человеком, вымуштрованным балетом, и, конечно, всё время Влада держала в ежовых рукавицах. Меня всегда потрясало… вот, например, свободный день – можно выспаться, не вскакивать ни свет ни заря. Можно поваляться, вздремнуть, если захочется (я такая)… Владик, как только просыпается, открывает глаза, – сразу же встает. Его так приучили с детства: «Проснулся – нечего больше валяться!» Я первое время думала: «Ну вот, сейчас посудку помоем, сначала за столом отдохнем, посидим, потом все разбредутся прилечь, соснуть часок…» Какое там!.. Мои надежды летели прахом. Мне было даже неловко: они как солдатики оловянные, а я носом клюю… Иной раз думаю, что это Владику как раз очень нужно было – прилечь да отдохнуть, когда дома, когда есть время… Нельзя же все время быть натянутой струной!.. Врачи, у которых наблюдался Влад после инфаркта, настаивали на перемене его работы: длительные экспедиции, неустроенность, нагрузки – всё это было категорически противопоказано. Ему присылали сценарии (они ему нравились!), но он вынужден был отдавать их назад с отказом, потому что знал, что сниматься не позволит здоровье. Например, отказался от главной роли в «Поэме о крыльях» Даниила Храбровицкого (Сикорского писали на Влада), от «Отца Сергия» (которого потом сыграл Сергей Бондарчук) у Игоря Таланкина… Ему очень хотелось, но он говорил, что уже не сможет этого сделать. Ну, а то, что оставалось и за что он брался в последнее время, страшно огорчало: не устраивало качество режиссерской работы, профессиональное мышление постановщика. С каждой поездкой он все быстрее уставал, все больше и больше сил приходилось затрачивать на самые простые вещи… И вот тогда он подумывал да и говорил о том, чтобы бросить всё и засесть за машинку. Где между ним и чистым листом бумаги не будет никого и ничего. Он всерьез хотел заняться литературой, воспроизведением своих мыслей, воспоминаний, ощущений… Сетовал на то, что его типаж используют одинаково, что он переиграл всех белогвардейских офицеров… На встречах со зрителями на вопрос: «Что вы хотите сыграть в жизни?» – отвечал: «Очень хочу сняться в комедии, у Эльдара Рязанова, например…» Со смехом говорил, что вот последний раз, когда он столкнулся с Рязановым в коридоре «Мосфильма», тот с ним даже поздоровался… Вообще он ко всему относился с юмором. Я, например, стою, руки в боки и корю его за то, что он не выпил вовремя таблетку или не съездил на процедуру, а он: «Вот сейчас ты сахарница, а вот так (опускает руку) – чайник!» Он обязательно ввернет в разговор что-то такое, от чего становится смешно, то язык покажет, то глазки начинает строить, и дальше уже ни о чем говорить серьезно невозможно. Всё напряжение уходило моментально… Да мы и не поссорились за всё время ни разу. Художественные книги он читал не как простой читатель, увлеченный сюжетом. Обращал внимание на язык, стиль, приемы того или иного автора (об этом он размышлял в дневнике), которые обычный читатель вряд ли заметит. До последнего времени не расставался с дневником… Влад всегда мечтал о загородном доме, уединении. Даже когда все-таки удалось приобрести и обустроить свою квартиру, он подумывал ее продать и на вырученные деньги купить домик под Москвой, в котором можно было бы жить круглый год. Мечтал постоянно… Однажды зимой мы поехали по объявлению, но не добрались, застряли в снегу… Он был совершенно, говоря современным языком, нетусовочным человеком. Влад рассказывал, что некоторые его маститые сотоварищи по цеху, зная о проблемах с жильем, советовали ему побольше быть на виду, лишний раз выступить где надо. И приглашения такого рода поступали. Но он под всякими предлогами в конечном итоге уклонялся. Лучший же отдых – уединиться где-нибудь на природе. На другой день после своего последнего дня рождения – 27 апреля, череды предшествовавших этому дню поездок в Одессу и обратно со спектаклем «Сильнее смерти» (по пьесе Лавренева «Сорок первый») – он отбыл на нашу маленькую дачку в Салтыковке, прихватив лишь самое необходимое из вещей и еды, блокнот для записей и собаку. После работы я спешила туда с полными сумками, где на перроне в одно и то же время в сумерки в течение недели поджидал меня Влад. При походах на вокзал он опирался на огромную палку. Рядом неизменно собака – колли Карри, преданно его любившая. Казалось, в этот период они были одни в дачном поселке, где допоздна светились окна нашего домика. Как снимал напряжение, усталость? Углублялся в вязание, которое было всегда под рукой, даже в поездках. Меня забавляло, когда он с серьезным видом снимал мерку с меня, перед тем как начать вязать. А увидев у какой-то актрисы более модный силуэт, безжалостно распускал работу и начинал всё сначала. Любимое чтение – книги о животных, растениях. Он привозил их из каждой поездки. И еще любимое занятие – фотография. Седьмого мая 1978 года Владик уезжал с концертами в города Поволжья. Мы с Сашей его провожали с Павелецкого вокзала. Уезжал он в Саратов, где, кстати, не был с тех пор, как закончил школу. Там у него была первая любовь – Наташа, которую он пошел искать. Спросил у мальчишки: «Живет здесь Наташа?» – «Живет», – и навстречу ему вышла маленькая девочка Наташа… Когда мы шли по перрону к поезду, вдруг услышали: «Смотри, вон идет Дворжецкий с сыном и дочерью!» Эта фраза повергла его в шок. Он был удручен: «Неужели я выгляжу таким старым?!. Какой ужас…» Мы начали его успокаивать: «Ну что ты! Это просто кто-то глупость сморозил, не подумав! А ты слушаешь…» Конечно, он выглядел старше своих лет, с этой сединой, лысиной, но ведь он был такой молодой – фигура, осанка!.. А улыбка так просто мальчишеская. Недаром уже значительно позже кто-то, посвятив ему стихи, написал так: «Сверхмудрость лба и беззащитность рта». На следующий день позвонил. Рассказал о том, как повидался со своей первой любовью Наташей… Потом он уехал в Куйбышев. И вдруг 21 мая раздается телефонный звонок: «Я завтра приеду. У меня вырисовывается несколько дней, а потом после Москвы буду двигаться в Белоруссию». Там он должен был работать чуть больше недели. И приехал. Ровно за неделю до смерти. Мы договорились, что я его встречу. Хотя он делал вид, что не любит проводов-встреч, но на самом деле всегда был очень рад и тому и другому. Утром пытаюсь поймать такси, а его всё нет… Катастрофически опаздывая, я все-таки долетела до вокзала, прибежала на перрон – а там нет не только. Владика, даже поезда уже нет. Расстроилась ужасно!.. Опять в такси – и домой. Подъезжаю к подъезду – и, о радость, вижу, как Владик выгружает вещи и коробки из такси. Увидев меня, шагнул и сказал: «А я уж было подумал, что ты у мамы в Подольске!» Потом мы поехали к Таисии Владимировне и весь день были у нее. К вечеру я засобиралась домой, так как там осталась одна моя собака – колли Карри. Ее надо было вывести погулять, накормить… Таисия Владимировна стала просить Владика переночевать. Тогда он попросил меня тоже остаться. А собака?.. И я уехала. Но на следующий день, уже рано утром, Владик был дома. И пожаловался: «У меня всю ночь так болел живот…» Но это были уже спазмы, связанные с заболеванием сердца и сосудов, которые отдаются в животе и пищеводе. У моего отца тоже было больное сердце, он перенес ранний инфаркт, поэтому я с детства знаю, что это такое… – Владик, я тебя прошу, давай поедем в больницу, давай покажемся врачам… – Я не могу ничего изменить, ты же понимаешь… Вот приеду и обещаю – буду лечиться столько, сколько нужно. На другой день в четыре часа с Белорусского вокзала у него отходил поезд. Я прибежала с работы. Договорилась с машиной, чтобы не ловить такси. Купила ему новый плащ. Он очень ценил это, поскольку… я думаю, не очень много ему в жизни перепало заботы… Идем мы по перрону. Влад возвышается над толпой (рост-то метр восемьдесят!), красивый, в новом плаще, только бледнее обычного. И потихонечку от меня засовывает таблетку под язык. «Тебе плохо?» – «Прекрасно», – и улыбка во всё лицо. Когда Влад уже заболел, врач, муж Мики Дроздовской6, ему говорил: «Ни в коем случае не курить, спать много, не перерабатывать… Приспособиться к создавшемуся положению. Ни в коем случае не пытаться преодолевать сердечные боли: стало плохо – тотчас ляг, полежи, отдохни… И так можно жить много лет!» Курил Влад много до последнего дня, поднимался рано, а съемки, как известно, процесс заведомо ненормированный… А о том, чтобы отменить концерт из-за того, что почувствовал себя нехорошо, и говорить нечего… Владик рассказывал, что однажды в Ялте сам вызывал инфарктную бригаду: «Давление у вас нормальное, а кардиограмма не показывает нам ничего такого, о чем можно волноваться». Сразу после этого у Владика случился первый инфаркт. Он просто перенес его на ногах. Там же, в гостинице, Владик хлопнулся в обморок. Вызвали скорую – и опять врачи не установили, что был инфаркт. Из Ялты они с Митей должны были возвращаться на машине с Гитаной, которую Влад всегда возил с собою, так как считал, что не может оставлять собаку на даче в Переделкине7. Гитана ненавидела машину и тем не менее ездила с Владом постоянно на съемки в разные города. Он мне позвонил и сказал, что у него температура, ломота, что ему плохо… Я категорически возражала против машины: «Владик! Ну, возьми билет на поезд, прошу тебя!.. На машине Митька сам доедет, а ты лучше сядь на поезд, ночью хоть расслабишься, поспишь…» Он действительно взял билет на поезд, а Митька с Гитаной поехали своим ходом на машине. Перед отъездом в Москву Владик решил показаться пульмонологу, сделать рентгеноскопию легких. Опытный врач, сделав ему кардиограмму, спросила: «А когда у вас был первый инфаркт?» – «Какой первый инфаркт?..» – «То есть как какой!.. Вы что, не знаете, что у вас был инфаркт?! А вот сейчас у вас второй, свеженький». И немедленно уложила его на каталку, вызвала других врачей, и Влада перевезли в реанимацию Ливадийской больницы. Саша, сын Влада, был в это время у меня – я его забрала из интерната на каникулы. Влад был доволен, что Саша ездит к моим родителям, был спокоен за сына. Мы ждали Влада с вокзала дома, я знала, во сколько приходит поезд… А утром 30 декабря звонок администратора картины «Встреча на далеком меридиане»: «Наталья Викторовна? Я вам звоню… Влад просил передать, что он… в реанимации, у него – инфаркт, но что всё у него нормально». Весь Новый год мы провели в разговорах об инфарктах, и на следующий день, первого января, я решила ехать к нему. Все говорили: «Это бессмысленно… Тебя к нему не пустят…» А мне было уже всё равно: не пустят – где угодно, хоть в коридоре, хоть на ступенечках больницы буду сидеть и ждать, когда пустят, записку передам… Влад должен знать, что кто-то из близких рядом, что он не один в этой Ялте. Я приехала, через друзей нашла адрес, где можно остановиться (поскольку с гостиницами была проблема), бросила сумки – и в больницу. Это было 3 января. На дрожащих ногах вошла к лечащему врачу: «Я хотела бы повидать Владислава Вацлавовича Дворжецкого…» – «Да, вы можете его повидать. У него тяжелейший инфаркт. Как жив остался – не знаю, благодарите случай… Чем дело кончится – не знаю, пока ничего обещать не могу». Вошла к Владу, увидела его бледное, заросшее щетиной лицо. Он, конечно, ужасно обрадовался и вообще делал вид, что всё у него прекрасно (как всегда!) и что он вообще сюда заскочил на минутку, случайно, просто отоспаться решил… Никаких разговоров о сердце, никакой печати страданий на челе, как это бывает у некоторых мужчин, которым просто необходимы благодарные зрители их «страшной боли». Владик же строил глазки всегда, как бы ему плохо ни было. Он мог водить своими огромными глазами, как кошка. Дети Микаэлы, с которой они играли спектакль «Чудо святого Антония»8 у Саввы Кулиша, прозвали Влада «дядей Котом». Из Ливадийской больницы Влад вернулся 12 февраля. Там он буквально научился заново сидеть, ходить, даже дышать… У нас с Владиком был уговор: простившись, развернулись в разные стороны и уже не оглядываемся друг на друга. «Не оглядывайся» было законом. Но когда я провожала его в последний раз, уже уходя по перрону, я вдруг оглянулась. Какая-то тяжесть навалилась на меня, и я не выдержала. Владик плохо себя чувствовал, но я не боялась, все-таки надеялась, что, когда он вернется, мы будем серьезно его лечить. Оглянувшись, наткнулась на его взгляд, и он тоже смотрел мне вслед. И вот это меня поразило больше, чем то, что я сама оглянулась… Мы помахали друг другу, и я сломя голову побежала проводить комиссию по делам несовершеннолетних. Хотя мне так хотелось постоять и подождать, когда уйдет поезд… Это было нашим последним прощанием. Коробку с кинолентами по вагону несла я, и то, что он это позволил, означало, что он очень плохо себя чувствовал. Так уж сложились наши с ним отношения, что я не была категоричной, не могла сказать: «Владик, ты этого не делай». Или: «Ехать туда не надо». Я была бы не я, да и ему такие отношения не были нужны. Понимала, что даже если дело касается его здоровья, то я все равно не могу ничего диктовать или навязывать… Мне казалось, что Влад настолько намучился в жизни, настолько уже натерпелся вот этой пожизненной «неволи», какого-то нескончаемого давления жизненных обстоятельств, что просто боялась сделать что-то не так, как хочет он сам, как считает нужным. Я не могла его остановить тогда… и, конечно, не могла предвидеть его такого скорого конца. Если бы это можно было предвидеть!.. Он звонил мне из Белоруссии почти каждый день. Последний звонок состоялся из Могилева 25-го, часов в семь вечера (конечно, я была на работе), а на другой день, 26-го, он переехал в Гомель и позвонил мне уже оттуда. И так было хорошо слышно, как будто Влад звонил мне из соседней комнаты. «Откуда ты звонишь, Владик?» – «Из «карла-марла!» – ответил он смеясь, так он называл мою квартиру на улице Карла Маркса. Потом я, конечно, догадалась, что это всё шуточки… – «Почему ты не на встрече со зрителями?» – «А я им разрешил уйти». В чем дело, он мне тогда так и не сказал, всё шутил… А потом я узнала, что киномеханик, который должен был в тот вечер крутить его ролики, напился и начал ставить не те бобины, а ведь всё было выстроено в определенной композиции… Владик этого уже стерпеть не мог, извинился перед зрителями и пригласил их на другой день. Двадцать седьмого звонка не было… А на другой день в Москву приехал друг Влада – Андрей, с которым он познакомил нас почти два года назад. Андрей хотел у меня дождаться приезда Влада. В этот день ранним утром, часов в семь, меня вызвали на пожар, который случился в одном из зданий нашего района. Мне надо было поставить свою подпись: день был воскресный и всё районное начальство было на дачах, а я оказалась дома – вызвали меня. К половине девятого я уже вернулась, а по телефону начались потренькивания межгорода, какие бывают, когда не может кто-то прозвониться. Сижу перед телефоном, жду… и так до двенадцати часов – трень-дзынь, трень-брень… Уже и Андрей приехал, я говорю: «Это Владик пробивается. Точно он». Мы, поглядывая на телефон, пили чай, вспоминали… А он все тренькает, этот телефон… берешь трубку – ничего. Ни-че-го. Потом уже с Майей Булгаковой я была в Гомеле, в этой гостинице, разговаривала с администратором и девочками из той смены… Владика не стало в девять сорок пять… Они вспоминали, что тем утром он все-таки выходил звонить. Но я думаю, что этот звонок пришелся как раз на тот час с небольшим, когда я была на пожаре. Конечно, я понимаю, что это необратимо, но всё равно сколько времени потом я съедала себя мыслями: «…если бы я не поехала на тот пожар, то он бы меня застал. Мы бы с ним поговорили… и может быть, всё обошлось бы…» Но это, к сожалению, невозможно. Невозможно ни предвидеть, ни остановить… В отзывах и статьях о последних концертах Влада пишут о том, что, видимо, он чувствовал себя очень плохо, хотя ни на минуту не сократил программу. Это было слишком заметно… На фотографиях (его снимали не только из зрительного зала, но и тогда, когда он об этом даже не догадывался) за день, за несколько часов до смерти видно, что его и без того необычное лицо – уже потустороннее, уже «по ту сторону»… Нелли Михайловна Львова, которая встречала его, устраивала в гостиницу, вспоминала: «Когда мы ехали на машине, Владислав вдруг спросил: «А кладбище у вас в Гомеле красивое?» Так вот, до двенадцати дня продолжалось это телефонное треньканье. Несмотря на то что Влада уже не было. Ни до, ни после этого, сколько живу, такого с моим телефоном больше не было… В двенадцать Андрей поехал по своим делам, а я – к маме в Подольск. Целый день мы с родителями провели в воспоминаниях о Владе, в разговорах о нем: как себя чувствовал перед отъездом? что решили с лечением? с отпуском? какой свитер надел в дорогу? теплый?.. Вечером я возвращаюсь домой, в Москву, сажусь на вокзале в троллейбус… Деревья в цвету… так красиво всё, а я думаю: «Какая же я счастливая!..» Я уже рвалась домой, почти бежала, знала и ждала, что сейчас будет звонок от него… Все эти два года, связанные с Владом, я жила с ощущением того, что «так не бывает!., так хорошо – не бывает…» Я помню, что меня совершенно переполняло это счастливое ожидание звонка. Ключей у меня не было, я отдала их Андрею, который должен был вернуться домой раньше. Звоню. Дверь открывает совершенно бледный Андрей. Говорит: «Пойдем на кухню… Я тебе должен что-то сказать…» А я вижу, что на нем нет лица, и понимаю: с Владиком что-то случилось… Он рассказал мне всё. Как только мы с Андреем в двенадцать уехали, начались звонки. Первому позвонили Мите (Дмитрию Виноградову), но его тоже не оказалось дома, он был на даче. Трубку взяла его мама, Ольга Всеволодовна Ивинская. Она в ужасе позвонила приятелю Мити, и тот помчался на эту дачу в Луговой, по Савеловской дороге. Очень скоро Митя с Валерием Нисановым?9, убедившись, что меня нет, поехали в аэропорт Быково… Я слушала Андрея, и до меня ничего не доходило. Я не понимала всего до конца (когда что-то случается страшное, то появляется защитная реакция, при этом информация не сразу проявляется в виде чувств, эмоций. Только помню ощущение, что сейчас надо куда-то мчаться – чем-то Владику вроде помочь, что-то сделать для него… Осознания того, что его больше нет и всё кончено, у меня не было. Я не плакала, не рыдала. Андрей даже боялся меня оставить, хотя бы на минуту. Говорю ему: «Ты спускайся, я сейчас что-то возьму…» – «Нет-нет, выйдем вместе». Мы сели в такси и поехали в дом к Ольге Всеволодовне Ивинской, куда позже привезли Таисию Владимировну с Сашей. Она тоже ничего не понимала. Но когда меня увидела, только тогда поверила в то, что с Владом случилось что-то страшное. До этого она никак не могла понять: чего от нее хотят? что случилось? почему у всех такие лица. Владик умер? Что за чушь!?! Она даже сердилась… Наконец раздался звонок из Гомеля. Митя попросил к телефону меня: «Ты знаешь… – сказал он мне, – я видел его… У него такое спокойное, разглаженное лицо, что это вселило в меня какое-то спокойствие… Он успокоился, понимаешь? Он устал… а сейчас успокоился. У него на лице даже какое-то умиротворение… Ему сейчас там хорошо. Тебе ехать не надо. Займись организацией похорон, возьми всё на себя». Это меня, как ни странно, тоже успокоило, если можно так сказать… За организацию похорон я взялась с каким-то остервенением. Делала всё сама: должна была съездить на кладбище, достать и купить всё необходимое… Этими заботами я хотела себя как-то занять, как будто хлопотала о нем живом. Мне всё хотелось сделать своими руками так, как мог бы желать Влад. Потом был ужас… Три месяца подряд я просыпалась в шесть утра в каком-то оцепенении. Мне всё казалось, что мы Влада еще не похоронили – и я еще что-то не сделала, не успела, не позаботилась о нем… В ужасе осознавала реальность… Всё уже свершилось. Всё кончено. К понедельнику пошли звонки, какие-то команды… Позвонили из Белоруссии, где Влад умер. Что-то нужно было им уточнить насчет костюма – прежде чем положить в гроб, надо ведь переодеть во всё новое… Его вещи приехали потом… Ночь на 28 мая, когда умер Влад, была очень душной, грозовой. Как стало ясно потом, он не спал – пепельница была полна окурков. Номер был забит подаренными накануне цветами. Утром, когда к нему вошли, дверь была не заперта… Он лежал на кровати, одетый в домашние спортивные брюки и рубашку. Носки, постиранные, еще влажные, висели в ванной. Он лежал с книжкой «Животный мир Белоруссии», подаренной ему на одном из концертов. На обращенный к нему вопрос не ответил… Когда Митя с Валерой Нисановым туда приехали, мест в гостинице не было, и их поместили в номер Влада. Первую ночь Митя спал на кровати Владика. Там ему приснился сон о том, как он его везет домой… И потом это в точности повторилось. Они с Валерой нашли за бешеные деньги какой-то пикапчик. Митя говорил: «Я спал на этом гробе… Тесно, даже приткнуться некуда, а ехать далеко, долго…» Через год после смерти Влада на вечере памяти, который проходил буквально на каком-то стоне, навзрыд, мы решили использовать ролики, с которыми он ездил на встречи со зрителями. Но оказалось, что это… не совсем возможно. Когда среди прочих кадров вдруг видишь, как на экране Влад падает, убитый топором (кинофильм «До последней минуты»), когда он в образе святого Антония воспаряет в небеса (последние кадры, которыми завершается спектакль «Чудо…»), это вызывало шоковое состояние, потому что одно дело, когда после ролика актер выходит живой и невредимый и что-то рассказывает, припоминает, как это всё снимали… А тут… 
По сути, целая когорта актеров ушла от нас почти друг за другом: Владислав Дворжецкий, через два года – Владимир Высоцкий, спустя восемь месяцев – Олег Даль… Для прощания гроб с телом поставили в Театре киноактера. Влад не состоял в штатах ни одного театра и ни одной киностудии. Театр киноактера – это мосфильмовская площадка, а на Мосфильме Влад сделал основную часть своих картин. И на этой сцене Влад играл свой последний спектакль – «Чудо святого Антония». Это было действительно чудо!.. Спектакль произвел фурор в Москве, на него было паломничество. Савва Кулиш после смерти Влада решил «Чудо…» снять с репертуара, поскольку заменить Влада не смог никто. Запись и литературная обработка Н. Васиной. Дмитрий Виноградов ОН СЫГРАЛ ФАУСТА 
Однажды он проснулся не просто знаменитым, а всенародно признанным и любимым. Миллионы зрителей увидели его впервые на буранном полустанке в Крыму, сотрясаемом грозной канонадой гражданской войны. На экране – булгаковский «Бег» в постановке Алова и Наумова. В роли командующего белым фронтом генерала Хлудова – никому неизвестный артист Владислав Дворжецкий, неизвестный – до этой роли. Командующий фронтом сидит на бочке, в солдатской шинели с полевыми погонами, через силу отдавая краткие страшные приказы, бестрепетно раздавая кому жизнь, кому смерть. Его словно не занимает земная суета последнего сражения: неведомые горние выси и адские глубины буравит его демоническая мысль в поисках какой-то главной истины, которую не дано познать человеку. Да и человек ли он? Сколько ему лет? Можно дать и тридцать, и сорок, и тысячу. Обнаженный череп вылеплен создателем как мощный мыслительный аппарат, обреченный выполнять бесплодную и сокрушительную работу. Морщины его лица то углубляются, то мельчают, отражая перипетии душевной борьбы. Впрочем, есть ли у него душа? Кажется, что ее заменяют огромные, напряженные, всепознающие и всепрожигающие глаза, взгляд которых – то ужас, то мольба, то приговор. Между тем Влад – так называли его друзья – отнюдь не был человеком мрачным и тяжелым, не чурался веселого застолья, обожал анекдоты, смеялся часто и заразительно, умел прятать раздражение и сдерживать гнев. Мне посчастливилось дружить с ним последние десять лет его жизни и многое о нем узнать, и все-таки его человеческая суть осталась для меня загадкой. Иногда, случайно проснувшись среди ночи в одной с ним комнате, я видел, что глаза его открыты, дыхания не было слышно. Я окликал его, он отзывался как-то не сразу, словно очнувшись от обморока или вернувшись из неведомых далей. Может быть, он обладал той редкой способностью спать с открытыми глазами? Я спрашивал его об этом, а он отшучивался. Несмотря на, казалось бы, предельную дружескую откровенность, свои большие и маленькие тайны он охранял ревниво, хотя и вежливо, как бы поднимая ладонь: стоп, сюда хода нет. Нередко мы говорили с ним о его ослепительной внезапной популярности, о зрительской любви к нему, несмотря на имидж актера отрицательного обаяния. Мне мерещился какой-то секрет, что-то вроде фаустовской сделки с Мефистофелем, а он лишь посмеивался, лукаво прикрывая свои пустынные глаза и поднимая стоп-ладонь… Однако однажды мне удалось укрепиться в этой догадке о сговоре с потусторонними силами. Не знаю, был ли сговор на самом деле, но для меня и Влада с какой-то минуты он стал существовать вполне реально. Работая в ту пору в подмосковной церкви в бригаде реставраторов, я пригласил его приехать. Мы побродили по деревне, вокруг храма, а когда позвал его зайти внутрь, он отказался холодно и спокойно. Задетый его отказом, я спросил почти серьезно: «Тебе туда нельзя, что ли?» – и он ответил: «Нельзя. Ты думаешь, всё так просто? И время уже идет». И время шло – стремительной круговертью новых съемок, бесчисленных знакомств, поездок по стране. Влад словно пытался перехитрить его: много ездил, купил машину. Он даже бороду отпустил по совету католикоса всех армян Вазгена, с которым лежал в больничной палате после инфаркта. Мудрый иерарх сказал, что надо менять внешность, если чувствуешь над собой нависшую угрозу судьбы. А судьба не уставала напоминать о своей неотвратимости. Однажды, за год до смерти Влада, мы с ним попали в серьезную аварию на ночной дороге в Белоруссии, под Гомелем. Ну чем не мистическое предупреждение, звонок: именно в Гомеле он умер через год от второго инфаркта, в гостиничном душном номере грозовой ночью. Гроза была и в день его похорон. Невольно вспоминается булгаковский Мастер, ушедший из земной юдоли именно в такую ночь. К Булгакову Влад относился с глубоким и чуть болезненным интересом, особенно к мистическому началу в его творчестве. Познакомившись на съемках «Бега» с вдовой писателя Еленой Сергеевной, он восторженно пересказывал ее рассказ о том, как она в поисках камня для памятника Михаилу Афанасьевичу попросила рабочих перевернуть приглянувшуюся глыбу в маленьком арбатском дворике и увидела на ее открывшейся стороне высеченный профиль Гоголя… Творческое родство двух великих мистиков представлялось Владу несомненным, как и его собственная причастность к их гениальному наследию: сыграв Хлудова, он мечтал о Воланде и Вие. Иногда, шуточно репетируя, он так произносил известное «Поднимите мне веки…», что по коже пробегал озноб. Повседневность ставила другие задачи. Влад переиграл в кино всех «героев нашего времени»: летчиков и бандитов, журналистов и фашистских офицеров, инженеров и путешественников. Порою актерский интерес дремал в нем, проявлялись желчь и неудовлетворенность. Ставшая текучкой работа в кино всерьез его уже не задевала. Может быть, лишь роль капитана Немо в детском фильме привлекла его возможностью вжиться в образ подводного отшельника, существующего в ирреальной, неземной таинственности. Здесь он мог бы подняться гораздо выше сделанного, если бы советская цензура не превратила демонического капитана в заурядного поставщика оружия диким племенам, борющимся с гнетом колониализма. Но и здесь выражение его знаменитых глаз – на этот раз усталых, полуприкрытых, без тоски и угрозы глядящих вслед убегающим пленникам, – свидетельствовало о том, что мог бы быть Дворжецкий нового периода. Он сыграл еще несколько ролей в кино, и осталось от них одно общее ощущение: как много может этот человек и как мало от него хотят. Это были гвозди, забитые микроскопом. В результате он сделал своим главным ремеслом так называемые встречи со зрителями. Беспрерывно мотался из города в город с тяжелыми коробками кинороликов, на выступлениях перемежая их показ с ответами на вопросы, хохмами и байками, которые так сладки в устах знаменитостей. Так он зарабатывал на жизнь себе и близким – денег постоянно не хватало, и он отчаивался… Тяжелая коробка с кинопленкой в конце концов сыграла свою роковую роль. Предпоследнюю его зиму мы провели вместе на подмосковной даче. Стояли сорокаградусные морозы. С треском лопалась кора яблонь по ночам. Топили печку, пилили дрова, молчали днем и разговаривали ночью. Его огромная рыжая собака с восторгом купалась в сухом сверкающем снегу, а он откровенно наслаждался дарованной напоследок тишиной. Это был красивый, высокий, атлетического сложения человек, живший жадно, иногда нервически поспешно, очень подвижный и в то же время способный часами застывать в одной позе. У него было странное хобби – вязание на спицах. Я до сих пор иногда мысленно вижу его с этим вязаньем в руках. Позвякивают спицы, катается по полу клубок – Влад вяжет, плетет загадочную паутину, словно желая запутаться, исчезнуть в ней со всеми своими тайнами, и вдруг дергает за нитку и распускает почти готовое изделие… Может быть, закономерна и актерская планида Влада? И никакой мистики? Есть ощущение, и в него верится, что его жизнь – краткий, трагический, блестящий поединок с судьбой, который значительнее, выше ростом самого актерства. За славу, за всеобщую любовь приходится чем-то платить. В чем компромисс со славой? Может быть, в том, что надо перейти из одной оболочки в другую, оставить самого себя, бросить, как бросают семью, отчий дом, любовь, дружбу, – и заключить неведомую, ту самую фаустовскую сделку. Какую? Но здесь поднимается ладонь Влада – стоп, дальше нельзя. Двадцать восьмого мая 1978 года я добивался билета в аэропорту Быково, чтобы вылететь в Гомель. Тут же приехал Валерий Нисанов, друг мой и Влада. Он устроил с билетами и дальше, в Гомеле, всё организовал, преодолев немыслимые препоны. Тело Владислава Дворжецкого мы привезли в Москву на машине-пикапе со страшной надписью на борту: «Перевозка мелких грузов»… Наверное, только любовь способна противоборствовать с судьбой. Он был любим, я знаю, жаль только, что любви на успешное противоборство оставалось слишком мало времени – она пришлась на конец жизни. Но бронзовый бюст на его могиле поставлен именно усилиями Наташи, его безусловно доброго ангела. Мы бываем там – и она, и Валерий, и я. Он любил детей и животных и на вопрос о главной своей мечте отвечал, что хотел бы иметь остров, вроде Сахалина, на котором служил военным фельдшером, и устроить там заповедник для зверей и детворы, а самому быть комендантом острова. Остались разрозненные странички дневника, попытки прозы, строчки стихов, из которых помню несколько строк: «Мы в актеры пошли, в шуты – Балаганной изведать феерии…» В его феерии не сыграны ни Гамлет, ни Воланд, ни Вий, ни комендант заповедного острова. Он сыграл Фауста. Владислав Дворжецкий НАЕДИНЕ С СОБОЙ Из дневников  Омск. Детство
Как только начинаешь вспоминать, особенно такое далекое, что было в детстве, очень трудно сосредоточиться. Одно воспоминание тащит за собой другое, третье и так до бесконечности, но всё вместе – это непоследовательно и сумбурно. Точно помню, какая у меня была ванночка для купания, когда я был совсем маленький: складная, как старые раскладушки, из розовой клеенки. Даже помню запах этой клеенки. Очень хорошо помню огромного медведя, который стоял на лестнице в Доме пионеров. Помню его оскал, желтые клыки, на ощупь помню его… Во время войны Зорьку, лошадь, которая возила директрису театра Лину Семеновну Самборскую, убили, и мы, все маленькие, бегали смотреть вниз на кухню на ее кишки, лежавшие в корыте. Они были синие, нет, голубые… Должны были сделать колбасу… Дом двухэтажный. Одна половина каменная, другая – из дерева. Обе половины соединены аркой, под ней – ворота. Ворота большие, железные. Когда их закрывают, они скрипят, но закрывают их редко. Еще на них можно кататься. В каменную половину дома ведет мраморное крыльцо, под ним вход в подвал, в подвале – кочегарка. Если подняться по крыльцу, то попадешь в вестибюль, в углу которого будочка – там когда-то был телефон и сидел дежурный. Пол в вестибюле очень красивый: красный, в шашечку, и в каждом квадратике подобие цветка. Из вестибюля по мраморной лестнице можно попасть на второй этаж. Ее мрамор, зеленоватый, с вкраплениями белых кусочков, очень похож на срез колбасы с кусочками жира и от этого кажется скользким. Он и на самом деле скользкий: редко кто из жильцов не падал, спускаясь по этой лестнице. Перила у нее были деревянные, с медной решеткой из кованых листьев и завитушек… В доме, и в каменной и в деревянной половине, жили люди, которые так или иначе имели отношение к театру, – это было общежитие артистов. Оно так называлось, но жили в нем и гримеры, и художники, и рабочие сцены, и даже кучер, который возил директрису театра. …Фонтан был чудом строительной техники! Это бетонная чаша диаметром метров двадцать и глубиной метра два, в центре, на пьедестале, – сооружение, напоминающее женщину с кувшином. Я никогда не видел, чтобы вода, как положено в фонтанах, била живописной струей. Эта сидящая женщина была вся в ржавых подтеках, потому что напора не хватало и вода сочилась из кувшина по груди и коленям этого изваяния. Нос был отбит чьим-то метким камнем, и казалось, что это кровь из носа капает… По всей окружности чаши были проделаны маленькие дырочки, из которых должна была бить вода и образовывать этакую живописную арку, но, увы, воду можно было только высасывать, что и делали мальчишки, приникая ртами к теплому от солнца бетону. Из этих дырочек можно было добиться подобия фонтанчиков, если сильно в них дунуть, тогда из остальных выскакивали струйки ржавой воды, а во рту надолго оставался вкус ржавых гвоздей. Зимой вода, накапливавшаяся в фонтане, замерзла, и можно было кататься на коньках… Это я сейчас пишу про коньки, а тогда не знал даже слова «коньки» – был совсем маленьким. …Почему люди, стоит им войти в вагон и бросить на полку вещи, прилипают к окну?.. Что там? Тот же перрон, на котором они в ожидании томились и который знаком им до каждого окурка и… странно это, а?.. Капает… Это, говорят, хорошая примета – уезжать в дождь… Правда, куда уезжать, – послезавтра обратно… Кто-то нарисовал на стекле с той стороны морду смеющуюся, и она плачет. Провожает нас? Обязательно плакать, когда провожаешь? Почему-то всегда плачут! Мама никогда меня не провожала, даже в армию, – это у нас правило такое было, и не встречала – этого я не любил!.. Никогда не давал даже телеграмму о приезде и всегда знал, что мама скажет: «Я же вам говорила, что он приедет!» Она всегда так говорит и всегда перестает болеть, если… Уже просто льет… Сейчас поедем! Темно за окном, а всё равно стоят и смотрят!.. Еще долго будут смотреть, даже когда ничего не будет видно, совсем… А бабушка всегда становилась сердитой перед моим отъездом. Это так, чтобы не плакать… И в день отъезда никогда не убиралась!.. …Вот и всё!.. За окном так темно, что это уже и не окно, а зеркало, и в нем я. В себя смотреть, что ли?.. И зачем я еду?.. Март. 1976 г.
Я взял лыжи, вернее, достал с большим трудом – своих у меня не было (да и откуда? – угла-то своего не было), – и пошел на автобусную станцию. Ехать надо было в сторону Семенова. Где-то там, на полпути, надо было сойти с автобуса, свернуть с тракта и дальше идти на лыжах в Егорьевский скит. Уже в автобусе я начал осторожно расспрашивать, как туда проехать. Осторожно потому, что все они друг друга знают и, конечно, им интересно, зачем незнакомец идет в Егорьевское. Сказать истинную причину моего прихода было невозможно. Не мог же я сказать, что хочу посмотреть на кладбище и, если удастся, найти несколько бесхозных складней. Надо было что-то придумать… На вопрос «Зачем?» я отвечал, что у меня там похоронен дед. Посоветовали выйти на тридцатом километре, около магазина, и через Утятино я попаду туда, куда мне нужно. На магазине была приколочена вывеска «Товары первого спроса». Зайдя внутрь, я понял, что «первым спросом» здесь пользовались водка и слипшиеся конфеты, отдаленно напоминавшие подушечки. Ничего другого не было. Март стоит теплый. Настолько теплый, что в свитере было не холодно. Я очень давно не вставал на лыжи… Какое удовольствие доставляло мне это раннее утро, уже таявший днем, но еще хорошо держащий лыжи снег!.. Я испытывал предвкушение свидания с чем-то еще неясным для меня и необыкновенную свободу и отрешенность от всего, что я оставил в городе. Впереди виднелось какое-то селение с каменной церковью. Я подошел ближе. На сельской улице никого не было, наверное, потому, что было еще очень рано. Много домов каменных, но каких-то умирающих. Церковь с небольшим кладбищем стояла над самой рекой, название которой мне было неизвестно. Внизу, под обрывом, у проруби копошилась какая-то старуха. Ведра большие, берег крутой, и трудно было представить, как она по нескольку раз в день таскает их. Я помог ей и спросил, как называется село. – Скоробогатово. Вытащив из рюкзака хлеб с котлетой, я стал есть и всё думал, как предложить старухе. – Церковь эта давно стоит?.. Она ничего не отвечала, а только очень внимательно смотрела, как я ем. Было очень неловко, и я протянул ей бутерброд. Но она мотнула головой, отвернулась, приложила к глазам ладонь козырьком и стала смотреть на церковь. – Посьтисся? – Что? – переспросил я, не поняв вопроса. – Посьтисся, говорю? А-а-а… Она увидела котлету, у которой цвет был одинаков с хлебом… Был Великий пост… Хлеб… – Да так… – Может, молока дать? Чего ж так-то? – Нет. Спасибо, бабушка! Она оторвала взгляд от церкви, посмотрела на меня. На ведра. На реку. – Не очень давно стоит. Тут деревянная была еще, дак та очень давно. Упала, родимая, прошлый год. А в этой склали разное, теперь нету у нас церкви – далеко ходить. А раньше к нам ходили… Она заморгала часто-часто и нагнулась к ведрам. – Погодите, бабушка, а утварь в церкви была? Иконы? Всё погибло, что ли? – По домам разобрали. Она двинулась к дому. Ведра оттягивали ей руки, и я еще подумал: «Почему без коромысла?» Она обернулась. – Я бы тебя в дом позвала, да сын запил, гуляет. Я смотрел ей вслед. Она шла, такая маленькая… Вода из ведер выплескивалась… А как называется река, я её так и не спросил… Большая речка… Я доел хлеб, встал на лыжи и пошел дальше. …Скоробогатово. Быстро разбогатевшее село. А что? Большая дорога рядом, построили церковь, и стали люди из окрестных сел приходить – можно было поторговать… Всё правильно. Я даже не спросил, как идти дальше, надо же?! Оглянулся – старуха сидела на завалинке и, прищурившись, смотрела мне вслед. От старой Вятки осталось только половодье, весенний разлив, заливающий Слободу. Именно здесь когда-то родилась «дымковская игрушка». Церкви и собор, построенные Видбергом, взорваны, за что, естественно, наши дети и внуки будут проклинать нас. Сегодня третье марта. Календарная Весна началась, а снегу подваливает Зима, хотя прекрасно понимает, что деться некуда. Красиво за окном, очень красиво! Чего, казалось бы? Черное и белое всё – снег и деревья, а вот надо же, как красиво. Правда, ели и сосны вроде бы зеленые, но снег такой белый, что эта незначительная зелень кажется черной. Окно похоже на гравюру… Митька10 уехал в Москву. У него сегодня плотный день. Митька, этот точно скоро с ног свалится. То все были здоровы, только он в больных числился, а теперь все вокруг больны, а он один крутится. Не поехал я сегодня к врачихе своей в поликлинику, все разъехались, и так тихо, так тихо… Сердце чем ближе к вечеру, тем сильнее болит, что это?! Что-то вспомнил прошлую зиму, наше житье с Митькой в Крюкове… Впервые мы туда поехали с ним в начале декабря прошлого года. Надо было сделать что-то такое, что утвердило бы нас в собственных глазах, – какое-то преодоление чего-то! Дача, на которую мы с ним попали, была как раз то, чего нам не хватало11. Место как в сказке. Лес, который зимой да еще в темноте – мы приехали ночью, – казался особенно дремучим и страшным. Во дворе лежал совершенно не тронутый снег, даже жаль было наступать на него… Вся эта красота, окружавшая дачу, так контрастировала с тем, что было внутри, что не знаю, как у Митьки, а у меня последние волосы встали дыбом. Кучи помороженных яблок лежали на кроватях, на полу замерзшая вода, в воздухе стоял густой замороженный запах мышей. Обратно мы долго ехали молча. Митька вел машину. – Там нужно будет сменить пару батарей – это нетрудно, они есть во дворе. Ты чего загрустил? А я не грустил, а был просто в отчаянии. Какие там батареи? Мне казалось, что только разгрести всё это – и то уже немыслимый подвиг. …Следующий раз мы ехали в Крюково с двумя баллонами для сварки, батареями, какими-то трубками (сгонами) и с Колей, сварщиком. Это был человек невысокого роста, с голубыми глазами. Он лежал на баллонах с кислородом и ацетиленом, курил, выражая на лице полную уверенность, что всё будет хорошо. Митька невозмутимо вел машину, просевшую до земли от необычного груза, я со страхом поглядывал на Колину сигарету. «Шамиль», так прозвал наш ВАЗ-2102 Мишка Адамянц, поскрипывая подвесками, вез нас в будущее!.. Будущее наше началось с того, что Коля развил бурную деятельность. – Давайте, ребята, заливайте систему, только горячей водой, может, где прихватило, а там посмотрим, где что!.. Хорошо, что в баллонах был еще остаток газа и плита функционировала. Стали греть, стали заливать. Из пяти батарей три оказались с дырками, но это была еще не самая главная беда. Котел, который был в печке, тек – вот это уже было под ложечку прямо!.. Что творилось в доме!.. Вода, которая вытекала из батарей и труб, растекалась по полу и превращала его в каток, так как температура в комнатах и на улице одинаковая – минус двадцать пять… Коля заменил батареи (я смотрел на него, как на бога), сказал, что надо опять заливать систему. Залили. Котел тек фонтанчиком. Слили. Воды в комнатах, особенно в кухне, было по щиколотку. Коля залез по пояс в печь заваривать котел. Он варил «телом», варил «приварком», мы заливали воду, а фонтанчик переходил в другое место на котле, мы сливали воду. Коля варил, мы заливали воду – фонтанчик… и так пять или шесть раз. Каждый раз по десять ведер. Всего, значит, шестьдесят, и большая часть воды оставалась на полу… Каждый следующий раз мне хотелось плюнуть, но Митька говорил: «Чего ж столько мучились, давай еще раз!» И всё начиналось сначала. В конце концов я понял, что умру, вмерзну здесь в этот лед, но никого не выпущу. Очередной раз поелозив огнем по боку котла, Коля крикнул: – Заливай и затопляй! – Зальет же огонь! – Не зальет, выпарит воду, если потечет. Затопляй. Затопили. Огонь действительно пересилил фонтанчик, и вода, нагреваясь, стала сначала тихо, а потом всё сильнее постукивать в трубах. Где-то еще подтекало, но всесильному Коле удалось, не заставляя нас сливать воду, что-то подтягивать, замазывать… Колю мы довезли до такси, отправили в город и кинулись на дачу – там всё могло прогореть в печке, и фонтанчик… Я не знаю, как мы ночевали, помню, что утром градусник показывал плюс четыре… Вспомнил, что зимой около дна реки такая же температура и при такой температуре хорошо хранить соленые огурцы – когда-то наши деды опускали бочки с солениями в прорубь… Но мы же не огурцы!.. Начиналась наша борьба за существование, борьба за жизнь в полном смысле этого слова! Гоняли в поисках дров, пилили их, мотались за газом, доставали электрообогреватель, так как печка с ее системой не удовлетворяла нас – температура на даче выше двенадцати градусов не хотела подниматься. В конце концов пять каминов стояли в разных углах дачи, счетчик крутился как бешеный, и мы потребляли энергию маленькой электростанции. И каждый день, как наказание свыше, мы вытаскивали машины: то Митькину рыжую, то моего «Шамиля»! Зима тоже, я вам скажу, подкладывала нам свинью – тридцать, двадцать пять, тридцать пять с минусом. А однажды утром, когда я подошел к окну посмотреть, чем она нас порадовала, я думал, что сломался градусник, – сорок один градус! Блаженствовала только Гитана, большую часть времени проводившая на улице: она– приходила заиндевевшая, но довольная свалившейся на нее свободой. В конце концов человек привыкает ко всему, правда, если он активен, иначе просто умирает. Привыкли к нашему житью-бытью и мы. На даче стало уютно, вечера удавались иногда очень хорошие. У «мамки»12 мы утащили маленький телевизор, и он, конечно, скрашивал наше существование. Однажды рискнули зажечь камин, но больше никогда этого не делали. До сих пор не пойму, кто додумался дымоход в камине делать с двумя коленами через железную трубу! Митька писал стихи и, по-моему, дневник, я гулял с Гиткой и пытался ее дрессировать. На втором этаже дачи стоял маленький бильярд, на котором мы, предварительно надев на себя всё, что можно, иногда играли. В общем, жизнь входила в колею, и мы стали подумывать о гостях. Даже хотели учредить приз для первого гостя, причем для такого, который придет на дачу сам. Начали строить всякие планы, белье купили постельное, что явно говорило о том, что мы начали обживаться. Недавно напомнил ему об этой зиме, и, оказывается, он тоже часто вспоминает то время и у него действительно есть какие-то записи… Начались обычные в таких случаях «а помнишь?»… Сегодня пристал к Ханум13 и к Митьке с вопросом о том, что такое «графоман» (графо – пишу, мания – сумасшествие, толковый словарь). Ханум говорит, что это все-таки сумасшедший, клинический больной, болезнь которого заключается в постоянном писании. Но если эта болезнь сочетается с талантом, то получается гениальный писатель. В качестве примера привела Толстого, Чехова, Достоевского. Что ж, это интересная мысль, хотя я и спорил, так как хотел более подробного объяснения самой клинике. А Ханум обиделась, подозревая, что в графоманстве я обвиняю её! Митька только зачитал выдержку из толкового словаря. Переделкино, май 1976 г.
Гитка искупалась в пруду, перебаламутила всё и стала пахнуть тиной и Дуремаром… Я ей говорю это, а она только улыбается и теребит поводок. Не знает она Дуремара. Не умеет она читать про Страну Дураков. Она СОБАКА… Переделкино, 24.8.1976 г.
…Все, наверное, проходят через стихи в своей жизни! Очень многие проходят через «дневник». И, как правило, дневник пишется с расчетом на то, что обязательно прочтут. Либо человек, о котором пишется, особенно если пишущий к нему неравнодушен, либо рассчитывает не менее чем на всё человечество, чего там греха таить!.. 21.9.1976 г.
Дар – бескорыстно отданное что-то… Даром – просто так, что ли? Обладает ДАРОМ – обладает бескорыстно отданным. А если: даром всё это (зря, значит)? Так получается: обладает ЗРЯ, что ли? Черноголовка. 9.10.1976 г.
Над лесом, в котором по его виду еще должны быть грибы и партизаны, поднимается дым. Белый дым… Темнеет рано-рано… Краски леса за окном меняются… Краски дыма над лесом тоже… Ну вот, съемка14 отменена. Машина, которая должна была изображать «американку», не пришла. Она принадлежит какому-то летчику-испытателю. Может, он разбился?., В общем, начинается!.. Делать здесь абсолютно нечего, значит, всё закончится пьянкой… Черноголовка (воскресенье). 10.10.1976 г.
Тучи за окном какие-то не очерченные… в конце концов они превратились в сплошную серость, из которой посыпался снег. Это первый снег, который летает, сухой снег, пушистый… За дверью голос директора: «Доброе утро, Анна Филипповна! Со снегом вас!» Уж ему-то радоваться надо меньше всего… Звонил в Москву. Сашка15 говорит: «Всё нормально!» У него всегда нормально, а потом обнаруживаешь в дневнике пять-шесть двоек. Восьмой класс – выпускной! Что будет?! Приехала наконец-то игровая машина. «Шевроле» шестьдесят шестого года выпуска. Очень ухоженная. Хозяин очень маленького роста. Иван Алексеевич. Рыжий. Машина огромная. Черная. 11.10.1976 г. (понедельник)
Митька однажды завелся, по делу, в книжном магазине. Где, кричал, книги?! Где русские писатели? В России могло не быть селедки, мяса, чего угодно, но писателей всегда хватало!.. А правда, под огромной надписью «Отдел художественной литературы» стояли книги с речами Брежнева, «Комсомольский характер» (кто написал это и не запомнишь сроду), еще какой-то Сюнь-Юнь… А где же Пушкин, Гоголь, Вересаев, Лесков, Чехов, да мало ли?! Смех один!.. Баба какая-то подошла, говорит: «Если бы что хорошее было, я бы тоже купила!» Вот об этом полвечера проговорили с ним… Ялта. Ливадийская больница. 29.12.1976 г.
…Случай, случай, случай… А если бы я не попросился в поликлинику проверить легкие?.. А если бы я настоял и уехал с Митькой на машине?.. А если бы… Очень смешно! Это, вероятно, чувство стеснения и сопротивления. Какие каталки?.. Ольга Семеновна – зав. отделением… Цветы на окне… Как они называются?.. Врач из реанимации. Лицо у него болезненное какое-то… Опять каталка, и на нее меня переносят на руках… – Головной конец сюда, – говорит кто-то. Вывезли головой вперед. П. Н. Р. или П. Р. Н, – буквы на халате врача из реанимации. 30.12.1976 г.
П. Р. Н. – это Песоченский Рудольф Николаевич. Реанимация – это значит возвращение к жизни. 30.12.1976 г.
…Новый год!.. Я больше люблю по старому календарю Новый год!.. Владислав Александрович – зав. реанимацией. Он очень долго пролежал на этой же кровати с инсультом: «Я когда лежал здесь, всё на эти деревья смотрел. Чего я только в этих сучьях не видел!.. А сейчас ничего – деревья и деревья!» Смешной! Как же можно не видеть?! 8 января 1977 г.
Просился, просился я обратно. Мне уж и советы всякие подавали: к начмеду обратиться, а вот сегодня пришел Плотников – это один из врачей реанимации – раз-два на каталку и вниз в родную реанимацию, в ЦеКовку опять. Опять я важное лицо и как будто дома. А правда, такая маленькая зеленая комнатка, а уже ДОМ. И мне рады вроде!.. Интересная вещь: пока я лежал в этой комнатке «для важных лиц», всё, что происходило, воспринималось на слух. И величина его, и все события, а реанимация – это события всё время: то отравленную привезут, то перепившего до комы, то ребеночка с остановкой дыхания, в общем, хватало потерпевших… Так вот всё это воспринималось только на слух. Слышал слова, возгласы, работу разных аппаратов, бряканье инструмента, крики или матерщину… И может быть, от количества всего этого или спресованности количества в одном органе осязания (куда денешься: лежишь на спине и только слушаешь) мне казалось, что реанимационный «зал» – это очень маленькая, тесно заставленная всякими приборами для оживления человека комната, в которой между этими приборами в неудобных позами (и почему-то даже, мне казалось, стоя) расположены больные… 12 января 1977 года
…Инфаркт мы не лечим, мы просто можем попытаться предотвратить осложнения… Все поразъехались… Это – к лучшему. Что они могут сделать? Чем помочь? Мать совсем измоталась – пытается готовить на плитке в гостинице…16 13.1.1977 г.
Сегодня старый Новый год! Он для меня почему-то милее, уютнее. На подоконнике у меня цветы. Новый год, а вместо елки – цветы. …Ель моя, ель – уходящий олень… 14.1.1977 г.
Пришла срочная телеграмма из Петропавловска-на-Камчатке: любим, целуем… А Новый год начинается с пятницы… 15.1.1977 г.
…Разрешили в кровати лежать как угодно! Сестры заулыбались. Но само разрешение официальное – это уже значит, что всё сдвинулось! Сорок пять минус восемнадцать равно двадцати семи. Осталось двадцать семь дней! До двадцать шестого я должен хорошо научиться сидеть на стуле (долго). 16.1.1977 г. Осталось двадцать шесть дней. 
Дежурит Рудольф Николаевич – это ясно по громкому голосу. С ним Таня – «Большая». Рудольф заходит ко мне и выслушивает сердце, он всегда очень внимательно это делает. – Вы могли бы поговорить с начмедом и начать реабилитацию, хоть две недельки, а? …Никогда не понять ему, что мне нужно, мне необходимо вырваться отсюда ровно через сорок пять дней, я себя уже запрограммировал на это и считаю даже не дни, а… 17.1.1977 г.
Трое мальчишек заглядывают через занавеску окна: – Это он!.. – Нуда?! – Ой, точно он!.. 18.1.1977 г.
Говорят, в американской армии проводились опыты: брали абсолютно здоровых солдат, укладывали их на три недели в постель, и они после этого не могли ходить. Они просто забывали, как это делается, вернее, не забывали, но мозг подавал команды, а ноги забывали, как их, эти команды, выполнять!.. Действительно, смешно: лежишь, чувствуешь себя абсолютно здоровым человеком, то есть человеком, способным на все действия, которые выполнял до того, как лег, начинаешь вставать и понимаешь, что все не так просто, как кажется!.. Голова ходуном, колени дрожат, пот выступает… Всё надо учиться делать заново!.. А самое главное ощущение – это сердце: его всё время чувствуешь, знаешь, что оно есть. Мало того, кажется, что оно из тонкого-тонкого стекла!.. А раньше вообще не обращал на него внимания, так… есть и есть!.. 20.1.1977 г.
Что-то врачи засуетились!.. Вот смех-то! Мою последнюю кардиограмму стали – по ошибке – сравнивать с кардиограммой только что поступившей семидесятилетней бабушки!.. …Дошел до окна… За окном всё не так, как представлял! Всё не так! Пришло письмо с Камчатки. Фотография Лидки17 ее камчатского периода. Огромная она стала. 22.1.1977 г.
Дошел до ординаторской – это уже очень много. Должны звонить из Москвы. Пригодилось мое умение вязать. Девочки-сестры улыбаются причудам… Ну и хорошо, что улыбаются, я люблю, когда улыбаются… Когда входит врач и говорит, что меня там спрашивает какой-то Адамянц, я начинаю нашаривать нитроглицерин. Вот Мишка! Приехал-таки Мишка!.. Он смотрит на меня, иногда гладит, как маленького, сует какие-то яблоки… Мишка приехал – это радость!.. 23.1.1977. г.
…Там, в «зале», кто-то «уходит», по-нашему значит – умирает!.. Постников дежурит – ему не везет, у него подряд «уходит» уже третий… Он не на меня сердится, когда входит и ругает за то, что я смотрю телевизор, и когда говорит, что «мы тут слабинку дали», – это я понимаю потом, а сейчас… я болезненно не люблю, когда так со мной говорят!.. 24.1.1977 г.
Рука разболелась, говорят, флебит. Ходить из-за этого сегодня не разрешают. Симптомов флебита нет, может, нерв?.. 25.1.1977 г.
…Значит, осталось семнадцать дней!.. …Ничего это не значит, ничего! Аневризм – это когда вместо рубца образуется такой серый сморщенный мешок, который надувается и опадает, надувается и опадает, надувается и… Почему серый? Противно… 26.1.1977 г.
Рудольф предложил проходить реабилитацию в Симферополе. Хорошенькое дело! Еще месяц! Не знаю! Составили с ним график движения: когда садиться, когда ложиться, пульс и пр. Результат будет: 30 метров в день! Рука болит. Нашел точку, на которую если нажать, перестает болеть. Вчера приехал Андрей18. Хочет, чтобы я после выписки поехал к ним отдыхать… А я как эти сестры: в Москву, в Москву!.. Зачем?.. 30.1.1977 г.
Завтра Андрюшка уедет. Хожу потихоньку. Сердце ношу, а не хожу! Может, завтра пойду на улицу… Осталось двенадцать дней!.. Переделкино. 20.2.1977 г.
…На столе стоит пишущая машинка «Колибри» в чехле… От одного взгляда на нее что-то такое происходит внутри, сердце начинает биться слишком часто, что при его нынешнем положении противопоказано, и хочется не думать о ней и не можешь… Это как при втором или третьем свидании с любимой, когда уже знаешь, что будешь ей говорить, какие ласковые слова и как нежно притрагиваться… Всё ведь надо заново пережить, отстучать сердцем, отболеть им так же, как тогда… …Я подхожу к ней и осторожно кладу руку, тихо-тихо, хоронюсь сердца, приучаю его, рука начинает медленно скользить вбок, вот и первая кнопочка… Осторожнее, чтобы не спугнуть… Едва уловимый щелк грохочет, и вот сердце уже у горла!.. Мне уже всё равно, сердцу не хватает места… Вторая кнопка… Я начинаю срывать с нее остатки грубой для ее тела одежды… Вот ОНА! Вот она, готовая принять меня, мое, сделать это нашим!.. Нельзя мне, у меня с вашей сестрой должна быть мир-дружба… Но как справиться с этим невозможным желанием?.. Я касаюсь первой клавиши, и сердце начинает грохотать в унисон с ее мелодичным постукиванием, какое счастье, что я не умею быстро печатать, иначе бы оно – это мешающее мне обладать ею сердце – лопнуло бы окончательно!.. 20.2.1977 г.
…Часто, слушая вокал, свободный от жеманства, искусственности и напряжения, мы говорим, что такой-то или такая-то поет природой, естеством… С тем же успехом мы можем утверждать, что какой-нибудь умопомрачительный прыжок через препятствие, совершенный чистокровным скакуном в состязаниях на Кубок нации, – есть заслуга одной лишь всесильной и неотесанной природы, или же доказывать, что маститый чемпион велогонок взбирается на кручи альпийских перевалов быстрее всех лишь благодаря природе своих мускулов и особому строению сухожилий. Не требуется, мол, занятий, не требуется репетиций, упражнений, диеты, не нужно метода, стиля, работоспособности, дара самокритики, умения распределять силы. Всё это излишне как для вокалиста, так и для скакуна и велосипедиста. Обо всем позаботятся природа, удача, счастливый случай. Всё можно свести к статистической вероятности, к физическим условиям. Роль интеллекта, упорных занятий, воображения, мужества, умения собраться оказывается по такой логике равной нулю. Каких только глупостей не повторяют насчет роли природы и везения, забывая, что еще Данте предостерег: …на перине лежа! Ни славы не добыть, ни одеяла! 25.2.1977 г.
…отчего же так болит голова?! Уже третий день! Митьку задержала ГАИ на Минском шоссе, а он ездит на моей машине (всё еще вздрагиваю от «моей») и с моими документами. Смотрит милиционер на права, на фотографию, потом на него и говорит: – А вы не… Я вас где-то видел?! Митька решается на дальнейшую ложь. – В кино могли меня видеть. – А, да, да! Конечно, в кино! – И опять смотрит на фотографию и на Митьку. А Митька, чтобы больше быть на меня похожим, таращит глаза изо всех сил. – А знаете, я бы вас никогда не узнал, если бы не фамилия ваша… Митьке повезло, что в машине лежал буклет мой, он схватил его и сунул милиции на память, пока они рассматривали фотографии, Митька уехал. Надо возить всё время с собой буклет – помогает. Мы гуляли ночью с Гитаной, и я стал рисовать на снегу сердце, чтобы показать Митьке, что такое аневризм… – Ты голову покажи, голову нарисуй, где она? Гитана думала, что мы затеяли с ней новую игру, а я рисовал то, от чего могу умереть. «Мы больше страшимся хороших поступков по отношению к нам, чем плохих…» Может быть, потому, что не можем позволить себе таких же, вернее, не способны на такие же. В результате остаемся в долгу, в долгу вечном, в долгу, который никогда не сможешь отдать сполна. Это нас тяготит и неволит, мы перестаем принадлежать себе самим – мы начинаем принадлежать долгу… Часы – это страшно, особенно страшно становится, когда обратишь на них внимание. Так, обычно их не замечаешь, есть они и есть, но стоит задуматься о времени как о чем-то вещественном, имеющем для тебя лично предел, и часы становятся носителем такого, от чего хочется выть, кричать, кусаться… Только все это безрезультатно, как во сне: ты что-то предпринимаешь, куда-то бежишь… Так и в этом случае: можно разбить ЧАСЫ, но ВРЕМЯ все равно будет отсчитываться, так, как ты это уже видел, ты уже это знаешь, наблюдал вспыхивающие беззвучно точки – секунды, появляющиеся ниоткуда цифры минут… И в такт этим вспыхивающим точкам в мозгу звучат слова: меньше, меньше, меньше… Меньше становится не времени, а тебя самого… 3.3.1977 г.
Вчера у нас был «санаторный» день. Договорились с Митькой, что никуда не пойдем и будем проводить время, как в санатории: бездумно и беззаботно. Целый день играли в карты, ели, смотрели телевизор… Мне постоянно шла карта, и я выигрывал (кому в карты не везет, того вряд ли кто полюбит). Все было очень тихо-мирно, без всплесков, а сердце почему-то разболелось, даже страшно стало. Сегодня поликлиника, ЖСК со справками – опять ехать в Москву. Часы, вероятно, придумал добрый человек, желавший людям помочь что-то успеть, что-то не потерять, а превратились они в крохотные гильотинки, на глазах отрубающие секунды человеческого существования, и это завораживает, как всякая казнь. «Маятник, как медная секира, срубает головы минут…» 5.8.1977 г.
…За окном дождь. А может, это не дождь, а так с деревьев капает, потому что ветер вдруг налетает?.. Нет, дождь… Уже поздно, а Лидка всё еще не спит – завтра ее не добудишься. Да и незачем будить. Она уже прибегала интересоваться, еду ли я куда-нибудь с утра и можно ли ей будет «отоспаться» наконец. Спит она в сторожке, говорит, что там воздух свежий, а по-моему, там сыро, а Лидка и так кашляет… Лидка помылась, пошла в сторожку, нет, чего-то забыла, бежит обратно. – Папа, папа, скорей пойдем, скорее! – Лида, отстань, тебе давно уже пора спать, иди. – Ну, папа, скорее! Посмотри! – Что там еще? – Смотри, пап, ежик на крыльце!.. – Не трогай его, что я, ежа не видал, что ли? Отпусти его, у него свои дела. Иди уже спать в конце концов… Мать гремит на кухне чем-то… У отца третьего дня был день рождения… 6.8.1977 г. Как обещало, не обманывая, Явилось солнце утром рано… …Весь вечер и почти всю ночь небо ворчало, перетаскивая тучи с места на место, как будто что-то разыскивало. Оказывается, это была генеральная уборка. Утром Земля сверкала вымытая и ухоженная, а на каждом листике висел бриллиант… И только жасмин весь спутанный, как волосы у Лидки… – Ну, как здоровье? – Вы спрашиваете о здоровье телесном или духовном? Если о духовном, то душа нетленна и, вероятно, готовится к очередному переходу, а если о телесном – это откуда смотреть. С точки зрения завтра – хорошо, с точки зрения вчера – хуже, значит, нормально!.. У Саввы19 неожиданно наткнулся на целый «бомонд». Разговоры всё те же: «У пивного ларька» – кто и сколько выпил. Потом пришли Боря Мессерер и Белла Ахмадулина. Очень давно мы с ней не виделись… За это время она получила звание, а я – инфаркт. Боря всё время рассказывал о ресторане «Царевич», подчеркивая, что он один из дорогих… Интересно, если провести описание интерьера как места происшествия: от входной двери по часовой стрелке?! Когда входишь в дверь, то взгляд упирается в лестницу, ведущую на второй этаж дачи, лестница деревянная, выкрашенная охрой. Сразу справа дверь, мы войдем в нее позже. Под лестницей белая дверь с дыркой в левом верхнем углу в виде треугольника, за дверью чулан с лыжами, лыжными палками, сумкой и картошкой и всякой всячиной, которая попадает обычно в чуланы за ненадобностью и оседает там надолго. Ванная комната. Белая раковина. Мыло со следами зубов крыс, или «крыскинтайев» – так их зовет Митька, зубные щетки, паста, какой-то крем. Вода из крана всё время капает. Низкая, вделанная в пол ванна, над ней сломанная решетка для сушки белья. Это я сломал ее, когда однажды стирал простыни и слишком много повесил на нее сразу. Два крана – с холодной и горячей водой. Для того чтобы потекла горячая вода, надо сильно открыть левый кран, и тогда наверху в кухне зажжется газовая горелка. Нужно подождать, пока из труб сойдет холодная вода, но особо горячей она всё равно не будет. Мыться неудобно, так как ванна все время засоряется – плохой сток, наверное. Здесь же стоит старая стиральная машина, которая стирает с удовольствием, если бросить в нее один носовой платок, если два – хуже… Окно выходит на глухой забор, за которым ничейная территория. Над раковиной, чуть правее, висит множество полотенец разной расцветки и назначения, но никто, честно говоря, не знает, каким что вытирать… Есть в ванной комнате электронагреватель, такой круглый рефлектор. Это хорошо, так как маленькая батарея парового отопления недостаточно нагревает комнату. Над стиральной машиной висит замысловатая полочка, на которой иногда стоят стиральные порошки. Слева от входной двери вешалка с нагромождением старых и новых дубленок, пальто и шапок разного размера и калибра. Под ногами валенки, тапочки, перчатки и рукавицы, упавшие с батареи… Пошли наверх?.. На площадке лестницы еще одна вешалка с калошницей, на стене большое зеркало, позволяющее осмотреть себя с головы до ног. Слева от зеркала репродукция какой-то картины с мифологическим сюжетом. Стены выкрашены розовой краской, выцветшей от времени и солнца, которое попадает сюда из окна над верхним пролетом лестницы. На наружной стороне стенки чулана, выходящей на лестницу, в овальной рамке висит фотография седого мужчины с тростью, про которого Т. В.20 говорит, что это дальний предок-сенатор, хотя сама же через пять минут сознается, что это не так и вообще непонятно, кто это такой. Фотография, как все старые портреты, приятна своей «сепией» и значительностью. Справа на стене, если подниматься по верхнему пролету лестницы, висит много больших и маленьких картин в разнообразных рамках и рамах. Про женщину в шляпке и со снопом, который она держит рукой с шестью пальцами, Т. В. говорит, что это предполагаемая голова кисти Ватто, а остальное рисовал «черт знает какой француз». Васильев, Серов… Маленькая стилизованная корова из керамики, кусок коры с увядшей травой… Криминалисту пришлось бы попотеть, возьмись он описывать всё это по порядку и досконально!.. А ведь это только начало… Существуют еще четыре комнаты, кухня, огромная терраса, и везде немыслимое количество вещей, вещичек, которые развешаны, разбросаны, просто брошены как попало вперемешку с книгами и журналами, которые читаются или не читаются, во всяком случае никогда не кладутся на какое-нибудь определенное место. Над всем этим беспорядочным порядком, только так можно определить положение вещей в доме, царит Т. В. – Татьяна Валерьевна. Скорее всего не «над», а «в» и не царит, а лавирует. Сама она замечательный переводчик, профессиональный, четкий. Переводит, как она сама говорит, поэтов, которые умерли не меньше полувека назад. Кроме того, справляется с двумя малопонятными личностями – это Митька и я. Кроме нас, есть еще собаки: Чуня, Фантик и Гитана, которые требуют не так заботы, как еды. 9 октября 1977 г.
…Книги должны звучать. Можно написать: шумел лес… А как он шумел. Разве об этом напишешь? Нет, не напишешь. А может, попытаешься написать, что в этом шуме слышалось «что-то» или «кто-то», но не будет сам шум, лишь информация о нем. И только на одно перечисление слагаемых этого шума можно извести целые тома книг. Я шел по аллее, а за моей спиной слышался скрип качелей. Этот скрип был похож на оклик, произнесенный со страхом, что его услышат, и с надеждой на то, чтобы услышали. Он был похож на робкое «Эй!» Как будто неслышно догоняли тебя и, сдерживая дыхание, удивились: «Эй!» И легко прикоснулись: «Эй!..» Человечество должно научиться переводить написанное в мир звуков, в мир зримых звуков. Потому что трудно бывает объяснить, что ты видел и слышал. И всё равно останется опасность быть непонятым. Перекликающаяся стайка синиц может не вызвать у твоего приятеля того же настроения, и ты напрасно будешь заглядывать ему в глаза. Ища сочувствия своей душе. 29 октября 1977 г.
Вроде бы начинаю вылезать из болезни. А вообще-то очень обидно: руки, ноги, мышцы – всё такое здоровое, а какой-то мешочек, комок мышц не справляется. И всё это здоровое – ни к чему. Прошли три премьерных спектакля в Театре киноактера. Третий показался мне наиболее удачным, хотя свои ощущения не всегда верны!.. 9 ноября 1977 г.
Ездил в Орехово, еле ноги вытащил из глины. Сердце болит – ужасно. Вечером репетиция у Иосифа21. Опять я, я и больше ничего!.. 18 ноября 1977 г.
Утром вызывал Нелли Владимировну22. Всю ночь боли в животе. Температура прыгает до 39,5. Сказала, что анаэробная инфекция (грипп такой) и не за горами инфаркт задней стенки. Позвонил на студию, что приехать не могу. И началось. Что ж это вы? Надо бы сегодня сняться. Бросил трубку. Через полчаса приехали и стали говорить, что многие актеры на встречах со зрителями рассказывают о том, как им приходится сниматься при высокой температуре… Такой наглости еще не видел. 19 ноября 1977 г.
Всю ночь менял рубашки. Жуткая слабость, но гораздо легче. Должен прибыть Митька. Сегодня дают ордера. Мать говорит, что это Рок. Мать хандрит. Хандрит ужасно. Может, на работу ей пойти?! Воспитательный час с Сашкой вылился в лекцию об обществе и индивидууме. Не знаю. В конце концов он спросил: «Что такое общество?» Трудно понять тягу к писанию, но можно. Труднее понять тягу к чтению. Казалось бы, читать должен человек только справочник, энциклопедию, и т. д. Ан нет! Художественная литература – тоже «справочник», только справочник чувств, ощущений. Как только у машины появится эта потребность, она станет человеком. До этого она может ходить, петь, считать, говорить, производить себе подобных, читать справочники, разбирать информацию и т. д. Всё это есть составление логических цепей, это означает мышление. А чувствовать?! Ощущать! Не осязать, не обонять, не слышать – а чувствовать, ощущать. 21 декабря 1977 г.
Вызвать врача. Грипп… Май. 1978 г.
Маленькие, прозрачные, вкусные на вид шарики мисклерона. Я их глотаю, и лекарство, заключенное в них, удаляет бляшки со стенок сосудов. Сигареты способствуют их образованию. Я принимаю эти шарики, и у меня начинает болеть сердце. Я перестаю их принимать, а сигареты почему не перестаю курить?! Саратов
Дважды я узнавал адрес. Советская 3/5 к. 5 кв. 25. Во дворе мальчишка. Спросил, где корпус 5. И когда он мне указал, поинтересовался: живет ли там Наташа? Живет. Но для него «Наташа» – это была какая-то ненужная мне девочка. Мне нужна была Наташа, которой было 40 лет. А чего я, собственно, ждал: чтобы на стенке по-прежнему была надпись «Жанна – дура»? Улица та же и не та. И название не то, а домик зеленый деревянный – тот же. «Не то» путается с «тем». Двора нет, и веранда обита досками. Превратилась в комнату. Живешь, пока на земле есть хоть одно существо, которое знало тебя. Потом будут смотреть на камень, которому придана форма твоего лица, и не думать о тебе как о таковом, а просто смотреть. А если спросят: «Кто это?» – никто, кроме официальных лиц, которым это положено по службе, не сможет ответить. И ни с чем живым этот камень не будет связан. …Жил был Я… Стоит ли об этом?!. С. Кирсанов …Жил был Пруд!.. Когда-то его не было, а потом он стал, его сотворили. Правда, никто, и он в том числе, не помнил ЗАЧЕМ… Безмятежные пузыри детства, юность с волнениями от залетавших Ветерков, зрелость с желаниями во что-то вылиться (ах, эти Дожди и вечное их капание!), наконец обрастание принципами и… Он имел прошлое, настоящее и… надеялся на будущее: тихое, спокойное зарастание сегодняшнего!.. Вот, правда, все-таки что-то мешало… Иногда где-то там, глубоко-глубоко, какая-то струя… нет, струйка! Пруд начинал забыто волноваться!.. Он очень боялся, что ЭТО собьет ряску его безмятежности и привычек!.. Он пытался подавить в себе… Хорошо, что ЭТО происходило всё реже и реже… А что стало с прудом? Помните, мы даже пытались купаться в его миниатюрном очаровании?! – Перестал бить Родник, который питал его, засорился наверное… Стало болото какое-то!.. Комары… Ну и засыпали его. Мусором сначала, потом сравняли… Да какой там пруд, там лужа была! Пошли отсюда, сыро!.. Владимир Наумов ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ 
Владислав пришел к нам в картину «Бег» странным, неожиданным образом. Наша ассистентка обратила внимание на фотографию молодого провинциального актера и предложила его на роль Тихого – начальника контрразведки. Поразительны были его глаза… Потом мы с Аловым подумали, что еще лучше он подходит на роль солдата Крапилина, которую потом сыграл Олялин. Вызвали на пробы, утвердили. Потом я говорю: «Слушай, Алов… А не взять ли нам этого Дворжецкого на Голубкова?» По-моему, даже и вызывать мы Владика не стали на пробы, а выслали ему телеграмму в Омск с неожиданным, как я полагаю, для него содержанием и утвердили на Голубкова. А между тем на роль Хлудова пробовались все актеры, которых себе только возможно было представить, и известные и неизвестные… но ни в ком Хлудова, каким он нам с Аловым представлялся в нашей будущей картине, мы не находили. Сроки съемок уже были назначены, а у нас все еще не было главного героя. Положение было катастрофическое, и в этой нервной атмосфере, как призрак, над нами все время «висел» Владик Дворжецкий… Пробы всё шли, а мне все яснее и чаще вспоминался этот самый актер из Омска. Он просто поселился у меня в голове и вместе со мной, как бы глядя на эти чужие «хлудовские» пробы, как бы оттуда, из Омска, тихо говорил мне: «Ну вот же я… Посмотри на меня, я – Хлудов». И вот собравшись как-то у кого-то на кухне, чтобы обсудить все наши проблемы и заботы по картине, мы с Александром Александровичем выпили водочки и… замолчали. 
Каждый из нас втайне думал об этом молодом актере Дворжецком, чей облик уже не просто застрял в памяти, а благополучно обжился «там» и категорически не хотел «оттуда» выходить. Каждый из нас втайне не мог избавиться от идеи предложить попробовать этого парня на Хлудова, но мы молчали. Оба не могли сказать друг другу эти страшные слова, потому что боялись реакции: «Да ты что?! Этого молодого парнишку, который еще и перед камерой ни разу в жизни не стоял, – сразу на Хлудова?! Провал нам будет обеспечен!..» Действительно, идея была более чем рискованна: черт его знает, как всё обернется? Ведь у него совершенно никакого опыта, и о его актерских способностях мы могли только догадываться, предполагать… Встанет он перед камерой, зажмется, и что тогда мы все будем делать? Останавливать картину?.. Кто-то из нас (сейчас даже не помню кто) все-таки решился: «Слушай, а давай попробуем его, а?» – «Давай!» – последовал вздох облегчения. Словно гора с плеч!.. Вот так Владик, переходя от одной роли к другой, пришел к нам в «Бег» Хлудовым. 
Актером Владислав был, конечно, необыкновенным. Кого я только не снимал – самых выдающихся, прославленных и знаменитых, и не только отечественных… Все разные, каждый по-своему уникален, и во Владике была своя выдающаяся ценность – он обладал магическим, каким-то особым мистическим свойством притягивать внимание к собственной персоне. Этой способностью обладают все крупные актеры. Ну, вот, казалось бы, Ален Делон – ничего не делает… Если он будет просто идти по тротуару среди ста человек, то среди этих ста вы заметите именно его. Вы обратите внимание на то, как он идет, как снимает плащ, как надевает шляпу, как берет телефонную трубку… Он все делает по-своему. Владик – умел молчать на экране. А это очень трудно!.. Говорить натурально научились все. Актеры, как любил повторять Алов, «наблатыкались» будь здоров, после итальянского неореализма все говорят натурально. Стоит раскопать смысл сцены, заглянуть в ее суть поглубже – и сыграть ее уже легко, только будь естественным, и никаких проблем. Но это только кажется. А в действительности… Великий русский артист Мочалов мог молчать на сцене несколько минут, и зритель не мог от него оторваться… И вот таким магическим свойством обладал Владик Дворжецкий. Он владел тем редким даром, который мы называем «внутренняя тишина». Булгаковские Хлудов и Пилат подчинены одним и тем же ритмам. Во всяком случае внутреннее родство неоспоримо. Понтий Пилат: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого дня весеннего месяца нисана в открытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат». Хлудов: «В полевой длиннополой шинели с генеральским зигзагом на погонах механической неутомимой пехотной походкой по промерзшему заплеванному станционному перрону шел его Превосходительство Командующий фронтом Роман Валерианович Хлудов». То есть практически одни и те же характеристики. Во Владике абсолютно всё было для Хлудова – рост, прямая спина, разворот плеч… Но главное – глаза: иконные, страдающие и вместе с тем страшные… Владик был выше меня, думаю, метр восемьдесят восемь… Тут еще вот какой важный момент: актер должен уметь носить костюм, – если одежда «не сидит» на артисте, считай, что роль уже не получится как надо. Когда мы надели на Владика длинную, до полу, шинель, мы все ахнули. Владик ведь не был военным (до театральной студии он окончил медицинское училище), но когда надел шинель – она села на него как влитая, как будто он в ней родился. Его шаг, когда он в ней прошелся, был таким, как будто был нарисован Серовым. Помните его Петра Первого? Вот Владик ходил такой же походкой. Потом, у Владика была совершенно особенная посадка головы. Эти белые глаза навыкате, которые одновременно и пугали, и притягивали… В какой-то момент они были голубыми, а в какой-то – белыми. Владик был удивительный психофизический экземпляр. Несмотря на то что это была его первая роль в кино и он, конечно, не имел никакого опыта, с Владиком было очень легко работать. Режиссеру-постановщику очень важно с самого начала обо всем договориться с актером об общем понимании, течении роли. Но как этого достичь, воплотить в жизнь – вот вопрос. Порою случается, вроде бы всё ясно – а работа не получается… Для одного актера важно создать условия, к которым он привык, для другого – атмосферу разряженную, спокойную, для третьего – наоборот, нервную, завести его скандалом, чтобы артист начал нервничать и возбудился, и тогда ему легче ухватить то, что есть внутри роли. А порою резкое слово или грубость может загнать в тупик, актер зажмется, захлопнется, и ничего уже нельзя сделать. Владислав был очень гибким, чрезвычайно внимательным, восприимчивым к мельчайшим деталям. Кино – жуткое искусство. Вот, например, художник берет в руки кисть, и между ним самим, этой кистью и холстом – больше ничего и ничто не стоит. Только талант самого художника, и он может сделать все, что он хочет, все, на что способен. Мы же зависим от множества обстоятельств: от возможности актера, его настроения, от того, болит ли у него с утра селезенка, от того, какая погода, от умения оператора, от того, где упал осветительный прибор, напился пожарник или нет и т. д., и т. п. Все это вместе иногда создает на площадке такую атмосферу зыбкости, да и сам ты иногда не в состоянии делать то, что хочешь… И вот режиссерская задача – подчинить весь этот хаос, соединить усилия самых разных темпераментов, характеров, настроений, подчинить всё единой цели: создать некую гармонию. Но на практике, увы, это реализуется не всегда, поэтому если картина получилась на 50 – 60% от задуманного – это уже, я считаю, хорошо, а когда есть 75 – 80% – просто замечательно… Стопроцентного попадания, полной реализации того, что ты задумал снять, – у меня в жизни еще не было. Мы с Аловым всегда считали, что не сделали задуманного… В том числе и по причине непреодолимого «множества обстоятельств». С Владиком у нас не случилось никаких обстоятельств – Хлудов получился именно таким, каким мы его задумали. И что интересно, с годами мы поняли, что он так и остался «висеть» над нами! Он продолжал это «насилие» над нами!.. Уже после окончания картины, после того как ее несколько раз закрывали, после всех ее мытарств, отходя все дальше и дальше от «Бега», Хлудов, каким его сделал Владик, еще больше утвердился в нашей картине, еще точнее совпал с ее замыслом. Другого Хлудова я сейчас себе просто не представляю. Даже если взять мировой репертуар, если бы мне сейчас сказали: ну, хочешь, бери Николсона, или Редфорда, Аль Пачино или кого угодно из великих итальянских актеров, – никто меня так не устроил бы, как Дворжецкий, Ульянов, Савельева, Баталов, Евстигнеев, Олялин. Со временем этот зазор, который, возможно, был между Владиком и Хлудовым и тем, каким мы себе его представляли, исчез. Другого генерала Хлудова просто быть не может. С утверждением Владика на роль Хлудова не было никаких проблем, поскольку мы с Аловым сами себе были худсовет. Но к Владику были свои претензии со стороны представителей Госкино. То, чего мы добивались от Владика – лаконичности выражения, скупости средств, – они не понимали или не хотели понимать. Они хотели раскрасить образ Хлудова и, кроме того, лишить его страданий (это уже был идеологический мотив). Тогда, в семидесятые годы, белогвардейцев в искусстве воспринимали как схемы, не способные мыслить, страдать. Им изначально было отказано в праве на свою позицию, на точку зрения, на родину, на страдания т. д. И вдруг в нашей картине появились Хлудов и Чарнота, а в конечном счете и Серафима, Голубков, Люська, которые обладали и сердцем, и душою, и болью. Хлудов, который вешает людей, – страдает? мучается?! Да вы что! ? Работникам Госкино очень хотелось видеть в нашей картине отвратительных «зверей», а их не было – и вот из-за этого у нас были проблемы. А между тем у Хлудова был реальный прототип – генерал Слащёв с очень интересной биографией. Он был белогвардейским генералом, весьма талантливым, но одновременно жестоким вешателем. И, действительно, где бы ни был, оставлял после себя кровавый шлейф… Бежал в Константинополь. Вернулся в Россию – не выдержал. Преподавал в советской Военной академии. Однажды, когда Слащёв, стоя у карты, разбирал план своей операции, один из курсантов, отец которого по приказу Слащёва был повешен, выстрелил ему в голову (тот стоял к присутствующим спиной). И промахнулся. Слащёв обернулся и, сказав: «Плохо стреляете», – спокойно продолжил объяснять план операции, вновь повернувшись к присутствующим спиной23. Страшную память оставил он после себя. А вместе с тем был умным человеком и обладал огромным стратегическим талантом. Мы с Владиславом делали Хлудова, образно говоря, графическим, нарисованным тушью. Это был не портрет маслом, а именно графический. Был еще большой скандал вокруг финала – возвращается все-таки Хлудов в Россию или нет (несмотря на исторический факт) ? В итоге финал мы оставили открытым. Хлудова мы сняли сначала на корабле, потом на берегу, затем отдельный крупный план. Неясно, где он. Нигде. И Влад сыграл это «нигде» замечательно. Нам показалось, что такой открытый финал стал одним из наиболее интересных решений во всей картине. Когда всё повисает в воздухе: и его проблемы, и его вина, и его трагедия, и, собственно, его жизнь. Владик никогда не приходил на съемочную площадку со своими проблемами, никогда и ни на что не жаловался. Несмотря на то что ему негде было жить в Москве, он был абсолютно спокоен. Но я должен сказать, что отсутствие жилья – это судьба всех провинциальных актеров, которые до сих пор приезжают в Москву. Однако Владик не был ни «голодным», ни «холодным», это выдумки. Тогда еще у артистов были категории и соответствующие им ставки, и мы, перескочив через несколько категорий, сделали Владику высокую ставку. Конечно, это было меньше, чем, например, получал Ульянов, но ведь Михаил Александрович имел уже два десятка картин и был всенародным любимцем, а у Владика – всего лишь первая роль в кино… У него были какие-то свои «дамские» проблемы: он расходился, сходился… конечно, здесь будут жилищные проблемы, ну и что? Мне кажется, в воспоминаниях о Владиславе слишком много внимания уделяется этой стороне его жизни. Я, например, лет пять снимал комнатку у официанта из «Астории», когда уже снял четыре картины, имел звания и наполучал международных призов… Ну и что? Ничего в этом страшного нет. Я своему приятелю, замечательному писателю, который долгое время не мог устроиться в жизни (сейчас он живет в Германии), ходил голодным и холодным, как-то сказал: «Вот когда ты в первый раз наешься досыта, до отвала, ты уже никогда в жизни не напишешь о еде так, как ты описал эту куриную ножку в своей повести…» Думаю, что сам образ Хлудова наложил на Владика, точнее, уже на его человеческий образ (каким воспринимали его и зрители, и коллеги впоследствии), большой отпечаток. Но таким был генерал Хлудов, а не Владик. Он был человеком замкнутым, но иначе, чем Хлудов, – очень сдержанным, лояльным. Вообще-то я слышал, что от Владика можно было ожидать какой-то взрывной реакции, резких слов и даже непредсказуемых действий, но с нами он был очень внимателен, открыт в работе. Готов был все время учиться, слушать, исправлять, делать – одним словом, всё, что потребуется для картины. Он был как губка, готовая все впитывать в себя, и все время искал контакта и с нами, и с актерами. На озвучании мне не нравилось, как Владик говорит. Он не мог повторить того, что было сыграно. На экране все было очень органично, а повторить нюансы собственной речи у него не получалось. Я злился, но, естественно, молчал, потому что Владик был из тех людей, кого нельзя было обидеть. И он подошел сам: «Ну, что, Владимир Наумович, плохо всё, да? Вам не нравится то, что я делаю?» Я как-то попытался его успокоить, подбодрить… На следующий день над одной фразой мы работали целую смену. Владик сразу спросил: «А нельзя ли еще раз попробовать ту сцену?» И мы с ним и с Аловым долго нащупывали интонацию. Владик менял голос, сажал, делал более низким, простуженным, варьировал его силу, вкладывал в него разное напряжение, искал тембр, переломы, перепады… Одним словом, он почувствовал вкус к этому делу, и все у нас получилось очень хорошо. Когда работа над картиной подходила к концу, мы уже думали о том, как занять Владика в будущих работах, – и, увы, не находили для него образа. Мне всегда казалось, что Владу нужна партнерская поддержка, – в нашей работе он всегда пытался зацепиться крючком за партнера. Хотя Хлудов – такая роль, где герой иногда впадает в оцепенение и вдруг становится абсолютно одинок и смотрит как бы внутрь себя. Он мог долго молчать и не видеть вокруг никого. Мир в это время для него не существовал. Но это – образ Хлудова, прекрасно исполненный актерски. Владика в жизни я таким ни разу не видел. Литературным консультантом картины «Бег» была Елена Сергеевна Булгакова, с которой мы с Аловым дружили и часто бывали у нее. И Владик проявлял к этому очень большой интерес, много читал. Знакомился с архивными документами. Я никогда не видел его на сцене, но думаю, что Владик – актер не для театра. Там очень многое он должен был потерять. Он абсолютно кинематографический актер, его нужно смотреть близко, в упор, лицо в лицо. Мельчайшие нюансы, движения век, глаз, как плотнее сжались губы, как вдруг пролегла глубокая морщина – этого ведь в театре не увидишь. На мой взгляд, Владик прежде всего нес в себе мужское начало – оно в нем было очень ярко. Второе – в нем была порода. Военная косточка. Его тема – это тема очень сильного человека. Но во Владике существовал еще момент надломленности. Мне даже кажется, что он предчувствовал свой скорый уход из жизни… Хотя он ведь обладал атлетической силой. Как-то раз я увидел его выходящим из ванной комнаты. Это был Аполлон – идеально сложен и просто великолепен: широкий разворот плеч, узкие бедра, шикарно посаженная голова… Владик был скульптурно красив, и я полагаю, что вся женская часть съемочной группы определенно была влюблена в него. В нашей группе все комплексы сразу отпадали, все чувствовали себя свободно и спокойно, потому что играли в одну игру. Мы испытывали большую радость от того, что нам посчастливилось взяться за Булгакова и что всё было для этого. У нас были корабли, тысячные массовки… Сейчас один кадр из I «Бега» стоил бы всю мою последнюю картину за 1998– 1999 годы – подумать только!.. Была пятитысячная массовка, которую мы везли в I карьеры, чтобы сделать кадр со слепыми, – всего один кадр… А это, в свою очередь, двести автобусов. Попробуй сейчас сними «Бег»… 
Мне неловко об этом говорить, но все-таки я считаю, что роль Хлудова стала для Владика по сути главной в жизни. Больше образа такого масштаба он так и не создал. После «Легенды о Тиле», где он сыграл у нас небольшую роль короля Филиппа II, мы не встречались. Иногда я думаю: как жаль, что мы, режиссеры, зачастую просто не можем предложить никакой роли актеру, с которым прекрасно получилась та или иная работа. Я даже чувствую какую-то вину перед Владиком… Отец Владика, Вацлав Янович Дворжецкий, снимался у нас в двух небольших эпизодах. Он был замечательным человеком. Своеобразный и выразительный, со скрипучим голосом… Очень мягкий, добродушный и покладистый человек – среди артистов я таких редко встречал. Он был лишен всякой претенциозности и никогда не обращал внимания на неудобства, а это привилегия умных актеров и просто мудрых людей. У Вацлава Яновича, когда мы с ним повстречались, за плечами был уже огромный человеческий и актерский опыт, целая жизнь, судьба, а у Владика тогда была только первая роль в кино, но они были очень похожи вот именно в этой скромности, в абсолютной готовности к работе и к любым экспериментам, к терпеливому поиску. Запись и литературная обработка Н. Васиной. Марк Ровнер ЧЕЛОВЕК ИГРАЮЩИЙ 
Видеть Вацлава Дворжецкого на театральной сцене мне почти не пришлось. Из театра он ушел в 1970 году, а «съехались» мы с ним в 1973-м. Близкими же, а затем и по сути «семейными», наши отношения стали со второй половины 70-х годов. Перескочив лет на пятнадцать вперед, скажу, что все-таки на сцене его увидел – в спектакле «Смерть Марата» Нижегородского академического театра драмы. Участие в нем Вацлава Дворжецкого сделало спектакль событием, даже сенсацией. До этого он для меня был актером в других своих ипостасях, о которых будет сказано далее. О Вацлаве Дворжецком, человеке театра и кино, расскажут те, кто хорошо знает его там. Я же был зрителем, а иногда и партнером другой его ипостаси, первой, – актера домашнего, семейного-дворового театра. Все дети от двух лет до призывного возраста обожали его. Для младших он был настоящим волшебником. Настоящим, без кавычек. В гараже у него было несколько кукол, он разыгрывал ими целые спектакли, зрителями которых были дети нашего дома на Ошарской и прилегающих улиц. Обыкновенная трость у него оживала, ходила, обретала голос, кланялась, из рукавов ползли разные зверюшки. Обычно после таких представлений Вацлав Дворжецкий усаживал детей в машину и партиями катал. Гаражи нашего двора на Ошаре, 94 находятся на страшно грязной площадке для мусора, в центре ее котельная с высоченной трубой. Название – «Трубная площадь», или просто «Труба» – принадлежит ему. На «Трубе» был особый мир автомобилистов, и звали его там по-другому. Автомобилисты, рыбаки, среди которых он был мэтром, звали его Василием Ивановичем. И был он с ними другим, не Вацлавом Дворжецким, а именно Василием Ивановичем. Таким же рыбаком, как они, в таком же ватнике и резиновых сапогах, и говорил он их языком. Правда, все-таки при нем не матерились, сами, наверное, не зная почему. Мне много раз приходилось наблюдать, с каким удовольствием играл он этого Василия Ивановича, даже иногда закуривал, хотя бросил курить в 50 лет, с рождением сына Евгения, в 1960 году. Владел собой он необыкновенно. Заснуть мог в любой, назначенный самим себе час. Так, иногда в разгар почти ежевечерних бесед дома он говорил: «Дети мои, ночью еду на рыбалку». – И все. Шел в свою спальню, ложился и через пять минут засыпал. Как правило, это было около десяти вечера, а в час ночи вставал без всякого будильника, брал приготовленные рыбацкие аппараты, садился в машину и ехал куда-нибудь за сто километров или больше. Порядок его домашней жизни был примерно следующим (если он был дома – не на гастролях, съемках, рыбалке, охоте…). С утра – писание писем. Это было вечным укором для близких. Он отвечал на письмо не позже следующего дня, поэтому, очевидно, его переписка была огромной. Среди адресатов были друзья, лагерники, коллеги и, конечно, поклонницы всех возрастов. Отвечалось всем. В последние годы, потеряв зрение, Вацлав Янович не изменил этому правилу. Диктовал Евгению, Риве Яковлевне, иногда мне. Причем текст шел готовым, как по писаному. Попутно Вацлав Дворжецкий рассказывал об адресате, часто это были фантастические судьбы людей, сметенных железным совком власти в ГУЛАГ. «Сэр, – друг к другу мы обращались именно так, – представьте, ведь в 29-м году я был мальчишкой – девятнадцать лет, тюрьма и лагерь сводили меня с необыкновенно интересными людьми (о некоторых он рассказал в своей книге), все они были старше меня, никого не осталось, они бы и в нормальной жизни давно ушли просто по возрасту, мне уже восемьдесят, я один остался, один…» Свою книгу воспоминаний он сначала рассказал. Слушателями были трое: Рива Яковлевна, я и моя жена Мирра, кончину которой в 1990 году он очень тяжело переживал. Иногда Вацлав Дворжецкий что-то рассказывал в присутствии нашего сына Эмиля, которому было тогда двенадцать-тринадцать, время начиналось «веселое», горбачевское, и мальчик глотал новое не только из газет, журналов, ТВ, но и из рассказов участника неизвестного, запрещенного прошлого. Они – 1910-го и 1975 годов рождения – дружили. Сблизил их сначала хоккей. Оба были сумасшедшими болельщиками. Телевизора у нас не было, поэтому «болели» они у Вацлава Дворжецкого. Как-то я был дома. Вдруг минут через пятнадцать после начала матча Эмиль возвращается какой-то смущенный. – В чем дело, сынок? Что, трансляции не было? – Была. – Почему же ты вернулся? – Молчит. Ну, молчит, потом скажет. Еще минут через десять телефонный звонок: «Сэр, позовите Милечку, пожалуйста». Эмиль берет трубку, слушает, потом уходит к соседям. Только через несколько дней сын рассказал, что произошло. Играли горьковское «Торпедо» и московский «Спартак». Младший болел за «Торпедо», старший – за «Спартак», и вот за первые десять – пятнадцать минут «Торпедо» забивает подряд две шайбы. Эмиль в восторге кричит: «Ура!» – «Что «ура»?! Мы проигрываем, а ты «ура»?» – и выключил телевизор. Абсолютно детское отношение к происходящему. Раз моя игрушка хуже, сломаю твою. Конечно, через минуту все забывалось. Вспоминаю еще один эпизод болельщицких страстей. Уже международный матч, тоже хоккей. Сборные СССР и ЧССР (или Канады, неважно). Болели мы оба за канадцев (или чехов). Вацлаву Дворжецкому был очень антипатичен Тихонов, старший тренер сборной СССР. Почему? Есть рассказ, принадлежащий знаменитому музыканту, профессору Московской консерватории пианисту Генриху Нейгаузу. Мне кажется, он дает точный ответ. «Слушаю пианиста, – рассказывает Генрих Нейгауз, – и мне не нравится. Почему? Начинаю анализировать: звучит хорошо – а мне не нравится; техника? – все безукоризненно – а мне не нравится; стильно – а мне не нравится, в чем же дело? А, понял – человек мне не нравится!» Так и здесь. Не нравится. Некрасивый. Неприятный. И всё. Матч идет. Наши выигрывают. Вацлав Дворжецкий хмурится. Вовсю дает указания тренерам, игрокам, он вообще все происходящее на экране воспринимает как реальность. Вижу его, стоящего у телевизора, рука на переключателе каналов, дистанционного тогда еще не было. Рука постоянно в работе. Так что же с хоккеем? Происходит то, что чаще всего и случалось в те годы, – советские выигрывают, красиво, убедительно. И вдруг после очередной забитой шайбы, кажется, это сделал Валерий Харламов только ему свойственным фантастическим по красоте приемом, я в восторге кричу: «Гол!!!», совсем забыв, что делать этого нельзя. Хозяин поворачивается ко мне, он уже и до этого несколько раз с подозрением поглядывал, видимо, чувствуя, что мне нравится игра сборной СССР. «Сэр! Вы что?! За этих?!!» – возмущенно замолкает и – крах, телевизор выключается. Хозяин уходит в свою комнату. Мы (Рива Яковлевна, Мирра, Эмиль и я) остаемся в некотором смущении. Рива Яковлевна невозмутимо-мудра за чтением. Мирра мне: «Я же просила тебя, сдерживайся». Эмиль испытывает некоторое чувство вины – он-то всегда болеет за сборную СССР. Я стараюсь не рассмеяться. Хорошо знаю – это ненадолго, это игра, он ведь недаром посматривал на меня с подозрением. Как актер на сцене видит, чувствует зал, зрителей, так и он воспринимает нас публикой. Сейчас выйдет, и будет совершенно другое явление. И действительно, через несколько минут, как ни в чем не бывало, появляется, возникает разговор совершенно о другом, причем, конечно, он знает, что мы знаем, что он знает, что мы знаем, что он знает, и т. д. Но опередить нельзя, законы жанра нарушены быть не должны. «Да, дети мои, а как там матч?..» Явление окончено, ждем следующего. Вацлав Дворжецкий говорил: «…Выйдя из лагеря, я увидел, что, покинув малую зону, оказался в большой». Это ощущение жизни в «большой зоне» он сохранил до конца. При этом его внутренний мир был совершенно свободен и светел. Как это могло произойти, ведь удары его судьбы бывали беспощадны! Как правило, человек после смерти приобретает законченную ясность своего образа. При всей завершенности жизни (ведь он все успел, даже книгу написать) Вацлав Дворжецкий остается для меня загадкой. Зная его больше двадцати лет, я и сейчас не могу представить его реакции на многие теперешние события – непредсказуемость была одним из его свойств. Конец восьмидесятых годов был для Дворжецкого, мне кажется, ярчайшим временем его жизни. А ведь она и до того не была бледной. Убедиться в этом можно, прочитав его воспоминания. Но полностью выйти из зоны он смог лишь в эти годы. Прежде свободным в общении с окружающими Вацлав Янович мог быть только в кругу самых близких ему людей. Так, дома он сначала рассказал, а потом записал (без черновиков, набело) книгу о своей жизни «Пути больших этапов». Только дома можно было говорить обо всем. Часто это были монологи хозяина – ему было о чем рассказать, и не только о лагерном. Теперь же, в эти годы, Вацлав Дворжецкий, его судьба, его размышления о времени, истории стали нужны всем. Его приглашают на различные семинары, конференции, где он был живым свидетелем таинственного, страшного Архипелага. Его выступления гораздо шире и этой неохватной темы. Вацлав Янович был счастлив в это время. Он мог, наконец, говорить обо всем. Его масштаб, общественная значимость проявились именно в эти годы. Возвращаясь после очередного выступления где-нибудь в клубе УВД, он звонил нам, звал и подробно пересказывал все, что было там. Часто рассказ итожился фразой, ставшей в нашем доме сакраментальной: «Я им все сказал!» Вацлав Дворжецкий ясно мыслил и ясно выражался. Даже противореча себе (нередко), он бывал убедителен. Совместные вечера бывали наполнены не только рассказами и беседами, нередко переходившими в острые споры – гладким и ровным Вацлав Дворжецкий вовсе не был. Иногда он читал вслух книги, которыми обменивались в те времена только близкие, доверявшие друг другу люди. Незабываемо впечатление от такой читки повести Юза Алешковского «Николай Николаевич». Знакомый с этой книгой поймет, чем было это художественное чтение в исполнении такого мастера. Для тех, кто не знаком, поясню, что текст «Николая Николаевича» изобилует тем, что потом стало называться «ненормативной лексикой». Читал эту книгу Вацлав Дворжецкий, кажется, три вечера, и вся «соль» состояла в том, что он виртуозно обходил всю матерщину, заменяя ее мимикой, междометиями, добиваясь при этом необыкновенно уморительного впечатления. Я думаю, наш смех был слышен за пределами двора. Конечно, передать атмосферу этих вечеров невозможно. Не могу простить себе, что не использовал магнитофон. Не знаю, позволил бы это сделать тогда Дворжецкий, но попытаться стоило, может быть, в последние его годы, ведь он уже не видел. Но, думаю, вряд ли это удалось бы. Им нельзя было манипулировать. Даже ослепнув, он продолжал ежедневно гулять по двору, и мало кто из соседей догадывался о его беде. Как я упоминал, владел собой он фантастически. В этом отношении его можно считать суперменом. Не горой мышц, хотя и в восемьдесят с лишним он оставался стройным и красивым, ежедневно совершал свою зарядку, поднимаясь с нашего первого на пятый этаж и обратно. Так вот, о владении собой. В 1978 году внезапно скончался Владислав Дворжецкий, его первенец. Я увидел Вацлава Яновича на следующий день после страшной вести: потухшие глаза, сгорбленный, почти без слов. Передо мной был, казалось, сломленный человек. Таким он оставался, может быть, неделю, десять дней. Потом он как-то зашел к нам домой – это был прежний Дворжецкий: энергия, острота взгляда и речи. Я не мог понять: как он смог, что помогло ему вернуться к жизни? Думаю, то же его свойство, что помогло ему выжить там, где жить было почти нельзя, – артистизм. Может быть, кощунственно думать так, но иногда мне кажется, что даже в такие трагические моменты своей жизни он не терял ощущения сценического существования. А так как сценой и залом была восемнадцатиметровая комната в «хрущевке», пространства между актером и публикой фактически не было, то порой мне чудилось, что он наблюдает за нами, зрителями, за нашей реакцией, и если он чувствовал, что нам и, самое главное, ему интересно, представление продолжалось. Если же публика была ему неинтересна, он мог, находясь в гостях, подняться через полчаса, изысканно поблагодарить всех, поцеловать руку хозяйке и уйти. На протесты Ривы Яковлевны следовало: «Мамочка, да ведь они скучные». Таких сторонился, обходил. Думаю, что в шестидесятые – восьмидесятые годы в круг его близких друзей входили интереснейшие люди Нижнего Новгорода. Он был старшим, многие ушли из жизни раньше него. Но одиноким он не был никогда. Самым интересным для него человеком был он сам, Вацлав Дворжецкий. «Сэр, – говорил он мне, – я целый год провел в одиночной камере, мне было страшно, но не было скучно». Это был мощный дух. Для меня его потеря невосполнима. Homo ludens в переводе с латыни означает человек играющий. Вацлав Янович был азартный человек. Очень часто такие проигрываются в конце концов. Вацлав Дворжецкий выиграл. Вопреки всему. Выиграл жизнь. Татьяна Цыганкова УХОДЯЩАЯ НАТУРА 
Воспоминания о Вацлаве Яновиче Дворжецком вызывают у меня грустное чувство. Я отчетливо понимаю, что больше таких людей, как он, не будет. Наверное, потому, что жизнь развивается, идет куда-то, куда – сложно сказать. Потому, что мне самой уже достаточно лет и в этом возрасте всегда есть сожаление об уходящем. И еще оттого, что с такими людьми, как Вацлав Янович, уходит определенный пласт русской культуры как части культуры европейской и, может быть, даже общечеловеческой. Такого масштаба личности, как он, в провинциальной России почти не встречались в советские времена, тем более после того, как их очень основательно проредили. Я всегда воспринимала его как человека вполне определенного типа. Эти лицо и фигура, какие встречаешь на старых фотографиях, иногда в старых кинокадрах; на улице и даже в театре их не встретишь. Главное, что это не просто красивое лицо, – это человеческое лицо. Он – яркая индивидуальность, и поэтому лицо запоминается сразу. Один раз увидел – и уже ни с кем не спутаешь. Я почти всю жизнь занимаюсь театром, часто вижу актеров на экране, в театре. Я их быстро забываю, не узнаю. А его лицо впечатывается мгновенно и на всю жизнь. Думаю все время – почему? Прежде всего – порода. За таким человеком стоит семья, родословная. У него прослеживается несколько поколений назад, в глубь веков, то, что делает человека человеком. Второе, что бросается в глаза, это воспитание. У Жванецкого есть миниатюра о нашем театре и кино, об актерах, которым не веришь, когда они надевают фрак или говорят: «Мадам, только после Вас!» – и норовят пожать королеве руку. О Дворжецком такого нельзя было сказать. Вацлав Янович был подтянут, элегантен, причем в любом костюме. Галстук бабочкой, смокинг – это его одежда. Костюм – это его одежда. Если свитер – он родился в нем. И даже в стеганке он все равно элегантен. От него исходило какое-то ощущение чистоты, отмытости, свежести. Я нарочно об этом говорю, потому что не вижу сейчас таких актеров. Даже очень больших эстрадных артистов, кажется, надо умыть, прежде чем показывать. Вацлав Янович умел сказать комплимент, не бог весть какой, порой довольно расхожий. Например, когда он меня встречал, всегда говорил: «Боже мой, это Вы?! А я думал, что это Ваша дочь». Это банальность. Но он так ее произносил, он так жил в этот момент, что ему верилось и сразу менялось настроение, становилось тепло. Он владел искусством вести беседу, которое теперь утрачено. Собираются артисты, и беседа идет сплошь в бытовом плане. Начинают говорить, кто с кем живет, или просто ругать режиссера, стонать по поводу зарплаты. Но люди нашего поколения тоже никогда не жили особенно богато. Однако Дворжецкий всегда вел беседу на уровне духовности. Такая беседа приподнимала, а не опускала человека. Он мог, например, говорить о языке театра, об эстетике, прекрасно знал литературу. Я никогда не забуду, как он пришел ко мне сразу, когда началась перестройка. Мы обсуждали, кто вокруг нас, и он сказал: «Слушай! Хочу перечесть «Бесов». Дай мне, пожалуйста. Буду читать». Потом мы долго с ним об этом разговаривали. Во всяком случае, я не знаю ни одного актера в Нижнем Новгороде, с которым я могла бы беседовать на эту тему. Вместе с тем он умел рассказать анекдот. Причем нередко рассказывал одни и те же. Но поскольку это был эмоциональный человек, наделенный воображением, актер, то все его анекдоты были необычайно живо разыграны (он предпочитал одесские еврейские анекдоты) и удивительно заражали. О том, что он пережил, мог поведать таким живописным слогом, что все его рассказы о заключении, о том, как познакомился с Ривой Яковлевной, актерские байки было всегда интересно слушать. Есть такие занудные рассказчики, которых слушать неохота, а он умел придать рассказу живой характер обмена мыслями. В беседах он не ходил по кругу. Во многих компаниях я заранее знала, что скажет этот, что скажет тот. Дворжецкий всегда мог сказать что-то новое. У него всегда была мгновенная импровизация. Он менял свое мнение, не боялся сказать: «Я изменился, потому что прочитал то-то и то-то или думал над этой проблемой». И в то же время он был человек со страстями, пристрастиями, симпатиями и антипатиями. Во всем его облике и манере держаться проступал менталитет польского шляхтича. Была и желчность иногда, и горьковатая нота в его остроумных шутках. Он был человек живой, не «ходячая добродетель», но и озорной. В нем жил подлинный аристократизм. Это драгоценное качество. Я никогда не забуду, как смотрела во МХАТе «Живой труп» и хорошие актеры, большие актеры – Степанова, Прудкин – изображали аристократов. И все ахали, как замечательно они это делали. А во мне все протестовало. Потому что в этом изображении аристократов была одна краска – надменность, высокомерность, а это ведь неправда. Вот Вацлав Янович был подлинным аристократом. Аристократизм – это и нравственные убеждения, и поведение, и образ жизни. Я уже говорила об элегантности, воспитанности, удивительном свойстве приковывать внимание. Вошел в комнату, и больше как бы ни на кого не хочется смотреть. И при этом никакой напыщенности, никакого высокомерия. Способность моментально угадывать, кто перед тобой, и просто сходиться, если он этого хочет. Есть пафос дистанции, умение держать на расстоянии. Но в то же время простые рыбаки считали Василия Ивановича (так они его звали) своим человеком. Удивительное сочетание пафоса дистанции и простоты. Он не позволял никому распускаться и вместе с тем не давал понять, что они перед ним ничтожество. Он чем-то мне напоминал старика Болконского из «Войны и мира». Мало того что он сам был умен, интересен и обладал многогранным чувством юмора, – у него были умные руки. Он друзей задаривал рыбой, которую добывал на уровне промысла. У меня день рождения пятого июля, и он традиционно приносил мне первую клубнику, которую выращивал в саду, угощал медом со своей пасеки. Не боялся никакого труда. Для него это было даже интересно. Причем работал не как плебей, не как раб, который берется за работу, проклиная ее, а как творческий человек, с чувством собственного достоинства, который радуется тому, что он умеет делать. Как-то я собралась к нему в гости на день рождения. А Рива Яковлевна была в это время в отпуске. Ну, естественно, раз мужчина один, я пеку торт, что-то приготавливаю. Вхожу к нему, а он в фартуке. И мне говорит: «Танечка, а я уже всё испек!» – «Что Вы испекли, Вацлав Янович?» Он испек торт, вафли, сделал трубочки с кремом. Для него не существовало низких работ, больших работ, творческих, высоких, мужских, женских и т. д. Он умел всё – и всё делал легко, радостно. Аппетит к жизни у него был замечательный. Другое дело, что он был человек эгоцентричный. И потому что актер, и потому что в жизни своей натерпелся. Узнал, что такое жить или не жить. Дышать или не дышать. Поэтому рядом с такой лавой, я думаю, было иногда и трудновато. Выходил из себя: «Женька, он ничем не интересуется, ничего не умеет!» Как актер он тоже был отмечен печатью аристократизма. Боюсь, что меня будут ругать, если скажу, что он не был, что называется, «современный актер». Вацлав Янович принадлежал к классическому русскому психологическому театру. Во-первых, он замечательно владел такими двумя вещами, как создание характера и характерность. Теперешние актеры все время играют себя. Притом это неумение, по сути дела, перевоплощаться они закрывают наукообразными рассуждениями: «Я играю не Лира, а свое отношение к Лиру, я там то-то, то-то»… Это все словесная эквилибристика. Вацлав Янович если играл, то сначала анализировал характер и создавал его посредством характерности. Искал детали, приспособления, манеру и обживал образ. Для зрителя это самое интересное и есть, что актер перевоплощается. Тут он царь, тут он простой мужик, старик, почти бомж, как в фильме «Вы чье, старичье?» Он этого не боялся. С тем, как менялись приспособления, менялся весь характер и облик. И про отношение к герою он не забывал. Но прежде, чем отношение, надо все-таки создать героя. Это мне всегда нравилось в актерах старой школы. Наверное, Вацлав Янович был последним в Нижнем Новгороде актером, который работал таким образом. Во-вторых, его речь слышно было с любого ряда. Никакого бормотания, прекрасная дикция. Когда современный артист начинает говорить и произносит какие-то умные фразы, может быть даже философские, то ему тоже не веришь. Потому что голос скрипучий, непоставленный, слышно не отовсюду, идет либо бормотание, либо вещание. А ему верилось, потому что само звучание голоса, сама дикция – всё говорило о культуре, о владении мастерством, актерским ремеслом. Тем, что тоже уходит с такими людьми, как Дворжецкий. Авраам Левин СВОБОДНАЯ ЛИЧНОСТЬ В ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕСВОБОДЫ 
Только большее может описать меньшее, только зная общее, можно объяснить частное. Поэтому, когда оказываешься перед грандиозным явлением природы, вроде Ниагарского водопада, не находишь слов ни для описания, ни тем более для объяснения, можно лишь попытаться выразить удивление и восторг. Вот именно таким вызывающим удивление и восхищение феноменом природы был Вацлав Янович Дворжецкий. О Дворжецком-актере многие могут рассказать лучше меня. Как зритель я только могу пожалеть, что люди, не видевшие Дворжецкого на театральных подмостках, могли запомнить его главным образом лишь в сыгранных им в кино ролях аристократов и благородных стариков, которые даже ему не всегда удавалось оживить. Ах, если бы на большом экране или по одному из главных телеканалов показали дипломный фильм ныне знаменитого режиссера «Вы чье, старичье?», как бы обогатилось представление миллионов моих соотечественников о таланте Дворжецкого. Видимо, и он мог применить к себе слова поэта, воскликнувшего: «Только с горем я чувствую солидарность». Глубочайшая солидарность с тем привычным и поэтому не замечаемым горем, которое пронизывает всю окружающую нас жизнь, зоркий глаз исследователя этой жизни позволили Вацлаву Яновичу создать образ старика Касьяна, который – так во всяком случае мне кажется – может послужить таким же символом и свидетельством горя нашего времени, как судьба Самсона Вырина осталась символом и свидетельством горя прошлого века. Дрожащие губы Касьяна – одно из потрясений, испытанных мной в жизни. Но, повторяю, о Дворжецком-актере другие знают больше… Мне лучше судить о другом таланте этого человека – таланте быть и оставаться личностью. Именно этим Вацлав Янович (Дворж, как звали его друзья) привлекал при первом же знакомстве и при каждой новой встрече с ним. Он в любой миг мог представиться кем угодно. Мог позвонить в дверь и, эксплуатируя выращенную им для очередной роли белую бороду, придававшую ему сходство с основоположником научного коммунизма, провозгласить: «Пролетарии всех стран, простите меня!» И в то же время он всегда оставался самим собой. Сыграв в театре и кино сотни ролей, он сохранял удивительную естественность и вместе с тем за пределами сценического и экранного пространства постоянно исполнял роль в непрерывно сочинявшейся им пьесе под названием «Жизнь Вацлава Дворжецкого». Такое сочетание естественности с некоторой отстраненностью позволяло ему сохранять самобытность и достоинство в условиях, в которых просто сохранение жизни казалось чудом. Роль главного героя этой пьесы требовала благородства и самоотверженности. Каждый его поступок соответствовал кантовскому правилу и мог служить нормой всеобщего поведения. Каждый день должен был доставлять радость от полноты ощущения жизни. Радость от сыгранной роли, от прочитанного или сочиненного стихотворения, от зимней рыбалки, от общения с пчелами на пасеке, от расцветших вишен в выращенном им саду, от общения с друзьями, от скорости скользящей яхты или мчащегося автомобиля. Вернувшись вечером с многодневных, тяжелых съемок, он поднимался в четыре утра, чтобы не опоздать на свидание с утренней зарей на озере, а потом с сеткой, полной только что пойманных карасей, появлялся в вашей квартире, чтобы поразить приятным сюрпризом. Умевший, как мало кто другой, сливаться с природой и наслаждаться ею, он был далеко не безразличен и к делам общественным. В заревую пору демократии он загорелся идеей выставить свою кандидатуру на первых свободных выборах в местный Совет, чтобы добиться реорганизации городского хозяйства. Он хотел испытать себя и на этом поприще, которого еще не было в его богатом жизненном опыте. И несомненно, если бы его тогда не отговорили, Вацлав Янович в свои восемьдесят лет проявил бы большую энергию и преданность интересам тех, кто его выбрал, чем большинство «народных избранников». Он любил то, что любил, и ненавидел то, что ненавидел, никогда не притворялся и не изменял ни друзьям, ни врагам. Он умел многое и во всем, что умел, был мастером. В общении с ним часто всплывало в памяти название рассказа Хемингуэя «Такими вы не будете». Он был свободным человеком. Он оставался свободен и в тюремной камере, и под гнетом цензоров, и под бдительным надзором «всевидящих глаз»: «Свободен, – как сказано поэтом о поэте, – в России, в Болдине, в карантине». Как был уютен тесный мир вранья. Привычное дерьмо, слежавшись, не смердело. Понятно было всё: от буквы А до Я, И слово бойко заменяло дело. Но ветер века, ветер перемен Развеял наше милое жилище, И нету больше лжи привычных крепких стен, И вихрь правды нагло в морду свищет. Позорно прошлое, грядущее – темно: В свободе мы неопытны от веку. Как непонятно, страшно и срамно На выжженной земле нагому человеку! Надо б вдруг остановиться, На минуточку присесть, Оглянуться, осмотреться, Попытаться бы расчесть, Сквозь магический кристалл Заглянуть за перевал. Но такого нет кристалла …И не надо – всё мура - Никакого перевала - Будет то же, что вчера. Роли в театре, кино и на телевидении ВАЦЛАВ ДВОРЖЕЦКИЙ В ТЕАТРЕ
В театрах ГУЛАГа: Котласский ИТАК (1930), Вайгачский ИТАК (1931-1932), Медвежьегорский ИТАК (1933), Туломской ГЭС (1934– 1937) – В. Я. Дворжецкий сыграл около 45 ролей. Среди них: Астров («Дядя Ваня» А. Чехова), Клещ («На дне» М. Горького), Курчаев («На всякого мудреца…» А. Островского), Костя («Чужой ребенок» В. Шкваркина), режиссерские работы. В 1937– 1958 гг. В. Я. Дворжецкий сыграл 122 роли в 111 спектаклях. Среди них: Харьковский драматический театр. 1937
Маяк – «Слава» В. Гусева Вронский – «Анна Каренина» по Л. Толстому Муров – «Без вины виноватые» А. Островского Омский ТЮЗ. 1937-1939
Кочкарев – «Женитьба» Н. Гоголя Лорд-канцлер, – «Том Кенти» по М. Твену. лорд Герфорд Режиссер В. Дворжецкий Карандышев – «Бесприданница» А. Островского Ньюстэд – «Созвездие Гончих Псов» по К. Паустовскому Милон – «Недоросль» Д. Фонвизина Жадов – «Доходное место» А. Островского Сказочник – «Снежная королева» Е. Шварца – Режиссер В. Дворжецкий Таганрогский ТЮЗ. 1940
Сказочник, Советник – «Снежная королева» Е. Шварца. – Режиссер В. Дворжецкий Фурманов – «Чапаев» по Д. Фурманову Лелио – «Лжец» К. Гольдони. – Режиссер В. Дворжецкий Егор – «Дурочка» Лопе де Вега Джордж – «Хижина дяди Тома» по Г. Бичер-Стоу. – Режиссер В. Дворжецкий Страфорель – «Романтики» Э. Ростана. Режиссер В. Дворжецкий Постановщик – «Голубое и розовое» А. Бруштейн Омский ТЮЗ. 1941
Лосницкий – «Дом № 5» И. Штока Ярцев – «Разлом» Б. Лавренева Севостьянов – «Парень из нашего города» К. Симонова Фредомбэ – «Интервенция» Л. Славина Здобнов – «Весна в Москве» В. Гусева Страфорель – «Романтики» Э. Ростана – Постановщик В. Дворжецкий Марлоу – «Ночь ошибок» О. Гольдсмита Омский театр драмы. 1945-1956
Ржевский – «Давным-давно» А. Гладкова Вронский, Каренин – «Анна Каренина» по Л. Толстому Костя – «День отдыха» В. Катаева Городулин – «На всякого мудреца…» А. Островского Лясковский – «Старые друзья» А. Арбузова Максимов – «За тех, кто в море» Б. Лавренева Чацкий – «Горе от ума» А. Грибоедова Харди – «Русский вопрос» К. Симонова Гауард – «Глубокие корни» Гоу и Дюсо Поручик – «Забавный случай» К. Гольдони Великатов – «Таланты и поклонники» А. Островского Владимир – «Дубровский» по А. Пушкину Дульчин – «Последняя жертва» А. Островского Кавалер Рипафратта – «Трактирщица» К. Гольдони Рощин – «Родина» по А. Толстому Профессор – «Жизнь в цитадели» по А. Кронину Агишин – «Женитьба Белутина» А. Островского Великатов – «Таланты и поклонники» А. Островского Лещинский – «Крепость на Волге» Кремлева Каренин – «Живой труп» Л. Толстого Дульчин – «Последняя жертва» А. Островского Фердинанд – «Мачеха» О. Бальзака Макхил – «Заговор обреченных» Н. Вирты Жадов – «Доходное место» А. Островского Вальтер Кидд – «Голос Америки» Б. Лавренева Кречинский – «Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина Меркуцио – «Ромео и Джульетта» В. Шекспира Протасов – «Угрюм-река» по В. Шишкову Вурм – «Коварство и любовь» Ф. Шиллера Яго – «Отелло» В. Шекспира Дэвид Грэхем – «Тридцать сребреников» Г. Фаста Фон Штубе – «Разлом» Б. Лавренева Неклюдов – «Семья» И. Попова Авдеев – «Девицы-красавицы» А. Симукова. – Режиссер В. Дворжецкий Геннадий Дубровин – «Огненный мост» Б. Ромашова Клещев – «Большие хлопоты» Л. Ленча Телятев – «Бешеные деньги» А. Островского Кирилл Владимирович – «Порт-Артур» по А. Степанову Петруччио – «Укрощение строптивой» В. Шекспира Сомов – «Сомов и другие» М. Горького Клайд Гриффите – «Закон Ликурга» по Т. Драйзеру Хлебников – «Персональное дело» А. Штейна Слуга – «С любовью не шутят» П. Кальдерона Костиков – «Русская тропинка» Клод Фролло – «Собор Парижской Богоматери» по В. Гюго Ферм – «Битва за жизнь» Шатрова и Волина Гаев – «Вишневый сад» А. Чехова Родзянко – «Незабываемый 19-й» Вс. Вишневского Частухин – «Кандидат партии» А. Крона Хеверн – «Зыковы» М, Горького Саратовский театр драмы. 1956-1958
Иван Грозный – «Великий государь» В. Соловьева Забелин – «Кремлевские куранты» Н. Погодина. Режиссер В. Дворжецкий Марсиаль – «Интервенция» Л. Славина Доктор Бредис – «Медвежья свадьба» А. Луначарского Платонов – «Одна» С. Алешина Сиплый – «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского Макаров – «Порт-Артур» по А. Степанову Гуськов – «Забытый друг» А. Салынского Крутицкий – «Не было ни гроша…» А. Островского Колесников – «Соперницы» Е. Бондаревой Неджми – «Чудак» Н. Хикмета Хеверн – «Зыковы» М. Горького Каренин – «Живой труп» Л. Толстого Неизвестный – «Маскарад» М. Лермонтова Барабаш – «Почему улыбались звезды» А. Корнейчука Горьковский ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы. 1958-1989
Сидорцев, инженер горкомхоза – «Куда текут реки» А. Соснина Вязьмин – «Всё остается людям» С. Алешина Шварц – «Потерянный сын» Р. Блаумана Чуфаров – «Барабанщица» А. Салынского Крутилич, Чибисов, директор завода – «Братья Ершовы» В. Кочетова Ричард Друэтт – «Юпитер смеется» А. Кронина Тихон Тимофеевич – «Неравный бой» В. Розова Ричард Ките – «Остров Афродиты» А. Парниса Медведенко – «Чайка» А. Чехова Сердюк – «Иркутская история» А. Арбузова От автора, Каренин, Старик – «Анна Каренина» по Л. Толстому Дед Лука – «Сыновний бунт» С. Бабаевского, М. Дангуровс Джейб Торренс – «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса Грейвуд – «Игра без правил» Л. Шейнина Он – «Четвертый» К. Симонова Василий – «Ленинградский проспект» И. Штока Терехин – «Палата» С. Алешина Герцог Бекингем – «Король Ричард III» В. Шекспира Вирджил Блессинг – «Остановка автобуса» У. Инджа Якимов – «Совесть» В. Токаревой, по роману Д. Павловой Зотов – «Под одной из крыш» 3. Аграненко Профессор Шанхауэр – «Жаркое лето в Берлине» Д. Кьюсак Суслов – «Дачники» М. Горького Старик – «Жили-были старик со старухой» Ю. Дунского, В. Фрида Павел Романович Нечаев – «Сестры Нечаевы» Т. Глебовой Егорушка Денисов – «На горах» по П. Мельникову-Печерскому Грейфе – «Операция «С Новым годом!» Ю. Германа Лука Купьелло – «Рождество в доме синьора Купьелло» Э. Де Филиппо Иван Степанович – «Разорванный рубль» С. Антонова Логинов – «Тяжкое обвинение» Л. Шейнина Лукоянов – «Физики и лирики» Я. Волчека Максим Горностаев – «Любовь Яровая» К. Тренева Лука – «На дне» М. Горького Борг – «Чрезвычайный посол» А. и П. Тур Кернюс – «Если постучат» Р. Самулявичус Блок – «Вьюга» А. Штейна Мишель Филиппов – «Счастливые дни несчастливого человека» А. Арбузова Шофер – «Ничего не случилось» М. Гиндина, Г. Рябкина Мендосо – «День чудесных обманов» Р. Шеридана Кизил – «Много шума из ничего» В. Шекспира Васильцов (дед Аким) – «Мое сердце с тобой» Ю. Чепурина Гвоздилин – «Третья, Патетическая» Н. Погодина Крутицкий – «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского Маркиз де Сад – «Преследование и убийство Ж.-П. Марата…» П. Вайса ВАЦЛАВ ДВОРЖЕЦКИЙ В КИНО И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
А. М. Горький – «Снова на Родине». 1965. Горьковское ТВ. Режиссер М. Скворцов Лансдорф – «Щит и меч». 1968. Мосфильм. Режиссер В. Басов Крестьянин – «Любовь Серафима Фролова». 1968. Мосфильм. Режиссер С. Туманов Юргенс – «Далеко на западе». 1968. Мосфильм. Режиссер А. Файнциммер Лука – «По пути на дно». 1968. Горьковское ТВ. Режиссер М. Скворцов Яшка – «Угрюм-река». 1969. Свердловская к/ст. Режиссер Я. Лапшин Родеску – «Зарубки на память». 1970. Молдовафильм. Режиссер Л. Израилев Николай Николаевич – «Рудобельская республика». 1971. Беларусьфильм. Режиссер Н. Калинин Василий Родионов – «Конец Любавиных». 1971. Мосфильм. Режиссер Л. Головня Релич – «Свадьба». 1971. К/ст. им. А. Довженко – Югославия. Режиссер Шаранович Антонов – «От субботы до понедельника». 1971. Горьковское ТВ. Режиссер Л. Головня Полознев – «Моя жизнь». 1972. Ленфильм. Режиссеры Г. Никулин, В. Соколов Горук – «До последней минуты». 1973. Одесская к/ст. Режиссер В. Исаков Заозерский – «Открытая книга». 1973. Ленфильм. Режиссер В. Фетин Межовский – «Обретешь в бою». 1975. «Экран». Режиссер М. Орлов Шеллан – «Красное и черное». 1976. К/ст. им. М. Горького. Режиссер С. Герасимов Министр – «Юлия Вревская». 1977. Мосфильм – Заигрални филми (Болгария). Режиссер Н. Корабов Нелаев – «Улан». 1977. Киргизфильм. Режиссер Т. Океев Президент – «Право первой подписи». 1977. Мосфильм. Режиссер В. Чеботарев Академик – «Встреча на далеком меридиане». 1977. Беларусьфильм. Режиссер С. Тарасов Филарет – «Емельян Пугачев». 1978. Мосфильм. Режиссер А. Салтыков Генерал – «Отец Сергий». 1978. Мосфильм. Режиссер И. Таланкин Маракот – «Маракотова бездна». 1978. Мостелефильм. Режиссер Г. Павлюченко Керол – «Акванавты». 1979. К/ст. им. М. Горького. Режиссер И. Вознесенский Учитель – «Петровка, 38». 1980. К/ст. им. М. Горького. Режиссер Б. Григорьев Профессор – «Через тернии к звездам». 1980. К/ст. им. М. Горького. Режиссер Р. Викторов Брунер – «Тегеран-43». 1980. Мосфильм – Про дис фильм аг (Швейцария) – Медитерране синема (Франция) Режиссеры: А.Алов, В. Наумов Архиерей – «Черный треугольник». 1981. Мосфильм. Режиссер С. Тарасов Сказочник – «Немухинские музыканты». 1981. «Экран». Режиссер М. Муат Гардт – «Надежда и опора». 1981. Мосфильм. Режиссер В. Кольцов Илларион – «Ярослав Мудрый». 1982. Мосфильм – к/ст. им. А. Довженко. Режиссер Г. Кохан Генерал – «Казнить не представляется возможным». 1982. К/ст. им. А. Довженко. Режиссер И. Шмарук Николаевский – «Мать Мария». 1982. Мосфильм. Режиссер С. Колосов Орлов – «Где-то плачет иволга». 1982. Мосфильм. Режиссер Э. Кеосаян Касьян – «Вы чье, старичье?» 1982. К/ст. им. М. Горького. Режиссер В. Пичул Врач – «Две главы из семейной хроники». 1983. Мосфильм. Режиссер Д. Барщевский Ларушкин – «Эхо дальнего взрыва». 1983. Ленфильм. Режиссер В. Морозов Имам – «Асланбек». 1983. К/ст. им. М. Горького. Режиссер Ю. Мастюгин Вильнер – «ТАСС уполномочен заявить…» 1984. К/ст. им. М. Горького. Режиссер В. Фокин Архитектор – «Нам не дано предугадать». 1984. Мосфильм. Режиссер В. Кольцов Главный режиссер – «Успех». 1984. Мосфильм. Режиссер К. Худяков Астахов – «Тихий голос». 1984. Беларусьфильм. Режиссер Л. Белозерович Председатель – «Пароль знали двое». 1985. К/ст. им. А. Довженко. Режиссер Н. Литус Поэт – «Взгляд на солнце». 1985. Одесская к/ст. Режиссер И. Апасян Захаров – «Конец операции «Резидент». 1986. К/ст. им. М. Горького. Режиссер В. Дорман Пастор – «Письма мертвого человека». 1986. Ленфильм. Режиссер К. Лопушанский Патон – «Мост через жизнь». 1986. К/ст. им. А. Довженко. Режиссер О. Гойда Щеглов – «Выбор». 1987. Мосфильм. Режиссер В. Наумов Отец – «Забытая мелодия для флейты». 1987. Мосфильм. Режиссер 3. Рязанов Осмоловский – «Защитник Седов». 1988. Мосфильм. Режиссер Е. Цимбал Отец – «Диссидент». 1988. Молдовафильм – Мафильм (Венгрия). Режиссер В. Жереги Актер – «В городе Сочи темные ночи». 1989. К/ст. им. М. Горького. Режиссер В. Пичул Священник – «Светик». 1989. Ялтафильм. Режиссер О. Бондарев Академик – «Женский день». 1990. Мосфильм. Режиссер Б. Яшин Митрополит Кирилл – «Житие Александра Невского». 1991. Евразия. Режиссер Г. Кузнецов Генерал Трепов – «Только вперед». 1991. Мосфильм. Режиссер С. Колосов Отшельник – «Отшельник». 1992. Ялтафильм. Режиссер Б. Токарев Филипп – «Гроза над Русью». 1992. Ленфильм. Режиссер А. Салтыков Долгорукий – «Официант с золотым подносом». 1992. Мосфильм. Режиссер Р. Цурцумия Доктор – «Исполнитель приговора». 1992. Российская киновидеокомпания. Режиссер В. Шамшурин Профессор – «Белые одежды». 1992. Беларусьфильм. Режиссер Л. Белозерович Нищий – «Мечты идиота». 1993. К/ст. им. М. Горького – ТТЛ, Salome, Exnihilo (Франция) – Параманс, Лтд., ClSTC (Франция). Режиссер В. Пичул А также роли в фильмах «Возвращение катера», «Не отдавай королеву», «Цена возврата» и многих других. Всего 92 роли в кино и на телевидении. ВЛАДИСЛАВ ДВОРЖЕЦКИЙ В КИНО И ТЕАТРЕ
Генерал Хлудов – «Бег». 1970. Мосфильм. Режиссеры: А. Алов, В. Наумов Карабанов – «Возвращение «Святого Луки». 1970. Мосфильм. Режиссер А. Бобровский Радукан – «Зарубки на память». 1970. Молдовафильм. Режиссер Л. Израилев Орлов – «Нам некогда ждать». 1972. Мосфильм. Режиссер В. Акимов Бертон – «Солярис». 1972. Мосфильм. Режиссер А. Тарковский Никитин – «Возврата нет». 1973. Мосфильм. Режиссер А. Салтыков Ярослав Гайдай – «До последней минуты». 1973. Одесская к/ст. Режиссер В. Исаков Руднев – «За облаками – небо». 1973. К/ст. им. М. Горького. Режиссер Ю. Егоров Ильин – «Земля Санникова». 1973. Мосфильм. Режиссеры: А. Мкртчян, Л. Попов Дмитрий Львов – «Открытая книга». 1973. Ленфильм. Режиссер В. Фетин Хольц – «Единственная дорога». 1974. Мосфильм – Филмски студия типоград (Югославия). Режиссер В. Павлович Капитан Немо – «Капитан Немо». 1975. Одесская к/ст. Режиссер В. Левин Руднев – «Там, за горизонтом». 1975. К/ст. им. М. Горького. Режиссер Ю. Егоров Король Филипп – «Легенда о Тиле». 1976. Мосфильм. Режиссеры: А. Алов, В. Наумов Александр II – «Юлия Вревская». 1977. Мосфильм – Заигрални филм (Болгария). Режиссер Н. Корабов Ник Реннет – «Встреча на далеком меридиане». 1977. Беларусьфильм. Режиссер С. Тарасов Лобанов – «Однокашники». 1978. В 1976-1978 гг. – роли в Театре-студии киноактера (Москва), среди них святой Антоний («Чудо святого Антония» М. Метер-линка, постановка С. Кулиша).0 ЕВГЕНИЙ ДВОРЖЕЦКИЙ В ТЕАТРЕ Основные роли Российский академический молодежный театр
Интер – «Ловушка-46, рост 2» Ю. Щекочихина Эгль – «Алые паруса» А. Грина Мило – «Сон с продолжением» С. Михалкова Панталоне – «Любовь к трем апельсинам» К. Гоцци Сказочник – «Снежная королева» Е. Шварца Бельведонский – «Баня» В. Маяковского Фауст – «Фауст» И. В. Гете Эдмунд – «Король Лир» В. Шекспира Тит – «Береника» Ж. Расина Принц – «Принцесса Грёза» Э. Ростана Швабрин – «Капитанская дочка» А. Пушкина Театр на Малой Бронной Шут – «Король Лир» В. Шекспира Театр «Школа современной пьесы» Пхелка – «Антигона в Нью-Йорке» Я. Гловацкого Медведенко – «Чайка» А. Чехова Арман – «Затерянные в раю» Н. Русецкого Дон Кихот – «Дон Кихот» М. Сервантеса ЕВГЕНИЙ ДВОРЖЕЦКИЙ В КИНО Основные роли
Павел – «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского». 1980. Мосфильм. Режиссер А. Зархи Кир Лопухов – «Нежный возраст». 1983. К/ст. им. М. Горького. Режиссер В. Исаков Немой – «День гнева». 1985. К/ст. им. М. Горького. Режиссер С. Мамилов Костя – «Танцплощадка». 1985. Мосфильм. Режиссер С. Самсонов Автор – «Диссидент». 1988. Молдовафильм – Мафильм (Венгрия). Режиссер В. Жереги Эдмон Дантес, Альбер де Морсер – «Узник замка Иф». 1988. Одесская к/ст. – Совинфильм. Режиссер Г. Юнгвальд- Хилькевич Азраэль – «Вход в лабиринт» («Сети рэкета»). 1989. К/ст. им. М. Горького. Режиссер В. Кремнев Шура Балаганов – «Мечты идиота». 1993. Киностудия им. М. Горького – ТТЛ, Salome, Exnihilo (Франция) – Параманс, Лтд., CNC (Франция). Режиссер В. Пичул Мартов – «Раскол». 1993. «Экран». Режиссер С. Колосов Журналист – «Хаги-Траггер». 1994. Старгейз продакшнз (Нью-Йорк) – Роскомкино. Режиссер Э. Уразбаев Генрих III – «Графиня де Монсоро». 1998. «Шанс». Режиссер В. Попков КОРОТКО ОБ АВТОРАХ Богданова Ида Феодосьевна – филолог. С 1957 по 1973 год – редактор литературно-драматических программ Горьковского телевидения. Живет в Москве. Член Союза журналистов России. Вашурина Раиса Михайловна – актриса. Закончила Саратовский театральный техникум. С 1938 года – в Саратовском театре драмы, с 1946-го – в Горьковском академическом театре драмы. Народная артистка России. Виноградов Дмитрий Александрович (р. 1941) – поэт-переводчик. Искусству поэтического перевода учился у матери, О. И. Ивинской, которая, в свою очередь, была ученицей Б. Л. Пастернака. С 1969 года – член комитета московских литераторов. Переводил ирано-таджикских классиков: Руми, Джами, Рудаки, эпос и фольклор народов СССР и современных авторов, в том числе Симона Чиковани, Яна Райниса, Иржи Тауфера. Переводы опубликованы более чем в тридцати изданиях. Работает над книгой собственных стихов и прозы. Живет в Москве. Волчек Юлий Иосифович (1914-1978) – искусствовед, ведущий телепрограмм, педагог. Преподавал в студии при Горьковском театре драмы, театральном училище, консерватории. Был заведующим литературной частью Горьковского академического театра драмы. Автор пьес для театра и телевидения, телепрограмм, лекций по истории мирового кино. Дворжецкий Евгений Вацлавович (р. 1960) – актер. По окончании театрального училища им. Б. В. Щукина (1982) – в Российском академическом молодежном театре. Снимается в кино и на телевидении. Заслуженный артист России. Дворжецкая Нина Игоревна – актриса Российского академического молодежного театра. Закончила театральное училище им. Б. В. Щукина. Демуров Георгий Сергеевич (р. 1940) – актер. Закончил студию Тбилисского театра драмы им. А. Грибоедова, учился в Горьковском театральном училище. С 1965 года – на сцене Горьковского академического театра драмы. Снимался в фильмах «Дорога», «Воды поднимаются» и др. Народный артист России. Дроздова Лилия Степановна – актриса. Закончила хореографическое училище при Минском театре оперы и балета, в годы войны была санитаркой во фронтовом санитарном поезде. Работала в Минском драматическом театре, затем в Горьковском академическом театре драмы. Народная артистка России. Живет в Нижнем Новгороде. Жигалов Михаил Васильевич (р. 1942). Закончил Московский институт химического машиностроения и студию при Центральном детском театре (1970). С 1978 года – на сцене театра «Современник». Снимался в фильмах: «В четверг и больше никогда», «Петровка, 38», «ТАСС уполномочен заявить», «Афганский излом», «Затерянный в Сибири», «Ермак» и др. Заслуженный артист России. Калиш Виктор Яковлевич – журналист, театральный критик, автор книги «Театральная вертикаль», руководитель Всероссийской лаборатории театральных критиков СТД. Живет в Москве. Левин Авраам Яковлевич (р. 1922) – историк, профессор Нижегородского государственного университета. Левите Рива Яковлевна – режиссер, педагог. Училась в Московском юридическом институте, в студии театра им. Моссовета. Закончила ГИТИС. Работала в Омском академическом драматическом театре, Саратовском драматическом театре, Горьковском ТЮЗе. Преподает в Нижегородском театральном училище. Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии им. Станиславского. Литвиненко Наталья Викторовна. В 1968 году закончила Московский государственный педагогический институт им. Ленина. Работает в Министерстве образования Российской Федерации. Наумов Владимир Наумович (р. 1927) – кинорежиссер, сценарист, продюсер. По окончании ВГИКа (1952) поставил фильмы «Тревожная молодость», «Мир входящему», «Павел Корчагин», «Скверный анекдот», «Бег», «Легенда о Тиле», «Тегеран-43», «Берег» (совместно с А. Аловым), «Выбор», «Десять лет без права переписки» и др. Народный артист СССР. С 1986 года – профессор ВГИКа. Панкратов-Чёрный (Панкратов) Александр Васильевич (р. 1949) – актер, кинорежиссер. После окончания Горьковского театрального училища и ВГИКа (1970) снимался в фильмах: «Мы из джаза», «За прекрасных дам», «Зимний вечер в Гаграх», «Бабник», «Официант с золотым подносом», «Десять лет без права переписки» и др. Поставил фильмы «Взрослый сын», «Похождения графа Невзорова», «Салон красоты», «Система ниппель». Народный артист России. Пичул Василий Владимирович (р. 1961) – кинорежиссер. Закончил ВГИК (1983). Поставил фильмы «Вы чье, старичье?» (дипломная работа 1982 года), «Хочу тебе сказать», «Маленькая Вера», «В городе Сочи темные ночи», «Мечты идиота». Один из создателей телепрограммы «Куклы». Пьянкова Валентина Владимировна – журналист. С 1968 года работала в газетах Сибири, Ленинграда, Эстонии. Была корреспондентом газет «Советская Россия» и «Российская газета», обозревателем журнала «Работница». В настоящее время редактор отдела газеты московской интеллигенции «Вечерний клуб». Ровнер Марк Борисович (р. 1946) – музыкант, кларнетист. По окончании Горьковской консерватории работал в оркестре театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, затем в течение 20 лет – солист Горьковского академического симфонического оркестра. Живет в Германии. Сидорова Ирина Васильевна – литератор. В 1951 году закончила историко-филологический факультет Горьковского университета, с 1953-го – редактор Горьковского (Волго-Вятского) книжного издательства. Автор многих работ, опубликованных в сборниках, книг «Наш город», «Нижний Новгород Предания и легенды». Лауреат премии Нижнего Новгорода за 1996 год. Живет в США. Суслова Эра Васильевна – актриса. Закончила студию при Горьковском театре драмы и ГИТИС, с 1943 года – на сцене Горьковского академического театра драмы. Народная артистка России. Титова Валентина Антиповна – актриса. Окончила студию при Ленинградском большом драматическом театре. В 1970 – 1992 годах – в Театре-студии киноактера. Снималась в фильмах «Метель», «Щит и меч», «Опасный поворот», «Дни Турбиных», «Обмен», «Отец Сергий», «Карнавал», «Официант с золотым подносом», «Безумная Лори», «Любить по-русски» и др. Заслуженная артистка России. Ульянов Михаил Александрович (р. 1927) – актер. С 1950 года – на сцене театра имени Вахтангова, с 1987-го – его художественный руководитель. Снимался в фильмах «Председатель», «Братья Карамазовы», «Бег», «Освобождение», «Тема», «Легенда о Тиле», «Без свидетелей» и многих других. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР. Цыганкова Татьяна Васильевна – театральный педагог. Закончила Горьковский государственный университет им. Лобачевского, с 1969 года – директор Горьковского театрального училища. Заслуженный деятель культуры России. Шерешевский Лазарь Вениаминович (р. 1926) – поэт. Родился в Киеве, учился в Горьковском педагогическом институте, в 1943 году ушел на фронт, в 1944-м по доносу арестован и осужден на 10 лет. После освобождения закончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета им. Лобачевского. Автор пяти поэтических книг. Живет в Москве. Иллюстрации    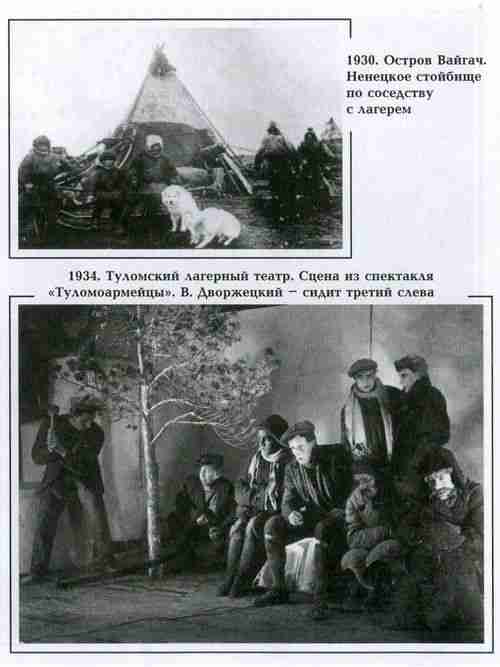 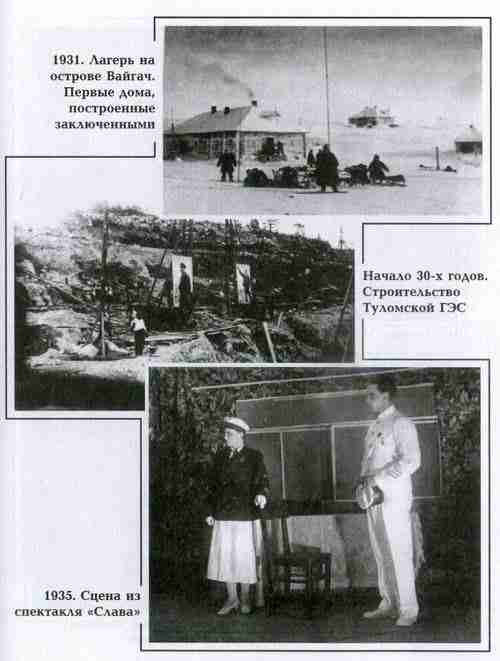  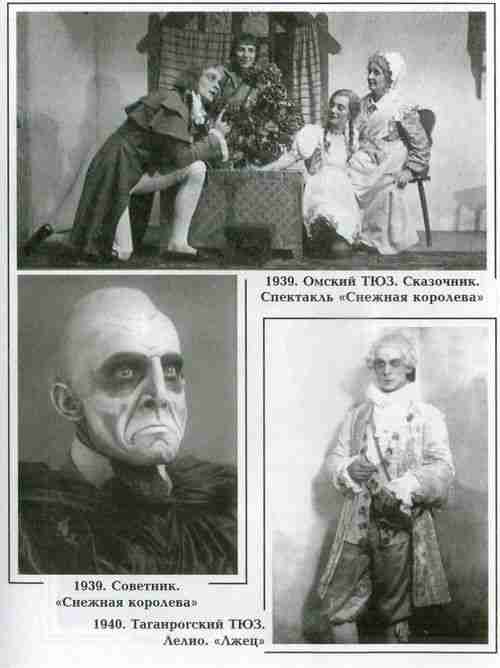   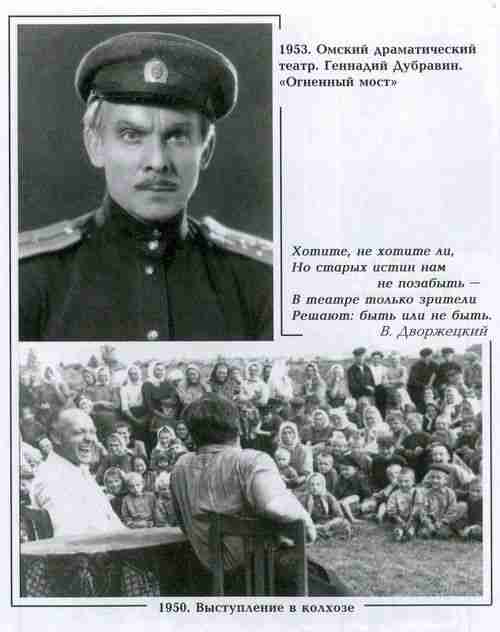   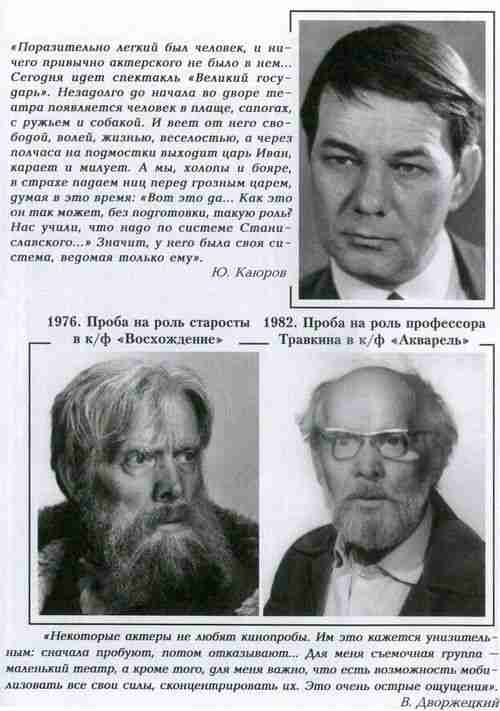   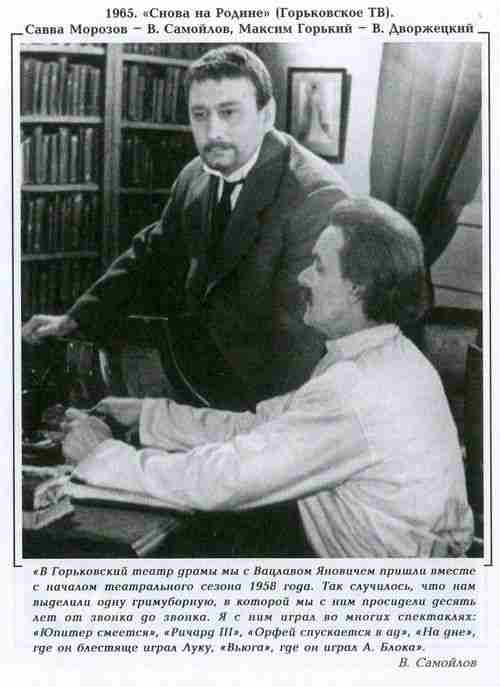     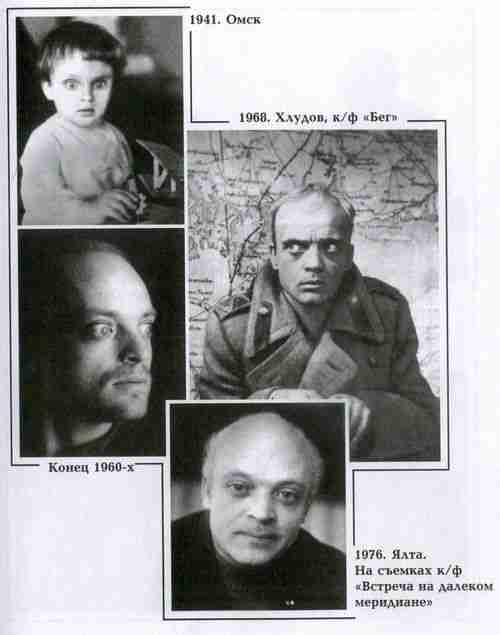 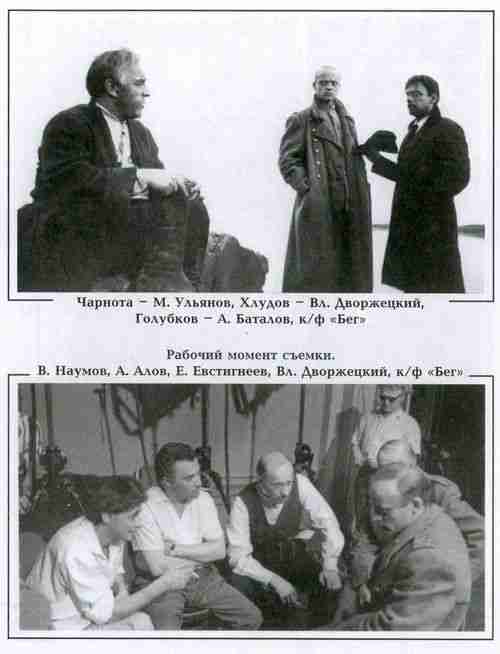   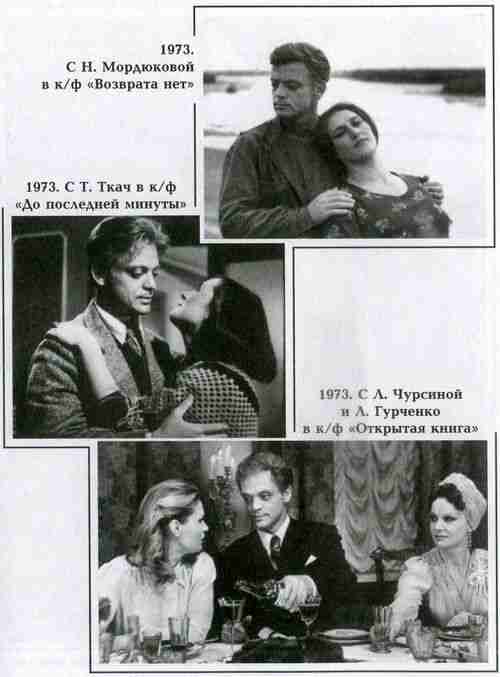  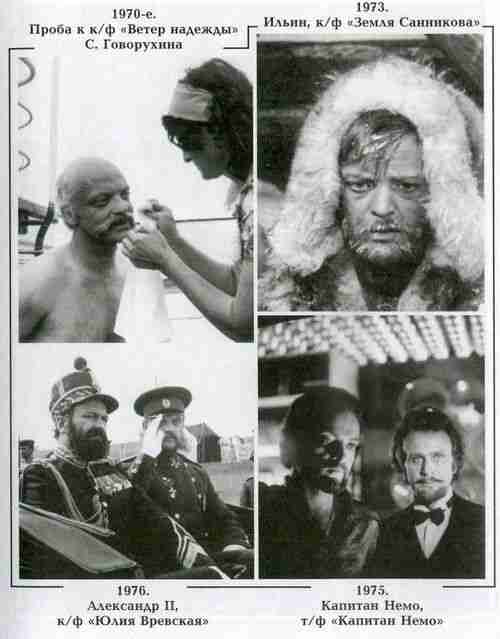 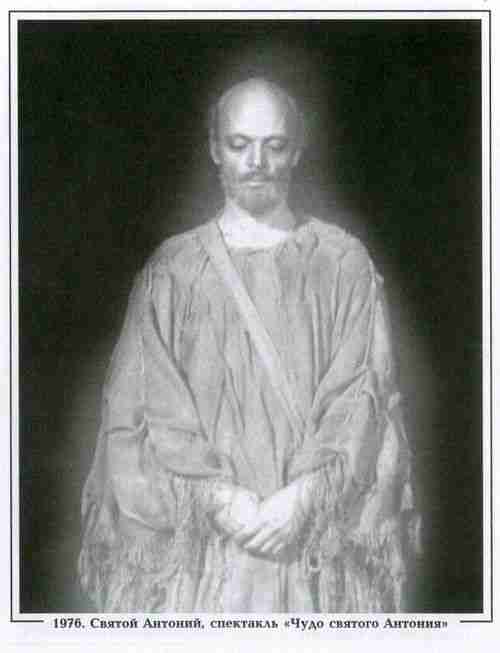 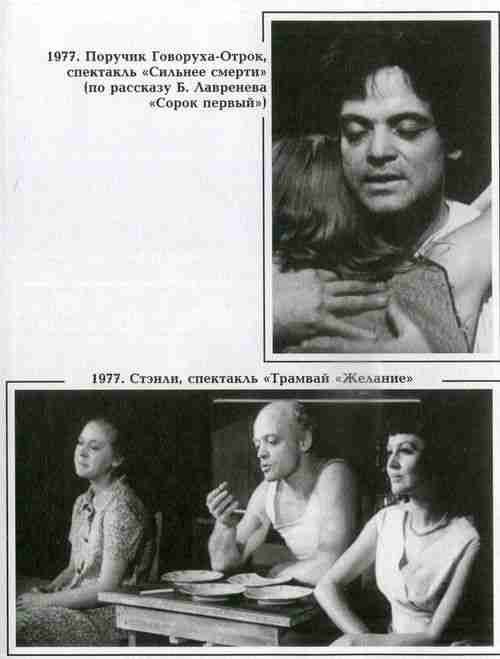  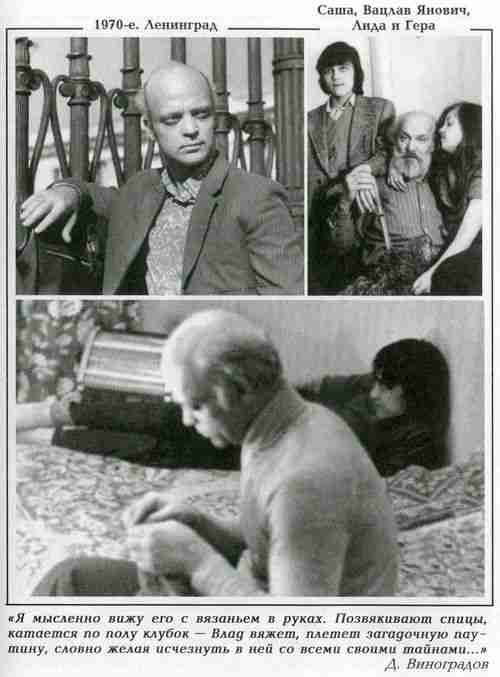 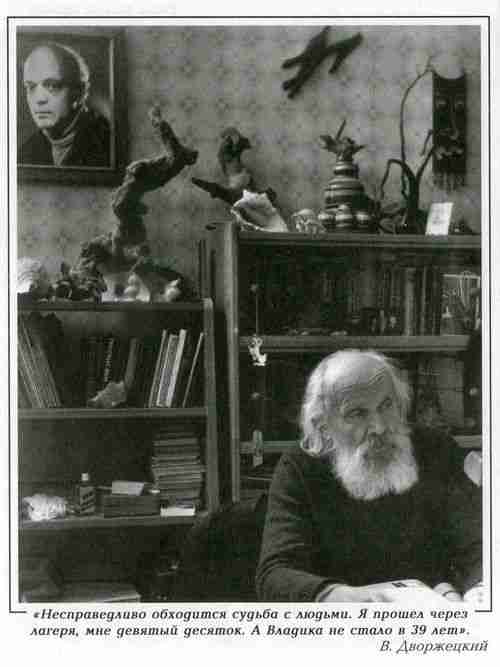   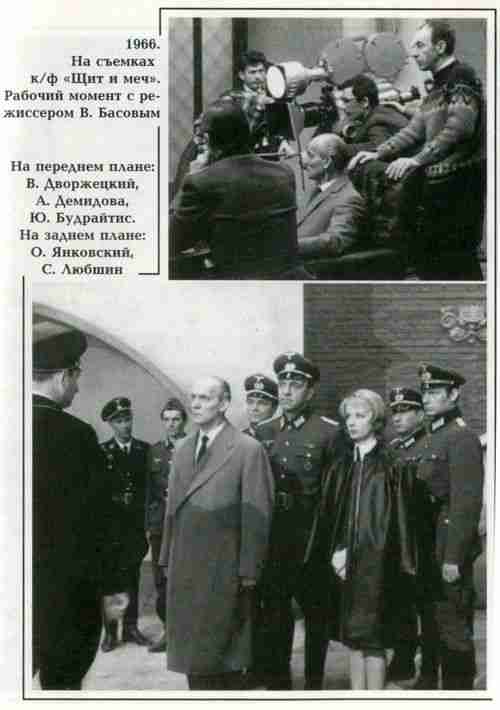   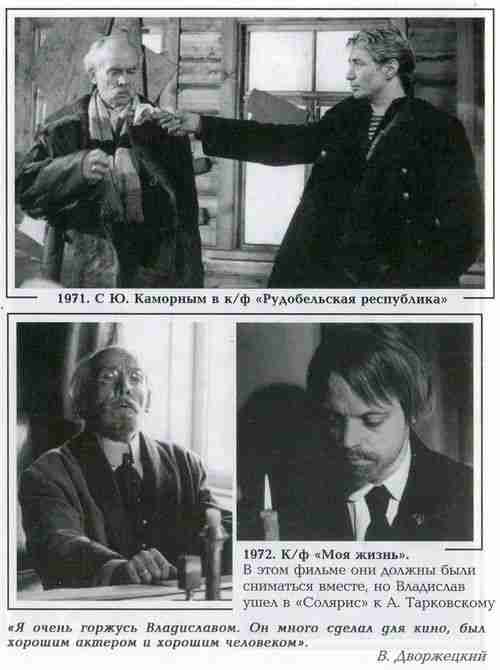 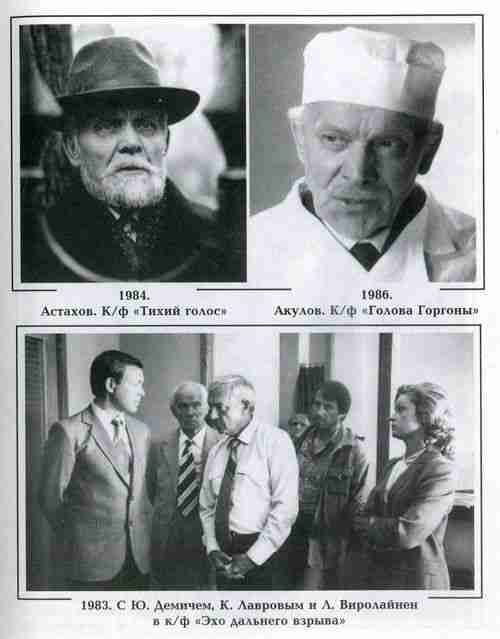 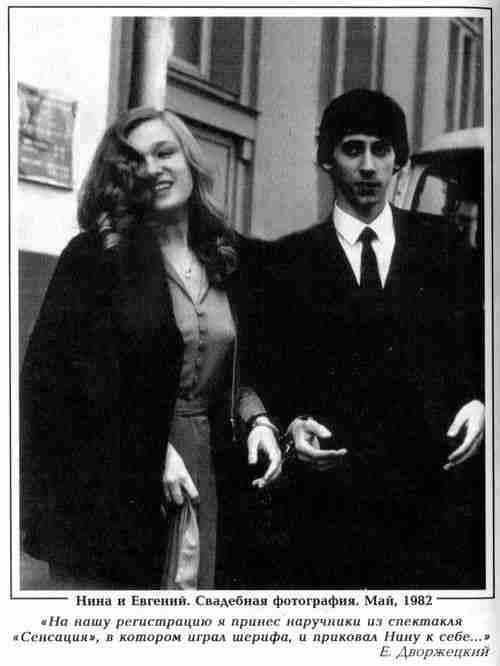 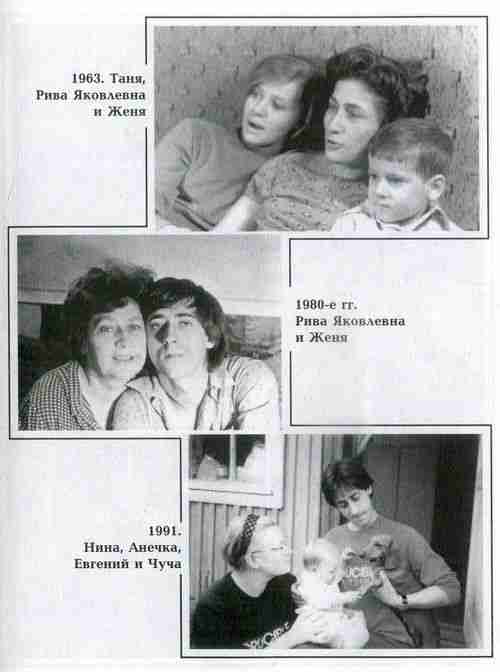 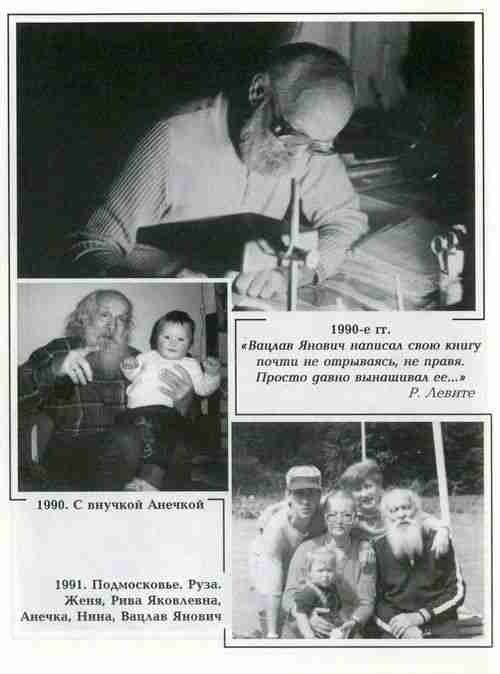 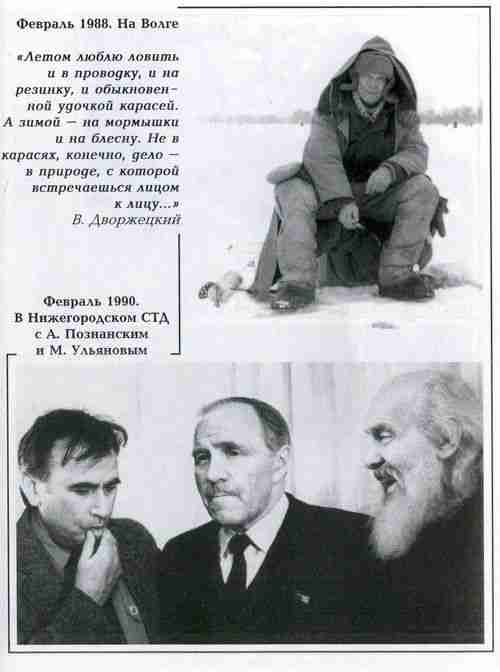  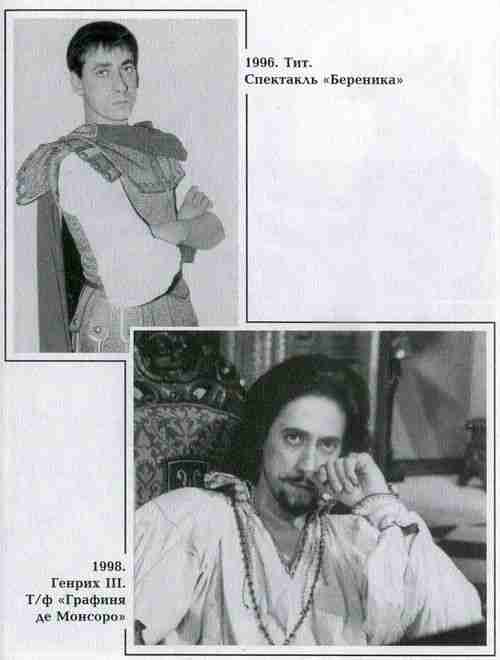 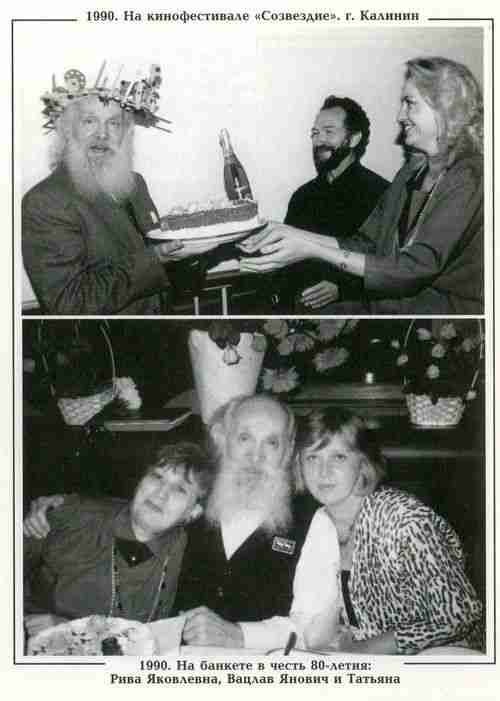 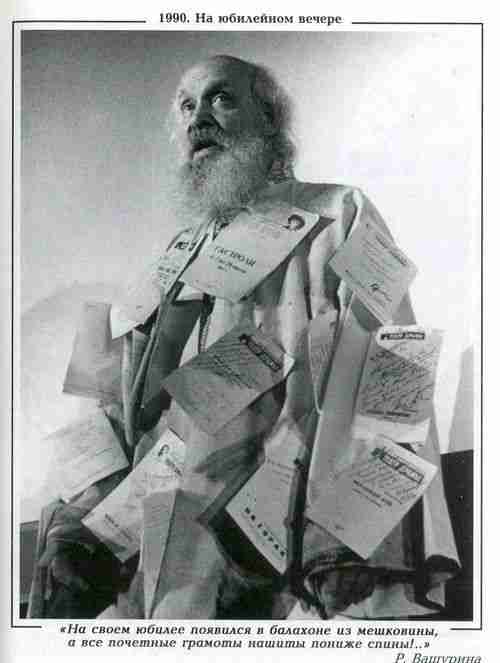 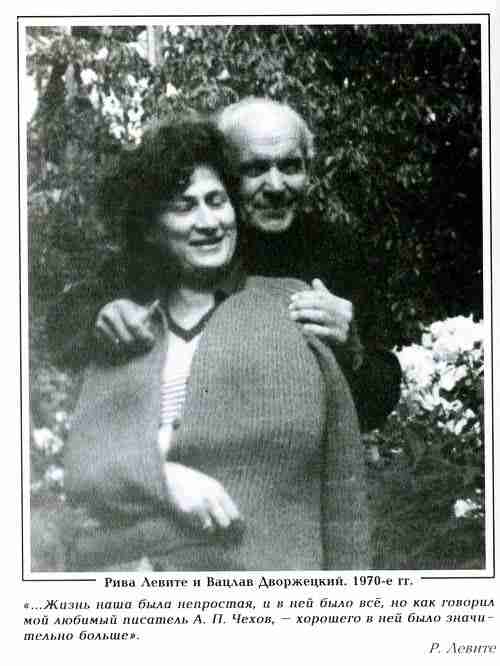 Примечания 1 «Преследование и убийство Жан-Поля Марата, представленное артистической труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством господина Де Сада». 2 Тогда я впервые услышал фамилию следователя, которого потом увидел в лагере, на острове Вайгач, в августе 1933 года. Подошел первый корабль, высаживался очередной этап заключенных. Я встречал прибывших, искал актеров, исполнителей для «живгазеты». Среди заключенных я узнал Шмальца. Он меня тоже узнал. К сожалению, я не успел с ним поговорить. На этом же судне я был отправлен на материк. 3 1980 год. Сын мой Евгений – в Щукинском училище на третьем курсе. А на втором курсе училась Ниночка, прелестная, умная девушка. Она жила у своей бабушки у метро «Аэропорт», а Женя у своей – на «Колхозной». Ниночка пригласила Женю познакомиться со своей бабушкой и… с дедушкой. Дедушка (лет под 90), милый, приветливый, занимал жениха, пока бабушка с невестой готовили чай. Среди реликвий и сувениров показал и альбом с фотографиями, записями, цифрами, датами. На одном из снимков Женя узнал своего отца, вернее, фото, которое видел дома в альбоме «Тулома»: лагерь, строительство Беломорско-Балтийского канала. А дедушка невесты – начальник лагеря Владимир Андреевич Сутырин. Прошло пятьдесят лет, и з/к Дворжецкий стал родственником своего «надзирателя». Чудеса! Владимир Андреевич недавно умер, а сын его «подопечного» живет теперь в его квартире со своей очаровательной женой и чудесной дочуркой Анютой. Воистину «тесен мир»! 4 Сб. «Труд актера». – М.: «Советская Россия», 1968. Печатается в сокращении. 5 Дмитрий Виноградов, самый близкий друг Владислава Дворжецкого, сын Ольги Всеволодовны Ивинской. /Здесь и далее примечания редакции.) 6 Микаэла Дроздовская – актриса, погибла в 1978 году. 7 Какое-то время Владислав Дворжецкий жил на даче вдовы Ярослава Смелякова, бывшей даче писателя Александра Фадеева, где тот застрелился. 8 По одноименной пьесе М. Метерлинка. 9 Друг Владислава. 10 Дмитрий Виноградов. 11 Дача подруги О. В. Ивинской, в которой жили «бездомные» Владислав и Дмитрий в декабре 1975 года. 12 Ольга Всеволодовна Ивинская. 13 Татьяна Валерьевна Стрешнева, вдова Ярослава Смелякова, хозяйка дачи в Переделкине, где жил Дворжецкий. 14 Телефильм «Встреча на далеком меридиане». 15 Сын Владислава Дворжецкого. 16 Через пять дней после инфаркта к Владиславу в больницу приехала Таисия Владимировна. 17 Дочь Владислава Дворжецкого. 18 Андрей Синейчук – товарищ Владислава, приглашал его во Львов. 19 Савва Кулиш – кинорежиссер, постановщик «Чуда святого Антония» . 20 Т. В. Стрешнева. 21 Иосиф Копытман – режиссер. 22 Нелли Владимировна Кухарчук – лечащий врач. 23 Я. А. Слащёв был убит в 1929 году, предположительно из мести. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
|||||||