 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Нортон Андрэ :: Лесков Николай Семёнович :: Грин Александр :: Станюкович Константин Михайлович :: Сименон Жорж Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Часы без пружины :: Аквариумист :: Тюремные дневники :: Камероны :: Артур и минипуты :: Советский Союз в локальных войнах и конфликтах :: Экзамен :: Конец материи |
Черные Мантии (№1) - Черные МантииModernLib.Net / Исторические приключения / Феваль Поль / Черные Мантии - Чтение (Весь текст)
Поль Феваль Черные Мантии 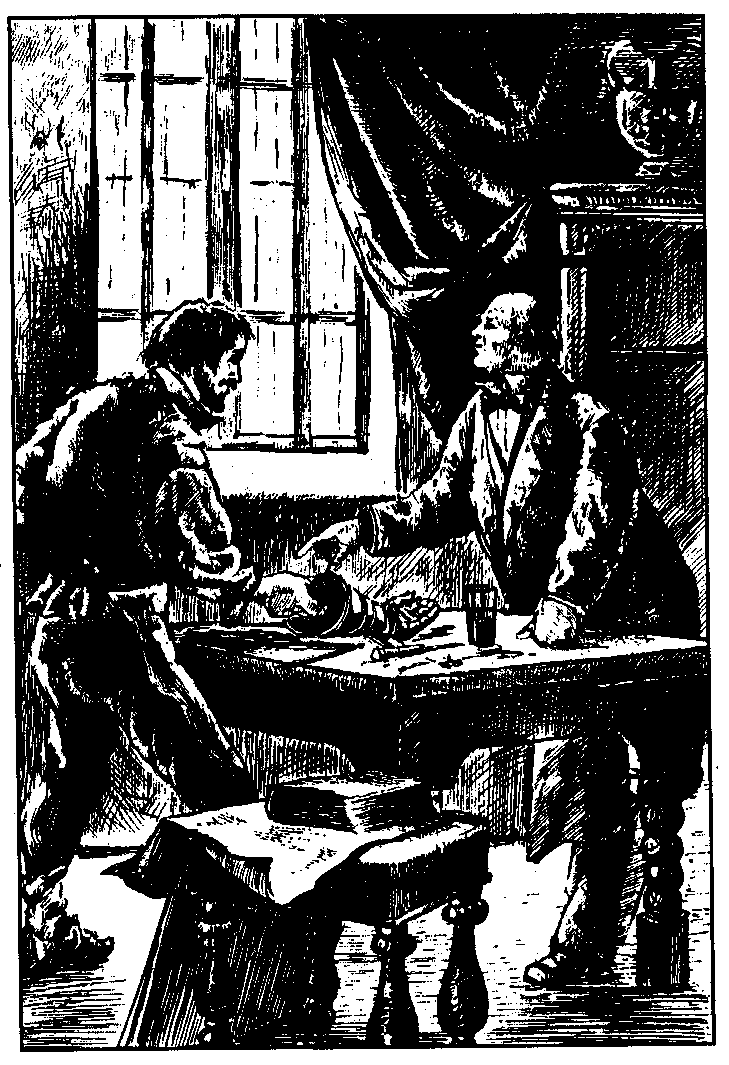  К ЧИТАТЕЛЮ Книги французского писателя девятнадцатого века Поля Анри Корантена Феваля (1816—1887 гг.) уже известны российскому читателю, прежде всего его лучший и самый знаменитый роман «Горбун», в шестидесятых годах перенесенный на экран французскими кинематографистами, где роль главного героя шевалье де Лагардера исполнял несравненный Жан Маре. Да, многие из нас помнят этот замечательный фильм… И вот мы снова обращаемся к произведениям Поля Феваля. На этот раз к целой серии созданных им романов, объединенных одним сюжетом – историей Черных Мантий, преступной ассоциации, орудовавшей в Европе в половине XIX века. В 1844 году парижская газета «Эпок» начала печатать с продолжением в каждом очередном номере роман «Лондонские тайны» некоего сэра Фрэнсиса Тропола. Под этим псевдонимом скрывался начинающий писатель Поль Феваль. В период с 1863 по 1875 год выходил и цикл произведений под общим названием «Черные Мантии». Успех романов превзошел все ожидания издателей. Поль Феваль сразу же встал в один ряд со своими великими современниками – Эженом Сю и Александром Дюма-отцом. Канули в Лету упреки Эжена де Мирекура (современника Феваля, оставившего воспоминания о многих известных личностях той поры) в адрес молодого писателя, обвиняемого им в излишней поспешности и небрежности стиля, наносящих ущерб качеству публикуемых сочинений. Захватывающее повествование с многосюжетными ходами отличается небывалой динамичностью, юмором и глубоким знанием современной автору эпохи. На блистательно описанном историческом фоне Франции первой половины XIX века, преимущественно Парижа, знакомого и досконально изученного Февалем, разворачивается жестокая борьба добра и зла, сталкиваются коварные злодеи и благородные мстители. При этом автора не покидает ни чувство меры, ни чувство юмора, ни в самом деле настоящее поэтическое вдохновение. Незаурядный талант и юридическое образование позволили писателю мастерски соединить фантазию с реальностью, сказку с живой историей. В «Черных Мантиях» читатель непременно найдет параллели с современной нам эпохой. Ведь, как известно, история любит повторяться. И это еще одна из причин, которая побудила нас обратиться к авантюрным и остросюжетным романам Поля Феваля, автора более двухсот произведений, современника и участника бурных исторических событий, происходивших на его родине. Литературная критика признала за писателем достойное место в славной плеяде популярных прозаиков прошлого, однако историки литературы надолго забыли об авторе многочисленных романом и заговорили о нем вновь лишь в следующем столетии, чуть более двух десятилетий назад. Почему вспомнили о забытом писателе те, кто профессионально занимается историей литературы? Может быть, ответ на этот вопрос найдет читатель в публикуемых нами романах? Ибо, несмотря на забвение критиков и историков, произведения Поля Феваля издавались на протяжении целого века и неизменно находили восторженных читателей. В авантюрном романе Поля Феваля, действие которого переносит читателя в Париж первой половины XIX века, найдем все необходимые и характерные черты этого литературного жанра: живость повествования, таинственные перевоплощения, жестокие поединки, интриги, преступления, любовные коллизии и всевозможные хитросплетения сюжетных линий. 14 июня 1825 года в Кане имело место дерзкое ограбление местного банкира, приведшее к банкротству финансиста и трагедии, разорившей семейное счастье. Факты свидетельствуют о бесспорной вине молодого чеканщика Андре Мэйнотта, владельца боевой латной рукавицы, и его жены Жюли – сообщницы в этом преступлении. Суд выносит обоим суровый приговор. Но кто же виноват в самом деле? Что значит таинственная фраза: «Будет ли завтра день?» Кто такие Черные Мантии? О невероятных стечениях обстоятельств, хитрых ловушках, загадочных личностях и интригах повествует роман, представляемый нами российскому читателю. Часть Первая БОЕВАЯ РУКАВИЦА I КОЕ-ЧТО О ШВАРЦАХ В небольшом эльзасском городке Гебвиллере проживало некогда семейство Шварцев. Это было весьма добродетельное семейство, которое усердно увеличивало число эльзасцев и распространяло их по белу свету. А поскольку эльзасцы пользуются везде доброй славой, то и Шварцеву семейству удавалось, когда – поклонившись кому следует, а когда и вовсе без трудов, пристраивать своих отпрысков с известным комфортом. Кстати, это последнее словцо в устах местных знатоков французского языка приобретает особую, приятнейшую для слуха модуляцию. Итак, семейство Шварцев процветало и неустанно умножало свое потомство, рассылая малышей и в Париж, и в провинцию, и за границу. И несмотря на непрерывные поставки, здесь всегда имелся солидный запас шварценят обоего пола, готовых к отгрузке. По части торговли, хоровых обществ, пива и особенностей произношения ни одна страна в мире не может сравниться с Эльзасом! Молодой Шварц, должным образом выпестованный и созревший для жизненных побед, соединяет в себе достоинства сынов Савойи, Прованса и Оверни: легендарную скаредность первых, самодовольный апломб вторых и рыцарскую обходительность третьих. И держу пари, что в Европе не найдется ни одного городишка с двумя тысячами душ населения, где бы не было по меньшей мере одного Шварца! В 1825 году в Кане жили два представителя этой славной фамилии: некий комиссар полиции, добропорядочный ловкач, и кондитер, который трудолюбиво выпекал в швейцарской пекарне свое благосостояние и счастье. Надо думать, что одного упоминания о комиссаре полиции, да еще в 1825 году, достаточно, чтобы читатель догадался: речь пойдет о знаменитом процессе Мэйнотта. А нашумевшее дело Мэйнотта, несомненно, является среди прочих скандальных историй одним из самых любопытных и таинственных. 14 июня 1825 года один молодой представитель семейства Шварцев, настоящий Шварц из Гебвиллера, прибыл в Кан на империале парижской почтовой кареты. Костюм юноши отличался опрятностью и свидетельствовал о заботливом уходе, который, однако, не всегда в состоянии скрыть весьма скромный достаток. Молодой человек был невысокого роста, но вся его ладно скроенная фигура говорила о здоровье и выносливости. Это был брюнет с тонкими чертами лица и приятным цветом кожи. Люди этого типа, не часто встречающиеся в Эльзасе, обычно рано стареют и тучнеют, но Ж.-Б. Шварц пока еще был очень худ. Ему нельзя было дать больше двадцати лет. Необычайно живые глаза, взирающие на мир с жадным любопытством, выделялись на лице, выражавшем спокойную доброжелательность. Багаж господина Шварца был невелик, и юноша с легкостью сам вынес его из кареты. Заметим, что никто из нормандцев – этих известных физиономистов, зазывающих приезжих в гостиницы, – не полюбопытствовал спросить о роде занятий Шварца. А молодой человек между тем получил адреса господина Шварца – комиссара полиции, и господина Шварца – кондитера. Шварцы, достигшие благополучия, и Шварцы, пока только стремящиеся к нему, составляют некое братство (наподобие масонского). Наш молодой путешественник был прекрасно принят у торговца; хозяева справились о том, что новенького в родном городе, и были глубоко опечалены вестью о кончине отца и матери молодого Шварца, оставшегося с двумя дюжинами осиротевших, еще не окрепших шварценят. Он был самым старшим среди братьев и сестер. В течение двадцати лет его достойная матушка рожала шестнадцать раз, причем шесть раз – двойняшек. Таковы у Шварцев представительницы слабого пола, благослови их Бог. Нет, разумеется, нужды говорить о том, что юноша приехал в Кан, чтобы устроить свою жизнь; это нечто само собой разумеющееся, поскольку ни один Шварц не предпримет поездку ради удовольствия. Комиссар полиции и кондитер, увидев его, воскликнули: «Вот жалость-то! Приехать бы вам неделей раньше…» Один Шварц неплохо устроился у швейцарца, другой свил свое гнездо в полицейском участке, но ведь в других местах тоже полно Шварцев! В обеденное время наш молодой путешественник прогуливался в задумчивости вдоль берега Орна. Гостеприимство обоих его соотечественников не простиралось столь далеко, чтобы пригласить юношу к столу. По-прежнему он держал в руке свой багаж, и действительность рисовалась ему отнюдь не в розовом свете. Разумеется, прежде чем окончательно впасть в отчаяние, он мог навестить немалое число Шварцев в разных уголках Франции, но дело в том, что деньги его были на исходе, а желудок с самого утра пребывал в состоянии напряженного ожидания. – Вот это да! Шварц! – услышал он позади себя радостное восклицание. Он живо обернулся, и на какой-то миг в его сердце возродилась надежда. Ведь для голодного желудка всякая встреча желанна: а вдруг она завершится обедом! Однако, увидев того, кто его окликнул, Ж.-Б. Шварц помрачнел и опустил глаза. Ему навстречу по набережной шел его ровесник, безвкусный костюм которого сразу выдавал коммивояжера. Молодой человек, улыбаясь, протянул руку. – Как дела, старина? – спросил он по-свойски. – Ведь мы на родине жирной говядины, а? Пожав руку Шварца, который отчужденно молчал, он добавил: – Как мир-то тесен! – Да, действительно, господин Лекок, – ответил молодой эльзасец, церемонно приподняв шляпу, – вот и повстречались. Тут господин Лекок взял Шварца под руку, отчего последнего просто передернуло. Надо, однако, заметить, что своим поведением этот персонаж никак не давал повода для подобной неприязни. Это был весьма представительный молодой человек со здоровым цветом лица, мужественной осанкой и смелым взглядом. Правда, его манеры, как и аляповатый костюм, не отличались изысканностью, но подобные мелочи мало интересовали нашего эльзасца. Просто в Гебвиллере предпочитают сдержанность. И недоверчивость, с которой Ж.-Б. Шварц отнесся к этой яркой фигуре, должна насторожить и нас. – Так мы уже и пообедать успели? – спросил господин Лекок, шагая рядом со Шварцем. Тот покраснел и отвел глаза, но ответил: – Да, господин Лекок. Коммивояжер остановился, посмотрел на него и расхохотался. – Та, господин Лекок! – повторил он, передразнивая акцент своего спутника. – Ну и ну! Стало быть, мы и приврать умеем! Те, кто вам сказал, мой друг, – продолжал он с подчеркнутой важностью, – что братья Моннье меня уволили, наплели с три короба! Лекока – приемного сына полковника – уволить нельзя, понятно? Увольняет только сам Лекок – тех хозяев, которые ему не нравятся. Моннье попросту подонок, и у него я получал всего четыре тысячи. А Бертье с компанией предложили мне пять тысяч плюс комиссионные, ясно? – Пять тысяч плюс комиссионные! – повторил ошеломленный эльзасец. – Неплохо, а, старина? Но для меня это не предел… А вы-то почему больше не служите у Моннье? – Они закрыли несколько контор… – Я же вам говорю: подонки… И сколько ты сейчас имеешь? – Триста и обед… Да, это только на хлеб и на воду. Ну и ну! Если говорить откровенно, то я тебе скажу, Жан-Батист, что ты попросту лопух, баба. Шварц попытался отшутиться и ответил: – Просто мне не везет так, как вам, господин Лекок. Они свернули с набережной и стали подниматься по улице Сен-Жан. Коммивояжер пожал плечами. – В коммерции, Жан-Батист, – изрек он, – нет везения и невезения. Просто надо правильно держать карты, вот так, понял?.. Ну и вовремя пойти ва-банк… Я тебе так скажу: как только у Бертье что-то будет не по мне, я тут же отправлюсь в другое место, чтобы уж точно иметь свои восемь тысяч, а то и больше… – Вы, должно быть, сколотили целое состояние, господин Лекок, – вставил Шварц с наивным восхищением. Господин Лекок похлопал его по спине. – Да ведь и траты какие – карты, вино, красотки! – возразил он. – Я же у родителей – младший сын, ну, недотепа, мокрая курица, а такие не пользуются успехом у женщин. Так-то, старина. В этот момент он подтолкнул Шварца к дверям большого старого дома, над которыми красовалось живописное изображение голенастой птицы, разгуливающей по львиной гриве, а над этим шедевром виднелась надпись: «У отважного петуха». Ж.-Б. Шварц не стал сопротивляться, поскольку острые запахи кухни ударили ему в нос и дальше терпеть голод было уже невозможно. – Эй, там! – громко произнес господин Лекок тем властным тоном, благодаря которому коммивояжерам всегда гарантирован номер в любой гостинице. – Мамаша Брюле! Папаша Брюле! Есть здесь кто-нибудь, черт возьми? Или вы вымерли? На пороге кухни показалась почтенная мамаша Брюле с лицом старой ведьмы. Господин Лекок послал ей воздушный поцелуй и сказал: – Я тут встретил старого друга, а у вас, я смотрю, уже готов обед; вот и отнесите в мою комнату закуски, да поприличнее – на четыре франка с каждого… И уж постарайтесь, моя прелесть! Беззубый рот хозяйки растянулся в ответной улыбке. – Здесь я отдыхаю душой, когда бываю в Кане, – продолжал господин Лекок, поднимаясь по кривым ступеням лестницы. – Мне сдают комнату под самой крышей. Там я забавляюсь с девочками, сам понимаешь, старина! Ну-с, добро пожаловать! Ж.-Б. Шварц не заставил себя упрашивать: запах, доносившийся из кастрюль, чувствительно щекотал его ноздри, божественной музыкой звучали недавние слова Лекока: «Карты, вино, красотки!» Карты, по мнению Шварца, не стоили внимания, но он был не прочь выпить, а мысль о красотках вызывала в душе сладкое томление. И хотя эльзасцы славятся своей неторопливостью, но – пусть не в апреле, а в августе – даже они откликаются на зов природы… Между тем молодые люди очутились в неуютной и грязной комнате, одной из тех, какие обычно встречаются на постоялых дворах. Не успев войти, Лекок быстро выскочил на лестницу и громко закричал: – Прислуга! Папаша Брюле! Мамаша Брюле! Кто-то откликнулся, и Лекок продолжал: – Мою карету к восьми часам! И чтобы точно как штык! Завтра утром я должен быть в Алансоне! Затем он присоединился к своему гостю и небрежно добавил: – Дом Бертье оплачивает мне кабриолет и лошадь, ясно?.. По делам этого дома я путешествую обычно ночью, чтобы не портить цвет лица. – Если мне будет позволено… – начал было Ж.-Б. Шварц. – Хочешь поехать со мной? – Да… – Та… Так вот, Жан-Батист, не стоит! Об этом мы сейчас и потолкуем, старина: у меня на ваш счет другие планы. Сомнение вновь охватило нашего Шварца, и он уныло промямлил в ответ: – Понимаете, господин Лекок, ведь я всего лишь бедняк… – Ладно, ладно! Мы сейчас побеседуем на эту тему, я же сказал. И обещаю, сударь, что чрезмерно напрягаться я вас не заставлю. Разговаривая, Лекок одновременно занимался своим туалетом, сменив городское платье на костюм путешественника. Когда служанка принесла еду, он с грохотом откинул крышку своего дорожного сундука. – Я отправляюсь в Сирию, – сообщил Лекок, – и хочу оплатить счета. И чтоб без всяких приписок, душа моя, ясно? Не забывайте, что мне полагается коммерческая скидка… и овес моему рысаку! Ж.-Б. Шварц, возможно, и не отличался особой наблюдательностью, но глаза у него все же были, и ему показалось, что господин Лекок уж слишком «пережимает» со сценой прощания, как говорят в театральном мире. Шварц навострил уши, и если предположить, что господин Лекок решил разыграть перед ним комедию, то можно с уверенностью сказать, что и зритель удвоил свое внимание. Но не так-то просто было раскусить Лекока, который, как мы убедимся в дальнейшем, был весьма хитроумным и искусным тактиком. – Ты видел вывеску у входа? – неожиданно спросил он, садясь за стол. – «У отважного петуха». Это-то и определило мой выбор, Жан-Батист, понял? Я – петух[1], и я отважен. Но оставим церемонии; у меня к вам дело, сударь, и я плачу чистоганом. Сейчас я при деньгах, потому что дела мои здесь шли успешно: позавчера доставил крупнейшему канскому банкиру Банселлю железный сейф с секретом последней модели, от которого тот просто без ума. В городе только об этом и говорят. Теперь все нормандские банкиры захотят иметь такие сейфы, так что и в деле Бертье у меня со временем будет своя доля. Мое здоровье! Он опрокинул стакан вина и продолжал: – А почему?.. Да потому, что я – отважный петух, я всюду вхож, одет с иголочки, за словом в карман не лезу и все такое прочее… А ты, старина, настоящая курица, это точно: потертый сюртук, тощий кошелек и к тому же эта застенчивость!.. Стало быть, в Кане есть двое Шварцев: я, как вы хорошо знаете, сразу беру быка за рога… Шварцы, они, как иудеи, всегда поддерживают друг друга, но уж очень ничтожна эта поддержка, а? Ведь эльзасец – самое дряблое и холодное из всех живых существ на свете, если не считать карпа, конечно. У кондитера – нет места, у комиссара – нет места… И вот мой бедный юноша намерен отправиться в Алансон искать других Шварцев: чушь, да и только! Все это было грустно слышать; тем не менее – о, сила аппетита! – наш молодой друг ел довольно неплохо. А когда ешь, то хочется выпить; и Лекок щедро угощал его настоящим вином. Не секрет, что вина на постоялых дворах Нормандии отличаются особенными качествами: нигде больше не найти столь кислого, поистине отвратительного пойла, как там. Но жители Гебвиллера не очень привередливы, и обычная воздержанность нашего бедного друга привела к тому, что сейчас его голова, подобно девичьей, пошла кругом. И во время этого пиршества (напомним: за четыре франка на каждого) Ж.-Б. Шварц все явственнее ощущал, как непривычное тепло разливается по его телу; он становился мужчиной, черт побери! И юноша чувствовал, что все больше завидует смелости господина Лекока. В крошечном мирке парижских служащих, где Ж.-Б. Шварц вращался уже в течение нескольких месяцев, Лекок пользовался не лучшей репутацией. Но никто ничего толком не знал ни о его прошлом, ни о его связях, и ходившие о нем нелестные и довольно тревожные слухи, возможно, не имели под собой никаких оснований, так как зависть – обычная спутница победителей. Лекок же был победителем: пять тысяч франков жалованья, комиссионные и коляска! Не многим коммивояжерам в 1825 году удавалось достичь таких вершин. Ж.-Б. Шварц почтительно глядел на Лекока снизу вверх, и каждый стакан нормандского вина усиливал его восхищение. И если бы на весы положили соблазны, предлагаемые господином Лекоком, – с одной стороны, а эльзасские добродетели – с другой, то мы затруднимся сказать, какая чаша перевесила бы. По крайней мере так обстояли дела уже за десертом. Но в то же время наш Шварц оставался порядочным человеком; например, он не обманул бы вас, предъявляя счет (но следует узнать, как этот счет составлялся). Итак, на столе располагались различные сыры, а среди них – локти обоих приятелей; молодые люди мирно беседовали. – Это замужняя женщина, Жан-Батист, – продолжал свою речь коварный соблазнитель. – Сам понимаешь, дело молодое… Трусоватый Шварц поддакнул. – С замужними женщинами, – говорил Лекок, – шутить нельзя; на то закон есть. – В таком случае оставьте их в покое! – воскликнул Шварц, на которого это последнее слово произвело магическое действие: вот новое доказательство его эльзасской чистоты. Но Лекок прижал руку к груди и патетически произнес: – О нет, друг мой! Лучше умереть, чем отказаться от счастья! Впрочем, тут вот еще что. Я все же принял кое-какие меры предосторожности: написал одно письмо, и оно уже отправлено с дорожной каретой, а завтра утром в Алансоне его опустят в почтовый ящик. Письмо адресовано папаше Брюле, а в нем – просьба вернуть мне трость с серебряным набалдашником, которую вы видите там, в углу, и которую я «забуду» при отъезде. – Вот это да! – удивился Шварц. – И все это – из-за какой-то любовной интрижки! Господин Лекок наполнил стакан, поднес его к губам и, воспользовавшись этим движением, украдкой взглянул на собеседника. Они уже допивали третью бутылку, и Шварц окончательно захмелел. – Это похоже на те истории, – тихо произнес Шварц, – о которых пишут в газетах. Как это называется в суде присяжных? Обеспечить себе «алиби», если я не ошибаюсь. Лекок разразился смехом. – Браво, старина! – воскликнул он. – Из тебя выйдет толк! Не в бровь, а в глаз! Алиби! Именно оно, черт побери! У меня должно быть алиби на тот случай, если муж захочет мне напакостить. Да, в нашем деле не только розы! Есть и шипы, а как подумаешь, что муж – бывший военный… Эй, красавица, дайте-ка нам кофе с ликером, да погорячей! Все это господин Лекок произнес скороговоркой, поскольку отяжелевший взгляд его гостя выражал недоверие. – Ну, я-то в такую историю не влипну! – заметил Шварц, обращаясь скорее к самому себе. – Нет, Жан-Батист, – продолжал Лекок, наливая своему гостю полный стакан водки, – и твой черед настанет, и ты потеряешь голову… узнаешь страсть. Но я еще не все сказал. Видишь ли, ее муж – близкий друг комиссара полиции… Ж.-Б. Шварц отстранился от стола. – Господин Лекок, – заявил он решительно, – ваши дела меня не касаются. – Конечно, нет, конечно, не касаются, – подтвердил коммивояжер. – Но ты можешь немножко подзаработать… – Я не собираюсь… – начал было эльзасец. – Душа моя, только короли могут сказать: мы собираемся, мы намереваемся… Учти, что я заплачу тебе чистых сто франков наличными за одно только слово, которое надо шепнуть сегодня вечером на ушко полицейскому комиссару, причем тихо и без глупостей… Вот смеху-то, а? Ну, сделаем старику подарочек! II ГОСПОДИН ЛЕКОК Сто франков! Да знаете ли вы, что может сделать с сотней франков добропорядочный Шварц? У Ж.-Б. Шварца никогда не было таких денег. А если бы они были, то Ж.-Б. Шварц устроил бы банковский дом, наверное, даже на чердаке. Иные рождаются поэтами, а Ж.-Б. Шварц принес в этот мир изысканную чувствительность ко всему, что касается реестров и счетов. Голова его закружилась, потому что выпитая скверная водка неотступно будоражила воображение, а три бутылки кислого вина разжигали в юном сердце священный огонь. И нашему герою привиделось нечто далекое и сказочное: просторные кабинеты, устланные коврами, кассиры за решетчатыми окошками, зеленые гроссбухи с красными надписями, дивной красоты металлическая касса с узорчатой насечкой, служащие, погруженные в изумительно стройные ряды цифр и старательно подсчитывающие доходы, серые ливреи, а в карете, запряженной четверкой лошадей, госпожа Ж.-Б. Шварц с плюмажем – все как на дорогих похоронах. Сто франков! За сто франков получить все эти сокровища, а возможно, и больше! Вот он – маленький желудь, порождающий могучий дуб! – Но я не хочу! – пискнула тем не менее испускающая дух добродетель нашего героя. И, делая вид, что встает из-за стола, юноша добавил: – Ни за какие блага, господин Лекок, я не стану подвергать себя опасности. – Жан-Батист, – возразил коммивояжер тоном превосходства, – я вижу вас насквозь. Подумайте хорошенько. Дело и выеденного яйца не стоит, а кроме ста франков, вы можете получить еще и тепленькое местечко у Бертье. – Но за одно свидание не дают ста франков, – отвечал эльзасец. – Здесь что-то нечисто. – А если платит дама?.. – сделал новую попытку Лекок, взъерошив себе волосы. Ну, кого же не растрогает такая любовь? А Лекок, решив ковать железо, пока горячо, воскликнул: – Не стоит рассуждать о вещах, которых ты не понимаешь, старина! Скажем так: ты утопающий, а я – твой спаситель, ясно? Диспозиция у нас следующая: господин Шварц-кондитер в девять часов запирает дом на ночь; в половине десятого у тебя уже не будет другого выбора, как только искать ночлега где-нибудь на чердаке у господина Шварца-комиссара полиции. – Но он же меня прогнал! – только и сумел вставить эльзасец. – Черт возьми! Извольте понять одну истину: на всем белом свете только я один проявляю интерес к вашей персоне! – Это верно, – пролепетал Ж.-Б. Шварц, размягченный выпитой водкой. – Я здесь совсем один!.. – Печальный изгнанник в чужих краях… Тут вспоминается множество стихов, положенных на музыку выдающимися композиторами. Однако же в десять часов десять минут комиссар полиции вернется домой после циркового представления у братьев Франкони, помнишь эту палатку на площади Префектуры? Он будет торопиться, находясь в дурном расположении духа из-за того, что по долгу службы ему придется уже в четырнадцатый раз созерцать господина Франкони-отца в генеральской форме и мадемуазель Лодоз в костюме Симодосеи. Он пойдет вверх по улице Префектуры и по улице Экюйер. Вы последуете за ним до площади Фонтетт – затем по улице Вильгельма Завоевателя до площади Акаций. Ее так назвали, поскольку она обсажена липами. Госпожа Шварц – эта малопривлекательная увядающая женщина, которая, однако, любит похохотать, когда ее щекочут, будет уже почивать. Вы подойдете к ее мужу – комиссару. Ваше появление будет для него неприятным сюрпризом; он воскликнет: «Ах, это снова вы!» Не исключено, что в запальчивости он даже добавит к этому восклицанию еще несколько слов и назовет вас бездельником или бродягой. Но это – его право: ведь каждую неделю у него бывает трое или четверо Шварцев. Да слушаете ли вы меня? Жан-Батист слушал, хотя его сердце сильно колотилось и в ушах стоял шум. Господин Лекок продолжал: – Внимание, приятель, теперь самое главное. Ты ему скажешь: «Господин комиссар и уважаемый соотечественник! Несчастья как будто преследуют меня в здешней столице. По самой невероятной случайности я остался без денег и в этой беде рассчитывал обратиться за поддержкой к одному коммерсанту, моему прежнему начальнику еще по Парижу – господину Лекоку, служащему дома Бертье, который продал сейф с секретом господину Банселлю…» Ну что, запомнил? И учти, что ты не просто языком будешь болтать, а получишь сто франков, если все запомнишь, как следует… «Но, – продолжишь ты, – этот молодой коммерсант сегодня вечером покинул гостиницу «У отважного петуха», служившую ему пристанищем, и в собственном экипаже отправился в Алансон…» Все это ты скажешь ради последних слов; повтори! Ж.-Б. Шварц повторил, а потом спросил: – А где я буду ночевать? – Где бы вы ночевали, если бы не встретили меня, Жан-Батист? Но не будем отвлекаться на мелочи. Когда достойный комиссар попросит вас идти своей дорогой, считайте, что дело сделано и деньги ваши. А с ними – и моя признательность до гроба. Молодой эльзасец задумался. Несмотря на сумбур в голове, он не находил ровным счетом ничего предосудительного в той мелкой услуге, о которой его просили. Но что его беспокоило, так это слишком большой размер вознаграждения, обещанного за сущую безделицу. Господин Лекок поднялся и бросил салфетку. Пробило восемь часов. – Я все сказал, – произнес он высокопарно, – и спешу на зов любви. – Знать бы, – пробормотал Ж.-Б. Шварц, – что за этим не кроется ничего, кроме амурных дел… – Я полагаю, молодой человек, – строго произнес коммивояжер, – что вы не ставите под сомнение ни мою честь, ни мои политические убеждения. Ж.-Б. Шварц не думал об убеждениях Лекока. Он много отдал бы за то, чтобы иметь надежный ночлег и возможность пораскинуть мозгами. Лекок уже закрывал свой дорожный сундук, расплатившись по счету. Все было готово, ничего не забыто, кроме, конечно, трости с серебряным набалдашником, намеренно оставленной в углу. Господин Лекок спустился вниз, насвистывая какой-то мотивчик; Ж.-Б. Шварц следовал за ним. Экипаж коммивояжера, принадлежащий дому «Бертье и К°» и предназначенный для перевозки ларей с секретом, сейфов, замков с шифрами и тому подобных предметов, представлял собой дрянненькую повозку, но запряженная в нее бретонская лошаденка бодро била копытом. – Вы дадите мне задаток? – робко произнес молодой эльзасец в тот момент, когда Лекок поставил ногу на подножку. – Ни в коем случае, – ответил тот. – Не скрою, меня удручают ваши колебания. Скажите «да» или «нет», старина… – Но если я соглашусь, – спросил Ж.-Б. Шварц, – то где же мы с вами встретимся? – Так вы согласны? – Нет… – В таком случае иди ты к дьяволу! Давно пора! – Но я же не отказываюсь… Лекок натянул вожжи. Вид у Шварца был жалкий. За предложенную сумму он бы продал не только себя самого, включая длинные зубы и густую шевелюру, но, может быть, и спасение своей души. Но Шварц боялся совершить проступок в том смысле, какой в это слово вкладывает закон. – Трогай! – скомандовал Лекок, щелкнув кнутом. – Я согласен… – пролепетал Шварц уже в полном изнеможении. Лекок нагнулся и потрепал его по щеке. – Давно бы так! – произнес он, на этот раз с чистым каннебьерским акцентом. – Значит, договорились, Жан-Батист?.. Тогда так. В два часа ночи ты должен уйти из Кана через Воссельский мост и пройти около одного лье по алансонской дороге. Ровно в три часа я буду ждать тебя в лесу справа от дороги, не доходя до немецкой деревни… До скорого, старина, и не за бывай, что я сказал, чтобы все было точно… Нн-о, пошел, Красавчик! Красавчик встрепенулся и стрелой помчался по дороге, в то время как прислуга, мамаша Брюле, папаша Брюле и их потомство кричали напутствия вслед уехавшим. В июне темнеет поздно, и было еще светло, когда Лекок и ретивый бретонский скакун покинули подворье «Отважного петуха», оставив беднягу Шварца в плену тревожных размышлений. Господин Лекок, держа в зубах зубочистку, с победоносным видом щелкал кнутом, спускаясь по небольшим улочкам к реке. Ох, этот шустрый молодчик! Он одаривал улыбками девиц, он посылал воздушные поцелуи торговкам, стоявшим в дверях своих лавок, успевал перекинуться остротой с мальчишками и кричал: «Поберегись, папаша!» – когда встречные уступали ему дорогу. И его действительно хорошо знали. В городе только и разговору было, что о ларце, купленном у него богачом Банселлем, об этом сказочном сундуке, которому и грабители нипочем и который сам хватает мошенника за руку, как жандарм! Уж эти парижские фокусы! И другие городские богатеи начали подумывать о том, чтобы приобрести такую полезную вещь. Но сейф стоил дорого, и переговоры занимали немалое время. В Кане не было известно имя «Бертье и К°», и говорили попросту: «ларец Лекока». Так что Лекок был человек знаменитый. Завидев повозку, люди думали: «Вот и Лекок едет продавать новые ящики. Этот дело знает и своего не упустит». Когда господин Лекок в сумерках выезжал из Кана по Воссельскому мосту, сотни людей были свидетелями его отъезда. Конечно, само по себе это почти ничего не значит, потому что в конце концов можно ведь и вернуться. Но мелкие детали – это ручейки, которые образуют большие реки. Пока еще не совсем стемнело, господин Лекок гнал свою лошаденку крупной рысью, приветствуя каждого встречного. С наступлением темноты, отъехав от города примерно на три четверти лье, он остановил повозку у дверей постоялого двора, чтобы на виду у всех, кто там был, зажечь свои фонари. – Славная лошадка, – сказал трактирщик, похлопывая Красавчика по крупу. – Он таким ходом до самого Алансона доскачет, – бросил в ответ господин Лекок. – Трогай! Но-о-о! В пятистах шагах от трактира дорога поворачивала; справа от нее чернели заросли конских каштанов. Сразу после поворота Лекок резко остановил свою лошадь. Он огляделся и прислушался, но дорога была пустынна. Тогда он соскочил с повозки, взял Красавчика под уздцы и повел его в гущу зарослей по дорожке столь узкой, что повозка едва проходила по ней. При первой же возможности они свернули с тропы. Красавчик, которого хозяин с силой тащил за собой, продирался сквозь заросли каштана и волок за собой повозку. При свете дня ее можно было легко увидеть, но в темноте все, что находилось за пределами дороги, было полностью скрыто от глаз. Лекок освободил свою лошадь от упряжи, отвел ее еще на двести или триста шагов и привязал в самой чаще зарослей. Затем он вернулся к повозке и, не мешкая, сменил свои щегольские клетчатые панталоны на синие бумажные штаны с потертыми коленями. Вместо элегантного дорожного сюртука он облачился в полотняную куртку, а на голову надел грубую шапку из рыжей шерсти и надвинул ее на глаза. Странный вид для любовника, спешащего на свидание! Затем он снял сапоги и надел мягкие туфли, а сверху – грубые башмаки с подковами. Можно с уверенностью сказать, что даже его возлюбленная могла бы пройти мимо, не узнав его. Лекок отправился в путь. Он являл собой совершенный образчик кальвадосского обывателя, наполовину крестьянина, наполовину горожанина. Он вышел на дорогу и грузно зашагал по направлению к Кану. Было половина десятого. Около десяти часов из лавки торговца антиквариатом, расположенной на той самой площади Акаций в квартале Сен-Мартен, где жил полицейский комиссар Шварц, вышел некто в крестьянской куртке и рыжей шерстяной шапке. Передвигался он совершенно бесшумно, так как был обут в мягкие туфли. Он быстро пересек площадь и достал из-под скамьи пару больших башмаков с подковами. Когда пробило десять, этот человек уже вышагивал по тротуару, звеня подковами своих башмаков; и вот он очутился на площади Префектуры, где звучали последние аккорды оркестра братьев Франкони. Представление заканчивалось. Человек в синих бумажных штанах, потертых на коленях, серой куртке и шерстяной шапке уселся на каменную тумбу на углу собора и стал ждать. Одним из первых из цирка вышел комиссар полиции Шварц и сразу же направился к кварталу Сен-Мартен. Человек пошел за ним на некотором расстоянии. На половине пути к дому, на улице Вильгельма Завоевателя, к комиссару полиции робко приблизился скромного вида молодой человек, который, казалось, хотел его о чем-то просить. Мужчина в рыжей шапке прибавил шагу. А комиссар полиции нетерпеливо и сухо выговаривал бедняку: – Кто же едет в город наобум Лазаря! Ничем вам не могу помочь! И тут Ж.-Б. Шварц весьма уверенно, чего от него нельзя было ждать, если вспомнить, что совсем недавно он пребывал в полной растерянности, рассказал затверженный урок. Он заговорил о своем покровителе господине Лекоке, о ларце Банселля и о несчастном стечении обстоятельств, в силу которого именно в этот вечер господин Лекок находился в дороге по пути в Алансон. Комиссар полиции отвечал на это: – Я не знаю вашего господина Лекока и не имею ко всему этому никакого отношения. Оставьте меня в покое! Что и сделал Ж.-Б. Шварц, уже заработавший свои сто франков. Человек в рыжей шапке, стоя в темном углублении стены, весьма внимательно прислушивался к этому разговору. Когда комиссар полиции и Ж.-Б. Шварц распрощались, он не последовал ни за одним из них, а пошел по направлению к кварталу с кривыми улочками, находившемуся недалеко от площади Фонтетт. Теперь он шел быстро и явно был чем-то очень озабочен. В глубине тупика Сен-Клод находился трактир, который был еще открыт. Мужчина приблизился к окну и осмотрел помещение сквозь мутноватое стекло, прикрытое изнутри тонкой занавеской; в грязном зале было пусто, и лишь один человек за стойкой считал деньги. – Ну как, готовы, папаша Ламбэр? – обратился к нему, как к старому знакомому, господин Лекок, входя в заведение. Вместо ответа кабатчик произнес: – Вещь у вас? Господин Лекок похлопал себя по куртке в том месте, где оттопыривался какой-то предмет. Раздался металлический звук. Кабатчик погасил лампу, и они вышли. III ПЯТЬДЕСЯТ ДОН-ЖУАНОВ Перенесемся на некоторое время назад и поговорим о вещах более примечательных, чем ларец с секретом и защитным устройством, принадлежащий господину Банселлю. В ту пору Кан был довольно шумным городом; студенты и военные оживленно вертелись вокруг местных красавиц. Самой привлекательной дамой в Кане была Жюли Мэйнотт – жена гравировщика, настоящая красавица. С тех пор как Андре Мэйнотт открыл скромную лавку, где продавались пищали, аркебузы и прочие диковинные вещицы, сразу привлекшие внимание публики, золотая молодежь Кана, оставив городской бульвар и аллею у префектуры, все время проводила под деревьями на площади Акаций. Офицеры разных родов войск (а тогда дивизию еще не перевели в Руан), студенты всех мастей и львы коммерческого поприща дружно превратились в любителей старины и с утра до вечера приходили поглазеть на антиквариат и другие товары, выставленные в небольшой витрине магазина. Андре Мэйнотт, который, кстати, не был уроженцем Кана, продавал пистолеты, рапиры, маски, меховые перчатки, а также тонкие испанские и миланские клинки, шкатулки, шлифованные драгоценные камни, фарфор и эмаль. Но я бы не стал утверждать, что своим стремительным успехом все предприятие было обязано не ослепительной красоте его молодой супруги, а какой-то иной причине. Жюли Мэйнотт, пленительная, как мадонна Рафаэля с ангелочком на руках, служила для дома великолепной вывеской: такова сила магического воздействия, оказываемого на мужчин прекрасным полом. Жюли, подобно волшебнице, оживляла ценнейшие кружева и тончайшие гравюры, она расцвечивала сверкающими красками шелка и возвращала прелесть узорам индийских тканей. В мнениях о ней дамы разделились на две половины. Те, что не были дурнушками, утверждали, что в ней нет ничего особенного; дамы же по-настоящему красивые и дамы откровенно непривлекательные оказались, хотя и по мотивам прямо противоположным, в одном лагере, заявляя, что она – сама прелесть. Никто не остался равнодушным, а для истинного успеха разница во мнениях просто необходима. Дом процветал. Сам же Андре Мэйнотт, который был так же молод, как и его жена, горд и смел, умен, полон сил, горяч, очень влюблен, нисколько не страдал от того, что успех жены преступал определенные границы. Да он и в самом деле не имел оснований жаловаться на жизнь: Жюли, нежная и умная, сделала его счастливейшим из мужчин. Дельцы же, студенты и офицеры – все эти любители легких побед – любовались ею и, вопреки ожиданиям, не выказывали особой предприимчивости. К сказанному, впрочем, следует добавить, что комиссар полиции господин Шварц жил на втором этаже того дома, где супруги Мэйнотт занимали первый этаж. А такое соседство помогает укреплять добродетель. Боюсь, что читатель может подумать, будто самой значительной достопримечательностью Кана – большей, чем сейф господина Банселля – была изысканная красота Жюли Мэйнотт. Но вы заблуждаетесь. Соперничать со знаменитым ларцом банкира может только материальный предмет, и о Мэйноттах мы говорим потому, что сей предмет красовался в витрине их лавки. Им была, выражаясь точным языком, латная боевая рукавица из Милана, состоявшая из перчатки, кистевого набора сочлененных пластин и защитного рукава, или стального чехла, предназначенного для того, чтобы охватывать руку до локтя. Все изделие, инкрустированное сверкающим золотом и серебром, усыпанное рубинами и украшенное затейливой чеканкой в духе оружейных мастеров средневековья, своим великолепием и искусной работой привлекало внимание как дилетантов, так и знатоков. Весь Кан уже ознакомился с боевой рукавицей, обнаруженной Мэйноттом в куче железного хлама. Отреставрированная его умелыми руками, всю последнюю неделю она красовалась в витрине магазина. Мнение было одно: нет в городе достаточно богатого любителя, чтобы осилить стоимость такого изделия, редкого как по технике исполнения, так и по ценности металлов и изящных камней, преумножавших его красоту. Назывались сумасшедшие цены, а наиболее сведущие утверждали, что Андре Мэйнотт отправится в Париж, чтобы продать свою боевую рукавицу самому королю – почетному директору Лувра. Это было незадолго до того момента, как Ж.-Б. Шварц повстречал несравненного господина Лекока на набережной Орна. Пятьдесят пар очков, принадлежавших коммерсантам, студентам и офицерам, были направлены в сторону витрины Мэйнотта, где между топориком и кастетом, под гирляндами кружев Жюли сверкала золоченым узором знаменитая боевая рукавица. Пятьдесят пар очков прогуливались под липами площади Акаций и ловили очаровательный образ, скрывавшийся в глубине, за выставкой железа и шелковых кружев; супруга Мэйнотта стеснялась своей популярности и держалась со своим младенцем вдали от любопытных глаз. Андре работал, напевая, за своим верстаком, приводя в порядок пистолеты и отвечая время от времени вежливым кивком головы на поклоны своих клиентов. А большинство обладателей очков действительно стремилось поприветствовать Андре, что и отрадно отметить. Среди них были элегантные кавалеры, хотя их и портило досадное присутствие очков; были и розовые щеки, гибкие тонкие талии: короче, недостаток в привлекательных молодых людях ощущался в Кане не больше, чем в других городах, и эти милые юноши, все как один, были бы рады отдать содержимое своих карманов любому, кто мог хотя бы заподозрить их в нарушении спокойствия крепкой, как цитадель, семьи ремесленника. Вот так! Этажом выше комиссар полиции и его супруга, стоя на балконе, дышали свежим воздухом. Жена комиссара принадлежала к враждебной и взыскательной категории тех, кто не был дурнушками, и Жюли изрядно ее раздражала. Комиссар же, человек благоразумный, ограниченного ума и непреклонной честности, считал своих соседей обычными пройдохами, а их успех – возмутительным. К тому же дома его неустанно пилили за то, что некогда он сказал, будто у Жюли Мэйнотт большие глаза. Госпожа комиссарша поговаривала о переезде в другое место, и все из-за Жюли, но ей было жаль расставаться с видом на деревья перед домом. Пары очков не столь уж часто обращались к ее балкону, но это не мешало ей говорить: – Невыносимо, когда на тебя все время смотрят! У комиссара тоже было скверное настроение. В половине седьмого вечера к Мэйноттам постучался старый слуга; на нем был диковинный сюртук, призванный изображать ливрею. Комиссар с супругой в один голос сказали: – Смотри-ка! У господина Банселля есть дело к Андре! Слуга был из дома господина Банселля. Прошло немного времени, и Андре с непокрытой головой и без сюртука вышел вместе со стариком из лавки. Держу пари, что он приходил по поводу сейфа! – воскликнула госпожа Шварц. – Господин Банселль просто сошел с ума из-за него! – Да-да, это очень опасно! – согласился комиссар. А на площади состязались в остроумии обладатели очков: – Господин Банселль забыл секрет замка! – Сейф принял его за вора! – И его рука уже в ловушке! И так далее в том же духе. Жюли тем временем оставалась одна, и среди обожателей возникло оживление, хотя в окне этажом выше виднелись комиссар и его жена. Не будь этого, можно себе представить, что бы тут творилось! Наши кавалеры фланировали перед витриной, выпятив грудь, напрягая мышцы и выгибая талию. И мы не ошибемся, предположив, что каждый из них, военный или штатский, лелеял тайную мечту о том, что госпожа Мэйнотт поглядывает на него из-за занавесок. Внезапно госпожа комиссарша, которая до этого зевала со скуки, встрепенулась и спросила: – На что это они смотрят? Действительно, все пятьдесят воздыхателей, столпившись против входа в лавку, с чрезвычайным вниманием что-то разглядывали. – Зеваки! – презрительно изрек комиссар, а его супруга, окончательно утратив интерес, отошла от окна. А произошло вот что. Жюли распахнула ставни, и в комнату за лавкой через небольшое окошко проник луч солнца, освещая внутреннее убранство; поднялся театральный занавес, и все, что находилось в маленькой комнате – обстановка и люди, – вдруг ожило. Зрители увидели незатейливую мебель и супружеское ложе со стоящей рядом колыбелью ребенка. С другой стороны кровати горела печь; на деревянном столе посреди комнаты лежало творение Жюли: гирлянда шелковых кружев. Жюли отворила окно, чтобы при свете дня причесать светловолосого ангела, чьи густые кудри весело золотились под лучами солнца. Она вовсе не предполагала, что на нее будут смотреть, так как привыкла к тому, что комната за лавкой скрывала ее от посторонних глаз и она могла бесхитростно наслаждаться счастьем материнства. Луч солнца с любовью осветил ее, обводя нежную линию профиля, лаская волосы, мастерски расцвечивая алмазными блестками улыбку глаз и придавая невыразимую прозрачность ее изящным розовым пальцам. Ребенок то целовал Жюли, то барахтался и мило выражал свое неудовольствие. Окно в глубине обрамляли ветви жасмина, среди которых висела клетка, и сидевшие в ней птицы оживленно спорили друг с другом. Из печи вылетали голубоватые искры, тая в лучах солнца. Воздыхатели молча созерцали эту картину. Когда, наконец, Жюли заметила, что за нею наблюдают, и закраснелась, они все же устыдились и отошли от лавки. Жюли наполовину прикрыла дверь комнаты и закончила причесывать своего малыша. Наступил час, когда канские щеголи и щеголихи выходили на прогулку. У каждого из пятидесяти наших кавалеров была на счету не одна интрижка. Всякий молодчик из начинающих коммерсантов, в своих мечтах соблазняющий Жюли Мэйнотт, имел на содержании какую-нибудь работницу, в то время как даме из общества предназначались страстные послания. Судите сами, как вели себя еще более дерзкие студенты и офицеры. Итак, площадь Акаций была чрезвычайно популярна. Здесь встречались дамы благородного происхождения и дамы из нарождающейся знати, а также дамы, представляющие, так сказать, официальные круги, имеющие отношение к Министерству внутренних дел или к Министерству юстиции. Ведь Кан – это столица. И дамы, связанные с государственной службой, перевозящие с места на место свои семейства, как того требуют интересы родины, любят Кан с его дешевизной, приятным обществом и чистым воздухом. И, верите ли, порхание канских дам все же привлекло к себе внимание прелестной Мэйнотт, этой итальянской мадонны. Она быстро покончила с туалетом своего любимца и рассеянно поглядела на ужин Андре, стоявший на плите. Она и впрямь обожала своего Андре – самого любящего супруга, о каком можно только мечтать. Их брак был заключен по любви, если таковая вообще бывает на этом свете… Но сейчас красавица Мэйнотт, спрятавшись за дверью, стала разглядывать платья из шелка и крепдешина, легкие шарфы, итальянские соломенные шляпки гуляющих… Что тут сказать?.. Она не удостоила бы и взглядом пятьдесят или даже пятьсот Дон-Жуанов, но вот предметы роскоши и цветы ее неизменно влекли. Мостовая зазвенела под копытами лошадей, и красавица Мэйнотт побледнела от волнения. В открытой коляске, покачивающейся на рессорах, находился целый букет нормандских маркиз, не менее прекрасных, чем парижанки. Жюли закрыла дверь, присела и вздохнула. Ребенок попытался забраться к ней на колени, но она его оттолкнула. Ее охватило мечтательное настроение, и она достала колоду карт из ящика светлого деревянного стола. Эта очаровательная мадонна была южанкой, и ей еще не исполнилось и двадцати лет. Она принялась гадать. Малыша это заинтересовало, и он не мешал матери. По мере того как молодая женщина раскладывала карты, ее умное, с правильными чертами лицо оживлялось; теперь оно было не только красиво, но и выражало страсть; глаза ее блестели, она внимательно следила за тем, как ложились карты, и время от времени ее губы что-то шептали. – Ты будешь богат! – обратилась она к ребенку с движением, внезапность которого заставила малыша вздрогнуть. И Жюли уронила голову на руки. Однако вскоре она собрала карты и положила колоду на место, посетовав при этом: – Но карты не сказали мне, когда! С наступлением сумерек вернулся Андре. Людей на площади становилось уже меньше, а комиссар полиции отправился в цирк, оставив жену с господином Эльясеном Шварцем. Эльясен был эльзасцем, опередившим своим появлением нашего Ж.-Б. Шварца. Не будь Эльясена, Ж.-Б. Шварц, возможно, и попал бы в контору комиссара полиции. Поэтому позже, когда Ж.-Б. Шварц стал миллионером – а он им стал, причем не просто миллионером, а миллионером в квадрате и более того, – он обеспечил теплое местечко этому Эльясену – косвенному виновнику своего благосостояния. Да, проигрыш в небольших делах открывает порой лучшие шансы для большого выигрыша. У Эльясена были белесого цвета волосы, брови и ресницы, розовая кожа, широкие плечи, здоровые зубы и глаза такие же, как и волосы: короче, это был крепкий эльзасец. Он исправно выполнял свою работу в конторе и говорил мадам комиссарше, что в красоте Жюли есть что-то дьявольское. Им были вполне довольны. Тем временем внизу, в комнате за лавкой, ужинали голубки Мэйнотт. В Андре было что-то детское, несмотря на мужественное выражение его лица. Он был счастлив, иногда – до умопомрачения, и когда смотрел на жену – свое обожаемое сокровище, то боялся, что ему снится сон. Заметьте, что ему было ведомо все то, о чем, казалось, он не имел ни малейшего представления: так, он знал страсть Жюли к гаданию. А когда под окном появлялись великолепные дамы в сногсшибательных туалетах, крепдешинах и итальянских соломенных шляпках, ему казалось, будто в его собственной груди бьется чувствительное сердце Евы. Ах! Он по-настоящему любил, и его сердце было сердцем мужчины! Но Жюли обо всем этом не думала. Когда глаза Андре смотрели в ее глаза, она испытывала только счастье, которому могла бы позавидовать даже королева. Итак, повторяю: здесь было двое влюбленных. Ребенок забавлялся их поцелуями – милое, смеющееся создание, как бы само воплощение улыбки счастья, сияющей на их лицах. Они говорили обо всем, кроме любви, поскольку семейные радости не похожи на другие, хотя, может быть, и напрасно. Молодая женщина спросила: – Отчего ты так долго был у господина Банселля? – Да сундук этот! – ответил Андре. – Опять этот ящик! Он из-за него просто света белого не видит! – А что ему нужно? – Отделать заклепки, нанести чеканку на ручки, позолотить резьбу, покрыть поверхность бронзой, короче говоря, превратить эту вещь в драгоценность. Прямо с ума сошел. Из магазина послышался негромкий шум. Оба приумолкли, но не двинулись с места. Хотя был уже поздний вечер, на площади еще раздавались голоса гуляющих. – Он действительно может схватить грабителя? – продолжала разговор Жюли. – Думаю, что да! Это же волчий капкан! Господин Банселль показал мне детали механизма. Когда система включена, специальный захват, находящийся под замком, выходит из паза при первом повороте ключа и зажимает руку грабителя. Пружины замечательно прочны, так что машина действует превосходно. Настолько, что если однажды господин Банселль второпях забудет отключить механизм… – И в ларце много денег? – с любопытством перебила его молодая женщина. – Все его платежи до тридцать первого и деньги за замок на побережье! Более четырехсот тысяч франков! Жюли вздохнула, а Андре продолжал: – Господин Банселль расхваливает его направо и налево. Можно подумать, что ему даже нужен вор, чтобы испытать свой ящик в действии. Мы были у него втроем сегодня вечером; он показал нам денежные банкноты и сказал: «Сохранность гарантирована; мой служащий при кассе уволился, и я даже не думаю его заменять. Здесь никто не ночует, никто». Он повторил это два раза. – Более четырехсот тысяч франков! – прошептала красавица Мэйнотт. – Вот чьи дети будут богаты! Лицо Андре омрачилось. – Тихо! – воскликнул он, внезапно вскочив. – В магазине кто-то есть! Тишину лавки нарушил какой-то металлический звук. Андре бросился в магазин, жена – вслед за ним, с лампой в руке. Но лавка была пуста. – Что-то железное звякнуло… – начала было Жюли, – или… Погляди! Комиссаров кот! Мимо Андре прошмыгнула кошка, и Андре со смехом гнался за нею, будто бы преследуя, до самой площади. Гуляющих уже не было. Андре заметил лишь одного прохожего, который скрылся среди деревьев. Это был мужчина в синих бумажных штанах, серой куртке и рыжей шерстяной шапке. – Укладывай спать малыша! – велел Андре жене. – Я должен тебе что-то сказать. Жюли, которую разбирало любопытство, заторопилась. Поцеловав ребенка в колыбели, она вернулась, и Андре накинул шаль на ее плечи и сказал: – Лучше выйдем, здесь жарко. В его тоне было что-то серьезное, и это заинтриговало молодую женщину. В то время как Андре запирал дверь лавки, к дому подошел комиссар полиции, вернувшийся из цирка Франкони. После встречи с Ж.-Б. Шварцем он был в отвратительном настроении. И он сказал своей жене, укладываясь спать: – У этих, внизу, странные привычки. Я их сейчас встретил – пошли шататься на ночь глядя. На что комиссарша позволила себе заметить: – Шутовская жизнь! Еще неизвестно, чем это кончится. На твоем месте я бы за ними приглядывала получше. А Андре и Жюли, взявшись за руки, вышли на улицу, довольные тем, что им никто не мешает, не ведая страха и подозрительности; они шли медленно, обмениваясь взволнованными словами; они говорили о будущем, забыв о том, что человек предполагает, а Бог располагает. IV КУВШИН МОЛОКА Молчание прервала любопытная Жюли. Даже ничтожная мелочь способна вывести из равновесия эти милые честолюбивые создания: только за порог, едва успеют накинуть шаль – и вот уж они витают в облаках и воздвигают воздушные замки. – Что же ты хотел мне сказать, Андре? – спросила она. – Так, ничего особенного, дорогая, – ответил молодой гравер, – но только вот уже несколько дней я что-то странно себя чувствую. За работой и то все думаю, а по ночам спать не могу. – И я тоже, – прошептала Жюли. – Да, и ты тоже, и, может быть, с тебя-то это и началось. Жюли ничего не ответила. – Наши сердца настолько близки, – продолжал Андре, – что даже бьются одновременно. Стоит тебе только что-то задумать, как я уже готов все для тебя сделать. – А вот это уже опасно, – промолвила Жюли, пытаясь рассмеяться. – Может, я в чем-то перестаралась? Тогда скорее отругай меня. Они подошли к той части площади Акаций, где стояла деревянная скамья, а над нею висел фонарь. Андре остановился и, усевшись на скамью вместе с Жюли, обнял ее за талию. – Я не сержусь, – продолжал он еще более нежно, понизив голос. – Ты ли? Я ли? Какая разница! Возможно, наши мысли даже родятся одновременно. И мы оба взволнованы чем-то таким, отчего наше положение может измениться… – На все воля Божья! – рассеянно отвечала молодая женщина. Наступило молчание, и полная раскаяния Жюли добавила: – Мой милый Андре, ты знаешь, как я счастлива с тобой. – Я знаю, дорогая; по крайней мере я так думаю, и не думай я так, что бы со мной стало? Но в твоих жилах течет кровь благородной дамы, и за это я люблю тебя еще больше… Эти туалеты, которыми так Любуешься, тебе бы так пошли! И мне кажется, милая моя женушка, что они – твои, а те, другие, их у тебя похитили. Жюли сказала: «Ты сумасшедший!», но позволила себя поцеловать. Вечерний ветерок покачивал висевший позади фонарь, который освещал густые волосы и легкий пушок, обрамлявшие профиль Жюли. Андре Мэйнотт переживал одно из тех мгновений, когда чувства переполняют сердце и рвутся наружу, а Жюли – то состояние, когда сама красота, расцветающая с новой силой, излучает волшебное сияние. Андре посмотрел ей в глаза, в их таинственный свет; ему казалось, что ее губы благоухали хмелем; теплое дыхание летней ночи вводило его в дрожь, и сладкое томление в груди соперничало с невыразимой страстью. Жюли с ласкающей бархатистостью в мелодичном и нежном голосе снова спросила: – Андре, что же ты хотел мне сказать? – Ты счастлива, – ответил он, – и любишь меня, но твое место – в другом обществе. Когда я об этом думаю, то вижу тебя так, словно здесь ты – в изгнании. Женщины в нашем краю часто гадают о будущем… Жюли отодвинулась в тень, чтобы не было видно, как она покраснела. – Милое дитя, – продолжал Андре, – если бы твоя нынешняя жизнь тебе нравилась, разве бы ты мечтала приблизить будущее? – Но ведь мы можем желать не только богатства, – прошептала молодая женщина. – Чего же? – Когда я впервые увидела тебя там, в Сартэне, то решила погадать на ромашке и стала обрывать лепестки: «Любит – не любит?» Андре закрыл ей рот поцелуем. – Люблю всем сердцем, – добавил он почти сурово. – И чтобы в этом увериться, вам, Жюли, не нужны ни карты, ни цветы. – Это правда, – воскликнула она, обняв его обеими руками, – и я лукавила. Но ты сказал мне «вы» и наказал меня. Нет, я гадала не для того, чтобы узнать, как сильно ты меня любишь. Случаются дни, когда мне бывает страшно. Хорошо ли мы здесь спрятались от тех, кто тебя ненавидит, Андре? Затем, тряхнув своей очаровательной головкой и с той решимостью, с какой говорят только правду, она продолжала: – Нет, и не для этого, Андре… или, по крайней мере, еще и по другой причине: я гадала, чтобы узнать, займешь ли ты когда-нибудь то место, какое тебе надлежит занять в обществе. Ведь твое положение много ниже твоих способностей?.. – И что же ответили карты? Жюли заколебалась, но затем, решившись, заговорила – и в голосе ее звенела радость: – Сегодня вечером остались четыре туза. – И это значит?.. – Коляска на четырех колесах, сударь. У нас будет карета! – И в этой карете ты будешь сказочно хороша, дорогая, – заключил Андре с юношеским восторгом. – Послушай, – продолжал он, – кто не рискует, тот и не бывает в выигрыше. У меня гораздо больше честолюбивых замыслов в отношении тебя, чем у тебя самой. Пришло время начинать битву. Если хочешь, мы отправимся в Париж. Жюли издала радостный крик и с изяществом всплеснула руками. Затем, опомнившись, не без страха отозвалась: – В Париж! Для Жюли с ее пылким воображением в этом названии таилось почти столько же угроз, сколько и надежд. – Но чтобы добиться успеха в Париже, нужны деньги, – заметила она. – Сейчас попробуем сообразить! – сказал Андре, привлекая ее к себе. Его ласковый голос звучал так многообещающе, что, казалось, говорил: «Вот увидишь, что в наших руках – сокровища!» Жюли слушала его внимательнейшим образом. – Мы приехали сюда с Корсики, – продолжал Андре Мэйнотт, – с тремя тысячами франков, зашитыми в моем поясе. Теперь, живя в Кане, мы можем сказать, что мы начинали с более чем скромного достатка. Но если здесь не нужны средства, чтобы устроиться, то и возможности для торговли весьма невелики, и я смотрю на достигнутый нами успех, как на чудо. Только в Париже, в столице, действительно можно составить состояние. Жюли кивнула в знак согласия. – Оружейник Госсэн, – продолжал Андре, – обещал двенадцать тысяч франков за товар и клиентуру. Жюли выразила радостное удивление. – Он дал бы за них и пятнадцать тысяч, – добавил Андре Мэйнотт, – но это еще не все. Господин Банселль, банкир, покупает у меня боевую рукавицу. – Господин Банселль? Да он же скряга! – За это надо благодарить его любимый сундук. Сегодня вечером господин Банселль совершенно меня уморил рассказом о его достоинствах, два часа говорил. А когда я собрался уходить, он спросил: «И много вы будете иметь с продажи боевых рукавиц?» Я не понял, к чему он клонит; тогда он пояснил: «Эта вещица представляет большой интерес для воров, господин Мэйнотт! Понимаете, в одном городе с человеком, который продает боевые рукавицы, нельзя чувствовать себя в безопасности!» И, видя, что я все еще не понимаю, воскликнул: «Черт возьми! С вашими боевыми рукавицами никакая хитрая система не справится! Что может моя механика? Захватить руку грабителя. Так вот, если у грабителя есть рукавица, он преспокойно вытащит из нее свою руку и удалится с моими экю, а ваш воришка останется в когтях моего полицейского». Жюли весело рассмеялась; радостное возбуждение все никак не покидало ее. – А ведь это верно, – сказала она. – Рукавица – достойный ключ к сейфу господина Банселля! – Я дал ему слово больше не держать рукавиц для продажи, – продолжал Андре, – а за это он купит нашу за тысячу экю. Я отнесу ее завтра утром, так как банкиру не терпится поиграть со своей машиной в воров. – Значит, всего восемнадцать тысяч франков, – подытожила Жю, ли. Андре вынул из кармана бумажник, открыл его и показал четырнадцать банкнот по пятьсот франков. В тот момент, когда Жюли наклонилась, чтобы их разглядеть, неожиданно погас свет, а позади них раздался громкий смех. Это был папаша Бертран – фонарщик, который решил над ними подшутить. Увидев издалека в этот неурочный час двоих влюбленных на скамейке, шутник подкрался к ним, как кошка; он любил разыгрывать горожан. – Делим на троих, – заявил он, – если расшибем копилку господина Банселля. Как тут сердиться? И к чему? Славный папаша Бертран получил стакан сидра, который ему налила Жюли Мэйнотт, и все отправились спать. Двадцать четыре тысячи франков! Париж! Карета, обещанная четырьмя тузами! Жюли видела чудесные сны. Она проспала до двух часов дня; таков был канский обычай, и ему следовали все. Но Андре не спалось, желанный сон все не шел к нему. Андре ворочался с боку на бок под теплым одеялом. У него щемило сердце. Он страдал. Это был мягкий, прямодушный и чувствительный молодой человек редкого ума. До сих пор его жизнь протекала не без приключений, ведь он прибыл издалека, и потребовался целый роман, печальный и сказочный, чтобы привести в объятия простого ремесленника обездоленное юное создание благородного происхождения; но этот роман начался в некотором роде в угоду судьбе. В прошлом Андре и Жюли попадали во всевозможные переделки, причем с благополучным исходом, но им пока не приходилось участвовать в настоящих битвах. Андре только предстояло себя испытать. Бывали моменты, когда он ощущал неукротимую скрытую энергию, которая еще не нашла себе достойного применения. В эти минуты он как будто вставал во весь рост; он бросал вызов будущему, рвался в бой, ибо победа приносит лавры. Именно это он чувствовал и теперь. Андре грезились будущие сражения, им двигала таинственная потребность ринуться на поле брани. Когда пробило два часа, некий человек торопливо прошел по Воссельскому мосту, остановился на его середине и огляделся. Вокруг было безлюдно. Человек проворно скинул серую куртку, свернул ее вместе с рыжей шерстяной шапкой и, привязав к свертку тяжелый камень, швырнул его в воду. Оставшись в синих бумажных штанах, с непокрытой головой и без куртки, он свернул вправо с алансонской дороги и зашагал вперед через поле. Человек держал в руках нечто, завернутое в платок, не твердое, не тяжелое и ничуть не мешавшее ему, когда надо, перепрыгивать через камни и ямы. Он шел очень быстро, когда его нельзя было заметить со стороны; на открытых же местах он шагал нетвердой походкой, держа руки в карманах, сгорбившись, так что его можно было принять за подвыпившего крестьянина, потерявшего дорогу домой. Такое случается в Нормандии, как, впрочем, и везде. Он избегал ферм, делая для этого большие крюки. Услышав лай собаки, человек останавливался, охваченный дрожью. Глазами, полными страха, он вглядывался в предрассветные сумерки. Мы уже видели господина Лекока в ситуациях необычных и трудных: вспомним его разговор с Ж.-Б. Шварцем, ложь о предстоящем любовном свидании; его прервавшуюся поездку; усердие, с каким он прятал свою повозку и лошадь; переодевание; возвращение в город; засаду у ворот, устроенную для того, чтобы следить за комиссаром полиции и за тем, как все тот же Ж.-Б. Шварц исполнит свою, вроде бы такую незначительную, миссию; наконец, его визит к папаше Ламбэру, кабатчику из тупика Сен-Клод, – все это позволило нам без труда догадаться, что профессией господина Лекока была вовсе не продажа сейфов. Во всех этих разнообразных обстоятельствах, свидетельствовавших о предстоящей операции, господин Лекок, без сомнения, показал себя смелым, полным холодной решимости человеком, вкладывавшим в исполнение своего опасного проекта некую удаль сомнительного сорта. Таким был этот человек. Однако известно, что за выигранным сражением следует упадок сил, когда дает о себе знать цена добытых трофеев. И если вы хорошенько подумаете, то поймете, в чем разница между фанфароном, готовым ко всему и не знающим страха, и победителем, которому действительно есть что терять. Этот платок с четырьмя завязками по углам, если его положить на весы, не потянул бы и на килограмм. Между тем сверток давил на господина Лекока с такой невероятной силой, что в это трудно было поверить. Наглый молодчик, каким мы знали его совсем недавно, теперь выглядел обеспокоенным, боязливым и обессилевшим. Холодный пот выступил у него на лбу: деревья издали представлялись ему жандармами. Временами он разговаривал сам с собой; он говорил о Ж.-Б. Шварце, о папаше Ламбэре – кабатчике из тупика Сен-Клод и еще о ком-то со странным именем: Черная Мантия. Он угрожал, что больше не поделится ни с кем. Но хруст ветки, сломанной ветром, вызвал у него дрожь, а заяц, едва слышно шуршавший в траве, заставлял его застывать на месте. Ночь полна пугающих голосов. Некоторые породы дуба и в разгар лета сохраняют прошлогоднюю листву. Когда же ее колышет легкий ветерок, она издает резковатый шелестящий звук, как будто сквозь эту листву кто-то пробирается. Мы можем утверждать, что господин Лекок проводил не первую свою операцию, но ему было всего двадцать два года, и мы еще увидим, как он будет мужать. Он добрался до зарослей, не встретив ни одной живой души. Лошадь щипала траву, повозка была на месте. Облачившись в клетчатые штаны, жилет с искрой и щегольскую куртку, господин Лекок смог вздохнуть с облегчением. Главное было сделано, и страхи исчезли. Он лихо заломил свой дорожный картуз. И через несколько минут Красавчик так же гордо, как прежде, скакал по большой дороге. Не проехав и одного лье, господин Лекок сошел с повозки. Было еще довольно темно, хотя предрассветное небо на востоке посерело. Слева от дороги находилась ферма, обитатели которой еще не проснулись. Лекок привязал камень к свертку с синими бумажными штанами, перебрался через изгородь во двор и бросил сверток в колодец. Покончив с этой последней предосторожностью и вновь пустив вскачь своего коня, господин Лекок – да, да! – стал насвистывать модный мотивчик, развязав при этом свой знаменитый платок. Ж.-Б. Шварц тоже двигался по этой дороге; он шел пешком, погруженный в грустные раздумья. Его мысли витали вокруг ста франков, и в то же время он силился вспомнить басню о кувшине молока Перетты. Время от времени кувшин разбивался от столкновения с грустными мыслями: этот злой шутник Лекок, наверное, посмеялся над ним. Коммивояжеры имеют склонность к ярким мистификациям, чтобы затем живописать свои подвиги за общим столом. Сто франков только за то, чтобы предотвратить нежелательные последствия любовного свидания! Даже знатные господа не всегда так щедро раскошеливаются, чтобы замести следы своих похождений! Сто франков! Какое же именно коммерческое предприятие он сможет начать на эти деньги? Сто франков наличными! Он чувствовал, как его переполняет заслуженная гордость капиталиста. Простившись со своим однофамильцем – комиссаром полиции, Ж.-Б. Шварц прошелся немного по пустынным улицам. Он даже взглянул на Орн, который протекал под мостом, неся свои воды дальше, к морю. Так вот и с деньгами, рассеянными по бедным кошелькам: все они – ну, решительно все – двигаются по протоптанным тропкам к объемистым сундукам, к тем широким рекам, в которые впадают разрозненные золотые ручейки. По части денег Ж.-Б. Шварц был философом, мыслителем; он разгадал закон тяготения, согласно которому су притягиваются к луидорам. В полночь он вышел из Кана. Скитаться три часа в потемках – это больше, чем можно себе представить. Не раз Ж.-Б. Шварц присаживался у края дороги, мучаясь над самым главным вопросом: «Получу ли я свои сто франков? Или я не получу своих ста франков?» Он подошел к месту встречи намного раньше назначенного часа и стал ждать. По мере того как текло время, надежда испарялась, потому что Шварцы по прямой линии – люди прежде всего прямодушные, и поведение, подобное поведению господина Лекока, оскорбляет их чувства! Но почему сто франков? За пол-луидора господин Лекок мог бы сделать господина Шварца даже соучастником своего предприятия – при условии, однако, что это предприятие было бы честным; отметим для себя следующее: чтобы склонить Ж.-Б. Шварца на бесчестный поступок в полном смысле этого слова, было бы недостаточно и ста тысяч франков. А сумма в сто франков – не что иное, как явная насмешка над благоразумным и осторожным эльзасцем; иначе как издевкой ее не назовешь. Если бы вы только знали, сколь упорно он трудился с тех пор, как покинул родной Гебвиллер, для того чтобы собрать двадцать больших белых монет, составляющих заветную сумму в сто франков. Но это ему не удалось. Однако какой же сумасшедший этот Лекок! Возле парижских рынков полным полно банкиров – этих благодетелей улицы. Ростовщичество, как полагают лучшие умы, оскорбляет сознание, но робость закона по отношению к ростовщикам являет собой симптом современного благочестия. Посягать на всесилие золота, как бы почтительно это ни делалось, значит хулить Бога – последнего и единственного, у которого есть хоть какое-то будущее! И если однажды ростовщичество было дозволено, то почему же в дальнейшем от него отказываться? Добро, укрепленное традицией, лишь повышается в цене. И Ж. – Б. Шварц представил себя на минуту в роли благотворителя, заключающего сделки под проценты в сквере Невинных, Благодаря весьма скромной величине процентов, взимаемых, например, при операциях с общественными фондами, сто франков за двенадцать месяцев легко превращаются в тысячу экю; а за двенадцать следующих месяцев одна тысяча экю при умелом обращении способна дать тысяч пятьдесят франков, включая издержки. Тогда, уже покинув этот район Парижа, можно заняться учетом векселей мелких торговцев: широкое поле деятельности, где плодоносит каждое су, разделенное на четыре части. Лет десять можно посвятить учету векселей, скажем, в галантерейном деле. Вот миллион и составится, а дальше – желанный итог: он вступит в ту неведомую и прекрасную жизнь, которую сулит этот миллион, совсем молодым, с пушком на губах. Ну а что же он станет делать со своим миллионом в высоких промышленных сферах? Мы уже достаточно удалились от сквера Невинных и не скрываем презрения к маленькой лавчонке. Рельсы для стокилометровой железной дороги или поставки муки – вот это для нас. Лучшими всегда бывают самые простые идеи. Можно, например, не мудрствуя лукаво, заняться производством вина из яблочных очистков… Однако этот Лекок не такой уж и сумасшедший! Но чтобы нажить миллион, необходимо иметь пятьдесят тысяч франков, для получения пятидесяти тысяч франков нужны тысячи экю, а для тысяч экю – двадцать монет достоинством в сто су господина Лекока. Увы, увы! Черепки молочного кувшина снова рассыпались. И Ж.-Б. Шварц пробудился с тревогой в душе, говоря: «Близок рассвет! Должно быть, уже три часа. Лекок насмеялся надо мной!» И тут донесся едва различимый звук едущей повозки! Ж.-Б. Шварц вскочил, воскрешенный мелькнувшей надеждой. В эти унылые часы, когда все кругом спит, даже шорохи слышны на большом расстоянии. С того момента, когда послышался звук приближающейся повозки, и до ее появления в предрассветных сумерках надежда не раз покидала Ж.-Б. Шварца. Наконец повозка, которая двигалась с огромной скоростью, приблизилась к нему почти вплотную. – Садись, Жан-Батист! – скомандовал знакомый голос. В тот же миг крепкая рука подхватила Ж.-Б. Шварца, и он очутился в глубине повозки, в то время как Лекок победно щелкнул кнутом, и Красавчик рванул с места, наращивая скорость и поднимая клубы пыли. V МУЧЕНИЯ Ж.-Б.ШВАРЦА Повозка пронеслась, как смерч, через немецкую деревню, еще погруженную в сон, а затем Лекок резко повернул влево. Несколько минут они ехали молча. – Да, Жан-Батист, карты, вино и красотки, – неожиданно заговорил Лекок. – На моем счету немало побед. Ты хорошо справился с моим заданием, приятель. Комиссар ни о чем не догадался! Тут он стегнул Красавчика, который взвился, как черт на пружине. – Итак, душа моя, – продолжал он, – к вечеру ты покроешь тридцать пять лье! – Куда же мы едем? – спросил Шварц. – Ну, ты-то недалеко, Жан-Батист. А я сейчас нахожусь в Алансоне, в постели, у меня простуда, а вот завтра утром я проснусь здоровым и свежим. – Вы, значит, боитесь мужа, господин Лекок? – Какого мужа, Жан-Батист? Где ты взял мужа?.. Я встану в бодром расположении духа, чтобы заняться делами, продажей ящиков, и чтобы поговорить о простуде. Хорошо иметь друзей, ты согласен, старина? Друг, в доме которого я заночую, – тот самый, что отнесет на почту мое письмо с просьбой вернуть мне трость… Слышал ты что-нибудь о масонском братстве, старина? – Мой папаша был его членом, – отозвался Ж.-Б. Шварц. – Значит, папаша тоже, – продолжил, смеясь, Лекок. – Может, это и неплохо. А знаешь ты такую историю? Как один военный очутился в бою прямо перед вражьей пушкой, и по условному знаку артиллерист сразил его наповал, просто так, чтобы доставить кому-то удовольствие? Слышал такое? – Папаша рассказывал, господин Лекок. – Опять папаша; а история интересная. Ну да ладно! Итак, Жан-Батист, всего нас около сотни приятелей, может быть, около двухсот, и все однокашники, так сказать, ветераны, выпускники школы Балансьель. Время от времени мы оказываем друг другу небольшие услуги, так, чтобы дружба не слабела… Значит, я говорил тебе о муже, да, старина? – Вы мне сказали… – Карты, вино и красотки! Я не против мужа, Жан-Батист, если тебе так хочется. Какого ты предпочитаешь: брюнета, блондина? Мое слабое сердце не может сделать выбор. Ты веришь в Верховное существо? Да? Я не стану тебя осуждать. Этой верой живут все народы мира. Остерегайся только крайностей вроде ночи святого Варфоломея. Какая дрянь этот Карл IX, правда? Чего смеешься-то? Мне вот не до смеху. И кстати: что касается мужа, то это я погорячился. В тоне Лекока звучала едкая насмешка. А наш молодой эльзасец как человек, так скажем, строгих правил, привык понимать слова в их буквальном смысле, к тому же его немало удивлял тот диковинный парижский жаргон, которому, как известно, предстояло вытеснить язык Боссюэ. Он слушал, раскрыв рот, всю эту белиберду, и ему даже не пришла в голову мысль, что его компаньон лишился рассудка. При всей наивности Ж.-Б. Шварц трезво смотрел на вещи. Он подумал, что эта пустынная дорога – место весьма подходящее для убийства. И ему стало по-настоящему страшно. Особенно его взволновали последние слова господина Лекока. Он смутно сознавал, что проник чересчур глубоко в некую опасную тайну. Дорога пролегала в ложбинке, и небо над окаймлявшими ее по обе стороны высокими изгородями посерело в свете наступающего утра. Ж.-Б. Шварц уголком глаза наблюдал за своим товарищем. Если бы дело дошло до драки, то мы бы не поставили на Ж.-Б. Шварца, чья худосочная фигура лишь оттеняла бравую осанку его соседа; но внимательно всмотревшись в это угловатое создание, в эти настороженные, проницательные глаза, мы бы поняли, что наш эльзасец вовсе не из тех, кто с безропотностью курицы позволит с собой расправиться. Господин Лекок внезапно повернулся к Ж.-Б. Шварцу и посмотрел на него сверху вниз. Настроение у него было хорошее; вид молодого эльзасца заставил его расхохотаться. – Эге, Жан-Батист, – воскликнул он, – да у вас такой вид, будто вы только и боитесь, как бы вам пулю в лоб не всадили. В газетах ведь пишут, что такое случается, правда? Ну-ка, постой, приятель! – прервал он свою тираду, внимательно вглядываясь в Жана-Батиста. – А ведь ты способен постоять за себя, да-да! Впрочем, на чем мы остановились? На муже? Нет, на Верховном существе. Верховное существо – это вроде как распорядитель в большой лотерее. А вам бы хотелось угадать все пять номеров, Жан-Батист? Под взглядом коммивояжера в глазах Шварца появилась уверенность. Он холодно и спокойно ответил: – Смотря по обстоятельствам, господин Лекок. – Так, так! – продолжал последний. – Хочешь, чтобы тебе выложили всю правду, Жан-Батист? – Нет, – твердо ответил Шварц. – Если вы совершили преступление, я не хочу этого знать. – Великолепно! – проворчал коммивояжер. – Все вы такие. Ну ладно, старина. Был-таки такой муж! Доволен? – Да, – ответил Шварц. – И вы мне обещали сто франков за оказанную мною услугу, на случай, если муж вас заподозрит. – Верно… и я даю тебе – тысячу, Жан-Батист. Он держал в руке купюру названного достоинства. Ж.-Б. Шварц быстро заморгал, сильно побледнел и тихо спросил: – Почему тысячу франков? Господин Лекок весело обласкал кнутом своего маленького бретонца и ответил: – Ишь какой любопытный! Хочешь со мной поссориться? – Я хочу знать! – медленно произнес Ж.-Б. Шварц. Господин Лекок всматривался в него со все большим вниманием. «Забавной породы это существо!» – подумал он и громко добавил: – Врешь ты, Жан-Батист. Ты хочешь только одного – ничего не знать. – Что вы делали этой ночью, господин Лекок? – еле слышно спросил наш молодой эльзасец, у которого на лбу выступил пот. – Вино, карты, красотки… – начал Лекок, пожимая плечами. Но вдруг он осекся и решительно скомандовал: – Слезай-ка, парень. Хватит, поговорили; нам с тобой не по пути. Он резко остановил повозку, и Ж.-Б. Шварц с видимой поспешностью соскочил на землю. – Жан-Батист, – продолжал господин Лекок более вежливо, – я доволен вами. Быть может, мы еще встретимся. И вы, конечно, настоящий мужчина, приятель. Вы оказали мне услугу, и она стоит тысячи франков; а я не тот человек, кто отказывается от своих долгов. Вот ваша тысяча, и мы в расчете. Поскольку молодой Шварц, стоя неподвижно рядом с повозкой, не протянул руки, Лекок выпустил банкноту, которая, покружившись, опустилась на землю. – Ладно, – продолжал он, снова пытаясь иронизировать, – подберешь, когда я уеду. Положение-то деликатное, я ж понимаю. Но все у нас по-честному, не сомневайся. Правда, комиссару пришлось соврать, так что, с другой стороны, можно и судебную повестку получить. Их, кстати, жандармы носят. Глаза Шварца наполнились гневом; господин Лекок продолжал, смеясь: – Я человек не злой: муж есть, Жан-Батист. И вот что я посоветую: идите-ка вы прямо своей дорогой и не оборачивайтесь, а то увидите, что творится у вас за спиной. Знаете, наверное, пословицу? Глух тот, кто не хочет слышать. Так что затыкайте уши – и вы сохраните душевный покой. А если будете как следует себя вести, то с этими деньжатами сможете обделать неплохие делишки. Если же вы будете плохо себя вести, то вас будет ждать, с одной стороны, прокурор, а с другой – я и мои приятели, которые, предупреждаю, прошли курс обучения в одном специальном заведении. Так что у тебя на шее две петли, Жан-Батист! Желаю удачи! И он хлестнул свою лошадь, которая в ответ взбрыкнула весело, но вдруг спохватился и, натянув поводья, добавил: – Старина, было бы неразумно разменивать банкноту в этих местах. Вот деньги на дорожные расходы. Как видишь, я про все помню. Итак, желаю успеха! Пошел, Красавчик! На этот раз бретонская лошадка, тут же пустилась вскачь, и повозка скрылась в густой зелени придорожных кустов. В подтверждение последних слов господин Лекок бросил две золотые и несколько серебряных монет к ногам Ж.-Б. Шварца. Никакие расходы не останавливали в это утро нашего великолепного коммерсанта, он сорил деньгами и расточал благодеяния на своем пути. Хотя сам по себе Ж.-Б. Шварц и не походил на шедевры античной скульптуры, сейчас он сильно напоминал бюст античного бога, стоящий на пьедестале. Золото, серебро и банкнота лежали в пыли у его ног, но он даже не пошевелился, чтобы их поднять, и стоял, как статуя. И когда шум повозки уже стих, он еще долго не трогался с места. Его прикованный к земле взгляд выражал то напряженную работу мысли, то полное оцепенение. Предрассветные сумерки рассеялись, светало; затем наступил день и восходящее солнце заиграло в просветах листвы. А Ж.-Б. Шварц все не двигался. Наконец он пошевелился, но лишь для того, чтобы сесть у края дороги. Ноги ему отказывали. На лбу выступили капельки пота, и в глазах стояли слезы. Ж.-Б. Шварц был честным, совестливым человеком, он не любил окольных путей. И вид денег Лекока, разбросанных на песке, внушал ему ужас. Теперь он уже почти не сомневался: совершено преступление! И его помраченному воображению представлялась кровь на каких-то клочках бумаги. Фигура Лекока выросла в его воображении до дьявольских размеров. Вдали на дороге послышался шум большой повозки. Ж.-Б. Шварц сгреб ногой монеты и банкноту и засыпал их придорожной пылью. Затем он вскарабкался вверх по откосу, продрался, как дикое животное, сквозь заросли кустарника и, весь исцарапанный, затаился в траве на поле близ дороги. Проехала телега; сидевший на ней крестьянин то весело разговаривал с живностью, помещавшейся в той же повозке, то напевал какой-то сельский мотив, покачивая в такт головой в большой бумазейной шляпе. Проводив его взглядом, Ж.-Б. Шварц поднялся и инстинктивно сделал шаг к своему сокровищу. Но и сейчас он показал себя как честный человек: рассердившись на самого себя и отвернувшись от дороги, он быстро зашагал прочь по полю. Он шел и шел, задыхаясь, прямо по пашне, перепрыгивая через канавы, пробираясь через попадавшиеся заросли кустарника. Да, он уходил сознательно, и этот поступок был тем более достоин похвалы, что в характере Ж.-Б. Шварца имелись свойства, заставлявшие его страдать из-за оставленных денег. Послушайте, ведь это же тысяча франков! Его мечта, да вдобавок десятикратно увеличенная! И еще карманные деньги. Он все шагал, а солнце нещадно пекло. И он остановился в изнеможении на краю колосящегося поля в тени деревьев. Ему хотелось есть, пить и спать; главное – как следует выспаться после всего пережитого. И он уснул. Он видел во сне свои деньги в виде желудя, из которого выросло могучее дерево. Но в листве этого дерева порхали птицы, и в их щебете слышалась брань господина Лекока. Пробудившись, наш Шварц огляделся вокруг. В его сознании мешались явь, сон и воспоминания. Он увидел проход в густых зарослях, напоминающий след, оставленный диким животным. И полный новой решимости, направился к этому лазу. Путь был ему знаком. Он спустился по откосу к дороге и очутился перед кучкой земли, скрывавшей его банкноту. Шварц был порядочным человеком, но не сама ли судьба вернула его на это место? Он думал так: «Конечно, нужно спрятать все это в надежном укрытии». И выкопал ножом небольшую ямку в зарослях кустарника – чистое и аккуратное углубление, в которое и опустил банкноту, зажав ее с обеих сторон плоскими камнями. Да можно ли представить себе Лекока без любовных похождений? Он молод, щегольски одет, недурен собой, смел, весел, общителен. Наш Шварц говорил себе это, роя углубление и одновременно поглядывая на свои сокровища. Ах, банкнота! Желанная банкнота, предмет безумной страсти! Великолепный образчик банковских изделий, не особенно чистый, но и без разрывов, склеенных бумагой. А сколь прелестно все изображенное на ней! Безбожники, полюбуйтесь билетом французского банка: пелена спадет с ваших глаз. Да, да, этот Лекок в своем жилете и клетчатых панталонах способен нарушить семейный покой. На банкноте были булавочные проколы, которые ее очень украшали. И рисунок, и булавочные уколы суть не что иное, как пленительные ямочки на обличье банкноты. У Лекока было, как видно, немалое состояние; об этом свидетельствовала его внешность, костюм – все. Банкноты имеют иногда особые приметы, вроде родинок у дам. В углу тысячефранкового билета находилась подпись Боннивэ-сына с росчерком. Итак, поразмыслим: что делать? Пойти к комиссару полиции? Вручить ему банкноту, золото и серебро? Такая мысль возникала у Ж.-Б. Шварца, поскольку он был, напомним, честным человеком; но, по совести говоря, имел ли он право так поступать? Ведь это было бы прямым предательством: а если ревнивый муж пронзит Лекока своей шпагой?.. На что, однако, рассчитывает Боннивэ-младший, ставя свою подпись в углу банковского билета? Это, очевидно, рекламный трюк. Ж.-Б. Шварц закончил копать углубление и стал искать два плоских камня. Мысль пойти к комиссару полиции отпала. Этот чиновник отнесся к нему недоброжелательно, и ему могла прийти на ум фантазия взглянуть на изнанку вещей. Наш Шварц нарушил закон, и результатом его неосмотрительности может стать суд присяжных! Нужно ведь исходить из худшего. Допустим, совершено преступление, и тогда Ж.-Б. Шварц, воплощенная невинность, окажется соучастником. Кроме того, Лекок, как известно, связан с дружками, которые учились в каком-то особом заведении. Наш Шварц отыскал два плоских камня, выложил дно углубления галькой и спрятал там плоские камни с банкнотой посередине, выполнив все это очень аккуратно. Вся его мальчишеская угловатая фигура наверняка вызвала бы у вас сочувствие. Ведь требуется проявить героизм, чтобы вот так похоронить свой первый банковский билет – живой, улыбающийся, обожаемый. И несмотря на гебвиллерские корни, Ж.-Б. Шварц держался в этом деле так, как если бы он был римлянином. Он положил две золотые монеты рядом с банкнотой, а серебряные – рядом с золотыми и бросил первую горсть песку. От этого скорбного звука в человеческих жилах стынет кровь. Наш Шварц прикрыл глаза, чтобы не замечать кончик росчерка Боннивэ-младшего, видневшийся меж камней. По его щеке скатилась одинокая слеза. Добрая душа! И он стал спешно, полными пригоршнями бросать землю, так что вскоре углубление было засыпано. Ж.-Б. Шварц уселся рядом с тайником, в котором он закопал нечто большее, чем свою жизнь. Ему хотелось есть, его мучила жажда, но какое это имело значение? Он не мог уйти. Невидимый магнит притягивал его к этой земле, где покоилась его душа. И нам это уже ясно дали понять. Здесь находился не банковский билет достоинством в тысячу франков, а зерно миллиона. Но ведь такие зерна, в отличие от других, не должны попадать в землю. Ж.-Б. Шварц стал забавляться тем, что насыпал небольшой холмик над дорогим погребением. Затем, как обычно бывает, ему пришла в голову мысль, не раз посещавшая знаменитых любовников: осквернить могилу, вскрыв ее для того, чтобы отдать последний поцелуй своей возлюбленной. Он разрыл землю. Кто-то будто внушал ему: «Этот Лекок – просто искатель приключений». Другие голоса шептали: «Не зарывай деньги. Это было бы настоящим преступлением». Он слышал: «У тебя будет возможность вернуть полученное, если когда-нибудь ты сочтешь нужным…» Перед взором Ж.-Б. Шварца вновь появилась, как будто окруженная сиянием, подпись Боннивэ-сына. «Когда-нибудь вернуть?!» Он погрузился в беспокойные размышления. Ах, развратник Лекок! А мужа Ж.-Б. Шварц видел собственными глазами! Дама была блондинкой… или брюнеткой. Фу! Бесстыдница! О чем, черт возьми, думал Ж.-Б. Шварц столько времени! Пугал себя зачем-то какими-то чудищами. Он взял сто су на ужин и ночлег, затем – один из луидоров, а за ним и другой, потом – желанный билет, уже успевший отсыреть. Все это он положил в карман и со спокойной душой зашагал по дороге, чтобы дождаться дилижанса, направлявшегося из Лизье в Париж. VI ЧУЖИЕ РАЗГОВОРЫ В тот час, когда Ж.-Б. Шварц и господин Лекок расставались на дороге, славный город Кан начинал просыпаться: июньский день рано вступает в свои права. Окрестности постепенно оживали; на великолепных обильных лугах, среди которых струится Орн, стали собираться стада; начиналась деловая жизнь на набережной; на улицах нижнего города спешили открыть свои двери кабачки, а деревенский люд во множестве заполнял рынок. Крестьяне, живущие недалеко от города, и горожане, рабочие, фермеры, все те, кто пришел покупать или продавать, имели невозмутимый вид. Кан выспался, ничто, казалось, сегодня не нарушило его обычного ночного покоя. Витрину в лавке Андре Мэйнотта открывали раньше, чем распахивались ставни у комиссара полиции. Природа, возможно, и не наделила Андре той бойкой коммерческой жилкой, которая приносит благосостояние и не позволяет потратить ни одной минуты на что-то, не имеющее отношения к добыванию денег; однако другое чувство, более сильное, чем алчность, заставляло его каждое утро вскакивать с постели. К трудолюбию его побуждала любовь. Он поставил перед собой цель дать Жюли нечто большее в сравнении с тем скромным достатком, который не давал покоя его благородной и гордой душе. Жюли было предназначено судьбою блистать; и он решил добиться, чтобы его звезда сияла, и работал для этого не покладая рук, потому что был сильным и терпеливым. Такие Люди, как он, уверенно достигают своей цели. Он отличался несокрушимой волей, талантом, который ее укрепляет, и той неподкупной честностью, которая, что бы ни говорили, остается наивысшей из всех добродетелей. Чтобы покончить с ними, нужна молния, бьющая в толпу и поражающая одного человека из ста тысяч! В то утро, однако, ставни у комиссара полиции открылись раньше, чем витрина у Андре Мэйнотта. Нам трудно сказать, почему обитатели второго этажа подобным образом пренебрегли традицией. Госпожа Шварц в индийском пеньюаре ходила взад и вперед по дому и то и дело, снедаемая всепобеждающим любопытством, подслушивала через замочную скважину разговор своего мужа. Эльзасец, который уже довольно давно вошел в кабинет, все еще оставался там. Случилось, по-видимому, нечто серьезное. Андре провел бессонную ночь. Его самого удивляло беспокойство, которое овладело им, едва он решился ступить на новый путь. Колебаться было не в его характере, и он тщательно взвесил свои шансы на успех; откуда в таком случае это тревожное возбуждение? Жюли почивала рядом с ним и чему-то улыбалась во сне. В свете утра, проникшем в комнату, Андре, приподнявшись на локте, любовался чистой красотой своей молодой жены; затем его полный любви взгляд остановился на ребенке, кротком ангеле, наполовину скрывшем свою белокурую головку под пологом колыбели. Он чувствовал себя совершенно счастливым, можно сказать, слишком счастливым, и это его пугало. Сейчас, перед началом большого дела, ему хотелось увидеть хотя бы облачко над своей головой. Пока он ждал появления на горизонте предвестников несчастья, его наконец одолел сон, и он сам не заметил, как заснул. Вдруг его разбудил тихий стон. Это Жюли металась во сне, мучимая каким-то кошмаром. Поцелуй разбудил ее, и она сказала с улыбкой: «Они хотели нас разлучить!» И ее прекрасные глаза закрылись снова. Пробило пять часов утра. Этажом выше раздался стук молотка. Первой мыслью Андре было подняться, но он ощутил такую усталость и упадок сил, которых, сколько он помнил, никогда не испытывал. Вместе с тем какая-то незнакомая печаль мешала ему думать. – Они хотели нас разлучить! – произнес он машинально, сам того не замечая. В небольшом помещении, служившем кладовой, Андре хранил инструменты и ожидавшие реставрации вещи. Двери кладовой, располагавшиеся по соседству со спальней, выходили во двор. Сквозь дремоту, охватившую его от усталости, Андре почудилось, что в кладовой кто-то разговаривает. Звук речи был настолько явственным, что он соскочил с кровати. Казалось, будто за дверью было несколько человек. А наверху все стучали молотком. Но открыв дверь, Андре обнаружил, что в кладовой никого не было. Голоса доносились теперь со двора, и он с удивлением отметил, как несколько раз произнесли его имя. Так и не надев туфли, босиком, он приблизился к широко распахнутому из-за жары окну. Во дворе, как и в кладовой, никого не было. Но голоса по-прежнему были слышны – и даже еще более отчетливо, чем прежде. Они раздавались настолько близко, что Андре высунулся из окна, решив, что говорившие стоят у самой стены. Он посмотрел вверх; он мог бы поклясться, что вновь услышал свое имя. Непосредственно над его головой рабочий уже заканчивал прибивать к стене нечто вроде навеса, который должен был прикрывать расположенное этажом выше окно без жалюзи. Это было окно кабинета комиссара полиции, выходившее на южную сторону; лето обещало быть жарким, и комиссар пытался отгородиться от солнечных лучей. Андре Мэйнотту не раз случалось быть невольным свидетелем разговоров наверху; они были слышны особенно явственно, когда госпожа Шварц повышала голос во время семейных ссор. Но его эти дела не касались, а провинциальное любопытство не было слабым местом Мэйнотта: он не обращал никакого внимания на семейную комедию, разыгрываемую несметное число раз соседями, и лишь взял себе за правило говорить тихо, находясь в кладовой. Но навес над окном этажом выше, устроенный под углом в сорок пять градусов по отношению к стене, менял ситуацию и в комнатенке первого этажа, отражая звуки с такой четкостью, что ему мог бы позавидовать и слуховой аппарат. Однако говорил не рабочий. Голоса доносились изнутри, приглушенные и взволнованные: говорившие, как видно, опасались, что у открытого окна могут быть уши. Андре Мэйнотт застыл как вкопанный. Почему? Он не смог бы ответить на этот вопрос, поскольку обычно не позволял себе слушать соседские пересуды. А за пересудами, которые продолжались изо дня в день, не было, как ему подсказывала совесть, ничего такого, в чем его можно было бы обвинить. В таком случае что же могло приковать его внимание? Ведь он столь снисходительно и даже пренебрежительно относился к иным жителям Кана и их заботам, он был чужим в этом городе и готовился вскоре покинуть его навсегда. И тем не менее он слушал; упоминание его имени давало ему на это право. Рабочий, мастеривший навес, ушел. Голоса на верхнем этаже смолкли. Затем разговор возобновился, но теперь обсуждали нечто, не имевшее отношения к Андре. Было прохладно, и желание слушать прошло. Он уже готов был снова лечь в постель, когда до его слуха долетела неожиданная фраза, произнесенная вполголоса: – Я вам говорю, что он разорен, полностью разорен! Собирается пустить себе пулю в лоб. Андре колебался. Говорил явно кто-то чужой, не комиссар, и не эльзасец Эльясен. Андре раздумывал ровно столько, сколько необходимо, чтобы решить, что он не вправе подслушивать чужие секреты. Разве у него не было своих дел? Тут раздался сердитый голос комиссара: – Вы распространяете вредные слухи, и все это выйдет вам боком. Подобные люди держат у себя дома только деньги для срочных выплат по платежам. Незнакомый голос отчетливо произнес: – В кассе было более четырехсот тысяч франков в банковских купюрах. Андре вздрогнул: эта цифра сказала ему все. Как раз накануне господин Банселль сообщил ему, что у него в кассе находится именно эта сумма. Его не отпускал нервный озноб. Было ли это выражением сострадания к несчастью человека? У Андре Мэйнотта было доброе, великодушное сердце, но сейчас речь шла не о сострадании. И хотя нам не ясно, почему, но Андре боялся. Итак: отчего этот молодой человек, само воплощение мужества, испугался, догадавшись, что кассу богатого банкира Банселля ограбили? Мы часто предугадываем будущее, и значительным событиям предшествуют их приметы – так же, как серьезным болезням – симптомы. У Андре Мэйнотта сжалось сердце. Ему казалось, что он все еще слышит стоны в спальной комнате, которые его разбудили. В изнеможении он едва дотащился до двери. Ребенок мирно спал; молодая мать, разметав по подушке локоны роскошных волос, тоже спала, умиротворенная и прекрасная, как святая. Андре протянул руки к этим двум дорогим ему созданиям. Он был бледен, он трепетал. Мы говорили о предчувствиях. Все дальнейшее является не пояснением сказанного, а простыми фактами. Город Кан, которому несколькими годами позже предстояло стать ареной страшной, ужасной трагедии – убийства часовщика Пешара, в 1825 году жил недавним судебным разбирательством по делу супругов Оранж. Супруги Оранж, фермеры из Аржанса, в августе 1825 года были приговорены королевским судом Кана к смертной казни по обвинению в совершении преднамеренного убийства Дени Оранжа – их дяди по отцовской линии. Это было одно из тех тяжких дел, в которых крестьянская жадность играет главную роль. Ежегодно деревенская скаредность демонстрирует какое-нибудь новое издание известного сюжета: некий старый крестьянин имеет неосторожность завещать свое достояние племянникам с условием, что они будут его кормить, давать ему кров и заботиться о нем до самой смерти. Такой контракт содержит, естественно, одно негласное условие со стороны племянников, а именно: дяде не потребуется слишком много времени, чтобы отойти в мир иной. Когда же дядя допускает злоупотребления и задерживается в этом мире, ему перерезают серпом горло, а то и просто кидают в колодец. Каждый это знает, и тем не менее всегда находятся престарелые дяди, готовые воспользоваться опасным гостеприимством своих племянников. Отвратительные подробности преступления обеспечили судебному процессу блестящий успех. Но публика все же сомневалась в виновности супругов Оранж, которые к тому же были совсем молоды: Пьер – крепкий парень, который мог зарабатывать на жизнь совсем иными средствами; Мадлен – милое наивное создание, и когда речь заходила о дяде, она могла только плакать. Смертная казнь была отменена, в Аржансе же появился наемный рабочий, который проживал вчетверо больше, чем зарабатывал, и который вполне мог пойти на убийство. Андре Мэйнотт был мужественным, умным и честным человеком, но его нельзя было назвать образованным. Он присутствовал на судебном процессе по делу супругов Оранж. Слушание произвело на него глубокое впечатление; к тому же он был уверен в невиновности обвиняемых. Но эти впечатления не могли служить поводом к тому, чтобы бояться. Кто его обвинял? Здесь мы вступаем в сферу необъяснимого. В том и состоит особенность предчувствия, которое никогда не отвечает на все возникающие вопросы. Андре дрожал, он был очень бледен. Его имя дважды было произнесено там, наверху, у комиссара полиции. Но его разум сопротивлялся, и улыбка появилась на лице, когда он сказал себе: «Это нелепость». В самом деле: это было просто безумие, ведь нужен по меньшей мере мотив, предлог. – А я всегда говорила, что следует сторониться таких людей! – вступил в разговор повелительный женский голос. Это в кабинет ворвалась госпожа Шварц. На сей раз не было названо ни одного имени, и тем не менее Андре Мэйнотт был уверен, совершенно уверен, что говорили о нем. «Таких людей!» Это он и его жена. Наверху, кажется, попытались выпроводить госпожу Шварц, но она заявила, что имеет право остаться; дело касалось ее лично, потому что с подобными соседями нельзя будет спокойно спать. И если Андре еще полностью не утвердился в своих подозрениях, то основания для них были теперь налицо. Комиссар, судя по наступившей паузе, уступил жене. Между тем незнакомый голос продолжал: – Тут эта мысль, как молния, пронзила господина Банселля. И когда пришла жена с детьми, он воскликнул: «Я сам все сказал этому человеку! Он знал, что в кассе находятся деньги, равные стоимости всей земли, да еще срочные платежи. Он знает секрет, и рукавица тоже его…» Андре не понял этой последней фразы, точный смысл которой был бы для него ударом дубинки. Но в этом и не было необходимости. Кровь прилила к его лицу, и крупные капли пота выступили на лбу. – Их было двое? – спросил комиссар. – Да, – последовал ответ. – Чтобы взломать кассу, нужно было действовать вдвоем. – Думаете, двое мужчин? – Нет… Помочь в таком деле мог бы и ребенок. – Или женщина… – совсем тихо произнес комиссар. – Ты ведь мне сказал, – вставила госпожа Шварц, – что видел вчера вечером, как они выходили уже после одиннадцати! Андре скрестил руки на тяжело вздымавшейся груди. Но сознание собственной невиновности придало ему сил, и постепенно он все же пришел в себя. Он захотел подняться наверх и опровергнуть абсурдное обвинение. Как был, неодетый, Андре сделал шаг, и тут его взгляд упал на прелестное создание, продолжавшее улыбаться во сне. Боль приковала его к месту: ее обвинили тоже! Он в ней души не чаял. Раньше он никогда не чувствовал так ясно, как в эти минуты, сколь крепко он ее любит. Ужас охватил его и сразил окончательно. В мыслях возникла тюрьма, суд… Ему привиделось множество людей вокруг скамьи подсудимых; он услышал голос, грубый, торжествующий, непреклонный. Андре рисовались страшные картины, приводившие в трепет, но он не утратил, как мы убедимся, своей твердости и решительности. – Он словно с ума спятил, бедняга Банселль, – тем временем продолжал незнакомец. – Держится за голову и все повторяет: «Я сам, я сам ему сказал про чертову рукавицу!» – Нужно их сейчас же взять под стражу, – заявила госпожа Шварц. – Дом окружен, – ответил комиссар. Андре едва обратил внимание на две последние фразы, хотя их угрожающий смысл ясно отражал опасность положения. Перед его глазами стоял господин Банселль, вновь и вновь повторяющий роковые слова. Мы знаем, что недавно в разговоре с молодым гравировщиком банкир упоминал боевую рукавицу. Но причем она здесь сейчас? А ведь наверху у комиссара полиции о ней говорили уже не в первый раз. Какая рукавица? Сверху замолчали. Андре лихорадило. Какая рукавица? Кому она нужна? Его рукавица была там, в лавке, на обычном месте. Машинально он направился туда. Вошел в лавку и тотчас же глухо застонал: он покачнулся, ему надо было опереться обо что-то, и он прислонился к стене. Его лицо посинело, глаза закрылись, губы дрожали. – Ее украли! – прошептал он, осознавая ужас происшедшего. – Украли боевую рукавицу! Тем временем комиссар рассказывал: – Да все Бертран, фонарщик. – Он что-то видел? – жадно вскинулась его супруга. – Он видел парочку, – ответил комиссар, заметно волнуясь, – в полночь, на скамье, на том конце площади. Они говорили о сейфе господина Банселля, в котором, по их словам, находилось более четырехсот тысяч франков, и они считали банкноты. Андре упал на колени, издав хриплый звук, который разбудил Жюли; улыбаясь, еще не раскрыв глаза, она обняла его. VII ДОМ ОКРУЖЕН В доме, где жили супруги Мэйнотт и комиссар Шварц, было всего три этажа. В глубине двора располагалось довольно большое строение, состоявшее из конюшен и каретного сарая, принадлежавших еще одному обитателю дома, сдававшему внаем экипажи и занимавшему верхний этаж. Вся лицевая часть дома на первом этаже справа от ворот принадлежала Андре. В другом крыле, вдвое меньшем, находилась контора владельца экипажей. Прокат экипажей – дело выгодное и по сей день – в то время процветало, и пальма первенства здесь принадлежала господину Гранже благодаря доброй славе его лошадей. Он держал нормандских коней по пятьсот экю, а любителям прокатиться с ветерком мог предложить английскую лошадку (ценой в сто пятьдесят луидоров) с таким же ходом, что и у лошадей чистых кровей, так что с толком проведенное время в базарный день могло принести солидную сумму денег. Жюли не знала, почему ее муж стоял на коленях возле кровати, и ни о чем не подозревала; она даже не подумала спросить его об этом. – Всю ночь мне снился Париж, – сказала она. И слово «Париж» прозвучало в ее устах так, будто это было название любимого лакомства; Андре не нашелся, что ответить. Минуту он безмолвствовал, как громом пораженный. И когда на прелестном лице Жюли, которая наконец обратила внимание на смятенное состояние Андре, появилось испуганное выражение, он медленно поднял голову и тихо произнес: – Вставай. Нельзя сказать, что в тот момент у него уже созрел план действий во всех деталях, ибо мысли его едва начали проясняться. Но мы можем с полным основанием свидетельствовать о его твердом и непреклонном намерении встретить опасность лицом к лицу. Сейчас, придя в себя, он решил, что погиб окончательно; его ясный и живой ум за несколько секунд произвел анализ, для которого следователю потребовались бы недели. Он видел реальные и мнимые доказательства своей вины, он все учел, взвесил, сопоставил, подобно преступнику, приговоренному трибуналом к смертной казни, который в мыслях своих расставляет дюжину солдат, целящихся ему в сердце. Совсем недавно, до того как наверху заговорили о боевой рукавице и фонарщике, он, испытывая непонятное беспокойство, которое можно назвать недобрым предчувствием, искал ему объяснения в свойствах своей натуры; это беспокойство и эти предчувствия настраивали его враждебно ко всему, что он видел, и заставляли думать, что он в подобном случае, в отличие от судей, действовал бы более правильно. Теперь же – нет; смутные впечатления уступили место бескомпромиссной, так скажем, четкости мгновенных суждений. Андре Мэйнотт осознавал это; интуиция подсказывала ему такие тонкости, которые обычно недоступны рассудку: «Будь я судьей, я бы осудил». Стечение обстоятельств казалось роковым, и факты – каждый по отдельности и все вместе – били прямо в сердце. Он уже не мог обороняться: арест представлялся ему делом решенным. Поскольку Жюли с удивлением на него смотрела, он добавил по-прежнему тихо и холодно: – Одевайся. Он прислушался. Из окна, выходившего во двор, донесся звук колес. – Двуколку! – крикнули из конторы владельца экипажей. – И англичанина для господина Амона, он отправляется на ярмарку Сет-Ван, за Шомоном! – Готово! – послышалось в ответ со двора, откуда доносился стук деревянных башмаков конюха, ходившего по каменному покрытию. – Я задал Блэку овса. Первое же слово заставило Андре вздрогнуть; теперь он размышлял. Жюли, никогда не видевшая его таким, надела платье, висевшее на спинке кровати. – Не это! – резко произнес Андре. Обычно все служит предлогом для беседы влюбленных, а они были влюбленными в полном смысле этого слова. Любое решение, от незначительного до самого важного, принималось ими сообща, на семейном совете, что доставляло им нескрываемое удовольствие. Можно сказать, что, как правило, Андре затевал спор только для того, чтобы как можно лучше понять, чего хочет Жюли, и в зависимости от этого определить, что делать. – Что это сегодня происходит? – Жюли отложила свое индийское платье и спросила с оттенком недоумения и почти раздраженно: – Что же мне надеть? – Праздничное платье, – ответил Андре. Он сам тем временем быстро облачился в панталоны и натянул сюртук. – С тобой, кажется, что-то неладно, – прошептала молодая женщина, у которой на глазах выступили слезы. Андре не ответил. Он попытался улыбнуться, но это ему не удалось; он начал было что-то напевать, но и голос ему не повиновался. – Андре, ты хочешь, чтобы я уехала отсюда? – пролепетала Жюли; действительно, от этого бледного как полотно человека с остановившимися глазами можно было ожидать чего угодно. – Нет, – ответил Андре, пожав плечами. Этот холодный односложный ответ, конечно, не мог успокоить Жюли; более того, он сразил ее окончательно. Она больше ничего не сказала и достала свой выходной наряд. Впрочем, случаются ведь и беспричинные несчастья. И вместе с мрачными мыслями, хотя и неясно как, рождается ревность. Андре подошел к окну и бросил мимолетный взгляд во двор, где конюх мыл колеса двуколки. Разговор наверху прекратился: как видно, мешало присутствие конюха. Андре повернулся и сказал жене, стоявшей с гребнем перед зеркалом: – Поторопись, у нас мало времени. – Ты хочешь сделать мне сюрприз? – спросила Жюли, пытаясь улыбнуться. Ее нежный голосок прекрасно знал дорогу к сердцу Андре! Андре слегка покраснел и ответил: – Быть может. – Да мы гулять идем! – воскликнула тотчас же молодая женщина, хватаясь, словно утопающий, за эту хрупкую словесную соломинку. – Тогда я одену малыша? Они всегда ходили гулять всей семьей, и она уже протянула было руки к колыбели, когда Андре резко остановил ее: – Нет, не надо! Тут она схватилась обеими руками за голову и разрыдалась. Андре отвернулся от нее, чтобы скрыть слезы. Он вошел в лавку и судорожно сжал кулаки. В то же время он продолжал рассуждать и говорил себе так: «До тех пор пока я не открою витрину, они ничего не станут предпринимать. Но окружен ли дом? И могут ли ждать те, кто приставлен следить?» В лавке было три двери: в дальней комнате, то есть в спальне, главный вход с площади Акаций и маленькая боковая дверь, выходившая к воротам под арку. Андре решил выяснить, где именно стоят полицейские. Он бесшумно отодвинул железный засов витрины и стал смотреть сквозь щель. Прямо напротив него сидели на скамье человек пять в штатском; под деревьями стояли двое жандармов, а четверо полицейских прохаживались по тротуару. Он задвинул засов и вынул ключ из замка боковой двери. Сквозь замочную скважину он увидел чью-то широкую спину и решил подождать. Под аркой стояли на страже четверо полицейских. Судя по тому, что площадь была пуста, весть о случившемся еще не разнеслась по городу, само же присутствие стражи около комиссариата не было редкостью и поэтому не вызывало любопытства. Андре достал с витрины два пистолета и зарядил их. За то время, что он был один, к нему вернулись спокойствие и мрачная решимость. Он подошел к жене, которая застегивала платье, и поцеловал ее в лоб. – Значит, ты на меня не сердишься? – воскликнула она, прижимаясь к его груди. – Нужно сложить вещи в чемодан, – сказал он. Жюли смотрела на него, не понимая. – Чемодан! – повторила она. – Разве мы уже уезжаем? Она было подумала, что Андре, прежде чем покинуть Кан окончательно, решил сам съездить в Париж до того, как туда приедет семья, чтобы Все там подготовить. Но Андре ответил кратко и холодно, и это вновь поразило ее: – Я не еду. В то же время он достал чемодан и открыл его. – О Господи! – взмолилась Жюли. – Андре, муж мой, объясните же мне, что случилось? – Я вас провожу, – ответил Андре, – и по дороге все объясню. Жюли села, так как ей показалось, что у нее остановилось сердце. – Поторопитесь! – снова сказал Андре тоном приказа. Он выдвинул до конца ящики комода. Жюли спросила, плача: – Что класть в чемодан? – Все, что сможете, – отвечал Андре. – И долго мне придется оставаться одной, без вас? – Это одному Богу известно. При этих последних словах голос Андре задрожал. Жюли бросилась к нему и прильнула к его груди. – А мой сын? Мой сын? – вскрикнула она в отчаянии. Андре не подумал о ребенке, поэтому какое-то мгновение оставался в нерешительности. Видя, что Жюли сделала движение к колыбели, он остановил ее во второй раз. – Малышу не грозит никакая опасность, – прошептал он. – А нам, значит, что-то угрожает? – воскликнула она снова. Молодой гравировщик заколебался, потом совсем тихо сказал: – Да, и это серьезно. Если вы меня любите, Жюли, поторопитесь. С трудом сдерживая слезы, она уложила в чемодан нужные ей вещи. Теперь ею владел только страх. Андре снова оставил ее одну и пошел в кладовую. Конюх запрягал Блэка в двуколку. – Здравствуйте, господин Мэйнотт, – сказал он, увидев Андре в окне. – В городе что-то случилось, знаете? Полицейские собрались вокруг дома и не говорят, в чем дело. Что-то вы сегодня неважно выглядите, спали плохо? – Красивое животное, – сказал Андре, глядя на лошадь. Если речь о красоте, – ответил конюх, – то я больше люблю наших нормандцев, да-да. Этот, конечно, более гладкий, круп и грудь у него вон какие, а вот повадкой, резвостью он уступит!.. Ох! Вот еще двое полицейских к комиссару! Что-то серьезное случилось! Андре заглянул в спальню. Жюли стояла возле колыбели ребенка. – Вы мне скажете, – продолжал словоохотливый конюх, – что это не наше дело; согласен! Но знать-то хочется, верно? – Ты готова? – тихо спросил жену Андре. Вместо ответа Жюли, такая же холодная и бледная, как и сам Андре, спросила: – Это все из-за меня или из-за тебя? – Из-за меня, – ответил Андре. Она поднялась на ноги и решительно произнесла: – Я готова. Потом добавила, как бы снедаемая угрызениями совести: – Это мне наказание за то, что я так рвалась в Париж! Андре закрыл чемодан и поставил его в кладовой под самым окном. В карманы своего сюртука он вложил пистолеты, бумажник и дорожный картуз. Затем, снова подойдя к окну, все еще с непокрытой головой, окликнул конюха, который уже успел взнуздать Блэка. – Да, господин Андре? – откликнулся тот. – Запишите для меня в конторе кабриолет с одиннадцати часов и до вечера. Мы хотим навестить кормилицу нашего малыша. Добряк конюх хотел было сразу же исполнить просьбу, но спохватился: – Я совсем не против, господин Андре, – сказал он, – но я не могу оставить без присмотра Блэка, норов-то у него дьявольский. – Дайте мне поводья и идите! Не хочу смотреть на этих типов под аркой. Конюх рассмеялся. – Народец так себе, это уж точно, – высказался он и подвел Блэка к окну, передав поводья Андре. – Я сейчас, – произнес он и исчез под аркой. Как только конюх скрылся из глаз, Андре помог жене перебраться через подоконник и подняться в двуколку, затем бросил туда чемодан и сам занял место рядом с Жюли. В этот момент госпожа Шварц случайно выглянула в окно и закричала: – На помощь! Грабители убегают! Жюли, сидевшая на узенькой Скамейке, покачнулась. Чтобы не дать ей упасть, Андре одной рукой обнял ее за талию, а другой схватил поводья. Блэк чуть потоптался на месте, а затем, подчиняясь молодому гравировщику, который заставил его сначала сделать круг по двору, чтобы взять разбег, рванул вперед. И очень вовремя, поскольку госпожа Шварц оглашала улицу своими криками: – Держите вора! Держите убийцу! Горим! Набравший скорости Блэк в один миг проскочил под аркой, так что полицейские успели только прижаться к стене. Те же, кто был на площади Акаций, а также стражники и жандармы, услышавшие вопли госпожи Шварц и самого комиссара, который присоединился к жене и, как и она, теперь неистовствовал у окна, выходившего на площадь, обратились к исполнению своего долга. Но Блэк и впрямь был сущим дьяволом. Он вихрем промчался по площади, в то время как вокруг на сотню ладов раздавались призывы: – Держите их! Остановите! Для исполнения этого приказа потребовалась бы целая сотня людей, которые должны были перегородить улицу, или какой-нибудь бравый горожанин из числа тех, что с закрытыми глазами готовы броситься навстречу опасности. Я говорю «с закрытыми глазами», ибо открытыми глазами теперь можно было увидеть, что Андре одной рукой держал поводья, а в другой его руке находился заряженный пистолет, и его бледное лицо представляло собой еще более страшную угрозу, чем само оружие. Андре сидел прямо и уверенно. На плече у него лежала голова потерявшей сознание жены. В этот ранний час на улице было мало прохожих, и среди них не нашлось героя, способного преградить дорогу Андре. В то время как госпожа Шварц, находившаяся в ярости от того, что ей не удалось отомстить канскому обществу, не ее назвавшему достойнейшей, бесновалась с криками: «Все мужчины трусы!», в то время как более рассудительный господин Шварц реквизировал лошадей у их владельца и сажал на них полицейских, готовясь отдать распоряжения жандармам, Андре уже свернул с площади и мчался галопом по улице Вильгельма Завоевателя. Вопли негодования все еще летели ему вслед, но расстояние смягчало их резкость. Удивленные прохожие ограничивались мирным созерцанием проносившегося вихря. Блэк старался вовсю, и колеса двуколки подскакивали на мостовой. Когда повозка достигла площади Фонтенель, где находился рынок, шум погони остался позади. Андре поехал медленнее, чтобы дать передохнуть лошади. Правда, теперь встречные изрядно удивлялись при виде светлой женской головки у него на плече. Но в Нижней Нормандии не принято совать нос в чужие дела. (Тут надо сказать, что навязчивые воздыхатели Жюли в конце концов все-таки надоели Мэйнотту.) – Здравствуйте, господин Мэйнотт. Раз двадцать его приветствовали так, как будто Жюли и не было рядом. Один же из кавалеров – ранняя пташка, в отличие от остальных – даже снял шляпу, мечтая, как лестно услышать слова: «Это вы виноваты в случившемся!» Так мог сказать не меньший дурень, чем он сам. Спустя пять минут проехали конные полицейские, затем – жандармы. «Ах! Когда б мы знали! – восклицали доблестные нормандцы. – Ах, он мошенник! Как ловко сработал!» Но как тут было догадаться! Кто же знал, что у банкира Банселля очистили кассу. Когда же новость облетела город, то собралась внушительная толпа – не для того, конечно, чтобы гнаться за грабителями, но чтобы поглазеть на жилище потерпевшего. Дом Банселля вел дела со всеми коммерсантами в округе. Его глава, стремясь заранее умножить свои потери, лучшего и придумать не мог. Это был день платежей, и армия кредиторов обсуждала, не продать ли на вес самого Банселля… В Нижней Нормандии шутить не любят! И если молния сражает должника, мы, не боясь греха, промоем его кости, чтоб отыскать хоть толику своих деньжат! А господин Банселль был чертовски богат, и многие ему завидовали! Разве он не жил на широкую ногу? А этот парижский ларь! Да Что, кроме ловушки, можно привезти из Парижа? Он сам виноват: подставился, вот и обокрали! Но, к счастью, нам недосуг раздумывать над гневными высказываниями нижненормандских кредиторов. Скажем лишь, что милосердная судьба наложила в этот день не одну сотню протестов по векселям на раны бедняги, чья коммерческая душа была сражена. Андре Мэйнотт пересек город и выехал по Воссельскому мосту к дороге на Вир. Была прекрасная погода, и по утреннему холодку лошадь мчалась как вихрь, с легкостью преодолевая расстояние. За границами города дорога из красного песчаника сворачивала на запад и, пересекая сады, плавно поднималась на холм. Андре прижимал к себе Жюли; он находился во власти радостного возбуждения и чувствовал себя неуязвимым. Когда на вершине холма он обернулся и увидел вдалеке всадников в клубах пыли, мчавшихся за ним вдогонку, то не ощутил страха и только улыбнулся. Опасность находилась позади него, в то время как впереди открывались широкие просторы, и ему казалось, будто крылья несут его. VIII ПОБЕГ На вершине следующего холма Андре Мэйнотт вновь посмотрел назад; на дороге стояла только пыль, поднятая его собственным экипажем. На обозримом расстоянии ничего не было видно. Кинувшиеся в погоню ищейки отстали. – Молодчина Блэк! Добрый конь! Раньше случалось, что Блэк подходил к самому окошку кладовой, и Жюли, добрая душа, угощала его сахаром и хлебом. Она гладила его, и конь отвечал легким ржанием. Блэк был пятьдесят первым и единственным воздыхателем Жюли, пользующимся взаимностью. Не забывай об этом, славный Блэк! И, представьте себе, добрый конь как будто в самом деле отвечал добром на добро. Его бег был мягким и быстрым, как полет. Жюли, разбуженная поцелуем, бледная, как лилия, была столь очаровательна, что сердце Андре едва могло выдержать нахлынувшие восторг и боль. Блэк был предоставлен самому себе: Андре был занят только Жюли. Она открыла глаза и вздрогнула в растерянности, ничего не понимая. Но память вернулась к ней. Она вскрикнула. – Мы спасены! – сказал Андре, спокойно улыбаясь. Жюли спросила: – Но что ты сделал?.. Скажи мне наконец! – Должна же была быть причина у столь поспешного бегства. – Мы спасены, – все повторял молодой гравер, – я счастлив и люблю. Он прикоснулся губами к ее лбу, и Жюли, вздрогнув, спросила: – Куда ты меня везешь? Андре продолжал улыбаться. Затем, доехав до перекрестка и не увидев никого вокруг, он вдруг свернул налево. Блэк проскакал еще немного, и Андре вновь повернул налево. В течение получаса он все сворачивал с одной дороги на другую, туда, где только мог проехать экипаж. Блэк бежал спокойно и легко. – Чего же ты хочешь? – спросила Жюли. Полагая, что Андре хочет окончательно запутать преследователей, она добавила: – Ведь это детская игра! Сколько можно прятаться – ну, день, два… – Только сегодня, – возразил Андре. Теперь он перестал петлять и ехал на восток, ориентируясь по солнцу. Спустя два часа после отъезда из Кана он достиг Орна, перебрался через него на фежерольском пароходе, пересек большую алансонскую дорогу, а потом – дорогу на Фалэз в окрестностях Роканкура. В это время он мог бы повстречать в тех же местах другого нашего знакомого, Ж.-Б. Шварца, бродившего по окрестным дорогам и беседовавшего со своей совестью. Между Бургебюсом и дорогой на Париж, как известно, находится прекрасный лее. Блэк пошел шагом. – Мы вернемся сюда, – сказал ему Андре. Жюли обратила к нему взгляд, полный беспокойства. Ее пугала сама безмятежность Андре, уж не лишился ли он рассудка? Андре остановился в ста шагах от парижской дороги неподалеку от небольшого местечка Вимон, в полулье от Муль-Аржанса. Он помог Жюли выйти из экипажа, взял чемодан и отнес его в придорожные кусты. – Я пойду разузнать насчет завтрака, подожди меня, – сказал Андре жене. Жюли села на траву. От усталости она была как во сне. Жюли ничего не знала, ни о чем не догадывалась. Утром, когда речь зашла об отъезде и она спросила, не угрожает ли им опасность, Андре ответил утвердительно. И выражение его лица – она хорошо это запомнила – было более пугающим, чем сами слова. Правда, сейчас Андре улыбался и говорил, что бояться нечего… Но как в это поверить? Еще Андре сказал, что не намерен скрываться больше одного дня. Но что это за беда, которую можно устранить за день? Все это странно, невероятно, необъяснимо, за этим кроется что-то зловещее. Когда страх заставил Жюли спросить мужа, что же он такого сделал, она и не думала, что он способен совершить предосудительный поступок. Но хотя женщины многое не способны понять, их воображение не дремлет. Что он мог сделать, чтобы вот так все бросить и бежать? Глухая боль сдавила ей грудь, едва она осталась одна. Ей стало страшно. К чему все это приведет? Она подумала: «Что, если Андре не вернется?» Но он вернулся. В руках у него была корзинка, и он напевал на ходу. Жюли бросилась ему навстречу и крикнула: – А малыш? С кем он остался? – Ах да, малыш! – воскликнул Андре. – Как раз о нем-то я сейчас и думал. Давай-ка все обсудим. Эти слова прозвучали так странно и нелепо – ведь Андре безумно любил своего ребенка. Он взял чемодан. За кустарником, росшим вдоль дороги, находилось поле спелой пшеницы. Он зашагал по борозде и на минуту скрылся из виду. Затем он вновь появился, но уже без чемодана. – Чемодан нам мешает, – сказал Андре. – Давай пройдемся. Пройдемся! Жюли почувствовала, как по ее телу пробежала дрожь, несмотря на палящее, июньское солнце, красившее в желтый цвет пшеничные колосья. Приглашение Андре прозвучало, как приглашение на пир во время чумы. Держа в одной руке корзинку, он протянул другую руку Жюли и произнес: – Кругом так красиво, и да поможет нам Бог. Жюли одарила его благодарным взглядом, хотя слезы стояли в ее глазах. С самого утра она не слышала столь добрых слов. Они пошли вместе по краю поля. Углубившись в свои мысли, Жюли смотрела на цветущий кустарник. Она не осмеливалась задавать вопросы. Андре вновь принялся напевать; это была одна из любимейших песенок девушек Сарта. Их можно слышать на извилистых тропинках, поднимающихся к Кюнья. Этот край сурового гнева полон любви. Тот, кто слышал их в миртовых зарослях, запомнит и песни, и девушку, которая их пела. Слезы задрожали на ресницах Жюли: песенка напомнила ей прошлое. Они подошли к лесу и ступили на тенистую просеку под высокие ели с черноватыми иглами. – Что же ты не поешь? – обратился к ней Андре. Жюли отступила в сторону и сомкнула кисти рук. – Умоляю тебя, пожалуйста, расскажи мне все: я страдаю. Они свернули на тропинку, ведущую в густые заросли. Сделав несколько шагов, Андре остановился перед поляной, усыпанной цветущими гиацинтами. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь верхушки елей, играли в этом зеленом море. Невидимый ручей журчал в зарослях кустарника, сливаясь со звуками, похожими на шум далекого моря, шедшими от качающихся верхушек елей. – Присядь, – сказал Андре. Он стал на колени перед нею, бледный, с блестящими глазами. Жюли казалось, что она слышит биение его сердца. – Помнишь ли ты, – прошептал он, собравшись с духом, – тот день, когда ты согласилась стать моей женой, хотя я – ремесленник и сын ремесленника, а ты – богатая и знатная… это был такой же день, как и сегодняшний. – Я не забыла, – ответила Жюли. – Ведь я люблю и любила тебя. – Верно, что ты меня любила; но все же не так, как я, ведь каждый имеет то, что заслуживает, а я тебе просто поклоняюсь… Но ты мне верила и оказалась в плену моей любви. Я обещал тебе, что сделаю тебя счастливой. – Я любила тебя, – повторила Жюли, – и люблю теперь! Андре покрыл ее руки поцелуями. – Там тоже был лес, – вспоминал Андре. – Наши преследователи не знали жалости, а у нас была только любовь, и это нас защищало, ведь любовь всегда защищает. Ты помнишь? Мы слышали топот их лошадей, и был момент, когда поднятая ими пыль окутала и нас. – Конечно, помню, – произнесла совсем тихо молодая женщина. – Но в тот день я знала имена наших врагов. – Я говорил тебе… в тот час, стирая пыль с твоего усталого лица: «Если у нас с тобой впереди – всего один-единственный день, то пусть он окажется прекрасным, радостным, пусть он стоит целой жизни!» Наши преследователи перекликались друг с другом в лесу. Мы были спокойны; ты улыбалась и произнесла тогда: «Это как причастие перед помолвкой…» И мы делили один кусок и пили из одного кувшина. – Я и сейчас спокойна, смотри, я улыбаюсь, – пролепетала Жюли. – Но не прошлое мне важно, скажи, что происходит сегодня. – Нет, прошлое важно, – возразил гравировщик, – оно со мной. Настоящим я не распоряжаюсь, а будущее мне неизвестно. Жюли прильнула к его губам; затем она сказала, продолжая обнимать его: – Я, кажется, догадалась, что произошло, но хочу все узнать от тебя. Он не ответил. – Они напали на наш след, они преследуют нас, – прошептала она, все более бледнея. – Нет, – возразил он, – не то. – Но что же тогда? Он сел, обнял молодую женщину за талию и наконец сказал: – Прошлой ночью из кассы господина Банселля были похищены четыреста тысяч франков, и в этом обвиняют нас. – Нас! – повторила Жюли, и взгляд ее прояснился. И с облегчением, прижав руки к груди, она добавила: – О! Как я боялась. Андре обратил на нее нежный взгляд. – Послушай, Париж – вот место, где я хочу тебя укрыть. Я все обдумал и убежден: обстоятельства уже приговорили нас, и я не хочу, чтобы ты попала в тюрьму. – В тюрьму! – с дрожью в голосе повторила Жюли. Андре, которого против обыкновения не поняли с полуслова, с досадой поморщился. – У меня так мало времени, – высказал он вслух то, что его заботило. – Я уверена в твоей невиновности, как и в своей собственной, – сказана Жюли. – Но почему в тюрьму? То, что глубоко прочувствовано, и сказать легко. Нередко именно так рождается красноречие. Как только Андре оказался перед необходимостью объяснения, которого хотел избежать, он стал изъясняться столь кратко, ясно и убедительно, что молодая женщина обрела такую же уверенность в его правоте, как и он сам. Правда, эта уверенность была основана на разрозненных фактах, но они отличались такой согласованностью и были столь последовательно изложены, что в целом составляли ясную картину. Жюли Мэйнотт была взволнована, как и сам Андре, а может быть, и больше. Когда он закончил свою краткую судебную речь – пророческое резюме обвинения против него самого, – Жюли безмолвствовала. – Вчера вечером, – прошептала она наконец, – когда мы услышали шум в магазине… это и был грабитель. Он пришел за боевой рукавицей. Я уверена! Комиссар возвращался домой в тот момент, когда мы вышли гулять, а для прогулок было уже слишком поздно. Господин Банселль хвастал перед тобой своими деньгами, которые он держал в новой кассе. Папаша Бертран видел, как ты считал банкноты, и я ему поднесла выпить… В полном отчаянии она схватилась за голову. Затем вдруг сказала возмущенно: – Но какое значение имеет все это, если ты не виновен!.. Все, что сделаешь ты, сделаю и я; я пойду туда, куда пойдешь и ты; я разделю твою судьбу: ведь я – твоя жена. – Ты также и мать, – прошептал Андре, с восторгом глядя на нее. Блеск угас в глазах Жюли. – Почему ты не взял ребенка? – спросила она. – Ты сама нашла ответ, вспомни, как ты сказала, что можно прятаться день, два… Поцелуй, смешанный со слезами, был ее ответом: – Без тебя я умру! И, конечно же, она сказала это чистосердечно; Андре понимал ее, чувствуя, как трепещет ее сердце. – Ты будешь жить для мужа и для сына, – возразил он. Жюли заметалась в его объятиях. – Так вот что ты задумал! Я поняла твой замысел – остаться без меня, одному с нашим несчастьем! Ответ молодого чеканщика звучал твердо и почти строго: – Да, я хочу остаться один. И я говорю «я хочу» впервые с тех пор, как мы женаты, Жюли. И хотя мысль скрыться втроем приходила мне в голову, все же я не решился на это. Мой отец был всего лишь бедняком, но он оставил мне в наследство незапятнанное имя, и таким я должен передать его своему сыну. – Значит, ты надеешься? – спросила Жюли, глядя на него в волнении. Но он хранил молчание, и она с горячностью добавила: Если ты надеешься, то зачем же отталкиваешь меня?.. Да нет же! – прервала она себя. – Надежды нет, и твой побег – тому свидетельство. Его вменят тебе в вину. Если ты хотел защищаться, ты не должен был бежать. Я не столь уж большой умник, – сказал Андре, согревая своим дыханием похолодевшие руки молодой женщины, – но мы вместе читали древнюю историю, помнишь, там речь идет о войнах за свободу. Так вот, когда какому-то городу угрожала осада и он готовился к решающему сражению, детей и женщин удаляли… – Лишние рты, – с горечью прошептала Жюли. Андре вновь улыбнулся. – Тебе не удастся меня рассердить, – ответил он, продолжая целовать ее тонкие дрожащие пальцы, – ты несправедлива, ты жестока, но ты меня любишь, и я счастлив… Воины, о которых я говорю, удаляли детей и жен, поскольку не хотели сдаваться. Когда те, кого любишь, в безопасности, то чувствуешь себя уверенней. Я люблю только тебя, и я прячу тебя, чтобы снова быть с тобой, когда опасность останется позади. С первыми признаками беды я понял жестокость предстоящего сражения и задал себе вопрос: в силах ли я выиграть его? Я увидел тебя рядом с собой, тебя, Жюли, – мое драгоценное сокровище, я увидел тебя сидящей на скамье подсудимых; я не могу представить себе ничего более постыдного и нестерпимого, чем тебя в окружении жандармов, чем грязные взгляды бесцеремонно разглядывающей тебя толпы; я все это видел; ты – бледная, похудевшая, состарившаяся, хотя к твоим годам добавилось не более четырех недель; голова твоя склонилась, и казалось, что слезы жгли покрасневшие глаза. Я все это видел, и я чувствовал, как меня покидает мужество. Ты слышишь, я дрожал, я кричал своим воображаемым судьям: «Оставьте в покое мою Жюли, и я сознаюсь в преступлении, которого не совершал! Уберите от нее этих стражников, не давайте этим грязным зевакам марать ее своими похабными взглядами! Пусть эти мужланы перестанут трепать ее благословенное имя, пусть эти женщины перестанут вымещать на ней свою гнусную зависть – и вы все узнаете. Я вышел из дому ночью со своей боевой рукавицей, которую смастерил специально для ограбления ящиков с секретом; я проник в дом Банселля; как? Какая вам разница? Моя боевая рукавица не открывает замков, но для этого у меня, конечно, припасена отмычка. Я разгадал шифр; я выбил задвижку из паза, пользуясь металлическим стержнем: да-да, наш брат делает свои дела умеючи, как и вы – свои. Когда дверца отворилась, сработал захват, но тут – о чудо! Моя рука оказалась зажатой стальными зубцами, но на нее была надета рукавица. Я осторожно вытащил руку, а рукавица осталась на месте. Я унес четыреста банкнот, которые потом считал, сидя на скамье на площади Акаций, что и видел фонарщик Бертран». Он стер тыльной стороной руки капавший со лба пот. И странное дело: Жюли молчала. Она была задумчива, я бы сказал – безучастна, если бы это слово не было здесь столь неуместно. Андре этого не замечал, изо всех сил стараясь убедить Жюли в своей правоте. Он продолжал судебную речь. – Бедняку не дано права быть порядочным, – сказал он с горькой усмешкой, но в ней звучали слезы. – Что он теряет? Я же – человек весьма богатый и многим рискую, поэтому боюсь. И я бежал – для того чтобы выиграть время и спрятать свои драгоценности. Когда они будут в безопасности, когда я найду надежное убежище для моего сокровища, моей обожаемой Жюли, я возвращусь сам, я это знаю, я в этом уверен. Я буду защищаться, буду драться; но должен быть пролит свет на эту тайну, и я ее открою. Не опасайся, что твое отсутствие мне повредит. Моя жена была причиной страха, потому что я люблю ее так, как никто никогда не любил. Но вот я здесь. Вы можете пытаться ее разыскать, но я отвечу за нас обоих, ведь я же здесь! Пока речь идет только обо мне, я не падаю духом; более того, я не теряю веры. Ценность моего клада чрезвычайно велика. Но все экю, все луидоры и бриллианты мира – ничто для меня по сравнению с моей Жюли. О, судьи! Моя жизнь и моя честь в наших руках, но моя любовь подвластна только Богу, и именно Богу я вверил Жюли. Голова его была высоко поднята, глаза блестели. Жюли же, наоборот, поникла. Ресницы ее были опущены. О чем она думала? Андре говорил красноречиво, и тем не менее он еще не был уверен в том, что выиграл дело. Он искал новые аргументы. Жюли спросила со вздохом: – Как мне добраться до Парижа и как там спрятаться? Щеки ее покраснели. Не в состоянии более сдерживаться и как бы стыдясь сорвавшихся слов, она сказала: – Но я не хочу! Я умру от тоски. Я никогда не покину тебя! IX ЧАС ЛЮБВИ Есть полные победы, которые приносят несчастье. Знаменитый заклинатель змей Доуси хвастал тем, что может сразу же, без всякой подготовки взять в руки любое пресмыкающееся. Один американский шутник (ибо монополия на забавные проделки принадлежит не Франции) положил однажды утром около постели своего друга Доуси маленькую черную змейку, сплошь усыпанную желтыми пятнышками, и стал спокойно курить сигару в ожидании сюрприза после пробуждения укротителя. Укротитель проснулся, увидел маленькую змейку и улыбнулся. Это был в самом деле отважный человек, так как главный его секрет состоял в том, чтобы не напугать животное. Он осторожно протянул руку и ухватил змейку за шею. Но едва он успел это сделать, как упал без чувств. Маленькая змейка была сделана из картона, и неожиданность сразила заклинателя, который только что готовился с холодной улыбкой вступить в смертельную схватку. Поговорите со своим врачом и спросите у него, что случится, если в припадке ревнивых подозрений или в порыве неукротимого гнева вы попробуете со всего маху вышибить ногой дверь, которая (предполагается, что дело происходит ночью) широко открыта. Врач вам, без сомнения, ответит, что в девяти случаях из десяти вы рискуете сломать себе ногу. Молодой чеканщик был в положении американца Доуси или человека, который наносит мощный удар ногой в пустоту. Жюли не стала защищаться и только сказала: – Как добраться до Парижа? Как мне там спрятаться? И обратите внимание, что уже в течение нескольких минут она платила Андре за его простодушное красноречие лишь рассеянным вниманием. Но наш Андре выдержал и это, и его сердце не разорвалось. Нет. Душа у него была молодая и сильная. Он любил по-настоящему, беззаветно и свято. Было в нем что-то мудрое и детское. Его не занимало ничего, кроме благополучия его кумира, и он был счастлив. – Не отрекайся от сказанного! – воскликнул он, когда Жюли попыталась взять обратно вырвавшиеся слова. – Это было бы не достойно тебя. Лицо Жюли вновь покрылось бледностью, но она не подняла глаз. Андре почти тотчас же продолжил: – Ты отправишься в Париж прямым дилижансом – прошу, доверься мне. Там ты устроишь жизнь по своему усмотрению; наши деньги будут в твоем распоряжении. – А малыш будет со мной? – прервала его Жюли. – Нет, это невозможно, – ответил Андре. – Это бы сразу тебя выдало, а я должен быть спокоен за тебя. В Париже ты будешь как молоденькая девушка, а искать будут женщину, мать. В этом залог твоей безопасности. – А как же наш ребенок? – Ты доверяешь Мадлен, его кормилице? Жюли подняла наконец глаза. Они были мокрые от слез. – Я была слишком счастлива!.. – прошептала она. – О! Я очень хорошо это знаю! – с болью воскликнул молодой чеканщик. – Что бы я ни сделал, все равно больше всех страдать будешь ты. Она разрыдалась; это наступила разрядка, которая должна же была наконец прийти. – Прошу тебя, пожалуйста, не отправляй меня в Париж! Андре вынул из кармана уже известный нам бумажник, в котором находилось четырнадцать банкнот по пятьсот франков. – Твои документы находятся здесь, – сказал он, – и только ими нужно пользоваться. Ты вновь становишься той, кем была: твое имя Джованна Мария Рени, графиня Боццо. Ты никогда не состояла в неравном браке. Нужно назвать безумцем того лжеца, который попытается найти что-то общее между тобой и бедным Андреа Мэйнотти, чей отец будто бы не смог поступить лакеем на службу к твоему родителю. Ты не богата, тебе незачем это скрывать, потому что несчастья твоей семьи известны, но ты и не бедна, потому что у тебя имеется на черный день наше небольшое состояние. У тебя в Париже есть связи, родственники, в том числе полковник; поскольку ты не нуждаешься в их деньгах, они тебе помогут. Писать ты мне не будешь, так как ты можешь выдать себя. Я доверяю тебе, знаю, что ты мне верна, и этого мне довольно. Я буду посылать тебе письма до востребования на имя Джованны Марии Рени, чтобы ты знала, как поживает наш ребенок. Все это продумано и решено. Теперь я ожидаю, что ты мне скажешь, как добрая жена, какой ты и являешься: «Муж мой, я готова». – Муж мой, я готова, – пролепетала Жюли сквозь слезы. – О! Ты сильный! Ты добрый! Я люблю тебя! Какое-то мгновение они оставались в объятиях друг у друга. – Я голоден, как волк! – весело сказал Андре. Жюли не двигалась и стала еще более печальной. Он продолжил свою речь, положив свои руки на ее плечи и глядя ей в глаза: – Вернемся, жена моя, к началу этого разговора, к тому празднику в роще, которым мы отметили свою помолвку. Опасность еще не миновала, и мы все еще одни. Сейчас, как и тогда, наше будущее скрыто от нас. То, что я говорил тебе в нашей миртовой роще, я повторю тебе и сейчас. Смотри. (Тут он стал на колени.) Теперь, как и тогда, я у твоих ног, Жюли, моя надежда, мое драгоценное счастье. Вняв моей молитве, ты подарила мне тот день, о! какой великолепный, счастливый, беззаботный день любви, стоящий целой долгой жизни. Сейчас же время нас торопит, вот и солнце шлет нам свое предупреждение. Я не прошу у тебя целого дня, я прошу всего лишь один час, один час спокойствия и любви, чтобы я мог удержать в памяти восторг этих воспоминаний. Жюли поднялась; он удержал ее и, осушая поцелуями ее влажные глаза, добавил: – Не надо больше плакать. – Сегодня, как и тогда, – откликнулась Жюли, – я твоя, мой милый Андре, я в твоей власти. Она взяла корзинку и открыла ее. Хлеб, вино, фрукты и разная деревенская снедь были разложены на траве. Андре следил взволнованным взглядом за ее грациозными движениями. Ему казалось, будто он видит, что происходит в глубине ее сердца, и был ей бесконечно благодарен за улыбку, которой она скрывала слезы. Что тут сказать? Что ее слезы не были искренними? Но Андре был ее первой и единственной любовью, и в один прекрасный день она безоговорочно вверила ему свою судьбу. Еще недавно мы видели Жюли рассеянной, и она проявила себя достаточно эгоистичной (чтобы не сказать: порочной), чтобы беспокоиться не только о муже и о ребенке. Да, в человеческой душе, настолько же неповторимой, насколько и изменчивой, всегда остаются неразгаданные глубины. И не боясь впасть в менторский тон, скажу: какой-то одной женщины как личности просто не существует, есть только женщины вообще. Жюли приготовила «стол» на поросшем мхом бугорке, вокруг которого расстилался мягкий изумрудной зелени ковер из лесной травы, длинной и тонкой, которую солнце не смогло засушить. Дневной зной спал, и тени дубовых стволов удлинялись по мере того, как солнце близилось к закату. Это было время любви. Минутой раньше, и мы не без горечи говорили об этом, мысли Жюли были рассеянны. Теперь она выглядела иначе. Зачем быть столь суровой? Она взяла Андре за руку и подвела его к импровизированному столу. Они уселись друг против друга и принялись за еду. Андре хотел, чтобы они сделали вместе (вот тост без слов), первый глоток вина; капли простого деревенского напитка объединили их уста в горячем поцелуе. Поначалу это был строгий праздник, вызов, брошенный благородным Андре невзгодам предстоящей разлуки. Но потом пришла радость, светлая и торжественная, которая захватывала их все больше и больше по мере того, как продолжался этот семейный пир, и от этой картины сжимается сердце. Это был пир приговоренных, как в древности. Они ели и пили, с наслаждением отдаваясь небесным ласкам. О! Как они любили друг друга; я говорю не только об Андре, и разве хоть чего-то стоит неясная мысль, промелькнувшая недавно в измученной голове Жюли! Их глаза говорили теперь на одном языке. Они любили – единственной всепоглощающей любовью; сердца их сливались, и слова больше не были нужны. Они были совсем молоды, и страсть брала свое. Желание Андре передалось Жюли, и порыв ее ответного чувства привел Андре в состояние почти религиозного восторга. В истории Франции есть эпизод, достойный папирусов Клио. На кровавом фоне террора я вижу несколько стоящих особняком фигур. Эти люди были очень молоды, их звали Бриссо, Вернье и Жансонне, но в нашей памяти сохранилось лишь одно объединяющее их имя: жирондисты. Когда настал их последний час, в разгар вакханалии палачей, требовавших их казни, эти люди, преданные лишь одной свободе, собрались, чтобы вместе преломить хлеб и выпить по глотку вина, отмечая со светлой торжественностью свою предстоящую кончину. Мы помним их прощальные улыбки. Перенесемся снова к молодым супругам, в уединении справлявшим свою последнюю трапезу. Они погружались в море грез, и это приводило их в восторг; лес – свидетель их услад – одаривал их своими волшебными звуками и ароматами. Жюли была так прекрасна, что супругу, ослепленному ее красотой, она виделась в ореоле святой. Оба они светились счастьем, и их неутомимые сердца в порыве торжествующей страсти, торопясь, поглощали священный огонь любви. Жюли уже ни о чем не помнила и была готова всем пожертвовать ради Андре. И тогда она стала думать о смерти. Но время шло. Жюли, томная и бледная, приподнявшись на траве и улыбаясь, опустила голову на колени Андре. Роскошные локоны ее разметавшихся волос ниспадали на плечи, грудь ее часто вздымалась; легкая усталость приглушала блеск ее глаз. Андре искал губами ее губы, и она сказала: – Во всем мире для меня существуешь только ты; и нет силы, способной отдать меня другому! Дул легкий ветерок, он слушал и уносил то, что слышал; а листва все шелестела, и в этот шелест вплетались диковинные голоса птиц; однообразно журчал ручей; косые лучи солнца, прорываясь меж ветвей деревьев, пронизывали лес золотыми стрелами. Неужели этот дивный сон должен был кончиться? Дилижанс, следовавший из Кана в Париж, вечером прибывал в Муль-Аржанс; здесь меняли лошадей. На почтовой станции появилась молодая крестьянка; она поднялась в дилижанс и заняла свободное место в его дальней части; в то же время молодой человек с небольшим свертком в руках уселся на скамейке империала. У крестьянки был чемодан. Кучер – человек, повидавший жизнь, как и все его собратья, – посмотрел на нее из-под очков и с нескрываемым восхищением произнес: – Ай да ягодка! В Париже ей цены не будет! Хорошенькая крестьянка назвала для регистрации какое-то местное имя: Пелажи или Готон. Молодой путешественник, в свою очередь, сказал, что его зовут Ж.-Б. Шварц, заставив вздрогнуть малого, который принес на своем плече чемодан молодой крестьянки и теперь стоял поодаль. Дилижанс, забрав пассажиров, тронулся с места. Ж.-Б. Шварц натянул на уши новехонькую шапку из бумазеи; хорошенькая крестьянка, вся в слезах, послала через открытую дверцу дилижанса поцелуй парню без куртки; он стоял на дороге и, прощаясь, протянул к ней свои дрожащие руки. Некоторое время он оставался на месте, Не двигаясь. Затем, когда шум колес умолк вдали на пыльной дороге, он отправился на другой конец деревни и вскочил в ожидавшую его повозку. – Пошел, Блэк! – сказал он твердым и печальным голосом. – Мы возвращаемся в конюшню! X ОТ АНДРЕ К ЖЮЛИ 2 июля 1825 года. «Я обещал тебе часто писать, но мне понадобилось долгих пятнадцать дней, прежде чем я смог получить перо, чернила и бумагу. Я нахожусь в одиночном заключении в тюрьме Кана. Подтянувшись обеими руками к окну, я могу увидеть верхушки деревьев на главной улице, а в отдалении – тополя, окаймляющие луга Лувиньи. Ты любила эти тополя, и они напоминают мне о тебе. Полноте, не так уж я несчастен, как думают. Я живу здесь тобой; мысль о тебе не оставляет меня никогда, ни на минуту. Я знаю, что ты осторожна, и я спокоен. Что меня огорчает, так это то, что я не знаю Парижа. Я не вижу ничего из того, что тебя окружает. Не могу себе представить, чем ты занимаешься, где бываешь, улицу, на которую выходит твое окно. Мои мысли обращаются к прошлому; я ищу тебя там, где ты была со мной, в доме на площади Акаций. Как я любил тебя, Жюли! И тем не менее это не идет ни в какое сравнение с тем, как я люблю тебя сейчас! Нет, любовь может крепнуть и тогда, когда она заполнила все сердце! Сердце растет вместе с нею, и жизнь идет вперед. Я люблю тебя так, как нигде никогда не любили, и знаю, что завтра буду любить тебя еще больше. Никто не может этому помешать. Я не такой уж несчастный, как думают. Тюремщик дал мне перо, чернила и бумагу – за деньги. Он небогат, имеет двоих детей и любит свою жену. В прошлом году, когда стояли морозы, ты послала его детям шерстяные фуфайки. Он это вспомнил и взял с меня только два луи за бумагу, флакон чернил и пучок перьев. Моя бедная, чудесная Жюли, когда я все это увидел, то, как безумец, разрыдался. Мне показалось, что ты со мной, что я буду с тобой разговаривать. Представь себе: от страданий я не плачу, но малейшая радость вызывает у меня слезы. И я не знал, с чего начать и как открыть тебе то, что ты не прочтешь это письмо, Жюли, ибо оно неизбежно исчезнет. С тех пор, как у меня есть все, чтобы писать, я думаю: не ловушка ли это? Мне кажется, что тюремщик честный человек, но он, как и другие, верит в мою виновность, а с преступниками дозволяется делать все, что угодно. Да, скорее всего это ловушка. Послать тебе сейчас это письмо – значит раскрыть твое местонахождение. Тебя бы схватили и заключили в тюрьму… Ты – в тюрьме! Ты, моя Жюли, ты – сама честь, достоинство и чистота! Я могу вытерпеть все; переносить то, что происходит со мной теперь, – это в моих силах, и я даже радуюсь сознанию того, что несу часть и твоего бремени. Но узнай я, что ты страдаешь, – и прощай мое мужество, наличие которого зависит только от тебя. Я перестану верить в Провидение, если оно откажется от тебя. Я прокляну его. Понимаешь, это ловушка; интуиция подсказывает мне, что я прав: я не намерен в нее попадать. Я знаю, где спрятать письмо, и я буду постоянно его дописывать, а через несколько дней оно расскажет тебе обо всех моих переживаниях. На случай, если меня спросят, что я делаю с бумагой, я напишу другие письма и пошлю их в Лондон, чтобы пустить ищеек по ложному следу. Да-да, так я и поступлю. Пусть они читают эти письма, если хотят, и пусть пытаются с их помощью разыскать тебя. Я ношу секрет в своем сердце. Они являются моими врагами, но странное дело, они будто не желают мне зла. Беда только, что учился я немного, и мне трудно объяснить свои мысли, ведь мне самому они кажутся совершенно ясными. Они вроде бы симпатизируют мне, хотя и не одобряют совершенного, как полагают, мною преступления. Но можно ли отделить человека от поступка? Если я совершил преступление, в котором меня обвиняют, разве я не заслуживаю презрения во всех отношениях? Я знаю, насколько трудно решить, как бы я сам поступил на месте другого. Если на один и тот же предмет смотреть с разных точек зрения, его можно даже не узнать. Ты помнишь большой ясень около Кьяве на другом конце Сартэна? Его искалечила молния; если идти к нему от Кьяве, то видишь нагромождение валежника; подходя же со стороны Сартэна, замечаешь только свежую листву, которая облачила его в роскошное зеленое манто. И так повсюду: увиденное спереди лицо не похоже на профиль, и наша соседка госпожа Шварц не показалась бы косоглазой, если бы мы видели только один ее глаз. Ты видишь, я шучу. Сейчас я хочу сказать тебе, что следователь относится ко мне доброжелательно и без придирок. Я с удовольствием сообщаю тебе его имя, ибо у правосудия нет слуги более честного и достойного: мое дело ведет господин Ролан – брат председателя, человек мягкий, пользующийся известностью среди бедноты. Но вот в чем заключается мое несчастье и, как я полагаю, несмотря на свое невежество, – просто болезнь нашего законодательства: совершенное преступление непременно предполагает наличие виновного. Ребята, играющие на площади перед нашим магазином, употребляют выражение, которое мне теперь нередко приходит на ум. Того, чей мяч не попадет в ямку, они называют мазилой. И это вызывает веселье у окружающих! В определенном смысле мы навсегда остаемся детьми. Никто не хочет быть мазилой, а именно так придется назвать господина Ролана, если я окажусь невиновным. Кого-то надо обвинить, это ясно. Это – сама истина, но это и рок. Виновный нужен, причем только один. Закон не любит, чтобы по одному преступлению было вынесено два приговора, и его логика, неумолимая до абсурда, обойдет настоящего преступника, если найдется человек, уже уплативший фиктивный долг, который должен быть платой за всякое преступление. У меня есть не только бумага, перо и чернила, но имеется также и книга, которую мне продал Луи; это свод законов. Наш кюре говорил, что Библию следует читать не всем и что слово Божье без его толкования оказывается чересчур впечатляющим для некоторых голов. Я склонен думать, что это относится и к своду законов – произведению более скромному, но, бесспорно, достаточно серьезному для моей неученой персоны, потому что оно часто вызывает у меня удивление, а иногда и страх. Я не имею в виду весь свод законов; я в нем искал только то, что относится ко мне. Поэтому я изучил в нем уголовный кодекс и раздел по расследованию преступлений. Те, кто составил это законодательство, были лучшими среди людей; они вложили в него весь свой гений и опыт всех предшествующих веков; их труд вызывает у меня уважение, но как я благодарен Богу за то, что ты отсюда далеко! Закон, вчера тебя защищавший, сегодня направлен против тебя. Нужен преступник, и мы исполняем эту роль не потому, что она присуждена нам злокозненным и несправедливым законом, а потому, что достаточная сумма случайностей отдает нас на растерзание закону. Из категории oпекаемых законом мы переходим в категорию его врагов. И ты бы оказалась, как и я, в одиночестве, не имея возможности даже сообщаться со мной. Таков закон. В этой борьбе правды с ее видимостью ты оказалась бы безоружной, ослабевшей от моральной пытки. Никакой звук не проникал бы в могилу, где тебя заживо бы погребли. Нет, ошибаюсь: сюда проникал бы зловещий голос – не знаю, кому он принадлежит, – он мрачно твердил бы одно и то же: тебя осудят! Без защиты и совета, все время одна – умом и сердцем! Представить себе только! Лишь в том, что тебя здесь нет, мое утешение и моя сила. Ты свободна и останешься свободной до тех пор, пока у них есть я, то есть наименее ценная половина моего существа. Я узник, лучшая часть души которого обладает привилегированным правом улетать отсюда, чтобы вкусить радостей свободы. Нужен виновный, разве это не очевидно? Я не выступаю против закона, нет; он должен быть, и это очевидно: он создан для того, чтобы бороться с жестокими людьми. Его оружие отвечает нуждам этой суровой охоты. Между тем разве не случается такого, что в пасмурный день в густых зарослях леса пуля по ошибке поражает случайного человека вместо кабана, который без помех продолжает свой путь? Ведь идет охота на кабана, и все, что шевелится в зарослях, принимают за зверя. Нужна добыча, нужен виновный. Зачем в том лесу появился незваный человек? Я знал охотников, которые винили и упрекали саму жертву, в то время как ее уже несли на кладбище. Я, правда, не знаю, как мы попали в лес. Ты помнишь тех двоих в Аржансе, мужчину и женщину? С той поры я говорю себе: мы тоже можем оказаться жертвами. Это как удар молнии. И с той поры я мысленно отвожу ее от тебя. Здравый смысл настойчиво убеждал меня: ты сошел с ума. Может быть, я и действительно сошел с ума, ибо все, что с нами случилось, граничит с бессмыслицей. Но и на этот раз я не растерялся; я предусмотрел этот немыслимый случай, и вот ты спасена! Она была красива, эта бедная молодая крестьянка. Когда я увидел тебя переодетой крестьянкой в тот вечер перед отъездом, мне показалось, что ты на нее похожа. Ее муж выглядел покорным и печальным. Все было против них, кроме моего сердца, которое подсказывало мне, что они не виновны. Муж на каторге, жена в тюрьме: разлучены навсегда! Жюли, я не пойду на каторгу. Бывают моменты, когда я чувствую себя в силах прикончить десять человек. Это припадок безумия? Не думаю… …Мой следователь пришел вместе с секретарем суда уже в шестой раз. Я не доверяю Луи, потому что господин Ролан, увидев чернила на моем пальце, улыбнулся. Он еще молод, но его глаза утомлены науками, а щеки побледнели. Уже пять лет, как он женат; четыре года, как родился ребенок. Однажды, когда он появился, мой надзиратель спросил, как поживает его жена, и по тону ответа я понял, что он ее любит. Это он вел следствие по делу супругов Оранж и был тогда третьим помощником генерального прокурора. Говорили, что он пойдет далеко, и этот процесс стал его победой. И в то же время в Аржансе живет некий мерзавец, похваляющийся тем, что убил старика. По характеру господин Ролан – человек мягкий и, по-моему, добрый. По крупицам собирает сведения – естественно, те, что доказывают мою виновность. Для себя он уже все решил и теперь лишь ищет убедительные и для других доказательства. Его работа – это его религия, и я готов поклясться, что им руководит исключительно преданность своему долгу. Нужен виновный, я им являюсь, и на допросах мы не выходим за пределы этой данности. Мое запирательство – всего лишь форма. Он относится к ней как к элементу той роли, которую я по необходимости играю, как и он играет свою. Я вполне могу тебе это сказать, Жюли, потому что ты нескоро прочтешь письмо. Когда же ты его прочтешь, все уже будет закончено. Могу тебе также сказать, что твое отсутствие вменяется мне в вину. На первом же допросе я заявил, что ты на борту каботажного парусника плывешь из лангрюнского порта на Джерси. Они убеждены, что с тобой находятся четыреста тысяч франков. А как они могут думать иначе? Ведь я виновен. Итак, у господина Ролана есть жена, и он ее любит. Но он – человек чести, и разве он должен только для того, чтобы объяснить себе поведение преступника, сопоставлять ход его, преступника, мыслей со своей собственной совестью? Конечно, нет. Я виновен, и все мое поведение вытекает из моей виновности. Как только эта схема принята, вещи меняют свое название. Лошадь-самка зовется кобылой. Жена такого горемыки, как я, становится соучастницей. Вопросы моего следователя с первого же дня били мимо цели, а мои ответы ничего ему не дали. Я был виновным, я им остался. Чистосердечное признание – единственное средство, могущее смягчить мое положение. У него нет сомнений. Его работа состоит в том, чтобы доказать другим то, что для него самого очевидно. Когда я с ним расстаюсь, то, признаюсь, не испытываю к нему ни злобы, ни гнева. Этот человек умнее меня и образован в такой же мере, в какой я – неуч; он отличается предельной честностью; он стремится только к соблюдению законности и не расположен причинять мне зло. Я убежден, что мысль нанести мне вред – если выйти за рамки нашего дела, – была бы невыносимой для его чувства долга. Он – это колесико, которое вращается в определенном направлении. В час пополудни ко мне придет адвокат; он тоже колесико, которое, однако, вертится в другом направлении. Сегодня господин Ролан спросил, есть ли у меня жалобы на питание. Он хочет, чтобы у меня все было хорошо. У меня все хорошо, потому что ни одна из тюремных камер не предназначена для тебя, моя Жюли: у меня все хорошо, потому что ты мне пообещала оберегать свою драгоценную свободу; у меня все хорошо; я не жалуюсь; и кто знает, не случится ли так, что в этом зале суда, где они будут восседать под распятием, прольется свет на все загадки?.. …Я пообедал, мне принесли вина. В последний раз я пил вино, когда мы пригубили его с тобой в лесу. Ты будешь долго помнить этот час, моя дорогая жена; я ж не забуду его никогда. Ты плачешь? Я боюсь твоих слез. Я так хотел бы позволить тебе по крайней мере утешиться чтением моего письма! Сегодня у меня большая радость, потому что мне представилась возможность сообщить тебе новости о нашем малыше. Я буду спать спокойнее. Но до того, как заснуть, хотелось бы все-таки начать свой рассказ. Дни тянутся долго, и пока еще на вершинах тополей я вижу солнце. До сих пор я говорил о вещах, которые находятся вне пределов моего понимания. Закон охраняет общество в целом, за одним печальным исключением, с которым он не считается. Итак, рассказываю. Мне трудно передать, что чувствовало мое сердце, расставаясь с тобой. Я испытывал одновременно и радость, и отчаяние. Но прежде возник тот путешественник на империале – однофамилец нашего комиссара! В течение мгновений я был растерян. Затем я припомнил этого молодого человека, бледного и худого, который заходил накануне в наш магазин и спрашивал господина Шварца. Время от времени появляются такие приезжие из Эльзаса и исчезают где-то в других краях, куда они отправляются на поиски удачи. Так случилось и с этим. Что за прекрасный конь этот Блэк! За полчаса он довез меня до дома нашей кормилицы Мадлен. Я ей просто сказал, что малыш захворал, так как климат Кана оказался вреден для его здоровья, и что нужно за ним поехать. Она села в двуколку на твое место, не задавая никаких вопросов. С нею тебе нечего опасаться: она любит малыша почти как ты сама. Блэк прибавил шагу, и добрейшая кормилица разговорилась. Я не был расположен отвечать на все вопросы, которые ее интересовали. Я ей только сказал, что хотелось бы, чтобы ребенок остался у нее на какое-то время. – Хоть навсегда, – ответила она. С наступлением вечера мы приехали в Кан. В нижнем городе мою повозку не заметили, но возле префектуры нас узнали. Блэк мчался так быстро, как только мог, толпа – за нами; когда мы выехали на площадь Акаций, нас догоняли крики. – Чего хотят эти бездельники? – спросила Мадлен. – Сегодня что, праздник какой? – Моя жена находится в Англии, – ответил я, – а меня сейчас арестуют, и у ребенка не останется больше никого, кроме вас. Она раскрыла рот от неожиданности и схватила меня за руку, а потом сказала: – Что же вы такого натворили? Я ответил: – Мы не виновны, дорогая Мадлен. Блэк остановился у ворот; они были закрыты. Я говорил машинально, думая о том, что вот-вот меня схватят. Мадлен же воскликнула: – Ах, попались, вот несчастье-то! Вот так, даже сама Мадлен, наша добрая Мадлен подумала то же! У меня опустились руки. Мадлен ничего не знала о череде случайных совпадений, которые превратили нас в обвиняемых, а уже готова была поддержать любое обвинение. Правда, она добавила: – Но малыш-то ни при чем. Толпа росла на глазах. Когда я соскочил на землю, владелец экипажей и конюх бросились ко мне. Господин Гранже кричал: – Злодей! Хотел угнать лошадь и коляску! Но привести лошадь вместе с коляской к воротам хозяина – разве так поступают воры? Мадлен поняла это и, схватив господина Гранже за ворот, стала кричать, что он – глупец и тупица, а когда конюх поспешил на помощь своему хозяину, она, как принято поступать в ее родной Нормандии, если кто-то дерется, завопила что есть мочи: – Наших бьют! Впридачу же Мадлен, которая сызмальства была особой бойкой, обвинила наших соседей в нанесении оскорблений, телесных повреждений и грубом обращении; назвала размер требуемой компенсации за причиненный ущерб, козырнула именами своего адвоката, стряпчего и судебного исполнителя. В это время прибыла подмога: ей и добираться было недалеко. Это была толпа, которая нас преследовала от самой префектуры, стремительно увеличиваясь в размерах; к ней присоединились обитатели нашего дома и соседних зданий; все эти люди с шумом высыпали на улицу; здесь же был и отряд жандармов, усиленный полицейскими, который с утра держал дом в окружении. Я и сам не знаю, где предел моих физических сил. Ты помнишь тот вечер, когда люди графа Боццо-Короны – твоего кузена из Бастии – пытались убрать меня с дороги, по которой ехала его карета? Тогда мне еще не исполнилось и восемнадцати лет. Троих лакеев я отшвырнул на обочину дороги, а карету столкнул под откос. Я и сам не могу объяснить, как все это произошло. Когда я получил оскорбление, кровь бросилась мне в голову и помимо своей воли я нанес удар – так же, как, не думая, мы дышим или ходим. И теперь случилось нечто подобное – с той лишь разницей, что с тех пор я стал гораздо сильнее. Толпа, соседи и жандармы – все кинулись на меня одновременно. Я возвратился домой, чтобы сдаться властям, и не ожидал нападения; оно застало меня врасплох, и я отразил его молниеносно. Я сражался и ранил кого-то; люди отпрянули от повозки. Мадлен кричала: – Осторожнее с жандармами! Не трогайте жандармов, господин Мэйнотт: они – это закон! Потом она добавила, гордая и счастливая: – Ах, что за парень! Такого лучше не задевай, сущий дьявол! Я устремился в подворотню, где только что образовался проход, и в мгновение ока взбежал по лестнице к комиссару. Толкнул дверь. Господина Шварца не оказалось, но Эльясен, чей туалет, как мне показалось, был в некотором беспорядке, находился в комнате и держал в руке рапиру; служанка вооружилась длинным вертелом, а госпожа Шварц потрясала двумя огромными пистолетами. – Мне нужно переговорить с комиссаром, – сказал я. – Огонь! – закричала обезумевшая от страха госпожа Шварц. – Он меня убьет. Я приказываю стрелять! К счастью, ее батальон располагал лишь холодным оружием, а сама она вовсе не собиралась разряжать свои пистолеты; иначе пробил бы мой последний час. Отразив смелую попытку служанки нанести мне удар вертелом прямо в лицо, я стоял со скрещенными на груди руками. И только я открыл рот, чтобы объявить о том, что сдаюсь, как наш друг конюх внезапно вцепился в меня и скрутил мне руки за спиной. Тотчас же около десятка человек набросились на меня и чуть не задушили на полу. Со всех сторон кричали: «Ах, мошенник! Ах, бандит! Он вполне мог прикончить кого-нибудь! У него карманы набиты пистолетами! А вот денег – нет! Где же четыреста тысяч франков? Стало быть, теперь этот плут Банселль уж точно обанкротится; а с ним вместе разорятся все мелкие коммерсанты Кана! Ах, зверь! Ах, мошенник! Ах, бандит! Связать! По рукам и ногам! На цепь! Не убивать, пока живым не попадет на гильотину!» Пронзительный голос госпожи Шварц покрывал общий шум. Это она кричала: «Связать! По рукам и ногам! На цепь!» Трудно сказать, сколькими веревками меня опутали мои преследователи. Когда все было закончено, она принесла колодезную цепь и распорядилась скрутить мне ею ноги, приговаривая: – Будешь знать, как строить глазки; эти цепочку вплетешь себе в косы; посади-ка на нее своих кавалеров! Так она честила тебя и связывала по рукам и ногам, моя дорогая жена. Ты была слишком прелестна, и она наказывала меня за твою красоту. Я не произнес ни слова. Меня швырнули, как мешок, в комнату Эльясена и оставили лежать на полу. Суматоха была в разгаре: каждый шумно хвалился своими заслугами в одержанной победе, а служанка с триумфом повторяла: – Еще немного, и я бы нанизала его на вертел, как кусок говядины! Появление господина Шварца положило конец ликованию. Он возвратился из цирка Франкони в обычный час. Победные крики напугали его, словно вопли бунтовщиков. Он разогнал толпу, выругал жену и велел снять с меня три четверти веревок. Впрочем, и оставшейся четверти хватило бы на то, чтобы крепко связать троих опасных преступников. Эльясену было поручено составить рапорт и указать в нем, что меня арестовали и что я был вооружен до зубов. Дом лихорадило. Господин Шварц допросил меня, и я понял, что ему стоило большого труда не выдавать себя за героя. Рапорт, направленный им прокурору, по своему напыщенному тону напоминал боевую сводку в «Мониторе» военного времени. «Veni, vidi, vici»[2], – писал Цезарь – изобретатель боевых сводок. Депеша господина Шварца ловко переводила на современный язык три этих глагола прошедшего времени, позволяя прочесть между строк законную надежду ее автора на повышение по службе. Отныне общество перед ним в долгу. Впрочем, он не допустил, чтобы со мной грубо обращались, и не раз заставлял замолчать свою жену, которая никак не могла успокоиться из-за бегства мошенницы. Мошенница – это ты. Мадлен смирила свою гордость. После того как утих первый порыв гнева, она замолкла, удалившись в угол комнаты. Девять крестьянок из десяти постарались бы на ее месте удрать, но Мадлен – достойная женщина. Несмотря на страх и отсутствие твердой убежденности в нашей невиновности, она осталась верной своему долгу. – Комиссар, – сказала она со скромной решимостью, – малыш не имеет отношения к делу. Я заберу его к себе домой. Засим последовало совещание. Госпожа Шварц полагала, что Мадлен нужно заковать в цепи и держать в заключении до тех пор, пока она не скажет, где скрывается мошенница, однако господин Шварц заметил, что в один прекрасный день мать попытается навестить своего ребенка – и тогда… Помни, моя Жюли, обещание, которое ты мне дала. Я доверил тебя тебе самой, и у меня, кроме тебя, никого нет. Ребенок находится в безопасности, я за него перед тобой в ответе. Не пытайся ничего предпринимать сама! При всем при том соседи наши – вовсе не злые люди. Догадайся, где провел день наш малыш? У комиссара с госпожой Шварц, которая угощала его сладостями и ласкала. Я видел, как он сидел у нее на коленях. Когда Мадлен уходила, госпожа Шварц поцеловала нашего дорогого ребенка, и мне показалось, что ее глаза стали меньше косить, потому что на них навернулись слезы. – Ах, если бы то было наше дитя! – воскликнула она. Но у них есть сын, и я подумал, что она говорила это рыжему Эльясену. Мадлен на прощание снова сказала мне: – Если вы даже что и натворили, то малыш-то уж точно ни в чем не виноват. Прошлую ночь я провел в полицейском участке под охраной троих жандармов. Ты в это время направлялась в Париж. Всякий раз, когда били часы, я думал: – Она проехала еще два лье. Карета, увезшая тебя, не вызывала у меня довериями я ждал того момента, когда мог бы себе сказать: «Она уже рассталась с канским дилижансом и теперь затерялась в большом, как море, Париже». Как бы он ни был велик, когда я освобожусь, я сумею тебя там разыскать! Я найду тебя даже ночью, ведь нашли же волхвы путь в Вифлеем, а моей путеводной звездою станет наша любовь! На следующий день утром меня отвели под охраной в здание суда. Город был еще пуст; лишь редкие прохожие осыпали меня оскорблениями. Знаешь, о чем я думал? О бедном Банселле. Люди поносили не только меня, но и его. Я слышал, как они говорили: – Он разорился, и из-за этого в трудном положении окажутся десятки семей! А ведь он – порядочный человек; правда, его жена отличалась высокомерием, но она всегда была женщиной сострадательной; а уж какие у них прекрасные дети! В суде мне учинили первый официальный допрос. Следователь господин Ролан спросил, что я делал прошедшей ночью. Я ответил, что спал в своей постели. Секретарь суда покачал головой и слегка улыбнулся. Но я не упомянул о начале допроса: я указал свое настоящее имя Андреа Мэйнотти, возраст и место рождения. Все, что касается тебя, я полностью изменил, потому что корсиканское имя, под которым ты живешь в Париже, сразу же навело бы на твой след. Я назвал тебя именем бедной скромной девушки, умершей в бытность нашу в Провансе: «Мою жену зовут Жюли Тьебе, она родом с Ийерских островов». Вот как проходил допрос: – Где вы сочетались браком? – В Сассари на Сардинии. – Есть ли у вас свидетельство о браке? – Все наши документы находятся у моей жены. – Где ваша жена? – На пути к Лондону. – Почему она скрылась? – Потому что я на этом настоял. – Почему вы на этом настояли? – Потому что мне довелось однажды увидеть перед судом присяжных госпожу Оранж, которая сидела рядом со своим мужем. Услышав это, господин Ролан нахмурился. Секретарь суда записывал мои показания. Допрос продолжался: – Приблизительно в полночь вы сидели на скамье на площади Акаций вместе с вашей женой? – Это правда. – Вы считали деньги и говорили о сейфе Банселля? – Я пересчитывал банкноты и передавал содержание своего разговора с господином Банселлем. – Получили ли вы образование? – Я часто мечтал об этом. – Где те деньги, которые вы считали? – Я отдал их жене. – Почему вы считали деньги в такой час и в таком месте? – Потому что я объявил жене о предстоящем нам переезде из Кана в Париж. ~ Откуда у вас эти деньги? – Это доходы от моей торговли. – У вас в руках была крупная сумма денег? – Четырнадцать банкнот по пятьсот франков. Здесь наступила длинная пауза, во время которой господин Ролан читал записи своего секретаря. – У вас была, – продолжал он, – латная боевая рукавица из дамасской стали? Боевая рукавица лежала рядом на столе вместе с несколькими ключами от сейфа Банселля. – Это она, – сказал я, указывая на рукавицу, – я узнаю ее. – С помощью этой рукавицы было совершено преступление. – Мне это известно. – Откуда? – Случайно я услышал разговор у моего соседа – комиссара полиции. – Случайно? – повысил голос господин Ролан. – Случайно, – повторил я. Он знаком дал мне понять, что я могу продолжать, если хочу дать дополнительные разъяснения. Я рассказал, как расположены комнаты в доме и как можно невольно услышать, что говорится у соседей. Потом я добавил: – Именно после тех слов комиссара мне и пришла в голову мысль отослать жену в безопасное место. – Ваша совесть заставила вас принять меры предосторожности? – Совесть моя была чиста, но я думал об обстоятельствах, способных ввести правосудие в заблуждение. – Вы знали, что будете арестованы? – Комиссар заявил именно так. Господин Ролан еще раз подумал и тихо произнес, словно говорил сам с собой: – Такая система защиты обречена на неудачу, хотя он не лишен сообразительности и достаточно находчив. – Затем он продолжал: – Андре Мэйнотт, вы, кажется, не намерены ни в чем признаваться? – Я намерен говорить правду от начала до конца. – Кто-нибудь купил у вас эту боевую рукавицу? – Нет. Когда я вчера проснулся, я был уверен, что она находится в витрине. – В таком случае вы будете утверждать, что у вас ее похитили? – Я действительно утверждаю это и готов повторить сказанное под присягой. – Это вполне естественно, хотя лучше бы вам не давать ложных клятв… Не упоминал ли при вас господин Банселль о тех ценностях, которые находились в его сейфе? – Я уже ответил утвердительно. – Не собирался ли он купить у вас эту боевую рукавицу? – Я должен был отнести ее ему на следующий день. – Следовательно, нужно было действовать именно этой ночью… Чем вы воспользовались для вскрытия сейфа? Это был первый вопрос, в котором прямо указывалось на мою виновность. Господин Ролан увидел, как мое лицо вспыхнуло от гнева, и его внимательный взгляд выразил некоторое удивление. Он добавил: – Вы имеете право не отвечать на этот вопрос. – Нет, я отвечу! – воскликнул я. – Я не вскрывал сейфа господина Банселля! Я честный человек, муж честной женщины! И если этих слов достаточно для меня, то для нее – нет. Моя жена… – В городе утверждают, что она имеет пристрастие к роскоши, не считаясь со скромными возможностями вашей семьи, – перебил он меня. Затем спросил, посмотрев на часы: – Андре Мэйнотт, отказываетесь ли вы признать, что эти отмычки принадлежат вам? Я решительно отказался. Господин Ролан сделал знак, и секретарь суда громко зачитал протокол допроса, который я подписал. После этого господин Ролан ушел. Секретарь суда сказал мне: – У нее будет на что купить себе там разные безделушки, да и на жемчуга останется! Здание суда находится всего в нескольких шагах от тюрьмы. Я заключен в одиночную камеру. Оказавшись там в полной изоляции, я впал в какое-то оцепенение. События последних двух суток прошли у меня перед глазами как нелепый, кошмарный сон. Потребовалось усилие, чтобы я пришел в себя. Каждую минуту мне казалось, что вот-вот я услышу твой нежный голос; он рассеет это наваждение и положит конец тому страшному напряжению, в котором я пребывал. Мне почудился твой крик: – Андре! Мой Андре, я с тобой! Мы были вместе, в нашем доме. Я сразу же обратил свой взор на белые занавески над колыбелью малыша. Все ужасы, вся двусмысленность моего положения остались позади, я возвращался к счастливой действительности. Но сегодня я напрасно ждал пробуждения, оно не приходило; хотелось услышать твой милый голосок, но он молчал. Я не мог предаться грезам и мечтаниям. Я находился в тюремной камере, один на один со своим отчаянием. Однако ты была со мной, как всегда, со мной, мой ангел, не покидающий меня ни в горе, ни в радости. И ту ночь, полную тяжких страданий, тоже, словно луч надежды, озарила мысль о тебе. Я прошептал: – В этот час она уже в Париже! Она спасена! И я погрузился в сладкие мечты. Я описал тебе свой первый допрос настолько полно, насколько позволила мне моя память, и больше не хочу к нему возвращаться. Остальные допросы были приблизительно такими же, кроме некоторых деталей, которые я отмечу. Что осталось у меня от этого допроса, так это ощущение безнадежности моего положения. Внешне мое дело представляется в столь искаженном свете, что все мои попытки доказать истину оказываются тщетными. Я это сознавал; впрочем, сознавал еще до побега, то есть с самого начала. Упорное неверие судьи в мою правоту резко бросалось в глаза. Что бы я ни говорил, для него это ничего не значило. Моя так называемая ложь его не возмущала: с его точки зрения, я играл свою роль, и мои заявления были для него лишь пустым звуком. Правда, я ожидал с его стороны меньшей снисходительности ко мне: внутренне я был ему благодарен за выдержку, которую он проявлял, столкнувшись с фактом очевидного преступления, ибо мое несчастье заключалось в том, что я остро чувствовал, сколь убедительны улики, свидетельствовавшие против меня. Судья действовал как образованный и опытный юрист, уверенный в непогрешимости своих методов, которые эффективно сочетались с его врожденной проницательностью. Он был уверен в себе. У него не было колебаний, свойственных слабым людям. С фактами он обращался как хозяин, без всякой робости и сомнений. Стоявшая перед ним задача была ясной: я изворачивался и нужно было уличить меня во лжи. Выполнить эту задачу было легко, поэтому он не испытывал никакого воодушевления; он бесстрастно следовал по проторенной дорожке, и только чудо могло бы сбить его с этого пути. То был тягостный вечер, и ночь тянулась медленно. А как ты, спала ли? Около трех часов пополудни, буквально через несколько секунд после очередного обхода надзирателя, я вдруг услышал глухой звук, исходивший непонятно откуда; я не мог определить, доносился ли он справа, слева или снизу. Мне казалось, я догадался, что это один из заключенных медленно и терпеливо точит камень в своей камере. Время от времени звук затихал, затем работа возобновлялась. Я слушал; это постукивание убаюкивало меня. Я то погружался в сон, то пробуждался… шел на твой голос, звавший меня; мрак озарила твоя улыбка, и рой счастливых воспоминаний окутал меня во сне. Луи принес мне суп; этот жизнерадостный парень знает все застольные песни и поет их на мотив псалмов. Ему запрещено разговаривать со мной, поэтому он рассказал мне полдюжины занимательных историй, местом действия которых была как раз моя камера. Здесь, по его словам, сидело немало невинных жертв: одни были гильотинированы, другие сосланы на каторгу, бедняги Биби! «Биби» – это его слово. Меня он тоже называет Биби и поет для меня песню «Наполни твой бокал, он пуст» на мелодию «Господи, да будет воля Твоя!». В моей камере обретался также один легендарный персонаж, насчет которого Луи не хочет распространяться. Чернец – такова кличка, которую Луи дал тому человеку, истратившему, по его словам, немало денег в этой дыре и в конце концов оправданному за отсутствием улик. Ты помнишь, что у нас чернецами называли лжемонахов из обители Мерчи? Суп оказался хорошим. – Аппетит-то хуже не стал, а, Биби? – сказал Луи, чтобы завязать разговор. – Значит, совесть у нас чиста, не правда ли? – Держу пари на одно су, что мы так же невинны, как младенец Христос! В этих шутках не было ничего злобного, и они меня не сердили. – Все невиновны! – продолжал он. – Да! Но в мире все идет шиворот-навыворот, это так! Я всегда охранял только святых… Послушайте! Ночью была хорошая погода: теперь ваша женушка, должно быть, уже в Англии!.. Бог мой, кому нужны ваши секреты? Но вот что я вам скажу: раз уж вы удрали, то нечего было возвращаться за своим зонтиком или носовым платком… и хотя здесь совсем неплохо, но веселья все же маловато; так что особенно глупо было возвращаться, когда удалось раздобыть немного деньжат, чтобы вкусить радостей жизни, побаловаться винцом, табачком хорошим… Однако мне не положено болтать, верно? До свидания, мой Биби. Работы у меня хватает… Чернец курил тут сигары по пять су и пил шампанское! Он удалился, одарив меня доброжелательной улыбкой, и я слышал, как он шел по коридору, монотонно напевая на манер вечерней молитвы: «Коль умру, пусть меня похоронят в подвале, меж бочонков с отличным вином…» Кофе, вино и табак мне решительно безразличны. Но я пока еще не осмеливался попросить у него перо и бумагу, а только это единственное и могло доставить мне удовольствие. В час пополудни я был вызван в канцелярию суда, где меня ожидал господин Ролан. По возвращении я снова слышал несколько минут тот таинственный звук, и мне показалось, что работа шла за стеной, справа от моей кровати. В полдень мне вторично принесли еду, а в семь часов вечера – в третий раз. Я думал, что мне будет разрешена прогулка на свежем воздухе, но ничего подобного не случилось. На следующий день все повторилось. Все время, не занятое допросами и посещениями Луи с его песнопениями, я постоянно с тобой. Есть, однако, одна вещь, которая меня занимает: это таинственный звук. Я слышу его по нескольку раз на протяжении дня и ночи, всегда в одно и то же время, после третьего обхода надзирателя… 3 июля. Мой сон был тяжелым и полным сновидений. А как ты, Жюли, не страдаешь ли больше меня? Мне кажется, что в первые дни я чувствовал себя более уверенно. Бывают моменты, когда ход следствия вызывает у меня приступы слепого гнева. Затем силы оставляют меня, я теряю твердость и надежду. В другие минуты я с детским нетерпением жду вызова в судебную канцелярию, мне хочется встретиться с господином Роланом; мне нужно слышать хоть какой-то человеческий голос. Посещения Луи являются для меня желанным развлечением. Я попросил разрешить мне краткие прогулки в тюремном дворе, и господин Ролан согласился удовлетворить мое желание. Однако перед началом моей прогулки со двора увели всех людей, и он стал еще более печальным, чем моя камера. Сегодня утром Луи намекнул мне на то, что за деньги он охотно готов переправить на волю письмо. У меня было припрятано лишь около двух десятков наполеондоров. Я бы с радостью отдал их и даже намного больше, чтобы только поговорить с тобой, Жюли! Но я прикинулся глухим. Я изопью чашу страданий до дна! Любая неосторожность может навести полицию на твой след. Чернец вел здесь постоянную переписку с нужными ему людьми. Мои допросы идут по кругу; господин Ролан не отступает от своей версии. Я не говорю, что он ее придумал, учти это, потому что мое уважение к его характеру возросло; но он, несомненно, находится в роковом плену видимых поверхностных доказательств; он их группирует, он их упрочивает, он их подкрепляет, а когда из цепи этих доказательств выпадает какое-то звено, он пытается его восстановить. Бывают часы, когда я бесстрастно наблюдаю за этой работой. Высокий уровень любого искусства достигается с помощью долгой практики – а здесь налицо истинное искусство. Но я печален. Может быть, это только временное состояние, и завтра ко мне возвратится мужество… 5 июля. Вчера я ничего не написал. Я все тебе сказал. Меня снова мучает лихорадка. Ко мне прислали врача. Он рекомендовал дать мне бордосского вина и жареного мяса. Луи досадует на меня: я ничего не ем и не пью. Сегодня утром прошел дождь, и я почувствовал слабый запах мокрой листвы, который проник ко мне через окно. Ты любила этот аромат и выходила на порог нашего дома, чтобы полюбоваться каплями дождя, сверкавшими на листьях лип. Шел ли дождь там, где ты находишься? И думала ли ты в это время обо мне? Я страдаю. 14 июля. Я не думаю, что жизни моей угрожала опасность, но болезнь приковала меня к постели. Тюремный врач приходил ко мне по три раза на дню. Господин Ролан ясно дал мне понять, что верит в свою непогрешимость как в Господа Бога. Сомнение он воспринял бы как нечто противоестественное; он боится сомнений. Сегодня я в первый раз поднялся с постели. Во время болезни я отчетливо слышал этот глухой звук, который доносится из-за стены. Разговорить добряка Луи было нетрудно. Обитателем соседней камеры оказался некий Ламбэр – кабатчик из тупика Сен-Клод, который обвиняется в убийстве и вскоре должен предстать перед судом – тогда же, когда и я. Мне кажется, что бывают моменты лихорадочного состояния, когда мозг работает удивительно четко. Именно такое состояние, я уверен, называют исступлением. Конечно, не лихорадка является источником идей, но она помогает им вызреть и принять законченную форму. На одном из последних допросов у меня мелькнула мысль, что достаточно смелый человек может использовать в своих интересах то фатальное юридическое требование, которое заключено в формулировке «нужен виновник» и которое перерастает в конце концов в аксиому «нужен только один виновник». Я затрудняюсь сказать, какие именно слова господина Ролана натолкнули меня на эту мысль. Впрочем, нет, припоминаю! Господин Ролан произнес с пренебрежительным сожалением: – Чтобы принять вашу систему защиты, нужно представить себе человека или, скорее, демона, доводящего коварство до пределов гениальности и уже в момент совершения преступления думающего о том, каким образом направить следствие по ложному пути. – «А возможно ли такое?» – спросил я себя, пораженный этой идеей. Ответ был отрицательным. Зачатками такой предусмотрительности обладает каждый злоумышленник. Скрываясь, он, как дикий зверь, убегающий от охотников, инстинктивно старается запутать следы… И удивительно, как четко и ясно воспроизводит сейчас моя память слова судебного чиновника. Он добавил: – Но это чисто теоретическое умозаключение, а в данном случае нужно было бы сделать серьезную уступку невозможному, то есть отойти от очевидных фактов. Так, воображаемый виновник должен был бы не только составить свой план грабежа, хитроумный, как в настоящих романах, но и осуществить его таким образом, чтобы используемое орудие преступления указывало именно на вас, человека невиновного, и чтобы сразу же по предъявлении обвинения следствие располагало бы серией убедительных улик. Господин Ролан остановился и пожал плечами. – И тем не менее, – продолжал он, предупреждая мой ответ, – мы никогда не признаем права подменять реальное расследование теоретическими рассуждениями. Наше расследование намного опередило ваши подозрения. Есть два человека… это если забыть на миг о том положении, в котором вы находитесь как лицо, в моральном, так сказать, плане схваченное на месте преступления – настолько уличают вас все обстоятельства дела… так вот, есть два человека, которых мы можем подозревать. Мы ничем не располагаем против них, кроме некоторых совпадений. Оставляя в стороне тот факт, что ваша виновность их оправдывает, и во избежание логических ошибок мы рассмотрели их поведение с юридической точки зрения. Первое, наиболее важное лицо – коммивояжер, продавший ящик господину Банселлю, не был в Кане во время совершения преступления; господин полицейский комиссар лично засвидетельствовал его алиби. Второе лицо – нуждающийся молодой человек, ищущий работу; он попросил пристанища на одну ночь у того же полицейского чиновника, что исключает его участие в ночном ограблении… Теперь вы видите разницу, Андреа Мэйнотти: в то время как ваша жена исчезла, словно растворившись в воздухе, чтобы скрыться от нас, другое лицо под своим настоящим именем отправилось в Париж, где оно проживает опять-таки под своим настоящим именем в скромных, почти стесненных условиях. Это лицо, уверяю вас – а я знаю, о чем говорю, – не увезло отсюда четырехсот тысяч франков… Впрочем, поймите: мы – не суд и не жюри, мы следователи, а судьи у вас еще будут. Вот и все. И именно тогда у меня возникла мысль, которая потом утвердилась и превратилась в какое-то болезненное наваждение. Моя лихорадка помогла оформиться этой мысли: существовал некий человек, человек с алиби или другой, искавший работу и уехавший в Париж, который умышленно проник в мой магазин вечером накануне преступления и похитил боевую рукавицу не только как орудие, весьма подходящее для совершения кражи, но также как средство защиты от подозрений. Этот человек проскользнул впотьмах в мой скромный магазин. Он улыбался, уверенный в надежности своего замысла: он пришел не только за орудием преступления, он пришел за вещью, гарантирующей его безнаказанность. Ведь нужен только один виновник. Своим преступлением этот человек связывал меня по рукам и ногам, как связывают застигнутого врасплох спящего злоумышленника… 16 июля. Лихорадка появляется теперь у меня через день. Я чувствую свое близкое выздоровление. Я очень спокоен. Я понимаю, как трудно принять мою схему предположений, основанных на одной гипотезе. Я по-прежнему придерживаюсь своей версии, Жюли, бедная моя жена. Вчера все рисовалось мне настолько четко, что я больше не видел никаких оснований для сомнений, Но посмотри, что получается: виновник находится у них в руках, и есть улики, исключающие его оправдание. Я не знаю, каким нужно быть глупцом, чтобы на месте правосудия отпустить свою добычу и вместо этого ловить впотьмах какие-то блуждающие огоньки, какого-то демона (как сказал господин Ролан), какой-то призрак, какой-то фантом… И тем не менее все весьма странно в этом деле. Многое могло бы насторожить проницательные, опытные умы моих юристов. И поскольку сам преступный замысел по своей изобретательности достоин лучших детективных романов, что признал даже следователь, то какой смысл останавливаться в середине захватывающей истории? Тот, кто задумал оставить мою боевую рукавицу в зубцах машины, подумал и о том, чтобы оставить меня самого в лапах правосудия. Голова моя еще слаба. Эта версия становится моей навязчивой идеей и доведет меня до умопомешательства. Я сказал об этом Луи, который ответил: «Я слышал разговор про этот трюк. Болтают, что его замыслил Чернец». Значит, я ничего не придумал! Речь идет о трюке, как выражаются на каторге и в театре, о механической уловке, известном, отработанном способе действий. О, как я одинок, Бог мой! Мне до боли не хватает тебя, Жюли! Кажется, я стою на краю глубокой пропасти, над потоком, который отделяет меня от водопада. Мои догадки, вовсе не фантастические, могут послужить мостками, по которым я перешел бы через пропасть. Вдвоем мы сумели бы перебросить их через бездну. Рассудок испытывает страх; я столкнулся с суммой знаний, используемых в интересах зла, с усовершенствованием правонарушений на научной основе, с философией преступлений. Все это очень просто, так же элементарно, как все гениальные изобретения. Два удара вместо одного – и дело в шляпе, гарантия от судебного преследования обеспечена! Удар вперед – это добыча, удар назад – это безопасность. В преступном мире существует, таким образом, двойная бухгалтерия: с одной стороны – жертва, с другой – виновник, доход и право, дебет и кредит. Все прошлые методы олицетворяли собой детский возраст искусства преступлений. Я отдаю себе отчет в том, что рассуждаю хладнокровно, но это свойственно и всем душевнобольным; вот что прискорбно. 19 июля. Господин Ролан считает меня очень ловким злодеем. Я много рассуждал, и делал это напрасно. Теперь все то, что я говорил о преступниках-философах, он относит ко мне самому. В судебном следователе есть что-то от артиста. Господин Ролан улыбнулся, когда сказал мне: «Это очень любопытная система защиты». Он изучает меня с видимым удовольствием. Следствие не должно занять много времени при наличии тех материалов, которые находятся в его распоряжении. Только одна боевая рукавица уже может служить очевидным доказательством, а я имею основания думать, что против меня есть еще и свидетельские показания. Сегодня господин Ролан сказал, что слушание моего дела в суде начнется через несколько дней. Завтра или послезавтра мне будет предъявлен обвинительный акт и назначен защитник, который должен помогать мне при рассмотрении дела в суде. Я знаю его имя, это господин Котантэн де ла Лурдевиль – молодой человек, который скоро достигнет зрелого возраста, довольно богатый, с солидными родственными связями и мечтой о блестящей карьере. Он не пользуется репутацией оратора, способного сравниться красноречием с Мирабо. Мой друг Луи шутит на его счет, называя его «Да, так вот». Кажется, такова кличка моего защитника во дворце правосудия. Выбор адвоката мало меня занимает. Я мог бы защищать себя сам, если бы это разрешалось и если бы я владел ораторским искусством. Человек за стеной продолжает свою работу. Он не ведает, что я посвящен в его тайну. 20 июля. С тех пор как я нахожусь здесь, мой сосед значительно продвинулся вперед. Звук металла, долбящего камень, доносится теперь гораздо более отчетливо. Я не знаю, почему так живо интересуюсь его работой. Это грубый убийца; он хладнокровно совершил преступление ради нескольких сотен франков, которые нарочный из Фекама нес в своей сумке. Но если сведения, которыми располагает Луи, точны, то вот что вызывает удивление: этот презренный тип, чей жалкий и грязный кабак служил пристанищем для отъявленных мошенников и всевозможных бродяг, располагал значительной суммой денег в золоте и банкнотах. Я повсюду ищу следы дела Банселля. Золото и банкноты из ящика Банселля должны быть где-то припрятаны. Я хотел бы увидеть моего соседа. 22 июля. За тридцать шагов до закрытой двери моей камеры я узнал господина Котантэна де ла Лурдевиля, которого никогда не видел. Обычно я распознавал шаги Луи на гораздо большем расстоянии; у него походка простого смертного; а сегодня я различил педантичную, торжественную, щегольскую, претенциозную поступь нового человека. Его башмаки издавали звук, похожий на кряканье игрушечных уток, которых дарят малышам. Пока отпирали мою дверь, я услышал сюсюкающий голос, который вещал самоуверенно и высокопарно, важно произнося отрывистые фразы. – Речь идет, – говорил этот голос, – об отвратительных остатках феодального варварства. Я прекрасно разбираюсь в этом вопросе. Стены слишком толстые, окна слишком узкие, коридоры слишком темные, ключи слишком большие, запоры слишком массивные. Мы живем в столетие грандиозных перемен… да, так вот. А здесь? Нездоровая атмосфера, средневековые предрассудки… С другой стороны, если бы потребовалось разрушить все тюрьмы Франции из соображений гуманизма… И потом, на чью мельницу льют воду все эти жалобы? Либералы без труда вводят в заблуждение общественное мнение… Никогда заключенные не содержались в столь прекрасных условиях… Да, так вот… Одним словом, существуют две совершенно разные концепции. Дверь отворилась. Вошел человек низенького роста, с уже заметной лысиной, в модных башмаках, в модном костюме, чистый, розовый, пухлый, с крупным носом, невероятно живыми, но ничего не выражающими глазами, ярким ртом и большими ушами. Кряканье его башмаков во время ходьбы напоминало голоса настоящих уток. – Мэтр Котантэн, ваш адвокат, – объявил мой друг Луи. – Котантэн де ла Лурдевиль, – внес поправку мой любезный защитник. – Забавная история, как мне кажется! Приступим к делу без предисловий, если не возражаете. В сутках всего двадцать четыре часа. Я освобождаю вас от необходимости утверждать, что вы невиновны… и делать прочие банальные заявления. Да, так вот… Есть у вас алиби? Я открыл рот, чтобы ответить, но адвокат остановил меня доброжелательным жестом: – Алиби – это латинское слово, которое означает «в другом месте». У каждого из вас всегда есть алиби; так взглянем же на ваше – или на ваши. – Я провел ночь дома, – вставил я, пока он переводил дыхание. Он осмотрел мое одеяло, смахнул с него пыль тремя ударами тросточки и уселся на моей кровати. – Шутник!.. – прошептал он. – Экий тихий и скромный молодой человек!.. А кто докажет, что вы провели ночь дома? – Пусть обвинение докажет обратное, так я думаю. Он надул щеки и поправил очки изящным движением пальца. Поначалу я и не заметил его очков, настолько они сливались с его лицом. – Шутник! Шутник! – повторил он. – Все они одинаковы! И у каждого – «Свод законов» под подушкой!.. Что касается обвинения, то оно чувствует себя отлично, вы понимаете? Будь я присяжным заседателем – осудил бы вас с закрытыми глазами. – Если таково ваше мнение… – начал я. – Мой мальчик, – прервал он меня, – адвокат обязан выполнять свой священный долг. Защищает вдов, опекает сирот. Ясно? Да, так вот. Будем рассуждать здраво. Вы молоды – так нет ли во всем городе какой-нибудь симпатичной дамы, которая была бы или могла бы быть вашей подругой и у которой вы, возможно, провели ту ночь? – Нет, – ответил я просто. Я счел непристойным говорить этому толстому коротышке о той любви, которую я питаю к тебе. – Вот так Нравы! – проворчал он. – И это в ваши-то годы! Затем, перейдя на назидательный тон, который очень ему подходил, он продолжал: – Итак, у этой прекрасной, милой госпожи Мэйнотт появилось, значит, большое желание стать важной дамой? – Господин Котантэн де ла Лурдевиль, – сухо произнес я, – речь здесь идет только обо мне. Поймите наконец, что я честный человек! И я не желаю, чтобы моя защита строилась на поддельных алиби и других сомнительных доказательствах. Я хочу опираться на правду, и только на правду. Он покровительственно кивнул мне и ответил: – Ну хорошо, мой славный мальчик, будем откровенны. Я совсем не против послушать, какой способ защиты вы предпочитаете. Я рассуждаю сейчас о вещах, от которых был очень далек. Затворничество создает философов. Вчера я еще не ощущал четкой грани между Провидением и судьбой. Сегодня судьба страшит меня, Жюли, и я простираю руки к Провидению, потому что, хотя мы с тобой и разделены пространством и роковой ошибкой, Провидение объединяет нас, держа в своей вечной власти. И все-таки я все больше убеждаюсь, что мне уготована ужасная судьба. Угроза, нависшая над нами из-за этого мерзкого преступления, гнетет меня постоянно. Еще ребенком я вздрагивал при виде тюрьмы, а из всех рассказов моего отца мне больше всего запомнилась история моего двоюродного дедушки по материнской линии Мартина Пьетри, который умер на эшафоте в Бастии, призывая Бога в свидетели своей невиновности. После гибели этого несчастного у дряхлого, полусумасшедшего каноника нашли священный сосуд из сартэнской церкви, в похищении которого был обвинен мой двоюродный дед. Ты была совсем молода и тем не менее должна помнить благородную седую голову защитника бедняков Жана-Мари Маддалэна. Мой защитник господин Котантэн мало походит на Жана-Мари Маддалэна, но он все же не лишен здравого смысла: просто мой адвокат – совершенно ничтожный человек. Мог ли я не поделиться с ним своей мыслью? Я поведал ее ему – и стенам своей тюрьмы. Он слушал меня, не проявляя особого нетерпения, что-то время от времени напевая себе под нос и одновременно чистя ногти уголком визитной карточки. – Все это никуда не годится! – спокойно произнес он в ответ. – Лучше сослаться на временное помрачение рассудка. Но я не сумасшедший! – вскричал я. Черт возьми! История с боевой рукавицей убедительно свидетельствует об обратном, мой мальчик. Но ваша версия с призраком, который действовал вместо вас, возлагая на вас всю вину, заслуживает внимания. В общем, наши дела не так уж и плохи; из всего сказанного надо извлечь пользу. Это чертовски оригинально! А красавица Мэйнотт добавляет истории очаровательной пикантности… Да, так вот… Он вскочил, потирая руки; я думаю, что наш разговор произвел на него сильное впечатление. 23 июля. «Да, так вот» только что вернулся. Слушание дел в суде начнется в среду. Он полагает, что моя версия достойна романа. Но, добавляет он, версия – это не речь адвоката. Для речи адвоката нужны надежные доказательства и проверенные факты. Да, так вот! Он страстно завидует прокурору и сам бы с удовольствием произнес обвинительную речь. Но его удел – защита. Я не знаю, почему приближение суда вселяет в меня необычайную веру. Каждый вечер я засыпаю, думая о присяжных. Присяжные заседатели выбираются из числа лучших людей города. Какой это замечательный институт! Я увижу тебя, Жюли. 25 июля. Господин Котантэн де ла Лурдевиль уже в течение десяти лет пытается поступить на службу в судебное ведомство. Он признался мне, что несправедливая позиция властей в конце концов заставит его перейти в оппозицию. Он показал мне список присяжных заседателей – для возможных отводов. По-моему, состав присяжных замечательный; все они честные люди, большинство из них коммерсанты. Я не вижу оснований для каких-либо отводов. Создается впечатление, что мой сосед-убийца обрабатывает стену, которая отделяет его камеру от моей. В результате слышимость между нашими камерами стала гораздо лучше, и до меня доносится теперь его пение. Его адвокатом является господин Котантэн де ла Лурдевиль. И у моего соседа есть алиби. 28 июля, среда. Слушания начались. Господин Котантэн ко мне не пришел, он защищает моего соседа. Его делом открывается судебная сессия. У меня лихорадка. Мое дело слушается седьмым, значит, это будет 8 или 9 августа. Шесть часов вечера. Вернулся мой сосед. Он поет. 29 июля, вечер. Соседу вынесен смертный приговор. 1 августа. Прошедшей ночью он работал дольше и интенсивнее обычного. На что он надеется? В тюрьме есть специальная камера для приговоренных к смертной казни. Господин Котантэн пришел мне рассказать, что очень удачно вел в суде защиту кабатчика Ламбэра. Теперь адвокат намерен подать апелляционную жалобу. Я чувствую себя все более подавленным, и когда вижу тебя, Жюли, ты уже не улыбаешься. Я передал Луи письма для тебя. Они адресованы в Лондон, и ты их не получишь, но нужно отвести подозрения. Уже не раз он спрашивал меня, что я делаю со своей бумагой. Когда же ты, моя любимая жена, сможешь оросить слезами мое настоящее письмо? Я делаю все возможное, чтобы оно не было слишком печальным. Ах, какое счастье было бы, если бы они меня оправдали! 4 августа. Я остался один! У Луи отпуск, а этот человек мне – почти друг. Господин Ролан больше мною не занимается. Почему я так привязался к нему? И, наконец, господин Котантэн не появлялся уже три дня. Я остался один. Я слушаю этого смертника, который работает и поет. Временами мне кажется, что он точит камень своими ногтями: настолько глух звук, долетающий до меня. Должен ли я донести на своего соседа? Есть ли у меня на это право? Не знаю… Этой ночью я видел тебя, освещенную лучом солнца, который прорвался сквозь ветви деревьев там, в Бургебюсе. Наша горькая последняя трапеза! Что делает ее прекраснее: твоя улыбка или твои слезы? Я неизменно с тобой, но перо выпадает у меня из рук. Печаль моя слишком велика. 6 августа. – Больше бодрости! – сказал мне господин Котантэн. – У меня есть веские аргументы. Да, так вот! Кое для кого это станет большой неожиданностью. Они отталкивают от судебного ведомства по-настоящему талантливых людей. Но они нас еще узнают! Мне хотелось познакомиться с этими знаменитыми аргументами, которые он нашел. Невозможно! Я поинтересовался также судьбой своего соседа. Его оставят в той же камере, где он находится сейчас, до тех пор, пока не будет получен ответ на кассационную жалобу адвоката. Завтра начнется суд надо мной. Больше бодрости! 7 августа. Я выхожу из зала суда. Моя болезнь уже позади. Все прошло так, как я и предвидел, строго, точно. Обвинительное заключение звучит ужасающе, несмотря на достаточно умеренный тон. Но именно в обвинении прекрасно вырисовывается образ человека, незнакомца, демона, который избрал меня козлом отпущения, чтобы ввести в заблуждение правосудие. О, здесь чувствуется опытная рука! Мастерская работа! Я говорю, что вижу его. Вот он, у меня перед глазами, я слежу за ним, я касаюсь его. Мне понятна каждая его хитрость. И я не представляю себе, как это нагромождение лжи может не стать очевидным для всех. Однако происходит нечто обратное. Веры в демона больше нет. Ведь я уже здесь, в руках правосудия, и к чему искать кого-то еще? Он влез в мою шкуру – я не могу по-другому выразить свою мысль – и в моем обличье совершил свое преступление. Он далеко, а я тут. И все видят лишь меня. Я сын этой угрюмой земли, где месть является религией. Странная вещь: никогда мысль о мести не приходила мне в голову. Там, на Корсике, я носил оружие для того, чтобы не дать тебя в обиду. Для твоей защиты я не задумываясь совершил бы убийство, глубоко уверенный, что имею на это право; но опасность проходит, и ненависть моя испаряется. Однажды вечером, недели две тому назад, у меня вдруг сильно заколотилось сердце. Как бы это сказать? Волнение, которое меня охватило, было жгучим, острым и напомнило мне первые муки любви. Тут, как и там, тоже были тревога и страсть. Возникшая у меня мысль, навязчивая идея, открыла мне врага, готовящего нашу гибель. Я колебался, прежде чем сравнить свою ненависть со своей любовью. Но дело в том, что вся моя любовь заключена теперь в темницу моей ненависти. Ведь этот человек оторвал меня от тебя. То, что я называю своей идеей, Жюли, это чувство мести – наше, корсиканское. Оно меня захватило; оно не выросло с момента своего возникновения, потому что сразу же заполнило все мое сердце, А сердце мое чересчур мало, чтобы вместить две страсти; его хватало лишь на любовь к тебе – и ты одна заняла все его целиком. Теперь же любовь моя пропиталась ненавистью – будто два вина смешались в одном сосуде. И ради тебя одной я собственным судом судил виновника всех наших бед – и вынес ему обвинительный приговор. Завтра или через двадцать лет, но приговор этот будет приведен в исполнение. Я стану искать негодяя, я найду его, я его уничтожу. 8 августа. Они дали показания против меня. Никто из них не солгал. Полицейский комиссар господин Шварц сказал, что видел нас в одиннадцать часов вечера; фонарщик папаша Бертран поведал о встрече на скамейке; сам господин Банселль – о, видела бы ты, на сколько лет смогли состарить человека переживания нескольких дней! Господин Банселль, которого я с трудом узнал – так изменился он после постигшего его несчастья – передал наш разговор о боевой рукавице. Боевая рукавица, представь себе, находится в зале суда, и каждый хочет ее рассмотреть; она является одним из вещественных доказательств. Присутствующие указывают на нее пальцами и перешептываются. Это загадочная и любопытная деталь дела. Слышатся тихие голоса: – Дьявольское изобретение! Давно уже суд присяжных не рассматривал такого волнующего преступления! И я тоже смотрю на рукавицу. Она ведь была частью нашего небольшого состояния; именно с ее помощью могли осуществиться твои мечты о Париже… Желающих попасть в зал так много, что они берут двери штурмом. Сегодня утром аудитория вздрогнула и готова была зааплодировать, когда господин Банселль произнес своим изменившимся, слабым голосом: – Возможно, я сам подсказал ему идею воспользоваться боевой рукавицей, я предложил ему за нее тысячу экю, потому что у меня возникло какое-то предчувствие. И опять-таки я показал ему четыреста тысяч франков, которые находились в моем ящике! Прежде господин Банселль был гордым; после его падения жители Кана отнеслись к нему сурово. Но суд присяжных – это спектакль. Там проливаются крокодиловы слезы. Председатель вынужден был вмешаться, чтобы прервать поток проклятий, который со всех сторон изливался на мою голову. Госпожа Банселль была в зале вместе с мужем. Она беременна. Раньше она к тебе хорошо относилась и заявила об этом. Тебя прокляли. Тебя, Жюли! Я сказал тебе, что этот человек заслуживает смерти. Допросили пятьдесят два свидетеля. У каждого было свое слово правды, и все они показали против меня. Вот пример: галантерейщик, живущий напротив Банселля, заявил, что накануне преступления видел, как я внимательно рассматривал окно, через которое грабитель проник потом в дом. Речь шла об окне будуара госпожи Банселль; ее муж в тот день просил меня подыскать витраж для украшения этого окна. Я так и ответил. Присутствующие улыбками выразили свое восхищение. Меня считают ловким жуликом! 9 августа. Сегодня я прошел по всем кругам ада. Я прослушал обвинительную речь прокурора и речь моего защитника. Обвинительная речь произвела большое впечатление на присяжных, мнение которых, по-моему, уже определилось. Прокурор так искусно сгруппировал свои доказательства, что моя виновность не вызывает сомнений; я погиб, я это знаю; мои надежды находятся теперь за пределами дворца правосудия. Господин Котантэн блеснул красноречием. Меня может спасти только чудо. 10 августа, вечер. Сегодня утром Луи сообщил мне, что кассационная жалоба по делу моего соседа отклонена. В четыре часа мне был вынесен приговор. Что сказать? Все это похоже на кошмарный сон. Я осужден на двадцать лет каторжных работ. Сейчас семь часов вечера. Уже два часа, как я вернулся в камеру, и вот пытаюсь писать эти строки. Мешает мне отнюдь не страдание. Сегодня я мучаюсь не более, чем вчера. Однако я чувствую себя, словно в страшном сне. Мне мерещится, будто между мною и тобой кто-то есть. Если бы я сходил с ума, то только от мысли, что наш враг тебя любит. Как бы все тогда прояснилось!..» Это были последние слова, написанные узником. Перо застыло в неподвижности над листом бумаги. Чернила успели высохнуть. Андре Мэйнотт, бледный, похудевший, подавленный, уронил голову на руки. Его горящие глаза были устремлены в пространство. Свет заходящего солнца, который проникал сверху через окно, падал на его спутанные, черные как смоль волосы. Доносившиеся в камеру звуки города смешивались с шумом ветра, игравшего в листве дальних тополей. Больше ничего не было слышно. Однако через неравные промежутки времени до узника долетало глухое бормотанье, потом монотонное, хриплое пение, которое сопровождалось скрежетом какого-то инструмента о камень. Скрежет слышался так близко, что взгляд несведущего человека невольно обратился бы к той части стены, которая была напротив окна; так близко, что при внимательном осмотре этой стены можно было лишь удивиться, почему крупный каменный блок еще цел. Андре Мэйнотт не слышал ни шума, доносившегося снаружи, ни скрежета, раздававшегося за стеной. Молодой человек был поглощен своими мыслями. Дважды он макал перо в чернильницу, и оба раза чернила высыхали. Часы на башне дворца правосудия пробили восемь. Андре Мэйнотт глубоко вздохнул и опустил перо. – Я сказал все! – тихо произнес он. Затем с усталым видом он опустился на свое убогое ложе. Последние несколько дней состарили его на десять лет. Он лежал в одежде на своей кровати, не смыкая глаз и тупо уставившись в пространство. Пробило девять часов вечера; потом – десять; наступила темная ночь. Не изменив позы, Андре Мэйнотт заснул… Если бы не слабое дыхание, молодого человека можно было бы принять за покойника. В одиннадцать часов надзиратель открыл дверь и вошел в камеру. Андре Мэйнотт не пробудился. Надзиратель улыбнулся и сказал: – Зато у его женушки теперь – двадцать тысяч ливров дохода! Звук, доносившийся из-за стены, стих за несколько минут до появления надзирателя и возобновился вскоре после его ухода. Но пения больше не слышалось. Казалось, работавший трудился с подъемом. Через окно в камеру упала полоска лунного света, сначала – косая и тонкая, словно лезвие ножа; затем она немного сместилась, и на противоположную стену легла четкая тень решетки. Решетка состояла из пяти прутьев, двух горизонтальных и трех вертикальных. Это были старые добрые прутья со следами подпиливания и острыми заусенцами, способными поранить руки того, кто попытался бы сорвать их с места. Полоска света скользила вниз по стене, одновременно смещаясь в сторону, поскольку по небосклону поднималась полная луна. Несколько минут слабое сияние озаряло бледный лоб Андре Мэйнотта. Этот человек был молод и красив, и Жюли еще сильнее полюбила бы его теперь, в часы тяжких страданий. Все благородство его души отражалось в чертах его лица. Нет, он сказал не все. Он не упомянул о том, что представляли собой хваленые аргументы его адвоката. Затронув ряд вопросов… да, так вот… господин Котантэн неожиданно перешел к теме, злободневной во всей Нормандии и за ее пределами: хитростям банкротов. Суть аргументов адвоката заключалась в утверждении, что господин Банселль оказался зажатым между наступлением срока крупных выплат и пустой кассой. В свое время господин Банселль прохладно отнесся к просьбе Котан-тэна о предоставлении кредита, который помог бы последнему заключить выгодный брак. Котантэн обиды не забыл. Случается, что лица, застраховавшие свое имущество, поджигают собственные дома, чтобы получить страховку. А господин Банселль очистил собственную кассу! Да, так вот! Это же совершенно очевидно! Что ж, подобное коварство вовсе не является неожиданным. Ведь Котантэну, в конце концов, нужно было спасти человека… Андре Мэйнотт поднялся и заявил, что четыреста тысяч франков находились в кассе банкира. Он видел их собственными глазами. Котантэн предусмотрел и такой поворот событий – и тут же выложил следующий аргумент; кто-то выразил потом сущность его речи одним словом – комедия. Так вот, если недоверие – этот дорогой товар – отсутствует почему-либо на рынке тех мест, где вы пребываете, отправляйтесь в Нормандию. По собственному выражению господина Котантэна де ла Лурдевиля, аргумент не сработал. Все сошлись на том, что адвокат и обвиняемый – два ловких молодчика – попросту сговорились! Впрочем, публика была им признательная за искусно разыгранный спектакль. Но когда в конце своей речи нижненормандский адвокат, дойдя до необходимой эмоциональной кульминации, представил своего клиента невинным ягненком, находящимся под каблуком у честолюбивой и порочной женщины, Андре Мэйнотт с такой яростью заставил его замолчать, что все в зале – от зрителей до присяжных заседателей – содрогнулись. Таким образом провалился и другой аргумент. Андре Мэйнотт не был ребенком, которого можно к чему-то принудить. В коридоре господин Котантэн воскликнул: – Пожелай он этого, я бы его спас! И без алиби. Да, так вот! Андре Мэйнотт отомстил за свою оскорбленную жену. Полоска лунного света, скользнувшая по его лицу, упала теперь как раз на ту часть стены, откуда доносился таинственный скрежет. И большой квадратный камень, озаренный сиянием луны, словно бы зашевелился; казалось, пазы вокруг него становятся все глубже. Эту иллюзию усиливал звук неведомой работы. Человек за стеной перестал скрести; он принялся наносить удары. И каждый удар сдвигал камень с места. Было ли это только иллюзией? На плиты пола посыпался песок, начали падать кусочки цемента. Камень пришел в движение, пол побелел. Камень сдвинулся с места; это уже была не иллюзия; затем камень ушел вглубь стены, открыв неожиданно широкую черную дыру. И тотчас же бодрый голос воскликнул: – Привет тебе, луна! Я рассчитал точно; вот мы и на свободе! XI ВИЗИТ Из темноты вынырнула голова, сразу же попавшая в полосу яркого лунного света. Крупная физиономия с резкими и грубыми чертами выражала в этот миг торжествующую радость, смешанную с жадным любопытством. Так было в первое мгновение, но тотчас же во взгляде «гостя» промелькнула тревога. Он осторожно высунулся из дыры и поглядел вниз, явно надеясь увидеть там пустое пространство. Похоже, он хотел измерить глазами расстояние, отделявшее его от земли, но взгляд незадачливого беглеца уперся в освещенную плиту пола; человек побледнел. Он поднял глаза и лишь тогда заметил, что между ним и луной, свет которой только что ослепил его, находится окно с железной решеткой. Глухое проклятье вырвалось из груди узника. Кровь ударила ему в голову. – Черт возьми! – прорычал он. – Ну что за невезение! Рассчитывал вырваться на свободу, а на самом деле переполз из одной клетки в другую! От дикого гнева у него вздулись вены на лбу. Затем землистая бледность вновь разлилась по его лицу, сразу осунувшемуся от горя. – Значит, все кончено! – произнес он потерянно. – За два часа я не успею пробить стену в другом месте! Он собрался было двинуться назад. В глазах его застыло отчаяние загнанного зверя. Но в тот момент, когда узник уже готов был исчезнуть в темной дыре, его намерения как будто изменились; когда он подался назад, его лицо попало в полосу лунного света, лившегося из окна, и глаза этого человека вдруг широко раскрылись: теперь он хорошо разглядел прутья решетки. В душе беглеца вновь возродилась надежда, пока еще – слабая и хрупкая; его мясистый рот растянулся в некоем подобии улыбки, а на висках заблестели капельки пота. – Если бы это была клетка Чернеца! – произнес он тихим, дрожащим голосом. – Но нет, это было бы слишком большой удачей! Затем из дыры вновь высунулась голова, за ней протиснулись плечи – с трудом, потому что беглец был человеком плотного телосложения. Как только обе его руки коснулись пола, мужчина встал на ноги. И тут мы узнали в нем, несмотря на обритую голову и густую бороду, скрывавшую лицо до самых глаз, Этьена Ламбэра – кабатчика и содержателя комнат в тупике Сен-Клод. В самом деле, на нем был короткий плащ, красный жилет и бумазейные штаны, которые мы видели на нем вечером 14 июня, когда господин Лекок зашел к нему в его берлогу. Он окинул взглядом камеру. Убогую постель, на которой спал Андре, скрывала темнота. Полоска лунного света, озарявшего стену над жалким ложем, делала кровать совсем незаметной. – Никого! – сказал Ламбэр. Он подошел к окну, находившемуся на высоте восьми футов от пола. Он размышлял: «Чернец дал десять напильников; здесь всего пять прутьев: три вертикальных и два горизонтальных. Расчет точный!» Да, расчет был точный: десять напильников на пять прутьев. Утраченная было надежда неожиданно возродилась вновь. Действительно, надежда быстро умирает и так же быстро оживает. За одну лишь секунду тонущий человек может сто раз обрести и потерять ее. Этьен Ламбэр тонул. Накануне вечером он был извещен, что его кассационная жалоба отклонена; король не захотел его помиловать. Ламбэр знал тюремные порядки. Гильотинируют на рассвете; в августе солнце встает рано, а нужно еще успеть подготовиться к казни. Тюремный священник уже навестил приговоренного… Ламбэр знал порядки. К двум, самое позднее – к трем часам утра достойный священнослужитель должен возвратиться. Какая самоотверженность: говорить о Божьем прощении тому, кого ждет безжалостная гильотина. После визита священника приговоренный должен привести себя в порядок, а затем с благодарностью принять смехотворную милость, оказываемую агонизирующей жертве: съесть жареного цыпленка, выпить стакан вина и даже выкурить гаванскую сигару. Я не знаю ничего более гнусного, чем эти кощунственные подачки. Этьен Ламбэр тонул. Он был грубым и подлым негодяем; он готов был утопить двадцать спасателей, чтобы самому добраться до берега. Оказавшись под окном, он чуть присел на своих крепких ногах и подпрыгнул, как тигр, чтобы ухватиться за решетку и выглянуть наружу. Но он был слишком тяжел. В тюрьме мышцы слабеют. Царапнув ногтями по скользкому камню, он плюхнулся на пол, не достав до железных прутьев. Андре спал крепким сном и ничего не слышал. Ламбэр выругался. Он ощупью обследовал пространство вокруг себя; глаза кабатчика постепенно привыкли к темноте и видели теперь лучше, чем тогда, когда свет падал ему на лицо. Ламбэр отыскал табуретку, подтащил ее к окну и поспешно влез на нее. Но и этого оказалось мало. Тогда он попытался подпрыгнуть на ней, но табуретка сломалась, наделав шуму. Андре мгновенно проснулся и вскочил с кровати. – Кто здесь? – вскричал он. Ламбэр поднялся с пола и скорее инстинктивно, чем сознательно ринулся к кровати, злобно вопя: – А, так ты здесь! Притворился мертвым! Обе его руки тут же привычно потянулись к горлу Андре. У кабатчика хватило бы сил, чтобы задушить даже быка, а сейчас, когда на карту было поставлено все, человеческая жизнь не имела для него абсолютно никакого значения. Молниеносно вцепившись друг в друга, узники покатились по полу, но вскоре Андре сумел вырваться; он вскочил на ноги и наступил Ламбэру на горло. Тот тщетно пытался освободиться. – Хватит! – прохрипел он наконец со столь же неожиданной покорностью, сколь внезапной была вспышка его гнева. – Это вроде бы не клетка Чернеца!.. – Кто вы и что я вам сделал? – спросил молодой чеканщик. – Я тот, кому придется поплясать на рассвете, – почти весело ответил кабатчик. – А ты, малыш, я вижу, крепкий парень! Я чуток перестарался – церемониться, понимаешь, было некогда. Ты меня осилил, ну да ладно… Если ты не против, то отпусти меня, я брыкаться не стану… Андре убрал ногу с горла Ламбэра и холодно произнес: – Хорошо, но веди себя тихо. Ламбэр, поднявшись с пола, ощупал себя и показал пальцем на дыру в стене, половина которой была еще освещена луной. – Мими, – сказал он с оттенком игривости в голосе, – пришлось долго царапаться в твою дверь, прежде чем войти. – Действительно, я слышу вас уже почти месяц, – кивнул Андре. – И ты не донес на меня, чтобы получить табак и выпивку? Что ж, молодец… Ты прошел инспекцию? – Что вы имеете в виду? – А-а… Ты, стало быть, не знаешь нашего языка, Биби? – Боюсь, – ответил Андре, улыбаясь, – что вашего не знаю. – Тем хуже для тебя… Тогда ты не понимаешь, что означают слова: «Будет ли завтра день?» Андре заколебался, поскольку эта фраза, явно имевшая тайный смысл, пробудила в нем одно воспоминание, но, подумав, ответил: – Нет. – Странно! – недоверчиво произнес смертник. – А сперва прикинулся парнем, неплохо поднаторевшим в нашем деле… Но если вы обыкновенный господин, то разве вам не доставит удовольствия удрать отсюда? – Я очень рассчитываю на побег, – не колеблясь, ответил Андре. – Ага!.. И ваши средства позволяют вам это сделать? – Я пока еще не думал о средствах. Часы на дворце правосудия пробили один раз. – Половина первого, – пробормотал кабатчик. – Открыта дверь или нет, у нас есть минут десять для разговора. На последней сессии суда, как они называют эту комедию, только я проходил по мокрому делу. Но разве я похож на убийцу, а, парень? У меня была причина разделаться с нарочным из Фекама; он поплатился за то, что хотел сыграть со мной злую шутку; такова правда. А вы здесь за воровство? Андре утвердительно кивнул. – И так же виновны, как и я, точно? – Нет, совсем не так, как вы, – спокойно возразил Андре. – Ах, вон оно что! – прорычал Ламбэр. – Значит, ты мне не товарищ!.. Но вдруг он замер, пораженный неожиданной мыслью, и тихо сказал: – Готов поспорить, что вы тот самый ягненок, которого Чернец подставил в деле с сейфом? – Чернец!.. – повторил ошеломленный Андре. Он боялся, что все это ему снится. До полной ясности было еще далеко, но тьму словно прорезал ослепительный луч света. Значит, мучившие Андре кошмары не были плодом больного воображения? Значит, его безумные подозрения подтвердились? И, возможно, под странной кличкой Чернец действительно скрывается демон, положивший конец счастливым дням молодости чеканщика? – Да, да, Чернец, – продолжал Ламбэр, разговаривая сам с собой. – И если бы я намотал на ус его уроки, то не оказался бы здесь, мой милый. Ему наплевать на судей… Ему или им, потому что Приятель-Тулонец пока еще только ученик, а настоящие мастера делают дела в Париже. Андре прикрыл ладонями глаза, словно защищаясь от яркого света. – Его зовут Приятель-Тулонец? – пробормотал он, невероятным усилием воли сдерживая свой гнев. Кабатчик рассмеялся: – Его зовут! Его зовут! – произнес он дважды. – Какой ты смешной, Биби! Все-то тебе сразу и выложи! Нет, но каков молодец! Одним махом четверых или пятерых убивахом! Мыслишка использовать боевую рукавицу сильно меня развеселила. Во-первых, эта штуковина помогла ему добраться до денег; во-вторых, всю вину он свалил на вас; в-третьих же, заявил: «Женушка торговца железками – смазливенькая бабенка…» Андре обеими руками схватился за сердце. Женушкой торговца железками была Жюли. – При всем при том, – продолжал Ламбэр уже мрачным тоном, – о нарочном из Фекама давно перестали говорить. Значит, меня предали, это ясно как день. Я знаю их трюки, они всегда заметают за собой следы… Правда, они прислали мне паспорт, засунув его в карман доктора; тот ни о чем не подозревал… Ну и ловкачи, всем ловкачам ловкачи!.. Кстати, молодой человек, вы ведь умеете читать! Растолкуйте мне по-простому, на кого я там похож и как мне себя величать. Он извлек паспорт и передал его Андре. Молодой человек начал читать: «Главное полицейское управление. Заграничный паспорт, действителен в течение одного года… Именем короля мы, префект полиции и т. д., и т. д. Антуан (Жан), торговец верхней одеждой и разносчик, родился в Париже 14 января 1801 года…» – Черт-те что! – воскликнул Ламбэр. – Выходит, мне всего двадцать четыре года! Глупо! «Рост: один метр восемьдесят сантиметров…» – Пять футов пять дюймов! – скривился Ламбэр. – Они рехнулись! Он был на добрых три дюйма ниже. «Волосы темные; лоб высокий; брови темные…» – Ну вот! Гром и молния! – зарычал кабатчик. «Нос большой…» – Скорее толстый!.. «Рот средний; подбородок круглый; лицо овальное; кожа светлая…» – А особые приметы?.. «Нет»! Грубой рукой кабатчик потер хорошо заметный шрам на щеке. Андре же подумал: «В крайнем случае этот документ пригодится мне». Ламбэр сердито отобрал у него паспорт, сунул документ за пазуху и погрузился в мрачные размышления. – Что ж, благодарю покорно! – внезапно вскричал он. – Славно же эти мерзавцы надо мной подшутили! Они надеются, что палач помешает мне навестить их, чтобы сказать спасибо! Но погодите! Не все еще потеряно… Господин Андре Мэйнотт, – обратился он к чеканщику, резко меняя тон, – вы – честный человек, а я – вор и убийца; я не навязываюсь вам в друзья, но мне известно все, что вам необходимо знать, и если мы однажды окажемся на свободе, я смогу дать вам в руки оружие против тех, по чьей вине вы попали в беду. Давно уже Андре не слышал, чтобы его называли честным человеком, и какой бы презренной ни была личность, произнесшая эти слова, они взволновали Андре до слез. Его рука невольно потянулась к руке кабатчика, но тут Мэйнотга пронзила горькая мысль, и он повторил: – Если мы однажды окажемся на свободе!.. – Вот в чем загвоздка, не так ли, малыш? – продолжал Ламбэр неожиданно веселым и громким голосом. – Я молчал, сколько мог, но всему есть предел… Скажите, раз уж речь идет о вашем спасении, вы когда-нибудь занимались решеткой вашей клетки? – Никогда, – ответил Андре. – Я решил бежать только вчера. – А Луи занимался решеткой, пока вы сидели здесь? На тюремном жаргоне «заниматься решеткой» означает, слегка постукивать по ней молотком. Нетронутые прутья нормально вибрируют, но если их успели подпилить, то звук становится дребезжащим и предупреждает надзирателя. По правилам решетку нужно проверять утром и вечером, но, слава Богу, правила правилами… Луи никогда не обращал внимания на прутья. Снаружи окно находилось в пятидесяти футах над землей! – Надо бы добраться до решетки, – сказал кабатчик. Без особых усилий Андре подпрыгнул и ухватился руками за подоконник. – Ах, молодость, молодость! – вздохнул Ламбэр. Затем он протянул Андре небольшой заостренный железный прут, добавив: – С его помощью я точил камень. Ударьте слегка по решетке. На висках у него выступили капли пота. Андре нанес короткий удар по первому поперечному пруту. Кабатчик пошатнулся. Андре ударил по продольному пруту. Кабатчик стиснул свои дрожащие руки. – Оба подпилены! – произнес он тихо. – Это клетка Чернеца! И Ламбэр рухнул на кровать. Андре расслышал только последние слова. – Действительно, эту камеру занимал Чернец, – подтвердил молодой человек. – Господина Банселля ограбил именно он? – Нет. Тут сидел Главный… Тот, который прикончил здесь, в Кане, англичанку, – ответил Ламбэр. – Их несколько; их много. Вы все узнаете… и не только про них… Андре хорошо помнил это убийство; оно будоражило умы еще в то время, когда он только приехал в Кан, и особенно поразило юношу тем, что убийца оказался корсиканцем. Детство Жюли и юность Андре были окружены тайнами. И Жюли легко сумела бы объяснить волнение, охватившее недавно Андре, лишь только он услышал таинственные слова «Будет ли завтра день?» – Ну вот, малыш! – воскликнул кабатчик, подпрыгнув на месте. – У меня снова появился шанс! Рвани-ка их! Прутья поддадутся; а у меня с собой крепкая веревка, я обмотался ею под рубашкой! Андре сильно дернул один из прутьев; тот зашатался, но устоял. – У меня не хватает сил, – простонал молодой человек, – и мне трудно ломать решетку на весу. Ламбэр тут же принялся рвать на куски одну из простыней, чтобы скрутить из них жгут. – Привяжи его к прутьям, – скомандовал он, – и спускайся… Даю слово, что отвезу тебя в Англию и ты узнаешь, где отыскать Приятеля-Тулонца, этого подлого негодяя… А, малыш? Приятно, когда знаешь, что можно отомстить! – Вы уверены, что это был он? – уточнил Андре, привязывая жгут к решетке. – Именно он воспользовался боевой рукавицей? – Спрашиваешь! – отозвался кабатчик. – И вы сможете это доказать? – Спрашиваешь, черт подери! Когда Андре спрыгнул, закончив свою работу, Ламбэр добавил: – Чтобы вскрыть сейф, нужны были два человека… Хитрый замок. Я работал вместе с ним. – Вы? – вскричал Андре, отступая. Несколько мгновений они стояли друг против друга. – Будем срывать решетку! – сказал Ламбэр. – Объяснимся потом. Свернутая жгутом простыня была протянута между прутьями в верхней части окна. Дрожа от возбуждения, кабатчик схватил ее за свисавшие концы, покрепче скрутил края жгутов и, веря, что простыня выдержит нагрузку, резко дернул… Молодой гравировщик стоял не двигаясь. – Так! – произнес он. – Значит, вы там были! Мощный рывок Ламбэра явно привел прутья в движение, но вся решетка, прогнувшись, тут же вернулась в прежнее положение. – По крайней мере один прут Чернец не подпилил, – проворчал Ламбэр. – Взялись, малыш, вместе! – Я желаю знать имя вашего сообщника, – заявил Андре. – Желают только короли, детка; а нам с тобой будет удобнее разговаривать по ту сторону стены… Вы, господин Мэйнотт, называете сообщником человека, который присваивает четыреста тысяч франков и бросает своему помощнику подачку в одну тысячу экю!.. Я мог бы ублажить вас, назвав его первым попавшимся именем – верно? – и без всякого обмана: ведь у него столько имен, что есть из чего выбирать; но это длинная история, которую я не прочь вам рассказать. Назвать угря угрем – это только полдела; главное – знать, как его поймать… Поработаем вместе, малыш! А ну давай! Андре, в свою очередь, обеими руками взялся за простыню; он верил в успех. Надежда вырваться на свободу охватила все его существо. – Держи крепче! – скомандовал кабатчик. – Вам никогда не приходилось поднимать грузы с помощью кабестана[3], господин Мэйнотт? Готовы?.. Раз, два, взяли!.. Раз, два, взяли!.. Раз, два, взяли!.. XII «БУДЕТ ЛИ ЗАВТРА ДЕНЬ?» Они, как каторжные, принялись вместе тянуть за концы жгута; решетка трижды прогибалась, но железо пружинило, и после каждого рывка прутья снова возвращались в вертикальное положение. – Стоп! – скомандовал Ламбэр, выпуская из рук простыню. – Тыльной стороной ладони он смахнул пот со лба. – Неудачное начало, господин Мэйнотт, – продолжал он. – Когда занимаются делом, учитывают все мелкие детали. Итак, в этой камере сидел настоящий Чернец, Главный! Он подпилил прутья на тот случай, если будет осужден, понимаете? Но его невозможно осудить ни при каких обстоятельствах: все проходит по-семейному, известное дело… А я, видите ли, занимался нарочным из Фекама еще до того, как связался с ними, и если бы не они, я был бы чист как стеклышко. Значит, он перепилил все прутья, кроме двух, слева… и поскольку его оправдали, он бросил сделанную уже на три четверти работу. Влезьте на окно, чтобы взглянуть еще раз. Там есть перекос, поэтому нужно привязать простыню к прутьям справа – и решетка откроется, как табакерка. Как и в первый раз, Андре подпрыгнул и ухватился за подоконник. Кабатчик продолжал: – Мне велели быть наготове, с лошадью, и ждать беглеца с правой стороны дороги на Пон-л'Евэк. Человек должен был сказать мне: «Будет ли завтра день?» И что же! Все это было ни к чему – он, как всегда, вышел сухим из воды… Но мне довелось познакомиться с Чернецом номер два. Вашим, господин Мэйнотт… Как у нас дела? Андре только что спустился вниз. – И вас ждут сегодня у дороги на Пон-л'Евэк? – Тысяча чертей! – воскликнул кабатчик. – Сегодня или никогда. Согласитесь, гордец, что завтра будет уже поздно. Взялись! Когда Андре ухватился за простыню, часы пробили час ночи. – Гром и молния! – прорычал Ламбэр изменившимся голосом. – Как летит время!.. Ну, начали! Но вместо того чтобы выполнить собственную команду, сам он вдруг замер и, наклонив голову, стал напряженно прислушиваться. Снаружи доносился шум, отчетливо слышный в ночной тишине. Это были удары молотка по дереву. Дрожь прошла по телу кабатчика. – Что это? – спросил Андре. – С тех пор как я в тюрьме, ни разу не слышал ничего похожего. – Гильотинируют не каждый день, – ответил Ламбэр, попытавшись выдавить из себя смешок. И не без фанфаронства он продолжал: – Это строят эшафот, как говорится, для короля Пруссии… Зря стараются, значит. Кровь застыла в жилах Андре. – За дело, соратник! – воскликнул он. Простыня, в которую вцепились четыре руки, натянулась, и Ламбэр, руководя операцией, запел: – Тяни, моряк… Раз, два, взяли! Раз, два, взяли! Раз, два, взяли! После третьего рывка один из двух целых прутьев сломался в том месте, где входил в стену; а за ним сразу вылетел и второй. Свет луны, плывущей по небу, косо падал в окно и озарял ничем теперь не защищенное отверстие. Ламбэр подпрыгнул от радости. – Да, да! – закричал он, торжествуя. – Завтра будет день – провалиться мне в ад! Лошадь у дороги на Пон-л'Евэк, рыбацкий баркас в устье Дивы! Вперед, ребята! Курс на Англию, и плыви на просторе! Андре уже пододвинул свою кровать к окну. Намерение совершить побег было твердым; при этом его врожденная доброта уступала право первым спастись человеку, которому угрожала смерть. Он помог Ламбэру взобраться на подоконник. Ламбэр достал из-под рубашки крепкую шелковую веревку, один конец которой обмотал себе вокруг пояса. – Какая тонкая… – пробормотал молодой чеканщик. – Она способна выдержать трех человек, – усмехнулся кабатчик. – Мы могли бы при желании спуститься вместе, мой котеночек, но моя матушка этого бы не одобрила. Нужно действовать осторожно… Поглядите, как вяжется морской узел! Он сделал на конце шнура двойную петлю, которой ловцы лосося трижды обхватывают рыболовный крючок, и надел ее на очень короткий стержень, оставшийся от сломанного прута. Этот стержень был таким же прочным, как и сам камень. – Ну, вот и готово! – продолжал Ламбэр. – Ветер попутный, бриз подходящий. Спать мы сегодня будем у наших соседей – англичан… Скажите, господин Мэйнотт, а ваша женушка не там ли находится, не на английской ли стороне? Андре не ответил. Он был занят подготовкой побега. Ламбэр, который удобно уселся на подоконнике, свесив ноги наружу, повернул голову и сказал: – Однако будет забавно, господин Мэйнотт, если я отдам вам на растерзание Приятеля-Тулонца. Андре очень рассчитывал на мстительность кабатчика и не спешил задавать вопросы. Он все узнает в свое время. Между тем Ламбэр бросил веревку вниз, чтобы измерить длину предстоящего спуска, потому что выступ, проходивший по стене в шести футах ниже окна, мешал видеть землю, тонувшую во мраке; ближайшие постройки и деревья, росшие во внутреннем дворе тюрьмы, закрывали луну. Веревка коснулась земли; у кабатчика в руках оставалось еще несколько футов… Можно было спускаться. Он в последний раз проверил узлы и решительно ринулся вниз. Не успел Андре заметить его исчезновение, как Ламбэр уже стоял на выступе под окном. – До скорого, господин Мэйнотт! – произнес он полушепотом. Но поскольку молодой чеканщик его не слышал, он тихонько свистнул и добавил: – Эй, малыш! Следи за стержнем, чтобы с него не соскользнула петля. Андре тут же вскочил на подоконник. Он только что собрал свои вещи. Все, чем он теперь владел в этом мире, включая длинное письмо к Жюли, уместилось в карманах его куртки. Кабатчик все еще стоял на выступе. – Красота! – сказал он весело. – А они там, у гильотины, не могут настучаться своими молотками. Напрасно беспокоят жителей Кана… Ну – вперед! Сейчас вы увидите цирковой номер на канате под аккомпанемент ударов молотка и сопение людей, сооружающих для акробата эшафот! Оттолкнувшись обеими ногами от выступа, он стал спускаться – умело и решительно, но очень медленно, ибо от малейшей поспешности руки могли заскользить по шелковой веревке. Андре следил за стержнем, на котором держался тонкий канат. Один раз молодой человек коснулся веревки рукой, отчего та зазвенела, как туго натянутая струна лютни. Секунды казались ему настолько долгими, что он не мог удержаться, чтобы не посмотреть вниз, опираясь одной рукой о стену, подавшись всем корпусом вперед и наклонившись над темной бездной. Он не увидел ничего, кроме этого тонкого каната, который терялся в мрачной глубине. Ламбэр больше не разговаривал. Веревка была неподвижна, так как все ее колебания замирали у выступа стены. И тут Андре вдруг услышал сухое потрескивание, едва различимое и похожее на то, которое издает влажный фитиль горящей свечи. Молодой человек кинулся к стержню. Обломок прута не двигался, но острый заусенец постепенно перетирал одну за другой нити веревки, и они лопались с тем своеобразным звуком, который уловил чеканщик. Андре бросило в холодный пот. Луна ярко освещала решетку, прутья в местах разломов сверкали в ее бледном сиянии, словно алмазы. Андре мог бы вести счет шелковых нитей, которые рвались одна за другой, уже образовав вокруг потертости густую бахрому… Молодой человек зажмурился, потом снова открыл глаза и внимательно осмотрел стержень. Да, ошибки быть не могло: отчетливо выделявшийся заусенец перерезал веревку. – Быстрее! – произнес Андре сдавленным голосом. – Во имя Бога, спускайтесь скорей! Из темноты донесся насмешливый голос Ламбэра: – Торопишься, малыш? Ведь эшафот-то строят не для тебя! Андре снова крикнул, чтобы кабатчик не медлил. Тот отозвался снизу: – Осталось всего два этажа, потом твоя очередь. Бахрома из растрепанных шелковых нитей на потертом месте становилась все гуще. Последние слова застряли у Андре в горле. Глядя на заусенец, блестевший в лунном свете словно лезвие ножа, чеканщик застыл как зачарованный. Веревка вытягивалась, удлинялась, катастрофически утончаясь, и приобретала все большее сходство с волосом, который вот-вот лопнет. Человек, спускавшийся по канату, был подлым убийцей, и все же это был человек; между ним и Андре установилась некая связь. До сих пор Андре рассчитывал использовать его в своих интересах, глядя на кабатчика лишь как на орудие мести, но теперь он больше не думал об этом. Им руководило единственное настойчивое стремление спасти это существо, приближающееся к своей гибели; стремление столь сильное, словно речь шла о святом или о любимом человеке. Наш рассказ о чувствах Андре занял некоторое время, в действительности же события развивались молниеносно. Если бы молодой гравировщик инстинктивно вцепился обеими руками в веревку ниже стержня, он бы вывалился из окна головой вниз. Но раздался короткий сухой треск, совсем негромкий, и канат с невероятной быстротой исчез во мраке. Снизу донесся глухой звук: это на землю упало тяжелое тело. Послышался короткий крик, за ним – еще один. Андре резко отпрянул назад, затем прислушался. Ветер шелестел листьями деревьев, росших во внутреннем дворе тюрьмы. Молодой человек позвал Ламбэра. Будет ли ответ? Андре не знал. Чеканщик высунулся из окна. Стук молотков смешивался с голосами. Плотники, строившие эшафот, пели. – Ламбэр! – негромко крикнул Андре. – Ламбэр! В тюремном дворе завыла сторожевая собака. Это напомнило Андре о его собственном положении; ведь он и сам – узник, которому уже вынесен приговор. Эта мысль пришла к нему вместе с воспоминанием о Жюли, безраздельно царившей в его сердце. Андре звала свобода. Воспользовавшись простыней, с помощью которой они с Ламбэром выломали решетку, молодой человек соскользнул из окна на выступ стены. Шесть футов были выиграны. Держась за ту же простыню, Андре наклонился и посмотрел вниз. Он размышлял. Одно из двух: или Ламбэр предал его, бежал один и находится теперь уже далеко – или он разбился при падении и сейчас скорее всего мертв. Разглядеть что-либо сверху было невозможно. Разве что макушки деревьев, на ветвях которых едва различимо трепетали во тьме листья. Правда, можно было прикинуть, на какой высоте находится выступ, на котором стоял Андре. Его отделяло от верхушек деревьев более двадцати футов. Кровь застыла в жилах Андре… Мы не рискнули бы утверждать, что мысль совершить этот отчаянный прыжок пришла ему в голову в тот момент, когда он выскользнул из окна. Молодой человек хотел сначала просто посмотреть, можно ли добраться до земли, и разверзшаяся перед ним черная бездна вполне могла остановить его. Но голова Андре вдруг пошла кругом, он перестал соображать… Глаза чеканщика заволокла огненная пелена, в ушах зашумело… Какая-то непреодолимая сила влекла его вниз. Это уже было не стремление к свободе и даже не желание оказаться рядом с Жюли, это было просто наваждение. Андре тянуло в пустоту с такой же неотвратимостью, с какой сорвавшийся камень падает на дно пропасти. Лишь тусклые и слабые проблески меркнувшего сознания еще удерживали молодого человека на карнизе. Андре чудилось, что чьи-то руки толкают его в бездну и что его пальцы, судорожно вцепившиеся в простыню, вот-вот разожмутся… Но Мэйнотт был волевым и смелым человеком. Он выпустил из рук простыню, которая только и удерживала его от падения в манящую пустоту; однако он сделал это для того, чтобы распрямиться, а не для того, чтобы беспомощно сорваться вниз. Несколько секунд Андре сохранял равновесие, словно готовя свое сердце к страшному испытанию и расслабляя мышцы перед сокрушительным ударом. Он успел осенить себя крестным знамением. Это было не самоубийство. Мэйнотт не сполз с выступа, а прыгнул, намеренно, осознанно, по собственной воле и с надеждой на благополучный исход. Говорят, люди, падающие с большой высоты, умирают еще до того, как коснутся земли. Когда отчаявшийся человек бросается, например, с балюстрады собора Парижской богоматери, он, видите ли, сразу превращается в труп, который, рассекая воздух, несется вниз и разбивается о мостовую… Наука любит философствовать. Андре, отлетевший, словно выпущенное из пушки ядро, на довольно значительное расстояние от стены, врезался в липу, оставив в ее ветвях клочья одежды и своей собственной кожи; а затем последовал чудовищный удар. Так Андре приветствовала земля. Он оставался без сознания недолго: было по-прежнему темно, когда отчаянный собачий лай за стеной привел его в чувство. Молодой человек обнаружил, что наполовину погрузился в сухую траву и старые листья, собранные в кучу под липой и лежавшие там в ожидании тачки садовника. К Андре вернулась память, и сердце тотчас же простучало имя Жюли. Без особых усилий Андре поднялся на ноги; он не был серьезно ранен. Лай собаки вызвал в соседнем дворе какое-то движение, которое ничего хорошего не предвещало, однако в той части тюрьмы, где находилась его камера, царила гробовая тишина. Первым желанием Андре было бежать. Он сделал шаг к стене ограды, но тут же мысль о кабатчике остановила его. Ему не пришлось долго искать; почти рядом с тем местом, куда он упал, на серой дорожке, окаймлявшей внутренний двор тюрьмы, виднелось что-то большое, темное и бесформенное. У Андре не возникло ни малейших сомнений, что там лежит несчастный Ламбэр. Действительно, это был он; его тело смутно напоминало фигуру человека, присевшего на корточки; голова кабатчика свисала так низко, что самой верхней частью туловища казались плечи. Обе руки Ламбэра сжимали канат. Одна из ног ушла глубоко в землю, а другая была буквально размозжена о плиты дорожки. Без сомнения, Ламбэр после падения даже не шевельнулся. Он умер мгновенно… Андре попытался нащупать пульс, но обе руки несчастного уже окоченели; молодой человек приник ухом к холодной груди, но сердце в ней давно перестало биться. Однако, расстегивая куртку кабатчика, Андре наткнулся на какую-то бумагу; это был паспорт, который чеканщик сунул себе в карман. Ветви одного из деревьев касались ограды. Андре уже говорил однажды, что сам не представляет, насколько он силен и ловок… Так что через несколько минут молодой человек уже тихо и спокойно шагал по улице, легко преодолев две высоких стены. Между тем в тюрьме поднялась суматоха. Давно уже пробило два часа ночи, и участники похоронной драмы вошли наконец в камеру приговоренного к смерти. Они-то и обнаружили побег. На улицах, несмотря на ранний час, было много народу; здесь собрался в основном деревенский люд. Зеваки не ложились спать, чтобы занять удобные места вокруг эшафота. Те из них, кому уже посчастливилось видеть гильотину, рассказывали о ней своим более молодым спутникам. По мостовой громыхали телеги, приехавшие издалека, плелись лошаденки, хромавшие от усталости, тащились изнуренные прохожие. Но надежда насладиться захватывающим зрелищем вселяла в людей силы. Истинные мусульмане не чувствуют усталости во время паломничества в Мекку. На улице Андре слышал лишь одно слово: гильотина, гильотина, гильотина. В Нормандии мы с любовью произносим это название: мы говорим «гэйотэна» – это звучит ласково и весело. Можно ли без грусти думать о том разочаровании, которое ожидало стольких добродетельных деревенских гостей? Того же славного папашу, который издалека привел по разбитой дороге своих юных отпрысков? Или пылко влюбленного молодого фермера, который привез сюда свою обожаемую женушку, исполнив обещание, данное в день свадьбы? Но свадебного подарка не будет! И обманутые дети станут проливать слезы. О, как несправедлива судьба! Столько времени добирались в город – и все напрасно; когда еще теперь увидишь гильотину? По мере того как Андре удалялся от тюремного квартала, он ускорял шаг. Чеканщика охватывало все большее беспокойство. Побег не был подготовлен, не было и никакого плана действий… Молодой человек тщетно пытался привести в порядок свои мысли… Сначала он машинально зашагал в нижний город, к Воссельскому мосту; обычно именно по нему Андре выезжал из Кана, отправляясь вместе с Жюли на другой берег Орна к лугам Лувиньи; но тут ему смутно припомнился маршрут, о котором рассказывал кабатчик: дорога на Пон-л'Евэк. Тогда чеканщик инстинктивно вернулся назад, стараясь держаться подальше от дворца правосудия, и подошел к церкви Сен-Пьер. Он словно бы стал сейчас Ламбэром; ощущать себя в шкуре преступника было непривычно, но пока необходимо. Скрытая поддержка, которой пользовался убийца, принадлежавший к таинственному братству, распространялась и на Андре – по крайней мере в течение одной ночи. Сворачивая на улицу Фруад, молодой человек неожиданно вспомнил банальную фразу, которая явно использовалась как пароль: «Будет ли завтра день?» Ламбэр обещал рассказать ему об этой фразе целую историю, которую Андре мог связать с самым ярким приключением юности, глубоко врезавшимся ему в память. Но Ламбэр не успел выполнить ни одно из своих многочисленных обещаний… Трудно выразить словами, как Андре жалел о гибели Ламбэра. Дело в том, что навязчивая идея вновь начала неотступно преследовать чеканщика, лишь только он оказался на свободе: он догадывался, что жажда мести будет терзать его всю жизнь; ведь эта страсть была неразрывно связана с единственным чувством, наполнявшим дотоле сердце Андре, – любовью к Жюли. Ламбэр клялся, что раскроет тайну пути, ведущего к тому самому демону – человеку, который никогда не оставлял никаких следов и всегда оставался безнаказанным, отдавая на растерзание правосудию свою очередную жертву. О, это был истинный мастер, с блеском избегавший опасных последствий грабежей и убийств; дикарь, сбивавший с толку преследователей в самом центре цивилизованного мира не менее ловко, чем индейцы в гуще девственных лесов. Чернец – Приятель-Тулонец… Кличка, под которой были известны многие люди, фальшивое имя, принадлежавшее тому, кто имел дюжины имен! В общем, ни одной – или почти ни одной – зацепки! А кабатчик Ламбэр умер, унеся тайну в могилу! Андре остановился против церкви Сен-Пьер. Отсюда одна улица вела к дороге на Париж, а другая – к дороге на Пон-л'Евэк. Направо – Жюли и почти неминуемая опасность, налево – одиночество, неизвестность и призрачная надежда отомстить. Андре свернул налево и побежал. Когда он миновал последние дома Кана, забрезжил рассвет. У первого придорожного дерева стоял человек с лошадью. При виде Андре он шагнул вперед. – Эй, парень! – властно крикнул молодой чеканщик. – Будет ли завтра день, а? – Ну вот мы и дождались, Бижу! – произнес человек, отвязывая лошадь. Потом ответил: – Завтра наверняка, хозяин, да и сегодня тоже… Это вас зовут господин Антуан? – Тысяча чертей! – откликнулся Андре. Лицо парня почти скрывала белая шапка, низко надвинутая на лоб. – Надо ж знать, – спокойно усмехнулся он. – В расспросах обиды нет. Он стянул с себя шапку; под ней оказалась вторая, на которую была до этого нахлобучена первая; потом скинул куртку; под ней тоже скрывалась не рубашка, а еще одна куртка. Снятые вещи вместе с коричневыми полотняными штанами, висевшими у парня на руке, перекочевали к Андре. Тот мгновенно сбросил свой арестантский костюм и облачился в другую одежду. Парень смотрел на него, позевывая. – Бижу надо оставить в Диве у Гийома Меню, – сказал он, передавая повод Андре, который тут же вскочил в седло. – Прилив в девять часов; лодка – там, на берегу. Чаевые будут? Андре бросил ему серебряную монету, и парень, сняв свою вторую шапку, произнес: – Доброго пути, хозяин! В то утро конные жандармы прочесывали все дороги в окрестностях Кана. Но они не видели никого, кроме опечаленных людей; те возвращались по домам, так и не полюбовавшись гильотиной. Бижу была крепкой лошаденкой. В девять часов она уже жевала сено в конюшне у Гийома Меню, в Диве. Дул береговой ветер. Он подгонял удалявшуюся рыбачью лодку, которая огибала скалы Кальвадоса. Андре сидел на корме и чувствовал себя как дома – а все потому, что недавно задал хозяину лодки вопрос: «Будет ли завтра день?» XIII О ФРАНЦИИ Это было во второй половине сентября. Над площадью Акаций, где липы облачились в свой осенний наряд, занимался рассвет. По земле стлался легкий туман, но прояснявшееся синее небо, по которому бежали перламутровые облака, обещало хороший день. Все дома на пустынной площади были погружены в сон. В предрассветных сумерках папаша Бертран гасил фонари. На крайней скамье площади Акаций, в нескольких метрах от последнего горевшего фонаря, сидел человек. Его лицо было скрыто широкополой соломенной шляпой, рядом с ним стояла корзина, в какой уличные торговцы носят свой товар. – Эй, приятель, – сказал папаша Бертран, – здесь ночевать, конечно, дешевле, чем на постоялом дворе! Человек не ответил. Разговорчивый, как и все одинокие люди, папаша Бертран продолжал: – Наверное, когда вы прибыли в город, все гостиницы были уже закрыты? Однако я не хотел вас обидеть. Через часок распахнутся двери кабачков. С этими словами он погасил фонарь. Тусклый утренний свет заливал площадь; поднимался туман. Бертран стоял, опираясь на шест. – Каждый раз, когда я зажигаю или гашу здесь фонари, что-нибудь происходит. Проживи я еще сто лет – и то не забуду, что видел на этой скамье. Именно таким образом папаша Бертран очень часто начинал разговор, заставляя собеседника задать естественный вопрос: – И что же вы видели, папаша Бертран? Но торговец, похоже, не отличался любопытством и никаких вопросов не задавал. Тогда папаше Бертрану пришлось самому воскликнуть: – Эх, дорогуша, хотите знать, что я тут видел? Это не секрет. Я вполне могу вам рассказать, хотя не знаю вашего имени ни по Адаму, ни по Еве. Так вот, убийца Мэйнотт и его шлюха сидели здесь в ночь кражи – на том самом месте, где сейчас отдыхаете вы. Ну прямо два голубка: ему лет двадцать пять, а она совсем молоденькая, разным вертопрахам головы кружила. Я к ним тогда подошел, думая, что это амурные штучки. Ан нет!.. Про деньги шел разговор, а ни про какую не про любовь!.. Они считали банковские билеты; а было этих билетов столько, что переплети их – и получилась бы целая книга. Он, нахал, не стесняясь, сказал: «Это четыреста тысяч франков из кассы Банселля…» Папаша Бертран остановился, чтобы посмотреть, какое впечатление произвел его рассказ. Торговец продолжал сидеть неподвижно, словно каменное изваяние. – Выходит, – продолжал с некоторой досадой папаша Бертран, – вы не из наших мест, раз вас не волнует это дело. Денежный ящик был дорогой, его из Парижа привезли. И была в нем ловушка для грабителей; там-то и застряла рукавица Мэйнотта… понятно?! Он подбросил мне на выпивку, но я потом все равно ничего не скрыл… Помог правосудию покарать негодяя. После этих слов папаша Бертран гордо выпрямился, по-прежнему опираясь на свой шест. – Значит, вы нездешний, дорогуша, – продолжал он, – это видно. А то бы вы сразу закричали: «Так вас зовут папаша Бертран!» потому что про меня повсюду говорят после того, как я сыграл такую важную роль в этом деле. Двадцать лет каторжных работ – ни много ни мало! Это я про Мэйнотта… Красотка-то его была… не знаю, как и сказать… ну, в общем, мотовка… Одним словом, подрубили они Банселлей под корень!.. Раньше-то у тех был особняк в городе, замок в деревне и карета. А, каково?.. Да, неплохо сработано… И Банселли ищут теперь кусок хлеба… А что у вас в корзине, приятель? При упоминании имени Банселля голова торговца поникла. А на последний вопрос папаши Бертрана он ответил: – I don't speak french, sir.[4] Папаша Бертран сжал кулаки и надулся. – Инглиш! – воскликнул он. – Английский савоец. Заставил меня все выложить задарма! Разгневанный, он удалился. Иностранец остался один, по-прежнему неподвижный, со склоненной головой. Свет наступившего утра просочился сквозь поля шляпы, упав на бледное, утомленное лицо и полные печали глаза. Немало жителей славного города Кана, увидев это лицо, задумались бы: почему оно нам так знакомо? Но ответить на сей вопрос смогли бы лишь немногие, потому что каждый стал бы ворошить далекие воспоминания вместо того, чтобы воскресить в памяти вчерашний день, в котором и крылась разгадка. Впрочем, всем было известно, что Андре Мэйнотт утонул в море и его тело было найдено на отмели Диветты. Иностранец сидел, обхватив колени руками и устремив взгляд в пространство прямо перед собой. Терявшиеся в дымке дальние липы заслоняли здания, стоявшие на другом конце площади. Именно к этим-то зданиям был прикован взгляд иностранца – во всяком случае, к одному из них; человек на скамье, казалось, видел заветный дом сквозь легкую пелену тумана. Иностранец пребывал в глубокой задумчивости, ет& губы иногда медленно шевелились, произнося слова, звучавшие совершенно не по-английски. Он шептал: – Это было там! Бог мой! Бог мой! Часов в шесть на площади Акаций появились редкие прохожие; луч восходящего солнца проник сквозь дымку и осветил скромный фасад дома. Иностранец грустно улыбнулся. Первым открыл свою витрину Гранже, сдающий внаем экипажи, затем с шумом распахнулись ставни на втором этаже, и госпожа Шварц в утреннем чепце облокотилась о подоконник; из-за ее плеча выглядывал Эльясен. Иностранец подождал до семи часов, но лавка, над дверью которой все еще красовалась вывеска с именем Андре Мэйнотта, так и не открылась. В половине восьмого иностранец взял свою корзину и отправился в нижний город. По дороге он никому не предлагал свои товары и вел себя так, словно приехал в Кан с единственной целью: побывать на площади Акаций, посидеть там на скамье и издали посмотреть на лавку с закрытыми ставнями, на вывеске которой сохранилось имя Мэйнотта. Однако один раз он остановился; это было между Сен-Мартенским кварталом и Воссельским мостом, недалеко от префектуры, возле особняка, позади которого раскинулся сад. За кустами сирени шумно играли на траве двое детей. Иностранец приблизился к невысокой ограде и заглянул во двор. Пока малыши резвились, их отец, сидя на плетеном стуле, листал судебные бумаги, а молодая мать вышивала, присматривая за детьми. В семье следователя Ролана утро начиналось рано. На бледном лице иностранца появилась добрая улыбка. Рука его поднялась в жесте, напоминавшем благословение. И человек с корзиной удалился. За Воссельским мостом он задумчиво посмотрел на извилистую дорогу, которая вела к Виру, поднимаясь по отлогому склону холма над обильными лугами Орна. Взволнованным голосом иностранец снова произнес: – Это было там… По мосту проехал экипаж, тильбюри; это было тильбюри господина Гранже, запряженное вороным конем, мчавшимся как вихрь. В экипаже сидела молодая пара: влюбленные. Иностранец замолчал на полуслове, и его накрыло облаком дорожной пыли. Он присел, подперев голову руками. – Блэк! – прошептал он. И две слезы скатились по его щекам. В полутора лье от Кана, справа от дороги на Алансон, располагалась крошечная усадьба, втиснувшаяся между землями двух или трех богатых фермеров. Маленький чистый домик выходил фасадом на проселочную дорогу, от которой его отделяли лишь заросли боярышника. Справа и слева от дома за кустами алых роз виднелись квадратные грядки овощей. Позади них во фруктовом саду ветви яблонь склонились под тяжестью румяных плодов. Две виноградные лозы и вьющаяся роза, оплетавшие длинные жерди, украшали фасад дома. Розы пышным букетом цвели между двух окон, на лозах гирляндами висели крупные кисти винограда. Это было жилище кормилицы Мадлен. Сама она находилась в поле за садом, где копала картошку, ее муж работал у соседнего фермера; старая матушка пряла свою пряжу, приглядывая за кастрюлей, а малыш играл на земле у порога дома. По обеим сторонам от входа во двор две жандармские лошади методично жевали молодые побеги. Ибо каждая лошадь, удостоившись чести принадлежать жандармерии, немедленно обретает степенность и гордый вид, которые отличают этот образцовый род войск. Бригадир с подчиненным ему жандармом, сидя за столом, с наслаждением попивал добрый сидр. Жандарм слушал, а бригадир рассказывал прелюбопытнейшие вещи. Бывает, что преступник, – говорил он, демонстрируя весьма высокую культуру речи, – временно скрывается под разными личинами; он ловко прикидывается честным человеком: бродячим торговцем или просто горожанином, путешествующим ради удовольствия, или по делам, или по семейным надобностям. На заре моей карьеры, когда я еще не был в чинах, как теперь, мне случилось столкнуться с преступником лицом к лицу, и он не вызвал у меня ни малейших подозрений. Теперь же, когда я приобрел богатый опыт, самый хитрый негодяй вряд ли смог бы меня убедить, что облака – это пасущиеся на небесах барашки. Наше дело требует постоянной бдительности и учит смотреть на все по-американски, обращая внимание на самые мелкие детали. Честный человек никогда не станет возмущаться, если вы вежливо попросите его предъявить документы. И совершенно по-другому ведут себя беглые преступники и люди, которые почему-либо не в ладах с законом, а также прочие сомнительные особы… – Бригадир, – прервал его жандарм, – вот как раз подходящий случай: по полю шагает какой-то человек, похожий на бродячего торговца. Действительно, по тропинке шел молодой мужчина. Это был иностранец с площади Акаций. Он задержался на краю пшеничного поля, полого спускавшегося к дороге, и устремил долгий взгляд на ребенка, игравшего у домика Мадлен. – Поскольку вы работаете со мной недавно, – сказал бригадир своему подчиненному, – я не буду возражать, если вы продемонстрируете мне свои способности, Маниго. Действуйте! Иностранец, увидев Маниго в дверях дома, спустился к дороге и осведомился: – Не это ли дом Мадлен Бребан? Задавая свой вопрос, он продолжал смотреть на ребенка. Заслышав голос путника, малыш поднял белокурую головку; большие голубые глаза мальчика улыбались; однако, оглядев незнакомца, малыш тут же потерял к нему интерес и снова принялся играть с камешками на пыльной земле. Жандарм Маниго сделал несколько шагов вперед и приветливо сказал: – Мы, значит, ищем тут одного бродягу, он преступление совершил, потому как умышленно, по злобе поджег скирды Жана Пуассона; это в местечке Ковий, недалеко отсюда. Не в службу, а в дружбу, покажите мне ваши бумаги: и вам вреда не будет, и нам польза. Путник тут же вынул из корзины и протянул жандарму паспорт на имя Антуана Жана, бродячего торговца, засвидетельствованный совсем недавно в мэрии Шербура. – Отпустите! – скомандовал издали бригадир, услышав текст записи в паспорте, громко прочитанный Маниго. – Все в порядке. Путник подошел к домику и оказался рядом с ребенком, который снова посмотрел на него и попросил: – Не ходи по моим камням!.. От голоса малыша к лицу путника прилила кровь. Он переступил порог и спросил, где найти Мадлен. Старая матушка указала ему тропинку к картофельному полю. Мадлен работала на солнцепеке, прикрыв голову платком; у нее было отменное здоровье, чистая совесть и хорошее настроение; женщина громко распевала какую-то песню. Увидев, что к ней приближается через сад бродячий торговец, она воскликнула: – Вы напрасно стараетесь, приятель, у меня есть и иголки, и нитки, да и тканей полно. Торговец молча продолжал идти. Взглянув на него повнимательнее, Мадлен побледнела. – Несчастный, вы ли это? – пролепетала она; лопата выпала из ее рук. Потом, отступив на несколько шагов и осенив себя крестным знамением, она проговорила: – Но ведь господин Мэйнотт погиб! Все об этом говорят, а грамотные даже прочли в газетах! Так кто же вы? – прошептала женщина, охваченная суеверным страхом. Торговец все приближался. Мадлен закрыла глаза руками, защищаясь от наваждения. – Если поможет молитва… – начала она дрожащим голосом. Это была мужественная женщина, но ее мужества хватал лишь на живых людей. – Мадлен, – сказал Андре, остановившись перед ней, – я не погиб. Вы можете меня потрогать, если хотите… – Прикоснуться к вам! – ужаснулась она. – Мадлен, – продолжал Андре тихим голосом, – я не заслужил презрения порядочных людей. Я невиновен, клянусь вам! – Ах! Он клянется… – пробормотала про себя Мадлен и решилась взглянуть на Андре сквозь пальцы рук, которыми она все еще прикрывала глаза. Между тем ярко светило солнце, а страх при свете дня быстро проходит. Мадлен прошептала: – Я не судья вам, господин Мэйнотт. Да простит вас Бог! Затем под влиянием другого страха, который не могло рассеять даже солнце, она воскликнула: – Но послушайте, несчастный! Повсюду ищут бродягу, который поджег скирды Пуассона. Вокруг полно жандармов! Если они вас увидят… – Жандармы уже у вас, Мадлен… Я только что говорил с ними. Ах!.. – вскричала кормилица, широко раскрыв глаза. – У нас! Жандармы! И вы с ними разговаривали!.. Уходите вон той дорогой, господин Мэйнотт… – и женщина указала, куда следует идти. – Они у всех спрашивают документы! – Они уже проверили мой паспорт, Мадлен. – Ах! Боже мой, если бы они арестовали вас в моем доме! – Не называйте меня больше господином Мэйноттом, Мадлен. Я взял другое имя… – Ах!.. – В третий раз всплеснула руками кормилица. – И она тоже! Она тоже! Тут Мадлен отвела глаза. – Вы сильно изменились, – заметила она. – Да, – тихо сказал Андре, – изменился! Мой малыш не узнал меня. На его ресницах блеснули слезы. Доброе сердце Мадлен сжалось. – Она приходила? – спросил Андре, немного помолчав. – Да, – ответила добрая женщина, – три раза. – Только три раза?! – прошептал Андре. – Париж далеко, а о вашем деле здесь еще помнят. – Не возникало ли у нее желания забрать ребенка? – Никогда. Она знает, что малышу у нас хорошо. – Добрая Мадлен, да вознаградит вас Бог! Андре, казалось, заколебался, а потом спросил: Разговаривала ли она с вами обо мне? – Никогда, – снова ответила кормилица. Андре покачнулся; ему пришлось присесть на мешок с картошкой. Кормилице стало его жалко. – Но ее одежда говорит сама за себя. Она в глубоком трауре. – Спасибо, – прошептал Андре. – Я очень устал, но нужно уходить. Мне хочется увидеть Жюли. Ради этого я проделал долгий путь. Мы уже говорили, что Мадлен была жалостливой женщиной, но она была еще и нормандкой. – А деньги у нее в Париже? – спросила кормилица. Гримаса глубокого отчаяния исказила лицо Андре Мэйнотта, и он со стоном произнес: – А ведь вы нас хорошо знаете, Мадлен! – Как это они называли ту железную штуковину? – пробормотала женщина. – Боевая рукавица? Да если бы сотня свидетелей заявила под присягой, что господин Мэйнотт – вор, я бы не поверила… Но рукавица! Рукавица!.. А вообще все это меня не касается: ведь ребенок, милое дитя, здесь совершенно ни при чем! XIV ОТ АНДРЕ – ЖЮЛИ Остров Джерси, Сент-Элье, 25 декабря 1825 года. «С Новым годом, Жюли! Вот и наступило Рождество! Поставил ли наш малыш вчера вечером свой башмачок на камин? Какие игрушки принес ему Иисус? Я тоже получил новогодний подарок, Жюли; Дед Мороз дал мне то, о чем я мечтал уже очень давно: надежного почтальона, который передаст тебе пакет моих писем. В августе, покидая Францию, я с трудом удержался от того, чтобы доверить свой тюремный дневник славному парню, который предоставил в мое распоряжение лошадь. Но я поступил правильно, не поддавшись искушению. Прямо или косвенно, но этот сельский парень принадлежит к некоему братству, которое нередко упоминается в моих письмах к тебе. Этот парень стоял у дороги по приказу человека, который нас погубил – и который меня спас, сам того не подозревая. Всю последнюю неделю я с удвоенной энергией искал посыльного, который пролил бы бальзам на раны твоего истерзанного сердца. Дело в том, что в прошлое воскресенье мне попалась на глаза сентябрьская французская газета. Я прочел ее с жадностью; все, что доходит сюда из Франции, говорит мне о тебе. Посуди, однако, сама, что испытал я, увидев свое имя, наше имя, напечатанное в том листке, который издается в Париже. Сердце мое едва не выскочило из груди. Раз пишут о нас, то, конечно, чтобы сообщить всему миру: судьи установили истину, и пелена спала с их глаз. Моя бедная, дорогая жена! В газете не говорилось о нашем оправдании; я пишу «нашем», поскольку тебя обвинили вместе со мной и ты тоже была осуждена. В рубрике «Происшествия» попросту сообщалось о моей смерти. И я тут же подумал о том, что это сообщение ты могла прочитать – должна была прочитать – по выходе газеты, то есть в сентябре; значит, уже в течение трех месяцев ты, возможно, считаешь меня погибшим. Если бы я все это знал… Но, может быть, другие газеты не сообщали об этом ничтожном событии? Может быть… Пока же я ужасно мучился, и, если бы не нашелся посыльный, я бы сам отправился в Париж, рискуя все погубить. Дело в том, что у меня есть опасения, которыми я поделился с тобой лишь наполовину. Несчастный Ламбэр, ставший на несколько часов моим товарищем, сделал мне полупризнание. Наш палач тебя знал; он видел, как ты улыбалась, глядя на спящего малыша; он нашел, что ты красива… Но я должен с тобой поделиться, потому что не могу больше оставаться один на один с мыслью, которая сводит меня с ума; должен пересказать тебе то, что было написано в сентябрьском номере французской газеты. Этот демон, Жюли, мне знаком. Это тот, кто… Но узнаешь ли ты этого ночного негодяя?.. В Париже он может встретиться с тобой, не вызвав у тебя никаких подозрений. Нам грозит несчастье. Мне приснился страшный сон. Да! Мы догадывались об этом! От Кана до Сартэна далеко, но беда ведь летит на крыльях! Но вернемся к тому, что я должен тебе сообщить и что хотел бы от тебя скрыть! Это о газете. В ней рассказывается о попытке двойного побега, настоящие подробности которого ты узнаешь из моих писем. Газета по-своему преподносит факты, исходя из конечного результата; упомянув о том, что кабатчик Ламбэр должен был быть казнен на следующий день, репортер продолжает: «По всей видимости, оба осужденных сумели договориться через стену, разделявшую их камеры. У каждого была своя роль. Убийца Ламбэр должен был проделать лаз и раздобыть канат; грабителю Мэйнотту надлежало перепилить решетку окна, выходящего во внутренний двор тюрьмы № 2. Можно лишь удивляться тому, что подобное могло случиться под боком у надзирателей. Начато служебное расследование, и виновные будут строго наказаны. Тюремный служащий Луи – надзиратель Андре Мэйнотта – заключен под стражу на следующий день после побега осужденных. Предполагается, что Андре Мэйнотт, как более молодой и ловкий, первым беспрепятственно спустился из окна во внутренний тюремный двор; далее он сумел преодолеть две ограды и оказался за пределами тюрьмы. Вторым спускался более тяжеловесный Ламбэр; уже ослабшая веревка оборвалась, и беглец упал, видимо, с большой высоты, так как его тело, найденное на следующий день, было совершенно разбито. Что касается Мэйнотта, то его поиски, которые велись в течение нескольких дней, не дали результата; казалось, его побег увенчался полным успехом, однако депеша от мэра местечка Див, полученная в Кане в субботу вечером, вновь подтвердила: от судьбы не уйдешь! Были основания думать, что Мэйнотт направился к морю, чтобы попытаться переправиться в Англию. Наряды жандармов вели безуспешные поиски в устьях Орна и Дивы и ежедневно тщательно прочесывали местность, прилегающую к морю. В результате стало известно, что на следующее же утро после побега Мэйнотта некий всадник выехал из Кана и что его конь был оставлен в Диве у испольщика Гийома Меню. На всаднике были коричневые полотняные штаны, черная куртка и белая шапка. Между тем в субботу утром на отмели Диветты рыбаки нашли труп; лицо и тело покойника были обглоданы и страшно изуродованы (в этом году прибрежные воды кишат стаями касаток), но удалось опознать остатки одежды – коричневые штаны, серую куртку и белую шапку. Есть все основания полагать, что дерзкий злоумышленник Мэйнотт (Андре) отвязал на берегу чью-то лодку и попытался переправиться на ней в Англию». Жюли, может быть, это и к лучшему: ведь мертвых не преследуют. Но что подумала ты, моя дорогая жена? О, если ты прочла эту статью – сколько было слез! Ведь ты меня любишь, я в этом уверен! Эта уверенность – мое последнее богатство. Я помню, как ты прощалась со мной. С воскресенья я перестал жить. Мне необходимо поговорить с тобой, нужно, чтобы ты меня услышала. Да благословит Бог того, кто послал мне наконец человека, которому я могу доверять! Его зовут Шварц, и поначалу это имя меня испугало, но одновременно и обрадовало, потому что напомнило наш милый дом на площади Акаций. В первый раз он зашел к моему хозяину (я служу подручным у оружейного мастера) для того, чтобы купить пару пистолетов. Один из его должников, которому он предъявил иск, что-то против него замышляет. Все это мне не нравится. Меня всегда удивляет, как ради небольших денег люди способны навлекать на себя несчастья. А помнишь, в тот вечер, когда ты уезжала, на империале дилижанса тоже сидел Шварц, неприметный пассажир с тощим свертком. Но этих Шварцев повсюду так много! Может быть, здесь я встретился с другим Шварцем, поскольку он утверждает, будто никогда не был в Кане; к тому же он богат. Не знаю, почему мне вспомнился этот пассажир с тощим свертком. Он заходил тогда, накануне всех событий, к нашему соседу – полицейскому комиссару. Какими бы малозначительными ни были происшествия того дня, все они мне кажутся важными. Я бережно храню их в своей памяти, пока еще – все скопом, но потом я их систематизирую. Придет час, и я отыщу след, чтобы идти по нему решительно и до конца; я в этом уверен: ведь во мне течет корсиканская кровь! И представь себе: однажды у меня мелькнула мысль, будто тот неприметный пассажир на империале, тот Шварц, вполне мог быть Чернецом. Мне приходят в голову всевозможные мысли. Я ищу! А недавно мне стало известно одно обстоятельство, которое примирило меня с этим господином Шварцем: ему нужны деньги, но лишь для того, чтобы жениться на женщине, которую он любит. Он познакомился с моим хозяином, и я слышу их разговоры. Шварц любит, и ему необходимо все золото мира для королевы его сердца! Я еще ни о чем его не просил, но рассчитываю на него и воспользуюсь его лирическим настроением. Он уезжает завтра утром, и я поговорю с ним сегодня вечером. Было бы во много раз лучше, если бы я мог послать тебе мое сердце – и не раскрывать посланцу твоего имени. Во всяком случае, он не будет знать, что связывает нас с тобой. Прощаясь, я прилагаю свой адрес. Тысячу раз целую тебя. Приезжай вместе с малышом; сил у меня достаточно, и вы не будете нуждаться ни в чем. Но, главное, ответь мне, ответь поскорее. Я буду считать часы. Я люблю тебя еще больше, чем прежде. С Новым годом!» Сент-Элье, остров Джерси, 30 января 1826 года. «Моя дорогая жена, я считал дни; долгих тридцать четыре дня. За это время можно два, даже три раза обменяться письмами! Я послал тебе все, что написал за шесть месяцев; все, что я передумал, все, что я пережил. Значит, ты не получила мой пакет? А ведь этот господин Шварц мне пообещал! Возможно, я сам допустил ошибку. Целых полгода я колебался, прежде чем отправить тебе свое послание; когда же терпеть стало невмоготу и захотелось во что бы то ни стало поговорить наконец с тобой после такого долгого молчания, меня охватил страх. Ведь ты осуждена; малейшая неосторожность может лишить тебя свободы; чтобы этого не случилось, я с самого начала наложил на себя ужасный обет молчания. По этой же причине я и теперь не решился действовать в открытую. У меня больше нет оснований остерегаться господина Шварца, который кажется мне порядочным молодым человеком, но когда речь идет о тебе, я не доверяюсь даже своему собственному брату! Я пошел окольным путем. Не полагаясь на свою ловкость, я решил обезопасить тебя целиком и полностью. Так, господин Шварц не знает; кому везет письма. Кроме того, я придумал секретную комбинацию, которую слишком долго объяснять и которую я сам нахожу теперь абсурдной, с каждым днем все более абсурдной – по мере того как течет время, а ответа от тебя все нет и нет. Была ли, однако, необходимость ставить тебя под удар? В общем, не думаю, что в тюремной камере в Кане а не пришлось переживать больше, чем сейчас! По-видимому, мне следовало отправиться в Париж. Париж большой, в нем спрятаться легче, чем где бы то ни было. Я бы тебя разыскал, и мы были бы вместе. Что стало с моими письмами? Достаточно ли порядочный человек этот Шварц? Как он с тебе отнесся? Я со своей стороны даже в минуты отчаяния никогда, видит Бог, никогда не позволяю себе подозревать тебя, моя жена! Я верю в тебя, эта вера – мое последнее прибежище. Я не допускаю даже мысли о том, что ты получила мои письма и не удосужилась на них ответить. Это убило бы меня. Уже два дня мне нездоровится. Ничего определенного нет, но я чувствую себя очень плохо. Мне страшно умереть, не повидав тебя. Хозяин добр ко мне. В случае необходимости он готов одолжить мне деньги для поездки во Францию». 14 июня 1826 года. «От тебя никаких вестей. Я был при смерти. Теперь я медленно пробуждаюсь ото сна, который длился несколько месяцев. Как я не умер от этой лихорадки, ввергшей меня в беспамятство?! Но я видел тебя, я держал тебя в своих объятиях… Никаких новостей из Франции! Ничего! Ничего! Я настолько ослаб, что даже и думать не могу о поездке. Трудно поверить, но роковые события случились год тому назад; сегодня – печальный «юбилей» нашего несчастного побега из Кана. Да, с тех пор прошел целый год. Что ты делаешь? Что с тобою стало? Порой мне кажется, что ты умерла! Дай Бог мне сил приехать к тебе!» 3 июля. «Жюли, моя болезнь возобновилась. Эти три или четыре месяца, о которых я тебе писал, полностью истощили мои силы! Приходи! О, приходи! Я люблю тебя». 8 сентября. «От тебя никаких вестей! Я на ногах. Вчера мне удалось дойти до берега моря. Я искал глазами Францию. Там все мои письма. Я писал их для того, чтобы отправить тебе, но это могло погубить тебя. Письма ничего не стоят; они просто отвлекают меня от мрачных мыслей, не больше. Я поеду». 12 сентября. «Жюли, я еду. Через несколько дней ты будешь в моих объятиях! Я еду, я надеюсь, я люблю тебя! Впервые за двенадцать месяцев я начинаю жить!» XV В ПАРИЖЕ Андре встал на ноги. – Я пришел узнать, где мне искать жену, – произнес он твердо и печально. – Я не сержусь на вас, Мадлен, совсем не сержусь; обстоятельства были против меня. – Зайдите в дом; адрес вашей супруги – в моей записной книжке, – объяснила добрая женщина. – Название улицы – на первой странице, а номер дома – на последней. Записная книжка лежит на окне. Счастливого пути, господин Мэйнотт… И если у вас есть лишние деньги… Говорят, что вдова и дети господина Банселля просят теперь милостыню в Париже. Андре медленно удалился, а добрая женщина вновь принялась копать картошку. Работая, она размышляла: – Нет-нет, я и представить себе не могла, что он способен на такое… И при этом он стал таким жалким!.. И таким бледным!.. Как и она!.. Да, чужое добро вору не впрок, это уж точно… Лучше бы он не возвращался… и она тоже, а ребенок тут ни при чем. Бригадир и жандарм отправились на розыски бродяги, поджегшего стога Пуассона. Андре обнаружил на окне записную книжку и взял ее в руки, делая вид, что показывает малышу картинку на обложке. На первой странице значилась улица Сурдьер, а на последней – № 21. Едва сдержав слезы, Андре обнял ребенка и ушел, унося с собой свою корзину. Два дня спустя Андре, еще более бледный, с трудом передвигая ноги, в десять утра покинул двор парижской почтово-пассажирской конторы и спросил у продавца на углу, как добраться до улицы Сурдьер. Стоял прекрасный день, какие выдаются порой в конце лета. Охваченный утренней суетой Париж напоминал пчелиный улей. Оглушенный этой сумятицей, Андре шел по улице Сент-Оноре, как ему посоветовал торговец; молодой человек миновал храм Сен-Рош, синие часы которого показывали половину одиннадцатого; на углу прямого, узкого, пустынного и печального проезда Андре прочел на табличке: улица Сурдьер. Он остановился, сердце его сжалось. Что могло тревожить его теперь, перед встречей с Жюли? Эта улица Сурдьер, от вида которой меня самого всегда бросало в дрожь, не была ни отвратительной, ни смрадной, ни жалкой, ни опасной. Она отталкивала своим холодом, заброшенностью, тишиной – словно остров смерти в бурном море кипящей жизни. Там стояли великолепные ветшающие особняки и уныло шумели запущенные сады, где солнце не пробивалось сквозь ветви деревьев. И всякий раз, когда заблудившаяся коляска тряслась по столетней, совсем нестарой мостовой, странные создания, склоняясь с невзрачных балконов, с удивлением китайцев провожали ее глазами. Как только экипаж исчезал, окна закрывались, причем некоторые – очень надолго; пауки, пользуясь этим, с верой в будущее приводили в порядок свою паутину, которую еще полгода никто не потревожит. Этой улице чрезвычайно подходило ее название: она была совершенно глухой и немой. Она нигде не начиналась и никуда не вела. Между двумя рядами угрюмых домов печалилось и скучало даже солнце. Андре не был парижанином. Поэтому кладбищенский вид этой улицы не мог заставить его, привыкшего к тихим провинциальным уголкам, отступить, а он тем не менее отступил. Он бросился назад и, полный тревоги, вернулся на шумную Сент-Оноре. Мужество покинуло его. Недомогание Андре обрело теперь в его сознании свое название: предчувствие. В душе молодого человека рос страх, близкий к безумию; Андре чувствовал, что над ним нависла страшная угроза. Но какая беда подстерегала его? Разве мало ударов судьбы уже обрушилось на Андре? Чего он должен был опасаться, и какие новые страдания могли прибавиться к его мукам? Часы храма Сен-Рош пробили одиннадцать; Андре машинально считал гулкие удары, стоя на ступенях алтаря пресвятой Богородицы. Он вошел в храм, ничего не зная; он помолился, а потом стал размышлять. Существовал человек, простить которого он не мог. Это был зловещий незнакомец; но Андре поклялся самому себе, что посвятит, если потребуется, всю свою жизнь тому, чтобы узнать, кто его враг. Зачем? Чтобы отомстить! Волновало его и более сильное чувство, чем месть; это была любовь. Андре был христианином, страшился того приговора, который сам вынес тем, кого ненавидел. Его ненависть была естественной, его месть была справедливой, однако перед Господом нет ни естественной ненависти, ни справедливой мести. По закону Божьему человек обязан прощать… Андре мучили сомнения. Он просил Небо покарать негодяев, шепча: «Будь столь же милосердным ко мне, как я – к врагам моим». Но о каком милосердии могла бы идти речь, если бы, покинув храм, Андре случайно встретил на ступенях человека, который похитил его счастье? Если бы Чернец, если бы Приятель-Тулонец (для обозначения объекта своей ненависти Андре располагал только этими странными именами) неожиданно предстал перед ним, а в ушах у молодого чеканщика прозвучал бы изобличающий голос: «Это он!»? Среди верующих христиан не найдется ни одного человека, который хоть раз в жизни не вел бы с Богом подобных разговоров, не спорил, не – так сказать – торговался, не ставил своих условий… В Бретани простодушные паломники обращаются к преподобной Анне Орэйской с такими словами: «Если ты совершишь это, я совершу то-то и то-то». Да, это сделка. А почему бы и нет? Андре Мэйнотт, глубоко погруженный в свои размышления, твердо помнивший заповеди Господни, но отстаивавший и свое человеческое право, вовсе не был безбожником. Иаков ведь тоже боролся с Господом. На лбу у молодого человека выступил пот, щеки побледнели; он не замечал, что творилось вокруг него. Он был захвачен – если можно так выразиться – беседой с Богом. В сознании Андре отчетливо звучал роковой вопрос. Его ненависть противостояла его же любви. И Андре терпеливо, болезненно искал ответа… Надежда отомстить прочно укоренилась в его душе; это стремление стало частицей его жизни; мысль же о прощении казалась сначала чудовищной, невозможной. Но в молитве, словно голос Господа, звучали слова: оттолкни от себя ненависть, и Бог вернет тебе любовь! Тем временем пустовавший до того храм начал наполняться народом. Люди в основном собирались возле ризницы; молящиеся зажигали свечи на алтаре. Андре не думал об осторожности. Усталость последних дней притупила его чувства. Ему казалось, что он все еще размышляет, но мозг его стал погружаться в туман, и постепенно раздумья уступили место грезам. Ему привиделась очаровательная головка Жюли; ее чудесные улыбающиеся глаза манили его к себе. Это была его любовь. Но между Жюли и Андре пролегла все расширяющаяся пропасть, олицетворявшая его ненависть. Храм заполнила толпа любопытных; становилось шумно. Гулко прозвучал долгий аккорд органа. Однако день не был ни воскресным, ни праздничным. Почему же зажгли свечи в полдень? Отчего играет музыка? Что привлекло зевак? Андре не знал ответов на эти вопросы – да и какое ему было дело? Грезя или размышляя, он спорил одновременно и с самим собой, и с Богом. Невдалеке от него, между ризницей и распятием, в дальнем углу придела пресвятой Богородицы стоял человек и с любопытством разглядывал главный неф. Давно уже мы не встречались с господином Лекоком – продавцом сейфов, который сделал такой прекрасный подарок нашему Ж.-Б. Шварцу; а между тем мы могли бы быстро узнать парижского коммерсанта по вызывающе наглому виду. Его дорожный костюм сменился очень элегантной городской одеждой несколько крикливой расцветки. Смешавшись с зеваками, Лекок, похоже, кого-то ждал. Со своего места он мог видеть центральную часть нефа и особенно хорошо – пространство перед ризницей, где толпа, разделившись надвое, образовала живой коридор, начинавшийся у входа в ризницу. Дверь ризницы распахнулась, и оттуда вышла процессия; зеваки сразу заволновались; за священником следовала молодая пара: невеста в белом платье с венком из флердоранжа в волосах и жених в черном фраке. Несмотря на присутствие большого числа священнослужителей, многие любопытные становились ногами на скамьи. Господину Лекоку удалось лишь мельком увидеть то, что его интересовало, но и этого ему было довольно; глаза его заблестели, а губы сложились в некое подобие улыбки. Орган гремел. Это была свадьба, пышная свадьба. Как только жених и невеста остановились, присутствующие, расступившись, расположились вдоль стен, чтобы лучше видеть церемонию. Господин Лекок, которого нам не стоит путать с простыми зеваками, замер на прежнем месте, сияя победоносной улыбкой. Какое-то время он стоял неподвижно, потом его большой рот раскрылся в зевке, и как раз в этот момент взгляд коммерсанта, случайно скользнувший по приделу святой Богородицы, упал на Андре, преклонившего колени перед алтарем. Лекок вздрогнул, краска залила его лицо, он невольно сделал два шага назад, чтобы спрятаться за колонной. Оттуда он снова быстро и осторожно посмотрел на Андре. Лицо Лекока во второй раз изменило цвет. – Провалиться мне на этом месте! – изумленно прошептал коммерсант. – Но это он! Да, конечно, он! Вот так история! Все предосторожности Лекока были совершенно излишними: Андре пребывал сейчас в ином мире и не замечал того, что происходило вокруг. Но захватившая его внутренняя борьба не могла длиться долго: ненависть Мэйнотта была стойкой и глубокой, ибо подкреплялась законным стремлением наказать истинных преступников; однако любовь была его вторым «я» и должна была победить. Погруженный в это кризисное состояние, которое не было сном, но в котором здравый рассудок, вероятно, бездействовал, Андре вдруг – видимо, под влиянием окружающей обстановки – возвратился к мысли о том, что находится в Париже. Цель его поездки, Жюли, звала его к себе, воспоминание о ней развеяло его последние сомнения. В страстном порыве он сомкнул ладони и обратился к Богу: – Я забуду того, кто причинил мне столько зла. Я не стану дознаваться, кто он и как его зовут. Я не буду мстить. Обещаю это и клянусь – ради того, чтобы отыскать мою Жюли, чтобы она меня по-прежнему любила и чтобы мы были счастливы! Он поднялся, обретя необыкновенное спокойствие. Возможно, это и покажется ребячеством, но договор был заключен. Волнение и боль, терзавшие Андре во время путешествия и по прибытии в Париж, исчезли. Молодой человек и в самом деле только что купил свое счастье. А если принять во внимание корсиканский темперамент Андре, то он заплатил немалую цену. Обернувшись, Андре увидел циферблат часов у выхода из собора. Стрелки показывали половину первого. Молодой человек удивился, как быстро пролетело время, и заторопился на улицу, чтобы наконец добраться до дома Жюли. В храме Сен-Рош без труда мог сориентироваться даже человек, попавший туда впервые. Боковая дверца возле ризницы явно не вела наружу, и Андре направился к главным дверям, выходившим на улицу Сент-Оноре. Но, едва сделав первый шаг, он в удивлении остановился: храм, который два часа назад казался совершенно пустым, был теперь забит людьми, заполнившими все его приделы. Господин Лекок прятался за колонной, стараясь не попасться Андре на глаза; теперь коммерсант с жадным любопытством устремил свой взор в глубину храма. Губы Лекока кривились в хитрой улыбке, которая словно говорила: «Ну и потеха же сейчас начнется!» Андре не подозревал, что за ним наблюдают и что здесь его ожидают события, которые немало развлекут собравшихся зевак. Толпившиеся в храме люди беседовали друг с другом; Андре проходил мимо них, не прислушиваясь к разговорам. Но вот до сознания молодого человека дошли слова: – Ни су, господин Жонас, ни су! Фраза, звучавшая как непреложная истина, слетела с уст полной, апоплексического вида женщины, которая переговаривалась со спокойным, очень бледным мужчиной. И пока Андре пытался обойти пышнотелую даму, та добавила: – И приехала без единого су, поверьте мне! Ни родственников, ни семьи! Платные уроки игры на гитаре, а?! Этим все сказано! Господин Жонас, худощавый человек, владевший лавкой подержанных вещей, одной из многих в квартале Сен-Рош, ответил: – Да, отменно расчетливая особа… К нам в лавку заходит немало таких… Покупают всякую всячину – да все норовят взять в долг. Впрочем, эта могла бы заработать любые деньги: мужчинам нравится ее недоступность. Госпожа Кутан, полная краснолицая женщина, пожала плечами. – Ведет хитрую игру! – проворчала она. – Но чего еще ожидать от смазливой девчонки?! И какая, видишь ты, Добродетельная! А имена у нее кончаются на «а» и на «и». Ни недвижимости, ни ренты, ни своего дела… Поглядите-ка на нее! Андре удалось обойти госпожу Кутан, которая желчно бросила ему вслед: – В церкви не толкаются! Много тут таких, что пристают к дамам! – добавила она. – Или шарят по чужим карманам, – поддержал соседку господин Жонас. – Как она прекрасна! – воскликнул, встав на цыпочки, напыщенный молодой человек – явно из чиновников. Серьезный, хорошо одетый мужчина высказал свое мнение, опиравшееся на здоровую мораль: – Для дела никогда не вредно взять в жены очень красивую женщину. – Шутник! – бесцеремонно откликнулся сосед. Андре еще ни разу не взглянул в сторону нефа. Поглощенный своими заботами, он пропускал мимо ушей всю эту болтовню. С трудом протискиваясь сквозь толпу, он продвинулся на один или два метра и оказался перед главным алтарем. И тут долетавшие до Андре со всех сторон обрывки фраз заставили его замереть на месте. Особенно его поразили два слова: одна цифра и одно имя. Мэйнотт почувствовал, как все его тело охватывает дрожь. Справа до него донеслось: – У этого человека четыреста тысяч франков! А слева: Разве вы не знаете господина Шварца? Известная поговорка в мрачно-шутливом тоне запрещает говорить о веревке в доме повешенного. Когда человека постоянно терзает боль, появляется масса слов, фраз, имен, дат и цифр, которые звучат для него так же, как рассуждения о веревке для родственников висельника. На свете полно Шварцев, да и сумма «четыреста тысяч франков» может упоминаться в разговоре двух финансистов раз двадцать в течение часа. Тем не менее Андре остановился, чтобы взглянуть на соседей справа и слева. Услышанное имя поразило его вдвойне, цифра воскресила тяжелые воспоминания, а имя и цифра вместе взятые, мгновенно заставив Андре забыть о Париже и обо всех событиях последних дней, вернули его в Кан и обострили его мучения. Соседа справа Андре не знал – так же, как и соседа слева. И пока молодой человек пребывал в полной растерянности, за его спиной высказалось третье лицо: – Этот эльзасец совсем потерял из-за нее голову! Если бы красавица Джованна отказала ему, он бы пустил себе пулю в лоб! В глазах у Андре потемнело. Ведь Жюли на самом деле тоже звали Джованной. Кто-то недавно сказал: «Девушка с именами, которые кончаются на «а» и на «и»… Настоящее имя Жюли, его жены, которое она снова: взяла себе по совету Андре, было Джованна Мария Рени. Но имелись ли тут основания для опасений или подозрений? Ведь это – просто цепочка случайных совпадений… Андре рассмеялся, как дитя, услышавшее совсем уж неправдоподобную сказку. Однако молодой человек все-таки оглядел неф: ему впервые захотелось увидеть жениха и невесту. Но пару, стоявшую на коленях перед алтарем, заслоняла от Андре массивная колонна. Шварц! Четыреста тысяч франков! Как раз та сумма, которая находилась в кассе господина Банселля! – Тихо, тихо! – прокатилось по храму. – Тихо! И действительно – в соборе воцарилось молчание, ибо в дверях ризницы появился служитель и ударил об пол древком своей мирной алебарды. После этого заговорил священник… Шварц! Они сказали Шварц! Человека, которому Андре доверил свои письма на острове Джерси, тоже звали Шварцем. – Они уже слали друг другу весточки, когда он ездил по делам на Джерси, – заявил последний собеседник. Андре ошалело взглянул на него. – Слышите? Слышите? – зашептались собравшиеся. – Он сказал «да»! Андре не разобрал, произнесла ли «да» женщина, но ее голос, такой тихий, что соседи молодого человека ничего не разобрали, поразил несчастного чеканщика. Голова Андре поникла; на его плечи словно лег тяжкий груз. Мэйнотт безумным взглядом окинул окружающих и в яростном порыве ринулся вперед, к узорной решетке между двумя колоннами. Оттуда можно было видеть церемонию. Грубо расталкивая на своем пути мужчин и женщин, Андре, с налитыми кровью глазами и побелевшими губами твердил задыхающимся голосом: – Это не она! Вы лжете! Вы лжете! В Париже очень боятся эпилептических припадков; тем не менее зеваки охотно останавливаются, когда можно на них поглазеть. Это вроде как бесплатные спектакли – вдобавок к тем, что устраивают в дни национальных праздников. Люди мгновенно обступили Андре, он приковал к себе множество взоров. В уголках его рта появилась пена. Страж с важным видом принялся наводить порядок. Госпожа Кутан обратилась к господину Жонасу: – В прошлом году на балу в Тиволи один взбесившийся англичанин покусал трех пожилых модисток и левретку. Но задолго до того, как страж порядка занялся толпой, Андре сумел пробиться к решетке. Обеими руками он вцепился в прутья и устремил напряженный взгляд, полный отчаяния и надежды, на балюстраду, за которой находилась коленопреклоненная пара. Ему был виден только мужчина: это и впрямь был Ж.-Б. Шварц. Из груди Андре вырвался хриплый стон. Невесту заслонял священник… Несчастный чеканщик снова повторил: – Это не она! Но в следующий миг священник, отступив на шаг, перестал заслонять новобрачную, чье задумчивое и изумительно красивое лицо под флердоранжевым венком потрясло Андре. Пальцы молодого человека разжались. Отчаянный крик вырвался из его груди, и он рухнул как подкошенный. XVI МАДЕМУАЗЕЛЬ ФАНШЕТТА Услышав этот вопль, Жюли Мэйнотт, Джованна Мария Рени, или госпожа Шварц, ибо отныне ей было суждено носить это последнее имя, подняла голову и посмотрела в ту сторону, откуда донесся шум. Ее чудесные огромные глаза были полны глубокой тоски и вместе с тем тихого смирения. Она была красива, как и прежде. Нет, еще более красива… Что касается новобрачного, Ж.-Б. Шварца – а это был именно он, наш старый знакомый, бедный эльзасец, который имел теперь четыреста тысяч франков и брал в жены самое очаровательное создание в Париже, – то выражение лица этого человека сейчас постоянно менялось: новобрачную он окидывал быстрым и ревнивым взглядом, взоры же, бросаемые им в сторону решетки, были полны беспокойства. Ж. Б. Шварц мало изменился. Угловатые черты его лица не отличались выразительностью, но оно посвежело, а сам он приобрел известную солидность. Сейчас он и его невеста видели от алтаря лишь суету у решетки. Они не замечали Андре, лежавшего без сознания на плитах пола. Новобрачная вновь склонила голову, а Ж.-Б. Шварц, решив, что речь идет о каком-то пустяке, опять принял позу, приличествующую торжественному моменту. Это была богатая свадьба. Неф не мог вместить толпу любопытных; люди теснились в боковых приделах – вечном пристанище зевак. Да и парижане, заполнившие неф, не слишком походили на родственников новобрачных. Некий Шварц, превратившийся в человека с четырьмястами тысячами франков, имел, разумеется, и родственников, и друзей, но эти родственники и друзья были особого рода. Что же касается красавицы-невесты, то у нее не было вообще никого. Имя Джованна Рени свидетельствовало о иностранном происхождении молодой женщины. Так что, даже являясь Шварцем, наш угловатый эльзасец тем не менее решился на плачевно-романтический брак. А ведь он вполне мог жениться на девушке из почтенной семьи и получить в приданое по меньшей мере полмиллиона! В пересудах на этот счет недостатка не было. Церемония мирно шла своим чередом; тем временем страж порядка и несколько услужливых помощников из толпы подняли Андре и перенесли его в ризницу. В пяти-шести шагах за ними следовал господин Лекок, который, как видно, что-то тщательно обдумывал. Потеха, которую он предсказал, жестокая с первой до последней минуты, кончилась. Чего он хотел теперь, какие мысли вертелись в этой преступной голове? Большинство любопытных остановились у двери в ризницу. Господин Лекок переступил ее порог, спокойно отстранив людей, которые преграждали ему путь. Он направился прямо к группе, окружившей больного. Это были самые скромные служители ризницы, переговаривавшиеся друг с другом: – Не иначе – напился! – Это эпилепсия! – Иногда приходится… – начал кто-то. Но страж порядка, чувствительный и добродушный, как все воины крупного телосложения, перебил его, произнеся: – Не говоря о том, что часто видишь, как в дни свадеб умирают от разрыва сердца… Господин Лекок тронул его сзади за плечо и сказал: – Позвольте! Его пропустили, ибо это был приказ. Господин Лекок сжал запястье Андре и стал считать пульс. – Это доктор, – зашептали вокруг. – Нет, друзья мои, – возразил господин Лекок с благожелательной улыбкой, – я не доктор. Он вынул кошелек и дал стражу серебряную монету. – Этот несчастный молодой человек – мой родственник, – объяснил он. – Ужасная болезнь! Пожалуйста, коляску, скорее! Один из служителей ризницы кинулся исполнять просьбу. Господин Лекок добавил: – Я живу совсем рядом, на улице Гайон. Возьмите один из свадебных экипажей; он вернется до конца церемонии. Пока служитель отсутствовал, господин Лекок рассказал несколько очень жалостных историй о своем родственнике, измученном «ужасной болезнью», и словно невзначай назвал свое имя и обронил, что является компаньоном фирмы «Бертье и К°», знаменитой, кроме всего прочего, производством сейфов. Когда к ступеням собора подъехала коляска, каждый старался помочь нести Андре, все еще не пришедшего в сознание. А через несколько минут молодой человек уже лежал, одетый, на кровати господина Лекока, в довольно просторной комнате, обставленной с известной роскошью, которую, впрочем, мешал заметить царивший кругом беспорядок. У этого господина Лекока были художественные наклонности; в его жилище сразу бросались в глаза коллекция трубок и обилие пыли. Если у него и было специальное лекарство от обмороков, которое могло помочь его мнимому родственнику, то господин Лекок, по правде говоря, не спешил воспользоваться этой микстурой. Его заботило другое. Он торопился проверить содержимое карманов Андре; результат оказался жалким! Лекок обнаружил лишь паспорт на имя Антуана да старый кошелек с тремя золотыми. Это было все, чем владел Андре. Возможно, господин Лекок ничего другого и не искал. Увидев паспорт, он слегка улыбнулся и погрузился в глубокие раздумья. Добрых десять минут господин Лекок размышлял, затем взял шляпу и вышел, рассуждая вслух: – Надо узнать, что скажет Главный! Лежавший на кровати Андре походил на мертвеца. Интересно, был ли Главный доктором? Хорошо, если да: обморок Андре продолжался уже добрых полчаса. Господин Лекок, стремительно шагая (как полагалось крепкому молодчику, каковым он и был), но не переходя на бег, вскоре приблизился к весьма симпатичному богатому особняку на улице Терезы. Господин Лекок как свой человек вошел в этот дом, отличавшийся идеальной чистотой и порядком; коммерсант не обратил внимания на табличку у входа, на которой было написано: «Обращайтесь к привратнику»; оставив справа унылое крыльцо, ведущее к закрытой двери, Лекок проник в дом через своего рода служебный вход и оказался у нужных ступенек лестницы. Лакей в почти монашеском одеянии почтительно встретил гостя и сообщил: – Полковник завтракает, господин Тулонец. Главный был полковником. Господин Лекок поднялся по лесенке. В этом доме царила полная тишина. Воздух здесь был затхлым, как в давно закрытом помещении. От площадки второго этажа отходил небольшой коридор, который вел к главной лестнице, широкой и окаймленной изящной решеткой из кованого железа. Господин Лекок зашагал по этому коридору. Лакей, напоминавший бывшего монаха, не сопровождал гостя. На просторной, роскошной и безлюдной главной лестнице ощущение одиночества охватывало человека с такой силой, что ему начинало казаться, будто дом необитаем уже лет сто… Господин Лекок пересек площадку, пол которой был выложен черными и белыми ромбовидными плитами, и приблизился к единственной двери, прикрытой портьерой; но в этот миг странный снаряд, выпущенный с верхнего этажа, описав замысловатую параболу, сбил с гостя шляпу, и она отлетела на несколько шагов. И в ту же минуту тишину дома нарушил громкий смех. – Фаншетта! Дикая шалунья! – проворчал разгневанный господин Лекок. – Вы мне заплатите за это! Снова раздался смех, и между коваными прутьями решетки показалось бледное и на удивление умненькое детское личико, обрамленное пышными черными волосами. – Я тебя не боюсь, Приятель, – прозвучал чистый голосок, колючий, как кончик ножа. – Дед тебя выгонит, если ты будешь меня обижать! Снарядом оказался мерзкий мокрый букет увядших цветов, видимо, только что вынутый из вазы с водой. Господин Лекок опасался девчонки и поэтому послал ей воздушный поцелуй. Шалунье было лет десять-двенадцать. Она была небольшого роста, но фигурка ее уже вполне сформировалась, и платье из серой ткани с ярко-красной отделкой облегало восхитительную талию миниатюрной женщины. Выглядела она по меньшей мере лет на шестнадцать. Черты ее лица были тонкими, изящными и дерзкими. Больше всего поражала та отвага, которой светились ее непомерно большие и блестящие глаза, оттенявшие матовую бледность необыкновенного лица. На воздушный поцелуй гостя Фаншетта ответила одним из тех выразительных жестов, которыми сплошь и рядом пользуются парижские мальчишки. – У меня припасен другой букет, – сказала девочка, – так что остерегайся, когда будешь уходить! Она исчезла. Господин Лекок толкнул дверь. Высокий худой старик, чье желтоватое лицо, несомненно, восхитило бы любителя античных камей из слоновой кости, сидел один в просторной столовой. Он со вкусом обмакивал кусочки пеклеванного хлеба[5] в яйцо, сваренное всмятку. Ничего другого на столе, застланном клеенкой, не было. – Добрый день, полковник! – сказал господин Лекок, входя в комнату. – Моя двоюродная племянница уже замужем? – спросил старик вместо приветствия. – Бракосочетание прошло как положено, – ответил господин Лекок. Полковник одобрительно кивнул. – Симпатичный молодой человек! – произнес он. – И теперь этот юноша у нас в руках! А, Приятель? – Есть новости, – вздохнул господин Лекок. – Вы закончили свой завтрак? Старик отодвинул тарелку. – Я ушел в отставку, – пробурчал он. – Если речь о делах, обращайся в контору. Господин Лекок положил перед ним на стол паспорт на имя Антуана Жана. – Ба! – воскликнул глубоко удивленный полковник. После недолгой паузы он осведомился: – Это что же, скотина Ламбэр воскрес? – Не он, хозяин, а Андре Мэйнотт – оружейник из Сартэна, владелец боевой рукавицы, муж вашей двоюродной племянницы, которая только что сочеталась вторым браком с Ж.-Б. Шварцем. Старик в волнении поднялся. Он слегка горбился, и на его чахлом теле болтался совершенно черный костюм. – Это человек, который сидел в тюрьме Кана, – спокойно продолжал Лекок, – в той самой камере, где вы когда-то подпилили решетку; он слышал последние признания Ламбэра; теперь он знает все. – Все? – повторил, улыбнувшись, полковник и вновь опустился на стул. Орлиный нос Главного казался крючковатым; лоб был узкий, но высокий, череп заметно выступал в затылочной части; рот, по-стариковски впалый из-за отсутствия зубов, напоминал рубец давней раны. Крупные дряблые веки почти полностью скрывали глаза, в которых все еще светился живой ум. Старых солдат узнать легко; но в этом человеке не было ничего, что подтверждало бы его звание полковника. – Пятьдесят два года я находился в деле, – произнес он с достоинством, – не считая итальянских событий. Правосудие интересовалось мною всего один раз, да и то отступило. Решетку мог подпилить и кто-то другой, это ведь дело нехитрое, так, детские забавы. – Ламбэр знал порядок, – совсем тихо проговорил Лекок. Тяжелые веки старика опустились. – Про этот порядок уже не раз рассказывали судьям. Они не хотят верить и думают, что кодекс есть только у них. Впрочем, если этот молодой человек станет нам мешать, мы вспомним, что однажды он уже был покойником. Это было произнесено совершенно бесстрастным тоном. – Кого встревожит его исчезновение? – пожал плечами полковник. – Андре Мэйнотт погиб в Диве; все газеты об этом писали. – Есть разница между убийством и несчастным случаем, неправда ли, хозяин? Если никто не станет совать нос в это дело, то считайте, что Мэйнотт заснул – и не проснулся. Я беру это на себя. Полковник твердыми шагами заходил по комнате. – Шварц скроен из того материала, из которого делают крупных финансистов, – высказал он вслух свою мысль. – Теперь он мне родственник. Ничто не должно ему мешать. Потом, неожиданно остановившись перед господином Лекоком, старик добавил: – Где этот Мэйнотт? – У меня. – Спит, ты сказал? – Нет. В обмороке. – По какому случаю? В двух словах господин Лекок описал сцену, свидетелем которой он стал в храме Сен-Рош. Полковник взял со стула просторную шелковую душегрейку и протянул ее Лекоку, который помог хозяину вдеть руки в рукава. – Ничто не должно мешать Шварцу, – повторил старик. – Я больше рассчитываю на тех, кого могу запугать, чем на тех, кто работает со мной на равных. Шварц будет крупным финансистом. Я придержу его для моего последнего дела. Господин Лекок, который стоял позади полковника, исполняя роль лакея, молча улыбнулся. – Значит, вы намечаете еще одно дело? – проговорил он. – А разве я это сказал? – раздраженно возразил Главный. – Пошли-ка посмотрим на твоего мертвеца. Когда они направились к двери, на лестничной площадке раздался негромкий шум. Господин Лекок открыл дверь; за ней никого не было. В вестибюле лакей, похожий на бывшего монаха, подал своему хозяину широкополую шляпу и надел ему на ноги деревянные башмаки. Во дворе кучер поливал водой колеса модного экипажа. Слышно было, как в конюшне били копытами лошади. Полковник и Лекок пошли пешком. Старика должны были защитить от возможной непогоды не только деревянные башмаки, но и зонтик. Спустя минуту после того, как хозяин и гость покинули дом, вихрь промчался через двор и вылетел на улицу. – Мадемуазель Фаншетта! – закричал привратник. – Я несу деду козырек, – ответила девочка. И шумный, смеющийся вихрь бросился вдогонку за полковником, потрясая зеленым шелковым козырьком. Но у поворота на улицу Терезы вихрь остановился. Вне всякого сомнения, козырек, зонтик и деревянные башмаки достойно украшают старость. Полковника в квартале знали. Все лавочники почтительно здоровались с ним. Мадемуазель Фаншетта с серьезным видом следовала на некотором расстоянии за стариком и его спутником. На вопросительные взгляды лавочников она скромно отвечала: – Я несу дедов козырек. Комната господина Лекока была в том же состоянии, что и раньше; ключ он брал с собой. Прошел уже час с тех пор, как Андре Мэйнотт лишился сознания; но распростертый на кровати, он по-прежнему не шевелился. Склонившись над его рукой, полковник нащупал пульс. – Крепкий парень! – проговорил он. – В тот день, когда я подсунул ему боевую рукавицу вместе с кучей старых железяк, он мне сказал: «Две недели потружусь и заработаю тысячу экю…» Вот дьявол! Он отпустил руку Андре, которая безжизненно упала, и с улыбкой взрослого ребенка заявил: – Да, дело с боевой рукавицей – это высокий класс!.. Долго готовили… и ловко сработали, а, Приятель? – Никто бы не смог сделать лучше, – убежденно ответил господин Лекок. Затем, взяв, в свою очередь, руку Андре, он спросил: – Вы думаете, выкарабкается? – Самостоятельно – нет, – холодно произнес полковник. Наступило молчание. – Сколько вы даете ему времени? – задал еще один вопрос господин Лекок. Старик вынул массивные часы – видимо, эпохи Людовика XVI. – Сегодня утром ко мне приходил доктор, – медленно проговорил он. – Этот милейший человек заявил, что для излечения моей астмы требуется время! Покинув меня, он отправился в почтовой карете в Фонтенбло, куда его вызвал господин Вилель… Ты пойдешь к доктору домой, скажешь, что твоему другу необходим врач; пошумишь, устроишь скандал, дождешься его возвращения и примчишься с ним сюда во весь опор… – Будет слишком поздно! – проговорил несколько сникший Лекок. – Увы, да! – тихо ответил полковник. – Пошли! – Но, – заметил господин Лекок, – нужно будет засвидетельствовать смерть. – Но ведь ты приведешь доктора… – А официальная регистрация? Полковник довольно улыбнулся. – И что вы будете делать, когда я вас покину, мои бедные дети? – воскликнул он. – Ведь вы удивительно несообразительны! Вот ты уже и захныкал, а, Тулонец? Успокойся; я снова все беру на себя: это будет мое последнее дело. Так решилась судьба Андре Мэйнотта. Старик и молодой человек отошли от кровати; полковник опирался на руку господина Лекока – но тот вдруг остановился и, побледнев, спросил: – Вы слышите? В передней с грохотом упал стул. Тяжелые веки полковника задрожали; в его холодных глазах сверкнули искры, и он громко, с явным состраданием произнес: – За доктором, мой мальчик, и немедля! Даст Бог, не опоздаем! Эти слова были предназначены для тех, кто подслушивал в коридоре. Господин Лекок, очень взволнованный, спросил: – Кто там? Ответом ему стал взрыв смеха, того самого громкого, заливистого смеха, который мы уже слышали на лестнице дома на улице Терезы. Лекок нахмурил брови; полковник попятился с раскрытым ртом. В один голос они воскликнули: – Фаншетта! Дверь в переднюю внезапно распахнулась. На пороге появилась девочка с глазами, полными отваги и любопытства, с высоко поднятой непокорной головой. Ее взгляд пробежал по комнате. – Мой добрый дедушка, – произнесла она насмешливо-нежно и вместе с тем дерзко-шаловливо, – я принесла тебе козырек. Потом, вбежав в комнату, она добавила: – Я никогда не видела мертвецов… Скажи, ты мне покажешь покойника, мой добрый дедушка? XVII ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ПОЛКОВНИКА Полковник относился к людям, которые ничему не удивляются. Он всегда презирал опасность, кроме разве что тех случаев, когда оказывался на поле брани. В компании головорезов, готовых на все, он по праву считался самым решительным… Хладнокровие полковника сделало его главой таинственного клана, который жил преступлениями – и жил отлично. Но на земле нет совершенства! Этот завоеватель, чье темное могущество одержало верх над полицией той эпохи, этот суверен, этот святейший папа каторжников, этот полубог, сильный как сам по себе, так и мощью жуткой ассоциации, воплощением которой он являлся, становился слабым, как дитя, перед мадемуазель Фаншеттой, десятилетней девочкой – своей двоюродной племянницей. Повернувшись к господину Лекоку, бледному от страха и гнева, старик победоносно улыбнулся: – Как тебе это нравится, Приятель? – проговорил он. – Вот чертенок! Как она сюда пробралась? Найдешь ли другую такую в Париже? Господин Лекок пожал плечами. Фаншетта, стоя перед ними, переводила взгляд с одного на другого. Ее большие дерзкие глаза блестели на бледном лице. – Отойди! – бросила она Лекоку. – Я хочу видеть мертвеца. – Это невозможно… – начал было Лекок. Маленькая Фаншетта решительно выпрямилась, что вызвало гордую улыбку деда. – Вот чертенок! – повторил он. – Отойди! – снова приказала мадемуазель Фаншетта. Поскольку Лекок не торопился подчиниться, глаза девочки загорелись и она заявила дрожащим от гнева голосом: – Дед хозяин, а ты – ты только слуга, Приятель. Отойди! Одновременно она отстранила его королевским жестом и двинулась вперед. Лекок хотел ее задержать, но полковник, всплеснув руками, с наивным восхищением, свойственным всем дедушкам и бабушкам, воскликнул: – И до чего же она нас доведет, а? Чертенок! Девочка уже разглядывала Мэйнотта. Можно было подумать, что его вид пробудил в ней какие-то воспоминания. Она смотрела на него долго и молча, не выказывая внешне ничего, кроме удивления. – Странно! – проговорила она наконец. – Он очень похож на спящего… – Ну, ты довольна, Фаншетта? – спросил полковник. – Нет! Объясни мне: значит, он не спит? – Да нет, дорогая, спит, – отозвался старик, невольно понизив голос, – только он никогда больше не проснется. – Ой! – воскликнула девочка. – Больше никогда… Ее головка поникла. Лоб и глаза свидетельствовали об усиленной, не по возрасту, работе мысли, но говорила она совсем по-детски. Оба очевидца этой сцены невольно следили по лицу девочки за сменой ее переживаний. – Он совсем молодой, – продолжала она. – И, по-моему, очень красивый. В этих словах не было, никакой чувственности. Фаншетта просто высказала свое мнение. И тем не менее выражение ее лица изменилось, а взгляд смягчился и стал мечтательным. – Да-да, – кивнул полковник, – бедный парень был довольно красив. Девочка повернулась было к деду, но тут же вновь перевела взгляд на беднягу Андре. – Уйдем! – настаивал господин Лекок. – Нет! – возразила Фаншетта. – Я думала, что смерть не такая. – Как она рассуждает! В ее-то годы! – восхитился дед. В его черных волосах мелькают белые, – с удивлением; заметила девочка. – Разве у молодых людей бывают белые волосы? – Когда они много страдали… – начал полковник. – Вот как! – вскричала Фаншетта, гневно вскинув голову. – Значит, ему причинили много страданий? – Довольно, мое сокровище, довольно! – сказал старик повелительным тоном. – Ты уже достаточно насмотрелась. – Нет! – решительно возразила Фаншетта. – Я слышала, что от страданий умирают. – Тебе-то что до этого? – попытался ввернуть господин Лекок, неважное настроение которого стало совсем скверным. Огромные глаза девочки остановились на нем. – Это ты заставил его страдать! – произнесла она очень тихо, со странным оттенком угрозы в голосе. Слова Фаншетты привели полковника в замешательство. Она перевела свой взгляд на мертвеца. – Напрасно я сюда пришла, – проговорила девочка дрожащим голосом. – Никогда в жизни мне не было так грустно. – Вот почему тебе нужно отсюда уйти, – хором воскликнули мужчины. – Нет… я не хочу уходить… что-то меня удерживает… Ты совершенно уверен, дедушка, что его нельзя разбудить? – Что за фантазия! – вскричал господин Лекок. Старик же ответил более спокойно: – Совершенно уверен, моя девочка. Фаншетта вздохнула. – А если попробовать? – подумала она вслух. – Если сделать ему больно… очень больно?! – Камню нельзя причинить боль, – усмехнулся господин Лекок. Девочка укоризненно взглянула на него и спросила, обращаясь к старику: – Это правда, что мертвецы – такие же, как камни? – Абсолютно такие же, – кивнул полковник. Фаншетта схватила руку Андре. От прикосновения к его коже дрожь пробежала по ее телу. Однако она прошептала: – Нет, не такие! Камни твердые и холодные. Лицо девочки слегка просветлело. Она два или три раза приподняла руку Андре; в третий раз рука Андре выскользнула и упала как мертвая. Фаншетта отступила на несколько шагов. Лекок прошептал на ухо полковнику: – А если он придет в себя?.. Полковник был человеком жестким и безжалостным. В преступном мире, где он царствовал, сантименты не в чести. Каждый жулик стоит ровно столько, сколько заслуживает, и однажды мы точно узнаем, какова настоящая цена Чернеца, этого бандита, скрывающегося под маской добропорядочного буржуа. Но на что бы полковник ни был способен, ему оказалось не под силу увести маленькую Фаншетту против ее воли. Нужно было пойти на хитрость. Как только девочка отошла от кровати, господин Лекок и полковник схватили ее со словами: – Вот что значит прикасаться к мертвецам! И они повлекли Фаншетту к двери. Она не сопротивлялась и ничего не говорила. Длинные ресницы прятали ее неуверенный взгляд. Никто бы никогда не догадался, какие мысли бродили в этой головке, которая могла раньше думать лишь о шалостях и капризах. В двух шагах от порога девочка вдруг остановилась и резко отбросила руку господина Лекока. – Ты! – вскричала малышка. – Ненавижу тебя! И, бросившись на шею полковнику, проговорила: – Добрый мой дедушка, милый мой дедушка, я уверена: если его ударить, он проснется! – Дорогая глупышка! – пролепетал старик, растроганный нежностью Фаншетты. Но она не воспользовалась его волнением, а ведь за один ее поцелуй старик способен был совершить самый сумасбродный поступок. Девочка выпрямилась, став выше ростом и вновь обретя свой упрямо-непослушный вид. – Я хочу попробовать! – заявила она. Лекок и полковник одновременно попытались ее задержать, но Фаншетта выскользнула из их рук, как угорь. Когда они настигли ее у кровати, она уже успела осуществить свой замысел. Изо всех сил она дважды ударила мертвеца по лицу своей маленькой ручкой. Полковник успел как раз вовремя, чтобы подхватить Фаншетту, которая в изнеможении рухнула ему на руки. На бледной щеке Андре Мэйнотта в двух местах проступили синеватые отпечатки пяти маленьких пальчиков Фаншетты. Большие глаза девочки с сожалением смотрели на эти пятна. Ее лицо внезапно вспыхнуло – и сразу же страшно побледнело. Из глаз ручьем хлынули слезы, рыдания сдавили грудь… – Я ранила его! Ты видишь? – закричала девочка прерывающимся голосом. – Ты видишь, что я его ранила? Мужчины изумленно молчали. Господин Лекок сжал руку полковника. Едва заметная конвульсия только что пробежала по губам Андре Мэйнотта. Нужно было срочно ускорить развязку. Господин Лекок подхватил Фаншетту на руки и бросился к двери. Она инстинктивно попыталась сопротивляться, но волнение лишило ее сил. Господин Лекок бормотал: – Ты напрасно меня ненавидишь, девочка, я не хочу, чтобы ты заболела! Полковник одобрительно кивнул своей почтенной седой головой. Все было правдоподобно, и ничто в этом отеческом насилии не могло вызвать у Фаншетты подозрений. Господин Лекок уже подошел к порогу, когда почувствовал, что она вздрогнула. Он решил было, что все обойдется, как вдруг обе руки ребенка с недетской силой вцепились в косяк двери. – Он зашевелился! – закричала она, обезумев от радости. – Он не мертв! Я знала, что обязательно верну его к жизни! Господин Лекок обернулся. Он довольно грубо опустил Фаншетту на пол и скрестил руки на груди, глядя на полковника. – Ну вот! Хорошенькое дельце! – процедил он. Андре метался по кровати. Два отпечатка детской ладони резко контрастировали теперь с бледностью его лица, которое, впрочем, слегка порозовело. Полковник одарил господина Ле-кока пронзительным взглядом, который стоил многих слов; затем, придав своей послушной физиономии выражение глубокого удовлетворения, он воскликнул: – Доктора, Приятель, и немедленно! Одна нога здесь, другая там! На детей порой снисходит благодать! Наша маленькая Фаншетта сотворила чудо! Девочка смеялась и плакала. – Он заговорит? – спросила она. Затем в радостном волнении она повторила: – Я была уверена! Я была уверена! И вдруг Фаншетта стремительно убежала. – Догони ее! – приказал полковник. – Да пошла она к черту! – выругался Лекок. – Чем все это кончится? Андре Мэйнотт попытался открыть глаза. Полковник приложил палец к губам и приблизился к кровати. Если бы веки Андре могли в этот миг приподняться, он увидел бы у своего изголовья святого апостола. Но старик напрасно ломал комедию: Андре еще не пришел в себя. – Приятель, – произнес полковник холодным повелительным тоном, оценив состояние больного, – вам здесь больше незачем оставаться. Дело принимает серьезный оборот, и значит, я займусь всем сам. Да, это будет мое последнее дело! Я понял, я пришел к выводу, Приятель, что этот малый, возможно, нам когда-нибудь пригодится. Если у господина Шварца заведется слишком много миллионов и он станет слишком самостоятельным… – Он заговорил? – громко спросила Фаншетта, влетев в комнату; от быстрого бега девочка вся раскраснелась. Полковник стоял у кровати в позе человека, оказывающего помощь больному. Фаншетта бросилась ему на шею. – Я послала за доктором, – сказала она, – за любым доктором. И распорядилась насчет коляски. – Ну что за ребенок! – пропел старик. – А зачем коляска? – удивился господин Лекок. – Затем, что он мой! – решительно ответила Фаншетта. – Затем, что без меня он по-прежнему был бы мертвым, затем, что я его очень люблю… Люблю так же сильно, как ненавижу тебя, слышишь, Приятель?.. Он переедет к нам, правда, дедушка? И я сделаю все, чтобы ему не было скучно. Полковник таял от восхищения: – Во всем мире не найдется второго такого ребенка! – Что ж, все к лучшему! – ухмыльнулся господин Лекок. Андре Мэйнотта перевезли в дом на улице Терезы, его лечил знаменитый доктор, который врачевал господина Вилеля. Фаншетта три дня ухаживала за больным, как взрослая. На эти три дня она забыла об играх и ни разу не обругала Приятеля-Тулонца. Лишь к вечеру третьих суток Андре Мэйнотт обрел дар речи. Он избежал угрожавшей ему смертельной опасности. У его изголовья сидел старик с суровым лицом библейского патриарха. О колени старика опиралась удивительно красивая девочка с копной густых волос, бледным лицом и огромными глазами. Андре хотел что-то сказать, но его губы прикрыла маленькая детская ручка и нежный голосок произнес: – Пока нет! Пришел доктор. Он направлялся в Тюильри и был при всех своих наградах. Андре решил, что ему снится сон. Он действительно лежал в полубреду, ибо осознание случившегося несчастья так и не вернулось к нему. Прошлое было скрыто за плотной завесой. На следующее утро Андре заплакал. Пришлось увести Фаншетту, потому что она рыдала громче, чем он. Старик с лицом патриарха сказал просто и ласково: – Сын мой, здесь вы у добрых людей. Прошло трое суток с тех пор, как вы потеряли сознание, находясь в церкви Сен-Рош. Мы сделали для вас все, что могли. Понадобилось две недели, чтобы Андре смог встать с постели. К хозяину дома он питал чувство признательности, смешанное с глубоким уважением, а веселость Фаншетты вызывала у него порой улыбку. С Фаншеттой они вели вдвоем долгие разговоры; казалось, их связывают какие-то общие воспоминания, но Фаншетта, несмотря на свой возраст, умела хранить тайны. На протяжении всего пребывания в доме на улице Терезы Андре ни разу не видел господина Лекока. Между тем последний регулярно появлялся утром и вечером, однако полковник всегда принимал его в своем кабинете. Нередко мысли Андре путались, поскольку его голова и сердце перенесли тяжелый удар. В эти часы смутная жажда отмщения порождала в его мозгу странные фантазии. Можно было, например, подумать, будто он пытается понять, что кроется за спокойствием, которым дышало благородное лицо почтенного старца. Наконец пришло время прощаться, и Андре сказал хозяину дома: – Я благодарю вас за щедрое и бескорыстное гостеприимство. Вы даже не поинтересовались, кто я такой. – Я это знал, – произнес полковник с доброй улыбкой. Андре опустил глаза. Полковник тихо продолжал: – Ваша жена не виновата; ее обманули. – Кто вам это сказал? – Она сама. Я ее друг и родственник. Я сам содействовал свадьбе… Вас считали погибшим… и в этих обстоятельствах такой выход был, вероятно, лучшим для нее… – Все правильно, – вздохнул Андре. – Так лучше… Полковник протянул ему руку. – Послушайте меня, старого человек, господин Мэйнотт, – промолвил он. – Судьба была к вам жестока; над вами висит дамоклов меч судебного приговора, но жизнь и честь госпожи Шварц – в ваших руках. – Госпожи Шварц! – со стоном повторил Андре. – Теперь она носит это имя. И только оно спасает ее от наказания, которое грозит вам обоим. – А тот человек… Господин Шварц знает об этом?.. – очень тихо спросил Андре, с трудом выговаривая слова. – Нет, – ответил старик. – И никогда не должен узнать. – А она… ей что-нибудь известно… обо мне?.. Полковник с симпатией и состраданием произнес: – Нет… К чему? Что случилось, то случилось. – Она счастлива?.. – пролепетал Андре, пытаясь сдержать слезы. Да, – торжественно ответил старик. Вечером Андре стал собирать свои вещи. Фаншетта обвила руками его шею и воскликнула: – Добрый мой друг, хочешь, я уйду с тобой? Так как он, улыбнувшись, ласково отстранил ее от себя, она добавила: – Я буду богатой, очень богатой – и красивой, когда вырасту. Не женись ни на ком, я выйду за тебя замуж, и мы отомстим твоим врагам. Ее большие глаза, мокрые от слез, блестели. В девять часов вечера тайком от нее Андре выскользнул из дома. Старик дал молодому человеку взаймы немного денег. И теперь господин Лекок и полковник, спрятавшись за шторами кабинета, смотрели, как Андре проходил через двор. – Нельзя было расстраивать ребенка, – сказал полковник, – Но будь спокоен, я беру все на себя: это будет мое последнее дело. Андре купил кинжал и пришел на площадь Лувуа, где жили новобрачные. Он разузнал все заранее. В то время площадь Лувуа была загромождена строительными материалами, предназначенными для возведения покаянного памятника герцогу Веррийскому. Андре ощутил слабость в ногах; он присел на камень напротив дома Ж.-Б. Шварца. И стал ждать. Он не думал об убийстве – и все же купил кинжал, движимый инстинктом мести. Выходя из дома на улице Терезы, Андре намеревался сесть в вечерний дилижанс, отправлявшийся в Кан, но теперь забыл об этом. Он ждал. Глухая сильная боль терзала его сердце. Он знал, где жили Шварцы. Его глаза были прикованы к темным окнам третьего этажа. Шварцы! Это было общее имя мужчины и женщины. Прежде говорили: Мэйнотты… Погода стояла теплая. Около полуночи мужчина и женщина обогнули угол улицы Ришелье. Оба были молоды и элегантны, хотя элегантность обычно не ходит по Парижу ночью пешком. У Андре защемило сердце. Он сжал рукоятку кинжала. Говорила молодая женщина. Андре выпустил кинжал, чтобы сцепить дрожащие руки. Он попытался встать, но тело его окаменело. Пара прошла, не заметив Андре. Жюли разговаривала так же, как и в тот вечер, когда они шли по площади Акаций – тоже вдвоем, она и Андре, счастливые супруги. Это был тот же нежный, проникновенный голос, который произносил, возможно, те же слова. Ворота распахнулись, затем захлопнулись. Андре был один. Он упал на колени, рыча от гнева и боли: «Жюли! Жюли!» И словно в ответ на этот яростный крик, который с хрипом вырвался из его груди, окна третьего этажа осветились. На занавесках возникла изящная тень; женщина отбросила шляпку, и длинные вьющиеся волосы рассыпались по прекрасным плечам. Потом появилась другая тень, и на нескромном муслине занавесок обрисовались силуэты мужа и жены, слившихся в долгом поцелуе. Андре готов был разорвать себе грудь. Когда свет погас, он застонал, и в этом стоне снова прозвучало имя Жюли. Какое-то мгновение он надеялся, что умрет. Он упал на землю лицом вниз и долго лежал неподвижно. Утром сердобольный прохожий тронул его ногой, чтобы разбудить, и удалился, повторяя сакраментальную фразу: – Пропойца! Вот до чего доводит пьянство! Андре покинул площадь Лувуа, не оборачиваясь, чтобы не видеть проклятого дома. Поначалу молодой человек шел нетвердой походкой, но потом зашагал уверенно, и никто бы уже не принял его за пьянчужку. Он направился на улицу Сент-Оноре; двери храма Сен-Рош распахнулись, и Андре первым переступил его порог. В соборе, как и месяц тому назад, он пошел к приделу пресвятой Богородицы; по пути он узнал то место, откуда смотрел тогда на новобрачных; он вздрогнул, но не стал задерживаться. Андре остановился только там, где разговаривал с Богом. Обратив взгляд на распятие, молодой человек сказал про себя: – Люди обвинили меня в преступлении, которого я не совершал; Бог сразил меня в тот момент, когда я присягал заповеди всепрощения. Все остатки своих сердечных чувств я отдаю ребенку, лишившемуся матери, но все сохранившиеся силы будут отданы мести! Я больше ни на что не надеюсь, я больше ничему не верю. Благодаря мне мой сын станет богатым; благодаря мне виновник моего несчастья будет наказан. Я клянусь в этом. Вечером Андре уехал из Парижа. Через день в сумерках некий человек проник в дом кормилицы Мадлен и похитил ребенка Жюли Мэйнотт. К концу той же недели Андре пересек пролив и прибыл в Лондон – город по преимуществу свободный. Молодой человек был уверен, что сможет там спокойно жить. Андре верил, что в Лондоне честный труженик способен сколотить себе состояние. Чтобы осуществить то, что отныне стало целью его жизни, нужны были деньги. И Андре начал работать. Не покладая рук. К концу месяца он добился выгодного места в лучшей мастерской Стренда. Все шло хорошо. Однажды, когда он переходил улицу, ему показалось, будто в проезжавшем экипаже за закрытой шторкой мелькнули почтенные седины полковника и большие искрящиеся глаза мадемуазель Фаншетты. На следующий день, когда Андре возвращался к себе, на пороге дома его остановил констебль и объявил: – Именем короля. Вы арестованы! Прошлой ночью было совершено ограбление оружейника на Стренде. В ответ на протесты Андре, клявшегося в своей невиновности, старший констебль, ухмыляясь, произнес: – Я дал бы гинею, чтобы узнать про все ваши подвиги… и особенно про вашу историю там, в Кане. Нам указал на вас богатый французский джентльмен, который пользуется влиянием в Форин-офисе[6], и нам известно, что вы – талантливый мошенник! В ходе обыска, произведенного в скромном жилище Андре, на кровати, между соломенным тюфяком и матрасом, были обнаружены четыре пары дорогих пистолетов. Полковник завершил свое последнее дело. – Отчаянный вы парень! – сказал главный констебль. – До того как вас вздернут, у вас еще будет время рассказать нам историю боевой рукавицы! Часть Вторая ТРЕХЛАПЫЙ I «ОРЕЛ ИЗ МО № 2» Над собором Сен-Дени встревоженно сгрудились облака, устраивая из пурпура, золота и изумруда роскошное ложе, готовое принять заходящее светило. Париж удалялся, кутаясь в молочную дымку, из которой все еще выступал Пантеон, словно зависший в серебристом сиянии. Шел год 1842-й, последнее воскресенье сентября выдалось жарким, берега канала Урк, омытые недавним ливнем, поблескивали в косых лучах закатного солнца. Северо-западный ветер уносил с собой к высотам Роменвиля ядовитые городские испарения, и станция Бонди теперь вдыхала только половину парижского зловония. Слово «станция» не означает, что в тех местах тогда уже была проложена железная дорога; так называлась недавно учрежденная в Бонди судоходная контора – в ознаменование горделивой радости и преувеличенных надежд аборигенов по обоим берегам канала, возомнившего себя большой рекой и готового тягаться чуть ли не с самим Дунаем. С колокольни Бонди послышались гулкие удары – время подошло к шести. «Орел из Мо № 2» скользил вперед вдоль зеленой прибрежной полосы, шагах в пятидесяти от упряжки резвых, привычных к тяге лошадей. Берег был усеян зрителями, пришедшими полюбоваться на «Орла», но палуба его, увы, была немноголюдна. Капитан Патю, облаченный в щеголеватый, но не лишенный воинственности мундир, трижды пересчитал в уме свою команду и, погрузившись в меланхолическое раздумье, пропустил мимо ушей вопрос, с которым обратился к нему один из пассажиров: скоро ли «Орел» прибудет в замок Буарено. Следует заметить, что наружность любознательного пассажира респектабельностью не отличалась. Это был мужчина лет тридцати, среднего роста и несуразного сложения: сверху хилый торс, а снизу непомерно развитые икры, обтянутые черными штанами и хвастливо выставляемые напоказ. Физиономия его, длинная и с мелкими чертами, была бы слишком заурядной, если бы не выражение простодушной спеси, делавшее ее приметной. Невзирая на жару, он был одет в плюшевый, сизого колера редингот, тесноватый и потертый на локтях; черный галстук свился в трубочку под жестким, на китовом усе, воротником невидимой рубашки, столь высоким, что дрябловатые щеки свисали по бокам, словно тряпочные. Мягкие матерчатые туфли на ногах и венчающая голову потрепанная серая шляпа довершали необычный наряд пассажира, желавшего попасть в замок. Держался он на удивление прямо, ходил, стараясь не сгибать коленей, и сладко улыбался дамам. Да, на палубе «Орла» имелись дамы, и среди них – очень красивая молоденькая девушка болезненного вида. Синие глаза се под круто загнутыми черными ресницами, прелестно контрастирующими с белокурыми, нежного оттенка волосами, были печальны. Она только что укрылась под вуалью от назойливых любезностей двух непрошеных кавалеров и, уткнувшись в книгу, о чем-то удрученно размышляла. Туалет красавицы был очень скромен, а точнее, беден, но весь вид ее, от изящных ножек, обутых в грубоватые ботинки, до тонких кистей рук, затянутых в убогие перчатки, дышал таким достоинством и благородством, что даже отъявленный парижский ловелас навряд ли отважился бы подойти к ней с вольными речами. При упоминании замка Буарено она вздрогнула и подняла на говоривших повлажневший взор. – Перевозчик, – окликнул задумчивого капитана пассажир в потрепанной серой шляпе, – вы вынуждаете меня к повторному вопросу: скоро ли это судно прибудет в замок господина Шварца? Бравый навигатор, обветренный в штормах, случающихся и на малых водах, был до глубины души оскорблен подобным обращением. – С кем вы разговариваете, любезный? – надменно осадил он пассажира. Потрепанная шляпа ответила с учтивостью светского повесы, затевающего ссору: – Можете не сомневаться – с вами. Не в моих привычках унижать других, но ваша грубость переходит все границы. Обращаясь ко мне, не сочтите за труд называть меня «господин Симилор» – тем более что мною выложены денежки за билет в вашей конторе. Капитан, пожав плечами, повернулся к назойливому пассажиру спиной, раскурил сигару и принялся расхаживать по палубе. Пассажир последовал за ним, но прежде чем пойти на новый приступ, снял шляпу, обнажив землистого цвета лоб с белесыми, слипшимися в сплошную массу волосами, похожими на приклеившийся к черепу носовой платок. – Перевозчик, – с преувеличенной любезностью отчеканил господин Симилор, – да будет вам известно, что я, собаку съев на танцевальном деле, о чем свидетельствуют многие дипломы, на досуге упражнялся в фехтовании и намерен проучить вас за непочтительное отношение к артисту. Рослый капитан, крепыш по виду, чуть было не вспылил, но тут же взял себя в руки, вспомнив про вверенный ему высокий пост. – Любезный, – сказал он, понижая голос, – у пассажиров ушки на макушке, давайте обойдемся без скандала. Вы обозвали капитана перевозчиком, и я готов сразиться с вами за честь мундира. В ближайшие два дня вы сможете меня найти либо в Мо – днем я в конторе, а вечером в отеле, либо в Париже, в кабачке «Срезанный колос»: дойдете до бульвара Тампль, знаете, где Ла Галиот? Так вот, чуть позади. – Прекрасно, перевозчик! – важно промолвил Симилор, водружая шляпу на голову. – Ждите трепки. – Посмотрим кто кого – завтра будет день! Простенькие слова, вырвавшиеся у капитана в ответ на последнюю угрозу, как громом поразили задиристого пассажира в серой шляпе. Он побледнел, потом залился краской, бесцветные его ресницы часто заморгали, точно в глаза ударил яркий луч света, изумление, смешанное с ужасом, смело с его лица апломб. Он хотел что-то сказать, но не смог произнести ни слова, хотел рвануться вслед за удалявшимся капитаном, но ноги накрепко приросли к палубе – господин Симилор был насмерть перепуган. Многие из вас наверняка слыхали о словах, подобных талисману, затаивших под неказистой оболочкой не всем понятный смысл. Обычно ими пользуются как паролем – конспираторам без таких слов не обойтись. Однако ни элегантный капитан, ни Симилор в своих затейливых обносках на заговорщиков отнюдь не походили. Но разве можно доверяться внешности в таких вопросах? Стиль сам по себе ничего не значит. Так или иначе, обычные слова – завтра будет день – набатом отдавались в ушах взбудораженного Симилора. «И этот тоже греет руки! – мысль, шевельнувшаяся под серой шляпой, была тревожна и вызвала новый приступ страха. – Подумать только, в Париже шагу нельзя ступить, чтоб не споткнуться о кого-нибудь, кто греет руки!» Симилор не без оснований называл себя артистом. Было время, когда он думал разбогатеть, давая платные уроки танцев, но ни принцы, ни бароны среди его учеников не попадались, а на вояках да гризетках мудрено сколотить состояние. Он отказался от артистической карьеры и решил попробовать себя в «делах». Бывшего артиста обуревали честолюбивые мечты, он широко размахивался в своих грезах: неограниченный кредит в ресторане «Гран-Вэнкер», вожделенный балкон в театрике на Монпарнасе, приличное жилье за триста франков. Столь неумеренные притязания могут завести куда угодно. Хотя рождение его было окутано покровом тайны, Симилор не исключал наличия в себе благородной крови, унаследованной по материнской линии, ибо фамилия его явно смахивала на кличку; впрочем, он лелеял гордую надежду сделать ее знаменитой. Каким образом? История об этом умалчивает. Аристократ в душе, он тем не менее умел взглянуть на жизнь глазами реалиста и не гнушался трудового заработка, даже самого ничтожного: опускал подножки у карет за чаевые, торговал буклетами и контрамарками, по ночам расклеивал афиши, а то и за небольшую мзду простаивал в очередях у театральных касс или подлавливал приезжих англичан, чтобы свести их в злачное местечко. Но мало-помалу он стал съезжать с трудовой и, как говорится, честной колеи, принявшись тайком о чем-то хлопотать, причем весьма усердна. О чем? Секрет. Секрет даже для Эшалота, испытанного друга, предоставлявшего ему и кров и ложе (заметим, что у Симилора имелась когда-то собственная кровать, но, склонный к мотовству, он продал ее ради неотложных светских нужд). Эшалот принадлежал к натурам более солидным, он по крайней мере раз и навсегда определил свой социальный статус, повесив на дверях своей мансарды табличку с надписью «Генеральное агентство»; к тому же он искренне склонялся к добродетели, хотя и не всегда мог удержаться на ее стезе. Поведение друга не могло не вызывать у преданного Эшалота подозрений. Симилор стал надолго покидать его и Саладена (с Саладеном читатель познакомится чуть позже), на расспросы отвечал невнятно и уклончиво, намекая, что от его молчания зависят чрезвычайной важности дела. «Я поклялся держать язык за зубами!» – с пафосом воскликнул он в ответ на приставания любопытствующего Эшалота и, усугубляя тайну, обронил загадочную фразу: «Будь что будет, но я погрею руки!» …Группа пассажиров, мелких торговцев из Мо и обитателей окрестных деревень, обступила тепло укутанного человечка, которому удалось завладеть разговором, вертевшимся вокруг недавно упомянутого замка Буарено. Несмотря на малый рост человечка, лицо его, украшенное очками в золотой оправе, производило внушительное впечатление. Он разглагольствовал с завидной легкостью, обретаемой в судебных говорильнях, прохаживался перед публикой и принимал эффектные позы. – Я приглашен на ужин в замок, мы с бароном давние приятели, по воскресеньям я запросто бываю у него. Могу заверить вас, что этот господин не всегда купался в золоте. – Говорят, первые свои сто тысяч франков он выудил из мутной водицы, – вмешался в разговор пассажир из Вожура, явно завидующий и миллионам барона, и красноречию укутанного человечка. – Говорят и то и се, – отпарировал последний. – Что именно «то и се»? – вызывающе поинтересовался вожурец. – То и се, сударь, я выразился ясно. Есть вещи, недоступные для понимания простаков, утверждаю это как человек, принадлежащий к высшим сферам. Господин Шварц прибыл в Париж, имея тысячу франков, слышите, всего лишь тысячу монет по двадцать су! За пятнадцать месяцев он превратил их в четыреста тысяч франков. – Абсурд! – с искренним недоверием возразил вожурец. – Позвольте… если вам знакомо искусство оперировать цифрами… – Мне знакомы только честные операции! – Позвольте… с кем вы говорите и о ком вы говорите? Мое имя Котантэн де ла Лурдевиль, я бывший депутат, а господин барон один из наших известных финансистов с капиталом в двадцать миллионов франков, даже больше… – И надежным? – вожурец не скрывал ехидства. – Как башни Нотр-Дам. Если угодно, могу растолковать, хотите? – Еще бы! Барыш в четыреста процентов за пятнадцать месяцев! Растолкуйте. – Это проще простого. Соблаговолите только выслушать меня, не прерывая. Господин Котантэн де ла Лурдевиль сделал шажок вперед, скрипнув башмаками. Слушатели навострили уши. – Чтобы сколотить капитал, – важно начал он, – требуется то и се и кое-что еще. В 1825 году – помнится, тогда я выступал защитником по делу Мэйнотта, и я бы это дело выиграл как пить дать, если бы обвиняемый не оказался сущим остолопом, – так вот, в 1825 году господин Шварц приехал в Париж с тысячью франков в кармане и снял комнату на улице Ферронери. Он задумал одно дельце. Все вы знаете, конечно, Главный Рынок. Так вот, в те времена на нем вовсю орудовал некий старичок, тоже Шварц, ростовщик, ссужавший деньги под проценты на короткий срок. Давал пять франков в понедельник, а в воскресенье забирал шесть, вот и вся его операция, нехитрая, но хлопотная и требующая немалой осмотрительности. Наш Шварц, молодой, прошел у старикана выучку, а когда как следует в этом искусстве поднаторел, открыл ссудную кассу у себя в мансарде. Его тысяча франков, пущенная в дело до последнего су, с первого же недельного оборота принесла ему тысячу двести круглых франков, во второе воскресенье эта сумма превратилась в тысячу четыреста сорок франков, в третье он имел уже тысячу семьсот двадцать восемь франков, в четвертое – две тысячи семьдесят три франка и пятьдесят сантимов… Теперь понятно? Вот так-то, с цифрами не спорят. Скостим семьдесят три франка пятьдесят сантимов на текущие расходы, на то да се. Принцип остается в силе: капитал удваивается в двадцать восемь дней. Хорошо, округлим для полной ясности до месяца. Что получается? Четыре миллиона франков на второй месяц, так? Восемь миллионов франков на третий, шестнадцать на четвертый, тридцать два на пятый, шестьдесят четыре на шестой, сто двадцать восемь на седьмой, двести пятьдесят шесть на восьмой, пятьсот двенадцать миллионов франков на девятый… Внимание, мы приближаемся к концу… Вожурец собрался было возразить. – Позвольте! – не допустил этого оратор. – На пятнадцатый месяц, следуя этой геометрической прогрессии, мы получаем тридцать два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч франков, впечатляющая цифра! Предвижу ваши возражения, более того, я принимаю их. Просчеты и ошибки, то да се… Чем больше цифра, тем труднее с клиентурой, навряд ли сыщется на Рынке пара миллионов мелких торгашей, жаждущих занять пять франков на неделю. В этом вся загвоздка. Потому-то через пятнадцать месяцев господин Шварц, а он тогда как раз женился, имел всего лишь четыреста тысяч франков, что составляет восемьдесят вторую часть теоретически возможной суммы. К тому же поговаривают, будто для округления цифры он нашел одну никем не терянную вещицу… В то время как публика ахала и веселилась, Симилор жадно вбирал в себя столь соблазнительные и внятные расчеты. Давно уже изыскивал он способ окунуться в золото. Только он решился вежливенько подойти к господину Котантэну де ла Лурдевилю и поподробнее разузнать, где берется первая тысяча, как внимание присутствующих было привлечено необычайным зрелищем: вдоль берега канала двигалось нечто странное – похожая на большую корзину плетенка, поставленная на два колеса от тачки и ретиво влекомая вперед облезлым псом. Возницей и единственным ездоком сего диковинного экипажа был человек с рыжей бородой, по виду напоминавший коммивояжера. Пассажиры мигом сгрудились у борта, обмениваясь комментариями: – Трехлацый! Глядите, Трехлапый едет в своей карете! – Трехлапый, калека из подворья Пла-д'Етэн! – Скачет на воскресную пирушку к своему банкиру! – Скачет на воскресное свидание к своей милашке! – К барону Шварцу… – К графине Корона… – Салют, Трехлапый! – Эй, нищий, ты куда? Развязные юнцы из Вер-Галана и севранские зеленщики взапуски изощрялись в остроумии. Только Симилор, к чести его сказать, приподнял старенькую шляпу и учтивейшим образом произнес: – Приветствую вас, господин Матье! Человек в плетенке не обращал внимания на крики, но когда судно стало обгонять его, обежал палубу насмешливыми глазами. При виде белокурой девушки, погруженной в печальное раздумье, лицо его смягчилось и по губам скользнула легкая улыбка. II ЩУКА ВЕСОМ В ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ФУНТОВ Чуть подальше, в одном лье от того места, где мы познакомились с Трехлапым, нищим калекой, которому остряки прочили в банкиры барона и в любовницы графиню, двое мужчин с удочками ловили рыбу неподалеку от пресловутого замка Буарено, имевшего свою пристань. Господин. Шварц, владелец замка и один из главных пайщиков судоходных контор, мог себе позволить такую роскошь. Рыбаки, случайно оказавшиеся соседями, пребывали в состоянии соперничества. Они могли бы послужить сюжетом для жанровой картины под названием «Богач и бедняк». Бедняк, а им был не кто иной, как вышеупомянутый Эшалот, походил на санитара в отставке – во всяком случае, по одежде: на нем красовался холщовый, доходивший почти до шеи фартук, какой носят обычно ученики фармацевтов, превратившийся от старости в сплошные лохмотья. Всклокоченные черные волосы выбивались из-под полуразвалившейся соломенной шляпы, разодранные поля которой свисали до самых плеч. Сквозь прорехи передника виднелась широкая грудь, а ветхая блуза чуть не лопалась под напором могучих плеч. Зато панталоны его, заношенные до лоска, свободно болтались на тощих кривоватых ногах, несравнимых с победительными икрами Симилора и казавшихся слишком слабыми, чтобы подпирать мощный торс, увенчанный внушительной головой отчего-то посветлевшего негра. Несмотря на равную дозу уродства, Эшалот и Симилор являли собой полную противоположность; тем не менее вид одного моментально вызывал в воображении другого. Печать отверженности делала их похожими: оба они принадлежали К многолюдному племени парижских изгоев. Можно ли считать рыбаком человека, закидывающего в воду веревочку, привязанную к палке и снабженную согнутой шпилькой? Можно, если рыба не возражает. Несмотря на убогость своей снасти, оборванец вытаскивал карася за карасем, и в тряпице, завязанной по углам узелками, набралось уже рыбы на целую миску, тогда как сосед его, второй удильщик, не выловил еще ни одной уклейки. Зато выглядел он как заправский рыбак, так сказать, классический, если судить по экипировке. На нем были непромокаемые ботинки, накрытые длинными кожаными гетрами, сделанными в Нью-Йорке и предназначенными для китобоев, промышляющих в полярных морях; в гетры были заправлены замшевые штаны, на которые ниспадал морской плащ английского образца, но из канадской материи. Картуз, напоминавший половинку арбуза, был родом из Нового Орлеана. Два ремня шириной в жандармскую портупею поддерживали с одной стороны несессер, а с другой – сумку с провизией; имелась еще специальная коробочка с богатейшим набором всякой наживки местного и экзотического происхождения, подвешенная к поясу из лакированной кожи. Перед ним выстроились наизготовку удилища самого разного фасона, рядом расположились сачки для ручного отлова – на случай, если клюнет неподъемной тяжести рыба, и стояло серебряное ведерко, наполненное бычьей кровью. Но не только экипировкой блистал богатый рыбак – внешность его и сама по себе была достаточно импозантна. Под вздувшимся головным убором угадывался тщательно взбитый из кудрявых светлых волос тупей[7]; круглые аппетитные щеки в красноватых прожилках, неизбежных к пятидесяти годам, подернулись сытеньким глянцем; конечности, правда, были несколько хиловаты, но зато брюшко, пикантно топырившее плащ, выглядело весьма солидно. Трудно измерить глубину взаимного презрения соперников. Удачливый оборванец время от времени покидал свое место и, перейдя дорогу, забредал в поле люцерны, проверяя сохранность спрятанного там предмета. Лицо его во время этой проверки принимало разнеженное выражение. Возвращаясь обратно, он не упускал случая окинуть соседа насмешливым взглядом, на что тот отвечал взором, полным зависти и вражды. Совершалось это в полном молчании. – Сударь, – внезапно заговорил оборванец, выдергивая из воды трепещущую уклейку в нескольких дюймах от роскошного, но недвижимого поплавка соседа, – и не скучно вам эдак попусту тратить воскресное время? – Уж лучше тратить время попусту, чем выуживать такую мелочь, – величественно ответил богач. – Меня букашки не интересуют. – А что вас интересует? – Я обещал мадам Шампион щуку в четырнадцать фунтов… Извольте замолчать, звук человеческого голоса разгоняет рыбу. Вам, сударь, и молчание не поможет. Господин Шампион выпрямился с видом человека, желающего прекратить компрометирующий его разговор, однако нового призыва к тишине не потребовалось. Оборванец перестал обращать на соседа внимание и во что-то вслушивался. Смутный гул, хорошо знакомый прибрежным жителям, шел со стороны Парижа. На худом лице оборванца появилось торжественное выражение. – Подходит! – прошептал он. – Шутки в сторону! Сейчас мы все узнаем. Он мигом свернул свою удочку и спрятал ее в карман. Господин Шампион откашлялся и, покраснев, спросил: – Приятель, сколько вы хотите за своих букашек? Оборванец, явно ожидавший подобного предложения, ответил с лукавой улыбкой: – Так-то лучше, сударь: не поймается щука в четырнадцать фунтов, так хоть карасиков снесете домой. – Вот еще! – вскричал оскорбленный господин Шампион. – Неужто я похож на человека, таскающего домой этакую мелюзгу? – Домой не домой, дело хозяйское. – Я покупаю ваших инфузорий исключительно для наживки. Сколько? Тряпица развязалась, соблазнительно раскинувшиеся караси поблескивали в последних лучах солнца, и господин Шампион помимо воли обласкивал их любовным взглядом. Отчетливо слышался уже лошадиный топот. – Су за штуку. – Франк за все. Оборванец хотел было поторговаться, но завидев приближавшихся лошадей, рванул монету, зажатую между большим и указательным пальцем покупателя. Не говоря ни слова, он вытянул тряпицу из-под карасей, рассыпавшихся по траве, и что есть мочи припустил к люцерновому полю, тянувшемуся между бечевой дорогой[8] и лесом. Было самое время, ибо нетрудно догадаться, что человек в аптечном фартуке ни в коем случае не желал быть замеченным с палубы «Орла». Разогнавшиеся лошади мчали прямо на разряженного рыбака, подбиравшего свою добычу, и несколько карасей еще оставалось на дороге, когда он вынужден был присесть на корточки, пропуская над головой бечеву. – Добрый вечер, господин Шампион! – прокричал капитан. – Вы опять на своем посту? Много наловили? – Улов приличный, но скоро ваш «Орел» всех рыбок распугает, – ответил Шампион, с триумфальной скромностью показывая карасей, сторгованных у покладистого конкурента. «Орел» стрелой пролетел мимо него. Тем временем конкурент притаился за изгородью, отделявшей поле от бечевой дороги. В тот момент, когда судно проходило мимо, он просунул лохматую голову в дыру и напряг глаза. По телу его пробежала нервная дрожь, красноватое лицо побледнело, и под ресницами блеснула слеза. – Ах, Симилор, Симилор! – жалобно причитал он. – Значит, ты и вправду предал нашу дружбу! Сильные эмоции быстротечны, к тому же коварство Симилора делало его еще неотразимее. Утерев дрожащей рукой глаза, Эшалот рванулся с места, но тут же спохватился. – Саладен! – простонал он. – Я чуть не позабыл Саладена! Он вернулся назад и подобрал с земли загадочный пакет продолговатой формы, отдаленно смахивающий на картонного младенца, которого злодей крадет в прологе мелодрамы, с тем чтобы по ходу пьесы он возрос до первого любовника или любовницы – в зависимости от пола. К пакету был приделан ремень. Эшалот набросил ремень на шею и закинул пакет за спину со словами: – Веди себя спокойно, Саладен! После чего пустился бежать вдоль изгороди со скоростью, удивительной для человека столь громоздкой комплекции, явно вознамерившись идти вровень с лошадиным галопом. Вскоре лицо его побагровело, на висках выступила испарина, но он все равно мчался вперед, поглядывая поверх кустарника на «Орла» и то и дело поминая Симилора. Он пробежал уже шагов четыреста или пятьсот, когда чрезмерно сотрясаемый пакет испустил могучий рев. Картонный или нет, младенец обладал голосом выразительным и очень громким. Замедлив бег, Эшалот попробовал его усовестить: – Закрой свой клювик, маленький негодник, не то придется мне его заткнуть. Уймись, малыш, мы бежим за папой! Саладен залился еще пуще. Эшалот чуть дух не испустил от этой гонки. К счастью, на повороте лошади перешли на шаг и, обогнув дубняк, выехали на большую равнину, расположенную между Севраном и Немецкой дорогой. В центре восхитительного пейзажа возвышался замок Буарено. «Орел из Мо № 2» подходил к пристани барона Шварца. Эшалот переместил пакет на грудь и, не говоря худого слова, выполнил свое обещание и «заткнул младенцу клювик». Три пассажира сошли на пристань: первым господин Котантэн де ла Лурдевиль, направившийся к замку, к которому вела подъездная дорога, посыпанная песком; затем молоденькая девушка под черной вуалью, медленно двинувшаяся в том же направлении; последним выпорхнул легонький как перышко Симилор. Отвесив церемонный поклон капитану, он стал на цыпочках прохаживаться по бечевой дороге. Спрятавшийся в кустах Эшалот созерцал его, приходя в себя после гонки; одной рукой ему приходилось удерживать в повиновении Саладена, другой он отирал со лба обильный пот. – И кабы он гнался вон за той молоденькой красоткой, так нет же, в голове сплошные козни, ох, не доведут они его до добра… Тихо, малыш, мы уже на месте, сейчас выведем папочку на чистую воду! По бечевой дороге, где грациозно подпрыгивал Симилор, оберегая тряпочные туфли от луж, оставленных недавним ливнем, шел размеренным шагом осанистый мужчина, меланхолически поглядывая на воду и покручивая в пальцах табакерку черненого серебра. Жест был настолько характерен, что невольно вызывал в воображении шелковый фрак с кружевным жабо и драными подмышками. Однако вместо шелкового фрака на нем был серый сюртук прямого кроя со светлыми пуговицами: барон Шварц, финансист до мозга костей, обрядил своих лакеев в ливреи, напоминающие униформу служащих Французского банка. Ибо осанистый мужчина был всего лишь камердинером… впрочем, с ним почтительно раскланивались и местные тузы. Симилор, скинув шляпу, пошел прямо на него и учтиво, чуть ли Не заискивающе, спросил: – Надеюсь, я имею честь обращаться к господину Домергу? Господин Домерг пропустил вопрос мимо ушей точно так же, как грубоватый капитан Патю. Однако же есть люди, по сану своему вызывающие благоговение у Симилора и ему подобных. Лакеи из большого дома входят в их число. Симилор, вспыльчивый Симилор, решил не обижаться и смиренно ждал. Могущественный Домерг отвлекся, наблюдая за прибытием уже знакомого нам странного экипажа: по бечевой дороге подъезжала к ним плетенка Трехлапого, запряженная облезлым псом. С добродушной улыбкой камердинер отступил к изгороди, чтобы не мешать проезду; калека дружески ему кивнул. – Здравствуйте, господин Матье, – вежливо ответил на кивок слуга, – дела идут, как я вижу? Землистое лицо калеки, обрамленное бородой, походило на маску с застывшей улыбкой. – Денежки приходится отрабатывать, – промолвил он, – я как раз по этому поводу к господину барону. Он дома? – Для вас всегда, господин Матье. Трехлапый разогнал свою псину и помчался к замку во весь опор. Глядя ему вслед, камердинер вполголоса недоумевал: – И что за блажь напала на хозяина знаться с этим убогим? – Вот именно, – с жаром подхватил Симилор, не упустивший случая завязать беседу, – я полагаю, это неспроста!.. Господин Домерг смерил его с головы до ног величественным взглядом. Симилор, любезно поморгав, продолжил: – Да, неспроста, тайны подстерегают нас со всех сторон… – Вам что-то надо от меня, дружище? – поинтересовался камердинер. Симилор, понизив голос и приставив к углу рта ладонь, дабы ни словечка не утерялось из его ответа, объявил: – Вы можете не опасаться, я пользуюсь полным доверием молодого человека. – Какого молодого человека? – Господина Мишеля, черт возьми! Лицо слуги посветлело. С той стороны изгороди Эшалот, подслушивающий с приоткрытым от напряжения ртом, вытянул шею, чтобы ничего не упустить. Приняв театральную позу, Симилор изрек: – Мне просто-напросто поручено спросить у вас, будет ли завтра день? Вот! III ЗАМОК Замок Буарено, некогда бывший резиденцией аббата Гонди и дававший приют герцогине де Фалари, среди своих славных обитателей числил также знаменитого танцовщика Треница, принимавшего здесь своих не менее знаменитых друзей. В то время, о каком ведется речь у нас, замок вместе с великолепными службами уже несколько лет являлся собственностью барона Шварца, задумавшего реконструировать усадьбу. Человек последовательный и категоричный, барон не признавал полумер: он решил снести старый замок и выстроить вместо него особняк в современном стиле. Вид на усадьбу со стороны канала, открывавшийся внезапно, как только оставались позади последние деревья дубовой рощи, был особенно живописен: посреди возделанных полей маленький замок выглядел веселым и даже шаловливым со своими шестью башенками в мавританском стиле и тремя разностильными корпусами, из которых один, казалось, грустил о средневековье, а два других, словно погруженные в пикантную беседу, вспоминали о временах Фронды. Позади замка веером расстилался огромный парк, отделенный от леса широким рвом. В Вожур тянулась из замка дорога, обсаженная по бокам исполинскими тополями; в тех местах и по сю пору живо воспоминание об их необычайных размерах – иные ветви равнялись величиной с полувековыми деревьями; столь же гигантские зеленые стены, но уже из дубов огораживали холмистую дорогу, ведущую в Монфермей. Барон Шварц приобрел поместье не глядя и за бесценок, собираясь при оказии пустить его в дело, но прибыв сюда, чтобы прикинуть, как выгоднее распорядиться покупкой, был очарован пейзажем и, не желая кромсать этот райский уголок, отказался от своей идеи продать землю в розницу по пятнадцать су за квадратный метр, хотя немало имелось парижан, желавших приобрести участок в живописном месте со старинным антуражем. Барон решил потратить пару миллионов, а то и больше, чтобы перестроить поместье по своему вкусу. Для него это была пустяковая сумма: банкирский дом Шварца процветал и, хотя финансовая родословная его велась не от крестоносцев, имел солидную репутацию европейского масштаба; поговаривали, что он ссужает деньги королям. Но старый замок решительно не нравился барону: сын своего времени, всем обязанный настоящему, он недолюбливал старину. Ему грезился дворец в стиле Биржи, с которой связывало его столько волнующих воспоминаний. Во время прибытия в Буарено наших героев каменщики как раз возводили стены нового особняка, расположившегося метрах в двухстах от старого замка. На территории поместья вовсю кипела работа: прокладывались новые аллеи, утрамбовывалось дно только что вырытого озера, засыпался старый ров, который предполагалось перенести подальше – усадьба расширялась за счет недавно прикупленных ста гектаров дубового леса. Солнце уже спускалось вдалеке за деревья, окружавшие колокольню Олюэ-ле-Бонди, когда молодая девушка в черной вуали подходила к позолоченной входной решетке. Она стара лась идти скорым шагом, но это ей удавалось с трудом; наверное, она только что поднялась после тяжелой болезни и делала свой первый выход. Весь вид ее подтверждал эту мысль: она выглядела очень усталой, то и дело останавливалась, чтобы перевести дыхание, а платье казалось слишком свободным для ее грациозной, но явно похудевшей фигурки. Экипаж Трехлапого нагнал ее, когда она была на полпути к замку, а господин Котантэн де ла Лурдевиль давно уже был внутри. Калека, по всей видимости, знал девушку, но не промолвил ни слова, обгоняя ее. Она проводила его рассеянным, утомленным взором. Подойдя к решетке, девушка перевела дыхание и нерешительно протянула руку к звонку. – Как вы похудели, мадемуазель Эдме! – раздался позади нее голос. – Честное слово, вас невозможно узнать! Девушка живо обернулась и покраснела, словно ее застали за неблаговидным поступком. – Здравствуйте, Домерг! Я приболела немножко. Как тут у вас в замке дела? Она улыбалась, но было что-то вымученное в ее обычно нежной и открытой улыбке. Мы уже знакомы с Домергом, осанистым камердинером, похожим на чиновника Французского банка. Видимо, свидание его с нашим другом Симилором было недолгим, если он успел нагнать прекрасную путешественницу, не ускоряя своего размеренного, неспешного шага. Впрочем, о результатах деловых свиданий нельзя судить по их продолжительности. Домерг скинул фуражку, что делал чрезвычайно редко, и ласково улыбнулся. Судя по улыбке, он был добрейшим человеком на свете – к суровости его обязывало положение. Но по отношению к даме можно проявить любезность, ведь известно, что галантность только украшает людей высокого ранга. – Немножко приболела! – повторил он. – Да вы бледненькая как полотно, честное слово!.. В замке у нас все, слава Богу, в порядке, если не считать стукотни да грязи со стройки… Впрочем, есть у нас одна новость, но вы уже наверняка ее слыхали. – Нет, я ничего не знаю, Домерг. – Поговаривают о свадьбе… – С господином Морисом? – оживилась девушка. Домерг с сожалением покачал головой. – Что вы! Кузен Морис впал в немилость, и господин Мишель тоже. Я-то, правду сказать, надеялся, что нашим зятем станет господин Мишель. Человек он, конечно, небогатый, но уж больно к нему благоволил хозяин. Видать, не судьба… Вы уже позвонили, мадемуазель Эдме? Девушка, то бледневшая, то красневшая во время его речи, ответила дрожащим голосом: – Нет еще, я не успела. И добавила, словно размышляя вслух: – Бланш и свадьба, как странно! – Шестнадцать лет, – промолвил Домерг, нажимая медную кнопку, скрепленную с колокольчиком, отозвавшимся чистым и ясным звуком, – красавица, каких поискать! Да наследство два миллиона чистоганом, такие невесты в девках не засиживаются. Господину Лекоку, правда, за сорок, но держится он молодцом… – Господину Лекоку? – пораженно переспросила девушка. – Да-да… он, говорят, человек влиятельный… Сперва-то я было подумал, что у нас в зятьях будет банкир… или герцог по крайней мере… Поговаривали про герцога, вы ведь знаете? – Я ничего не знаю, – повторила девушка. Поговаривали. Но господин Лекок хлопотал, и вот оно как повернулось дело! Впрочем, до мэрии еще далеко… Но входите, входите же, мадемуазель Эдме, вы знаете, что вам здесь всегда рады. Мадемуазель Бланш наверняка соскучилась…. Мадам Сикар! Мадам Сикар была горничной средних лет достойного, даже чопорного вида, не менее осанистой, чем Домерг, и еще менее улыбчивой. Она как раз поднималась по лестнице. – О, мадемуазель Лебер, – воскликнула она и благосклонно сообщила: – А мы только что привели в порядок вашу комнату. – Я сюда ненадолго, мне надо повидаться с дамами, – пролепетала девушка с заметным смущением, явно не соответствовавшим радушию приема. – Не можете ли вы доложить обо мне мадемуазель Бланш? – Пройдите пока что в салон. Я скажу, чтобы поставили прибор для вас… Да, вспомнила! Госпожа баронесса велела… да, точно!., велела, чтобы ее предупредили, как только вы приедете… Сейчас я ее позову. Они пересекли прихожую. Горничная поднялась по лестнице, а Домерг проводил гостью в салон. Она стала еще бледнее и, казалось, была близка к обмороку. Опустившись на стул, Эдме приложила к губам носовой платок. – Навряд ли вас отпустят отсюда в такую пору и в таком состоянии, – сочувственно промолвил почтенный слуга, забирая ее руки в свои и пытаясь их согреть, – в замке вас любят и уважают, госпожа баронесса сколько раз говорила, что вы не просто учительница музыки, а друг дома. – Принесите, пожалуйста, стакан воды, – попросила Эдме. – Мне что-то не по себе. Домерг опрометью кинулся исполнять просьбу. Сердце его разрывалось от жалости. – Что-то не по себе! – горестно повторил он. – Видать, хлебнула горюшка бедная девочка, честное слово! У одних через край переливается, а другим хлеба купить не на что. Очаровательная Эдме Лебер была бедна. Напрасно старалась скрыть это скромная, но чистенькая одежда – бледность и подавленный вид девушки говорили о постоянной нужде, и Домерг подумал, что ей стало дурно от голода. Добрый человек ошибался. Хлеб пока имелся в доме Эдме, хотя многого давно уже не хватало. Не голод, а лихорадочное возбуждение отнимало у нее последние силы. Как только Эдме осталась одна, слезы, которые до сих пор удавалось сдерживать огромным усилием воли, брызнули у нее из глаз. Она откинула вуаль. Юное, но уже тронутое страданием лицо восемнадцатилетней девушки отличалось удивительной чистотой линий: большие глаза, высокий лоб, увенчанный белокурыми волосами, тонкий, изящного рисунка нос, красиво очерченный рот, серьезный, но затаивший возможность ласковой улыбки – это было очаровательно, но это было не главное. Облик ее был отмечен каким-то особым чарующим благородством – душа нежная и возвышенная проявляла себя в каждом жесте и в каждом взгляде, все ее существо казалось пронизанным светом. Эдме Лебер была прекрасна в истинном смысле этого слова. Роскошный салон, где она находилась, был обставлен мебелью в романском стиле. Затуманенный слезами взор обошел комнату и задержался на фортепиано. На нем стоял портрет черноволосой девчушки с радостными, смеющимися глазами. – Бедная моя Бланш… – горько улыбнувшись, прошептала девушка. – Свадьба с господином Лекоком! Неужели такое возможно? По бокам камина из этрусского мрамора с фиолетовым оттенком, украшенного мозаикой и уставленного множеством безделушек, висели еще два портрета в богатейших рамах, затмевающих искусство художника, хотя, судя по подписи внизу, они принадлежали кисти известного мастера эпохи Реставрации. На одном был изображен мужчина лет двадцати пяти – маленький, узкоплечий и худой, с умным и очень энергичным лицом; на другом – молодая женщина удивительной красоты: как и Эдме, она пленяла не столько совершенной правильностью черт, сколько своеобразием всего своего облика, оставляющего впечатление неповторимости. Едва лишь взор Эдме упал на этот портрет, глаза ее загорелись и кровь прилила к щекам. Превозмогая усталость, она расслабленным шагом пересекла салон и остановилась перед камином, надолго впившись взглядом в полотно. Девушку, казалось, интересовал не весь портрет, а какая-то его часть: сосредоточенные глаза ее были устремлены в одну точку, причем расположенную не на лице, а где-то рядом. Изображенная почти в полный рост, баронесса Шварц была облачена в роскошный наряд. Голову ее покрывал тюрбан, чуть сдвинутый набок, закрывающий одно ухо и оставляющий открытым другое, выглядывающее из-под волны густых волос, – маленькое, изящное и украшенное бриллиантовой подвеской в виде бутона. Именно это ухо и рассматривала Эдме… да нет, пожалуй, даже не ухо, ибо оно было видно прекрасно, а Эдме, невзирая на крайнюю свою слабость, взобралась на стул и в течение нескольких минут что-то тщательнейшим образом изучала. Возбуждение ее возрастало, девушку била дрожь. Заслышав шаги, она проворно соскочила со стула, прошептав побледневшими губами: – Значит, это была она! Вошел Домерг с подносом в руках. – Я заставил вас ждать, дорогая мадемуазель! – Ничего страшного, – ответила Эдме сухим, надтреснутым голосом, выдававшим ее лихорадочное волнение. Как вы себя чувствуете? – спросил слуга, наблюдая, как она пьет воду поспешными, большими глотками. – Благодарю вас, мне уже лучше. – Ничего себе лучше! Руки ходуном ходят. – Мне уже лучше, – нетерпеливо повторила Эдме. – Я хочу видеть госпожу баронессу немедленно… Передайте, чтобы мне не готовили комнату, и прибор для меня тоже ставить не надо. Домерг глядел на нее удивленно, с выражением сочувствия и печали в глазах. Когда он вышел, девушка села у окошка и стала ждать. Окна салона выходили в сад, и, хотя жалюзи были спущены, взгляд Эдме, пробравшись сквозь щелочку между планками, обежал гостей, собравшихся в замок на воскресный прием. Они расположились небольшими группами на прелестной лужайке, которую уже покинуло солнце. Бланш среди них не было, баронессы, ее матери, тоже. Две дамы пожилого возраста с напускным оживлением играли в волан; несколько мужчин окружило Котантэна де ла Лурдевиля, державшего в руках вечернюю газету. Они прогуливались вдоль замка и беседовали. – Я не вижу в этом ничего недостойного, – уверял один из беседующих, – господин барон частенько вспоминает, что в начале своей карьеры он был банкиром для бедных. – Хорошенькая профессия! – На бедных тоже можно заработать недурно! – Можно быть ловкачом и филантропом одновременно, – заявил Котантэн де ла Лурдевиль. – И то и се! – Что касается бедных, странные с ними бывают истории! Я слышал про одного нищего, который каждый год покупал процентных бумаг более чем на миллион франков. – А в Лионе один попрошайка дал за своей дочерью приданое, какое нашим бедняжкам и не снилось. – А эта история со слепцом? В тюфяке у него было припрятано пятьдесят миллионов экю! – Нет, этот Трехлапый все-таки прелюбопытная бестия! – Но где же прячется господин барон? – послышался вопрос из-за клумбы. Окно второго этажа отворилось, и господин барон ответил: – Скоро я к вам присоединюсь, мне надо закончить одно дельце. – Дельце с Трехлапым! – вполголоса съехидничал мужской голос. Дальше Эдме не слушала, ее одолела сонливость: глаза стали слипаться, удрученная горем головка склонилась на руки. «Господа, пошли полюбуемся на карету нашего нищего богача!» – долетело до нее сквозь дремоту, затем шутки и смех, удаляясь, заглохли. Прибытие странного визитера в замок Буарено стало для гостей барона сенсацией и вызвало множество всяческих предположений. Разумеется, если Трехлапый человек с деньгами, то он, вне всякого сомнения, заслуживает любезного обхождения, но и в этом случае с ним вполне мог бы управиться простой клерк. По какому праву прискакал этот уродец – да еще для пущего неприличия на собаке – в роскошное поместье в день отдыха, отведенный миллионером для приема друзей? Барон во время воскресных приемов категорически запрещал говорить о делах, и вот на тебе! Забросив гостей, уединился в своем кабинете для какого-то «дельца» с Трехлапым, которого слуги к тому же почтительно величают господином Матье. Неужели политика? Да, тут было над чем подумать. Не исключено, что гости барона кое-что о Трехлапом слыхали, о нем кружили легенды в квартале, примыкающем к бульвару Сен-Мартен. Благоволение же миллионера к бедному калеке возносило его славу до высших сфер. Откуда взялся Трехлапый, никому дознаться не удалось. В один прекрасный день он заявился на Пла-д'Етэн, в контору почтовых сообщений, обслуживающую восточный пригород. Прибыл он на своей плетенке, запряженной облезлым здоровенным псом, вылез из «экипажа» и ползком – передвигаясь на животе и помогая себе руками – проследовал в контору. Как ни странно, ему удалось получить место приемщика, забирающего почту с прибывающих экипажей. К исполнению своих обязанностей он приступил безотлагательно, и начало его карьеры было весьма нелегким: ему приходилось орудовать только руками, защищенными металлическими нашлепками, похожими на скребки, тогда как нижняя, парализованная часть его тела была упакована в некое подобие корзины, снабженной колесиками. Однако наделенный упорством и незаурядной силой духа калека довольно быстро освоился в новой должности к немалому изумлению окружающих. «Это ж надо, так прытко бегать с засунутыми в карман ногами!» – одобрительно шутили досужие остряки, внося свою лепту в растущую популярность приемщика. Через недолгое время господин Матье уже считался образцовым работником. Он прикрепил к своей спине четыре крючка, которыми очень ловко зацеплял посылки, сбоку подвесил свисток, и квартальные извозчики быстро свыклись с введенной им нехитрой сигнализацией: на один свист подъезжал фаэтон, на два – ландо, на три – кабриолет. Что касается сохранности посылок, тут у него был заведен железный порядок, не допускающий никакой путаницы. Когда случались профессиональные тяжбы между ним и мадам Турто, конторщицей, ведущей регистрацию пассажиров и багажа, он, подобно искусному адвокату, не без блеска выигрывал все спорные дела. Господин Матье был проворен не только на службе, он и вообще передвигался довольно быстро, ловко орудуя руками и шустро маневрируя неподвижным футляром, в который были упрятаны его ноги. Способом передвижения он походил на ящерицу, а ящерицы, облыжно[9] упрекаемые в медлительности, бегают весьма и весьма быстро и проворно. Безвестный гений изобрел для него прозвище – Трехлапый, шутливо признающее одержанную над физическим недугом победу. Матье-калека мог бы разбогатеть на своем убожестве, Трехлапый предпочел поле боя, которое осталось за ним: конкурентам пришлось убраться со двора конторы. Известно, как важна для обретения популярности метко подобранная кличка. Слава не замедлила явиться к Трехлапому, но пришла она не одна, а в сопровождении двух неизменных спутниц: Зависти и Поэзии. Зависть пыталась затопить его волной темных слухов, способных погубить слабенькую репутацию, но знаменитость делающих еще славнее. Из крупных обвинений фигурировали два: агент тайной полиции и сообщник преступной шайки. Область таинственного в Париже никогда не обходится без двух этих любимых догадок. Поэзия оказалась щедрее: она наделила Трехлапого сказочным богатством и романтической любовью. Гном с зарытым где-то кладом, чудо-юдо, скидывающее уродливую шкуру в позолоченных чертогах красавицы. Сплетничали про некую женщину, прекрасную и молодую, а сверх того богатую и благородных кровей. Рептилия с задворок Пла-д'Етэн и аристократка? Что ж, совсем как у Шарля Перро, любившего сводить принцесс с чудищами. Итак, Поэзия и Зависть сообща трудились над его реноме, однако слава не вскружила голову скромному почтовому служащему, не обращавшему на сплетни никакого внимания. Исполнительный и усердный, он с прежним рвением занимался своим делом. Не попрошайничал, но и не отталкивал великодушный кошелек, раскрывавшийся при виде его увечья, принимая благостыню с той же естественностью, что и жалование. Жил он, вопреки сплетням, тихо, трезво и одиноко. Можно ли верить в такие россказни? В них верили, потому что живописное вранье расцветало не на пустом месте. На обшарпанной лестнице, ведущей в каморку Трехлапого, была замечена и распознана одна из звезд блестящего парижского света графиня Корона, с ним водил знакомство богатый банкир барон Шварц. Человек-рептилия стал шарадой, и многим ее хотелось разгадать. Барон Шварц был в своем кабинете, когда слуга доложил ему о прибытии господина Матье. – Помогите ему подняться, – не раздумывая приказал барон. Господин Матье вытряхнулся из экипажа без особого труда и одолел лестницу с помощью оригинальной гимнастики: ухватившись двумя руками за ступеньку, он подтягивал вверх торс и неподвижный отросток, заменявший ноги. Совершал он это довольно ловко к немалому удивлению челяди, созерцавшей его маневры. Один из слуг бросился было ему на помощь, вознамерившись подхватить парализованную часть тела, но господин Матье решительно возразил: – Благодарю вас, не надо. Тем не менее, одолев порог кабинета банкира и остановившись в трех шагах от письменного стола, он испустил вздох облегчения и, вынув из кармана очень чистый носовой платок, долго вытирал лоб. – Запыхались, господин Матье? – с улыбкой поинтересовался барон. – Еще бы, после такой длинной пробежки! Барон Шварц любил пошутить, когда бывал в настроении; впрочем, людям преуспевающим нетрудно прослыть остряками. Среди своих знакомых барон славился чрезвычайно лаконической манерой вести беседу. Господин Матье ответил, учтиво склоняя голову: – Мне, разумеется, любопытно взглянуть на ваше поместье, господин барон, но только ради этого я бы не позволил себе столь длинной пробежки. IV ТРЕХЛАПЫЙ Если предположить, что господин Матье, прозванный Трехлапым, принадлежал к нищим лукавцам, бережливо складывающим свои капиталы в тюфяк, следует отметить, что экономил он явно не на одежде. На нем был почти новый бархатный сюртук со светлыми пуговицами, из-под которого выглядывала безукоризненно свежая белая сорочка; зато свисающая до бровей рыжеватая шевелюра его, не знавшая гребня, и густая взлохмаченная борода разительно противоречили вполне респектабельному костюму. Лицо, обрамленное этими двойными зарослями, притягивало взгляд странной серьезностью выражения. Если отвлечься от недуга, лишившего его половины тела, Трехлапый вовсе не выглядел уродцем, в нем не было ничего, вызывающего жалость или отвращение. Цирюльник, хорошенько потрудившись над ним, за один прием мог превратить Трехлапого в половинку солидного буржуа весьма благопристойного вида. Он был, разумеется, монстром, но монстром ухоженным, как и положено в цивилизованнейших дебрях, называемых Парижем. Добавим, что ребятишки с конторского двора, которым знакома была его меланхолическая и необычайно мягкая улыбка, любили Трехлапого. Барон Шварц был невысокого роста толстеньким человеком – вернее, растолстевшим: под благоприобретенной дородностью угадывалась прежняя худоба. Худые мужчины, даже располнев, сохраняют в своем облике некоторую угловатость, а брюшко свое они носят как-то торчком. Когда жир затягивает остатки былой поджарости, судьба нередко отворачивается от своих прежних любимцев, но настоящие эльзасские Шварцы противятся ей дольше, чем прочие победители. Барон казался человеком без возраста. Кроме ума, барон Шварц обладал остроумием, во всяком случае, притязал на него и отваживался острить, невзирая на свой акцент, подобно нашим гасконцам. Колледжей он не посещал, но обладал обширными познаниями, почерпнутыми в справочниках и словарях; поддерживал людей искусства в лице поэта Санситива и водевилиста Ларсена, служащего из конторы на кладбище Пер-Лашез. В делах барон не имел себе равных, на лету хватал любую оказию, выгодно помещая деньги в самые разные операции, вплоть до жилищных; благодаря его энергии банкирский дом Шварца цвел и плодоносил. Однако барон хоть и вознесся до того, что давал деньги королям (без процентов, но требуя назад двойную сумму), никогда не отрекался от начала своей карьеры и любил вспоминать, что во время оно состоял банкиром при бедняках. Имелись кое-какие темные пятна на его пути к успеху, но, как справедливо утверждал господин де ла Лурдевиль, первоначальной основой нынешних его миллионов был банковский билет в тысячу франков, полученный им от Лекока на пустынной лесной тропе в окрестностях Кана в то далекое, наступившее после грозной ночи утро. Разумеется, барон давно уже не выуживал у бедняков их жалкие гроши, и отношения его с Трехлапым трудно было объяснить финансовыми причинами. – Что новенького? – безразличным тоном спросил барон. Трехлапый поднял на него большие неподвижные глаза, затененные встрепанными волосами. – Полковник дышит на ладан. – Он слишком дряхл. – Я полагал, что господин барон… – Мы в расчете, – прервал гостя банкир, – дело кончено. И добавил: – Я занят. Живее. – Думают, что полковник не доживет до утра. – Графиня в Париже? Калека утвердительно кивнул. – Лекок тоже? – Тоже. – Ясно. Что еще? Банкиру с трудом удавалось скрывать тревогу за обычной своей лаконичностью. – Господин барон очень спешит, и его навряд ли заинтересуют сплетни. Хотя странные творятся в нашем дворе вещи… – Сплетни! – потребовал банкир. – Господин барон велел мне повнимательнее приглядеться к окнам пятого этажа, выходящим на двор конторы… – Ну, ну! – подстегнул банкир, заинтересованный гораздо более, чем изображал. – А также держать под наблюдением дом, вход с улицы Нотр-Дам-де-Назарет, где живут трое молодых господ: Морис, Этьен и Мишель. – Прекрасно! – одобрил банкир, тайком зевнув, и в качестве извинения добавил: – Короче! – Молодые люди находятся в том возрасте, когда любят играть в секреты полишинеля… – Женщины? – Не слишком… исключая Мишеля. Банкир насторожился. – Хотя господина барона интересует, надо полагать, вовсе не Мишель, а племянник – Морис. Банкир приложил указательный палец к кончику носа, что являлось у него признаком живейшего нетерпения. – Я не буду больше говорить о Мишеле, – пообещал Трехлапый. – Так вот, господа Морис и Этьен ударились в сочинительство. Работают как каторжные, пишут драмы, это известно всем: целыми днями они декламируют во всю глотку и спорят чуть ли не до драки. Соседи опасаются, как бы они ненароком не спалили дом. – Чепуха! – прервал гостя банкир. – То есть? – переспросил тот несколько обиженный. – Чепуха! – повторил банкир. – Короче! – Они продали все. На драмах, которые не берут театры, много не заработаешь. Одно время господин Мишель тоже вкалывал с ними, но теперь… Трехлапый внезапно прервался, вспомнив, что обещал не отклоняться на Мишеля. – Забавно! – произнес банкир, делая поощрительный жест. – Прошу прощения. Я знаю, что Мишель вас не интересует. Мы, нормандцы, слишком болтливы. Банкир неопределенно кивнул, и Трехлапый стал докладывать дальше. – Господин Морис питает весьма серьезные чувства к одной достойной девице, и если бы господин барон задумал его женить… – Мальчишка по уши влюблен в мою дочь, – отозвался банкир. – Идиот! – Почему же? Мадемуазель Шварц достаточно богата для двоих. На это вкрадчивое замечание банкир отрубил: – Свадьба – дело решенное… почти. Затем он закинул ногу на ногу и, стараясь сохранять безразличный вид, полувопросительно произнес: – Мишель? – Вы хотите сказать – Морис? – поправил его Трехлапый. Легкая улыбка затаилась под взъерошенными усами калеки. Он медлил с ответом, делая вид, что недопонял. Господин Шварц топнул ногой и вскричал – на сей раз на общедоступном языке: – Черт возьми, господин Матье! Не выводите меня из себя. Вы что-то знаете про этого негодника Мишеля. Выкладывайте! Господин Матье прикинулся удивленным, скрывая насмешку. – Мне же запрещено… – начал он, – но… готов служить. Хотя, признаться, куда приятнее рассказывать о детских шалостях Мориса с Этьеном. Господин Мишель пошел по плохой дорожке, шляется по притонам и играет напропалую. – Играет напропалую! Мишель! – Проигрывает по двести-триста луидоров за вечер, бегает по ужинам и театрам, делает несуразнейшие долги и, самое странное, их оплачивает! – Оплачивает! – повторил банкир. – Забавно! Он встал и прошелся по комнате. Как только хозяин повернулся спиной, физиономия Трехлапого преобразилась точно по волшебству. Маска ожила, загоревшийся взгляд рванулся к большому открытому окну, выходившему в сад. По аллеям парка прогуливались гости, взгляд калеки молнией осветил всех. Он кого-то искал. Когда банкир обернулся, Трехлапый созерцал лужайку с вежливым восхищением. – Райское местечко! – вздохнул он. – Извините! – Откуда он берет деньги? – спросил банкир. – Господин Мишель? Не знаю, но могу разведать, если требуется. – Тут пахнет Лекоком! – вслух высказал свою догадку банкир. Трехлапый опустил глаза и не отвечал. Брови господина Шварца нахмурились. Немного помолчав, калека с оттенком брезгливости сообщил: – Тут замешана какая-то дама, кажется, очень богатая. Господин Шварц остановился как вкопанный. – Молодая? – поинтересовался он. – Очень красивая, – ответил Трехлапый. Устремленные на него глаза банкира настойчиво требовали более подробного ответа. – Это не графиня? – вынужден был спросить господин Шварц. – Нет. Банкир, охваченный заметным волнением, сделал еще одну пробежку по комнате, затем резко остановился. – Господин Матье, эта история интересует меня бескорыстно, я хочу быть полезным. Сей молодой человек, Мишель, был моим служащим и даже больше. Я уже претерпел достаточно из-за своего доброго сердца, и только общее уважение вознаграждает меня за хлопоты… Вы ведь знаете довольно много о графине Корона, не так ли? – Достаточно. Полковник оставит ей все… – Да я не об этом! – господин Шварц уже не скрывал раздражения. – Ясно. Господин барон с ним в расчете. Роли словно бы поменялись. Банкир сделался многословным, а Трехлапый нехотя цедил слова сквозь зубы. – Слава Богу, – продолжил банкир, – мне нечего беспокоиться за себя и своих близких, лично мне ваша информация не нужна. У вас, господин Матье, видимо, есть свои резоны быть столь скупым на сведения. – Да, господин барон. У меня есть свои резоны. Банкир круто повернулся на каблуках. – Время – деньги, – прорычал он, усаживаясь за стол. – Дело кончено, вы свободны. Изгнанный таким манером Трехлапый тут же пополз к двери, но у порога остановился и чуть ли не униженно произнес: – Я рассчитывал на одну любезность с вашей стороны, господин барон… Банкир, уже принявшийся за свои бумаги, отозвался крайне коротким словом: – Ну? – Не могли бы вы порекомендовать меня вашему родственнику, господину Шварцу, отцу Мориса; господин барон познакомился с ним в Кане, во времена Реставрации. Шварц заметно побледнел. В ответ он отчеканил, подчеркивая каждое слово: – Я познакомился с отцом Мориса в Париже! – В Париже так в Париже, какая разница. Ко мне обратился человек, разыскивающий двух дам: жену и дочь банкира из Кана, рогатое было когда-то семейство, теперь же дамы впали в полную нищету. Странная, знаете ли, история. Но я, кажется, становлюсь докучлив, господин барон мною недоволен. Что ж, опыт приходит со временем. К тому же не очень-то приятно подходить вплотную к иным делам и к иным людям. Мы еще поговорим о вашем родственнике и… о семье банкира. Слуга покорный господина банкира. Трехлапый толкнул дверь и исчез. Шварц чуть было не рванулся за ним, но удержался. – Тут пахнет Лекоком! – снова высказал он свою догадку. – Обложил меня со всех сторон. Дело плохо! Он обхватил голову руками, погрузившись в тревожные мысли. – Моя жена! – прошептал он, морща лоб. – Мишель! Больше барон не сказал ни слова. Немного подумав, он вынул из кармана изящный резной ключик, какими закрываются обычно крошечные дамские несессеры. Он разглядывал ключик и колебался. По лицу его проскользнула мучительная, похожая на гримасу улыбка. Дело, видимо, шло не о деньгах: в денежных вопросах банкир всегда действовал решительно. Подумав еще немного, он выдвинул ящик своего секретера и отыскал там кусок воска. В одной руке он держал хорошенький ключик, лаская его угрюмым взглядом, другой разминал воск, который делался все мягче и податливее под его пальцами. Когда Трехлапый спускался по лестнице, на втором этаже в глубине коридора послышались женские шаги. Он замер, метнув наверх сверкающий взгляд. Шаги принадлежали госпоже Шварц, она намеревалась спуститься в салон, где ее ожидала Эдме Лебер. Трехлапый слышал, как она произнесла твердым тоном: – Нет никакой необходимости беспокоить мою дочь. Этот голос, звучный и бархатистый, произвел магическое действие на калеку. Казалось, жалкое существо, человек-рептилия, вот-вот взовьется ввысь в безумной попытке вырваться из ползучего состояния. Но Трехлапый никуда, разумеется, не взвился; наоборот, словно устрашенный чем-то, он поспешно одолел последние ступени. Когда баронесса сошла вниз в сопровождении Домерга, лестница была пуста. В салоне все еще томилась в одиночестве Эдме. Прелестное лицо ее поминутно менялось, твердая решимость вступала в борьбу с глубокой тоской. Она страдала, лихорадка не давала ей усидеть на месте. Когда болезненному возбуждению удавалось одолеть подавленность, щеки девушки заливались краской и с губ срывалось имя: Мишель… С верхнего этажа донеслась бравурная гамма, затем чьи-то пальцы шумно пробежались по всей клавиатуре. Эдме улыбнулась сквозь слезы. Озорная музыка смолкла. Девушка отошла от окна и вернулась к портрету. В комнате сгущались сумерки, последний луч, проскользнувший сквозь щель в решетчатых ставнях, упал на портрет баронессы Шварц, Эдме пыталась присмотреться к живописи, но взгляд ее помимо воли устремлялся на бриллиант, поблескивающий из-под тяжелой массы волос. Словно завороженная, она не могла оторвать глаз от этой сверкающей точки. На лестнице раздались женские шаги, заглушённые ковром. Голос Домерга за дверью произнес: – Не хотелось бы вас расстраивать, госпожа баронесса, но мадемуазель Лебер все еще очень больна. Эдме изо всех сил старалась взять себя в руки. Голосов за дверью больше не было слышно, Домерг удалился, тяжело ступая, значит, баронесса Шварц была тут, за этим порогом. Но она почему-то не входила. Эдме стояла, устремив глаза на створки закрытой двери. Затем, побежденная усталостью и волнением, снова уселась, пробормотав: – Неужели она дрожит так же, как я? И вынула из кармана кошелек, в котором вместо денег хранился какой-то крохотный, с маисовое зернышко величиной, предмет, завернутый в клочок бумаги. – Может быть, – с надеждой прошептала она, – ей вовсе нечего скрывать от меня. Столько лет я ее уважала и даже любила! Машинальным жестом она развернула бумажку, и в этот момент дверь наконец отворилась. Эдме поспешно сунула крохотную вещицу в кошелек, а кошелек в карман. Баронесса Шварц стояла на пороге, взгляд ее застиг девушку за этим движением. Черные брови баронессы легонько вздрогнули. Но это длилось не больше мгновения. Баронесса Шварц переступила порог с безмятежной улыбкой – дама, знатная и благородная, с отзывчивым сердцем, откликающимся на любую просьбу о помощи. С обычной своей непринужденностью она ласково взяла Эдме за руки и поцеловала в лоб со словами: – Почему же вы нас не известили о вашей болезни, дорогое дитя? Вы же знали, что мы были в Савойе, в Эксе. Разве Бланш вам не написала? – Написала, мадам, – ответила Эдме, опуская глаза, – мадемуазель Бланш извещала меня о своих делах. – Почему вы ей не ответили? Вы были так больны, что потеряли свои уроки? – Я три месяца пролежала в постели, мадам. – Три месяца, – не без смущения воскликнула баронесса, усаживаясь. – Все это время мы были в Эксе. А как ваша матушка? – Моя мать ухаживала за мной и под конец заболела сама. Я очень за нее опасаюсь. Ресницы девушки, все еще опущенные, повлажнели. – И вы нам ничего не сказали! – с искренним сочувствием вскричала баронесса. – Неужели так трудно обратиться ко мне за помощью? Эдме подняла на нее большие синие глаза, печальные и почти суровые. – Мадам, нам ничего не нужно. Баронесса побледнела, но все же попыталась улыбнуться, вымолвив тоном ласкового упрека: – В вас говорит гордость, милая девочка, но в моем предложении нет ничего обидного. Вы все можете отработать зимой, давая уроки моей дочери. Ресницы Эдме дрогнули, и лицо напряглось, но ей удалось произнести очень твердым и отчетливым голосом: – Я отказываюсь от уроков в вашем доме, мадам. V АЛМАЗНЫЙ БУТОН Баронесса Шварц все еще была очень красива. Более двенадцати лет прошло с тех пор, как краска высохла на портрете, висевшем у камина рядом с изображением барона, но время не смогло одолеть ее замечательную красоту, и она и сейчас походила на свой портрет. Умные глаза по-прежнему светились мягким блеском, ни одна морщина не явилась в положенный срок на нежный высокий лоб, овал лица хранил безукоризненное изящество, и, что самое удивительное, даже шея ее оставалась упругой и гладкой. Баронесса Шварц все еще была очень красива, хотя минуло уже лет шестнадцать с тех пор, как Жюли Мэйнотт сменила имя – значит, семнадцать лет отделяли ее от скорбного часа разлуки с любимым, когда ее нежная и преданная улыбка смягчала печаль прощания, укрытого от людей угрюмой тишиной дремучего леса. Семнадцать лет – а баронесса все еще походила на Жюли Мэйнотт и по-прежнему вызывала восхищение. Барон Шварц любил ее до безумия, пылкий, как юноша, и ревнивый, как старец. Барон Шварц, покоритель миллионов! Баронесса оставалась молодой, не прибегая к ухищрениям, которые делают женскую красоту искусственной. Она выглядела молодой даже рядом с восемнадцатилетней Эдме Лебер, свежей, как только что распустившийся цветок. Они могли бы показаться подругами, если бы не казались соперницами: загадочная тень враждебности пролегла между ними. Слово «соперницы» объясняет многое; у Эдме Лебер были тайные основания для нынешнего странного визита: она любила и боялась за свою любовь. В салоне воцарилось долгое молчание. Лицо баронессы было удивленным, расстроенным и чуть-чуть смущенным, девушка же была холодна как мрамор. Заслуживает упоминания одна деталь: во время беседы взгляд Эдме несколько раз останавливался на волосах баронессы, двумя симметричными волнами струящихся вниз и полностью закрывающих уши. Казалось, взгляд девушки хотел прорваться сквозь эту завесу, скрывавшую от нее какие-то важные доказательства. Баронессу явно удивляло внимание, уделяемое ее прическе. Она первая прервала молчание: – Значит ли это, что вы недовольны моей дочерью? – Нет, мадам, – живо возразила Эдме, – ни в коем случае. Ваша дочь способная ученица и к тому же очень добра. – Дорогое дитя, – материнским тоном промолвила баронесса, взяв девушку за руку, – признаюсь, ваше поведение мне непонятно. До сих пор нас связывали дружеские отношения, основанные на взаимной симпатии. Моя дочь только что вышла из детского возраста, и ей некоторая бестактность простительна. Но вот если я вас чем-то невольно обидела, то это, разумеется, извинить труднее. Будьте искренни: у вас есть что-то на сердце? – Абсолютно ничего, мадам, – с усилием выдавила из себя Эдме. – Тогда зачем же покидать нас? Прерывать отношения, столь удачно сложившиеся? Я догадываюсь, что вы знавали лучшие времена, и гордость… – Вы ошибаетесь, мадам. У меня были братья и сестры, которые действительно жили в счастливом доме, но они давно умерли. Я родилась после нашей семейной катастрофы, и на мою долю выпала только бедность. – И все-таки есть в вашем поведении какая-то загадка, – произнесла госпожа Шварц, не теряя своей терпеливой мягкости, – помогите мне разгадать ее. Вы сейчас в лихорадочном состоянии, и я не могу отнестись к вашим словам всерьез… во всяком случае, я советую вам подумать. Вашей матери не на кого опереться, кроме вас… – Мадам, – во второй раз прервала ее Эдме тоном твердым и даже резким, – никогда я не была спокойнее, чем в эту минуту. Я говорю с вами также и от имени моей матери. Баронесса стремительно поднялась – видимо, ей пришла в голову мысль, что она имеет дело с безумной. Эдме тут же опровергла ее догадку: – Не волнуйтесь, мадам, я в своем уме. – В таком случае, дорогая мадемуазель, – с суровым достоинством ответила выведенная из себя баронесса, – позвольте вам заметить, что наше свидание слишком затянулось. Если вы решили порвать отношения с нами, можно было не утруждать себя визитом: это делается письмом и в двух словах. Мне показалось, что вы желаете объясниться, и я пошла вам навстречу по многим причинам, которые не намерена излагать. Но вы говорите со мной тоном провоцирующим и даже угрожающим, он совершенно не вяжется с вашим характером, каким он мне виделся до сих пор. Полагаю бессмысленным докучать вам дальнейшими расспросами. Я не отказываю вам от дома, мадемуазель Лебер, но если вам угодно покинуть нас, дело ваше. Невзирая на этот разговор, странный и тягостный, я сохраню о вас наилучшие воспоминания, и если вам понадобится моя рекомендация… Поднявшаяся со своего места Эдме в третий раз оборвала ее на полуслове: – Мне никогда не понадобится ваша рекомендация. Баронесса раздраженно махнула рукой и направилась к дверям со словами: – Прощайте, мадемуазель! Когда она повернулась спиной, взгляд Эдме, острый и торопливый, снова попробовал прорваться сквозь плотную массу волос, но эта прическа, называемая, если не ошибаюсь, повязкой Берты, надежно закрывала уши от любопытных взоров. Эдме так и не удалось получить желаемых доказательств. – Мадам, – негромко произнесла она, пытаясь остановить подходившую к дверям баронессу, – вы совершенно правы: для разрыва отношений достаточно двух слов в письменной форме. Будьте добры остаться, я сказала не все. Баронесса продолжала свой путь, и рука ее уже коснулась дверной ручки. Девушка повторила тихим, но пронзительно зазвучавшим голосом: – Будьте добры остаться, мадам. И, чтобы удержать баронессу, поспешно договорила: – Мы переменили жилище и уже более трех месяцев квартируем на улице Нотр-Дам-де-Назарет, второй вход слева, если идти от улицы Сен-Мартен. Баронесса все еще держалась за ручку, но дверь оставалась закрытой. Эдме говорила дальше: – В доме, который задним фасадом выходит на контору почтовых сообщений, – в глубине двора. Эдме перевела дух, словно после тяжелой работы. Баронесса неподвижно застыла у порога, лица ее не было видно, но поза, ставшая напряженной, выдавала внезапное волнение. Должно быть, Эдме сильно страдала, однако в глазах ее промелькнуло нечто похожее на злорадство, совершенно не свойственное ее натуре. Она быстро закончила: – На пятом этаже… Окна с синими занавесками… Знаете? Госпожа Шварц наконец обернулась, прекрасное лицо ее было совершенно спокойно. Эдме почувствовала легкую досаду, быстро сменившуюся внезапной надеждой. «А если я ошибаюсь? – в который раз спрашивала она себя. – О, если бы это была ошибка!» Всем своим добрым сердцем девушка жаждала освободиться от мучительных подозрений. – Знаете?.. – автоматически повторила госпожа Шварц последний вопрос девушки. – Откуда же мне знать? Затем, словно пожалев о сказанном, надменно поинтересовалась: – И какое мне до всего этого дело? Но было поздно. Легкая заминка баронессы – и у Эдме не осталось никаких сомнений. Госпожа Шварц, на сей раз не ожидая ответа, проговорила вполголоса тоном мягкого сожаления: – Бедное дитя! Я совсем забыла… Баронесса явно намекала, что девушка пребывает во власти болезненного бреда. Горящий взгляд Эдме, устремленный на баронессу, читал по ее лицу, как в открытой книге. – Мадам, – заговорила она печально и с неожиданной покорностью, – когда я впервые попала в ваш дом, я была почти ребенком и, конечно же, страшно интересовалась нарядами. Никогда не видела я такой красивой, такой богатой и такой элегантной женщины, как вы. Каждую мелочь вашего каждодневного туалета я знала, как свою. Таковы молоденькие девушки, особенно если они бедны. Среди тысячи алмазных бутонов я безошибочно распознаю великолепные бриллианты, которые никогда не покидали ваших ушей. Эдме невольно покосилась на портрет. Проследив за ее взглядом, баронесса нашла нужным пояснить: – Муж подарил мне их, когда родилась Бланш. С тех пор я не ношу ничего другого даже на балы. – Я знала это и подумала, что вы были бы страшно огорчены, оставшись без любимого украшения. Госпожа Шварц сделала удивленные глаза, а затем невольно, хотя и не очень поспешно, поднесла руку к уху. Эдме достала кошелек и вынула оттуда свою бумажку. – Вы меня напугали! – смущенно вымолвила баронесса, пытаясь улыбнуться. – Но вы уже успокоились, не так ли? – спросила девушка столь язвительно, что кровь бросилась баронессе в лицо. Быстрым, но несколько досадливым жестом она приподняла волосы над одним ухом, показывая сверкающий бриллиант. – А другой? – холодно поинтересовалась Эдме. Баронесса колебалась, побледневшие губы ее вздрагивали от обиды, но вместо того чтобы позвать слуг и выпроводить дерзкую девчонку, она с усилием улыбнулась, приподнимая волосы с другой стороны со словами: – Я не сержусь на вас, мадемуазель. – Мадам, – заговорила девушка, и отчетливо произносимые ею слова звучали веско и даже грозно, – этот другой обошелся вам в шесть тысяч франков. Отныне вы владелица трех совершенно одинаковых подвесок. И Эдме неторопливо развернула бумажку и вынула оттуда бриллиант – с виду точно такой же, как те, что украшали уши госпожи Шварц. – Вот настоящая причина моего визита сюда. Признаюсь, мне как-то в голову не приходило, что богатая дама выпутается из любой беды. Три месяца я волновалась, что вы попали в трудное положение, и первый мой выход после болезни – к вам. Баронесса была недвижима, точно статуя. Эдме положила бриллиант на тумбочку, сделала прощальный жест и решительно направилась к двери. Колокол во дворе замка громко сзывал гостей к ужину. Часы отбили семь с половиной. Баронесса встрепенулась, словно намереваясь кинуться вслед за девушкой, но тут же остановилась – на лестнице послышался голос барона Шварца: – За стол! Самое время! Позовите дам! Баронесса закрыла ладонями глаза. Наверху играла на фортепиано Бланш. Слышно было, как хлопнула калитка. Стало почти темно, бриллиант, вобравший в себя последние лучи, сверкал нестерпимым блеском. – Ушла! – пробормотала баронесса. – Что я ей сделала? Она судорожно схватила бриллиант, точно он слепил ее, и застыла на месте, глядя перед собой отрешенным взглядом. Голос мужа заставил ее вздрогнуть. Фортепиано наверху смолкло, легкие шаги послышались на лестнице, и Бланш, свежая, словно утренняя роза, ворвалась в салон. – Мама! – вскричала она. – Ты здесь… и без света?.. Мне сказали, что приехала Эдме? Она будет ужинать с нами? Где же она? Человеку, пребывающему в смущении, легче отделаться от двадцати вопросов, чем от одного. – Пора идти, отец ждет, – ответила дочери госпожа Шварц. Когда огни столовой, обставленной несколько патриархально, осветили ее лицо, оставалось только удивляться, как быстро восстановила баронесса Шварц видимость царственного спокойствия. Она подставила мужу лоб для поцелуя – деспот, ворчун, ревнивец, он был все-таки ее рабом – и сказала, обращаясь к барону, но одновременно и отвечая на предполагаемые вопросы Бланш: – Я беседовала с маленькой Эдме… С мадемуазель Лебер. Она не захотела остаться на ужин, чтобы попрощаться со всеми. – Попрощаться? – удивился барон. – Она уходит от нас? – расстроенно спросила Бланш. Усаживаясь на свое место в центре стола, госпожа Шварц обронила небрежно: – Она уезжает в Америку. – Безрассудство артистов! – воскликнул барон. – Очаровательная малышка, да, очень хороша. За океан, ловить птицу счастья. Вернется старенькая, без гроша в кармане. Забавно!.. Да, суп, можно подавать… Эльзасский акцент придавал особую пикантность рубленым фразам барона. Бланш вознамерилась было приступить к расспросам, но за этим столом никто, кроме нее, не интересовался Эдме Лебер. Внимание гостей переключилось на водевилиста Ларсена: после супа ему вменялось в обязанность пересказывать наиболее удачные шутки из «Шаривари», «Корсара» и других сатирических журналов. Известно, в какой чести был юмор при Луи Филиппе. Черный как смоль Савиньен Ларсен урывал куски, где только мог, обладая при этом вместимостью бездонной бочки. Что же до его творческих амбиций, то он решил пороха не выдумывать, а переделать «Сороку-воровку»[10]: чтобы склепать один какой-нибудь немудреный актик, он обворовывал штук двадцать чужих томов. «Богатая натура! – одобрял его барон Шварц, – оригинал!» Алавуа считал Ларсена ничтожеством, а господин Котантэн де ла Лурдевиль говорил про водевилиста с Пер-Лашеза так: – То и се! Помесь угря, кошки, обезьяны и куницы, ото всех помаленьку. Но талант! Мольера заткнет за пояс! Мы еще поговорим об Алавуа и о нашем друге Котантэне, ибо знакомство с завсегдатаями салона Шварца впереди. – В «Шаривари», – доложил Савиньер Ларсен, – помещен портрет господина Рамье в виде майского жука, «Корсар» подыскал новую кличку для господина Монталиве, остальные; – заключил он с саркастической усмешкой, – пережевывают старье. Смело! – похвалил барон. – Очень забавно. Ларсен усердно штудировал юмористическую прессу – приходилось отрабатывать свой хлеб. Однако с какой стати объявила прекрасная баронесса, что Эдме Лебер уезжает в Америку? VI САЛОН ШВАРЦА Можно подумать, что в высшем свете вращаются миллионы людей. Это не так. Светское общество – замкнутое пространство, в котором надо родиться. Такой обособленный мирок являл собою и салон Шварца, хотя его навряд ли можно было назвать великосветским – блеск салонам придают дамы, а их явно недоставало среди гостей банкира, хоть он и титуловался бароном. Алавуа – холостяк; водевилист Ларсен женат на старой актрисе, которую стесняется выводить в люди; семья Котантэна де ла Лурдевиля пребывает в Нормандии; Кабирон – вдовец; виконт де Глейель расстался с женой по всей форме – раздельное жительство и раздельное владение имуществом. Только господин Тубан приводит с собой супругу – особу слащавую, завистливую и злоречивую, но зато хорошего рода. Тучный марселец – большая редкость, и мы не без гордости представляем дамам Алавуа, который до обеда весит двести тридцать семь фунтов. Любезный, с открытым сердцем, можно сказать, душа нараспашку, он при том считается человеком весьма дельным, особенно в сфере идей, касающихся промышленности. Кабирон ворочает делами. Виконт Оноре Жискар де Глейель в салоны является как на службу, обеспечивая себе пропитание: его визитами осчастливлены четырнадцать жаждущих возвышения домов – семь обедов и семь ужинов в неделю. Тубан – предприимчивый химик, супруга его не чужда литературы. Котантэн де ла Лурдевиль, делавший в своей жизни то и се, подвизавшийся и в депутатах, и в журналистах, успокоился наконец на должности поверенного в делах. В доме Шварца все вращается вокруг дел, даже водевиль, представленный тщеславным Ларсеном, даже святая поэзия, сведенная к набору банальностей пошленьким Санситивом. Остается еще одна супружеская чета, унылая и на вид невзрачная, но вполне пристойная – господин Эльясен Шварц с женой. Мужа читатель помнит по Кану; там он был крепким молодцом, ретиво справлявшим службу в бюро полицейского комиссара. Ныне барон взял родича к себе в фактотумы, супруга же его помогает баронессе нести нелегкое бремя светских обязанностей. Самый молодой из гостей – Савиньен Ларсен, самый старший – украшенный сединами Котантэн де ла Лурдевиль. Остальным, как и барону, перевалило за сорок. У госпожи Тубан возраста нет и никогда не было. Гости собрались под стать дому господина Шварца – изобильному, жизнерадостному, исполненному буржуазной бодрости. В таком доме трудно себе представить что-либо похожее на «драму». В одной лишь баронессе угадывалось романтическое прошлое, но оно, погребенное годами, кануло, видимо, в глухое забвение. А юная гостья, Эдме Лебер, якобы собравшаяся в Америку? Да, ей удалось слегка возмутить безмятежную гладь монотонной жизни – вместе с ней в прозаический дом заглянула тайна… За исключением этого маленького инцидента все шло своим заведенным порядком. Общество, собравшееся за столом господина Шварца, во многом, даже в притязаниях на некоторую экстравагантность, было точно таким же, как в других буржуазных салонах. Уверенные в себе богатые люди, устроившие свое настоящее и спокойные за будущее, приберегавшие все свои чувства, если не сказать – душу, для дел, составлявших для них главный смысл жизни. Предполагаемая свадьба очаровательной Бланш с пресловутым господином Лекоком была одним из таких дел и вызывала соответствующие эмоции – обсуждались выгоды и потери от предстоящей операции. Впрочем, деле это было почти решенное; во всяком случае, так казалось. Но, как известно, и за роскошью нередко скрываются тайные беды. Чей-то проницательный взгляд, обостренный завистью или враждой, мог бы за внешней респектабельностью дома Шварцев углядеть тревогу, а дерзкий романист, именуемый весь свет» и привыкший выражаться решительно, эффектно и без обиняков, принялся бы разыскивать в этом доме следы слез и крови. Но при всем желании здесь мудрено было бы обнаружить такие следы, хотя что-то странное и ощущалось в атмосфере замка – тут происходило как бы некое сгущение тайн… Впрочем, даже не тайн, а пустяковых и, надо полагать, вполне невинных секретов. Во-первых, после супа мадам Сикар, камеристка, шепталась о чем-то с хозяйской дочерью, при этом юная Бланш краснела и улыбалась. Во-вторых, чуть попозже камердинер Домерг подошел к госпоже баронессе, чтобы отчитаться перед ней в выполненном поручении. «Хорошо, спасибо», – ответила баронесса, Домерг же перед уходом многозначительно произнес: «Завтра будет день». Грозные эти слова, как ни странно, ничуть не устрашили прекрасную даму. В-третьих, в то же приблизительно время господин Шварц, бросавший на супругу взгляды, как всегда, восхищенные, но несколько обеспокоенные, сделал знак дородному Алавуа, разместившему свои обширные телеса по соседству с хозяйкой. Знак был, несомненно, условным, ибо поглощенный едой Алавуа внезапно отложил вилку и воскликнул с видом человека, вдруг вспомнившего о чем-то важном: – Странно! Я чуть было не позабыл напомнить вам, господин барон, что на сегодняшний вечер назначено дело Дандурана. Хорошо, хорошо, – небрежно отмахнулся знаменитый финансист. – Вы обязательно должны присутствовать… – настаивал Алавуа. – У меня помечено в книжке, – прервал его господин Шварц. – Всему свое время. Барон выжидал подходящего момента для нанесения удара. Во время десерта он, обращаясь к жене, произнес: – Дело Дандурана? В Оперу? Нет? Устала? Хорошо. Отдохни же. Несмотря на лапидарность своих речей, барон умудрялся не только задавать вопросы, но и получать на них ответы от самого себя. Он приказал Домергу: – Экипаж! Постараюсь вернуться пораньше. Камердинер и баронесса переглянулись. Наконец, четвертая, и последняя, любопытная деталь: когда подавали кофе, барон, пристально взглянув на жену, поинтересовался: – Кстати, Джованна, это принадлежит вам? Он показал жене изящный маленький ключик, зажатый между большим и указательным пальцами. Госпожа Шварц, улыбнувшись, ответила: – А я его как раз искала. Это ключ от моего среднего ящика. – Забавно! – заключил барон. Он протянул ключ госпоже Тубан, та передача его де Глейе-лю; баронесса получила свою пропажу из рук галантного Алавуа и небрежно положила на стол, не выказывая особого волнения. Беседа среди гостей то затухала, то оживлялась. Ларсен блистал остроумием: шуточек, которые он декламировал наизусть, хватило бы на целый юмористический сборник. Эти весельчаки водевилисты просто незаменимы в компаниях. Через несколько минут ключ был совершенно забыт. И никто, разумеется, не обратил внимания на легкую испарину, бисером выступившую у корней роскошных волос баронессы. Она была очень бледна, несмотря на ослепительную улыбку. Ничего удивительного, в жару некоторые из нас бледнеют. От ключа, как только его положили на стол, отпал какой-то кусочек, выделяясь на белизне скатерти едва приметным пятнышком – крохотным, чуть больше пылинки. Заметила ли госпожа баронесса, не уделившая ключу никакого внимания, что крохотное пятнышко было вовсе не пылинкой, а кусочком воска? И знала ли она, что с помощью воска делают дубликаты ключей? Утверждают, что дамы способны видеть, не глядя, и знать о некоторых вещах, не проявляя к ним специального интереса. Поднимаясь из-за стола, баронесса улучила момент, чтобы шепнуть Домергу: – Сегодня вечером мне надо попасть в Париж. За исключением этих загадочных пустяков в доме Шварцев царил полный покой. Эдме Лебер, выйдя из замка, направилась по дороге, пересекавшей поле и через лес поднимавшейся в Монфермей. Поначалу дорога тянулась вдоль рва, шагов через сто делавшего от него крутой отворот. Чуть в стороне от дороги сквозь кусты продвигалось в том же направлении, что и девушка, какое-то странное существо, еле различимое в сереньком свете сумерек. Эдме не то что увидела, а скорее угадала ящерицу с человеческой головой, которую ей уже довелось встретить сегодня: калека из конторы почтовых сообщений, прибывший в замок на своей плетенке. Обитатели квартала Сен-Мартен уже привыкли к его фантастическому виду. Дом на улице Нотр-Дам-де-Назарет, где проживала Эдме, задним фасадом выходил на конторский двор. Во время болезни она часами просиживала у окна, наблюдая, как несет Трехлапый свою нелегкую службу: ловко маневрируя парализованной частью тела, он совершал торсом и руками настоящие чудеса ловкости. Вид калеки вызывал у нее глубокое, смешанное с ужасом сострадание. Девушке не пришла к голову мысль о странности появления Трехлапого возле пустынной дороги, да к тому же без своей упряжки и в такое время, когда он должен был находиться в почтовой конторе. Сейчас ему следовало бы галопом мчаться на резвой псине в Париж. Эдме, только что выдержавшая серьезное испытание, была слишком занята собственными мыслями и переживаниями, тем не менее сгущавшаяся темнота заставила ее опасливо покоситься на кусты, где ей почудилась ползучая тень. Но там никого не оказалось. Она двинулась вперед, перестав думать об этом незначительном инциденте. Дорога ей предстояла долгая; лесом надо было дойти до Ливри, а оттуда одолеть пешком путь до Парижа, ибо кошелек ее, покинутый бриллиантом, оказался совершенно пуст – последние деньги были отданы за билет в судоходной конторе. Бедной девушке, только что гордо отвергшей помощь баронессы и оставившей в роскошной гостиной бриллиант, который никто не собирался признавать своим, не на что было добраться до дома. Это казалось пустяком – Эдме чувствовала себя сильной, лихорадка бодрила ее пуще вина: пять лье по лесной дороге, потом еще столько же – разве это много? Сердце колотилось, лоб пылал, перед глазами вспыхивали яркие точки; ее вела вперед некая неведомая сила. – Я узнала все, что хотела узнать, – прошептала она. – И излечилась, излечилась совсем! Во мне нет больше любви. Странно, оказывается, это так легко – перестать любить! Эдме бросала любви вызов так же, как и ожидавшей ее дальней дороге, но помимо воли в груди ее копились рыдания, и шаг делался все неувереннее. Все же ей удалось добраться до опушки леса, где тропа ныряла внезапно под густой лиственный свод. Через несколько минут девушку поглотила тьма, и она перестала различать окружающее и почти не двигалась вперед, хотя упрямо твердила себе: «Я иду! Я иду!» На сознание ее тоже наползала темнота, слабость забирала тело в оковы. Остановившись у какого-то дерева и прижавшись пылающим лбом к его стволу, Эдме продолжала себя уговаривать: «Надо идти!.. Я иду!..» В чаще послышался шорох, но девушка его не услышала – в ушах у нее стоял звон, дыхание перехватило. Ноги ее подогнулись, она стала медленно оседать, все еще продолжая бормотать: «Надо идти, я иду, уже иду…» Известно, что в подобные мгновения людям может пригрезиться что угодно: Эдме показалось, что она не упала на землю, потому что чьи-то крепкие руки подхватили ее. Перед тем как закрыть глаза, ей удалось различить в потемках диковинный силуэт человека-рептилии – убогого калеки с подворья Пла-д'Етэн. VII ПАКТ Омнибус, следующий из Вожура в Париж, обычно прибывает на станцию Ливри точно в восемь часов тридцать минут, если не опаздывает или не появляется раньше, что случается семь раз в неделю. В восемь часов двадцать минут в конторское помещение станции Ливри проследовал странный кортеж: двое мужчин (у одного из них к спине был прикручен какой-то продолговатый предмет) несли на носилках из древесных ветвей больную женщину. Их сопровождал крепкий господин, лицо его с мужественными и правильными чертами имело властное и умное выражение; судя по весьма приличной одежде, он принадлежал к людям зажиточным. Господин Брюно, так зовут этого человека, персонаж в нашем рассказе новый, зато носильщики, взирающие на него с боязливым почтением, уже знакомы читателю: бывший учитель танцев Симилор в плюшевом рединготе и рыбак Эшалот в разодранном аптечном халате, странным образом гармонирующим с его симпатичной незлобивой физиономией. Франтоватый Симилор – отец незаконнорожденного юного Саладена, Эшалот же состоит при малютке чем-то вроде кормящей матери. Что касается больной женщины, то как только носилки оказались в конторе, тускловатый свет кинкета, помещенного за решеткой, осветил прелестное лицо Эдме Лебер. Она недавно пришла в себя и открыла глаза. Ее взгляд робко обежал комнату, словно опасаясь натолкнуться на какое-то страшное видение. Увидев мужественное и спокойное лицо господина Брюно, она вздрогнула и попыталась улыбнуться. – Мне было почудилось… – пролепетала она и, вновь опуская веки, добавила: – Как вы оказались рядом со мной? – Мы обо всем поговорим позже, дорогая мадемуазель, – ответил господин Брюно. – А сейчас постарайтесь как следует отдохнуть. Он взял руки девушки в свои и отечески их пожал. Симилор и Эшалот, притулившиеся в углу конторы, стояли молча и с обнаженными головами. Эшалот придерживал рукой младенца, привыкшего спать в самых невозможных позах. Господин Брюно подошел к окошечку, проделанному в решетке, и сказал: – Я хотел бы заказать купе, если оно свободно, мадам Лефор, в противном случае вам придется как можно быстрее отыскать мне дорожную карету. Конторщица заглянула в свои бумаги и ответила с любезной улыбкой, бросив на Эдме многозначительный взгляд: – Вас будет стеснять третий человек, господин Брюно? Что ж, по моим сведениям купе свободно, вожурцы предпочитают путешествовать в салоне. Симилор подтолкнул Эшалота локтем. Господин Брюно подошел к ним со словами: – Вы мне больше не нужны. Приятели тотчас же вышли. Симилор взял Эшалота под локоть и с сожалением промолвил: – Хорошенькая музыкантша могла бы сунуть нам какую-нибудь мелочишку на чай. Ах да! Ты все еще на меня дуешься, котик! И сколько же это будет продолжаться? – Все зависит от твоей искренности, Амедей! – с волнением ответил бывший фармацевт. – Я такие надежды возлагал на твою дружбу! Если ты решил нас бросить, так и знай: это тебе даром не пройдет. – Глупости, малыш! – Возможно. Однако мне легче видеть тебя мертвым, но честным, чем живым, но подлым! Симилор сделал недовольную гримасу и немного спустя легкомысленным тоном заговорил: – А не считаешь ли ты, что нам пора перекусить? – Я не голоден. – И залить трапезу винцом позабористей? – Я не хочу пить. И Эшалот с суровой миной добавил: – Ты даже не приласкал малыша, Амедей, а ведь ты ему отец! – Телячьи нежности! – воскликнул Симилор и назидательно заметил: – Не это обеспечит малышу блестящее будущее. Эшалот поднял ребенка, приблизив худенькое плаксивое личико к губам друга; тот одарил Саладена рассеянным поцелуем и признал: – Все-таки он очень мил! – Не это! – со вздохом повторил его слова Эшалот. – Разумеется, не это, но вот что? Какими такими своими героическими действиями ты собираешься обеспечить малышу блестящее будущее? Амедей, приняв горделивую позу, начал речь: Старина! Если ты нарываешься на ссору, я могу драться с тобой на любом оружии, мне это не впервой, я уже вызвал сегодня на поле чести одного флотского офицера. Но я не могу допустить, чтобы ты считал меня предателем и негодяем. Я не предатель, я попросту решил выбиться в люди, проникнув в тайны, которыми кишит наш квартал. Сам подумай, в каком я нахожусь положении: ни кола ни двора, с малышом на руках, к тому же – полное неведение насчет моего собственного происхождения. После долгих размышлений я сказал себе вот что: Амедей, не вечно же тебе быть обузой другу, приютившему тебя под своим скромным кровом, ты уже вошел в возраст, пора пробиваться наверх. Конечно, я мог бы завести какое-нибудь небольшое дело вроде твоего агентства, но как справиться с конкурентами, в том числе с тобой? Да нет, легче умереть, чем перебежать другу дорогу! Что мне оставалось? Выбирать между господином Брюно из соседнего дома, господином Лекоком со второго этажа и молодыми людьми с пятого, которые только и делают, что планируют какие-то преступления – это всем соседям известно. Сплошные секреты! Господин Брюно велел мне зайти попозже, Лекок внес мое имя в свой черный список – и твое тоже, так что знай: оба мы у него на крючке. Чем он занимается, этот тип? Увидим! Я готов биться о заклад, что там дело нечисто. Пришлось мне выбрать ребят с пятого этажа. Я к ним заглянул как-то утречком, услышав, что они собираются убить женщину… – Какую женщину? – торопливо спросил Эшалот, трепещущий от нетерпения. Нет слов, чтобы описать тот захватывающий интерес, с каким слушал он исповедь своего друга. Саладен ему немного мешал, он попробовал сунуть его в карман, но попытка не удалась. – Вот именно: какую женщину? – повторил Симилор, пожимая плечами с видом искушенного отгадчика ребусов, споткнувшегося на трудном слове. – Мне самому не терпится это знать. Жгучая тайна. Так вот, живут эти ребята ничуть не лучше тебя, хоть и курят дорогие сигары и щеголяют в тонком белье. Их трое, мальчики из приличных семей, а за душой ни гроша, потому и собрались вместе, чтобы удить рыбку в мутной воде… Один из них, господин Мишель, стал держаться особняком, видать, обтяпывает тайком какое-то дельце или напал на клад; двое же других, Морис с Этьеном, сущие несмышленыши. Ясное дело, про женщину, которую надо убить, нельзя было говорить с порога. Я им просто представился – дескать, способен выполнять секретные поручения, потому как начисто лишен предрассудков. Сперва они только веселились; такой их смех разобрал, когда я намекнул, что могу обучать искусству салонных танцев. И что тут смешного? Но потом меня все-таки взяли в дело и скоро отвалят денежки за мое первое поручение. – Какое? – встрепенулся Эшалот, беря беспокойного Саладена на руки. – Угадай, котик! – Да что же ты там у них делал все это время? – Спроси лучше, чего я у них не делал! – Нанялся к этим ребятам в услужение? – Вот еще! Разве я похож на лакея? Мне заплатят сто франков за одну операцию, ясно? – Что это за операция? – Пошевели мозгами, Биби, я же сказал тебе, что поручение секретное. Эшалот снял драную соломенную шляпу и рукавом отер пот со лба. – Это хотя бы объясняет, – с облегчением размышлял он вслух, – почему ты забросил нас с Саладеном. И это точно, что наш квартал так и кишит всякими тайнами… Но они тебе намекнули хотя бы насчет мокрого дельца, ну, насчет того самого, чтобы убить женщину? – Ни-ни, ни словечком не обмолвились. – И ты ее у них не встречал? – Клянусь, ее там не было! – Где же она прячется? – То-то и есть. Жгучая тайна. – И все-таки что ты там у них делал? – Дня три, – не без стыдливости признался Симилор, – пришлось суетиться по хозяйству, сапоги ихние, прочие там всякие комиссии… Но это так, для начала. – Какие комиссии? – К портному, за фруктами, в ресторан… некогда было даже к вам заскочить… Зато позавчера началось настоящее дело. Саладен закричал, явно чем-то недовольный. Эшалот призвал его к спокойствию и придвинулся к другу, вымолвив не без волнения: – Сейчас узнаем, правду ли ты рассказываешь! – Позавчера, – продолжал Симилор, – самый молоденький, господин Морис, добрая душа, вручил мне письмо и деньги, два с половиной франка, на дорогу. Адреса на конверте не было. Послание надо было доставить сюда… – В замок? – вопросил Эшалот, засовывая Саладена себе под мышку, дабы пресечь его крики. – Не совсем… Ты ведь за мной следил? – Позавчера только до пристани… Кому предназначалось письмо? – Тайна! – Но ты ведь его кому-то вручил? – Никому. – Как это?.. Опять скрытничаешь? – Слово чести! Я оставил письмо под большим камнем, что торчит посреди чистого поля шагах в ста от леса. Голова Эшалота поникла от тяжких дум. Спектаклям парижских театров далеко было до приключений друга. – Ну а потом? – выдохнул он, в то время как Саладен тихонько похрюкивал у него под рукой. – Вчера никакой работы, а сегодня утром новое поручение. – Опять письмо? – Нет, велено было передать на словах… Самый страшный, господин Мишель, который сильно кутит, доверил мне секретную фразу. Думаю, тут не обошлось без амурных плутней. – Какую фразу? – Знай, – торжественно изрек Симилор, – ты будешь проклят во веки веков, если обманешь мое доверие! Я разболтался с тобой хуже бабы, потому как мне осточертели твои подозрения. Но знай, что я рискую не только собственной жизнью, но и жизнью своего ребенка… – Какую фразу? – настаивал дошедший до точки кипения Эшалот. – Тут целая история. Господин Мишель мне велел так: «Сойдешь на пристани барона Шварца и будешь себе лениво прохаживаться, засунув руки в карманы, до тех пор, пока к тебе не подойдет лакей в серой ливрее со светлыми пуговицами; он будет идти, задумчиво поглядывая на воду». Я его видел! – восторженно вскричал бывший фармацевт. – Пуговицы, ливрея, да-да! И он то и дело поглядывал на воду. Фразу, приятель, давай фразу!.. Саладен, замолчишь ты наконец или нет?! – Будет ли завтра день? – Симилор задал этот вопрос прямо в ухо своему компаньону. – Что? – отдернулся тот и, думая, что ослышался, переспросил: – Будет ли завтра день? – И ничего больше! – Что же тебе ответил серый лакей? – Может быть… смотря по обстоятельствам. – Вот это да! Такой важный господин – и не знал, будет ли завтра день? – Он должен был сначала посоветоваться. – С кем? – Не знаю. Он мне сказал: «Молодой человек, погуляйте, полюбуйтесь пейзажем, у нас на закате прекрасно, и не вздумайте нервничать, если я задержусь с ответом». Ну, я стал лю– боваться закатом, пейзаж, ничего не скажешь, что надо. А когда стемнело, серая ливрея вернулась и наказала передать господину Мишелю следующее: «День настанет сегодня вечером, часов в десять; место обычное». – День?! В десять часов вечера?! – подивился Эшалот. – Как это? – Тайна. Серый человек наверняка знал, в чем тут дело, но мне докладываться не стал. Полупридушенный Саладен пытался выкрикнуть что-то на своем языке (надо полагать, «Спасите!»), но в эти захватывающие мгновения собеседникам было явно не до него. Эшалот напрасно пытался побороть глубокое волнение. Шлепнув себя по лбу и закинув не совсем еще, к счастью, задохнувшегося Саладена за спину, он в приступе раскаяния прижал Симилора к сердцу, поливая обильными слезами потертый плюш сизого редингота. – Прости меня, Амедей, – бормотал он сквозь нежные всхлипы, – я питал на твой счет черные подозрения… Когда ты возвращался домой, от тебя попахивало кофием, и я думал, что ты лакомишься где-то на стороне всяческими деликатесами тайком от нас с Саладеном. Я устроил тебе проверку, и ты выдержал ее с честью! Величие души Симилора не замедлило проявиться: он не стал злоупотреблять своим триумфом. – Не стоит так расстраиваться, старина, – успокаивал он друга. – Пусть это послужит тебе уроком: нельзя слепо доверяться наветам ревнивого воображения. – Клянусь, я больше не буду! – пообещал Эшалот. – Я так страдал! Дотащился аж до баронской пристани, чтобы подкараулить тебя, хотя шпионство глубоко противно моей натуре. Я видел, как ты приплыл, я прятался там, за изгородью… и если бы ты меня обманул, я бы тебе такое устроил! Но ты говоришь чистую правду. Я собственными ушами слышал, как серый лакей, похожий на банковского контролера, сказал: «Может быть… смотря по обстоятельствам». Потом он ушел, а ты прогуливался по бережку. Мне за этой проклятой изгородью не очень сладко пришлось: малыш то и дело подавал голос, еле-еле удавалось его усмирить. Потом серый человек вернулся, я слышал, как он сказал эту фразу насчет сегодняшнего вечера и десяти часов. Но я, признаться, никак в толк не возьму, Амедей, что это за секреты такие и как это по ночам может быть светло? Симилор усмехнулся с видом человека, способного видеть подальше собственного носа. – Секреты такие, что сам черт ногу сломит, – пояснил он и воскликнул: – Погляди, ты же держишь Саладена вниз головой! – В этом возрасте им совершенно все равно, как их держат, – авторитетно высказал Эшалот. Симилор вернул ребенка в правильную позицию, малыш при этом отчаянно отбивался, словно подтверждая справедливость высказанного насчет его возраста замечания. Возвращаясь к прерванному разговору, любящий отец промолвил: – За семью печатями тайна! Все тщательно продумано, ну прямо как у франкмасонов: секретная переписка, таинственные пароли, множество членов… Я, пока добрался до замка, имел случай убедиться, что чуть ли не половина Парижа греет руки на этом деле. Штука рискованная, но без риска в люди не выбьешься. – Согласен! – с готовностью откликнулся Эшалот. – Куда ты, туда и я! – Так поклянемся же быть верными делу… – До самой смерти, Амедей!.. А какому делу? А такому, чтобы и нам проникнуть в господские секреты и протоптать малышу дорогу в будущее! В бледном звездном сиянии они протянули друг другу руки, непроизвольно приняв классические позы античных героев. Дорога была пустынна, так что только небо и Саладен стали свидетелями заключенного пакта. Момент торжественный и трогательный. Симилор и Эшалот шуток не признавали: они вполне серьезно организовали сообщество, целью которого было ужение сокровищ в фантастическом океане мути. Два поэта с нежной душой и пылким воображением, два парижских дикаря, заплутавшиеся в кустиках из папье-маше, насаженных мелодрамой… Театр воспитал в них возвышенность чувств, выработал у них специфический лексикон – выспренный, слащавый и, увы безжалостно пожиравший остатки крепкого и выразительного народного языка. Я не утверждаю, что именно театр привил им привычку к праздности, но работу наши приятели не жаловали, посему послушайтесь моего совета: если встретится вам в Париже чувствительная душа, отлынивающая от труда, берегите ваши карманы. Задумчивая тишина воцарилась вслед за заключением пакта. За разговором друзья незаметно удалились от почтовой конторы. Глухой шум, долетевший издалека, заставил их остановиться. – Омнибус! – воскликнул Симилор. – Я бы не отказался от местечка на империале, чтобы не промочить свои туфли. – Саладен любит кататься, – поддержал его Эшалот. – Сколько у нас в кассе? – Двадцать су, вырученные за карасей. – И у меня пятнадцать. Негусто. Позади них отворилась дверь одного из домов, и мужской голос крикнул: – Поторапливайтесь, мадам Шампион, чуточку поживее! Вы взяли рыбок? Фелисита, фонарь! Мое местечко займут, вот увидите! Дверь осветилась большим фонарем с ручками, которым помахивала угрюмого вида служанка. Вслед за ней появилась весьма дородная дама, увешанная пакетами и задыхающаяся; путаясь в юбках, она изо всех сил старалась поспеть за супругом. – Вечно одно и то же, Адольф! – плаксиво причитала она. – Ждать до последнего мгновения, вместо того чтобы явиться в контору пораньше! Я взяла платок, Фелисита? Хорошенько закройте шкаф с продуктами, чтобы не заползли насекомые. А насчет кота разузнайте, гулена нам не подходит… – Да побыстрее же, – понукал ее Адольф, вырвавшийся вперед. – Ты взяла рыбок, мадам Шампион? – Я взяла рыбок, Фелисита? Адольф обернулся. Свет фонаря окружил его фигуру блистающим ореолом – во всей своей красе предстал уже знакомый читателю франтоватый рыбак, задумавший изловить щуку весом в четырнадцать фунтов. Он путешествовал налегке, только удочка – шикарная, последней модели, отягощала его руки, в то время как несчастная супруга пригибалась к земле под тяжестью багажа. (Заметим, кстати, что парижане весьма сурово осуждают нравы варварских племен, заставляющих женщину чувствовать себя существом второго сорта. Женушка господина Шампиона носила имя Селеста и на последней ярмарке в Сен-Клу потянула на добрых двести два фунта.) При виде нарядного рыбака Эшалот испустил радостный крик. – Старый знакомый! – умилился он, подтягивая Саладена как можно выше. – Порядок, нам будет на что купить билеты в омнибус. И пояснил ничего не понимающему Симилору: – Сейчас я все устрою, Амедей. В нашем деле главное догадаться, за какую ниточку дернуть. Я знаю, как подцепить этого разряженного типа. Подержи Саладена. Освободившись от своей ноши, Эшалот скинул шляпу и преградил господину с удочкой дорогу. – Добрый вечер, сударь… Как я вижу, моих букашек приходится нести вашей супруге? Господин Шампион прыгнул в сторону, словно на ногу ему наехало колесо. – Что вы тут изволите делать? – возмущенно поинтересовался он, ускоряя шаг. – То же, что и вы, сударь: возвращаюсь в Париж… Захотелось с вами поболтать о рыбалке: как ни верти, а карасики мои все-таки стоили су за штуку. – Цену мы обсудили, – возразил господин Шампион, – рыба оплачена, так что давайте распрощаемся. – Нет, не обсудили, – стоял на своем Эшалот, следуя за ним, словно тень, – вон идет ваша супруга, дамы лучше разбираются в ценах, предлагаю спросить у нее. – Адольф! – взывала выбившаяся из сил госпожа Шампион. – Неужели трудно меня подождать? Адольф круто остановился. Покраснев от злости, он вынул из кошелька три монеты по двадцать су и вручил преследователю со словами: – Только бесчестный человек способен воспользоваться столь деликатной ситуацией! И пошел прочь. Кровь ударила Эшалоту в голову, но вслед за обидчиком он не кинулся, а, пробормотав проклятье себе под нос, неторопливо вернулся к Симилору. Когда он рассказал эту историю другу, тот очень развеселился и одобрительно произнес, возвращая ему Саладена: – Дружище, из тебя будет толк! К омнибусу компания подошла без всяких угрызений совести. Взбираясь на империал, они заметили под рессорами корзину, в которой лежал пес господина Матье, а наверху торчала из-под брезента плетеная тачка калеки. – Вот тебе и новая загадка! – пришел в изумление Симилор. – Экипаж Трехлапого! А где хозяин? Не остался же он ночевать в замке! …Купе, как и предполагала конторщица, оказалось свободным. Господин Брюно устроился в нем рядом с Эдме Лебер, которая поднялась в омнибус не без его помощи. Госпожи Шампион, увешанную пакетами, пришлось прямо-таки пропихивать в дверь: после последней ярмарки в Сен-Клу она, видимо, сильно прибавила в весе. В салоне уже расположились вожурские пассажиры, которые яростно обороняли свои места от пришельцев из Ливри. Причем все, кроме Адольфа, были со свертками и тюками. Наконец, после обмена язвительными репликами, люди и вещи пристроились кто куда; салон, как только дверца закрылась, оказался набитым не хуже туго заряженной пушки. А наверху вальяжно развалились на лавке Эшалот с Симилором. Эшалот приобрел пару сигар, и едкий дым заволакивал остатки совести приятелей: они покуривали за здоровье Адольфа, первой жертвы их аморального пакта. – Главное – отыскать нужную ниточку, чтобы дернуть за нее, – говорил Эшалот. – Отыщем, – успокаивал его компаньон. – Откормимся и мы не хуже других, не все же нам питаться сухими корками… Мы пойдем на все, чтобы вывести нашего ребенка в люди! Последние слова относились к Саладену, надежде этого фантастического семейства. Вопреки всем законам природы, на долю Эшалота, бывшего в истории с ребенком совершенно ни при чем, достались трудные материнские хлопоты. Малютка походил на те чахленькие, но упорные былинки, которые умудряются вырастать в расщелинах меж камней. Жизнь ему досталась нелегкая: с ним никогда не церемонились, его раскачивали и швыряли, как мешок, и частенько ему приходилось засыпать вниз головой. Щенок на его месте давно бы сдох, а Саладен ничего, поживал себе и временами даже чувствовал себя недурно. Попыхивая сигарой, Эшалот сунул ему «в клювик», как он любил выражаться, замызганную бутылочку с соской, и малыш с удовольствием потягивал из нее нечто, отдаленно напоминающее молоко. А внизу, в купе, господин Брюно, стараясь освободить для своей юной спутницы, откинувшейся на подушки, как можно больше места, говорил тоном довольно-таки властным, который, впрочем, легко объяснялся его возрастом и оказанной услугой: – И никаких секретов, дитя мое. Мне должны быть известны все детали вашего визита к баронессе Шварц. VIII РАЗБОЙНИЧЬИ СКАЗКИ В салоне между пассажирами из Вожура возобновилась прерванная беседа, начатая, судя по всему, еще в лесах Бонди. Вожурцев было трое: дама и двое мужчин, один из которых был чрезвычайно говорлив, а другой, напротив, все время молчал. – Нет, с этим давно покончено, – говорила дама. – Я имею в виду все эти лесные сказки. Грабители теперь орудуют в городах. – Ага! – воскликнул пассажир, севший в Ливри и зажатый между двумя штабелями пакетов. – Перемываем кости разбойничкам?.. Мое почтение, госпожа Бло, как поживаете? – О! А я вас и не узнала, господин Туранжо! Как здоровье супруги? – Мается ревматизмом, бедняжка, совсем ее одолели всяческие хвори. – У нас в Вожуре климат куда здоровее, чем у вас в Ливри! – поспешила высказать свое мнение госпожа Бло. – Ну уж нет! – живо возразил господин Туранжо. – Что касается здоровья, то Ливри… – Ты взяла рыбок, Селеста? – забеспокоился вдруг Адольф, и на лоб его набежало облачко при мысли о том, как дорого обошлись ему карасики. – О Боже! – простонала госпожа Шампион, измученная обилием багажа. – Я взяла рыбок и все остальное тоже. Вы не находите, что здесь очень жарко? – Вечера сейчас слишком прохладны, – ответила госпожа Бло. – Уж лучше посидеть в жаре, чем подхватить простуду. Господин Туранжо закончил свою мысль: – …то Ливри, слава Богу, славится чистотой воздуха. Лучшие медики столицы рекомендуют легочным больным пребывание в его окрестностях. – Так вот, – вернулся к прежней теме говорливый господин, – от разбойников все же был кое-какой прок: они придавали путешествиям пикантность. Посреди пути раздавало вдруг молодецкий посвист… – Ничего себе пикантность, благодарю покорно! – Кавалеры успокаивали дам, и сколько очаровательных романов завязывалось в те волнующие минуты!.. – Ах! – прервала его госпожа Бло, вдова рантье и судебного исполнителя. – Избавьте нас от продолжения вашего рассказа! – Вы ведь, кажется, не из этих мест, сударь? – подозрительно поинтересовался у говоруна господин Туранжо. – Насколько помнится, я еще не имел чести путешествовать вместе с вами. – Як вам наведывался по делу, тут у вас продается одно недурное поместье. – Ах да! Вы, надо полагать, имеете в виду поместье генерала! Какой был изумительный человек! Блестящая военная карьера, солидное состояние, а уж выправка… – Зато наследников не оставил, – заметил Адольф. – Впрочем, рыбак из него был так себе, довольно никудышный. – Теперь его добро продадут по дешевке. Наехали родственники из провинции и раздирают поместье на куски. – Говорят, колбасник из Кана. – И скотовод из Бейо. Генерал был нормандцем. – Ох уж эти мне нормандцы! – Осторожнее, господа, – предупредила Селеста, – мой Адольф родом из Нормандии. – Когда я говорю «никудышный рыбак», – отозвался Адольф, – я имею в виду, что… что не было в нем размаха, никогда ему не удавалось выловить что-нибудь эдакое… – Давайте поговорим о рыбной ловле на море! – оживился господин Туранжо. – У меня есть кузен в Дьеппе, который снабжает нас омарами. Посылает их совсем свеженькими, и они приходят… – Протухшими, – язвительно докончила госпожа Бло. – Адольф, – тихонько попросила госпожа Шампион, – достань из моего кармана табакерку. Но Адольф, не обращая на нее внимания, гнул свое: – В реках водится такая живность, какую и в океане не сыщешь. Говорун попытался было вернуть разговор в прежнее русло: – Железные дороги начисто стирают живописную прелесть путешествий, это признают все мыслители. – Кстати, сударь, – обращаясь к нему, заметил господин Туранжо, – в наших местах тоже собираются провести железнодорожную линию, и если вы серьезно надумали прикупить поместье, то советую поспешить, ибо земля дорожает с каждым днем. Вот, к примеру, барон Шварц, о котором вы наверняка слыхали… – Разумеется! – Тут у нас, знаете ли, не очень-то его жалуют… – Сударь, – суровым тоном прервал говорившего Адольф, – многословие зачастую приводит к пагубным последствиям. Я имею честь служить помощником главного кассира в банкирском доме господина Шварца. – Ну и что? – неприязненно отозвалась госпожа Бло. – В наших местах барона недолюбливают, это точно. Однако господин Туранжо поспешил загладить свою оплошность: – Сударь, вы совершенно правы, вступаясь за начальство. К тому же у меня и в мыслях не было порицать столь видного финансиста! Я бываю на его приемах. То, что я собирался сказать, можно поставить в заслугу господину барону. Ему предлагают теперь за его землю миллион четыреста пятьдесят тысяч франков, а года три-четыре назад он купил его всего за шестьсот тысяч. Сто двадцать процентов за четыре года! И все это благодаря железной дороге, в проектировании которой он принимал участие. – Ничего себе! Недаром мой бедный Бло всегда порицал этого человека! – Что ни говорите, а все-таки паровые машины – это прекрасное изобретение. – Нет, я сейчас задохнусь! – простонала Селеста, бросив взгляд на закрытую дверцу салона. – Вечера прохладны, – твердо стояла на своем госпожа Бло, – лучше посидеть в жаре, но без насморка. Говорун решил, что пора вернуться к разбойникам. – Я, сударыня, абсолютно согласен с вашим утверждением, – заговорил он, обращаясь к вдове рантье, – что Париж превратился в сборище злоумышленников, изгоняемых отовсюду. Право слово, настоящий лес… черный лес, вот как можно назвать наш Париж! – В прошлом году у меня в переполненном омнибусе украли серебряную табакерку. С этими словами госпожа Бло вынула свой табачный припас, и Селеста обратилась к ней с просьбой: – Вы меня не угостите, сударыня? Я так завалена вещами, что мне до своей не дотянуться, а сами понимаете, привычка берет свое… – Разумеется, прошу не стесняться! Все присутствующие, имевшие слабость к табачку, попотчевались из табакерки госпожи Бло, за исключением молчаливого господина, который прихватил изрядную понюшку из собственного бумажного фунтика. – Та, которую украли, была чуть похуже этой, – сообщила госпожа Бло, захлопывая табакерку, – но я очень ею дорожила, ведь мне ее подарил мой бедный Бло, хотя он никогда не одобрял пристрастия к табаку у дам. – А у моей жены табакерка за восемьдесят франков, фабричного производства, – объявил Адольф. – Следи за рыбками, госпожа Шампион. – Черный лес! – повторил говорун. – Уверяю вас! И заметьте, какое фатальное совпадение: когда-то Париж стоял посреди леса. – Быть не может! – изумилась вдова. – Сущая правда, сударыня, – поддержал говоруна господин Туранжо. – Леса вокруг Бонди, вернее сказать, вокруг Ливри – это его остатки… Лес, сплошной лес рос на месте Парижа. На оленей и кабанов охотились прямо на улице Ришелье. – А теперь нам осталась только рыбная ловля, – заметил Адольф, – в реках все еще можно кое-чего поймать. – В том месте, где теперь находится биржа, банды обнаглевших разбойников… Последовал дружный смех. Какими бы плоскими ни были остроты насчет биржи, они всегда пользуются неизменным успехом… – Ах! – вскричала вдовушка. – Мой бедный Бло так любил пройтись по поводу биржи! – На бирже задержался – без кошелька остался, – попытался сострить Адольф, внося свою лепту в общее веселье. Селеста, освободив одну из рук, ущипнула его в знак восхищения за колено. – Следи за рыбками, – одернул супругу Адольф. – Однако если говорить откровенно, – продолжал велеречивый господин, – с тех пор мало что изменилось. Парижский лес существует по-прежнему, разве что деревьев стало поменьше. Олени, украшенные рогами, стадами разгуливают по Парижу – об этом частенько рассказывается в водевилях: водятся в изобилии свиньи, дикие и домашние. А уж змеи! Кто станет отрицать наличие в Париже змей? Имеются также розовые кусты, где укрываются эти гады, имеется множество птичек, распевающих веселенькие куплетцы. Впрочем, есть и кое-какая разница: в старом лесу для любви был отведен всего лишь один сезон, весенний, теперь же в нашем Париже любовное воркование продолжается все четыре сезона… – Вы так неосторожны в выражениях, сударь, здесь же дамы! Вдова судебного исполнителя не смогла удержаться от замечания, но большинство слушателей настаивало на продолжении: – Что вы, что вы! Пускай говорит, не мешайте! Это так забавно! – Но разница все-таки незначительна, сходства гораздо больше, достаточно вспомнить рыскающих по Парижу волков… – Парижские бродяги куда хуже волков! – Сударь, – прервал остроумного пассажира господин Туранжо, – если вы купите поместье в наших местах, я буду счастлив продолжить знакомство с вами. – Лес охраняется лесниками, в Париже этим делом заняты полицейские… – А браконьеров сколько! – А старьевщики! Собирают вместо хвороста тряпье и всякую прочую дрянь! – А английские туристы! Прохаживаются себе, точно в Фонтенбло! – Он так элегантно выражается, этот господин, – одобрила Селеста, – сразу видно приличного человека. Адольф ответил: Слишком болтлив. Не отвлекайся от рыбок. – Что касается самих разбойничков, – продолжал импровизировать говорун, – то никаким пущам не собрать столь славной коллекции, какой знаменит Париж. Смешно слушать про нынешних лесных бедолаг: они и в подметки не годятся ловким парижским молодцам!.. Ничего себе общество! Помните вы, судари и сударыни, банду Монроза! – Ах! – тотчас откликнулась Селеста. – Мошенник куролесил как раз в то время, когда я выходила замуж. Адольф тогда рыбачил не так часто. – Рыбки! – забеспокоился господин Шампион. – Не отвлекайся! – А банда Натана! – продолжал эрудированный пассажир. – А дамы: Нинетта и Розина! У них появился даже собственный автор, господин Бальзак, вспомните-ка его Вотрена. Наверняка он имел обширные знакомства в лесных дебрях… И снова прекрасный пол: ловкачи Лина Мондор и Клара Вандель способствовали созданию драм – люди дна очень любят, когда их показывают на сцене… При Луи-Филиппе парижский лес зажил бурной жизнью. Тысяча восемьсот тридцать третий год – банда Гарнье, семьдесят пять приговоров сразу. Банда Шатлэна: кастеты и тряпочные туфли для бесшумного скольжения по мостовой. – У нас на империале тоже едут двое типов в тряпочных туфлях! – таинственно сообщила госпожа Шампион. – У моей жены такой острый глаз, ничего от нее не скроешь, – похвалился Адольф. – Не отвлекайся от рыбок! Господин Туранжо, завидуя успеху говорливого пассажира, лихорадочно рылся в памяти. Наконец и ему удалось вставить словечко: – Вспомнил: Гюг! У него была целая шайка! – Пятьдесят пять злодеев. А еще: банда Шива, банда Жамее банда Дагори, – отчеканила госпожа Бло. Молчаливый господин чихнул. Это был первый шум, который он произвел. Сунув руку в карман за носовым платком, он вытаращил глаза: платок исчез. – Вы его потеряли, сударь, – конфузливо заметил господин Туранжо. – В наших краях нет воришек. Мы не унизимся до описания человека, сморкающегося без помощи носового платка. Молчаливого господина к этому вынудили обстоятельства… Дамы улыбались. Вдова развернула свой совершенно новенький, внушительного размера фуляр, а Селеста попросила: – Адольф, достань мой носовой платок. Адольф выполнил просьбу, разумеется, напомнив жене про рыбок. Человеческий род слаб: через минуту сморкался весь салон. Молчаливый господин не выказывал никакого смущения. Пассажир с хорошо подвешенным языком вернулся к обзору бандитской жизни: – Пошли дальше… Банда Карпантье – семьдесят три человека на скамье подсудимых! А вот совсем недавние имена: Курвуазье, Миньяр, Готье, Сук, Шапон, который руководил двумя сотнями бандитов, а шайка Пульмана, а молодчики Маркетти!.. И наконец те, до кого еще не добралась полиция, самая ловкая из всех когда-либо существовавших банд: знаменитые Черные, Мантии, имеющие своих людей не только в сомнительных воровских кварталах, но и на самом верху социальной лестницы… – Газеты о них ничего не пишут, – прервала говорившего мадам Бло. – Боятся напугать коммерсантов. Банда работает по-крупному и остается неуловимой для полиции. – Говорят, что их поддерживают сильные мира сего… – И что правосудие их страшится! – Какие страсти! – ужаснулась госпожа Шампион, слушавшая с разинутым ртом. – Меня дрожь от таких вещей пробирает! – Ни за какие деньги не согласился бы я жить в этом Париже! – объявил господин Туранжо. Адольф снисходительно пожал плечами. – Я служу помощником кассира, – начал он с той неколебимой спесивостью, которая столь возвышала его в глазах Селесты, – главным помощником кассира, а поскольку начальник мой относится к работе с прохладцей, то вся ответственность за дело падает на меня. И справляюсь я превосходно! Береги рыбок! Наш банк, как известно, один из самых солидных в столице, а располагаемся мы, прошу это заметить, в пустынном квартале, уже завоевавшем дурную славу, – улица Энгиен нередко мелькает на страницах криминальной хроники. Однако меня это нисколько не волнует. Человек умный, образованный, отважный и осторожный преуспеет в счетоводстве точно так же, как в рыбной ловле. Утверждают, что рыбная ловля смягчает нравы не хуже музыки, хотя я до оперной музыки не охотник. Слишком уж она напыщенна, не правда ли? Впрочем, популярные арии, введенные в водевиль для пущего оживления, звучат иногда очень мило… Пардон! Я говорил о… Да, я говорил о бандитах и о рыбной ловле, и тут имеется связь: человек, часто бывающий в обществе рыб, научается у них множеству уловок и хитростей, – рыба по природе своей очень хитра! – которые могут ему пригодиться в жизни. Я обведу вокруг пальца кого хотите – даже эти самые Черные Мантии, перед которыми вы все гак робеете, совершенно мне не страшны… – Ого! – с недоверием воскликнул господин Туранжо. – Если бы они были здесь, у них нашлось бы, что вам ответить! – Если бы они были здесь, я не стал бы распространяться о службе в банке, а с людьми приличными я вполне могу поделиться своим немалым опытом. Держи рыбок как следует, Селеста!.. О, да мы уже в Бонди! Омнибус остановился. Ринувшаяся к нему пара незадачливых пассажиров с корзинками была остановлена фатальной фразой: «Мест нет!», прозвучавшей с облучка кучера; служанка из придорожного трактира поднесла ему традиционную рюмку водки, которую все уважающие свое дело извозчики принимают во время стоянок, помогая лошадям отдышаться. Эшалот с Симилором распевали на своей верхотуре; в салоне решено было по прибытии держаться подальше от этих подозрительных типов, обутых в мягкие туфли. Страшные сказки действуют даже на храбрецов. Селеста, державшая карасей в руках, дабы они не утеряли свежести, робко спросила, нельзя ли наконец открыть дверцу, но вдовушка вспомнила своего бедного Бло, который терпеть не мог сквозняков. – Я не отказываюсь от обещания поделиться своим опытом, – начал Адольф тотчас же, как только омнибус тронулся, – а надо сказать, что опытен я не только в счетоводстве, но и во многих других делах. Несколько лет уже я хлопочу об учреждении в департаменте Сена общества рыбаков, дабы внести в нашу городскую цивилизацию новый благодатный элемент. Но это так, к слову… Что же касается парижского леса, то мы в нашем банке не дремлем, нас врасплох не застать. Для тех, кого не имею чести знать, сообщаю: я занимаю антресоль в особняке Шварца, Париж, улица Энгиен, 19. Там же помещается и служащий, ведающий ценными бумагами, но дело, однако, не в этом. Я уже сказал, что плевать хотел на всех хитрецов-преступников вместе взятых. Вот так-то. Не буду делать тайны из принятых мною на вооружение способов защиты. Во-первых, никогда не остаюсь ночевать в своей загородной вилле, которая служит мне для хранения удочек: большая часть всех парижских ограблений происходит из-за пагубной привычки горожан ночевать вне дома. Как только открывается входная дверь особняка Шварца, у меня раздается звонок. Разумеется, это причиняет излишнее беспокойство, учитывая число посетителей банка, но зато я получаю первый сигнал, избавляющий меня от дальнейших сюрпризов. Второй звонок раздается, когда открывается дверь моей передней, и это второй сигнал; если первый предупреждает меня: «Будь начеку!», то второй приказывает: «Вооружайся!» Но и это еще не все. Имеется еще один звонок, третий, он начинает трезвонить прямо над моей кроватью, как только кто-нибудь коснется двери моего кабинета. Дамы и господа! Даже если я предаюсь отдыху, первый звонок приводит меня в сидячее положение, второй поднимает на ноги, а третий звонок вопит: «Шампион, защищай сокровища, вверенные твоей бдительности!» – Очень любопытно! – заметил господин Туранжо. – Очень, очень! – подтвердил говорун и, как ни странно, пристально посмотрел на молчаливого пассажира. Тот не спеша вынул из кармана бумагу и карандаш и принялся что-то писать. – Нам выпала честь путешествовать с поэтом! – насмешливо проговорил словоохотливый пассажир, на что господин Туранжо вполне серьезно ответил: – Ничего удивительного, сударь, в наших местах поэтов хоть отбавляй. IX КОКОТТ И ПИКЛЮС Никто не пытался кинуть взгляд на стихи молчаливого пассажира. Он очень ловко строчил их впотьмах – на такое; способны только истинные поэты. – Ладно, – продолжал господин Шампион, весьма воодушевленный собственным рассказом о принятых в банке Шварца мерах предосторожности, – допустим, двери можно открыть, но как? При входной двери стоит швейцар, подобранный из бывших жандармов. Он надежней пистолета, сынок его служит барабанщиком в гвардейской роте. Дверь передней моего кабинета имеет три замка, из которых два секретных, да два надежных засова, все механизмы производства знаменитой фирмы Бертье. В самой передней перед дверями моего кабинета на коврике расположился Медор; не знаю, как там насчет Цербера, но думаю, мой Медор куда опаснее: стоит ему подать голос от дверей кабинета с кассой, как лай его отчетливо раздается в моей спальне, будто он находится где-то поблизости, прямо под столом. А почему? Да потому, что моими заботами в кабинете установлены два акустических усилителя. Ха-ха, бедный воришка, не правда ли? Дверь кабинета снабжена защелкой и всего лишь огромным засовом, но зато дверь кассы имеет запор Бертье с двойным секретом; язычок в замке крестообразный. Мой кабинет разделен решеткой на две половины, и та часть, где расположена касса, сущая крепость, поверьте слову, со всяческими хитростями и сюрпризами, почище старых курантов на Новом мосту. Ключ от кассы всегда, и днем и ночью, находится на своем постоянном месте – я ношу его, не снимая, на собственной шее. Вот так-то, господа бандиты! Моя спальня находится по одну сторону кассы, спальня моей супруги по другую, а в помещении посередке спит наш слуга, дюжий парень, я нарочно себе подобрал такого. У супруги свои пистолеты, у меня свои, и у нашего парня тоже две пары. Где вы, Черные Мантии? Что касается окон, то они устроены как витрины у магазинов, каждое с четырьмя перекладинами. На всех каминах решетки. Нам приходится опасаться только бомбы! – Боже мой! – вздохнула мадам Бло. – Лучше уж жить с бедуинами! – Да, угораздило же нас родиться в такой стране, – поддакнул господин Туранжо. – Не знаешь, как спастись от разбоя! – Сударь, – обратился к бравому Адольфу говорливый пассажир, – можно сказать, что вы посреди черного парижского леса воздвигли настоящую цитадель! Слова его, как всегда, вызвали всеобщее одобрение. Селеста, у которой уже слипались глаза, получила пятнадцатое предостережение насчет рыбок. Молчаливый поэт продолжал вслепую царапать что-то в своем блокноте. – Еще бы не цитадель! – промолвил в ответ Адольф. – Я бываю прямо-таки завален деньгами, черт возьми! У меня и депозиты, и текущие счета, и наличные. Через мои руки прошло состояние старого полковника Боццо, деда графини Корона, не приведи больше Бог такой суммы! Через несколько дней, в конце месяца, ко мне поступит наследство дочери самого господина Шварца. Каково? От суммы в два-три миллиона не отказался бы никто из грабителей, кабы можно было со мной разделаться ударом ножа! Намек на свадьбу единственной дочери богача банкира дал разговору новое направление. Пошли пересуды. Барона Шварца, как справедливо было замечено, не очень любили в этих местах, но с жарким любопытством относились ко всем его начинаниям. Хотя хорошенькая Бланш только-только вышла из детского возраста, два миллиона приданого прославили ее имя: король Луи-Филипп давал за своими в два раза меньше. Два миллиона! Поговаривали, что на руку банкирской дочки претендует герцог. Подумать только! Герцог для наследницы какого-то Шварца из Гебвиллера, найденного в эльзасской капусте! В претендентах числился также племянник министра и даже августейший крестник. Два миллиона! Добавляли, что герцог, вероятно, сильно нуждается и что не так уж трудно сыскать среди титулованных особ охотников за большим приданым. Но кто же явился следом за герцогом, племянником министра и августейшим крестником? Адольф торжественно объявил имя господина Лекока. Вы, может быть, ожидаете, что серенькая буржуазная фамилия, произнесенная после блистательных великосветских имен, вызвала всеобщее разочарование?.. Напротив! Воцарилось глубочайшее почтительное молчание, соответствовавшее глубине произведенного эффекта. Никто не спросил, кто он такой, господин Лекок, видимо, все пассажиры знали его – хотя бы понаслышке. Туранжо кашлянул, вдова рантье развернула свой роскошный фуляр, Селеста крепче ухватилась за рыбок. Молчаливый пассажир сунул блокнот и карандаш в карман, и только говорун не обошелся без реплики в своем стиле: – Диковинные же звери попадаются в нашей парижской пуще! Замечено верно: Париж, даже если не считать его лесом, оказывает покровительство курьезнейшим типам, каких не встретишь ни в одном другом городе мира. Их имена сами по себе не говорят ни о чем, большей частью они вполне невинны: Мартин, Гишар или Лекок. Но слава, подпитанная тайной, может самому вульгарному имени придать громоподобное звучание. Фамилия Лекока прозвучала в салоне подобно quos ego[11]; Вергилия. Разговор, будто прихлопнутый дубинкой, больше не возобновлялся. На империале Эшалот и Симилор предавались тем временем любимым сентиментальным мечтаниям, ребяческим и не лишенным своеобразного тяготения к добру. Собственно говоря, они не возражали и против работы, но трудиться желали только по собственной охоте, зачарованные, как и многие другие, популярнейшей в Париже химерой, известной под названием «свобода». Свобода предписывала им не налагать на себя ярма какой-либо профессии. Они считали себя артистами. Какой музе они служили? Да разве же это важно? Подобные им печальные комики во множестве живут и умирают на парижских задворках. Теперь они решили окунуться в дела и выбиться в люди. Представления их о шикарной жизни были скромными до смехотворности, но даже эта простенькая цель облекалась ими в фантастические одежды. Способы, какими надеялись они раздобыть богатство, были столь экстравагантны, что читателю не догадаться о них без авторской помощи. – Такое не исключено, – говорил Симилор со вздохом. – Это был бы шанс: богач поручает нам убить младенца во избежание семейного скандала… дело известное… у аристократов такое сплошь и рядом бывает! Мы его уносим с собой, но, конечно, не убиваем, а воспитываем вместе с Саладеном. – И пускай у богатенького младенца будет метка на белье, раз он из благородных, – посоветовал Эшалот. – Или материнский крестик на шее… что-нибудь в таком роде… – Медальон, черт возьми! На цепочке! Разве плохо? – Хорошо. Предмет этот хранится нами очень бережно, а то ребенок может заиграться им и потерять, а позднее, когда обнаруживается выплакавшая все глаза мать, он служит нам свидетельством для получения огромной награды. Эшалот восторженно внимал словам друга; затем, кинув печальный взгляд на все еще посасывающего из своей бутылочки Саладена, он заметил: – Жаль, что у твоего малыша известное происхождение… А случаи такие бывают, это верно. – Слишком долго ждать, – недовольно произнес Симилор. – Помнишь, в той пьесе, где младенец из пролога становится к финалу офицером, а отец помирает; их еще играет один и тот же актер? Лучше бы поймать богача на каком-нибудь подлом секрете, чтобы он нам за него постоянно выплачивал хорошие денежки. – Недурно! – одобрил Эшалот. – А не будешь платить, донесем! – И он будет платить как миленький, хоть и поскрипывая зубами от злости. Вот почему я решил поохотиться в нашем квартале… – Я тоже в доле! Малышу справим штаны. – И чтобы капало постоянно! Обеспеченная жизнь, ни тебе долгов, ни постылой нужды, все вокруг тебя уважают, а соседская дочка мечтает пойти с тобой под венец… Эшалот, слушавший с разинутым от восхищения ртом, опечалился. – Вот еще, под венец! – возмутился он. – Жениться – это значит предать нашу дружбу. Симилор не стал заводить дискуссию на эту тему, всегда вызывавшую жгучие разногласия между Орестом и Пиладом; улыбаясь, он рисовал картину сладкой жизни, которую можно обеспечить себе на деньги какого-нибудь дантиста, «уличенного в преступной привычке хлороформировать дам в тиши своего кабинета». Небо раскинуло над их головами свой темно-синий купол, усеянный звездами. Они угадывали за этим сверкающим сводов всемогущего Бога, покровителя простаков, чей Синай расположился на Монмартре, – он благоволил к мелодраме и веселые куплеты любил больше псалмов. Они возносили этому божеству свои наивные просьбы, умоляя послать им злосчастного младенца или злоумышленного дантиста, созревшего для разорения из-за своих преступных привычек. А под ними, в купе, человек с манерами решительными и властными, которого мы назвали господином Брюно, выслушивал последние слова исповеди Эдме Лебер. Утомленная разговором девушка откинулась на подушки, лицо ее в косом луче света, падавшем от фонаря, выглядело осунувшимся и бледным. В ее глазах не было слез. Господин Брюно скрестил руки на груди и уставился в пространство перед собой холодным пристальным взглядом. Эдме Лебер, послушавшись приказа этого человека, рассказала обо всем без утайки. Он не стал ни утешать ее, ни давать ей советов. Омнибус уже миновал заставу и теперь погромыхивал по мостовой предместья. Через несколько минут он пересек бульвар и въехал во двор конторы на Пла-д'Етэн, остановившись столь внезапно, что от резкого толчка пассажиры и вещи встряхнулись и перемешались. Наступила некоторая сумятица, так что Адольфу даже пришлось самому держать своих рыбок. Затем раздался общий крик изумления: – Трехлапый! Где же Трехлапый? Обычно калека ждал наготове позади омнибуса, голова его находилась на уровне лесенки, а крепкие руки весьма ловко и аккуратно принимали багаж. На сей раз, однако, Трехлапого на его посту не было. – Не волнуйтесь, господа, мы вам поможем! – предложил Симилор с любезной улыбкой. Эшалот, закинув Саладена за спину, тоже тянул освободившиеся руки: – Вот и мы, господа, давайте! Молчаливый пассажир, сошедший первым, раздвинул друзей локтями. Багажа у него не было. – Смотри-ка, – прошептал Эшалот. – Пиклюс! Эк он последнее время прифрантился! – А вон там внутри Кокотт, – добавил Симилор, – тоже одет прилично, будто рантье. – Они же обуты в тряпочные туфли! – ужаснулась почтенная вдовушка. Адольф, тыча пальцем в своего недруга Эшалота, объявил: – Вот этот похож на самого отъявленного разбойника! – Прочь, мошенники! – возмутился и господин Туранжо. – Здесь попрошайничать запрещено! Эшалот с Симилором не такие уж были мошенники, к тому же отличались вспыльчивым нравом; тем не менее они отступили, и господин из Ливри мог считать себя победителем. Однако он ошибался, ибо послушались они вовсе не его команды, а негромкого призыва, долетевшего до них с другой стороны омнибуса. Господин Брюно, стоявший возле дверцы в купе, сделал им знак рукой и сказал: – Проводите мадемуазель Лебер до ее квартиры. И тотчас стремительно удалился, не ожидая ответа, уверенный, что его не посмеют ослушаться. Салон опустел. Селеста, с ног до головы увешанная багажом, ступила на землю, тяжело дыша, точно кит, вытащенный из воды. Госпожа Бло, вдова своего «бедного господина Бло», проходя мимо, ехидно бросила: – До свиданья, сударыня. Помните, что вечера прохладны. И подала руку господину Туранжо, который принял ее весьма охотно, невзирая на давнее соперничество между Ливри и Вожуром. Адольф сошел налегке, гордый своим нарядом, своей осанкой, своим полом – короче, гордый собой с головы до ног. Парижский Аполлон (если, конечно, тучность его не переходит определенных границ) всегда являет собой образец полнейшего счастья. Адольфу хотелось созвать прохожих, чтобы они полюбовались на его гетры. Выбрав момент, который он счел подходящим для всеуслышания, господин Шампион обратился к жене громким голосом: Селеста, это слишком тяжело для тебя, давай я сам понесу своих рыбок! – И, сворачивая на бульвар Сен-Дени, продолжил еще громче: – Очень интересная завязалась борьба между мной и той самой щукой. Но я ее все-таки изловлю. На сегодняшней рыбалке мои соседи ничего не поймали, ну ни одной рыбешки, и страшно завидовали моим карасикам. Селеста, заметила ты, как расхваливал я в омнибусе свой банк? Нельзя отставать от века. Теперь уж наверняка наши попутчики раструбят повсюду: «В банке Шварца не кассир, а чистое золото!» Это равносильно повышению по службе. – Но какая жара, Адольф, – вздохнула Селеста, – я еле тащусь. Температура нормальная, – возразил супруг, – я могу идти так хоть до Понтуаза. А в нескольких шагах от них разыгралась сценка не очень моральная, но зато забавная. Молчаливый пассажир, которого Эшалот назвал странным именем Пиклюс, остановился перед витриной ликерщика. Платок его, видимо, нашелся, во всяком случае, он любовно разворачивал совершенно новенький, внушительного размера фуляр. Вскоре его нагнал говорун, носивший, если верить нашему Симилору, имя не менее странное – Кокотт. Оба были весьма прилично одеты: наряд Кокотта претендовал на франтоватость, Пиклюс же придерживался строгости в одежде. Кокотта можно было принять за представителя золотой молодежи, фланирующей по сомнительным бульварам, а Пиклюс походил на третьего клерка из адвокатской конторы. Что касается физиономий, то Кокотт был весьма смазлив, а Пиклюс вполне мог сойти за благородного отца семейства. – Сколько ты дашь за это? – спросил Кокотт показывая компаньону табакерку госпожи Бло из Вожура. – Мне она без надобности. Пиклюс сунул в карман новенький фуляр той же самой дамы и ответил: – Я обзавелся собственной. С этими словами он развернул уже знакомый нам бумажный фунтик и высыпал его содержимое в очень красивую табакерку черненого серебра. Кокотт с уважительной ухмылкой заметил: – Я тоже побывал в кармане кассирши, но никого там уже не застал. Она и не заметила – так была увлечена рыбками. Они вошли в заведение ликерщика и, усевшись за стойку, заказали абсент. – Экипаж барона Шварца обогнал нас, видел? – спросил Кокотт у дружка. – Да, а потом проехала баронесса в наемной карете. – Точно, чуть позднее. Муж останется в дураках. – Интересно, как они собираются порезвиться воскресным вечерком в Париже? – Спроси у патрона, – захихикал Кокотт. – Думаю, они не станут охотиться за носовыми платками и табакерками. При последних словах лицо Пиклюса приняло озабоченное выражение. – Кстати насчет охоты, парень, – предупреждающим тоном заговорил он. – Ты единственный в мире человек, который знает, что я продолжаю баловаться прежним ремеслом, находясь на службе у патрона. А ведь это строжайше запрещено. На прошлой неделе поступило новое распоряжение ни под каким видом ничего не красть при исполнении служебных обязанностей. Если патрон проведает, жди беды… – Старина, я собирался просить тебя о том же, – прервал его компаньон. – Впрочем, в твоем присутствии я не стесняюсь. Но если проговоришься – все пропало! – Надоело все время слушаться, – горько пожаловался Пиклюс. – Хуже солдата-наемника: направо, налево, вперед! Ешь глазами начальство. А подвернется по пути хорошее дельце, так не смей! – Вот-вот: не смей! Это запрещено в принципе, но, как говаривал мой адвокат господин Котантэн, бывает и то и се… можно чего-нибудь хватануть под сурдинку… а потом уйти, скрыться в густую тень. – Насчет густой тени – это точно, – горячо поддакнул Пиклюс. – Правительство нашу контору уважает, никогда никаких срывов, никаких помех, будто нет ни полиции, ни прокуратуры. – Вот по этой причине можно перетерпеть и суровую дисциплину, – заключил Кокотт. Они чокнулись и выпили с видом заправских светских денди. Насколько же они были шикарнее, чем Симилор с Эшалотом! Поставив рюмку на стойку, Кокотт расплатился широким жестом из бумажника бравого кассира. Выходя, он взял компаньона под руку и тихонько сказал: – Ты дольше меня служишь в нашей конторе. Как ты думаешь, сколько Черных Мантий имеется в наличии? Общим числом? – Да разве такое кто-нибудь знает? – с важностью ответил тот. И добавил серьезно и горделиво: – Наши люди есть повсюду – и на самом верху, и внизу, где копошатся отбросы общества. Воришки наши принадлежали к преступникам нового поколения. Пиклюс, например, был весьма начитан, Кокотт же, более молодой и дерзкий, соединял галльскую веселость с обширной эрудицией. В общем, замечательные мастера своего дела. Кокотт задал следующий вопрос: – А как по-твоему, наш патрон главный над всеми ними? – Над Черными Мантиями? – переспросил Пиклюс с патетической ноткой в голосе. – Да. Самая черная из Черных Мантий, это он? – Мне никого не доводилось видеть главнее патрона, – признался Пиклюс. – Может, и есть кто-нибудь выше, да мне не верится. И, чуть подумав, добавил: – А вообще-то, малыш, это и впрямь очень важно. Кто разгадает эту загадку, станет очень ученым: он будет держать в своих руках нить. Мне, признаться, осточертело ходить в нижних чинах. – А мне?! – с обидой воскликнул Кокотт. – Мои куплеты распевают в самых модных заведениях столицы!.. Видать, патрон тебя крепко держит, а? Пиклюс, стиснув его руку покрепче, проворчал: – Точно так же, как и тебя: за глотку. Они переступили порог следующей распивочной. Подобное всегда происходит само собой: шаг, другой, третий, двадцатый – и ты уже снова у стойки. В гостеприимном Париже рюмки «зеленой отравы» могут служить знаками препинания, расставляемыми по ходу интересной беседы. – Ты откуда? – спросил Кокотт, покидая второе заведение. – Из замка; а ты где был? – И далеко и близко, у кассира и у графини. – По какому делу? – А ты? Они остановились неподалеку от Национальной школы искусств и ремесел, пристально поглядев друг другу в глаза. Зрачки их столкнулись, сверкнув искрой дьявольского хитроумия. – И графиня греет руки на этом деле? – пробурчал Пиклюс. – Возможно… а банкир? Нет… ты же сам знаешь, что нет, у тебя в кармане слепок с ключа от его кассы. Кокотт расцвел самодовольной улыбкой. Приятели резко свернули и начали подниматься к воротам Сен-Мартен. – Мне действительно удалось сделать слепок, – похвалился Кокотт, – но банкир тут ни при чем, он ведет себя как положено: близко не подпускает. Как только придурок с карасями объявил, что всегда носит ключ на своей шее вместо почетной медали, я позволил своим пальчикам поиграть. Но ведь и ты не дремал. Интересно, что ты записывал в своем блокнотике во время путешествия? Они подошли к фонарю. Пиклюс, запустив руку в глубины кармана, вынул оттуда блокнот и раскрыл его на нужной странице. Она была исписана сверху донизу, но отнюдь не стихами. Кокотт принялся читать из-за его плеча: – Входная дверь с улицы – перерезать проволоку. То же самое с дверью на антресолях – два секретных замка и один обычный, два засова. В прихожей Медор: лай далеко слышен благодаря усилителям. Касса за решеткой, в двери – замок Бертье, сложный – с двойным секретом; ловушка. Три вооруженных личности: мокрая курица, здоровая баба и дюжий парень. Сумма к концу месяца – два-три миллиона. Запись, сделанная чуть ли не на ощупь в тряском салоне, удивляла почерком твердым и отчетливым. Чувствовалась рука мастера. – Изумительно! – восхитился Кокотт. – К твоей поэзии и к моему слепку остается добавить только одно: пожалуйте обслужиться! Сколько мы с этого будем иметь? – Кусок хлеба! – буркнул Пиклюс, пряча блокнот. – А если продать нашу историю банкиру? Компаньон вздрогнул и повел вокруг затравленным взором. Какое-то слово просилось на его губы, но он только указал красноречивым жестом на свою шею и с вымученной улыбкой ответил: – Это было бы не слишком-то осторожно! Они обогнули угол улицы Нотр-Дам-де-Назарет. Три фиакра стояли вдоль тротуара, напротив второго дома, который был предпоследним в ряду. В дверь именно этого дома вошла Эдме Лебер, сопровождаемая нашими друзьями Симилором и Эшалотом, не посмевшими ослушаться господина Брюно. – У патрона гости, – заметил Кокотт, не останавливаясь. В двух первых фиакрах никого не было. В третьем же соколиный глаз Кокотта не увидел, а скорее угадал женскую фигуру. – Графиня! – прошептал он. – Вот кто трудится, не покладая рук. Его товарищ сделал вид, что ничего не заметил. Они вошли к дом, и Кокотт просунул свою веселую физиономию в окошечко швейцарской: – Эй! Рабо! Старина Родриго! Как дела, был сегодня день или нет? Консьерж сдвинул вверх огромный зеленый козырек, защищавший его воспаленные глаза, и ответил: – А то как же? Солнце сядет еще не скоро. – Отлично, – отозвался сзади Пиклюс. – Ничего нового? – Ничего. Пиклюс, в свою очередь, сунул голову в окошко и спросил, понижая голос: – Господин Брюно все еще живет по соседству? – Дом рядом, пятый этаж, дверь налево. – А Трехлапый здесь, на пятом, дверь направо? – Точно, направо. – Он что, заболел, Трехлапый? – Почему это? – Его не было сегодня вечером в почтовой конторе. Консьерж резко сдвинул свой козырек. – Быть не может! – воскликнул он. – В воскресенье! Впрочем, я, знаете ли, не привык за жильцами шпионить. Господин Лекок говорит, что мы живем в свободном городе. Вольному воля! Каждый устраивает свои делишки, как ему нравится. Его красные глаза, не вытерпев света лампы, снова укрылись под широким козырьком. – А этот тип навещает иногда нашего патрона? – с некоторым колебанием поинтересовался Пиклюс. – Который?.. Трехлапый? – Да нет же, господин Брюно. Консьерж пожал плечами, снова принимаясь за работу. – Этот проходимец присосался к малышам с пятого этажа. Но поговаривают, что он греет руки. – Звоните! – приказал Пиклюс. Старый Рабо нажал на кнопку, и серебристый звук отозвался где-то на верхнем этаже. Компаньоны поднялись по лестнице. За дверной решеткой мелькнула чья-то тень. Показалось на миг неподвижно-спокойное лицо покровителя Эдме Лебер и тотчас пропало. Х НАШ ГЕРОЙ Пора, читатель, пришло уже время выпустить на сцену героя. Ни одна сказка, ни одна драма или поэма не обходится без этого привилегированного создания, вокруг которого кипят страсти. Он молод, прекрасен, загадочен; одни его пылко обожают, другие столь же пылко ненавидят. Роман без героя подобен телу, лишенному души. Пора. А то могут подумать, что мы вовсе не запаслись героем. Мы поместим нашего героя на пятом этаже дома, выходящего своим задним фасадом во двор уже известной нам конторы почтовых сообщений, того самого дома, за которым следил господин Матье по поручению барона Шварца. Старый консьерж Рабо, называвший этот дом богадельней, имел среди своих подопечных не только прославленного Трехлапого, но и таинственного Лекока, патрона Пиклюса и Кокотта, малышей, при которых служил пиявкой господин Брюно, наших старых знакомцев Эшалота и Симилора, а также Эдме Лебер с ее матушкой. Квартирка, в которой проживал наш герой, состояла из двух комнат. Первая была обставлена весьма скромно: старенький диван, служивший кроватью, круглый столик и два стула. Единственное окно выходило на узкую маленькую терраску, увитую зеленью; крошечный, любовно выращенный садик достался в наследство от бедной молодой пары, которой пришлось из-за безработицы покинуть сей скромный рай. Внизу под террасой был угрюмый сыроватый двор, стиснутый с трех сторон строениями; луч света мог добраться до его мостовой только в дни солнцестояния. Дом, расположенный сужавшейся книзу буквой П, тесным своим просветом выходил на двор почтовой конторы. Комната, принадлежавшая нашему герою, была сейчас пуста. В другой, куда мы заглянем чуть позже, обитали двое его друзей, симпатичные молодые люди, которых консьерж и сосе ди называли «малышами». Выходцы из богатых буржуазных семей, они охотно уступили безродному Мишелю отдельную комнату, признавая его значительность и верховенство. Из исповеди Симилора мы знаем уже, что квартирка эта роскошью не блистала, зато была не лишена таинственности – именно тут ставился вопрос о том, чтобы убить какую-то женщину. Однако, увы, в комнате Мишеля никаких следов женщины, которую стоило бы убить, не обнаруживалось. Помещение было уныло и пока что погружено в темноту. Из противоположного окна на пятом же этаже, с другой стороны двора, падал в комнатку Мишеля косой луч света, выделявший отдельные детали ее обстановки: диаграммы, прикрепленные к выцветшим стенным обоям, разбросанные на столике чертежи, конспекты, какие-то болты. Окно противоположной квартиры оставалось закрытым, но раздвинутые дешевенькие занавески являли взору суровую и трогательную картину, хорошо известную Хромому бесу из знаменитого романа Лесажа. Как мы знаем, он любил заглядывать под парижские крыши в надежде высмотреть что-нибудь веселенькое, но вместо этого частенько наталкивался на одно и то же печальное зрелище: женщина, худая и очень бледная, постаревшая не столько от возраста, сколько от горя, полулежа в кровати, что-то шила. Она то и дело опускала руки, побежденная слабостью, и, полуприкрыв глаза, собиралась с силами. Наблюдая за ее героическими попытками удержать иголку, выскальзывающую из дрожащих пальцев, каждый бы испытал невольное желание, чтобы лампа, при свете которой она трудилась, наконец погасла. Но безжалостная лампа продолжала гореть, белая исхудалая рука судорожно вцеплялась в шитье, глаза открывались снова, и иголка мелькала, мелькала… Подле больной никого не было. Когда она опускала веки, давая передохнуть глазам, бледные губы шептали что-то, видимо, призывали Бога. Наш герой Мишель был славным юношей лет двадцати, изящным, высокого роста и, верьте слову, весьма благородного вида. Впрочем, у него был шанс оказаться аристократом: ни отца, ни матери он не знал. Даже у людей очень умных, а герой наш, разумеется, очень умен, бывают свои слабости, особенно когда тайна собственного рождения уводит их в страну фантазий. Каждый вечер, полеживая на старом диванчике, Мишель переписывал заново роман своей жизни и, хотя смутные воспоминания противоречили феерическим мечтаниям, никогда не засыпал без того, чтобы не увидеть себя нежным малюткой, расположившимся в кружевной колыбели. Потом являлся черный человек в накидке, пресловутой черной накидке, под которой прячут ворованных детишек. Мишель прямо-таки ощущал, как он задыхается под этой гадкой накидкой. Сколько слез пролила его мать! А его отец, господин граф! Они наверняка его очень долго искали! В полночный час Мишеля одолевало воображение. Его наивные выдумки недалеко ушли от сентиментальных фантазий Симилора – да оно и понятно: ведь оба росли в Париже. Нашему герою случалось просыпаться, споткнувшись о порог замка своих предков. Тогда он начинал хохотать, Мишель был сыном своего времени и умел посмеяться над собой, однако хохотал он все же не от чистого сердца. Обращенному в реальность взору представала бедная комнатенка, освещенная луной или печальным сиянием из окна напротив. Свет от лампы соседок действовал на него укоряюще. Мы сказали «соседок» не случайно: у старой больной женщины была дочь, и именно она обычно бодрствовала по ночам. Трудолюбивый ночной огонек значил в жизни Мишеля очень много, ибо юноша двадцати лет редко мечтает о позолоченных гербах только для одного себя. Над узким мрачным двором из окна в окно летели и возвращались улыбки. Сколько раз Мишель забывал о времени, проводя счастливейшие часы за созерцанием занятой прилежным трудом юной соседки! Это был настоящий роман, да что там роман – поэма, исполненная чистой нежности, робких обещаний, радужных надежд, страхов и угрызений совести. Как? Уже угрызений совести? Но за что может укорять себя девушка с таким чистым и высоким лбом, увенчанным, точно ореолом, пушистыми белокурыми волосами, и с таким глубоким, ангельски чистым взглядом, которым попеременно владеют печаль и радость? Сразу оговоримся: угрызения совести обуревали Мишеля, и только его. Похожему на ангела существу знакомы были тайные слезы, но сердце его было свободно от тайн. Мишель отнюдь не был ангелом и мечтал не только о любви, хотя любил он глубоко и искренне – не в пример кипящим вокруг суетным и мелким страстишками. Но нашего героя, кроме, любви, обуревали и другие заботы; его ожидала поразительная, судьба… может быть. Пережив тот возраст, когда подросток превращается в юношу, к двадцати годам Мишель окончательно повзрослел: греческого типа лицо с правильными и твердыми чертами, интересная бледность, взгляд борца, презирающего сиюминутность в ожидании будущего, которое еще предстояло завоевать. У него была изысканная, словно бросающая вызов бедности, манера выражаться, временами он бывал мягок почти по-женски, но эта мягкость могла обратиться внезапно в суровость и даже жесткость. Характер его вообще был отмечен печатью двойственности: честная открытость соседствовала с недоверчивостью, врожденная пылкость чувств – с благоприобретенной осторожностью; казалось, над ним сообща потрудились природа и полная тягот жизнь. Пословица гласит, что худа без добра не бывает, значит, даже падая, человек может что-то выиграть для себя. Из старинных историй известно, что амазонки отрезали себе правую грудь, итальянские теноры добровольно освобождались от возможности использовать низкие ноты, а профессиональные бегуны избавлялись от селезенки: зачем беречь то, что мешает? В Париже человека на каждом углу подстерегают хирурги, готовые избавить его от сердца. Нашему герою Мишелю удалось сохранить все свои жизненно важные органы в целости, однако кое-каких ран он не избежал и теперь боролся с бациллами эгоизма, которыми наградил его тлетворный воздух Парижа. Мишель очень смутно, но живо помнил себя совсем маленьким мальчиком, счастливым, балованным и любимым – в уютном доме, где были папа и мама: молодой красивый мужчина и очень нежная женщина; все они любили друг друга. Где находился тот дом? Он не помнил и, наверное, не смог бы его узнать, если бы ему показали, таким смутным и расплывчатым было далекое воспоминание. Однако нежная женщина и молодой мужчина четко запечатлелись в его памяти как папа и мама. Он все еще видел их иногда, словно выступающими из тумана: мама улыбается, занятая рукодельем, папа погружен в какую-то интересную работу, от которой чернеют пальцы, а на лбу выступает пот. Мишелю, казалось, было годика три, когда внезапно оборвался тот ранний, счастливый, период его существования. Однажды в уютной квартирке поднялась страшная суматоха – крики, плач, сетования. Видимо, это происходило где-то в провинции: Мишель запомнил узкую речку и старый, весь в трещинах мост, в Париже таких маленьких мостов не бывает. Навряд ли он тогда осознал беду – ведь над его кроваткой по-прежнему склонялось строгое и вместе с тем доброе лицо его нянюшки. Вот ее он узнал бы совершенно точно. Нянюшка обещала: «Они вернутся». Появилась однажды какая-то дама в трауре, может, это была его мать? А потом – ночь, страх, тряский экипаж, увозящий его куда-то прочь от нянюшки, навсегда, навсегда… Все это жило в нем, словно смутный обрывок какого-то сна. Более четкими были воспоминания о той богатой нормандской деревне, куда его привезли: просторные хлебные поля, зеленые луга – в высокой сочной траве вольготно полеживает скотина; низенький домик с огромным двором, там он впервые увидел, как молотят зерно: очень весело. От тех лет застряла в памяти одна деталь, удержанная не столько разумом, сколько чувством обиды: поначалу к нему относились на ферме как к гостю или даже богатому пансионеру, от которого зависит достаток дома, но потом хозяева посуровели, и к восьми годам он превратился в маленького батрачка, употребляемого для самых черных работ. Впрочем, фермеры, к которым он попал, были не так уж плохи. Дядюшка Пеше, устроившись вечерком у камелька, мог часами рассказывать о своих тяжбах, подобно старому воину, повествующему о славных битвах, в то время как его женушка, хлебнув изрядную порцию сидра, сладко похрапывала, продолжая вертеть колесо прялки и вытягивать нить из кудели. XI ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОЕ В то время Мишель ни сожалел, ни надеялся; воспоминания о раннем детстве пробудились гораздо позднее. Долина, приютившая ферму, и живописное взгорье, увенчанное церковкой с колокольней, составляли его вселенную. Он выучился плести веревочные кнуты и делал заготовки для соломенных шляп, а по весне не было удачливее его разорителя птичьих гнезд. Не лишенные добродушия хозяева работать его заставляли все-таки не до смерти и не слишком попрекали куском хлеба. Он рос, на зависть соседям, крепким и ладным парнишкой. Ферма составляла часть огромного, не тронутого революцией поместья, принадлежавшего очень старому господину, который проживал в Париже. Господин умер, не оставив потомства. Полсотни нормандских наследников вступило в схватку, и вскоре суд объявил о продаже имения. Со всех сторон слетались на богатую добычу черные вороны – пожиратели замков. Из Парижа тоже прибыли претенденты: пятнадцать-двадцать вылощенных господ съехались, чтобы решить на месте, как лучше раскромсать обширное поместье. В тех краях немного было жилищ, способных принять публику столь шикарную. К дядюшке Пеше устроился на житье молодой, но очень богатый уже банкир с шоссе д'Антен, Ж.-Б. Шварц, известный своей чрезвычайной ловкостью в ведении дел. Как всегда толково и быстро управившись с земельной сделкой, банкир решил развлечения ради сходить на охоту и попросил дядюшку Пеше найти ему провожатого. Фермер отрядил Мишеля в поход, и парнишка нагнал такую уйму куропаток, что гость поохотился на славу. Возвращаясь после удачной охоты на ферму, он по дороге разговорился с мальчиком и был очарован его простодушным умом. Следует, пожалуй, добавить, что парижане, даже если они произошли от эльзасцев, бывают потрясены, встретив кого-нибудь (кроме ослов) в нескольких лье от площади Сен-Жорж. По возвращении, поглощая свою добычу, которой хватило бы на заправский пир, банкир стал расспрашивать фермера о подростке, и тут-то Мишель и узнал, что он сирота, приемыш и что на ферме его держат «из милости» – именно так выразился дядюшка Пеше. Для Мишеля это было открытием, впервые заставившим его призадуматься. И вдруг в голову ему пришла дерзкая мысль. – Возьмите меня с собой, – попросил он банкира, – я и в Париже куропаткам спуску не дам: буду водить вас на охоту. Господин Шварц разразился смехом; однако куропатки так пришлись ему по вкусу, что он спросил фермера, не отдаст ли тот ему мальчика. Держи карман шире! Знаете ли вы прелестную страну Нормандию? Дядюшка Пеше затребовал за Мишеля сто экю. А сам ведь только что говорил про него: «Слишком тяжелая обуза для деревенских бедняков!» Экий «добряк»! Заполучив свои денежки, дядюшка Пеше стал испускать стоны, что должно было сообщить о глубине чувств, сравнимых разве что со знаменитым плачем Иеремии: «О Боже мой, Боже ж ты мой! Растил-растил мальчонку, а теперь отдавай! Как я буду жить без моего соколика?» Вслед за ним запричитала тетушка Пеше: «Я холила малыша как собственного сына, и вот на тебе – забирают! Боже ж ты мой, какое горе!» Пришлось отвалить и ей сто экю, после чего банкир поспешил убраться восвояси, дабы уберечь свой карман от дальнейших посягательств. Очаровательнейшая супруга господина Шварца, имевшая уже шестилетнюю дочку, была несколько удивлена результатом поездки – она твердо знала, что в Нормандию муж отправлялся вовсе не за ребенком. Мишель поначалу был чем-то вроде комнатного слуги, потом его отдали в школу и поселили на чердаке. Деревенские фантазии быстро увядают в Париже, где умение гонять куропаток становится бесполезным. Через неделю почти забытый господами Мишель знал единственного хозяина и покровителя: могущественного Домерга, который тогда уже носил серую банковскую ливрею. Как раз в то время для банкира Шварца возводили первый его собственный особняк, до переезда в который он проживал в роскошных апартаментах на улице Прованс. Домерг поместил Мишеля в маленькую комнатку в мансарде. Славный он все-таки малый, этот Домерг. В течение двух лет по крайней мере раз в месяц он строго вопрошал своего подопечного: «Когда же ты наконец выучишься читать?» Мишель начинал слегка сожалеть о дядюшке Пеше, и если бы не случилось в жизни мальчика событие, он в скором времени ударился бы в бега. Однажды вечером в соседней комнате кто-то заиграл на пианино. Мишелю было тогда всего двенадцать лет, но тот момент запомнился ему навсегда. Музыка вошла в его жизнь как чудо. Дощатая переборка, разделявшая две комнаты, беспрепятственно пропускала волшебные звуки, и мальчику казалось, будто кто-то заговорил с ним ласковым голосом, а унылая его тюрьма словно осветилась нежной улыбкой. Спал он в ту ночь мало, а проснулся рано, имея перед собой цель и надежду. Посреди гамм и арпеджио раздавался иногда детский голосок, и Мишель быстро сообразил, что у него есть маленькая соседка. Более взрослый голос произнес имя – Эдме. Что за чудесное имя! Чтобы увидеть Эдме, мальчик отдал бы все в этом мире, хотя в этом мире у него не было ничего своего. Однако Эдме никогда не выходила или же выходила в те часы, когда он сидел за школьной партой. Целая неделя прошла, а Мишель так и не увидел ни дочки, ни матери – он был уверен, что взрослый голос принадлежит матери девочки. Он не решился расспрашивать консьержку, внушавшую ему боязливое почтение. По вечерам по-прежнему звучала музыка. Мишель знал уже, что его соседки бедны, он слышал, как мать однажды сказала: «Ложись спать, моя маленькая Эдме, надо экономить свечу». Да и на ферме матушка Пеше тоже очень сердилась на того, кто не «экономил свечу». Мальчику, правда, было еще невдомек, что фраза «экономить свечу» звучит гораздо страшнее, чем слово «экономить» само по себе. Да, бедность – ужасное зло! Мишель и сам был не богат, но сердце его сжималось от жалости. На улице стоял трескучий мороз, окошко заледенело, покрылось густым узором. Однако как все-таки увидеть Эдме? Мишель долго ломал себе голову и наконец отважился на дерзкий поступок – впервые за все время своего пребывания в этом доме. Попав в город, он перестал быть веселым сорванцом: Париж его угнетал и страшил, вытравливая остатки былой проказливости. Школьный учитель представлялся ему великаном, на Домерга он взирал снизу вверх как на человека, забравшегося на недосягаемую высоту. Поэтому он сильно робел, чуть ли не дрожал от страха, покупая за два су буравчик, чтобы провертеть в дощатой перегородке дырочку для обзора соседней комнаты. Исполнив задуманное, он вынужден был присесть на кровати, чтобы унять бешеный стук сердца: ему казалось, что он совершил преступление. В конце концов, собрав все свое мужество, он приложил глаз к проделанному отверстию, но сперва ничего не мог различить от волнения, а когда оно улеглось, то мальчик увидел женщину в трауре с очень добрым и печальным лицом. Его охватил почтительный трепет – ведь перед ним была мать Эдме! Она сидела за столом и держала в руке раскрытое письмо. В глазах ее стояли слезы. Мишель и сам чуть не заплакал. Однако дырку свою он провертел не ради матери. Где же Эдме? Мать ее плакала в одиночестве. Она еще раз пробежала письмо глазами. Мишель уже поднаторел в грамоте и смог разобрать фамилию, проставленную на конверте: «Госпоже Лебер…» Значит, Эдме Лебер? Откуда берется гармония звуков? Имя девочки зазвучало для Мишеля волшебной музыкой. Два года уже прожил маленький мужчина в парижской мансарде, а, как известно, именно там зарождается поэзия: на чердаках распускаются самые благоуханные ее цветы. Наш герой Мишель понятия не имел о стихосложении, но это не мешало ему быть в своем роде поэтом. Входная дверь распахнулась, и помещение залило светом, все заулыбалось в бедном уголке, даже траур матери как-то смягчился: в комнату ворвалась прелестная девочка с распущенными белокурыми волосами, от которых исходило сияние. Она радостно подбежала к госпоже Лебер и закинула ей руки на шею. Мишель сразу узнал Эдме, он представлял ее именно такой, только она оказалась еще красивее, чем он думал. Госпожа Лебер убрала письмо, заставившее ее плакать, и принялась за свое шитье, а девочка – Эдме было тогда десять лет – села за пианино. Мишель даже не спустился в кухню за ужином, и только ночь вынудила его покинуть свой пост. С тех пор он целыми часами просиживал у крохотного «оконца», испытывая то чувство блаженства, то чувство вины за свое шпионство. Он многое успел высмотреть у соседок, но для нашей истории особенно важна одна деталь. Как уже было сказано, морозы в ту зиму стояли лютые, а в очаге госпожи Лебер всегда тлело не больше двух головешек. Она едва удерживала иголку в закоченевшей руке, а пальчики Эдме казались совершенно красными на фоне белых клавиш. – Она зябнет! – ужасался Мишель; сам-то он плевать хотел на мороз! Эдме зябла, девочка, похожая на ангела, дрожала от холода, и бедная госпожа Лебер тоже! Мишель был расстроен и до глубины души возмущен: у Шварцев столько дров расходовалось зазря! Всю ночь он не мог уснуть, ворочался на своем матраце, мозг его работал вовсю. К утру у него созрел план. Вместо того чтобы пойти в школу, он зашагал куда глаза глядят по малознакомому Парижу в надежде добраться до какого-нибудь засаженного деревьями места. В деревне матушка Пеше частенько посылала его собирать сушняк, и он знал толк в этом деле. Итак, мальчик брел по чужому городу в поисках сушняка, все время повторяя про себя одну фразу: «Эдме больше не будет зябнуть». Но по Парижу можно брести очень долго и не найти ничего, что обогревает, питает или утоляет жажду. За все нужно платить; Мишель понял эту горькую истину на своем опыте. Он шел уже целых два часа, а вокруг все еще тянулись дома. Много всякой всячины попадалось на его пути, но хвороста не было и в помине, только кое-где торговцы продавали дрова. Он добрался наконец до заставы, дальше снова пошли дома, но уже победнее. Где же деревья? Слава Богу! Впереди расстилалась покрытая снегом равнина. Снег – это уже что-то знакомое, в Нормандии было много снега, мальчик его любил. А лес? Далеко-далеко грудились на горизонте деревья. Мишель затянул потуже обвязанную вокруг пояса веревку, которую припас для хвороста, и пустился бегом. Маленький храбрец добрался-таки до Монфермейского леса. Он обрадовался дубам как старым знакомым. Когда бледное зимнее солнце стало склоняться к горизонту, Мишель уже набрал вожделенную вязанку хвороста; вязанка эта была увесистой, и Мишель закинул ее за спину, весело напевая. К счастью, сторожа его не заметили – они как раз зашли погреться в свой маленький домик. Наш герой отправился в обратный путь. Он быль очень голоден, но весел – эдакий нормандский Дед Мороз, распевающий радостную песенку собственного сочинения: «Эдме больше не будет зябнуть! Эдме больше не будет зябнуть!» У заставы его остановили какие-то люди в зеленом, объявили что он должен заплатить за свою вязанку пятнадцать су. Они наверняка врут, эти важные зеленые дядьки: чтобы за хворост – да целых пятнадцать су! У банкира Мишель жил на всем готовом, ни в чем не нуждаясь, но наличных денег имел немногим больше, чем в Нормандии: касса господина Шварца располагалась слишком далеко от его чердака. В предместье Сен-Мартен он уселся прямо на тротуар, придавленный собственной добычей: сушняк за пятнадцать су слишком тяжел, если тащишь его от самого Монфермейского леса! Однако на улицу Прованс Мишель прибыл, уже напевая. Было около десяти часов вечера. Хотя мода на Мишеля в доме банкира давно прошла, о нем сильно забеспокоились, когда встревоженный Домерг объявил: «Малыш не пришел на ужин». Госпожа Шварц, которая была не только красива, но и добра, три раза посылала узнать, вернулся ли мальчик. Господин Шварц собирался уже побеспокоить полицию. Завидев Мишеля с огромной вязанкой, консьерж испустил радостный крик, сбежались слуги – такое событие! Где он наворовал столько хвороста? Весть о героически добытом сушняке проникла в гостиную Шварцев. Семилетняя Бланш непременно желала взглянуть на вязанку дров. Мишель вместе с сушняком был доставлен наверх и имел немалый успех. Господин Шварц еле-еле узнал подросшего мальчугана, госпожа Шварц нашла ребенка очаровательным. Идея сходить в Монфермейский лес по дрова всем казалась чрезвычайно забавной. – Мальчик мерзнет там наверху, – сказала госпожа Шварц, – надо поставить в его комнате печку. – Ах! Так у него нет печки? – развеселился банкир. – Бесподобно! Собирался поджечь дом, чтобы согреться? Гениально! Мишель хотел было возразить, но смолчал, и тайна его осталась при нем. На следующий день Домерг установил в его комнате маленькую чугунную печку. Кроме сушняка, у Мишеля имелся теперь солидный запасец дров. Но ведь через дырочку, проверченную в стене, не согреешь холодные ручки Эдме! Надо было что-то придумать. Мишель заметил, что маленькая его соседка куда-то уходит каждый день в два часа пополудни и возвращается часам к четырем-пяти с нотами под мышкой. Эдме тоже училась: знаменитый профессор бесплатно давал ей уроки музыки. Мишель в музыке не разбирался, он просто находил очаровательным все, что делала Эдме, но мы должны сообщить, что у девочки были исключительные способности к музыке. Зимние дни коротки. Госпожа Лебер, измученная своей неблагодарной работой, имела привычку в сумерки засыпать. С учетом этих двух своих наблюдений Мишель замыслил и привел в исполнение план, окончательно закрепивший его славу в гостиной Шварцев. XII ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВТОРОЕ Первый шаг оказался трудным, ведь дело замышлялось серьезное – шутка ли, проникнуть в чужое жилище! Мишель к тому же страшно робел перед госпожой Лебер, такой печальной и суровой, с таким достоинством переносившей свою нищету. Даже блистательную госпожу Шварц он боялся куда меньше – та по крайней мере была богата. Нашего героя легко было принять за малолетнего бандита, когда он впервые пробирался в соседнюю комнату. Дверь легонько скрипнула, он обомлел от страха, но все же двинулся дальше. В холодном очаге тлели две всегдашние жалкие головешки; Мишель бросил на них охапку хвороста, а сверху положил четыре тяжеленьких поленца, предназначенных для его печки. И убежал, смельчак! В дырочку он увидел, как сушняк задымился, потом вспыхнул ярким пламенем. Госпожа Лебер не проснулась от веселого потрескивания сушняка, пламя в очаге разгорелось вовсю – Мишель даже поплясал немножко от радости в своей комнатке. Когда вернулась Эдме, все уже прогорело и очаг принял обычный свой скромный вид, однако девочка удивилась: – Мама, как у нас тепло сегодня! Мишель больше не плясал. Он уселся в изножье своей кровати, чувствуя, как его глаза наполняются слезами. С того дня наш герой приналег на учебу и трудился как одержимый: ему захотелось вдруг выйти в люди. Комната соседок была совсем маленькой и бережно сохраняла тепло. Пианино повеселело, пальчики Эдме, резво бегавшие по клавишам, стали белее слоновой кости. Имелась некая загадочная связь между этими крохотными пальчиками и честолюбивыми мечтами, смутно зарождавшимися в душе мальчика. Проделки Мишеля с соседским очагом продолжались пятнадцать дней, удачно совпав с самыми большими морозами. Мать и дочь удивлялись иногда внезапному потеплению климата в своей комнате, да и обилие пепла в очаге легко могло вывести нашего героя на чистую воду, однако разум трудно принимает в расчет невозможное: им и в голову не могла прийти мысль о тайных посещениях соседа. Мишель, чья маленькая печка была холодна, как лед, осмелел и заготавливал в уме ответ половчее на случай, если почтенная дама внезапно проснется и застанет его на месте преступления. Но судьба загодя припасенных ответов известна – они кляпом застревают во рту. Однажды под вечер, когда Мишель, став перед очагом на колени, изо всех сил раздувал ретивый огонь, громкий крик заставил его вскочить на ноги. Госпожа Лебер, перепуганная насмерть, выбежала в коридор, громко призывая на помощь. Собрались соседи, поднялась суматоха, разразился страшный скандал! Появились грозного вида жандармы с ружьями. Мишелю, пойманному в чужой комнате, нечего было сказать в свое оправдание. Его увели. В тот день Эдме вернулась домой раньше обычного и, увидев полыхавший в очаге огонь, сразу разгадала загадку: – Мама, у нас побывала фея! Фея не фея, а домовой явно орудовал в этой комнате последнее время, поддерживая в камине волшебное пламя. Феей оказалась догадливая Эдме: слова ее возымели магическое действие на почтенную даму, сняв с ее испуганных глаз пелену. В самом деле, что увидела она, пробудившись? Мальчугана, стоявшего на коленях перед очагом, в котором теперь весело потрескивали дрова. Госпожа Лебер со всех ног бросилась догонять Мишеля, вырвала его из рук стражников и все им объяснила, обвинив одну себя. Получался забавнейший анекдот, достойный страниц вечерней газеты. Вспыльчивые соседи пришли в умиление, ружья конфузливо опустились, растроганные вояки даже заговорили о Монтионовской премии[12]. Среди всеобщего энтузиазма только консьерж сохранял спокойствие. Он заметил: – То-то я удивился: у этих жильцов с чердака и воровать-то нечего! И одобрительно прибавил: – Молодец парнишка, согревал соседок дровами господина барона! Целый месяц уже господин Шварц носил титул барона. Вскоре, привлеченный шумом, появился Домерг. Перед ним бледнела даже величественность консьержа. Простота очень к лицу большим людям, и мы должны быть признательны Домергу за то, что он избегал украшений: на нем не было шарфа, на его ливрее отсутствовало шитье, ни одно перышко не оживляло его головной убор. В своем сером строгом сюртуке он выглядел полубогом. Взяв мальчика под свою опеку, Домерг сильно к нему привязался, хоть и не спешил в этом признаться даже самому себе. Обращаясь к собравшимся, он произнес краткую, но выразительную речь, сопровождая свои слова жестами скупыми и благородными: – Дамы и господа! Барон Шварц не желал бы, чтобы в столь приличном доме поднимался шум из-за каждого пустяка. Во всяком случае, до его переезда: для господина барона выстроен уже собственный особняк, мы ждем, чтобы высохла штукатурка, и, как только сойдут холода, переедем в свой новый дом. Вы совершенно правильно поступили, сбежавшись на крик о помощи, но за этого мальчика несу ответственность я. Он совершил замечательный поступок, хотя не было никакой необходимости делать добро тайком: у господина барона дров, как и еды, предостаточно. Посему я прошу почтенную публику разойтись! Сколь же редко дар красноречия сопутствует высокому положению! Дамы слушали, мечтательно вздыхая, вояки сделали на караул. Домерг взял Мишеля за ухо и повел в гостиную Шварцев. Дом Шварца переживал в ту пору эпоху расцвета, медовый месяц счастливчика, которому удается залучить в супруги богиню Фортуну. Фортуна осыпала банкира ласками: он стал не просто миллионером, а миллионером европейского масштаба, считаясь одной из лучших финансовых голов страны. Угадывался уже тот день, когда его миллионы возьмут курс на политику. Иметь миллионы – удовольствие несравненное, сделаться наконец бароном – большая честь. Господин барон никогда не был злым человеком, не говоря уж об очаровательной баронессе, у которой склонность творить добро была врожденной. В их доме воцарилась атмосфера великодушия и милосердия: им казалось, что весь мир должен улыбаться их удаче, и множество льстецов, вечно липнущих к богатству, приходило к ним попастись. В общем, семейство Шварца пребывало в отличнейшем настроении. Мишель был приведен в гостиную за ухо. Домерг, испросив дозволения говорить, весь свой недюжинный дар слова вложил в живописание провинности своего подопечного. Получился второй том сказания о хворосте, столь благосклонно принятого две недели назад. К тому же установлено было, что маленькая чугунная печка так и не узнала огня. Мишель выказал себя настоящим героем, и барон Шварц твердо решил сделать из него человека, то есть – банкира. Постановлено было также осчастливить бедных соседок мальчика по мансарде, но это только на первый взгляд кажется, что бедных осчастливить легко: госпожа Лебер не приняла бы милостыни ни под каким видом. Положение спасла Бланш: десятилетняя Эдме стала давать ей уроки музыки. Мишель, на которого напялили господское платье и устроили учиться в Школу коммерции, был вовсе не рад своей славе. С Эдме ему так и не удалось поговорить, зато госпожа Лебер, встретив мальчика однажды на лестнице, нежно расцеловала его в обе щеки. В доме Шварца у Мишеля появились трое друзей: Домерг, конечно, в первую очередь, потом Бланш, третье же место занял сам барон. Простым смертным трудно определить, из чего складываются капризы богатых людей, а уж людей, разбогатевших недавно, – тем паче. Пресыщенность наступает гораздо раньше, чем принято думать: желание потреблять остается, но радость от потребления тускнеет. Господин Шварц настоятельно нуждался в развлечениях, и мальчик стал для него первоклассной игрушкой. Он решил создать из него шедевр, вырастить Наполеона банкиров. Себя барон считал – и не без основания – равным Ротшильду, но этого ему было мало. Признавая Ротшильда лучшей пушкой тяжелой финансовой артиллерии, господин Шварц мечтал усовершенствовать это великолепное орудие, раз в десять увеличив его дальнобойность. Баронесса в первое время относилась к Мишелю с искренней доброжелательностью, но не больше: она, разумеется, не противилась планам супруга, но и не выказывала к ним особого интереса, ибо все ее внимание было поглощено собственной дочерью. Госпожа Шварц принадлежала к тем женщинам, которых трудно обрисовать одним штрихом или определить одним словом. Мы знаем уже о ее блистательной красоте и незаурядном уме, главное же заключалось в том, что она отличалась исключительной добротой, хорошо известной многим несчастным, прибегавшим к ее помощи. По своим вкусам, влечениям, манерам она стояла гораздо выше той среды, в которой ей приходилось вращаться, хотя растущее финансовое могущество супруга обеспечивало ей доступ во все высокие сферы. Банкир относился к жене с почтительным обожанием, что не мешало ему время от времени совершать небольшие амурные гастроли – единственно для поддержания собственного авторитета. Опера придает вес Банку. Малая толика порока предписана правилами хорошего тона. В нашей прекрасной Франции репутация преданного супруга или заботливого отца считается эпитафией. Все-таки французы – восхитительнейший из народов. В романах своих господин Шварц не заходил далеко, дело обычно ограничивалось тем, что он заводил текущий счет для какой-либо особы, способной скомпрометировать его не очень сильно, но все-таки ощутимо. Все бывали довольны, в особенности ювелиры. Слегка пожуировав, шалун шел с повинной к супруге и на коленях вымаливал у нее прощение. Человек опытный и неглупый, банкир отлично чувствовал превосходство над собой жены. И это вовсе не было супружеским ослеплением. Он оценивал совершенно верно: госпожа Шварц была в полном смысле слова благородной дамой – независимо от мужнина состояния и даже от новенького, с иголочки титула барона. Драгоценности, наряды, экипажи тоже были тут ни при чем. Если бы она ходила пешком, в бедном платье и простенькой шали, она все равно оставалась бы благородной дамой. Честолюбие удваивало любовь банкира к жене: она не только была основным слагаемым его счастья, но и придавала блеск его дому. Во всякой любви аналитический взгляд может открыть много курьезного: вот и господин Шварц любил супругу весьма своеобразной любовью – он ей, безусловно, доверял и при этом очень сильно ревновал. Да, ревновал, ибо был в душе его жены уголок, куда она никого не пускала. Он прекрасно знал ее характер, но лишь по частям, а целое от него ускользало, оставаясь ребусом. Мы не собираемся изображать барона человеком великим, тем не менее были в нем кое-какие слабости, свойственные обычно натурам выдающимся: чрезмерное любопытство, пронырство, посягательство на крошечные чужие тайны. Любопытство его обострялось тем, что не только в душе, но и в покоях его жены имелся уголок, для него запретный: средний ящик изящного секретера. Всегда запертый, всегда без торчащего в скважине ключа… Годами господин Шварц мечтал заглянуть в этот ящик. Вот почему барон доверял жене, но отчаянно ревновал ее. Что может храниться в том ящике? И почему временами Джованна становится столь угрюмой? Большинство подобных проблем разрешается словом «каприз», но это отгадка ложная, ибо «каприз» тоже своего рода замок, требующий специальной отмычки. Нрав у госпожи Шварц был мягкий и на редкость ровный, тем не менее камеристка ее, мадам Сикар, замечала, что на хозяйку частенько «накатывает» тоска. Так было всегда; мало того, супруг мог без труда припомнить, что перед свадьбой тоска «накатывала» на его избранницу куда сильнее и чаще. Казалось бы, рождение Бланш, радости материнства должны были излечить ее от меланхолии навсегда, но печаль не покидала счастливую мать даже у колыбели ребенка. Когда Бланш была совсем маленькой, она нередко жаловалась отцу: «Мама опять плакала». Медики обладают бесподобным талантом объяснять мужьям поведение жен, именно по этой причине я считаю их благодетелями человеческого рода. Господин Шварц обожал медицинские советы, но от ревности они его не спасали. Врачи говорили: «Это все от печени». (Сколько же за этой печенью грехов!) И приводили случаи как нельзя более интересные. Порой госпожа баронесса бывала очень общительна: селезенка! Потом начинала сторониться людей: печень! Тем же объяснялись и перемены во внешнем виде мадам Шварц. В ней замечалось даже – правда, исключительно редко – что-то вроде неприязни к любимой дочери Бланш. Врач, обаятельный человек, специалист по чувствам, рассказывал: «Та, впрочем, страдала желудком. Можно дни и ночи напролет проводить с врачом, повествующим о печени, желудке или селезенке, хотя он ни в какое сравнение не идет с докторами, воспевающими истерию, – вот кто настоящие поэты!» Господин Шварц лишь слегка приглядывал за женой, давно мечтая поставить шпионаж на широкую ногу, прибегнув к тем уловкам, что отлично знакомы всем ревнивым мужьям. Но для этого требовалось время, а времени не было, и барон, подобно многим из нас, чувствовал себя несчастным: вместо того чтобы развлекаться слежкой за собственной женой, ему приходилось делать деньги. Он питал свою веру и свои сомнения бессвязными сведениями, получаемыми отовсюду, унижаясь даже до приставаний к Домергу и мадам Сикар, которые знали не больше него. В глазах окружающих – и слуг, и светских знакомых – поведение баронессы было одинаково безупречным: она никогда не выходила из своей кареты, а карета женщины – ее второй дом, никогда ни с кем не встречалась, кроме друзей своего мужа. Она была неуязвима с точки зрения обычной морали. Тем не менее и муж, и слуги, и друзья дома угадывали в ее душе нечто глубоко спрятанное; по общему если не мнению, то ощущению, баронесса была женщиной с секретом – от нее словно исходили слабые, но все же уловимые таинственные флюиды. Надо сказать, что господин Шварц слегка дулся на жену за холодноватое отношение к своему фавориту Мишелю. Он привык, чтобы окружающие увлекались его фантазиями, и равнодушие баронессы приписывал ее чрезмерной увлеченности «средним ящичком». Сколько раз он безуспешно пытался обнаружить загадочный ключ от него! Тем временем дела в их доме шли своим чередом. Мишель учился в Школе коммерции, причем весьма успешно. Эдме давала уроки музыки Бланш, которая привязалась к ней как к старшей сестричке. Достаток вошел в дом Леберов – госпожа Шварц умела делать добро, не оскорбляя чужой гордости. Музыкальный талант Эдме расцветал, а сама она становилась все прелестнее – в глубокой лазури ее глаз начинала проглядывать женщина. После истории с хворостом Мишель встречался с ней раз в полмесяца в доме Шварцев, но никогда – наедине. Детская любовь взрослела и втайне набирала силу. Заметив Мишеля, Эдме краснела, а когда пела в его присутствии, то дрожащий голос ее звучал иначе, чем обычно. Ради этих нескольких часов Мишель и трудился в остальное время как каторжный; он уже любил как взрослый мужчина и знал о своей любви, в отличие от Эдме. Когда Мишелю исполнилось шестнадцать лет, господин Шварц устроил ему фундаментальную проверку и остался более чем доволен своим протеже. Мальчик продвигался вперед гигантскими шагами: обладая умом острым и гибким, он буквально шутя одолевал трудности учебы. Школа коммерции больше не могла ему ничего дать. – Достоин служить в моем банке! – торжественно объявил господин Шварц. К этому времени Мишель уже превратился в красивого юношу, высокого, стройного и изящного; безбородое, но взрослое лицо его хранило прежнее веселое и доброжелательное выражение. В тот день, когда он сменил синюю школьную униформу на вечерний фрак (момент обычно очень неловкий для молодого человека), он произвел в салоне госпожи Шварц настоящую сенсацию. Мужчины не посмели насмешничать, дамы его дружно заметили, и некоторые из них были явно не прочь взять дальнейшее воспитание красавца в свои руки. Эдме была счастлива и горда почти в той же мере, что и сам господин Шварц. Хотя нет, пожалуй, гордость банкира оказалась куда больше, его благоволение к нашему герою возросло необычайно. Указывая на него, он воскликнул, обращаясь к своей жене: – Мой шедевр! Каков муж для нашей Бланш! А? Идея! Баронесса улыбнулась и, может быть, впервые, взглянула на Мишеля внимательно. Лицо Эдме, слышавшей эти слова, покрылось смертельной бледностью. XIII БАРОНЕССА ШВАРЦ Мишель получил для начала триста франков жалованья и комнату в особняке. К тому времени семья Шварца переехала уже во второй особняк – настоящий дворец. В принципе господин Шварц придерживался того мнения, что молодых людей надо держать в узде и деньгами не баловать, поскольку деньги в Париже – страшное зло. Но Мишель бы дофином в его финансовом королевстве; в Мишеле отражался он сам, для соблюдения приличий барону казалось прямо-таки необходимым, чтобы его любимец позволял себе время от времени кое-какие милые безрассудства. И Мишель их себе позволял, черт возьми! Окружающие же усердно помогали ему в этом. К концу второго месяца у него уже были долги, и вскоре герой наш прославился на весь Париж. Везение ему сопутствовало немалое, он даже вышел невредимым из одной, нет] из двух дуэлей, затеянных по весьма достойным поводам, очень быстро дорос до светской хроники, и имей юноша вкус к моде, он вполне мог бы сделаться кумиром гризеток. Лучи юной славы падали и на банкирский дом Шварца, благодарно повышавший ему жалованье. Барон был своим Мишелем чрезвычайно доволен. Остальное довершил Лекок. Мы знаем господина Лекока довольно давно и всегда старались произносить это имя с должным почтением. Люди, подобные господину Лекоку, очень трудны для постижения и в этом смысле напоминают латынь, которая даже после восьми лет колледжа остается познанной не до конца. В своей жизни господин Лекок сменил множество интересных занятий. Мы встречали его когда-то преуспевающим коммивояжером – он был еще молод, но, надо полагать, весьма способен: не каждому доверят установку секретных денежных ящиков знаменитой фирмы «Бертье и К°». К тому же, путешествуя в коммерческих целях, можно обрести немалый дипломатический опыт. В юности он подавал большие надежды, которые не замедлили оправдаться в зрелом возрасте. Господин Лекок больше не путешествовал: обосновавшись в Париже, центре цивилизации, он завел дело и стал персоной, пожалуй, даже более значительной, чем сам барон Шварц. В Париж стекается отовсюду множество всякой дичи, которую можно брать в угон, ставить силки или подстерегать в засаде – господин Лекок имел в Париже собственные охотничьи угодья, и это не стоило ему ни гроша. Он вовсе не был ростовщиком, что вы! И он не держал свадебной конторы, и не сводничал, и не занимался экспортом, и не торговал рекрутами, и не поощрял немецкой эмиграции, и не выращивал теноров. Ни к одному из этих прелестных занятий он не имел никакого отношения. Что же он делал? Он попросту организовал агентство. Что такое агентство? Я полагаю, есть агентства, о которых, сильно поднапрягшись, можно все-таки сказать: там, дескать, делают то и то. В агентстве господина Лекока делали все. Причем люди знающие утверждали, что это самое «все» было только, ширмой, которая прикрывала странный промысел, переживавший во времена Луи-Филиппа бурный расцвет: частный сыск. Сколько же тогда развелось любопытных! Частный сыск, вошедший в моду с легкой руки одного знаменитого злодея в отставке, находился в том же положении по отношению к официальной полиции, что подпольные притоны по отношению к официально разрешенным игорным домам: он привлекал самых робких и самых дерзких. Люди еще более знающие имели смелость утверждать, что и частный сыск в фирме Лекока был всего лишь ширмой, прикрывавшей… Однако не слишком ли много ширм? Остается фактом, что господин Лекок заимел могучие связи, расставляя нужных людей, словно шахматные фигуры, и денег загребал столько, сколько вам и не снилось. Он охотно давал в долг, по-джентльменски, не путаясь с расписками и векселями: Мишель задолжал ему две тысячи экю, которые барон заплатил, и бровью не поведя. Четырех страниц рекламной брошюрки навряд ли будет достаточно, чтобы перечислить все многочисленные таланты господина Лекока – он был настоящим волшебником, умевшим без всякого магнетизма находить давно утерянные вещи и проницать скрытое от людских глаз. Барон Шварц пока что не признавался себе в желании прибегнуть к волшебству для разгадки секрета жены, но господина Лекока принимал весьма любезно: их связывали какие-то мелкие тайны; ничего удивительного – всякому энергичному человеку необходим свой Лекок. Удивительно то, что и баронесса словно бы начинала попадать под чары некоего волшебства. Однажды утром господин Шварц пробудился в скверном настроении; при его бодром и жизнерадостном нраве такое случалось чрезвычайно редко. Прошел почти год, как Мишель распрощался со школой. Юноша находился сейчас в зените успеха: ему приходилось справляться с делами и с развлечениями, он храбро бился на оба фронта – один из самых блистательных лейтенантов финансовой армии с припасенным в кармане скромненького мундира маршальским жезлом. Первый же посетитель, явившийся в то утро к барону, со смехом сообщил ему, что небезызвестная Мирабель безумно влюбилась в Мишеля, но тот оказывает ей мужественное сопротивление. Господин Шварц опечалился. Не то чтобы он любил эту самую Мирабель, он никого, кроме жены, не любил, но ему уже перевалило за сорок, а в таком возрасте не всяким пустякам посмеешься. Унижение усугублялось сопротивлением Мишеля: парень давал ему фору. За завтраком супруга показалась ему прекрасной как никогда ранее – баронесса походила на женщину, пробудившуюся после долгого вялого сна. Годами не видел он на лице жены такой радостной и живой улыбки. Да и видел ли он ее вообще когда-нибудь? Навряд ли. Бывает, что подобные преображения зависят от самого смотрящего: он или прозревает внезапно, или меняет ракурс. Но в тот день господину Шварцу все представлялось в черном свете: откуда же в жене эта внезапная радость, сияющим ореолом окутавшая ее красоту? Говорила она мало, с рассеянной улыбкой прислушиваясь к детской болтовне Бланш и Эдме, которая завтракала с ними. Не знаю уж, по какой неуследимой ассоциации идей, но барону страстно захотелось в то утро вызвать у жены ревность. Соответственно, предательство хорошенькой Мирабель стало казаться оскорблением, нанесенным не только ему, но и сияющей непонятной радостью супруге. Кто-то произнес имя Мишеля, глаза баронессы заблестели еще ярче – случайно, разумеется, ведь она никогда не относилась всерьез к головокружительной карьере нашего героя. Она ничего не имела против, вот и все. Тем не менее господин Шварц уединился в своем кабинете, сославшись на важные дела. Он был в отчаянии, и сам не знал, почему на него напал настоящий сплин, будто его звали не Шварцем, а Блейком. У него не было особых планов насчет Мишеля, но когда тот пришел, ему захотелось вдруг услать его с поручением в Нью-Йорк. Добавим, что коварная Мирабель была тут абсолютно ни при чем. На следующий день юноша не явился – банкир заскучал без своего Мишеля. Однако не будем спешить: перед следующим днем имелся вечер, и мы собираемся воспользоваться этой оказией, чтобы заглянуть в глубину сердца загадочной баронессы. За завтраком, как мы уже знаем, глаза ее слишком ярко блестели. После полудня она повела Бланш на прогулку и была очаровательно весела. Она смотрела на дочку чуть ли не с обожанием, и Бланш, не избалованная чрезмерной материнской нежностью, удивилась этому взгляду. Погода стояла пасмурная, зато лицо госпожи Шварц лучилось солнечной радостью. Однако за ужином она стала задумчивой, а к вечеру совсем помрачнела и удалилась в свою комнату рано. – Желудок! – догадался супруг. Вульгарная проза имеет свои фантазии, как и поэзия. К тому же человек, приписывавший желудку причину нежданной меланхолии, имел, в сущности, все основания для ревности. Вернувшись к себе, баронесса сразу же облачилась в ночной туалет и в десять отпустила свою камеристку. Мадам Сикар, нарядившись в атласную лиловую шляпку и в черное платье с шалью, решила нанести визит своей крестной матери. (Не исключено, что крестная мать камеристки горделиво щеголяла в армейском мундире, но в это мы углубляться не будем.) Баронесса, оставшись одна, села в своей спальне возле камина и взяла книгу, но даже не раскрыла ее – для этих одиноких часов ей хватало собственных мыслей. Лицо женщины – та же книга: закрытая для нескромных взглядов, норовящих пробраться в самую душу, она раскрывается только в редкие часы полного одиночества. Я, разумеется, говорю о женщинах, которым есть что скрывать, а таких большинство, ибо в нашем мире добро зачастую вынуждено таиться точно так же, как зло. Впрочем, лицо баронессы не было сейчас закрытой книгой – в этой комнате никто не мог подстеречь смену его выражений: три двери отделяли госпожу Шварц от коридора, окна же были задернуты плотными шторами. Если она носила маску, то маске этой настало самое время упасть. Но нет, баронесса к помощи масок не прибегала: рассеянный взгляд не стал внимательнее, прелестное лицо задумавшейся мадонны оставалось прежним. Тем не менее кто бы решился утверждать, что у задумчивых мадонн не бывает секретов? Она удалилась к себе, сославшись на усталость, однако ни следа утомления не было на матовой бледности ее лица, и не было у нее в этой комнате никакого особого дела, и она не была больна. Напрасно материалистически мыслящий господин Шварц надеялся на желудок – баронесса, вероятно, вообще не знала, в каком месте он расположен. Может, каприз? Но мы знаем уже, что госпожа Шварц стояла выше капризов. В особняке банкира было, пожалуй, многовато золота. Со времен Мидаса роскошь злоупотребляет его избытком, блестящий металл не отпускает от себя богачей и наделяет их особой болезнью – золотой лихорадкой. В покоях баронессы не ощущалось никаких следов этой болезни, богатство не выпирало наружу, а радовало глаз тщательно подобранными предметами, многие из которых являлись настоящими произведениями искусства: изумительная их простота даже на рынке нередко ценится дороже всемогущего золота. Это был будуар благородной ламы. Мы не станем описывать подробно обстановку этого уютного, выдержанного в пастельных тонах гнезда, где галантная щедрость супруга вынуждена была уступить, хоть и не без протестов, вкусу более изысканному и даже строгому: ни одна вещь и этой комнате не блестела, ни одна крикливая деталь не нарушала гармонического ансамбля. Однако уже упоминавшийся секретер заслуживает нашего особого внимания, тем более что это настоящий шедевр работы знаменитого Буля[13], выполненный из черного дерева и черепаховых пластин, он причудливо инкрустирован ониксом и множеством драгоценных камней. Баронесса купила его для себя сама, а барон досконально изучил все его милые хитрости и затеи, но до сути так и не добрался. Прекрасная супруга прятала внутри какую-то тайну, и господин Шварц на протяжении многих лет терпеливо, настойчиво, оставив в стороне деликатность, мешающую намеченной цели, пытался открыть средний ящичек секретера, ящик-сейф, покрытый малахитом с прекрасно выполненным поверху букетом анютиных глазок из шестнадцати аметистов и шести топазов. Ключ от этого ящичка никогда не попадался на глаза огорченному неудачей супругу. Прошло уже более часа с тех пор, как баронесса удалилась к себе. Книга так и осталась закрытой, полуопущенные глаза женщины рассеянно следили за игрой пламени в очаге. Правду сказать, лицо госпожи Шварц не выражало ни тревоги, ни ожидания, но она все глубже погружалась в свои мысли. – Графиня Корона! – вдруг пробормотала она. – Ненавижу я эту женщину или люблю? В который раз уже она рассеянно подняла глаза на висевшие напротив стенные часы. Неужто все-таки поджидала кого-то? Но кого она могла поджидать в таком месте? Она была очень красива в эту минуту, красивее, чем обычно, – может быть, от глубоко спрятанного волнения. И это имя, вырвавшееся у нее ненароком, имя графини Короны, имело ли оно какую-то связь с предметом ее размышлений? Она вздрогнула: в соседней комнате раздался мягкий, приглушенный ковром звук шагов. В дверь легонько постучали два раза, и, не ожидая дозволения, в будуар вошел Домерг. Он остановился недалеко от порога в позе достойной и скромной. Из Домерга получился бы настоящий романический конфидент, хотя он этой чести и не домогался. – Как вы поздно! – заметила госпожа Шварц. – Мадам Сикар сорок пять минут занималась своим туалетом, – ответил Домерг. Баронесса, слегка улыбнувшись, спросила: – Куда она сегодня? – В Шайо. У мадам Сикар была не одна крестная мать… или же одна, но обитающая в нескольких кварталах сразу. Когда она отправлялась в Шайо, отлучка ее продолжалась до следующего утра. Баронесса сделала Домергу знак приблизиться. – Расскажите мне про этого нищего, – попросила она. – Это интереснее любой сказки. – Он не нищий, – ответил Домерг. – На свою жизнь он зарабатывает трудом. Когда я попытался дать ему милостыню от вашего имени, он отказался. Он очень горд, этот несчастный. Он сказал: мое поручение оплачено. – Мне хотелось бы увидеть его… – Это легко устроить, – ответил Домерг. – Господин барон как раз покупает замок Буарено, и хотя госпоже баронессе не пристало ездить туда в почтовых каретах, один разок можно. Трехлапый работает во дворе конторы почтовых сообщений на Пла-д'Етэн. – Трехлапый! – повторила баронесса. – Я завтра же поеду в замок Буарено. – Что касается этих самых лап, – заметил Домерг, неизменно серьезный, как его ливрея, – то на самом деле их у него всего две. А третья – что-то вроде футляра с колесиком. Получается, знаете ли, что он сам себе служит и лошадью и тележкой. – Как же он мог добраться досюда при таком увечье? – О! У него имеется настоящий экипаж: плетенка с собакой. Они очень изобретательны, эти несчастные. Но, конечно, за паровозом ему не угнаться! Домерг не улыбнулся, но лицо его выразило удовольствие от удачно найденного выражения. Госпожа Шварц о чем-то размышляла. – Вы ничего не смогли узнать? – спросила она. – Ничего. Он сказал, что письмо ему дал какой-то путешественник во дворе почтовой конторы. И все. Путешественника он не знает. После некоторого молчания госпожа Шварц сказала: – Хорошо. Делайте, как я велела. Домерг тотчас же вышел. Оставшись одна, баронесса вынула из-за корсажа письмо и долго задумчиво держала его, прежде чем открыть. Это был листок дешевой грубой бумаги, без конверта, украшенный аляповатой печатью с изображением тяжелого профиля Людовика XVIII, знакомого всем по монетам в десять су. Не найдется, вероятно, ни одного человека, который не получал бы в своей жизни анонимного письма такого вида. Госпожа Шварц долго и внимательно изучала адрес – ничего подозрительного, почерк не казался подделанным. Баронесса развернула письмо и – в который уже раз! – принялась читать. Она снова и снова перечитывала послание, словно целый мир представал перед ней на этом бедном листке, почти чистом – в центре всего три строчки, написанные убористым почерком, под которыми не было даже подписи. Целый мир! Прошлое, столь далекое и столь непохожее на нынешнюю ее жизнь, что оно казалось поэтическим вымыслом. Бывают люди, которым назначено прожить две жизни сряду, причем столь контрастные, что даже самоузнавание невозможно. В полном смысле слова метемпсихоз: душа сменила дом. Госпожа Шварц сложила письмо и, глубоко вздохнув, встала. Взгляд ее натолкнулся на собственное отражение в роскошном венецианском зеркале, висевшем над камином. Она недоверчиво улыбнулась и пробормотала: – Два призрака! Но черты ее лица, всегда столь правильные и мраморно-чистые, будто сжались, схваченные тайной судорогой, – об этом сказало ей правдивое стекло. Она выпрямилась и не отошла от камина до тех пор, пока ей не удалось послать самой себе улыбку, обаятельную и безмятежную, как обычно… Она шагнула к секретеру и открыла его. В руке у нее был резной ключик, тот самый, который мы видели уже в замке Буарено по соседству с куском воска. Госпожа Шварц вставила ключ в замок среднего ящичка – в самую сердцевину букета анютиных глазок, составленного из топазов и аметистов. Однако перед тем как повернуть ключ, баронесса заколебалась и опасливо оглянулась кругом. Совесть у нее явно была неспокойна. Твердым шагом она пересекла комнату и закрыла дверь на задвижку. Затем ящичек был наконец выдвинут. Госпожа Шварц вложила в него анонимное письмо, и рука ее долго оставалась внутри, словно желая забрать что-то в обмен на письмо. Легкие шаги послышались в соседней комнате. Не напрасно госпожа Шварц защитилась щеколдой – дверная ручка повернулась без упреждающего стука. – Мама! – позвал нежный голосок дочери. XIV НОЧНОЙ ВИЗИТ Баронесса не отвечала и боялась пошевельнуться. Бланш чуточку подождала и добавила: – Спокойной ночи, мама. Затем наступила тишина. Пол соседней комнаты покрывал толстый ковер, а малышка Бланш была легонькая, точно бабочка. Госпожа Шварц все еще не решалась двигаться, не зная, ушла ли дочка, но тут послышалась внушительная поступь Домерга. Он тоже подергал ручку и из-за двери сказал: – Я пришел только сообщить – он вернулся. Что дальше, госпожа баронесса? Позволить ему лечь спать? – Делайте точно так, как я велела, – ответила госпожа Шварц громким отчетливым голосом. Она достала из заветного ящичка шкатулку и вынула из нее две акварели в бархатных рамках: два портретика, выцветших и явно не принадлежавших кисти великого мастера. На одном был изображен молодой человек, на другом – юная девушка, почти ребенок. С первого взгляда могло показаться, что лица эти нам незнакомы. Но, вглядевшись чуть пристальнее, мы, пожалуй, решили бы, что на первом портрете неумелый художник пытался воспроизвести черты нашего героя Мишеля, а на втором изобразить девочку, похожую на госпожу Шварц, может быть, ее младшую сестренку. Хотя нет, молодой человек не мог быть Мишелем – такие костюмы носили во времена Реставрации. При внимательном рассмотрении сходство почти полностью пропадало. Да и откуда взяться портрету Мишеля в секретере госпожи Шварц? С девочкой дело обстояло иначе: она и впрямь удивительно походила на баронессу.. У большинства женщин красота мимолетна, ибо она всего лишь очарование юности. Такая красота быстро вянет, грубеет, делается вульгарной. Женщины же, которые ослепляют в момент полного своего расцвета, в юности бывают не очень эффектны. Все в этом мире движется путем таинственных компенсаций: подлинная красота нередко является результатом долгого и мучительного созревания – природа словно использует годы взросления для тщательнейшей отделки своего шедевра. Выцветший портретик скромной девочки заставлял задуматься: будто сквозь туманную завесу проглядывала на нем ослепительная улыбка взрослой женщины. Золушка, окутанная дымом бедного очага, еще не удостоенная визита феи. Лампа, стоявшая вдалеке, на кровавом мраморе камина, освещала госпожу Шварц сзади, оставляя ее лицо в тени. Свет, игравший на роскошных волосах баронессы, казалось, делал простенькую миниатюру еще тусклее. Госпожа Шварц созерцала то одну, то другую акварель с глубокой тоской, от которой у нее прерывалось дыхание. С губ ее не сорвалось ни слова, но сквозь тень, укрывшую лицо, поблескивали двумя искрами слезинки, медленно ползущие вниз. Часы пробили одиннадцать. Огонь в камине угасал. Шумы парижской улицы невнятным бормотанием отзывались в печной трубе. Молчаливое созерцание длилось долго и завершилось продолжительным вздохом, который стоил целого монолога. На выцветшей миниатюре была она – у госпожи Шварц не имелось сестренки. Сверкающая бабочка, кажется, сожалела о своем скромном коконе. Она положила оба портрета на полку секретера и забрала из шкатулки связку бумаг; рука ее при этом дрожала. По виду это были бумаги весьма серьезные, на всех ступенях социальной лестницы признаваемые документами, – в чрезвычайно краткой форме они повествовали о целой человеческой жизни, сведенной к трем пунктам: рождение, свадьба, смерть. Перед госпожой Шварц лежали свидетельства – о ее рождении и о ее смерти. Рука баронессы снова погрузилась в глубины ящичка и извлекла оттуда стопку листков, исписанных мелким, убористым почерком. Чернила успели уже пожелтеть – бумаги датировались давним годом. Должно быть, их часто читали. Первая страница, хранившая следы слез, начиналась так: 2 июля 1825 г. «Я обещал тебе часто писать, но мне понадобилось долгих пятнадцать дней, прежде чем я смог получить перо, чернила и бумагу. Я нахожусь в одиночном заключении в тюрьме Кана. Подтянувшись обеими руками к окну, я могу увидеть верхушки деревьев на главной улице, а в отдалении – тополя, окаймляющие луга Лувиньи. Ты любила эти тополя, и они напоминают мне о тебе…» Дальше, среди нескольких полустершихся строчек, четко выделялась одна: «…Я знаю, что ты меня не покинешь, верю в тебя…» Глаза баронессы были прикованы к этим словам. Она больше не плакала, но побледнела смертельно. Казалось, сердце ее перестало биться, и дыхание не выходило из губ. Когда пробило полночь, она все еще была недвижима. Бой часов заставил ее легонько вздрогнуть. Она вернула в шкатулку бумаги и портрет девочки. Портрет молодого человека остался у нее в руке. Ящичек был закрыт и секретер тоже, резной ключик исчез. Госпожа Шварц снова уселась перед камином, который уже погас. Холод пробирал ее до самого сердца. Поза баронессы выражала крайнее утомление, время от времени дрожь пробегала по ее телу. – Я увижу этого человека, – бормотала она. – Траур мне был не нужен?.. И Мишель?.. Я узнаю. Ох, как я боюсь узнать! Городские шумы за окном затихали. Около часа ночи вновь раздался условленный стук в дверь. Госпожа Шварц слегка побледнела, но тут же взяла себя в руки и твердым шагом подошла к двери. – Он спит? – спросила она Домерга, отодвинув щеколду. – Беспробудно, – ответил достойный слуга. – Идем! Домерг с подсвечником в руке двинулся первым. – Госпожа баронесса должна извинить мое любопытство, – заговорил он, сделав несколько шагов, – но ведь этот парень сперва в мои руки попал, а я, знаете ли, привязчив, несмотря на возраст и положение… Беспокоюсь за него. Что же, после вашей проверки выйдет ему какая-то перемена? – Там видно будет, – ответила госпожа Шварц изменившимся голосом. – Вы можете не волноваться, – продолжал Домерг, – весь дом спит, я отвечаю за это. Даже кошки убрались на покой, а горничная вернется не скоро от крестной матери… Вы знаете, что я не болтлив, но мне все-таки удивительно, чтобы особа такого положения, как вы, занималась давними грешками своего мужа… Господин барон достаточно богат и может оплатить свои молодые проказы! Они подошли к лестнице. Покои нашего героя Мишеля располагались этажом выше. Баронесса не говорила ни слова, но и слугу к молчанию не призывала, и тот продолжал тихонько: – А для мадемуазель Бланш тут никакого урона нет. Хватит и на двоих… А ежели подумать как следует, так странная же получилась штука! Поневоле поверишь в божеское смотрение… Надо же было попасть господину банкиру именно на ту самую ферму, где был наш Мишель! Устроилось как по заказу. Он остановился – дверь Мишеля была перед ними. Бледность баронессы обрела болезненный оттенок, ей никак не удавалось унять дрожь. – Вы правы, – сдавленным голосом сказала она слуге. – Провидение существует! Домерг продолжал размышления вслух: – А насчет ревности я так скажу: нестоящая это штука! – И прибавил, добиваясь снисхождения к юному легкомыслию хозяина: – Ведь он же был совсем молоденький тогда, лет восемнадцати-двадцати! Еще до свадьбы с вами. Это весьма здравое замечание не смогло успокоить волнения баронессы. По ее знаку Домерг открыл дверь. Законный наследник богатого дома не мог быть устроен лучше нашего героя! Богато убранная комната выглядела кокетливо и щеголевато: роскошное гнездышко молодого светского льва. Домерг бесшумно приблизился по ковру к кровати и убедился в надежности сна Мишеля. Госпожа Шварц ждала за дверью. Какими бы ни были мотивы странного визита баронессы, сам этот поступок, столь не свойственный ее натуре, вывел из равновесия всегда спокойную даму. А может, была правда в подозрениях Домерга? Госпожа Шварц явилась сюда, чтобы ревниво заглянуть в прошлое своего мужа? Брак их, проверенный годами, был надежным и прочным, однако пылкости чувств со стороны супруги никогда не замечалось. А если слуга ошибался, то что навело его на подобные мысли? Домерг вернулся, сделав призывающий к молчанию жест, и шепотом сообщим: – Спит сном праведника! Госпожа Шварц вошла. Мишель вытянулся на постели, разметавшиеся длинные волосы делали его девически красивым, сейчас он походил на ребенка: беспорядочная жизнь, в которую он окунулся, отбросила на лицо легкую тень усталости, но не смогла стереть выражения простодушной доверчивости, делавшего его столь привлекательным. Баронесса держалась позади Домерга, который поднял подсвечник так, чтобы падающий отвесно свет позволял как следует рассмотреть лицо спящего юноши. – А как же вы узнаете правду? – обеспокоился слуга. – В том письма сказано про медальон или про какой-нибудь знак? Госпожа Шварц не отвечала, Домерг, обернувшись, увидел, как изменилось ее лицо, и чуть не выронил подсвечник из рук. – Вам плохо! – испуганно воскликнул он. Баронесса остановила его жестом, указывая одной рукой на свет, другой на дверь. Слуга передал ей подсвечник и вышел. Она осталась с Мишелем наедине, застыв в недвижимости, с горячечным взором, устремленным на его лоб под копной разметавшихся волос, и вдруг прикрыла глаза, будто охваченная внезапным страхом. Мишель шевельнулся. На полуоткрытых губах появилась улыбка. Баронесса отставила подсвечник, схватившись обеими руками за сердце. Затем вынула из кармашка пеньюара акварель, изображавшую молодого человека, и принялась поочередно вглядываться то в выцветший портретик, то в бледное лицо спящего. Судя по всему, она явилась сюда, чтобы произвести это сравнение. Когда она снова взяла подсвечник, из груди ее вырвался глубокий вздох. На пороге госпожа Шварц обернулась, чтобы еще раз сквозь слезы взглянуть на детскую улыбку спящего юноши. В свои покои она вернулась подавленной и захваченной какой-то серьезной мыслью. Домерг застал ее сидящей в спокойной позе, но он видел прекрасно, как она обессилена. Он принялся сокрушенно приговаривать, обращаясь к самому себе: – Разве можно так расстраиваться из-за того, что было до свадьбы! Ведь господин барон не девица… И что ж плохого в том, что он решил обеспечить пареньку будущее? Госпожа баронесса так добра! Можно устроить их обоих, мадемуазель Эдме и его… Славная будет парочка! Неужели госпожа Шварц обнаружила пресловутый знак или драгоценный медальончик, так часто являющийся в театрах? Об этом Домергу так и не довелось узнать никогда. Его просто-напросто отослали спать, как будто ничего особенного не произошло этой ночью. Баронесса бодрствовала до утра. Иногда на лице ее возникала улыбка, и прекрасные глаза влажнели. Два-три раза вслед за именем Мишель с губ ее срывалось имя графини Корона – кажется, оно внушало ей страх. Пряча акварельный портретик в средний ящик своего секретера, она чуть слышно произнесла: – Он полюбит… Может быть, уже полюбил… Всему в этом мире положен предел, даже отлучкам камеристок: мадам Сикар вернулась от крестной матери на рассвете, распространяя вокруг себя мужественный запах сигары. На следующий день госпожа Шварц решила посетить замок, который покупал супруг. Она отправилась туда на омнибусе, словно простая мещаночка. Во дворе почтовой конторы баронессе удалось взглянуть на прославленного Трехлапого, ей показалось, что калека окинул ее долгим пристальным взглядом. У баронессы не было конфидентов, а мраморное спокойствие прекрасного лица редко выдавало тайну ее замыслов. Замок Буарено был куплен, жизнь в доме Шварцев вошла в спокойное русло. Все шло своим заведенным и таким обычным порядком, что Домерг начинал спрашивать себя, не приснилось ли ему ночное приключение. История умалчивает о том, была ли отправлена в отставку коварная. Мирабель. Тем не менее несмотря на внешнюю гладь, появилось в этом доме кое-что новое: в нем зарождалась страсть, чреватая многими бедами. Первый результат ночного похода баронессы мог показаться неожиданным: в их салоне стала часто бывать редкой красоты молодая женщина, которая прежде не пользовалась симпатиями хозяйки, – графиня Корона, землячка баронессы, к тому же связанная с ней дальним родством через почтенного старца полковника Боццо-Корону. Дамы сближались друг с другом с дипломатической осмотрительностью, словно две могущественные державы, которым надлежало поделить сферы влияния. Графиня Боццо-Корона отличалась красотой странной и дерзкой, корсиканского, как уверяли знатоки, типа. Ее огромные глаза с глубоким и сверкающим взглядом помнились многим, хотя находили, что разрез их слишком широк для деликатной бледности ее лица; так или иначе, про эти глаза говорили. К разряду модных женщин графиня не принадлежала, поскольку не гонялась за модой, требующей специальных забот. Зато мода гонялась за ней – она была богата, красива, носила звучное имя, жила отдельно от мужа, авантюриста и прожигателя жизни: ходили слухи, что он пал слишком низко, хотя никто не брался разъяснить, в чем именно состояло его падение. Впрочем, она вполне могла обойтись и без титула мужа – полковник Боццо-Корона, знаменитый филантроп, как дружно называли его все газеты, чей дворец, расположенный на улице Терезы, мог считаться настоящих хранилищем многих шедевров, приходился ей дедом. Банкир Шварц имел финансовые отношения с полковником, доверенным лицом которого выступал господин Лекок. Странные происходят вещи в Париже с некоторыми репутациями! Трубным голосом возвещалось о добродетелях полковника Боццо-Короны, газеты наперебой распевали ему дифирамбы, правда, сильно смахивающие на медицинские бюллетени, – полковник был стар, как Мафусаил, что обеспечивало ему дополнительное почтение. При всем том некие сомнительные волны расходились от этой громкой славы добролюбца и филантропа. У полковника было на Корсике обширное поместье, расположенное в окрестностях Сартэна, доставшееся ему от жены, умершей более полувека назад. Чуть ли не официальное признание, которым Париж окружил столетнего старца, подточенное смутными, не нашедшими четкой формулы подозрениями, бросало двойной отсвет на красавицу графиню. Тайна лишь усугубляла ее очарование. Ни один голос не поднимался никогда, чтобы обвинить в чем-либо графиню Корона, однако имелось достаточное количество охотников, готовых выступить на ее защиту: с энтузиазмом говорилось о законности ее богатства и о прочности ее положения. Похвалы в адрес графини звучали ответом на неведомо откуда исходившие клеветнические слухи. Господин Лекок относился к ней с отеческой фамильярностью, свойственной нотариусам и советникам богатых домов. Она отвечала ему холодной вежливостью, под которой угадывался немалый страх, если не сказать ненависть. Через месяц после ночного визита, о котором мы рассказали, в доме Шварцев, по видимости спокойном, проницательный наблюдатель мог бы высмотреть много любопытных нюансов. Между Мишелем и баронессой установились отношения, какие бывали некогда в старинных замках между их владелицами и верными пажами. Чувство более живое, хотя и не столь платоническое, влекло нашего героя к графине Корона, блиставшей остроумием и красотой. Эдме Лебер бледнела и сокрушалась. Детский роман, наивный пролог которого нам известен, потихоньку развивался: единственной женщиной в мире, перед которой робел Мишель, была Эдме. Он еще не разобрался в характере своего чувства, но Эдме, раньше повзрослевшая и не столь разбросанная, лучше знала, что происходит в ее сердце. Господин Шварц все увеличивал объем своих дел и зарабатывал бешеные деньги. Благосклонность баронессы к Мишелю не ускользнула от его внимания. Он ревновал и безуспешно выискивал черные пятна в поведении супруги. Бланш превращалась в барышню. Мишель остепенился, стал серьезным и честолюбивым, симптом, по мнению господина Шварца, тревожный. Впрочем, его теперь тревожило все. Бедняге слишком везло в коммерческих играх, дерзкое денежное счастье пугало его. Собственно говоря, что случилось? Годами он ставил в вину баронессе ее холодность к своему Мишелю. Послушная супруга стала поглядывать на его фаворита менее холодно. О чем беспокоиться? Однако барон беспокоился – предательство Мирабель оставило в его душе неизгладимый след. В голову приходили кошмарные мысли: ему казалось, что баронесса вот-вот вмешается в жаркий флирт между Мишелем и прекрасной графиней. Однажды ночью (признаться, нам даже рассказывать об этом неловко), когда баронесса уехала на бал, он ввел в спальню своей жены постороннего. Господин Лекок обладал богатейшим набором талантов, и барон оказал ему опасное доверие, какое редко выпадает на долю людей порядочных. Гость его, бывший сотрудник фирмы «Бертье и К°», разбирался в замках лучше любого слесаря. Средний ящичек секретера, спрятавший крохотную замочную скважину в самом сердце букетика анютиных глазок, составленного из топазов и аметистов, был обнюхан, обсмотрен, общупан по всем правилам искусства. Лекок объявил, что замок с секретом. Чем неблаговиднее уловки проникнуть в тайну, тем они увлекательнее – у людей скрытных ревность часто похожа на лихорадку. При этом господин Шварц продолжал верить жене, подозрения одолевали его только в моменты слабости. К тому же тайные коварства совершались им отчасти из любознательности. Благосклонность его к Мишелю, как ни странно, все возрастала. Барон был человеком хитроумным и возлагал большие надежды на одну идею, казавшуюся ему панацеей от всех бед. Идея эта была ненова, она медленно дозревала в нем все это время. Как только нашлась точная формула, он подобно выскочившему из ванны Архимеду, осененный, примчался в комнату жены со словами: – Поженить Мишеля и Бланш! Согласна? Конечно, он устраивал ей проверку, но вместе с тем предлагал на рассмотрение солидный проект. Баронесса, бледная и спокойная, как всегда, мягко ответила: – Это невозможно. Господин Шварц стал допытываться – почему. Не потому ли, что баронесса открыла двери своего дома для графини Корона? Во всяком случае, это могло служить хоть каким-то ответом. Барон был огорчен, но от борьбы за свою идею не отступился. Было в этой истории еще одно лицо, огорченное не меньше барона. В силу какого-то неписаного договора Эдме Лебер привыкла считать Мишеля своей собственностью. И вот прямо у нее на глазах на него претендовали баронесса, графиня и Бланш. Про нее, Эдме, даже речи не заходило. Борьба имела плачевный исход: Мишель, покинув дом Шварцев, удалился в изгнание. Людей, подобных барону, злыми не назовешь, пожалуй, по-своему они даже добры и редко делают зло из чистой любви к нему, однако в случаях деликатных они действуют, что называется, по-медвежьи. Изгнание нашего героя произошло тихо, пристойно, но жестоко. Окружающие во всем обвинили Мишеля, да и сам он отчасти склонен был упрекать себя в черной неблагодарности. Со стороны казалось, что это Мишель покинул господина Шварца, который имел великодушие не слишком обижаться на его уход. Более того, банкир по разным поводам давал свидетельства в пользу своего бывшего фаворита, по стилю напоминающие те, какими осчастливливают хозяева неугодных слуг: на руку, дескать, довольно чист. С таким свидетельством можно искать работу очень долго. Финансовая сфера, где банкир Шварц считался звездой, была для Мишеля закрыта – по его делу был вынесен строгий приговор: «Дыма без огня не бывает». Биржевые сплетники пытались присочинить конец к роману, где баронессе Шварц отводилась роль вполне пристойная, но все-таки с учетом того, что дыма без огня не бывает. Господин Лекок резюмировал случившееся так: «С Мишелем покончено». А он знал в подобных делах толк, как никто другой в нашей Франции. XV СТРАННАЯ ИСТОРИЯ АЛМАЗНОЙ ПОДВЕСКИ В наше время все осведомлены обо всем, и гораздо лучше скрипящих пером бедолаг. Смазливые молодцы, обслуживающие дам в модной лавке, досконально знают, что собой представляет высший свет. Высший свет теперь доступен всему свету, потому наши попытки определить его не только излишни, но и неуместны. К тому же, по правде сказать, высшему свету нечего делать в этой истории о разбойниках, рассказанной спокойно и честно, без воровского жаргона и благородных клятв. До сих пор не появлялось в нашем рассказе ни особой грязи, ни особо пышных гербов, хотя принято считать, что грязь существует именно для, заляпывания гербов. Я опасаюсь навлечь на себя обвинения в непростительной пошлости за то, что по пути не оскорбил ни одного собора или дворца. Хуже того: на чистую воду не выведен еще ни один член прокуратуры, зеленоватый и желчный, прячущий под черной мантией аптечный набор отравных страстей. Слово вырвалось у меня ненароком, и угрызений совести не избежать. Черные Мантии! Какое название! Обещания! Угрозы! Оно пропитано ядом, от которого усыхают люди маленькие, и всей наглостью, от которой тучнеют большие. Вечный бой, социальная битва, настоящая Илиада, где Порок в белоснежном белье, разжиревший, пресытившийся, самодовольный, осаждается тысячами Добродетелей в блузах, худосочных, обозленных, оголодавших, домогающихся своего права забраться наверх, чтобы вырядиться и покушать вволю и стать в свой черед Пороком, ибо все люди братья! Черные Мантии! Знаменитые монстры! Черные Мантии! Подумать только, все они там наверху, укрытые по своим норам, облачились в черное: во дворцах правосудия, в церквях, на биржах, в государственном совете. Для честного уголовника, принужденного несовершенствами нашего общества воровать или орудовать кинжалом – ах, сколько часто против собственной воли! – это ливрея Порока. Священники, судьи, банкиры, адвокаты, куртизанки, судебные исполнители, академики, депутаты, биржевые маклеры – все одеты в черную униформу. Маршалы Франции и те начали пренебрегать богатым шитьем, дабы не выделяться. Черное в девятнадцатом веке стало оболочкой, покрывающей все могущества и благородства, все честолюбия и все роскошества, все успехи, все победы, все славы. И даже простому бойцу, затевающему драку, требуется ныне сей кабалистический мундир, даже побежденные спешат в него облачиться в надежде скрыть собственное поражение. Черный плац, напоминающий мантию, домино маскарадного бала, накинутое на дряхлость, на ревность, на месть! Однако довольно поэзии! В нашем рассказе нет ничего подобного, мы не блещем ничем, кроме бедной биографии воришки, не имеющего за душой ни проекта социального переворота, ни апостольской миссии, ни таланта проповедника. Так вот, не решаясь пускаться в рассуждения о высшем свете, заметим все же, что для Парижа понятие это весьма расплывчато. У каждого свой высший свет, и никто не станет отрицать, что в маленьком департаменте Сена, почти неразличимом на карте, существует великое множество высших обществ, расположенных рядом или друг над другом, по ходу возносящейся ввысь социальной лестницы. В своем высшем свете баронесса Шварц располагалась на самой вершине. Временами ее посещали светские амбиции, ей вдруг хотелось шума, блеска, развлечений, однако желание это проходило довольно скоро, и она вновь впадала в глубокое безразличие. Барон был менее порывист в своем честолюбии, зато более устойчив и ровен. Вышесказанное может несколько пояснить положение графини Корона в доме Шварцев. Между графиней и баронессой особенной симпатии не замечалось, отношения их были скорее холодноваты, а ведь за редкими исключениями женщина может получить доступ в какой-либо дом только благодаря хозяйке, значит, баронессе Шварц визиты графини были зачем-то нужны. Возраст Бланш и полнейшее доверие барона к жене в вопросах светского этикета не оставляли на этот счет никакого сомнения. Разумеется, дамы были связаны дальним родством, однако досужие умы, занимавшиеся решением этой маленькой светской загадки, находили ответ в другом: по своему общественному положению графиня Корона стояла и ниже и выше Шварцев. С одной стороны, репутацию ее отягощала сомнительная тайна, мешавшая светскому продвижению, но с другой, она свободно поднималась нате ступени, до которых госпоже Шварц было не дотянуться руками, даже поднявшись на цыпочки. Графиня Корона пользовалась правом заходить за развилку великосветской дороги, одно ответвление которой вело ко двору, другое – в круг избранных. Графиня была принята, и весьма любезно, в семействе маршала, все многочисленные ветви которого принадлежали к придворным кругам, графиня была близка с Савуа-Буабрианами, царившими в Сен-Жерменском предместье. По мнению многих, два этих безотказных ключа открыли перед нею двери Шварцев. И тут же возникал новый вопрос: что нужно было графине у Шварцев, знакомство с которыми не делало ей никакой чести? Должна же существовать для нее в этом доме какая-никакая приманка! Дети иногда выступают провидцами. Бланш, когда была совсем маленькой, сказала про очаровательную графиню, осыпавшую ее ласками и игрушками, что тетя эта похожа на кошку, которая подстерегает мышь. После отъезда Мишеля в доме Шварцев на какое-то время воцарилось удивление – чего-то не хватало, особенно барону, который был человеком привычки. Потом все двинулось внешне обычным своим ходом, но внутри словно омертвело что-то. Банкир, несмотря на загруженность делами, чувствовал постоянную тревогу и организовал за женой настоящую слежку. Баронесса знала, что взята под наблюдение. В ту пору к ним зачастил Лекок. Ловкий господин одаривая одинаковой благосклонностью и хозяина, и хозяйку, и трудно было сообразить, для кого именно он старался. Графиня Корона не старалась ни для кого, но тоже что-то высматривала глазами рыси. Мишель поселился на пятом этаже дома на улице Нотр-Дам-де-Назарет вместе с двумя друзьями, попавшими в похожее положение. Они решили оседлать неуступчивую судьбу и поджидали удачи, намереваясь поразить современников. Друзья Мишеля были поэтами, покинувшими, как и он, салон Шварца, где стихи их пользовались куда меньшим успехом, чем дешевая стряпня Ларсена и Санситива. Что ж, под солнцем искусства для всех находится место: исполненные надежд юные поэты сбежали из унылой конторы банкира Шварца, чтобы сообща бичевать порок. Они собирались поделить мир на троих. Пока что ничего из мечтаемого не появилось на их мансарде, но они были очень молоды, а надежда любит улыбаться влюбленным детям. Однажды утром Домерг, пользуясь отсутствием камеристки, заглянул в покои баронессы, чтобы сообщить: – Птенчик вчера проиграл тысячу экю в рулетку. Это добром не кончится. Остается надеяться только на Бога да на его святых. Дело, конечно, касается господина барона, но госпожа баронесса так добра! Домерг не изменил своей привязанности и продолжал присматривать за парнем по собственному почину, даже не подозревая, какую услугу он этим оказывает баронессе. В тот же вечер госпожа Шварц, тайком вырвавшись с бала, поднялась к Мишелю на пятый этаж. Бальный наряд ее в привратницкой никакого фурора не произвел: господина Лекока посещали элегантные женщины, а в каморку Трехлапого взбиралась дама совсем шикарная, «с самого что ни на есть верху», как выражалась мамаша Рабо. Эшалот с Симилором вовсе не ошибались, подозревая, что дом их кишмя кишит тайнами. Несколько недель тому назад сюда переехало семейство Лебер, расположившись в маленькой квартирке, окна которой приходились как раз напротив окон мансарды Мишеля. Они давно об этом переезде мечтали, госпожа Лебер считала Мишеля женихом своей дочери. Но между днем, когда проект этот впервые зародился в хорошенькой головке Эдме, и днем его исполнения много уплыло времени. В первый же день, когда Эдме пристыла к окошку, чтобы лицезреть жилище любимого, глаза ее покраснели от слез: в ту первую ночь Мишель вообще домой не вернулся, и Эдме не видела его целую неделю. Что делал он вдалеке от нее? Детский роман, первую главу которого мы читали, возобновлялся в том возрасте, когда душа познает себя. Эдме страдала, думая о сопернице, отнимавшей самое Дорогое, что было в ее жизни. Он вернется, утешала она себя, он не посмеет больше, зная, что я тут… В тот вечер, о котором мы говорим, Эдме, бледная и печальная, была на своем посту, поглядывая из-за убогих занавесок на противоположные окна. Внезапно глаза ее заблестели радостью: комната Мишеля осветилась. Блудный сын вернулся домой. Два его дружка, занимавшие соседнюю комнату, трудились: они трудились все время самым усерднейшим образом. Мишель вошел к ним и что-то сказал. Они тотчас же взяли шляпы и вышли. Казалось, он их прогнал. Оставшись один, Мишель занялся окном – даже не бросив взгляд напротив, он тщательно прикрыл его шторой. Недолгой была радость бедной девушки. Через несколько минут за закрытой шторой мелькнула тень. Это не была тень Мишеля. Сжав сердце обеими руками, Эдме бессильно упала на стул: в комнате Мишеля находилась женщина. Девушке стало дурно, и она прикрыла глаза. Когда она их открыла, за белой шторой никого не было. Или ей показалось? Если бы можно было поверить в это! Эдме решила все разузнать. Мать спала, утомленная дневной работой. Девушка спустилась вниз, пересекла двор и незамеченной оказалась на черной лестнице, которая вела наверх к Мишелю. Сердце ее бешено колотилось, от волнения она ослабла и боялась упасть замертво, ничего не узнав. Лестница не была освещена на том этаже, где проживал Мишель, там царила тьма. За дверью его разговаривали, полоска света обозначала порог. Женский голос в комнате Мишеля сказал: – Но это секрет, от которого зависит моя жизнь. Ни одна душа не должна знать, как я люблю тебя! – Мы подыщем пароль, – ответил Мишель. – Я придумал! Когда к вам явится от меня посланец, он должен спросить у вашего слуги; «Будет ли завтра день?» Эдме почувствовала, что умирает, и двинулась вниз нетвердым шагом. Лишь только она начала спускаться, дверь Трехла-пого, калеки из почтовой конторы, расположенная с другой стороны площадки, приотворилась. Эдме услышала шуршание шелка, сквозь тьму проскользнул силуэт женщины, видимо, элегантной и молодой. Полагая, что ее не видит никто, незнакомка остановилась перед дверью Мишеля и приложила ухо к замочной скважине. Целую минуту она подслушивала, затем постучала в дверь резко и сильно. Свет тотчас погас в комнате Мишеля. Дверь открылась; другая женщина, та самая, тень которой мелькнула за белой шторой, стремительно вышла и натолкнулась на незнакомку, испустившую сухой и короткий смешок. Вышедшая женщина кинулась к лестнице, но в темноте споткнулась на первой же ступеньке. Эдме, застыдившаяся своего шпионства, бросилась было бежать, но вдруг почувствовала сильный толчок – два крика слились в один. Придя в себя, Эдме почувствовала, что в волосах ее что-то застряло, она поднесла руку к непокрытой голове и вытащила запутавшийся в прядях крошечный предмет, оброненный посетительницей Мишеля в момент их нечаянной сшибки. Девушка рассмотрела предмет: подвеска, вырванная из уха, женщина, видимо, вскрикнула от боли. И никого рядом: Эдме осталась на лестнице в полном одиночестве. Обе дамы исчезли, точно по волшебству. Добравшись до своей комнаты, девушка рассмотрела подвеску как следует – изумительной красоты бриллиант, оправа слегка запачкана кровью. В ту же ночь у Эдме началась сильнейшая лихорадка, которая чуть не свела ее в могилу. Пропавший бриллиант никто разыскивать не пытался. XVI ЛИТЕРАТУРНАЯ ОРГИЯ Сколько бы ни насмешничали над мансардой, она продолжает делать свое великое дело, давая прибежище таланту, мужеству и красоте. Я знаю людей, которые не могут смотреть без волнения на маленькие окошечки, распахнутые под самыми крышами. Они парят над Парижем, эти опознавательные знаки гениев. Разумеется, вовсе не обязательно, чтобы гениальный человек в свои двадцать лет непременно платил восемнадцать франков за какую-нибудь чердачную конуру. И среди великих людей встречаются такие, что с молодых ногтей живут в холе и неге, но они все-таки исключение. Оставив презрение или боязнь, улыбнитесь мансарде, которую воспели поэты. Высота способствует вызреванию, на самых верхних ветках парижского леса появляются изумительные плоды, ценимые во всем мире. Итак, мы в мансарде, во второй комнате той квартирки, где обитает наш герой Мишель. Обстановка неприхотлива: стол, шесть стульев, две узенькие деревянные кровати, пузатый комод с остатками фанеровки из розового дерева, два шкафа, на камине вместо часов красуется большая тыква. По гвоздям развешаны носильные вещи, правду сказать, не очень приглядного вида. В центре стола письменные принадлежности, трубки и два стакана возле графина с водой. Единственная свеча скупо освещает этот суровый пир интеллекта. На панелях никакой позолоты, потолок без изящной росписи, пол, не застеленный турецким ковром, источает холод, кровати без роскошных занавесей и совершенно голые окна. В этих простых декорациях, не требующих особых расходов, легко представить себе двух молодых людей, парижан, конечно, хотя оба они родом с берегов Орна (парижан из Парижа не бывает), двух поэтов, двух избранников будущего. Первый одет не без некоторого кокетства: на выглядывающие снизу кальсоны ниспадают многочисленные складки халата из набивного кашемира, не сохранившего даже намека на былое приличие. Другой в брюках, на которые напущена цветная рубашка, перепоясанная шарфом с серебряной бахромой, добытом, видимо, на маскараде. Первый молодой человек: двадцать лет, волосы светлые, шелковистые, черты лица тонкие, немного женственные, но очень удачного рисунка, интересная бледность, большие голубые глаза, скандалист и мечтатель одновременно. Пенковая трубка. Второй молодой человек: трубка фарфоровая, волосы темно-русые с пепельным оттенком, слегка курчавые, голова круглая, шея крепкая и коротковатая, нос вздернутый, глаза смышленые, рот детский, двадцать два года, бородка, которая ему совсем не идет. Зовут Этьеном. Другого зовут Морисом, и свежепробившиеся усики очень украшают его лицо. Этьен и Морис такие же закадычные друзья, как Эшалот с Симилором. Мелодрама, парижское бедствие, треплет их не менее жестоко, чем покровителей упакованного в картонку младенца Саладена, но на другой манер. Это простаки рангом выше: друзья имеют честь быть начинающими авторами и подвергают свое воображение жестоким пыткам в надежде постичь наконец тот невинный механизм, что заставляет каждый вечер рыдать самых цивилизованных дикарей вселенной. Ах! Быть драматургом труднее, чем состоять в жандармах! Однако они обладают хорошей памятью, немалым остроумием и полным отсутствием здравого смысла; с таким вооружением в театре можно далеко пойти, если не собьет с избранного пути прискорбная идея заняться французской прозой. Единственная дверь – ведущая в комнату Мишеля – выкрашена в темно-коричневый цвет и напоминает школьную доску. На ней мелом выведено эффектное заглавие будущего шедевра: «ЧЕРНЫЕ МАНТИИ» Действующие лица: Олимпия Вердье, светская львица, 35лет; Софи, влюбленная барышня, 18лет; Маркиза Житана, жанровая роль, возраст ad libitum;[14] Ааьба, инженю[15], 15-16лет, дочь Олимпии Вердье; Молодчик Черных Мантий (роль для Мелинга); Вердье, миллионер-парвеню, муж: Олимпии, эльзасский акцент; Господин Медок (переделанный Видок), жанровая роль, весьма и весьма интересная; Эдуард, первый любовник, 20 – 25лет; Комики. Это уже кое-что – иметь такое заглавие и столько действующих лиц. Остальное придет с Божьей помощью. В тот момент, когда мы отважились войти в санктуарий, двое авторов пребывали в состоянии лихорадочного возбуждения, вызванного отнюдь не содержимым графина, а флюидами святого искусства. Они спорили пылко и ожесточенно, человек несведующий мог бы забояться катастрофического исхода. – Это бурлескно! – негодовал хорошенькой Морис. – Вот еще, бурлескно! – Бурлескно насквозь! Я утверждаю это! – А я утверждаю, – вскричал Этьен, запуская пятерню в курчавые волосы, – что в этом главное. Это держит пьесу, делает ее прочной. Как монумент! Как собор! Морис пожал плечами и презрительно бросил: – Понимал бы ты что в этом деле! Этьен с яростью необычайной вскинул правую ногу, но, как оказалось, только для того, чтобы поместить ее на столе, между чернильницей и графином. – Честное слово, – начал он сострадательным тоном, – ты просто уморителен со своим профессорским видом… Ты что, знаешь больше меня? – Вот именно, дорогой мой. – И где же ты все это узнал? – Не в той школе, в которую ходил ты, это уж точно. Ты видишь только костяк, схему… – А ты вообще ничего не видишь! Высказавшись таким образом, Этьен испустил крик и подпрыгнул, словно его кольнуло в зад выскочившим из стула кинжалом. – Идея! – взревел он, отбрасывая свои кудри назад. Морис постарался принять равнодушный вид, но дети всегда проигрывают в этой игре – любопытство одержало верх. – Выкладывай свою идею! – разрешил он, кривя розовые, как у юной девицы, губы. Этьен принял вдохновенный вид и изрек торжественно: – Я предлагаю сделать Софи сестрой Эдуарда! И тут же поспешно опроверг самого себя: – Нет, можно сделать лучше, голова у меня прямо пухнет от идей! Давай сделаем Эдуарда сыном Олимпии Вердье! – Слишком взрослый, – возразил Морис. – Она у нас дама без возраста. – И пускай себе будет без возраста. Вспомни-ка свою тетушку Шварц! В двадцать пять лет немногим удается выглядеть как она!.. Что, не правда? – Правда, но не в этом дело, мой бедный мальчик, – глубокомысленно вымолвил Морис. – До тех пор пока ты будешь абстрагироваться от искусства… – Да с чего оно у тебя берется, это самое искусство? – покраснел от злости Этьен. – С натуры. – А у тебя есть на что пообедать завтра? – Речь не о том… – А о чем, черт возьми? Да пропади оно пропадом твое искусство! Будешь ты писать драму или нет? Морис взял стакан и грациозно покачивал его, словно в нем играло шампанское. – Я хочу славы! – гордо заявил он, в свой черед впадая в одушевление. – Я сплету из нее блестящий венок для своей любимой кузины Бланш. Я хочу аплодисментов всего мира, чтобы их слышала она. Я хочу лавров всей земли, чтобы устелить ими ее путь. Я хочу победить, слышишь ты, только для того, чтобы бросить победу к ее ногам! Я пишу стихи не ради стихов и, уж разумеется, не ради того, чтобы золотишко бренчало в моем пустом кошельке. Что мне в золоте? Поэзия нужна мне, чтобы любить и быть любимым, чтобы воспевать мое божество, чтобы воскурять фимиам моему идолу… – Решил посмешить публику? – прервал его Этьен. – Что ж, одна такая тирада в кальсонах, и зал просто помрет со смеху! – Я могу произносить по десять таких тирад в день, – с достоинством отпарировал Морис. – Я могу произнести сто таких тирад, если угодно… – Произнеси тысячу таких тирад и уймись наконец* несчастный болтун!… В нашем рагу не хватает зайца… Лучше бы в нем не хватало соуса! – Как ты, однако, вульгарен! – заметил Морис с легким презрением. – Пустомеля! Возвращайся в коллеж и срывай награды за успехи в ораторском искусстве. Я сразу прикидываю, как будет выглядеть вещь на сцене. Драма – значит действие, вспомни греческий. Не мешай мне действовать, и я предоставлю тебе случай поболтать. Чего нам действительно не хватает, так это драматической ситуации, крепкой, серьезной, капитальной… – И что же такое драматическая ситуация? – Это… это… – Сам не знаешь! – Знаю!.. Представь, что Софи безумно влюбляется в Эдуарда и узнает внезапно, что он ее брат… Вот! – Бах! – Вот ситуация! – Если считать удар кулаком в глаз ситуацией, тогда конечно… Но я такого не признаю. Ситуация – это производная от характеров и событий. – Когда бессмертный Шекспир создавал… – Ты мне надоел! – Заставить двигаться интригу быстро, ловко, заманчиво… – О Боже мой! – Тогда давай напишем комедию, раз ты так убиваешься по характерам. На сцену еще не выводили почетного лауреата большого конкурса: все жизнь примерный ученик, набитый знаниями, гордость своих дядюшек, образец для своего квартала, до самой кончины нежно перебирающий красоты и глубины своей знаменитой латинской речи… Красивый рот Мориса распахнулся в угрожающе широком зевке. – Нам никогда ничего не сделать вместе, – объявил он. – Я поэт, а ты шут гороховый. – Благодарю, – ответил Этьен, – свободный перевод: господин Этьен Ролан мало чего умеет, а господин Морис Шварц не умеет ничего. Продано! Еще один Шварц, о читатель, что за семейство! Морис прогуливался большими шагами, охорашивая жалкие складки своего ветхого халата. – Это знамение времени, – важно произнес он, – призвания начинают сбиваться с пути. Ты стал бы вполне приличным клерком в нотариальной конторе, из меня получился бы блестящий биржевой маклер. Мы были прекрасно устроены у господина Шварца, который собирался озаботиться нашей карьерой из уважения к родителям. Как мы с тобой сглупили! Решили лучше помереть от голода и бессилия, чем стать порядочным клерками! – Вот тебе и наша пьеса, черт возьми! – с энтузиазмом вскричал Этьен. – Изредка в тебе проклевывается гениальность, когда ты перестаешь важничать. Заблудившиеся призвания! Так и назовем! И затолкаем туда всю современную жизнь! Эдуард может нам пригодиться, это ясно, и Софи, и Олимпия Вердье тоже. Не будем терять наших типов, еще чего! Барон Вердье будет просто великолепен! А Медок! А маркиза Житана! А развязка! Все нотариусы делаются поэтами, а все поэты нотариусами… Принято! Этьен импульсивно схватил свою трубку и принялся яростно ее набивать. – Теперь я начинаю понимать Архимеда, – заключил он. – Пока не пробежишься в купальном костюме по улицам Сиракуз, никакая путная идея в голову не придет. Морис остановился перед ним, скрестив на груди руки. В его больших голубых глазах ясно обозначалась дорога, которую проделывала напряженная мысль. – О чем ты думаешь? – поинтересовался Этьен. Морис не отвечал. – Интересная это штука, созерцать прилив вдохновения, – заметил Этьен. – Я вижу нашу драму сквозь твою черепную коробку. Она мрачна, грациозна, трогательна, она жестока… Великолепно! – Послушай, – тихонько заговорил Морис, – глупых профессий не бывает. Вспомним «Проделки Скапена» Мольера. Я вижу, как нашу пьесу играют Арналь, Гиацинт и Равель… Ну и, конечно, Грассо! Возьмем всех четверых… Я бы отдал целую прядь своих волос за бутылку шампанского! Этьен смотрел на него с разинутым ртом. – Хотя мне не известна еще твоя идея, – объявил он, – все равно она тебе делает честь. Четыре таких комика! Perge, puer[16]! За неимением шампанского давай опьяняться собственным разумом. Наливай! – Так вот, я вычитал это в «Ла Пэри», вечерней газете. Один уважаемый коммерсант, допустим, его будет играть Грассо, получает письмо из Пондишери от своего корреспондента, в котором обещано прислать ему орангутанга-самца лучшей породы. Дамы в ужасе, Грассо их успокаивает. Письмо снабжено постскриптумом. В тот момент, когда Грассо собирается прочитать постскриптум, дверь открывается и слуга докладывает, что из Пондишери прибыла ожидаемая персона вместе со своим воспитателем. Дам и девиц охватывает буйное веселье при мысли о воспитателе орангутанга. «Впустите», – говорит Грассо. Входят Гиацинт, воспитатель, и Равель, молодой набоб[17], который прибыл из Пондишери в надежде жениться на хозяйской дочери… Об этом предполагаемом браке как раз и говорится в постскриптуме, который никто не успел прочитать, о постскриптуме вообще напрочь забыли в поднявшейся суматохе… – Черт возьми! – одобрительно воскликнул Этьен. – В Пале-Рояль! – Арналь… или Равель – очень застенчивый молодой человек, который не решается рта раскрыть перед дамами и двигается только по команде Гиацинта, своего воспитателя… – Какая роль для Гиацинта! – А для Равеля… или Арналя… какая роль! Изумление ошеломленного парижского семейства достигает размеров небывалых и весьма комических… – Надо думать! – Грассо выражает сопроводителю благодарность за столь оригинальный подарок. – Зал бьется в корчах! – Мать бежит тайком заглянуть в томик Бюффоиа, чтобы получить сведения об обезьянах. – Все на разные лады повторяют: как он похож на человека! – Весть разносится по всему дому… Слуги знают, что в гостиной расселся орангутанг. – Да он же в лакированных сапогах, шимпанзе этакий! – А редингот по последней моде! – Зеленые очки! – Он умеет курить! – И в домино играет! – Ах, какая смешная зверюшка! – Такая бойкая! – Мадемуазель Селестина находит его чертовски красивым! – Тетушка опасается обезьян, но одаривает его поцелуем… Можно рискнуть на кое-какие пикантности: цензура посмеется. – Угощайтесь!.. Ах! Ему не хватает только слова! – И слово приходит в развязке: развязкой станет постскриптум… – Браво! Пятьсот спектаклей подряд, но премии от академиков не жди. Морис, киска, ты спасаешь нам жизнь! Морис снова уселся, охватив голову руками. Ликующий Этьен подыскивал трюки, подыскивал словечки, подыскивал название. В самый разгар его стараний Морис осадил друга словами: – Как это глупо! XVII ТАЙНЫ СОТВОРЧЕСТВА Этьен обескураженно уставился на Мориса. – Черт возьми! – Прорычал он. – Ветерок сменился? – Лучше стать бандажистом[18], – отвечал Морис, приложив руку к сердцу, – чем замарать себя подобным кощунством. О, мои мечты! И что скажет Бланш? – Посмеется вволю… – Я не хочу, чтобы она смеялась! Знаешь ли ты, о чем я мечтаю? Написать роль для Рашель: мать Маккавеев… – Погоди, дай врубиться, – попросил Этьен. – Что ж, неплохо и вполне возможно, хотя роль матери… У Этьена был золотой характер, ничего не скажешь. Морис продолжал: – Нет, не трагедия! Лучше опера! Ах, Штольц была бы потрясающей! – Я в стихах не очень силен, сам знаешь, – мягко отозвался Этьен. – Россини больше не пишет, – вздыхал Морис. – А я хотел бы Россини… Знаешь, мне стыдно за самого себя. Я карлик и завидую великанам. – Ты не прав, старик, – промолвил Этьен, искренне желая утешить друга. – В сущности, ты не глупее других, но тебе не хватает здравого смысла. Прислеживай за своими поступками и словами… – Сколько потерянного времени! Бланш! – стонал Морис. – Чтобы прийти к тебе, я должен украсить свой лоб венком… – Лучше повесь его себе на ухо, будет заметнее, – прорычал выведенный из себя Этьен. – Я сделаю прехорошенькую вещицу сам, вот увидишь, для театра Гетэ, и приглашу Франсиска-старшего, Делэстра и госпожу Аби. От тебя только один вред, все, к чему ты ни прикоснешься, рассыпается в прах. Пора с тобой завязать… – А знаешь, можно завязать одно хорошее дельце, – оживился Морис, – организовать… – Я сказал «завязать» в смысле «бросить», – сурово осадил его друг. – Надо провести реформу нашего бедного языка: слишком много экономии на глаголах, что способствует появлению каламбуров… Ну что же ты решил организовать? – Газету. – О! Это да! – Грамматика пустяки… С хорошим словарем можно заработать бешеные деньги! – Давай лучше сделаем словарь, разве плохо? – Неплохо, можно выпустить историю Франции в алфавитном прядке! – Право, если так прикинуть… – Но сначала мне хочется исполнить свою золотую мечту, издать «Книгу о прекрасном» с миниатюрами прямо в тексте, сделанными от руки… каждый экземпляр стоимостью в тысячу экю… Представляешь, какая у нас будет клиентура? Штук пятьсот самых модных дам, герцогини и всяческие прочие львицы, подсчитай! Три миллиона выручки! – Согласен! Иду в дело! – Но, с другой стороны, издание, рассчитанное всего лишь на какую-то тысячу пухлых кошельков, авантюра опасная. Театр чем хорош? Туда идут все, это настоящее золотое дно! Внимание! Начинаем! Морис откинулся на спинку стула и сунул руки в карманы. Это было сигналом. – Готов! – подтянулся Этьен, козырнув по-военному. – Антракт окончен, возвращаемся в театр. – Я вовсе не собираюсь ломать себе голову над нашей драмой, – торжественно объявил Морис. – И знаешь ты, почему? – Почему? – Потому что она уже готова. – Ах, вот как! – Она тут: пять актов с прологом. – Где тут? В шкафу? – Нет, в той брошюрке, что мы получили вчера по почте. – Знаменитое дело? – Вот именно… Этот Андре Мэйнотт – колоссальный тип. – Здорово! – История боевой рукавицы послужит прологом… – Прекрасно! – Бери мел! – Взял. – Иди к доске! – Сделано. Этьен выпрямился у двери, готовый к исполнению дальнейших распоряжений лидера, но тот задумался. – Какой дьявол прислал нам эту книжонку, – пробормотал он, выдвигая ящик стола. Он вынул оттуда одну из тех маленьких брошюрок по два су, какие теперь почти не встречаются на наших улицах, вытесненные газетными листками ин-фолио[19]; последними образцами такого рода можно считать «Льежский альманах» и «Историю четырех сыновей Эмона». Вынутая из стола брошюрка носила следующее название: «Знаменитый процесс Андре Мэйнотта. Боевая рукавица уличает преступника. Ограбление кассы Банселля – Кан, июнь 1825 года». Морис принялся ее перелистывать, а Этьен заметил: – Как только становится известно, что двое молодых людей посвятили себя искусству, им тут же начинают присылать такую макулатуру… Впрочем, бандероль пришла на имя Мишеля. – Это в масть моему замыслу! – вслух подумал Морис. – Главное, – поддакнул Этьен, поглаживая брошюру, – что тут внутри прячется шикарная драма! – Внутри! – с презрением отозвался Морис. – Ничего там внутри нет. – Как? – А так, ни тени того, что нам нужно. – Как же так, ты же сам… – заволновался несчастный Этьен. – Все прячется вот тут, – прервал его изящный блондин, тыча указательным пальцем в свой лоб. – Представь себе, что имеется некий тип… Следи за мной хорошенько!.. Имеется некий тип, который заинтересован в том, чтобы мы сделали из этой паршивой брошюрки драму в пять актов и десять картин… Сечешь? – Не секу. – Возьмем Лесюрка. Предположим, что его не казнили. Он во что бы то ни стало хочет добиться пересмотра своего дела… – Естественное желание! – А каким способом? Нужна гласность, нужно обратить на себя всеобщее внимание. Он находит двух молодых способных авторов и предлагает им сто луидоров… – Дай-то Бог… – Я подобную сделку отвергаю, – заявил благородный Морис, – вдруг окажется, что Лесюрк виновен… – Виновен! Лесюрк! – Такая гипотеза нужна для моего замысла. – Ладно, давай дальше, – согласился покладистый Этьен, сильно заинтригованный рассуждениями друга. – В глубинах этой брошюрки, – продолжал Морис, – я откопал одну фразу, которая заключает в себе первоклассную драматическую ситуацию. Андре Мэйнотт во время допроса сказал следователю: «Правосудию для каждого преступления необходим виновник, причем только один». – Это общеизвестная истина. – Ты полагаешь? А если мы напишем драму «Злодей-дипломат»? – То есть? – У Этьена алчно заблестели глаза. – Что ты под этим понимаешь? – Я под этим понимаю человека, который совершил сотню преступлений и предоставил в распоряжение суда сотню преступников. Этьен даже несколько осел от восхищения. – Колоссально! – воскликнул он. – Грандиозная идея! – Он стареет, – продолжал Морис, – окруженный всеобщим почтением, складывает в мошну миллион за миллионом и вдруг, на сто первом своем злодействе, спотыкается… Лесюрк, я хочу сказать Андре Мэйнотт, воскресает и, затаившись, начинает действовать… Твой отец, кажется, был следователем в Кане? – Да. – В то самое время? – В то самое. – Мой был комиссаром полиции. Материалы мы раздобудем, я помню, об этом деле много говорили, когда я был маленький. Теперь слушай: в нашей драме богатство миллионера Вердье поведет свое начало оттуда. Сделается понятной тоска Олимпии, Эдуард станет сыном жертвы, а Софи… Черт возьми! – прервал он себя, вставая. – Имеется что-то эдакое в нашем Мишеле! – Ну, недаром же он нас забросил напрочь, – не без ехидства заметил Этьен. – Он страдает, – задумчиво произнес Морис, – и… трудится. – Над чем? – Не знаю, а спросить его не решаюсь. – Давай не будем терять нить нашей драмы, – промолвил Этьен, не любивший шутить с плодотворными идеями. – Твой замысел я одобряю. Уважаемый господин, подбрасывающий закону кость – и тот ее послушно грызет! Тип любопытнейший, чернее дьявола! Нашу драму мы назовем «Вампир из Парижа». Морис не слушал. Поигрывая мелом, он остановился перед доской, где были выведены имена действующих лиц. Чуть ли не машинально он принялся против каждого действующего лица проставлять фамилии, как это делается при распределении ролей между актерами. Этьен, педантично исполнявший обязанности секретаря, окунул в чернила перо и стал заносить на бумагу суть только что состоявшейся творческой беседы. Verba volant[20]. Он имел привычку фиксировать ценные, но мимолетные нюансы таких бесед. Перо старательно вывело: «Вампир из Парижа: человек, открывший контору по отправке невинных людей на каторгу и на эшафот. С правосудием обращается галантно – после каждого совершенного преступления на блюдечке преподносит виновного». – Готово! Хватило трех строчек, – сообщил он, откладывая перо, и удивленно воззрился на Мориса: – Эй, что ты там делаешь? Тот уже закончил свою работу, и доска приобрела теперь новый вид: Олимпия Вердье, светская львица, 35лет, баронесса Шварц; Софи, влюбленная барышня, 18 лет, Эдме Лебер; Маркиза Житана, жанровая роль, возраст ad libitum, графиня Корона; Альба, инженю, 16 лет, дочь Олимпии, Бланш; Молодчик из Черных Мантий (роль Мелинга)??? Вердье, миллионер-парвеню, муж Олимпии, барон Шварц; Господин Медок (переделанный Видок), жанровая роль, весьма и весьма интересная, господин Лекок; Эдуард, первый любовник, 20 – 25лет, Мишель. Морис застыл перед доской, словно сверяя два списка. – Смотри, если Мишель войдет… – опасливо начал Этьен. – Мишель не войдет, – задумчиво, как бы самому себе сказал Морис и с внезапной злостью воскликнул: – Где можно пропадать так долго, черт побери? И с какой стати он от нас отбился? – Мальчик занят, – ответил Этьен и принялся загибать пальцы: – Олимпия Вердье – раз, графиня Корона – два, а на третье – Эдме Лебер… Морис рукавом стер с доски предполагаемые имена прототипов и не без некоторой торжественности объявил: – Мишель из нас самый мужественный и самый лучший. Человека благороднее его я не встречал. Он не способен обмануть девушку. – Ну знаешь ли, в любви… – начал Этьен фатоватым тоном. – Перестань! Обвиняя или защищая Мишеля, можно обойтись без банальностей. Он затянут в какой-то фатальный водоворот, таинственные подводные течения пытаются закружить его. Бедняга напрягает все силы в борьбе с невидимыми врагами… По-моему – тут скрывается настоящая драма! – Так давай занесем ее на бумагу, – не замедлил ухватиться за эту мысль Этьен, готовый делать драмы из чего угодно. Морис, о чем-то задумавшись, долго молчал, затем промолвил: – Стоило Мишелю захотеть, и ему бы отдали мою кузину Бланш. – С ее миллионами? – Вот именно: с ее миллионами. – И он не захотел? – Не захотел. Прикинь сам, много ли найдется в Париже юношей, пылких, честолюбивых и бедных, и притом способных отказаться от огромного состояния? – Мне не верится, что он от него отказался. – Тем не менее это так. Он не польстился на миллионы. Может, из-за меня, по дружбе? Или из-за Эдме Лебер? Не исключено, что тут замешана моя тетушка Шварц… Не знаю и не хочу знать. Ему не составляло труда вытеснить меня из сердца Бланш, она же совсем ребенок, сколько раз я сам замечал, как восторженно она на него поглядывает… Барон Шварц очень даже с этой идеей носился, пока у него не зародилось одно ужасное подозрение… – Еще бы! – прервал его Этьен. – Барону было от чего встревожиться! Их ситуация напоминает мне «Мать и дочь», тот же конфликт, слегка измененный. – У него же… – начал Морис и тут же запнулся, опустив глаза, – у него же нет родителей. Откуда берутся деньги, на которые он живет? – То-то и оно: откуда? А живет он, черт возьми, на широкую ногу, будто сынок пэра Франции! – Перестань! – второй раз одернул друга Морис. – Если ты начнешь оскорблять Мишеля, я тебя выставлю. – Ишь ты какой – выставлю! – обиженно вскричал Этьен. – Я тебе не слуга, чтобы выставлять меня, когда вздумается. К Мишелю я, может, отношусь не хуже тебя, только это не мешает мне кое-что замечать. Или он нашел клад, или… – Слушай, давай заведем газету! – предложил внезапно Морис, знавший своего дружка назубок. Тот моментально зарделся и от удовольствия раздул щеки. Ты серьезно? – Конечно, серьезно… Еженедельную, издавать будем вдвоем, обзоры всякой всячины – театр, биржа, бомонд.[21] Этьен, преданно глядя на друга, воодушевленно продолжил: – Отличная бумага, первоклассная печать, множество рубрик – новости, юмор, марки, сердечные дела. Кафе и ресторанчик, где мы питаемся, подпишутся непременно, не то перестанем ходить. Цена – пятнадцать франков за год. Ребусы постоянно, людям простоватым они по вкусу. Гравюры даем? Нет. Знаешь, недурно бы заняться бильярдом. В Париже тысяча шестьсот бильярдных, по десять игроков с каждой, уже шестнадцать тысяч подписчиков, да фабриканты – кии, шары и прочее. Как мы нашу газету назовем? Морис уже не слушал его. – Как назовем? – настаивал Этьен. – Надо бы для эффекта придумать что-нибудь театральное. «Адская ложа»! Нравится? Как мы до этого раньше не додумались! Морис испустил вздох и сжал голову руками. – Ничтожество! Какое же я ничтожество! – застонал он отчаянным голосом. – А время бежит, и каждый ушедший день вырывает у меня кусок будущего! – Малыш, – ответил Этьен, явно задетый за живое, – кажется, нам с тобой не сработаться никогда. Это в конце концов утомительно: взбираться на высоты воображения, чтобы тут же катиться вниз. Я тебе еще раз объявляю, что напишу пьесу один, для Гетэ, и приглашу Франсиска-старшего и Делэстра. Хватит валандаться! Расстанемся, и каждому свой путь. Свобода – первейшее право человека. Разрешите откланяться! XVIII ДРАМА В юности невзгоды нередко оборачиваются весельем. Только с возрастом юмор начинает обретать черный оттенок, и фарс, безобразный монстр, вступает в свои права. В двадцать лет не бывает настоящих печалей. Юность блистает даже из-под лохмотьев, и радостный смех прорывается сквозь рыдания. Беды здесь вызывают жалость, а не сочувствие. Этьен Ролан был сыном юриста, советника парижского королевского суда, читатель его помнит по Кану, где он работал следователем: порядочный человек, пользующийся уважением общественности и весьма ценимый в профессиональных кругах. Репутация его сильно окрепла благодаря процессу Мэйнотта, следствие по этому делу было признано настоящим шедевром. Ролан-отец, не жаловавший артистические профессии, готовил сына к карьере юриста или коммерсанта, но безумец Этьен пренебрег этими почтенными занятиями, предпочитая голодать в ожидании литературной славы. Отца Мориса читатель тоже наверняка еще не забыл: комиссар полиции из Кана, с площади Акаций, своим усердием сильно продвинувшийся вверх – до должности начальника отдела. Барон Шварц, надо отдать ему справедливость, был настоящим благодетелем для своих многочисленных родственников. Морис получил место в его конторе. Завсегдатаи салона супругов Шварцев невзлюбили юношу и не без злорадной радости констатировали первые симптомы его влюбленности в дочь хозяина, почти ребенка. Это чувство и страсть к литературе рано или поздно должны были вытолкнуть Мориса из банкирского дома Шварца, что и случилось довольно скоро. И вот теперь Морис, отягощенный сразу двумя преступлениями – любовью и поэзией, – голодал вместе со своим дружком Этьеном. Впрочем, голодали они скорее из упрямства, чем по необходимости, а когда не голодали, кутили. Этьен Ролан был юношей веселого нрава, не лишенным способностей, несмотря на поверхностное образование, слегка подпорченным богемными нравами: этих качеств более чем достаточно, чтобы сделаться драматургом. Он неумеренно восхищался дамами из театрального мира, и друзья его вполне искренне полагали, что он нашел свое подлинное призвание. Морис Шварц обожал свою кузину Бланш тем более пылко, что был изгнан от любимой на далекое расстояние. Жениха ее, господина Лекока, он ненавидел страстно, обзывал вампиром и искал способа погубить, разумеется, способа благородного. Поскольку ненавистный брак официально еще не был заключен, Морис лелеял мечту победить соперника силой славы. Увы, где она берется, эта слава? Но Морис знал, что некоторым удается ее поймать, и надеялся на удачу. Это был очень славный мальчик, тонкий, нежный и благородный, притом способный на поступки смелые и даже дерзкие. В смысле интеллекта он намного превосходил Этьена, зато тот имел перед ним одно огромное преимущество: твердо знал, чего ему хочется. Он был очень мил, Морис, но во многом уступал нашему герою Мишелю. Этьен, объявив о своем решении написать драму самостоятельно, направился к шкафу, извлек оттуда ужасающих размеров кипу бумаг и принес на стол. Их шедевр имел по крайней мере пятьдесят названий, столько же сюжетных ходов, добрую сотню героев, однако как бы ни менялась их интрига, трое персонажей постоянно оставались в действии: Эдуард, первый любовник, Софи, влюбленная барышня, и Олимпия Вердье, светская дама с загадочным прошлым. Герои эти, взятые из реальной жизни, разворачивающей перед молодыми авторами увлекательную, хоть и не до конца понятную драму, неизменно воскресали в каждом их новом замысле. – Тут разбросаны настоящие сокровища, – радовался Этьен, перелистывая бумаги. – Знающий человек выжал бы отсюда тысяч сто экю, а то и больше. Морис хранил молчание. – Хотелось бы знать, с кем это я разговариваю? – поинтересовался Этьен. – Тебя словно и нет в этой комнате. Сотрудничаю с самим собой. Морис заулыбался, но Этьен, с головой уйдя в свои бумаги, перестал обращать на него внимание. Через некоторое время он воскликнул: – Вот он, наш сюжет о внебрачном сыне! Грандиозно! Морис зевнул и встал со стула. – Правильно, старик, иди поспи, – съехидничал Этьен. – Но только помни, что театральная слава обходит сон стороной. Ах, если бы вместо тебя у меня был под рукой Мишель! Я чувствую настоящий творческий зуд. – Мишель меня беспокоит страшно, – пробормотал, покачав головой, Морис и направился к окну. Этьен на минуту оторвался от записей и взглянул на друга. Маленький Морис стоял, приблизив лицо к окну, и даже в спине его было что-то жалостное. Окно напротив, с другой стороны двора, еще светилось, но очень слабеньким светом. Больная дама уже не работала, а когда бедные не работают, они экономят свет. Морису казалось, что он различает в этой полутьме силуэт молодой девушки, стоящей на коленях возле кровати. – Начиная с четверга, с Мишелем творится что-то неладное, – печально промолвил он. – Не с четверга, а гораздо раньше, – заметил Этьен. В комнате напротив коленопреклонненная фигура выпрямилась. Морис продолжил: – Он возвращается, когда мы уже спим… – А утром убегает до рассвета, – закончил его мысль Этьен. – Хотелось бы ошибаться, но во всех этих секретах есть нечто сомнительное. Лампа у соседок напротив погасла. Морис добавил с глубоким вздохом: – И эта бедная девушка, мадемуазель Лебер, какая она бледненькая! – Даже в театре, – с жаром отозвался Этьен, – я не встречал такого выразительного, такого чистого, такого, можно даже сказать, трагического лица, как у Эдме Лебер! – Бланш ее очень любит. Должно быть, она принадлежит к избранным душам. – Интересный тип, это уж точно! Помнишь ты эту историю про доктора-шарлатана, которого под страхом смерти принудили лечить собственную дочь? Жизнь подкидывает нам зловещие сюжеты, надо только уметь ими пользоваться. – Что можно делать с пяти утра и до поздней ночи? – бормотал отошедший от окна Морис, адресуясь к самому себе. – Мой птенчик, – заговорил Этьен покровительственным и не лишенным некоторого злорадства тоном, – если в твоей маленькой головке родилась мысль последить за нашим красавчиком Мишелем, тебе придется здорово побегать. Скатертью дорожка! Я способен видеть подальше своего носа и уверен, что кое в чем добродетельный Мишель нас давно уже обогнал! Морис, покраснев, пролепетал: – Если бы я узнал секрет Мишеля, я бы ни словечка никому не сказал без его разрешения. – Знаешь ты господина Брюно, – неожиданно спросил Этьен, – торговца платьем? – Еще бы! У него весь мой гардероб и наш вексель. – Так вот, однажды вечером, возвращаясь откуда-то очень поздно, я повстречал нашего Мишеля под ручку с этим самым Брюно. А у Мишеля давно уже продавать нечего… – Ничего странного, Мишель хотел переписать вексель… – Если бы! На следующий день я спрашиваю Мишеля: «Что за человек этот господин Брюно?» А он мне отвечает: «Не знаю такого». – Мишель никогда не лгал. – Никогда, кроме этого раза… Слушай, мне припомнилась вдруг наша идея насчет Трехлапого. Маскировка… месть… жгучая нераскрытая тайна… Страсти почище, чем у Купера! – Да, я помню, – рассеянно ответил Морис. – Мне это когда-то нравилось. Он добрался до кровати и небрежно на ней развалился. – Хочешь вернуться к этому сюжету? – Нет. Я уже ничего не хочу. – Тем не менее, – добавил он, приподнимаясь на локте, – признаю, что в этой идее что-то есть, тогда она меня захватила очень сильно: куперовские дикари в центре Парижа! Разве не может быть большой город таким же таинственным, как непроходимые дебри Нового Света? И этот калека, терпеливо вынюхивающий след среди наших исхоженных улиц, где все следы перепутались… Эта упрямая ненависть, спрятавшаяся под жалким уродством… Я хотел присочинить этому монстру дочь… нет, лучше, пожалуй сына, которого он содержит из глубин своего несчастья… Деньги Мишеля… – Черт возьми! – вскричал Этьен, побледнев от волнения. – Ты попал в самое яблочко. Какая меткость! Меня преследовал этот образ: калека, ползающий по тротуару и чуть ли не затоптанный парижской толпой… в толпе может оказаться и то существо, ради которого он живет и терпит всяческие унижения… Ну, если уж это не драма, то я подаюсь в бухгалтеры! Я его и сейчас вижу именно так… Как в воду глядишь! Все, я его больше не вижу. Этьен ударил по столу кулаком и зашвырнул бумаги в угол комнаты. – Маэстро его видит! – прорычал он. – Маэстро его больше не видит! Я имею честь разговаривать с фантазером, у которого денег куры не клюют. Богатые мальчики склонны к капризам не меньше молоденьких красоток! Может, маэстро предложит мне сигару в память о прежней искренней дружбе? – У меня нет сигары, мой бедный Этьен. – Тогда дайте десять сантимов, чтобы ее купить. Ах, у тебя нет десяти сантимов, несчастный позер? Ты видишь и ты не видишь! Пора отбросить эти «вижу», «не вижу» и приступить к драме вплотную. А потом хоть конец света! – Давай напишем «Конец света», – смеясь предложил Морис. Этьен аж подпрыгнул на полфута от стула. – На афишах будет выглядеть шикарно! – с энтузиазмом вскричал он. – Ты что, серьезно предлагаешь эту идею? – Нет, не серьезно. Голова моя под стать нашему кошельку: совершенно пуста. Этьену опять пришлось скатиться вниз с вершин своего энтузиазма, но он уже привык к подобной эквилибристике. – Что ж, – на сей раз без особой горечи промолвил он, – тогда я пойду посплю. Если твоя кузина Бланш неравнодушна к мокрым тряпкам, я охотно повеселюсь на вашей свадьбе. Не успел он докончить последнюю фразу, как тут же о ней пожалел: в глазах Мориса стояли слезы. Этьен бросился его утешать. – Ты плачешь! – с искренним огорчением воскликнул он. – Какая же я дубина! – Бедный друг! – ответил Морис, улыбнувшись сквозь слезы. – Не расстраивайся! Ты шутя высказал мысль, которая меня удручает всерьез. Я сам себя упрекаю в медлительности. Со мной происходит нечто странное: чем бессильнее я становлюсь, тем непомернее разбухают мои амбиции. А время бежит! Если Бланш выдадут замуж, я прострелю себе череп. Он сказал это так холодно и спокойно, что Этьен испугался. – Будет ли завтра день… – пролепетал Морис, точно в бреду, и после некоторого молчания продолжил: – Дело вовсе не в материале, из какого мы строим пьесу. Сам по себе он ничего не значит. Из одного и того же мрамора можно изваять Бога, стол или плевательницу. Фидий высечет Бога, а посредственный драматург сгоношит уемистую плевательницу, в которую бульвары с простуженными мозгами будут выхаркивать все скопившиеся внутри нечистоты. Я не желаю бесчестить мрамор: для моей поэзии, для самых заветных моих идей срок еще не пришел. Но что касается нашей драмы, до нее я уже дорос, я ношу ее в себе – странную до курьезности, трогательную и таинственную. Она вновь зашевелилась во мне, совсем недавно, когда я услышал одну любопытную фразу, похожую на пароль… – Будет ли завтра день? – жадно переспросил Этьен, уже раскалившийся добела. – Это же золотая жила! Огромнейшее воровское братство, дьявольски интересно… – Откуда ты знаешь? – А может, политическое сообщество? – Слушай, кто тебе про это сказал? – Ты, конечно, кто же мне еще скажет! – Я сам пока что двигаюсь ощупью… Но в этом моя сила: наша драма тоже должна идти ощупью, все время спотыкаясь на тайнах. Этьен с воодушевлением почесал за ухом. – Через все пять актов, – прикидывал он, – проходит одна и та же шарада… Морис тоже наконец впал в творческий раж, глаза его посверкивали огнем. – Не через пять, а через пятьдесят актов, так я хочу! – распалился он, отдаваясь обычной своей детской порывистости. – И не одна шарада, а все загадки земли! Я вижу наш огромный Париж четко распавшимся на две части: посвященных в загадочный пароль и не посвященных в него. Но это еще не все! Можно пользоваться этой фразой, не подозревая истинной ее силы. Наш друг Мишель простодушно тратит ее на свои галантные похождения… хотя я вовсе не уверен, что его похождения имеют какое-то отношение к галантности. Я слышал собственными ушами, как он передавал пароль этому шуту гороховому Симилору, бывшему учителю танцев. Симилору поручено сказать опасную фразу нынешним вечером одному персонажу, с ног до головы романтическому и имеющему обыкновение любоваться водами канала Урк… – Потрясающе! – восторженно дивился Этьен. – Запиши все это. – Записываю. Но правду тебе сказать, Мишель играет с огнем. Неужто он не догадывается, какими дьявольскими последствиями чреват этот неосторожный клич? – Не догадывается. Запиши, что Мишель играет с огнем. – Но имя Мишель… – Наш загадочный красавец называется Эдуардом. Пиши: Эдуард играет с огнем. Вот еще фигура более чем любопытная: наш сосед господин Лекок. В свои картонные папки он натаскал тайн со всего Парижа. На днях, это было под вечер, я столкнулся у его дверей с моим дядюшкой, бароном Шварцем, он как раз звонил… Запиши. – Барона Шварца? Записать под настоящей фамилией? – Да нет же, у нас персонажи вымышленные. Ведь Олимпия Вердье у тебя, кажется, графиня? – Графиня. – Значит, дядюшка мой становится графом Вердье. Этьен отложил перо, чтобы поаплодировать, но затем воскликнул не без некоторой опаски: – А вдруг все это и взаправду так! – Нам плевать! Мы пишем драму для Амбигю-Комик и плетем свою артистическую сеть. Все прочее нас не касается… А теперь поднимись на цыпочки и гляди в оба глаза! Что ты видишь? Человек, созерцающий воды канала, носит серую ливрею со светлыми пуговицами: именно так обрисовал его Эдуард Симилору. Знаешь ты, какие ливреи носят слуги в доме Вердье? Граф, помешанный на финансах, нарядил их, как чиновников Французского банка. Теперь вопрос: кто, граф или графиня, должен откликнуться на пароль, посланный Мишелем, вернее сказать, Эдуардом? Я подозреваю, что все-таки не граф, вспомним таинственную незнакомку под вуалью, потерявшую бриллиант возле нашей двери. Придется нам поработать над графиней. Запиши все, что я сказал… Представляешь очередь у театра Амбипо-Комик? Небось протянется до самого канала! – Твоими бы устами, малыш! Я так рад, что ты наконец включился. – Дальше. Графиня атак не предпринимает: она уже выиграла все битвы и перешла в оборонительную позицию – она защищает свою тайну. Граф… запиши, что он влюблен в жену как мальчишка. Он не просто из Эльзаса родом, он эльзасец до мозга костей, а эльзасцы ревнивы как тигры. Вердье старается выведать тайну графини, тщательно при этом оберегая собственный свой секрет. «Будет ли завтра день?» Он идет по следу, но и по его следу тоже идут, он кружит то легавой, то дичью под звуки одного и того же охотничьего рожка. «Будет ли завтра день?» В этой фразе заключен целый мир. Морис говорил во весь голос, как и подобает оракулу, однако Этьен, благоговейно ему внимавший и делавший необходимые записи, сумел-таки расслышать какой-то шорох в соседней комнате, служившей спальней Мишелю, когда тот изволил ночевать дома. Он насторожил уши, но громкая речь Мориса перекрывала все шумы. – А Софи! Вглядись как следует в эти тонкие черты, в эту редкостную красоту, подернутую страданием. Эдме Лебер была богата, я ручаюсь, она, или ее отец, или ее мать. Мы не знаем истории ее бедной больной матери, всегда такой ласковой и печальной, разучившейся улыбаться, мы не знаем ее, но мы напишем эту историю слезами и кровью. Эдме Лебер спустилась сверху, и, хочет она того или нет, ей придется снова выплыть наверх или погибнуть. Записывай, черт возьми! – В комнате Мишеля кто-то есть, – сообщил Этьен. – Кто там? – прокричал Морис полувесело-полусердито. – Ты там, Дон-Жуан, пошлый сердцеед, подхвативший модную лихорадку? Это ты, Эдуард? Это ты, Франсиск из Гетэ, Альбер из Амбйгю, Рокур из Порт-Сен-Мартен? – Хочешь, я схожу посмотрю? – предложил Этьен. – Его там нет. Сиди и пиши. Шорохи производим мы: это поскрипывает наша драма, она ползком тащится по следам тайны. Кто идет? Неведомое, негаданное, невозможное! «Будет ли завтра день?» Настанет – для того, кто сумеет выжить, но для того, кто обратится в труп – нет… У графа свои шпионы, у графини свои заступники, действующие тайком. Гляди! Видишь ты, как прямо в жизнь выскальзывает из тумана странный силуэт, кажется, что это сама страсть, глубокая и затаенная, сгустилась и обрела материальность. Чего он ищет? Чего он хочет? Быть может, он совершенно в нашей истории ни при чем, этот торгаш, этот буржуй, этот знак вопроса. А может, всех нас он уже зажал в руке могучей хваткой, подпольный дипломат. Фамилию ему мы придумаем попозже, записывай под всем известным именем: господин Брюно… – Честное слово, – опять встревожился Этьен, – в соседней комнате кто-то есть! – Пиши! Над настоящим скапливаются грозовые облака, а прошлое… да, в прошлом тоже мрачная история нависает тучей. Столкновение неизбежно, и вот он, грозовой разряд – молнией является Трехлапый, наш Калибан… Жалкие остатки раздавленного прошлым сияющего счастья и победной молодости. Рассказ об этом в третьем акте станет грандиознейшей завязкой… нет, пусть он лучше громом прогремит в финале. – Здорово! – от всего сердца похвалил Этьен. – Просто потрясающе! Но все-таки я полагаю, надо подпустить немного смеха, среди наших героев я не вижу комиков. – Для них еще не наступило время, они явятся, когда мы разгадаем тайну, не раньше. Пока, что надо убивать, клинком или отравой убивать безжалостно! Ешь ты, или съедят тебя ^-таков закон. «Будет ли завтра день?» Да, настанет, нам уже пора, срок пришел. Бесшумно проскользнем в опочивальню графини, проскользнем вслед за наемными убийцами, чей кинжал оплачен золотом. Такие люди находятся всегда, и в средние века, и в наше время, находятся везде, в Париже точно так же, как в Венеции. Как только появилось преступление, ему навстречу услужливо раскрылись кошельки. Наемникам положено платить… – А как вы платите своим наемникам? Неплохо бы иметь задаток, – раздался позади них вкрадчивый голос, дерзостный и робкий одновременно. Эффект получился громовой, что называется, театральный, хотя изобретательный Морис его и не замышлял. Авторы дружно вздрогнули, перо выскользнуло из рук Этьена, который порядком струхнул. Морис вскочил на ноги, готовый храбро выступить против врага. Враг оказался двойным. Пара мужчин диковинного обличья красовалась возле двери, бесшумно их пропустившей: тряпочные туфли позволяли Эшалоту и Симилору передвигаться неслышной поступью. Эшалот, как всегда, был отягощен привешенным к спине Саладеном, Симилор, разгуливающий по жизни свободно, стоял ничем не стесненный. Оба они, держа шляпы в руках, изо всех сил старались напустить На себя бравый вид, но им было явно не по себе: взволнованные лица покрыты бледностью, в блуждающих взорах испуг. Эшалот, чтобы скрыть смущение, поддернул вверх своего выкормыша и, хотя бедное создание вело себя на сей раз вполне пристойно, призвал младенца к молчанию. Симилор кашлянул громко и суховато. – Вот, господа! – заговорил бывший учитель танцев, стараясь вернуть своему голосу обычную вальяжность. – Перед вами два молодых человека, обиженных несправедливой фортуной и готовых на все, чтобы поправить свое положение… свое и своего ребенка… это дитя любви, неповинное в грехах матери, увы, слишком ветреной и слишком любившей проказы, пирушки и всякие прочие опасные штуки. Молодость, молодость! Но когда упрыгаешься хорошенько, начинает тянуть к достатку и к тепленькому местечку. Мы пришли сюда погреть руки, располагайте нами, как угодно, мы согласны поступить к вам в наемники и верно служить хоть до самой смерти! Вот! – Вот! – с достоинством подтвердил его спутник. – Тихо, Саладен, веди себя спокойно, бесенок! XIX ТРЕТИЙ СОТРУДНИК Этьен и Морис были ошарашены в самом буквальном смысле этого слова. С разинутыми ртами взирали они на двух точно с неба свалившихся в их комнату чудаков: видимо, само божество, заведующее мелодрамой, посылало им от своих щедрот парочку паяцев, любезно предлагающих себя на роль наемных убийц. Две уморительнейшие карикатуры, два балаганных шута отменной парижской выделки, выскочивших из дебрей цивилизации! Творческое воображение начинающих драматургов и мечтать не смело о такой потехе. Симилор принял обычный свой самоуверенный вид. Он стоял прямо, запакованный в голубиного цвета редингот, и ухмылялся, явно довольный только что произнесенной речью, ухмылялся несколько свысока по причине воротника на китовом уре, гордо вскинувшего его голову. Эшалот, в наружности которого не было никакого блеска, скромно опустил глаза и засунул пальцы за нагрудник своего аптечного фартука. Из-за левого его плеча торчала невзрачная блондинистая головка младенца Саладена. Видя, что хозяева медлят с ответом, Симилор возобновил свою речь с еще большей проникновенностью. – Что касается ваших тайн, – заговорил он с лукавым подмигом, равномерно поделенным между двумя авторами, – то мы узнали о них случайно, без всякого умышления: не в наших благородных привычках подслушивать у дверей. Мой друг Эшалот – юноша высокой морали, великодушно посвятивший себя плодам моих былых ошибок. Я его знаю с детства и могу поручиться за него, как за себя: мы будем свято хранить верность клятвам, которые нам придется произнести в этой комнате. Мы услышали ваш разговор нечаянно, пребывая в соседней комнате, куда я зашел, чтобы доложить господину Мишелю о честно выполненном задании. Пользуясь оказией, я решил заглянуть сюда и представить своего друга, чтобы и ему перепадала от вас какая-никакая работенка. Наш малыш Саладен, вверенный его заботам, любит покушать. Услышав, что кинжалы оплачиваются чистым золотом, я сказал самому себе: «Дерзость – любимица фортуны. Соглашайся на опасную службу, сулящую такое богатство». Изговорив речь, бывший учитель танцев выставил вперед свои несравненные икры, и даже скромненький Эшалот постарался выпрямиться на хилых ножках, терпеливо выдерживающих тяжесть его атлетического торса. Среди бандитов встречаются гротескные типы, но они становятся грозными, как только перестают смешить. Наши комики к этой категории не принадлежат: они умудрились вскарабкаться на самые вершины бурлеска, так и не сумев вызвать дрожь ни в одной пугливой душе. Они заимели почтенное желание обратиться ко злу, дабы стать сытыми и нарядными, но столько придурковатой галантности светилось в их лицах, оригинально уродливых на парижский манер, столько веселья и простодушия, столько блаженной глупости сквозило в их взглядах! Сразу было понятно, что они не способны обидеть и мухи, и идея вооружить их кинжалами вызвала приступ буйного веселья у начинающих драматургов. – Ты так тосковал по комикам! – удалось наконец промолвить Морису. – Ах, какая умора! – восхищался Этьен, держась за бока. И снова разразились дружным хохотом. Эшалот и Симилор не смеялись, напротив, они были сильно обескуражены этим явно неуместным весельем. Лица их выражали разочарование – они так рассчитывали на свой визит! Актеры, как и все парижане, Эшалот с Симилором заботились не столько о выгоде, сколько об эффектности выступления. Сколько раз друзья любовались в театре подобными выходами и всегда они там венчались богатством и славой! Собирались же в этой комнате покупать кинжалы на золото? К вашим услугам – давайте кинжалы! А теперь смеются. Оба они были храбрецами и даже иногда скандалистами, однако идея разгневаться не сразу пришла им в голову, настолько была задета их гордость. Серьезные оскорбления, как ни странно, скользили по поверхности их задубелого стоицизма. У парижских дикарей кодекс чести пребывает в состоянии запутанном и весьма причудливом. Эшалот с Симилором принадлежали к этому дикому племени, и мы показываем их такими, какие они есть, без ретуши и прикрас. Они выглядят чересчур экзотично, но ведь и про ирокезов, резвящихся у ручья, можно сказать: выдумка. Такими оригиналами, как наши комики, на парижских бульварах хоть пруд пруди. – Амедей, – не стерпел наконец Эшалот, – ты мне заплатишь за эту паскудную каверзу… Тихо, Саладен, мушонок! – Успокойся, старик, – ласково отвечал ему Симилор, – тут какое-то недоразумение, надо выяснить. Нет никакой обиды в том, – важным тоном произнес он, обращаясь к весельчакам, – что я явился к вам не один, а с другом: он согласен исполнять ваши тайные поручения за ту же, что и я, цену. Много мы не запрашиваем, хотя сами понимаете, что не ради удовольствия соглашаешься проливать кровь своего ближнего, тем более что ни разу еще этой самой крови не проливал… – Бесподобно! – плакал от радости Морис. – Идеально, прямо-таки идеально! – восторженно вторил ему Этьен. – Однако смешить вас мы не нанимались, – начал выходить из терпения Симилор, чьи щеки подернулись легкой краской, – за такие оскорбления проучивают. – Послушайте, вы, – обиженно взревел Эшалот, – ручки у вас беленькие, да в карманах, видать, пустовато, сейчас я с вами, желторотыми, поговорю, хотите на улице, хотите здесь! С этими словами он сбросил со спины Саладена и, прислонив его к стулу, энергично хлопнул об пол руками, взбив целую тучу пыли. Позой он напоминал разъяренного льва, изготовившегося к прыжку, но, к счастью, Симилору удалось его придержать. – Зря ты так распаляешься, – шепнул он на ухо компаньону. – Молодчики с крючка не сорвутся: все их гнусные секреты у нас в руках. Тем временем Саладен, проснувшийся от толчка, задал отчаянного ревака, который подействовал на его приемного родителя как клич боевой трубы. – Пора с этими барчуками покончить! – рычал Эшалот, отбиваясь от Симилора. Морис еще продолжал хохотать, и весьма нахально, но трусоватый Этьен уже пятился от греха подальше к дальнему углу стола, и неизвестно, каким трагическим исходом завершилась бы столь весело начатая сцена, если бы приход нового персонажа резко не изменил ситуацию. Дверь распахнулась настежь, и на пороге показался крепкого сложения мужчина с лицом сумрачным и холодным. Четыре изумленных голоса выкрикнули одновременно имя господина Брюно. Новый посетитель отвесил учтивый поклон хозяевам, а гостям перстом указал через свое плечо дорогу к лестнице. Эшалот и Симилор было заколебались, но быстро опустили глаза под тяжелым взором господина Брюно и пошли прочь, не промолвив ни единого слова. – Вы тут кое-что позабыли! – крикнул им вслед вновь прибывший, ногой указывая на дитя любви, катавшееся по полу в своих лохмотьях. Эшалот вернулся, подхватил малыша на руки и бегом умчался из комнаты. – Попрошайки! – беззлобно аттестовал господин Брюно изгнанных чудаков. – Редкостные дуроломы. Медленным взором он оглядел бедную обстановку, словно производя в уме инвентаризацию мебели, после чего глаза его остановились на одном из свободных стульев. – Присаживайтесь, сосед, если угодно, – поспешно произнес Этьен. – Неужели уже подошел срок платежа? Морис добавил тоном почти вызывающим: – Я и не подозревал, что мы состоим в отношениях коротких и позволяющих входить друг к другу без стука. Господин Брюно не ответил и продолжал изучать стул. – Я знаю много всяких историй, – наконец вымолвил он вполголоса. Друзья удивленно переглянулись. – Срок платежа, – неспешно продолжал он, – наступит только в конце ноября. Времени предостаточно. А господин Мишель разве не тут проживает? – Он проживает в соседней комнате, – ответил Этьен. Испытующий взгляд Мориса натолкнулся на непроницаемые тускловатые зрачки гостя. – Что-то давненько вы не продавали одежды, – заметил господин Брюно. – Я все еще занимаюсь скупкой. Затем, вроде бы совсем не в строку, добавил: – Любопытные же вещи обнаруживаются иногда в карманах старых костюмов… Я скопил ворох всяких историй… Он двинулся по направлению к облюбованному стулу и по пути повторил: – Целый ворох! – И для того чтобы поведать нам эти истории… – начал Морис. Господин Брюно прервал его довольно бесцеремонно: – Значит, господина Мишеля нет дома? – Вы же видите, – сухо ответил Морис. Этьен, целиком поглощенный мыслями о театре, прикидывал, куда можно вставить этого типа. – И возвращается он не рано? – спросил господин Брюно. – Не рано. – Я так и думал… Да, а покидает дом спозаранку. Ради собственного удовольствия такую жизнь не ведут. Он вынул из кармана большой носовой платок в клетку и, смахивая пыль со стула, продолжал говорить, обращаясь на сей раз к Морису: – Вам хочется завести со мной ссору, дорогой сосед. Напрасно. Я неплохой физиономист и угадываю в вас доброе сердце. Оба вы еще слишком молоды… Ну и ну, – прервал он свою речь, отряхивая платок, – сколько же у вас накопилось пыли! Прислуга сюда не заходит? Нет… Ах, да, я совсем позабыл, что в горничных у вас подвизается Симилор и только добавляет грязи. Он уселся наконец с большими предосторожностями, явно не доверяя прочности избранного седалища. Следует заметить, что все его действия и слова были размеренны, спокойны, миролюбивы, гостя никак нельзя было заподозрить в преднамеренной дерзости. Этьен, пожалуй, был прав: этот господин мог называться типом, хотя первый взгляд не обнаруживал в нем ничего примечательного. И по костюму, и по манерам его можно было принять за мелкого буржуа, еще не успевшего отесаться, или за ремесленника, уже начавшего откладывать деньжата про черный день. Впрочем, род его занятий вполне соответствовал внешнему виду: он перепродавал одежду, слегка маклачил, занимался учетом векселей. Это был человек зрелых лет, среднего роста, несколько нескладный, но крепка скроенный. Его флегматичное лицо имело незлобивое выражение и вызывало мысль о растительном существовании. В целом он производил впечатление очень определенное, без прекословии вписываясь в ту категорию парижан, которую романтики окрестили презрительным словом «лавочники». Видели вы, как цветут очаровательные монстры, называемые орхидеями? Среди неисчислимого множества этих капризов природы невозможно встретить двух похожих фантазий; они могут зацвести в расщепе старого дерева, могут свеситься с потолка мохнатой гирляндой. Точно так же обстоит дело и со многими обитателями Парижа – приняв самые невероятные обличья, они прямо-таки кишат вокруг нас, но настолько близко, что их просто перестаешь замечать. Каждый раз, как мы выводим на сцену Эшалота и Симилора, нас охватывает изумление: ведь эти олухи царя небесного, эти тертые калачи, выпеченные в парижской печке, ибо нигде больше не найдешь этакого фигурного выгиба, свободно разгуливают по парижским улицам, и никто на них не обращает никакого внимания! Что касается господина Брюно, то уж этого-то вы знаете как облупленного: он не оскорбит вас претензиями на оригинальность, он похож на стершуюся монету, его физиономия плоска как будни… Тем не менее, бросив на него второй взгляд, вы будете несколько удивлены, если не испуганы. Под невозмутимой тяжеловесностью его обличья начнет угадываться нечто весьма необычное. Бросив на него третий взгляд, вы придете к твердому убеждению, что это добродушное и не очень выразительное лицо прячет какую-то ужасную тайну, словно скрытую под гипсовой маской, сквозь которую проступает иногда затаенное величие, упорная мысль и даже красота, как ни странно… Но кто же станет бросать на господина Брюно третий взгляд? Усевшись, он вынул большие серебряные часы и вполголоса пробормотал: «На Бирже девять, еще рано. Есть время для болтовни». – Могу я узнать, что вас привело сюда? – спросил Морис. – Что меня привело сюда… ах да, конечно же, милый юноша, но это позднее. Прежде всего я хотел бы предложить вам свое сотрудничество. – Сотрудничество! – в один голос воскликнули Этьен и Морис, первый смеясь, второй с оскорбленным видом. – Почему бы нет? – спросил господин Брюно, и непроницаемая улыбка его окрасилась легкой насмешкой. – Я же сказал вам, что знаю много историй… целый ворох… – Но… – начал было Морис. – Понятно. Вы мне еще не признавались, что по кусочкам собираете свою драму отовсюду, словно старьевщики, не в обиду вам будь сказано, которые роются по помойкам. Вы оба очень милые молодые люди… однако имеющие дурную привычку забывать бумаги в карманах своих рединготов. – Вы нашли наши планы? – поинтересовался Этьен. – Письма? – спросил Морис, слегка побледнев. – Акций Французского банка в ваших карманах не нашлось, это уж точно. Если бы они там оказались, я бы вам непременно сказал, и мы бы их поделили, ведь что продано, то продано, не правда ли? Я оплатил два редингота вместе с подкладками. Однако у меня слабость к юности. Держите, господин Шварц, вашу корреспонденцию. Он протянул сложенное письмо залившемуся краской Морису. – Я его не читал, – с достоинством произнес господин Брюно, – но не скрою, что почерк мне знаком. – Благодарю вас, – выдавил из себя Морис с вымученной улыбкой. – Не за что, дорогой сосед. А вот тут ваши бумаги, господин Ролан: две контрамарки и квитанция из ломбарда. – Стоило ли так беспокоиться! – небрежно бросил Этьен, сгребая свою собственность. – А вы хорошо знаете эту самую мадемуазель Сару? – тихонько осведомился господин Брюно. – С какой стати вы спрашиваете об этом? – Взгляните в квитанцию: женские часы, имя – Сара Жакоб. – Это… выдали по ошибке! – пролепетал Этьен. – Я к вам в опекуны не набиваюсь, господин Ролан, но некогда знавал вашего батюшку, человека весьма почтенного, и… к тому же встречал прекрасных молодых людей, которых неразборчивость в связях заводила туда, куда они вовсе не собирались идти. Этьен сухо поблагодарил его за заботу, господин Брюно ответил: – К вашим услугам… Остается сказать, откуда мне известно про ваши творческие муки. Дело нехитрое. Я живу в комнате, где слышно почти все, что вы говорите… – Надо сменить квартиру! – вскричали одновременно оба друга. – Не уплатив задолженности за эту? – Откуда вы… – Я знаю про вас очень многое. Когда вы не работаете над Эдуардом, Софи и Олимпией Вердье, вы обсуждаете свои невзгоды. Чего от вас не наслушаешься! Я теперь не очень рассчитываю на ваш вексель, и господин Мишель… он, конечно, отменный юноша, но… убегать из дому до рассвета и возвращаться ночью! Подозрительное поведение… Но вернемся к нашему делу: сколько вы мне дадите, на авторские права я не претендую, если я принесу вам совершенно готовую пьесу для театра Амбигю-Комик? – Нисколько не дадим, – ответил Морис, – мы делаем наши пьесы сами. – Ваши пьесы! – воскликнул господин Брюно. – Будто у вас их накопился целый склад! – Я не позволю такому человеку, как вы, – возмущенно начал хорошенький блондин, у которого были свои тайные причины к беспокойству. – Человек я точно такой же, как все, – прервал его господин Брюно с таким изумительным добродушием, что Морис даже смутился. Тем временем Этьен шепнул другу на ухо: – Он же глуп как гусь, разве ты не видишь? Постарайся не заводиться! У таких типов как раз бывают идеи… к тому же и в старых карманах они действительно находят всякие любопытные вещи. Господин Брюно взглянул на часы и пробормотал: – Двадцать лет… Доброе сердце бывает в этом возрасте или никогда. Второй раз уже он разговаривал словно сам с собой. Друзья слышали его слова прекрасно. Странность ситуации начала их захватывать: Морис чувствовал любопытство, Этьен – смутное беспокойство. – Господин Брюно, – заговорил Морис, пристально глядя на гостя, – вы пришли к нам не для того, чтобы наговорить всякого вздора. Под этим кроется что-то серьезное. – Серьезное кроется везде, – ответил меланхоличный торгаш, не теряя спокойствия, – и под этим, и над этим. Совсем недавно мы были в соседней комнате втроем: я, пришедший по делу, о котором вы узнаете позже, и двое этих чудаков, Эшалот с Симилором. Ну и дурни! Все мы вошли на цыпочках, я их видел, поскольку имею привычку глядеть, куда ставлю ноги, они меня нет. Мне подумалось сперва о дурном умысле с их стороны, они же совсем нищие. Так нет же, помереть можно со смеху, но умыслы у них были чистейшие: ребята решили наконец образумиться и кого-нибудь зарезать под вашу диктовку и за ваш счет, чтобы не болтаться без дела. В свою драму вы их ни в коем случае не берите: они такие прожженные парижане, что Париж в них не захочет поверить. Все это он говорил серьезно, без тени насмешки. Зато я, дорогие мои драматурги, я и в самом деле являюсь любопытнейшим персонажем. Посудите сами – в комнату двух начинающих авторов, утрудивших мозги сочинением новой пьесы, является некий человек и без всяких экивоков объявляет: я знаю вашу драму назубок, интрига, над которой вы тут мудрите, известна мне от пролога до финальной сце, ны. Хотите я ее вам расскажу? – Почему бы нет? – согласился Этьен, – интересно послушать. Морис хранил гордое молчание. В этой драме, – продолжал господин Брюно, неподвижные черты которого слегка сдвинулись легкой улыбкой, – я, может быть, актер… и вы тоже, не подозревая об этом… Ах, это такая драма, которую не часто встретишь, поверьте! Мне знакомы все наши коллеги, уважаемые господа актеры и очаровательные дамы – актрисы. Я знаю графа Вердье и его жену, я знаю Эдуарда, я знаю Софи, – говоря это, он перевел глаза на перечень действующих лиц, начертанный на двери мелом. – Я знаю Альбу, милое дитя! Я знаю господина Медока – весьма и весьма интересная жанровая роль, я знаю маркизу Житану… – А Черные Мантии? – тихонько поинтересовался Морис, напрасно пытавшийся скрыть любопытство под насмешливым тоном. – Мелинг вам подойдет на эту роль как нельзя лучше, – уклонился господин Брюно от прямого ответа. – Я знаю также других дам и других господ, по шею увязших в вашей интриге. У меня в запасе столько историй… целый ворох! Хотите знать, что делают ваши марионетки сейчас? Что они делали вчера? Что будут делать завтра? – Что делает Альба? – вырвался нетерпеливый вопрос у Мориса. – Она танцует. Граф Вердье приехал в Париж, и графиня Олимпия тоже, отдельно от мужа. Маркиза Житана находится у одра умирающего… – Добрая она или злая, маркиза Житана? – спросил Этьен. – Именно этим вопросом должен мучиться зритель, – ответил господин Брюно. – Так, кажется, полагается в хорошей драме? – А Софи? Что она делает? – Плачет. Она даже не подозревает, что богатство и счастье подошли к самому порогу ее бедной комнатки. – Ого! – обрадованно вскрикнули удивленные авторы. – Я же вам обещал, что будет захватывающе интересно, – промолвил господин Брюно, словно бы отчеркнув последние слова легким сарказмом. – Судя по всему, вы волшебник? – недоверчиво поинтересовался Этьен. – Вот еще! Волшебников больше не существует, к тому же им до меня далеко: они только угадывают события, я же свою историю знаю во всех деталях. – А Олимпия? Что она делает в Париже? – Она попала в затруднительное положение. – А ее муж? – Миллионер Отелло заказывает Яго поддельный ключ, чтобы проникнуть в секретер Дездемоны. – А Мишель? – Эдуард, вы хотите сказать? – Да, Эдуард. Любит он Олимпию Вердье? Этот вопрос задал Морис. Господин Брюно ответил: – Разве она не прекрасна? Впервые в голосе его послышалось нечто похожее на волнение. Он опустил глаза, вынул часы, чтобы скрыть смущение, и сухо закашлял. Вероятно, от кашля щеки его слегка зарделись, но быстро восстановили свой обычный цвет; на массивной холодноватой физиономии нормандца не осталось никакого следа мимолетного волнения. – Эдуард – прекрасный молодой человек, – угрюмо произнес он. – Но, к сожалению, развилка дороги, поворачивающей на каторгу, указательным столбом не отмечена. Слова его заставили подскочить хозяев на стуле. – Господин Брюно, – решительно объявил Морис, – вы должны признаться нам, кто вы такой. Нормандец, старательно протиравший стекло на своих часах, рассеянно взглянул на циферблат. – Юные мои друзья, – мягко заговорил он, – я пришел сюда именно потому, что пока еще имеется время воздвигнуть преграду на его опасном пути… и на вашем тоже. Это благородный юноша. Перед моим уходом отсюда мы еще поговорим о нем. Что касается нашей драмы, то мы еще не приступили к прологу, а многие загадки ее разъяснятся только развязкой. Имейте терпение… Мы уже провели в болтовне целый час, и время начинает нас поджимать. Возвращаюсь к цели моего визита. Вы уже ознакомились вот с этим? Он ткнул пальцем в валявшуюся на столе невзрачную брошюрку под названием: «Знаменитый процесс Андре Мэйнотта. Боевая рукавица уличает преступника. Ограбление кассы Банселля – Кан, июнь 1825 года». – Вот уже пятнадцать минут, – признался Морис, – как я думаю, что автором этого послания являетесь вы. Этьен пододвинул стул поближе. Как бы там ни было, Этьен и даже Морис чувствовали все возрастающий интерес к этому визиту. Беседа, принявшая форму весьма причудливую, напоминала одну из тех остроумных шарад, которые столь любы начинающим драматургам. Если считать историю коварной латной рукавицы прологом, то какие мосты можно перекинуть от далеких уже, трагических событий к той сложной интриге, шевеление которой сумели учуять возле себя молодые авторы? Странный нормандец, похожий на торгаша, на их глазах дерзко переступал границы обычного. Сквозь, казалось бы, непроницаемо плотную простоватую маску все чаще проглядывало его второе лицо, подлинное лицо человека, наделенного редкой отвагой и недюжинным умом. XX ВОРОХ ВСЯКИХ ИСТОРИЙ Господин Брюно взял в руки брошюрку и пробежал глазами наивно-броское название. Какое-то время он пребывал в задумчивости, сжав крепкой рукою лоб, словно желая вытиснуть оттуда нужную мысль. – В изложенной тут истории, – медленно заговорил он, – можно найти для вашей драмы отправную точку: удивительно острую и даже в своем роде правдивую, несмотря на то, что автор занимает ту же позицию, что и суд во время процесса. Не беспокойтесь, господин Ролан, я не собираюсь критиковать вашего отца. – Можете не стесняться, – ответил Этьен. – Для меня главное драма. – Вашего отца я считаю видным юристом, а ваш, – добавил он, обращаясь к Морису, – старался честно выполнить свой долг. – Я бы не позволил вам высказаться иначе. Нормандец почтительно поклонился юноше. – Тем не менее, – продолжил он, повышая голос, – Андре Мэйнотт невиновен, и на этой прочной, как Вандомская колонна, посылке можно построить колоссальную роль. Слушайте меня внимательно. Наша драма не хочет дожидаться премьеры: она разыгрывается уже, мы в ней участвуем, и я хочу снабдить вас кое-какой информацией, чтобы вы не перепутали сюжетных ходов. Согласны? – Согласны! – дружно ответили молодые авторы, приготовившись слушать. – Во время процесса Андре Мэйнотту и его жене сильно повредило то, что они были чужаками: не секрет, что во Франции повсюду к корсиканцам относятся как к иностранцам. Я вам расскажу, по какой причине пришлось прекрасной Жюли и ее мужу покинуть родную Корсику. Там, по другую сторону Сартэна, расположена страна разбойников, разумеется, сказочных: настоящим бандитам в тех местах слишком мало представляется оказий упражнять свой опасный промысел – путешественники встречаются редко, буржуазные, как принято выражаться, фамилии – еще реже. Однако и до сих пор бытует там легенда о некой матушке, якобы прячущей в окрестностях старинного замка графов Боццо несметные сокровища разбойников со всей Европы. Во времена первого Паоли, графа Боццо, на землях его был схвачен и повешен грек Николас Патрополи, прозванный за свои кровавые подвиги, устрашавшие современников, Фра Дьяволо – имя, прогремевшее на весь мир. Кличка эта стала, как у египетских фараонов, чем-то вроде почетного титула, отмечавшего самых прославленных верховодов – всего можно насчитать с десяток сменявших друг друга Фра Дьяволо. Николас Патрополи прибыл на Корсику, чтобы сменить внешность: в Обители Спасения делом этим занимался весьма искусный лекарь. Дикий корсиканский уголок служил если не штаб-квартирой, то, во всяком случае, надежным убежищем для франкмасонов преступного мира. Вы в этом убедитесь сами. Я могу подтвердить, что старинная сказка о монастыре, дававшем приют бандитам, укутанным в черные монашеские мантии, была очень популярна на Корсике в конце прошлого века, там и по сию пору живо воспоминание о зловещих черных отцах, и многие видели собственными глазами мрачные монастырские стены, за которыми бушевала бесконечная оргия. Монастырь этот еще существовал в 1802 году на опушке каштановой рощи, переходившей в непролазные лесные дебри. Разбойничье логово было разрушено одним из графов Боццо в первые годы Империи. Последний Фра Дьяволо, Отец итальянских Veste Nere и настоятель бандитского монастыря, вел с французами настоящие битвы. Звали его Мишель Поцца или, по другой версии – Боццо, известно, что он был повешен в Неаполе в 1806 году. Состоял ли этот самый Мишель Боццо, последний шеф монахов-разбойников, в родстве с графом Боццо, разрушившим монастырь? Покрыто тайной. Графы Боццо, как это частенько бывает в диких местах, стояли во главе огромного рода, где бедняков было гораздо больше, чем богатых сеньоров. В эпоху Реставрации род этот сильно поредел, осталось только две его ветви: Боццо-Корона из Бастии и Рени, обитавшие в окрестностях Сартэна. Себастьен Рени, считавшийся главой клана, проживал в замке вместе с женой-француженкой. Когда у него родилась дочь, крестил ее сам епископ – девочке дали имена Джованна Мария. От Обители Спасения уцелела только полуразрушенная башня, к которой примыкал дом современной постройки, скромно белевший среди угрюмых развалин. Время от времени в нем появлялся некий человек, очень богатый, щедро сыпавший деньгами на все стороны. Он не был в этих местах чужаком: сам он носил фамилию Боццо, супруга его, давно умершая, принадлежала к ветви Рени, его дочь и зять, тоже Рени, обитали в замке. Тем не менее, несмотря на всем известные родственные связи, некий ореол таинственности окружал этого человека, известного под прозвищем Отец. Он часто отлучался из дома на долгое время, и невозможно было дознаться – куда. Год 1818-й оказался для Парижа чрезвычайно обильным на преступления. Паника, охватившая людей богатых, наиболее часто подвергавшихся грабежу, кругами расходилась по всем слоям общества. Вновь выплыло на поверхность грозное имя, с ужасом произносившееся во времена Империи; а по заверениям стариков, известное и до Революции: Черные Мантии. Люди благоразумные имели, однако, полное право сомневаться в существовании этого легендарного бандита, ибо ни одно совершенное преступление не оставалось безнаказанным. Могла, пожалуй, насторожить удивительная точность баланса; все, без исключения, преступления венчались поимкой злодея. Такое в юридической практике бывает редко. Вы знаете, вероятно, полковника Боццо-Корону, теперь уже почти столетнего старца… – Так это он – Черные Мантии? – развеселился Этъен. – Или же сам воскресший Фра Дьяволо? – Не мешай! – сурово одернул друга Морис. Господин Брюно дружеским жестом поблагодарил его за поддержку. – Полковник Боццо, – продолжал рассказчик, оставив без внимания вопрос Этьена, – вот уже несколько дней находится при смерти. Банкир Шварц потеряет в нем одного из самых богатых своих клиентов, зато графиня Корона унаследует огромнейшее состояние. Полковник припомнился мне не случайно: в те как раз времена он вел бурную, полную приключений жизнь. Он был уже немолод тогда, но жил на широкую ногу, среди развлечений карты пользовались особой его любовью… Наш молодой герой Эдуард тоже игрок, вы уже знаете? Но к этому мы еще вернемся. Что касается полковника Боццо, то многие утверждали, что маска прожигателя жизни была нужна ему лишь для сокрытия неких заговорщицких планов. Особенно знаменитой стала последняя партия полковника, когда он проиграл семь тысяч луидоров одним махом. Видимо, состояние его было огромным, ибо карточные свои долги он оплачивал неукоснительно. Не известно, владел ли он какой-либо собственностью во Франции, но ходили слухи, что на Корсике ему принадлежит роскошное поместье. После своего огромного проигрыша полковник внезапно покинул Париж, прихватив с собой своего победителя: он решил продать корсиканское поместье, чтобы выплатить карточный долг – об этом тогда говорили все. Партнер его, очарованный поместьем, подзадержался на Корсике и, в свой черед, проигрался в пух и прах, требуя из Парижа все новых и новых денежных переводов. Вскоре он умер то ли на Корсике, то ли где-то в ином месте. Это был старый холостяк, ничем, кроме разгульной жизни, не знаменитый, но, как ни странно, после его исчезновения в Париже воцарилось спокойствие, и многие именно ему стали приписывать авторство целой серии преступлений, недавно потрясавших столицу. Так или иначе, в ту пору большим успехом пользовались шуточки над простаками, уверовавшими в Черные Мантии. Тем временем Черные Мантии объявились в Лондоне. Жители его перестали выходить вечерами, несмотря на громкую славу своих трех полиций. Все знали, кого следует опасаться: кличка злодея моментально удостоилась перевода – Black-Coat[22]. Еще бы! Он не давал лондонцам отдышаться, потроша их неустанно и оставаясь неуловимым для полицейских. В то именно время в Лондоне обосновался полковник Боццо, принятый весьма радушно благодаря своему богатству: быстро сделалось известно, что он владелец огромного корсиканского поместья. Впрочем, слухи о нем закружили разные, тем более что жил полковник довольно замкнуто: ужинал в клубе, в доме держал только двух слуг – горничную-итальянку и маленького француза, очень смышленого, состоявшего при нем то ли в секретарях, то ли в грумах. Этого шустрого французика полковник откопал в какой-то парижской слесарной мастерской, специализировавшейся на замках, и взял парнишку к себе, дабы усовершенствовать его в этом деликатном искусстве. Надо полагать, у мальчика было имя, но полковник по обычаю, принятому в некоторых кругах, сразу присвоил ему двойную кличку – Приятель-Тулонец. В Лондоне банда Черные Мантии погуляла вволю – набор приписываемых ей преступлений отличался разнообразием и размахом. Но опять же люди рассудительные, особенно имеющие отношение к юриспруденции, решительно отрицали существование таинственного злодея: как и в Париже, каждое совершенное тут преступление уравновешивалось с точностью прямо-таки бухгалтерской уличенным преступником. Кого искать и при чем тут злодей в черной мантии? Если бы таковой объявился, он бы попросту оказался третьим лишним: закону не в чем было его обвинить. Так говорили мудрые, но мнение толпы решительно эту мудрость игнорировало. Простаки не отступались от своей веры в Черные Мантии, вампира и двойного убийцу: одну жертву он пронзает кинжалом, другую отправляет на эшафот… Полковник тем временем по своему обыкновению галантно сорил деньгами. Люди, которым есть что скрывать, меняют имя, он везде выступал под своим собственным – и в Париже, и в Лондоне назывался полковником Боццо. Среди клубных завсегдатаев кое-кто посматривал на него косо, находились злые языки, отзывавшиеся о нем не очень лестно, однако французский джентльмен вступил в клуб с соблюдением всех формальностей и считался к тому же отменным игроком. Постоянным его клубным партнером по картам был некий Джон Мейсон, сын набоба, разбогатевшего на поставках отравы китайцам. Этот Мейсон слыл человеком богатым, доход его в переводе на французские деньги составлял два миллиона семьсот пятьдесят тысяч франков. Он только что женился на актрисе, но успел уже разочароваться в своем браке. Однажды утром Джон Мейсон и полковник Боццо сели на корабль, отплывавший в Италию. В Лондоне по этому поводу говорили следующее: ипохондрик Мейсон, к тому же страдающий легочным заболеванием, решил приобрести на юге Европы зимнюю резиденцию в три-четыре квадратных лье, где он собирался возвести настоящий замок. Поместье полковника ему вполне подходило – начинаясь в горах, земли его, покрытые густыми лесами, сбегали к морю. Утверждали, что у полковника, кроме этого поместья, ничего не осталось, а некоторые добавляли, что роскошное поместье станет ставкой в грандиозной карточной битве, которую замыслили отчаянные игроки. Полковник Боццо в Лондоне больше не появился. Легенда о Черных Мантиях постепенно превращалась в сказку. В то время ни одна европейская столица не произносила этого зловещего имени, и оно посверкивало где-то на периферии разбойничьей мифологии рядом с громкими именами Картуша, Мандрена или Шиндерханна. И вдруг, в 1821 году, Черные Мантии воскресли на страницах газет: злодей под этой эффектной кличкой пребывал в тюрьме города Кана за убийство английской дамы Сары Потлер, бывшей актрисы и вдовы Джона Мейеона, эсквайра. Значит, Джон Мейсон был мертв! Если вам, мои дорогие авторы, потребуется более подробная информация по этому поводу, то Имеется один человек, очень честный, хотя ему пришлось пятнадцать лет своей жизни провести среди тюремщиков и среди воров. Господин Брюно остановился, чтобы перевести дыхание. Лицо его побледнело, на лбу выступили капли пота. Этьен и Морис слушали с любопытством почти болезненным этот рассказ, казалось бы, специально предназначенный для того, чтобы увести их подальше от исходной точки – они были откинуты на сто лье от своих отцов, следователя и комиссара полиции из Кана, на сто лье от Андре Мейнотта, любовно отреставрировавшего предавшую его латную рукавицу. Морис спросил: – Человеком, о котором вы только что упомянули, являетесь, вероятно, вы сами? Господин Брюно остановил на нем свой непроницаемый взор, словно подернутый пеплом, под которым затаился пожар. – Вы когда-нибудь приглядывались поближе, – произнес он в ответ, – к несчастному калеке, проживающему рядом с вами?.. Кажется, его называют Трехлапым… И снова умолк. – Хорошо, – промолвил Этьен, вынюхивающий свою драму, подобно охотничьему псу, взявшему след. – Стало быть, за подробной информацией обращаться к Трехлапому? Нормандец ничего не сказал в ответ. – Итак, Джон Мейсон был мертв, – наконец снова заговорил он. – Странная история! Я знаю целый ворох таких! Да! Париж и Лондон стали забывать о Черных Мантиях. Еще бы! Нельзя же находиться повсюду одновременно. Черная Мантия путешествовал. Тем временем маленький секретарь полковника подрастал и превращался в юношу. Да, а Джон Мейсон был мертв. В течение года лондонский нотариус пересылал на Корсику огромные суммы по его требованию – письма от Мейсона приходили Из Сартэна. Что он делал в Сартэне? В точности этого никто не знал. Без сомнения, он пытался выиграть поместье, но партия затянулась, и удача явно изменила ему: он требовал все новых и новых денег. Бывшая актриса, супруга Мейсона, испугавшись полного разорения, выехала на Корсику в надежде спасти остатки огромного состояния. Человека, пребывающего в заключении, можно заставить написать и подписать что угодно, дело известное. Я полагаю, что Джон Мейсон давно уже обходился без карт. Как только жена его прибыла на Корсику, повторилась та же история: лондонский нотариус получил от нее письмо – с извещением о смерти мужа и с просьбой о высылке денег. Потом еще и еще – снова поплыли на Корсику огромные суммы: денег у Черных Мантий бывало столько, что он мог бы закупить весь Париж. Что ж, ему приходилось содержать целую армию, это стоит недешево. Нотариус Джона Мейсона получил наконец последнее письмо от его вдовы, разительно отличавшееся от прежних: в нем было всего четыре строки, извещавшие о «чудесном побеге». Значит, было откуда бежать! Впрочем, госпожа Мейсон в подробности не входила, сообщила только, что теперь, оказавшись на свободе, намерена обратиться в полицию. Она плохо переносила море и возвращалась сушей – через Францию… труп ее был обнаружен в канской гостинице. С какой стати ее занесло в Кан? Это было ей вовсе не по пути… Убийцу английской дамы вскоре арестовали. Впервые удалось схватить одного из Черных Мантий. Только был ли этот молодчик из Черных Мантий? Во всяком случае, канская тюрьма не желает расставаться со своей легендой. Именно из камеры знаменитого злодея пять-шесть лет спустя сбежал Андре Мэйнотт, через окно, решетки которого были подпилены якобы еще во времена Черных Мантий. Что в то время поделывали полковник и его расторопный секретарь? Приятель-Тулонец кинулся за актрисой в погоню, вслед за ним отправился и хозяин. Отсутствовали они очень долго, а вернулись однажды ночью вместе с каким-то иностранцем, по всей вероятности, унаследовавшим апартаменты Мейсона. Приятель-Тулонец стал относить на сартэнскую почту письма адресованные в Берлин. Как раз тогда в Берлине исчез богатый еврейский банкир. Прусские деньги заспешили на Корсику. Чуть позднее Отец-Благодетель совершил вояж в Австрию, затем посетил Россию. В монастырских подземельях места было достаточно. Люди, которые попадали туда, на свет больше не выходили. В 1821 году Приятель-Тулонец был уже взрослым молодым человеком, красавчиком, нагловатым и дерзким, не знавший удержу в развлечениях, особенно когда дело касалось женщин. Подвиги его оставались безнаказанными, тем более что в окрестностях Сартэна знали о них гораздо меньше, чем вы, авторы драмы, перед которыми мне пришлось приоткрыть карты. Политические идеи, завершившиеся революцией 1830 года, пробуждались по всей Европе, воцарившийся в Италии дух конспирации проник и в этот глухой уголок. Многие полагали, что Отец-Благодетель исполняет некую тайную миссию, возложенную на него карбонариями, догадка эта подкреплялась ненавистью его к Себастьену Рени, графу Боццо, хранившему верность Бурбонам. Себастьен Рени скончался в своем замке в 1821 году, супруга его, женщина набожная и неизлечимо больная, тоже находилась при смерти. Их юная дочь Джованна Мария, ангельски чистая и прелестная, воспитывалась в монастыре бернардинок близ Сартэна под бдительным оком своей тетки, настоятельницы обители. Девушка покинула монастырь, чтобы посвятить себя заботам об умирающей матери. Ей было около шестнадцати лет, и она предназначалась в супруги своему кузену из Бастии, занимавшему видное положение среди местной знати. Однажды вечером, когда Джованна Мария возвращалась из церкви, неподалеку от монастырских развалин на нее напал подросший Дон-Жуан, Приятель-Тулонец, для которого не существовало ничего святого. За девушку вступился местный паренек, чеканщик из оружейной мастерской, задав жестокую трепку ее обидчику. Джованна Мария не забыла своего спасителя, Приятель-Тулонец запомнил его на всю жизнь. Кланяйтесь, господа драматурги! На сцену вышли ваши протагонисты. Молодого чеканщика из Сартэна звали Андре Мэйнотт, нежный ангел Джованна Мария – ваша таинственная графиня Олимпия Вердье. XXI СЕКРЕТ ДРАМЫ Глаза господина Брюно сверкнули: казалось, зрачки его, холодные и жесткие, точно камень, высекли две искры при звуке этого имени: Джованна Мария. Морис, слушавший с опущенными глазами, искал в этом запутанном рассказе не сюжетных ходов для своей драмы, а подлинных фактов, способных прояснить некоторые загадки окружавшей жизни. Нахмуренные брови придавали его лицу взрослое и мужественное выражение. Нельзя сказать, что он понял все, но он многое угадал, и рассказчик, чувствуя напряженный интерес юноши, обращался преимущественно к нему. Этьен, храня верность драме, составлял сценарий. С алчным волнение заглядывал он в темные закоулки этой необычайной истории, стараясь запомнить как можно больше деталей. Над всеми неясностями возвышался грандиозный силуэт Черной Мантии. Сцена в застенке, устроенном под руинами монастыря, так и стояла перед его глазами. Туда попадет актриса, неплохо бы сделать ее роль подлиннее. Но черт возьми! Само дело Мэйнотта в окружении столь драматических дебрей потянет на три или четыре картины! Господин Брюно продолжал: – Должен вам сказать, пока не забыл, что в Лондоне за убийство Джона Мейсона был отправлен на виселицу виновный, чья-то голова скатилась в корзину за исчезновение берлинского банкира, в Вене и Петербурге злодеи тоже были наказаны эшафотом. Черная Мантия и Закон расквитались. Точный счет укрепляет дружбу. Что касается Андре Мэйнотта, то он был круглым сиротой. Ни его развитие, ни его амбиции не выходили за пределы занимаемого им скромного положения, однако встреча с Джованной Марией вдохнула в него новую душу – он полюбил… Тем хуже и тем лучше, мои молодые друзья, если в этом слове для вас заключено все… – Ваш голос дрожит, когда вы его произносите, – с глубоким сочувствием заметил Морис. – Я тоже человек, – ответил нормандец, изо всех сил стараясь подавить волнение, – я тоже страдал… Андре Мэйнотт забросил свою мастерскую, сердце рвалось из его груди, дни и ночи бродил он вокруг сумрачных стен, укрывших его сокровище. – А Джованна Мария знала об этом? Они знают про нас все, те, что любимы нами! В тот самый" вечер, когда умерла мать Джованны, Приятель-Тулонец вознамерился похитить девушку. Андре не знал об этом коварном замысле, но был охвачен непонятной тревогой. Вместо того чтобы вернуться домой, он беспокойно прохаживался по опушке миртовой рощи. Уже стемнело, и шумы вокруг затихли,) когда за стеной на тропинке послышались легкие шаги и детский голосок окликнул Андре по имени. – Я здесь, малышка, – ответил Андре, узнавший Фаншетту, внучку Отца-Благодетеля. Про эту девчонку говорили, что она станет богаче, чем королева: дед в ней души не чаял. Фаншетта перемахнула через ограду, приземлившись у ног Андре, и, тяжело дыша, объявила: – Темноты я нисколечко не боюсь, но секретарь моего дедушки настоящий бандит. Если он меня поймает, убьет! Она сделала знак, призывавший к молчанию, и настороженно вслушивалась в темноту. Вокруг не раздавалось ни шороха. Андре спросил: – С какой стати Тулонцу тебя ловить? – С такой, что меня послала к тебе Джованна. – Джованна! – воскликнул Андре, чувствуя, как ноги у него подгибаются. – Ага, ты дрожишь, – заметила девочка, – Джованна тоже дрожала, когда говорила о тебе. Слушай, что я скажу: Приятель-Тулонец очень плохой, я его ненавижу, а мама с папой его боятся, а ведь они дети самого Хозяина. Нынче вечером я слонялась по коридору, что ведет в комнату покойницы. Ты видел покойников? Я никогда не видела и хотела взглянуть. Тулонец тоже не спал, я слышала, как он говорил горничной: «Ты получишь десять наполеондоров…» Он ей вывернул руку, и она заплакала. Еще он сказал: «Лошади будут ждать на полпути к развалинам…» Горничная ответила: «Но ведь в комнате рядом с мертвой находится священник…» А Тулонец засмеялся и говорит: «Мы заткнем ему глаза и уши дукатами…» А потом сказал: «Завтра она вернется в монастырь и будет поздно, все надо сделать сегодняшней ночью». Андре словно окаменел. – Ты что, ничего не понял? – заволновалась девочка, глаза ее, поблескивающие в темноте, умные и глубокие, казались совсем взрослыми. – Понял, – ответил Андре. – Я понял все. – Тогда, – продолжила свой рассказ маленькая Фаншетта, – горничная согласилась, и Тулонец ее поцеловал… Ах да! Я чуть не забыла сказать самое главное: десять наполеондоров он даст за то, что горничная опоит Джованну сонным зельем. Они решили ее украсть в два часа ночи, когда перестанет светить луна… Знаешь ты, что говорят люди, которые приходят к дедушке просить денег? – Не знаю. Чтобы их пропустили, они спрашивают: «Будет ли завтра день?» Я сто раз слышала собственными ушами. Ты скажешь эти слова и тебя пропустят, даже если дверь будет закрыта. Я боюсь чего-нибудь позабыть в спешке, мне уже пора возвращаться… Так вот, как только Тулонец с горничной из коридора ушли, я побежала к Джованне, чтобы ее предупредить. Покойницу я не увидела, она вся закрыта белой тканью, а поверху лежит большой черный крест… Джованна очень красивая, я тоже буду красивой, когда вырасту. Я ей про все рассказала, она побледнела страшно и стала призывать Бога, Деву Марию и тебя. Я ей говорю: «Я знаю этого парня и знаю, где он бывает по вечерам». Тогда она послала меня к тебе и велела кое-что передать. С этими словами Фаншетта вложила в руки Андре ковчежец, ларец и кошелек. – У нее ничего больше нет, – пояснила девочка молодому чеканщику, утерявшему дар речи от изумления. Невозможно передать те наивные и очаровательные слова, какими Фаншетта растолковала влюбленному юноше, что эти вещи вовсе не плата за услугу, а приданое, бедное и бесценное, которое невеста вручает своему жениху. Начала исполняться самая страстная и самая тайная мечта Андре. Фаншетта завершила свидание словами: – Ты должен все хорошенько запомнить и явиться вовремя – раньше часа. Прощай, надо бежать, а то меня заругают. Она умчалась, легонькая, как лань, быстро скрывшись в ночи. Точно громом пораженный, Андре долго не мог сдвинуться с места. Сперва ему подумалось, что все это просто сон, но вещи, посланные Джованной, были явью. Он вернулся в город, чтобы захватить оружие и все свои денежные запасы. Бежать придется, видимо, далеко – целый клан ринется за ними в погоню. Взглянув в сторону замка, он увидел указанное Тулонцем место – приготовленные лошади уже ждали. Из дома Отца-Благодетеля раздавались песни, пирушка была в самом разгаре: только что туда привезли какого-то гостя из Венгрии. Андре надвинул на глаза шляпу и закутался в плащ. Смелым шагом он подошел к замку и спросил привратника: – Ну как, дружище, будет ли завтра день? – Как и вчера, – ответил тот и добавил: – Ты приходишь в удачную пору! – Да, но меня поджимает время, – ответил Андре, проходя. Через минуту он появился снова, неся на руках Джованну Марию с обвязанным вокруг рта платком. Привратник на сей раз притворился спящим. Когда он вышел на улицу, из окошка сверху нежный голосок прокричал: – Желаю удачи! Маленькая Фаншетта не спала. Человек, державший лошадей, не заподозрил обмана, он помог закинуть плачущую Джованну в седло, и беглецы рванули галопом. Дом Отца-Благодетеля все еще оглашался пьяными песнями. В ту первую ночь было не до любви: Джованна плакала, ее преследовал образ умершей матери. Андре сочувствовал горю любимой от всего сердца. На рассвете они вынуждены были остановиться в сельской гостинице, чтобы ослабевшая девушка могла отдохнуть. Когда она собралась с силами, ее родичи уже бросились на их поиски – беглецы вынуждены были углубиться в чащу, ибо дороги прочесывались во всех направлениях. Приятель-Тулонец тоже поднял на ноги всю свою рать. Звуки погони раздавались то слева, то справа, то спереди, то сзади – опасность окружала их со всех сторон. Но Джованна рядом с верным Андре успокоилась; обрученные бедой, жених и невеста были почти счастливы. Они выбрались к морю, но семь дней им пришлось выжидать погоду, хотя всего день пути отделял их от Сардинии. Наконец они высадились в Сассари, где их обвенчал священник, приходившийся Андре дядей со стороны матери. Счастье юной любви омрачалось тревогой: в Сассари их было слишком легко сыскать, и они перебрались на Ийерские острова, словно созданные для блаженства. Но и здесь их не покидала тревога, они пересекли всю Францию, чтобы уйти от беды подальше, тем более что Джованна собиралась стать матерью. Андре искал такое местечко, которое лежало бы в стороне от дорог, ведущих из Парижа в столицы Европы. Он выбрал Кан, тихий старинный городок, расположенный в четырехстах лье от Сартэна. Молодые супруги вздохнули наконец с облегчением, поверив в безопасность избранного приюта. Но невидимый демон уже шел по следу влюбленных. Их сияющее счастье, озаренное улыбкой явившегося на свет ребенка, было обречено. Однажды вечером незнакомый еврей, промышлявший антиквариатом, предложил Андре купить редкую вещь – старинную боевую рукавицу. Документы, удостоверявшие право на владение этой редкостью, были у антиквара в полном порядке. Андре купил боевую рукавицу: искусный мастер, он решил отреставрировать этот шедевр и продать за большие деньги. Любовь сделала его честолюбивым, он мечтал о богатстве для своей Жюли (Джованна носила теперь это имя), созданной для блеска и наслаждений. Этой покупкой Андре накинул себе петлю на шею: боевая рукавица, сыгравшая столь коварную роль в деле Бан-селля, оказалась орудием мести. Приятель-Тулонец убедил хозяина, что беглецы знают их тайну. Это была ложь: до Андре доходили кое-какие слухи, известные всем в Сартэне, а Джованна, укрытая монастырскими стенами, ни о чем даже не подозревала. Молодому чеканщику пришлось постигнуть зловещий секрет на собственном страшном опыте… Господин Брюно внезапно прервался и замолчал в задумчивости. – Что дальше? – в один голос воскликнули молодые слушатели. – Остальное здесь, – ответил господин Брюно, положив крепкую руку на брошюрку, рассказывающую о канском процессе. – Если вы только просмотрели ее, прочитайте внимательно, и вы угадаете главного героя: изощренного злодея, обыгрывающего правосудие, палача, подкармливающего закон невинными жертвами… Морис решительным тоном произнес: – Господин Брюно, вы пришли к нам вовсе не ради мелодрамы! И поглядел в лицо нормандца пронзительным взором. Тот опустил глаза. – Я пришел сюда не только ради искусства, – ответил он наконец, – это верно. Наша драма разыгрывается сейчас в этом доме, в замке, на улице, она бежит куда быстрее, чем ваше перо, и развязка ее наступит гораздо раньше театрального представления. – Мишель в опасности? – с тревогой спросил Морис. – Мы все в опасности, – ответил господин Брюно, взглянув на него тускловатым взором. И добавил, понизив голос: – Вы когда-нибудь встречали на лестнице вашего соседа, господина Лекока? – Еще бы! – пожал плечами Этьен. Нормандец продолжил, адресуясь к нахмурившему брови Морису: – Не хмурьтесь, мой юный друг, я как раз хотел вас предупредить, что в этой драме вы участвуете не в качестве автора. – И господин Лекок… – начал Морис. – Всем известно, – прервал его господин Брюно, – что никакой рай не может обойтись без змея. – Коварный искуситель! – обрадовался Этьен. – Необходим дьявол, переодетый в кучера, чтобы старенькая карета мелодрамы бежала резво. – Он ловкач, этот господин Лекок! – произнес нормандец, словно размышляя вслух и задумчиво сжимая в руке свои большие часы, затем разжал пальцы и глянул на циферблат. – Есть человек, – медленно и со скрытым волнением заговорил он, – который не раздумывая бросится в воду с камнем на шее, чтобы преградить господину Мишелю путь ко дну. Вы молоды, ваше сердце не очерствело. К тому же я вам уже сказал, что в этом деле вы тоже завязли по уши… По уши! Завязли из-за фамильных и дружеских связей, из-за своих привязанностей и антипатий. Хотите вы того или нет, вам придется разыграть вашу партию. Водоворот закружит и вас… – Черт подери! – заволновался Этьен. – О чем он говорит? О драме? – Нет, – сухо ответил Морис. – Почему же нет? – губы господина Брюно тронула ироническая усмешка. – Нам приходится жить в драме. – И вставая, добавил: – Мои часы работают в унисон с Биржей: мне пора идти, чтобы завершить одно дельце, которое касается вас, господин Морис. – Какое дельце? – Я собираюсь порушить свадьбу господина Лекока. Морис вскочил на ноги. – Неужели вы это можете? – изумленно вскричал он. – У меня длинные руки, – с улыбкой ответил нормандец. Воображение Этьена бурлило. «Какая выдержанная сцена!» – про себя восхищался он. Господин Брюно сделал шаг по направлению к двери, но остановился при виде таблицы, где были начертаны имена действующих лиц драмы. – Ага! Здесь уже кое-что стерто. И, повернувшись к молодым людям, добавил: – Я один против целой армии, и закон не на моей стороне. Не прерывайте меня! Но любовь, уцелевшая в разбитом сердце и пережившая все другие страсти, могучая сила, особенно если она подкрепляется ненавистью, закаленной в муках. Хотите вы помочь мне спасти Мишеля? – Если бы знать… – нерешительно начал Этьен. – Хотим! – решительно ответил Морис. – Вы готовы на все для этого? – На все! – на сей раз дружно высказались друзья. Этьен почувствовал, что его колебания делают драматический диалог рыхловатым. – Даже против его воли? – спросил господин Брюно. – Да! – Хорошо. И повторяю еще раз: обоим вам угрожает опасность. Один их вас мешает известным планам, и оба вы, вышедшие из банкирского дома Шварца, можете оказаться замешанными в преступлении. – В преступлении! – воскликнул Этьен. – О доме Шварца мы еще не говорили! – Объяснитесь! – потребовал Морис. – Позднее. Пока вам достаточно знать, что, спасая Мишеля, вы спасаете и самих себя. Господин Брюно взял мел и, пробежавшись им по доске, сказал: – Прочитайте быстро и запомните хорошенько! Это послужит вам хоть каким-то объяснением. Этьен и Морис, взиравшие на него, как на оракула, обратили глаза на доску, которая обрела новый вид: Эдуард, сын Андре Мэйнотта и Жюли; Олимпия Вердье, Жюли Мэйнотт; Софи, дочь банкира Банселля; Медок, Приятель-Тулонец. Молодые люди какое-то время удивлялись молча, затем Морис задал вопрос: – А моя кузина Бланш тоже дочь этого самого Андре Мэйнотта? – Нет, – ответил господин Брюно. – Но… – нерешительно начал Этьен, – Андре Мэйнотт должен быть непременно жив, раз он главный герой нашей драмы? Нормандец побелел как полотно, но ответил без колебаний и решительным голосом: – Если Андре Мэйнотт жив, Олимпию Вердье могут обвинить в двоемужестве, что невозможно. Андре Мэйнотт мертв! Стремительным жестом он стер написанное, забросил мел подальше и устремился к двери. На пороге он чуть задержался, пробормотав: «Вы дали обещание, будьте готовы!» И исчез. – Готовые к чему? – недоумевал Этьен. – В жизни своей я не видывал подобной сцены! Такой непонятной, такой странной и… захватывающей! – Один раз он нам солгал, это точно, – вслух размышлял Морис. – Андре Мэйнотт жив. – Как ты и я, – согласился Этьен. – Голову даю на отсечение. В противном случае нам придется его оживить для драмы. – Он так и не проговорился, под чьим именем скрылся Андре Мэйнотт. – Потому что он сам и есть этот Андре Мэйнотт. – Не думаю. – А ты кого подозреваешь? – Это Трехлапый… – В точку! Андре Мэйнотт – это Трехлапый. Трехлапый – это Андре Мэйнотт… Какой сюжет! Время поднимать занавес!.. Папе я пошлю приглашение: «Дорогой отец, не желаете ли убедиться, что ваш сын одарен исключительными способностями…» В боковых ложах дамы из общества. Горожане на балконе, пресса в партере. Долой клику! – Ты спятил! – И горжусь этим! Дуракам уготован рай! Повернись к партеру! – Уймись! Дай мне подумать. – Автора! Автора! Автора! – Да уймись ты наконец, черт возьми! – Дамы и господа, пьеса, которую мы имеем честь вам представить… Выведенный из терпения Морис схватил друга за шиворот. – А Черные Мантии?.. – вскричал он. – Надежда наша Черные Мантии! Поговорим о ней! – Если этот человек расставлял нам ловушки? – Новое осложнение? Тем лучше! Этот человек нам расставил ловушки! А мы такие слепые! – Если он хочет сделать нас орудиями преступления? – Браво! Я согласен! Он хочет сделать нас орудиями преступления! Да, он говорил о преступлении… Браво! Браво! – Если это именно он… если господин Брюно – Черные Мантии? Этьен сцепил руки и упал на стул, задыхаясь от радости. – Он! Черные Мантии! Сто дополнительных представлений! Лучше не придумаешь! Благодарю вас! XXII ЧЕРНЫЕ МАНТИИ Пора, однако, поговорить о Черных Мантиях. Сколько раз уже мы упоминали о них! Миф, воскресавший в различные эпохи и оставивший ощутимый след в Париже начала века. Мы сказали вполне достаточно, чтобы люди, привычные к ребусам и шарадам, могли наложить знаменитую кличку на чье-либо лицо. А не слишком ли много мы сказали? И этот нормандец, господин Брюно, можно ли ему доверять вполне? Случались в Париже такие периоды, когда сообщества злоумышленников делались столь многочисленны, что паника перекатывалась из улицы в улицу, превращая дома в крепости. Мы вовсе не имеем в виду средние века или те варварские времена, когда парижские ночи освещались только луной и были беспросветно темны, стоило ей исчезнуть с неба. Мы не говорим также о временах не столь отдаленных, когда префектура полиции с большим трудом и любыми средствами обеспечивала спокойствие города, возводя из беспорядка порядок, или же наоборот, с помощью порядка устраивая беспорядок. Мы говорим о дне вчерашнем – площадь Бастилии уже украсилась своей колонной, прах императора Наполеона успокоился в доме Инвалидов, воцарился Луи-Филипп: высокопоставленные чиновники жульничали вовсю, за банковские билеты охотно приоткрывая карты державной политики; о коррупции говорилось во весь голос; газеты свойски похлопывали государственных мужей по плечу, дружески предупреждая: «Старина, ты продан!» Тех, кто продавался за большие деньги, презирать не решались. Все обращалось в смех: насытившиеся депутаты и насыщающиеся журналисты состязались в юморе, создавая видимость буйного веселья. Слово «добродетель» превратилось в мишень для насмешек глупцов. В Европе воцарился мир – мир любой ценой, как любили выражаться тогда; над военной угрозой потешались точно так же, как и над всем остальным. Материальный достаток рос, коммерция процветала – те годы были воистину золотыми для предпринимательства. Скандальные состояния внезапно появлялись и падали, сходили на нет и разбухали, осененные благословением сверху. Париж походил на огромный игорный дом, кипящий страстями. Богатые делали ставки и загребали деньги, бедные поигрывали и проигрывались в пух и прах. Правительство совалось во все, надеясь сорвать банк. Но кое-что поскрипывало в этой мчавшейся на полном ходу машине – слишком уж большую силу набрала преступность, мешавшая благодушию. Злодейства в ту пору совершались разные, в том числе драматические и оригинальные, окутанные славой. Спускаясь сверху, преступность процветала в разных социальных слоях: в среднем классе орудовали руки довольно белые, но крючковатые и загребущие; внизу бушевала настоящая оргия грабежей и убийств. Среди этих волнений уже зарождался социализм, с разных сторон раздавались суровые голоса его апостолов, которые, однако, грызли друг друга с таким усердием, что невольно вспоминались времена жестоких схоластических битв. Идея ассоциации, силу которой никто и не собирался отрицать, готова была пойти ко дну под суетливыми толчками ее адвокатов. Наиболее последовательными приверженцами этой идеи выступили, пожалуй, злоумышленники. Достаточно просмотреть криминальную хронику с 1830 по 1845 год, чтобы удивиться количеству организованных банд, попавших в руки полиции. А сколько их разгуливало на свободе, не говоря уж о тех важных персонах, что испускали душу в собственных постелях, окруженные всеобщим почтением! Следует при этом признать, что господа Видок и Аллард, знаменитые шефы тогдашней полиции, совершали весьма плодоносные набеги на мир Зла. На каждое судебное заседание являлось по две, три, а то и четыре шайки, предводимые главарем. Многие из них были связаны меж собой тайными нитями, одно преступление заходило в друг гое, главари покрупнее, вроде Графта, убийцы часовщика Пешара из Кана, имели свои секретные службы во всех дьявольских полчищах. Тем не менее не стоит преувеличивать силу пресловутой бандитской солидарности; в нынешних бандитах нет ни следа традиционной романтической стойкости, столь пугающей воображение общества, свидетельством чего могут служить бесчисленные взаимные ябеды и доносы, поступающие в суды. Гигантская фигура Вотрена, хозяина всего бандитского мирах существовала только в богатом воображении Бальзака. Наши воришки, слава Богу, начисто лишены чувства чести, хотя бы разбойничьей, они предают друг друга даже без особой нужды: стоит кому-либо из них обстряпать крупное дельце, как тотчас же из подпольных трясин поднимается целый хор голосов, выкрикивающих имя неудачника прямо в ухо полиции. В этом отношении лондонские бандиты куда опаснее, чем парижские. Почти два века уже «great family» – «большое семейство» – существует в столице Объединенного Королевства и, вопреки официальным заверениям, похоже на то, что эта грозная жакерия не сложила оружия. У тайной организации свой король, свой закон, свой парламент, своя вооруженная рать. Корни ее раскинулись в глубинах социального низа, а верхушка расположилась на высотах, до каких не дотянуться никакому суду. Выдумкам наших романистов не угнаться за осуществленной в Лондоне правдой: преступление, организованное разумно и широко, действует с государственной осмотрительностью и держится в определенных границах, чуть ли не политических. Однако пора вернуться во Францию, хотя мы вовсе не случайно заговорили об английских злоумышленниках, спаянных в безупречно действующий механизм: нечто подобное наблюдалось и у нас в том охваченном тайной тревогой 1842 году, о котором идет речь. Активность организованных банд, работавших регулярно и безотказно пополнявших свои ряды новобранцами с парижской мостовой, словно превратившейся в неиссякаемую преступную жилу, заставляла припомнить старинную идею о некой таинственной и враждебной силе, неустанно заполняющей опустевшие души злом. Может, он и в самом деле существовал, этот деклассированный гений Вотрен, огромное колесо, сорвавшееся с оси и готовое врезаться в социальную пирамиду. Может, существовал человек с рукой длинной и крепкой, способной удержать всех злодеев Франции и Наварры, с головой честолюбивой и дальновидной, замыслившей создать свой преступный Рим, чтобы выпестовать в этом новом Ватикане могучую религию отлученных. Старая идея о духовном средоточии Зла не умещается в одном имени, тем не менее, чтобы выразить ее, смутную и фантастическую, нужен какой-то знак. Знак нашелся: Черная Мантия. Эта кличка, еще не успевшая исчезнуть из людской памяти, звучала громче имен Роб Роя, Жака Шепарда, Шиндерханна или Фра Дьяволо; если это был Вотрен, то в десятикратном, стократном увлечении! В том же 1842 году суд присяжных департамента Сена вынес приговор целой банде уголовников, присвоивших себе знаменитое прозвище, овеянное опасной славой. Не исключено, что эти уголовники и впрямь принадлежали к мощной ассоциации, устрашавшей Париж, но в таком случае в полицейскую сеть попалась вместо генералов сплошная мелкая сошка, отличавшаяся от обычных уловов разве что непомерными претензиями: иные из них щеголяли в перчатках и отличались склонностью к водевильной риторике. Разумеется, эти фатоватые Черные Мантии были пошлыми самозванцами, и если бы явился среди них настоящий Черный Злодей, они показались бы букашками, облепившими ступни великана. Публичное мнение тоже склонно к сочинению романов: выдумки его имеют тысячу голов и тысячу хвостов. Как только всплыла на поверхность Черная Мантия, выдуманная или воскресшая, со всех сторон принялись напяливать на нее новые платья и новые лица. В существовании злодея не сомневался никто. Его внушительный силуэт витал среди винных паров простецких пирушек, оглашаемых хриплыми криками; на буржуазных трапезах для его крутых приключений подыскивались словечки покруче, и даже аристократические салоны, смеясь, приоткрыли двери перед этой легендарной славой. Смеясь – и в этом вся разница. На деревенских вечерах страх серьезен, на вечерах парижских благое намерение подрожать завершается смехом, призванным замаскировать легковерие. В нашем Париже остроумие процветает! Вслушайтесь хорошенько в. игривое веселье, окружившее ныне имя Дюмоларда! Сколько шуточек! Сколько каламбуров! В нашем Париже остроумие процветает! Однако страх, переживаемый уважительно или с насмешкой, в любом случае сохраняет свой шарм. Особенно любят пугаться дамы. Сказки о привидениях впали в немилость именно потому, что они больше не возбуждают страха. За привидения ми большая вина – они появляются не слишком часто: страх, истомленный ожиданием, улетучивается, прихватывая с собой славу. С призраками покончено. Злоумышленники! Вот настоящие пугала, которые исчезнут не скоро. Чем совершеннее становится цивилизация, тем стремительнее развивается преступность, охваченная соревновательным ражем и достигающая размаха почти эпического. Но я, разумеется, говорю лишь о злодействе, являющемся профессией или даже искусством, оставляя в стороне постыдное мошенничество поставщиков и торговцев. Нужно заковывать В кандалы бандитов и даже отрубать им головы, но не нужно сравнивать их с гнусными лавочниками, отравляющими вино бедняков или понуждающими весы, символ справедливости, урезать у голодного кусок хлеба! Злодеи! Романтические злодеи, облаченные в черный оперный бархат и увенчанные кокетливыми шапочками с красными плюмажами, а то и огромными шляпами, более роскошными, чем у мушкетеров. Злодеи плаща и шпаги! Разбойнички, любимые наши разбойнички! В мягких сапогах и накидках, в кружевные манжетах, с гитарой, если они из Испании, с серебряным рогом на груди, если они имеют честь обитать в Гарце или Черном лесу, вот они каковы, наши романтические злодеи! Их трудно считать химерами, фантазия неустанно снабжает их плотью и кровью. Сколько англичанок потеряли голову от любви к этим дерзким молодцам! Сколько испанок и итальянок! Им удается растапливать даже ледяные сердца германок, даже россиянки, эти француженки севера, благосклонно поглядывают на них. С какой же стати плестись в хвосте парижанкам? Парижанки не отстают от других. Они, ясное дело, гневаются на прозаизм нашего времени, отменившего красные перья и продырявленный шпагой бархат, но пение таинственного охотничьего рога эхом отдается и в парижском лесу, пробуждая их по ночам – бледненьких и дрожащих. Это страх, разумеется, но страх изысканный и возвышенный. Повторю: дамы любят дрожать, французские дамы особенно – ведь они лет до сорока выдают себя за очаровательнейших малышек. Он молод, разбойничий атаман: очень молод, но очень грозен – так полагают многие. Что вы, возражают другие, он совсем старик, искушенный во всех тонкостях преступного ремесла. Нет и нет, не соглашаются третьи: злодею тридцать пять, он высокого роста, лицо бледное, взгляд холодный, но прожигающий, орлиный нос, черная бородка, белые руки, изящные ноги, эбеновые брови дугой раскинулись под благородным лбом цвета слоновой кости. Его зовут Пальмер, нет, Кордова, нет, скорее всего, Розенталь. Незаконный отпрыск благородного рода: прегрешения герцогинь способствуют появлению отменных злодеев. Впрочем, насчет происхождения его существовали и иные мнения. Парень из народа, воплощенная ненависть к тиранству, галл с головы до ног: лицо, смеющееся и дерзкое, увенчанное белокурыми кудрями. Красив, отважен, галантен, но слегка жесток. Вот еще! Злодейство блондинам не к лицу, особенно хорошеньким. У него морда бульдога. Джон Булль! Увесистые кулаки, сломанный нос, длинные уши, весь в шерсти, а зубы как у волка! Спорным было также и место его проживания. Чаще всего злодея помещали в подвал, прилагая живописнейшие описания его подземной квартирки. А не разумнее ли поселить его в каких-нибудь копях? В одном только чреве Монмартра можно разместить тысячу романов. Не исключалось также, что столь опасное ремесло требует проживания в апартаментах за шесть тысяч франков в месяц на улице Ришелье или на Вандомской площади. Принц в подвале! Это чересчур экстравагантно. Ах! Так он к тому же и принц? Да. Среди принцев, нежащихся по дворцам, бандитов, разумеется, не бывает, но среди бандитов принцев сколько угодно. Враки! Старый Свет злодеев больше не производит. Он явился прямиком из Америки, где мистер Барнам с нетерпением ждет его возвращения, дабы в качестве курьеза демонстрировать любопытной публике, за деньги, конечно: входной билет десять долларов. Не верьте: газеты шутят и клевещут на Старый Свет. Видели вы английского миллионера? Члена Верхней палаты? Купца из Манчестера? Ножовщика из Бирмингема? Лорда Томсона или мистера Томсона? Приглядитесь получше к этим физиономиям, чванливым, плоским, апоплексическим, но коварным. Вот наш герой! Он обведет вокруг пальца самого Видока! Неправда! Черная Мантия – вот его точное имя. Молодой аскет, суховатый, корректный, серьезный, прячущий под новенькой сутаной отмычку и связку фальшивых ключей. Да и что такое Видок? Его обведет вокруг пальца собственный наш, Лекок: он давно уже обогнал Видока! Значит, все-таки господин Лекок? Приятель-Тулонец? …Пока что тайна. Жизнь богата преображениями и обращениями в иную веру. Быть может, теперь господин Лекок благочестивейший рыцарь, рвущийся в бой с могущественной Черной Мантией? Терпение! Скоро мы познакомимся и с монстром, и с паладином. XXIII ЖИЛИЩЕ ГОСПОДИНА БРЮНО Покинув двух молодых авторов, господин Брюно стал спешным шагом пересекать комнату Мишеля, уже знакомую читателю, но, кинув по пути взгляд в окно, остановился и, приблизившись, вглядывался во что-то очень внимательно. Окно напротив, еще недавно освещенное лампой бедной больной, погасло, видимо, госпожа Лебер уже спала, но в соседней комнате, принадлежавшей ее дочери, горел свет. Единственная свеча, укрепленная на пианино Эдме, освещала проступающую сквозь занавески картину: молодой человек на коленях перед девушкой, стоявшей с опущенной головой. Они были недвижимы и, видимо, хранили молчание. Господин Брюно, явно куда-то спешивший, посвятил созерцанию этой трогательной картины целую минуту и удалился от окна с глубоким вздохом – лицо его имело выражение мягкое и растроганное. Он начал спускаться по лестнице тяжелым и внушительным шагом, физиономия его постепенно обретала свой обычный вид, сумрачный и очерствело-спокойный, делавший его столь похожим на прочих парижских торгашей, привыкших вести в уме какие-то подсчеты и ни о чем не думать. Добравшись до второго этажа, господин Брюно кинул косой взгляд на весьма элегантную дверь, украшенную овальной медной табличкой, испускавшей золотое сияние. Табличка гласила: «Агентство Лекока». Он прошел мимо, не останавливаясь, а внизу заглянул в привратницкую и почел нужным сообщить папаше Рабо: – Трехлапый заспался, ленивец этакий! – Как! – удивился консьерж. – Значит, он у себя? – Конечно, у себя. Мы с ним даже поиграли в пикет, правда, всего одну партию… А молодые люди живут не сытно, не правда ли, папаша Рабо? – Ага, значит, вы и к малышам заглянули? – Заглянул, чтобы предупредить о платежных сроках… Да, живут не сытно! С этими словами он направился к двери. Оказавшись на улице, господин Брюно свернул влево и остановился у входа в соседний дом. Вошел и легонько постучал в окошко привратницкой, откуда тотчас же раздался шутливый голос: – Для вас никакой корреспонденции, господин Брюно, он еще в пути, чек, который принесет вам богатство в двадцать пять тысяч ливров! – Наберемся терпения и подождем! Из привратницкой ответили смехом. Господин Брюно неспешно и чинно поднялся на второй этаж, зато три других одолел с неожиданной резвостью. Квартира его располагалась на пятом этаже, на двери мелом было выписано имя владельца. Если бы кому-нибудь пришла в голову мысль пошпионить за господином Брюно, а позднее мы убедимся, что любопытствующие имелись, то он, припав глазом или ухом к замочной скважине, мог бы констатировать следующее. Нормандцы весьма осторожны, и господин Брюно, оказавшись в квартире, первым делом два раза повернул ключ в замке, после чего зажег лампу. Видимо, для него наступила пора ужина: он наспех, хотя и не без аппетита перехватил какой-то кусок – прием пищи занял у него ровно пять минут. – Богато! – воскликнул он одобрительно и довольно громко, так что при желании его можно было услышать и с лестницы. Люди, ведущие одинокую жизнь, нередко приобретают привычку вступать в разговор с собой, а господин Брюно жил совершенно один. С ночным туалетом он покончил столь же быстро, как с едой: слышно было, как он шумно улегся в кровать, скрипнувшую под его тяжестью. – Доброй ночи, сосед! – громко и приветливо воскликнул он, неведомо к кому обращаясь. И лампа погасла. Он, видимо, вознамерился погрузиться в сон безотлагательно. Что касается соседей господина Брюно, то в собственном его доме таковых не имелось: большая комната его была угловой и походила на склад. Зато в том доме, откуда он только что вышел, соседи были: наши молодые авторы и Мишель, а также калека из почтовой конторы, прилегающий к нему ближе всех. По заверениям самого господина Брюно, Трехлапый пребывал в постели и, надо полагать, именно ему адресовалось пожелание спокойных снов. Какое-то время в комнате царила полная тишина, затем скрипнула кровать, очень тихонько, и обостренный слух мог бы различить легкие, почти неслышные шаги – чьи-то босые ноги касались пола с большой осторожностью. И вдруг какой-то глухой скрежет, похожий на звук приоткрываемой двери. С какой стати дверь, где она и куда ведет? В этой комнате имелась только одна дверь, выходившая на лестничную площадку, во всяком случае, архитектор мог в этом поклясться. Стоит однако заметить, что навряд ли кто-нибудь взялся бы рассуждать о внутреннем устройстве жилища господина Брюно: с тех пор как он вселился в эту комнату, никто ее порога не переступал. Жилец он был спокойный, солидный, платил вовремя, значит, имел право на маленькие причуды. Через пару минут после скрипа двери чиркнуло о кремень огниво – в комнате у Трехлапого. Странно. Папаша Рабо утверждал, что он не видел возвращения калеки, а господин Брюно заверял, что сыграл с ним партию в пикет этим вечером, впрочем, у нормандцев, как известно, язык без костей. Из-под двери Трехлапого протянулась полоска света. Покидал он свою постель или только собирался в нее улечься, калека находился дома – факт неоспоримый. В это самое время Симилор, засунув руки в карманы, и Эшалот, небрежно помахивая Саладеном, словно продуктовой корзинкой, с грустным видом карабкались по лестнице на свою верхотуру. Они только что прошлись вдоль всего бульвара дю Тампль мимо своих любимых театров, чтобы хоть чем-то смягчить горечь недавнего поражения. Двери театриков распахивались поочередно для антракта, но ни одной контрамарки им раздобыть не удалось: по воскресеньям публика поглощает зрелища до дна. Им снова не повезло, бывают дни, когда ни одно дело не удается. В узенькой голове Симилора роились суматошные мысли, Эшалот впал в угрюмость: оскорбление, нанесенное барчуками, все еще кровоточило. Убить женщину! Работенка, прямо скажем, не из легких, особенно если мешает доброе сердце, но даже в такой подлой службе им отказано. Саладен, несчастный котенок, привыкший к фантастическим позам, тихонько всхлипывал. Детство у малыша задалось несладкое, зато он привыкал к невзгодам, как Митридат к ядам – в будущем его нелегко будет сжить со свету. – Подумать только, сколько счастливчиков развлекается сейчас по всем веселым местечкам столицы! – простонал Симилор, и руки его, упрятанные в карманы, сжались сами собой в кулаки. – Да, не всем удается пролезть в счастливчики, – сурово согласился с ним Эшалот. Симилор остановился перед дверью Трехлапого. – Гляди-ка! – удивился он. – Ящерица не спит! – Ему что! Имея службу, не пропадешь, – вздохнул Эшалот, пристраивая Саладена на плечо жестом, каким прелестные итальянки, известные по картинам мастеров, вскидывали на плечо кувшины, отправляясь за водой к фонтану. Но кувшины этому не противились, а Саладен выразил протест громким голосом. – Может, попытаемся? – предложил Симилор. – В привычках этого типчика много подозрительного. – Попытайся, Амедей, если хочешь. Это было сказано с усталостью. Бывший фармацевт потерял надежду. Симилор робко поскребся в дверь. Оттуда не отвечали. – Будет ли завтра день? – вполголоса поинтересовался он. Эшалот остановился. Оба затаили дыхание, вслушиваясь, даже Саладен был приведен к молчанию. За дверью однако стояла полная тишина. – Эй, господин Матье! – погромче окликнул хозяина Симилор: – Может, вам требуются ловкие молодые подручные, знающие, какие речи надо вести при исполнении тайных дел? – Идите к черту! – послышался наконец ответ. Незадачливые друзья обменялись тоскливым взглядом. Никто в них не нуждался. Они молча поплелись наверх, даже ступеньки не пытались скрипеть под их тряпочными туфлями. Только Саладен опять подал голос, и Симилор предложил его придушить. Отец ребенка был не склонен к жестокости, однако невезение доводит людей до крайности. Впрочем, Эшалот ни за что бы на такое не согласился. Они забрались наконец под самую крышу, где несколько отодранных от лодки досок огораживало угол чердака, служивший друзьям пристанищем. К доскам был криво приколочен кусок картона, пародийно повторявший роскошную табличку, красующуюся на втором этаже: «Агентство Эшалот» робким шепотом повторяло зазывный крик «Агентства Лекока». Нищета! Беспросветная нищета, подчеркнутая слепой надеждой! Эшалот вознамерился делать дела. Какие дела? Меж какими выгодами мог выступать посредником этот бедняга? Однако особенно удивляться не стоит, Париж имеет своих банкиров в лохмотьях: все уловки и трюки, употребляемые на финансовых высотах, бурлескно отражаются в сточной канаве. Впрочем, бурлеск этот зачастую смочен слезами. Бедность имеет свои конторы, свои кабинеты, свои прилавки, свои игорные дома и бальные залы. На сто футов ниже уровня возможного продают и считают. Маклер, промышляющий химерами, встречается не только в окрестностях Биржи, и горделивая сирена, именуемая предпринимательством, заканчивается вовсе не рыбьим хвостом, а безобразными щупальцами полипа, кишащими в самых невообразимых местах. Если вас все-таки интересует финансовая сторона агентства Эшалот, мы должны сказать, что основано оно на абсолютно пустом месте. Эшалот рассчитывал только на удачу и собирался крупно выиграть в лотерее, не покупая билета. Почти все несчастные, глотнувшие отупляющего зелья, настоянного на мелодраме, играют в жизни довольно жалкую роль. Они живут в мире невероятностей. Понятие абсурда, предупредительным сигналом вспыхивающее на общей дороге, не существует для них. В большинстве случаев это добрые души, по крайней мере души наивные. Сколько юных девушек потерялось на этой дороге! Сколько бедных юношей, обманутых литературной притягательностью Порока и Зла, отвратилось от честного, но прозаического труда! Если отрава продается на каждом углу по два су, стоит ли удивляться этому идиотскому опьянению? А средства к существованию? Что ж, придется признаться: добряк Эшалот, весьма горделиво относящийся к своему агентству, тайком продолжал практиковать свои фармацевтические умения, фабрикуя чесальные щеточки для шарлатанов с площади Бастилии. Он очень этого дела стыдился и даже перед Симилором скрывал свой секретный промысел, оправдывая поступающие от него скудные доходы собственной ловкостью. Доходов едва хватало на Саладена, ни с кем больше не мог поделиться Эшалот куском хлеба. Ничего удивительного, что он был согласен убить женщину! Но как это получилось, что преступление оказалось столь неподступным, что прибыльная религия Зла так мало заботилась о материальном достатке своих ревнителей? В «Агентстве Эшалота» не имелось даже свечи. Новобранцы армии Зла отходили ко сну, не поужинав. Только жалостливая луна освещала убогие декорации претворившейся в жизнь мелодрамы: стул, две покрытые тряпьем банкетки, широкий, но дырявый тюфяк и импровизированный стол, состоявший из доски, водруженной на две колонны картонных коробок. Что скрывалось в этих коробках? Дела агентства, черт возьми! А также несколько детских пеленок и чесальные щетки. Саладена поместили на стол между иссохшей чернильницей и пустой бутылкой, которая стоила бы своих трех су, если бы не была треснутой. – И подумать только, – повторил Симилор с настоящими слезами в голосе, – что в Париже любое ничтожество, если оно при деньгах, может развлекаться как душе угодно, ухаживать за дамами или в рюмке искать забвения собственных бед! – Вечно эти дамы! – с досадой выговорил другу Эшалот. – Если бы мне сейчас отсыпали золота, я бы ограничился только радостями стола. В этот вечер Симилор был покладист и согласен на все, но все-таки вступился за дам: – Среди них тоже бывают всякие, некоторые обеспечивают молодым людям достойную жизнь. Помнишь ты бакалейщицу из последней пьесы, что мы смотрели? Она брала из кассы мужа, торговца колониальным продуктом, большие купюры и одаривала ими молодого Теофиля. – Значит, ему повезло больше, чем тебе, – философически заметил бывший фармацевт, обихаживая Саладена. Симилор бросился на тюфяк. – Для успеха у дам нужны настоящие туалеты, – вздохнул он. – Белый жилет, небесного цвета галстук с булавкой, украшенной драгоценным камнем, на пальце перстень, прическа от театрального парикмахера, на щеки наложить немножко румян… А мать Саладена была куда шикарнее этой бакалейщицы. Эшалот пожал плечами и сказал, обращаясь к своему воспитаннику: – Кушай, малыш, кроме меня, у тебя нету матери. Затем добавил с глубоким вздохом: – Бедная Серебряная щечка! Видимо, это была кличка покойной матери малыша. Честолюбивый Симилор ворочался на тюфяке с боку на бок. – А еще говорят про доброго Бога! – внезапно вскричал он. – Я создан для наслаждений и для разгульной жизни! – Успокойся, Амедей, – сурово одернул его друг. – Жгучие страсти тебя погубят. Удача должна прийти. Если сыскать нужную ниточку… – Я уже сыскал! – мрачным голосом объявил Симилор. – Какую? Симилор приподнялся на локте. В лунном свете худое лицо его, вокруг которого змеились плоские волосы, казалось зловещим. – Ты сейчас похож на предателя! – ужаснулся Эшалот. – Ну и пусть! – надменно ответил бывший артист. – Я изуверился во всем и рассчитываю только на человеческие слабости. Всем известно, что среди богачей попадаются импотенты, которых позарез требуется потомство, чтобы не заглохло имя их предков. Я им всучу Саладена за сто франков наличными. Эшалот потерял дар речи: он прижал ребенка к груди с настоящей нежностью, затем от всей своей потрясенной души запечатлел на его бледной щечке родительский поцелуй. – Прошу тебя замолчать, Амедей! – наконец заговорил он. – Я не позволю тебе кощунствовать. Малыш не только твой, но и мой, раз я обеспечиваю ему пропитание. И буду обеспечивать, даже если для этого мне придется свернуть на преступный путь, что ж, я не дрогнув нарушу жестокие законы, установленные тиранами. Но только через мой труп, слышишь ты, только переступив через мой труп, ты сможешь причинить Саладену зло. У меня уже готов план воспитания ребенка, и все свое достояние я оставлю ему. – Чувствительная у тебя душа, это уж точно! – растроганно произнес Симилор. – А вдруг наш импотент окажется пэром Франции. Это бы обеспечило мальчику блестящее будущее! И Саладен помог бы нам стать на ноги… Представляешь, мы на империале отправляемся к нему в замок, а он сует нам в руки полные кошельки – разумеется, зная секрет своего рождения, но скрывая его от всего мира… Он встретит нас, не показывая никакого вида, зато когда мы втроем уединимся в его кабинете, вдали от взглядов толпы… Здравствуй, папочка Симилор! Как дела, Эшалот, дорогая мамочка? – Искуситель! – бормотала дорогая мамочка, прослезившаяся от грядущего счастья. – Конечно, ради блестящего будущего… Эшалот внезапно прервался, объятый новым сомнением: – А вдруг малыш откажется от нас, если станет пэром? – Вот еще! – запротестовал Симилор. – Я, конечно, не обещаю, что он будет лезть к нам с поцелуями прямо на улице. Это было бы неразумно… но он будет подавать нам маленькие нежные знаки из глубин своего роскошного экипажа. – О большем я не мечтаю! – разнеженно вздохнул Эшалот. – А потом, сам подумай, с какой стати ему нас стесняться? Мы к тому времени приоденемся во все новенькое… – Конечно, если он великодушно возьмет на себя такие расходы… – Он их возьмет на себя, за это я могу поручиться. Давай спать. Эшалот, в последний раз облобызав будущего пэра Франции, растянулся на тюфяке. Между друзьями восстановилось полное согласие. Минут пятнадцать они еще побеседовали о своих вполне законных надеждах, затем погрузились в глубокие сны, где видели самих себя, сытых и принаряженных, усевших-ся за нескончаемый пир. При всем желании Саладен, их наследник, проданный импотенту, не мог бы сделать большего для родителей. Папа и мама храпели – пустые мозги, пустые желудки. Обегите мир, обыщите Вселенную, нигде, кроме парижских урочищ, не встретите вы столь фантастической породы. Луна заглянула в оконце и бросила луч на испитое личико малыша: старичок в миниатюре, он был все-таки очень мил. В неприметных складочках, образующих детскую мордашку, уже начинала угадываться саркастическая усмешка Вольтера. Как они вырастают, эти создания? Тщетно ухоженные дети мрут, и нередко, ведь Париж не назовешь ласковой нянькой, а эти яростно сопротивляются смерти. Подобно грибам, они пробивают землю, затоптанную ногами, норовящими их раздавить. Навались чума, они переживут и ее. Неласковое счастье сорной травы! Кем они становятся, вырастая, эти сыны невозможного? Зависит от случая. И на что может сгодиться такая закалка? На все. Колыбель их окружена Пороком, на их долю выпадает много страдания, но ни одно страдание на этой земле не пропадет даром, особенно если оно посылается сильным. В бесчисленном множестве своем эти отверженные наверх не выбиваются – они служат подстилкой для нашего общества. Но есть среди них и такие, что отлиты из настоящей стали крепчайшей выделки, способные на великое Зло или на великое Добро, безжалостные или бесстрашные, внушающие ужас или преклонение. Из этого материала производятся большие злодеи, но из него же выходят апостолы, трибуны, поэты. Кем оно станет, это дитя, такое бледное и невзрачное в лунном свете? Картушем или Робеспьером? Бернадоттом? Бомарше? Винсентом де Полем? Париж способен на все. Берегитесь или снимите шляпу! После того как все уснуло в этой дыре, полной иллюзий и нищеты, дверь квартиры Трехлапого, расположенной этажом ниже, тихонько открылась. Калека из почтовой конторы осторожно выбрался на площадку, загасив в своем жилище свет. Он ползком стал подниматься вверх по лестнице, с необычайной ловкостью орудуя колесиком на своей третьей лапе. Возле конуры Эшалота, он остановился, вслушиваясь, затем пополз по узкому коридору, протянувшемуся под крышей. Добравшись до черной лестницы, он стал задом спускаться вниз по ступенькам и прибыл таким манером на второй этаж. Перед ним оказались две двери, одна из которых вела на обширные кухни господина Лекока, славившегося гурманством. Калека постучался в другую условленным стуком: шесть ударов с неравными промежутками: три, два, один. Дверь тотчас же скрипнула, и хриплый женский голос отозвался на корсиканском наречии: – Ну как, убогий, будет ли день этой ночью? Трехлапый ползком одолел порог со словами: – Большие новости, мадам Баттиста. Я вкалывал сегодня как каторжный, несмотря на свое убожество. Мне нельзя заснуть, не повидавшись с шефом. XXIV МЕЧТА ЭДМЕ В той бедной комнате, где печальная лампа недавно освещала героические усилия больной дамы продолжать работу, находились сейчас две особы: госпожа Лебер, лежавшая в постели, и ее дочь Эдме, устроившаяся у изголовья. Лампа горела по-прежнему, бросая скудный свет на скромную обстановку, по-фламандски чистенькую и пропитанную неизбывной грустью. В убранстве комнаты не замечалось ни одного предмета, который свидетельствовал бы о потерянной роскоши. Все было прилично, но банально и почти бедно, все, за исключением одной редкой вещи изумительной красоты – на низком комоде расположилась покрытая прозрачной тканью старинная боевая рукавица, украшенная затейливой чеканкой и драгоценными камнями. Роскошный вид этого шедевра пребывал в резком противоречии с остальной обстановкой, не сохранившей даже намека на былое богатство, исчезнувшее многие годы назад. Когда финансовая катастрофа постигает человека порядочного, он становится бедным решительно и бесповоротно. Больная вдова и ее дочь были последними представительницами дома Банселля, некогда составлявшего гордость и славу города Кана, богатого банкирского дома, имевшего все, что положено: особняк, замок, кареты. Многие из вас, вероятно, встречали в бедных домиках или в мансардах красующийся на стене диплом в рамочке, почитаемый как святое изображение. Обычно это единственное украшение крайней бедности, свидетельствующее о скромном триумфе хозяина, потребовавшем много упорства или много крови – такими дипломами отмечаются благородные поступки и подвиги. Ни на какие сокровища не променяют бедняки этот не имеющий базарной цены лист бумаги. Сверкающая боевая рукавица была вовсе не остатком горделивой роскоши, а дипломом, удостоверявшим честность ее владельца. Покидая Кан навсегда, господин Банселль потратил свои последние деньги, чтобы приобрести этот предмет, красноречиво свидетельствовавший о его невиновности. Боевая рукавица стала для него своего рода символом чрезвычайных обстоятельств собственного банкротства – в прозрачный чехол была упрятана молния, поразившая банкирский дом Банселля. К моменту катастрофы у дружной супружеской четы Банселлей было четверо детей, в их доме проживала также старенькая мать банкира и его сестра. На семейном совете, состоявшемся сразу после беды, решено было работать день и ночь, чтобы выплатить тяжкий долг, навалившийся на плечи банкира. Это были честные люди. Господин Банселль переехал с семьей в Париж, он сменил свое прежнее, слишком известное имя на скромную фамилию матери, чтобы начать борьбу мужественную, но почти бесплодную. Супруга его, ожидавшая ребенка, произвела на свет девочку, нашу Эдме, через несколько дней после переезда в Париж. Это была радость, конечно, но смоченная слезами – печальная улыбка, прорвавшаяся сквозь траур. Битва, начатая супругом, была обречена на неудачу: господин Лебер обладал ловкостью преуспевающего финансиста, и только. Для того чтобы сделать что-то из ничего, нужно много упорства и изощренности, а их у него не было. Вскоре он умер, простившись со своей несчастной семьей взглядом, полным отчаяния. Забрав хозяина, смерть словно решила навсегда поселиться в их доме. Вслед за банкиром отправилась сестра, несчастная барышня, оплакивавшая ушедшую роскошь как потерянную любовь, затем в каком-то суровом порядке, с равными и неумолимо-жестокими интервалами, перешли в мир иной четверо прелестных детишек. За три года от большой семьи почти никого не осталось. Вдова словно окаменела: Эдме, последняя ее надежда, слегла в постель. Подошел ее срок – смерть пришла забирать свое. Несчастная мать вытянулась на ковре и закрыла глаза: она не хотела противиться Божьему приговору. Но внезапно позвавший ее голос малышки вдохнул мужество в бедную женщину. Она поднялась и стала бороться за дочь, стараясь не поддаваться приступам расслабляющего малодушия. Эдме выжила, и дом их наполнился грустным счастьем. Вдова решила выполнить завет своего мужа и расплатиться с долгами. Она мечтала о полной реабилитации банкира Банселля, надеясь вернуть этому имени прежнюю славу, заслуженную многими годами честной финансовой деятельности. Подраставшая девочка предназначалась труду. Но какому? Сделать ее работницей? Оплата, конечно, регулярная, но слишком мизерная, еле хватит на пропитание. Вот если бы Эдме стала великой артисткой! Деньги почти всегда сопутствуют славе. Мы уже знаем, по какой прихотливой случайности жизнь Эдме оказалась связанной с роскошным домом господина Шварца. Без этой случайности, вытолкнувшей ее на самый верх – в богатый салон, юной пианистке навряд ли можно было ожидать ощутимой прибыли от своего таланта: в Париже пропадает в безвестности столько истинных гениев! Это была удача, обернувшаяся для нее несчастьем: наделенная душой нежной, преданной и открытой, девушка полюбила нашего героя Мишеля. Разумеется, наш герой Мишель достоин большой любви, и душа у него тоже преданная и нежная, хоть и не совсем открытая. Он стоит многого, наш герой, но в этом мире никто, пожалуй, не стоит Эдме. Мишель, наделенный богатыми природными задатками, обладал возвышенностью сильных личностей: подобно некоторым краскам, она имеет обыкновение линять под воздействием зараженной атмосферы. Господин Шварц, человек сам по себе неплохой, находился в окружении, которое навряд ли можно определить эпитетом категорически отрицательным: люди занятые, чрезмерно активные, если не сказать суетливые, все они отличались одинаковым пристрастием к игре, стиравшим с них остатки индивидуальности. Они или работали, или играли, причем игра становилась для них работой. Поэзия, затесавшись в такую толпу, теряет крылья. Эдме страдала. Может быть, за Мишелем и не было большой вины: бывают секреты, которые нельзя доверить даже любимой женщине. Эдме страдала, а у Мишеля не хватало времени заметить это: он мчался от одного приключения к другому. Как это водится у настоящих рыцарей, все подвиги совершались им во имя прекрасной дамы, но если уж говорить начистоту, то странствующие рыцари развлекаются вовсю, в то время как их дамы страдают. Начало преподавательской деятельности Эдме было блестящим: она быстро завоевала известность среди богатых людей, окружавших Шварцев. Настоящий музыкальный талант, усиленный очарованием, исходившим от всего ее существа, открывал перед юной пианисткой широкое поприще, на которое она, увы, не могла вступить из-за крайней бедности: весь ее заработок уходил на погашение фамильного долга. А чтобы преуспеть даже в избранной ею скромной карьере, нельзя долго оставаться бедной. Ее принуждала к бедности материнская мечта, которая начала исполняться, но очень скромными темпами. Дважды в год мелкие канские торговцы, получив свои жалкие авансы, восклицали с неприкрытой досадой: «Такими порциями эти нищие Банселли не расплатятся с нами и за сто лет!» К счастью, добрая госпожа Лебер слишком далеко в своем спартанстве не заходила: ради признательности канских торговцев она не заставляла свою дочь работать круглые сутки. Жили он умеренно, почти бедно, но все-таки сносно, а чувство твердо исполняемого долга придавало их скромной жизни смысл и достоинство. Мы знаем уже, как порушилось их скромное счастье, как зародилась тревога, разразившаяся болезнью души и тела. Эдме обожала свою мать и доверяла ей все секреты. Страдание возвышало бедную женщину, но мечта ее, как и все одинокие страсти, начинала превращаться в манию, в жертву которой приносилось все. Даже красоту своей дочери госпожа Лебер невольно воспринимала как будущий значительный вклад в погашение долга. Свадьба! Мечта всех матерей! Нашего героя Мишеля старая дама тоже считала вкладом и цену его даже пыталась подсчитать за работой. А работала она не покладая рук, отвечая на попреки Эдме слабеньким мягким голосом: – Еще несколько су для наших канских кредиторов! В тот вечер Эдме усыпила ее, точно ребенка, своим рассказом о свидании с баронессой Шварц. Рассказ был слегка подредактирован и остановился на встрече с господином Брюно, которого мать не знала, а дочь считала чуть ли не другом. Почему она о нем умолчала? Эдме задумалась, рука ее покоилась в руке матери, застигнутой внезапным сном. Девушка не смотрела на мать, ее печальные глаза, устремившись на улицу, рассматривали окно Мишеля. В окне Мишеля было темно. Эдме подумала: «Я больше ничего не значу в его жизни». Она заметила баронессу Шварц в карете, обогнавшей их омнибус, и теперь мучилась ревностью, подозревая, что Мишель с ней. Старая дама шевельнулась, и Эдме повернула голову к ней. Бледные губы матери шевелились, девушка угадала слова, вечно одни и те же, вобравшие в себя ее постоянную и единственную заботу: «Наши кредиторы…» Ради кредиторов она готова была, пожалуй, просить милостыню на углу улицы. Эдме опустила глаза, и прелестные брови ее нахмурились. Она освободилась от руки матери, положив ее, бледную и исхудалую, на одеяло, затем забрала вышивку, где каждый цветок свидетельствовал о дрожи усталых пальцев, и отложила ее подальше, чтобы госпожа Лебер по своему обыкновению не потянулась за работой ночью. Осторожно поцеловав спящую в лоб, девушка унесла лампу в соседнюю комнату. Это была ее комната, скромно, но со вкусом обставленная: небольшая белая кровать с простыми, но изящными занавесками, маленькая библиотека, где гении музыки соседствовали с великими поэтами, строгой формы пианино марки «Эрард» и два кресла, одно из которых, расположившееся неподалеку от пианино, казалось, ожидало своего постоянного гостя. Мишель приходил сюда на правах жениха, даже когда госпожа Лебер спала. Эта комната слышала великолепный дуэт юной и чистой любви. Пианино молчало тогда – говорила мечта, слагая поэму грядущего счастья. Пустое кресло напомнило девушке о забывшем ее Мишеле. Эдме поставила лампу на пианино и подошла к окну, рассеянно оперев руку о шпингалет. Она почти прижалась лицом к стеклу, и от дыхания девушки ожили буквы ее имени, выведенные пальцем Мишеля в один из дней, когда ему пришлось ожидать ее. На глазах Эдме показались слезы. Интересовавшее ее окно было темным. Из соседней комнаты слышались разгоряченные голоса – молодые авторы вели свой нескончаемый диспут. Девушка опустилась на колени подле своей кровати. Она молилась, но святые слова произносились ею без всякого чувства – события этого вечера поранили ее веру. Счастье, окружавшее баронессу Шварц, говорило о жестокости Провидения. Посреди молитвы она воскликнула: – Если я потеряю мать, кто помешает мне убить себя? Эта мысль бальзамом пролилась на ее раны. Добрая мужественная душа девушки была отравлена встречей с соперницей. Баронесса прямо-таки утопала в счастье: обожание дочери, нежного ангела, любовь мужа, преданного и богатого, готового исполнить любой ее каприз. Тем не менее эта женщина, окруженная лаской, роскошью и всеобщим почтением, не постеснялась украсть у обездоленной сироты последнюю надежду, единственный смысл жизни. Коварная лицемерка. Эдме поднялась, не окончив молитвы – она не знала, о чем ей просить Небо. Усевшись у пианино, напротив пустого кресла, девушка тихонько заплакала. Недавно он был тут, рядом с ней, и строил воздушные замки, которые неизменно начинались так: – Когда ты станешь моей женой… Ослабевшая Эдме чувствовала приближение обморока. В ушах стоял гул, сквозь который упрямо прорывались слова: – Когда ты станешь моей женой… Но слезы, обжигавшие ее щеки, утверждали обратное: «Никогда ты не станешь его женой…» Мысль остаться в мире одной, чтобы уступить своему безмерному горю, возникала в ней словно назойливый, порожденный лихорадкой мотив. Она умоляюще протянула руки к комнате матери. Состояние ее не походило на обморок или сновидение – слишком настойчивой была преследовавшая девушку мысль. Роскошные локоны коснулись клавиш, издавших жалобный звук, глаза закрылись сами собой. …Она была в комнате матери, охваченная глухим ужасом. Вот уже затеплились свечи. Уже, уже! Поверх простыни крест и сложенные натруди недвижимые руки рядом с вышивкой, покинутой навсегда. Закройте! Сжальтесь и закройте эти глаза, в которых еще не умерла нежность! Вот уже явился священник, и вот, вот он, зловещий гроб!.. Это было всего лишь минутное видение. Госпожа Лебер спокойно спала. Но ведь молившаяся Эдме пожелала себе полного одиночества! Исполняет ли Небо кощунственные желания безумных? …Горстка соседей, и ни одного друга. Траурная процессия движется к кладбищу. Уже, уже! Уже дошли до раскрытой могилы… Мишель не пришел сказать последнее «прости» той, которую называл матерью… Мишель! Он мчится сейчас в карете, он и та коварная женщина, баронесса Шварц!.. Мама! Мама! Здесь хватит места для нас двоих! Уже! Как быстро все совершается! Могила обложена дерном, на ней цветы. Молись за меня, моя бедная святая мать! Дерн позеленел, цветы исчезли. Уже, Боже мой, уже! И вот она одна, Эдме, в своей опустевшей квартире. А они вдвоем, Мишель и та женщина, которую он полюбил, там, за задвинутой шторой в его комнате. Сейчас, сейчас Эдме зажжет уголь в плотно закупоренной комнате: скорбная просьба должна быть исполнена в точности. Бедная Эдме осталась без матери и приготовилась к смерти. Мишель! Вот ее последняя мысль! Чтобы позвать; чтобы удержать любимого, нужно отказаться от самого дорогого… Я Мама, молись за меня… И за него… будь он благословен и будь проклята та, что нас разлучила! Как быстро разгорается уголь, как быстро заволакивает угар бедный мозг! Неужели умирать так легко? И так приятно? Завтра утром, когда он проснется, ему скажут: «Она умерла». Когда мы умираем,/ нас оплакивают. Как только я буду далеко от него, он придет меня навестить. Когда мы умираем, нас начинают любить. Я не хочу никого проклинать, прости ее, Господи! Нельзя умирать с дурными мыслями. Я иду к тебе, дорогая мама! Прощай, Мишель, любовь моя! Мои глаза закрываются, но я люблю тебя, последний мой вздох – твой! Я буду любить тебя и за гробом!.. – Кто там? – спросила старая дама, разбуженная звуком шагов… – Это я, – ласково ответил мужской голос. – Ах, это вы, Мишель! – обрадовалась госпожа Лебер. – Бедная девочка так плакала… не покидайте ее надолго. И добавила про себя, полагая, что говорит вслух: – Подайте мою работу. Но тут же погрузилась в глубокий сон. Прелестная головка Эдме склонилась на плечо Мишеля – наконец-то мы его поймали, ветренника и беглеца! На бледных губах девушки появилась слабая улыбка. – Ты тоже умер? – пролепетала она, снова закрывая глаза. – А где же мама? Мы все втроем попали на небо? Мишель взглянул на нее, пораженный, затем взял девушку на руки со словами: – На небесах не женятся, моя маленькая Эдме. Проснись: я жив, я богат, я счастлив. Когда наша свадьба? XXV ЭДМЕ И МИШЕЛЬ Мишель на коленях стоял перед девушкой, забравшей в свои руки его улыбающееся лицо. Как он красив с этой благородной бледностью и решительным взглядом. Она склонилась над юношей, ее локоны и его кудри дружески перемешались. Эдме светилась от радости, слезы, застилавшие глаза, только увеличивали их сияние. – Баронесса Шварц – моя мать, – объявил Мишель, целуя девушку. Одна лишь фраза, просверкнувшая молнией, все расставила по своим местам: непонятное и подозрительное стало понятным и ослепительно-чистым. Мука уступила место глубокой нежности. Его мать! Баронесса Шварц, такая красивая и молодая! Все же сомнение оставалось, сомнение продолжало радость: Эдме жаждала объяснений. – Бланш всего только пятнадцать лет, а баронесса кажется мне слишком молодой, чтобы быть ее матерью! – удивлялась она и тут же вспыхивала от радости при мысли, что с тоской покончено. – Как я буду любить ее, Мишель, она так добра! Девушке вспомнились спокойствие и ласковость баронессы, ее снисходительное терпение. – Ах! Я должна была догадаться об этом сама! Потом принималась в тысячный раз сомневаться: – Скажи мне всю правду! С такими вещами не шутят, я мечтала о смерти! Она… так прекрасна… так молода… – Да, – соглашался Мишель, любуясь чистым светом, лучившимся из девичьих глаз, – да, она молода и прекрасна, но она моя мать… Как я мог так долго не видеть тебя, моя дорогая Эдме? – Вот именно, как?.. И почему, Мишель, главное, почему? Ты просто меня не очень любишь, вот и все! Он попытался опровергнуть это заявление поцелуем, нежным, дружеским и невинным: руки Эдме предостерегающе легли на его губы. В долгой любви, уходящей корнями в детство, всегда много настоящей человеческой нежности. Эдме оставалась чистой, как ее улыбка. – Злая девчонка! – ласково пожурил ее Мишель. – Мне пришлось выдать чужую тайну, я и сам в нее не до конца посвящен. Это может погубить человека, любимого мною больше всех на свете… после тебя… после тебя или рядом с тобой: я не знаю, кого из вас я люблю сильнее: тебя или мою мать! – Я буду любить ее так же крепко, как и тебя! – пообещала Эдме. Ее маленькие изящные пальцы с материнской лаской раздвинули волосы юноши; Эдме и в самом деле походила сейчас на нежную мать, которая дождалась наконец сына после долгой разлуки и радуется тому, как он вырос и возмужал. – Значит, нас стало трое! – тихонько произнесла девушка и, перестав улыбаться, спросила: – Как ты думаешь, сможет она меня полюбить? – Она будет тебя обожать… позднее. – Вот как! Позднее… – промолвила Эдме, впадая в задумчивость. Мишель ловил губами кончики ее пальцев. – Я достаточно повидала свет, – заговорила девушка, – сбоку, разумеется, в приоткрытую дверь, но мне совершенно ясно, что такие отношения, как у нас с тобой, вызвали бы неодобрение в приличном обществе. Мы наедине, моя матушка слаба и больна. Ты, такой молодой и такой… какую жизнь вы ведете, господин Мишель? Я… такая безумная и беззащитная… – И такая святая! – с уважительной насмешкой прервал ее Мишель. – Свету нечего соваться в наши отношения, Эдме. – Я беспокоюсь только из-за твоей матери. – В мои отношения с матерью свету тем более соваться не стоит, – угрюмо заметил юноша. – Верно! Я сразу не сообразила, – воскликнула девушка простодушно и с какой-то невольной радостью. – Ты же не можешь быть сыном барона Шварца! Он опустил глаза, и Эдме снова охватила руками его голову. – Бог знает, что я болтаю! – вскричала она. – Я так долго, так долго страдала! Это не упрек, мой милый Мишель, а извинение. Мне хочется говорить о твоей матери, она вызывает такое уважение и такую любовь… – Она будет тебя обожать, – повторил Мишель. – Я уверен в этом. – А твоя сестра! Она давно уже стала моей сестренкой! Сколько раз ее смех прогонял тоску из моего сердца… Неужели ты позволишь, чтобы состоялась эта ужасная свадьба? Бланш! Милый ангел! Отдать ее господину Лекоку! Наш герой Мишель, приняв важный вид, ответил: – Дорогая, мы еще поговорим об этом. Я знаю, почему ты так не любишь господина Лекока! – Знаешь, почему я так не люблю господина Лекока! – повторила девушка, глядя на Мишеля чуть ли не с ужасом. Он разразился смехом. – Кто там? – раздался из соседней комнаты голос старой дамы, разбуженной второй раз. – Это я, дорогая госпожа Лебер, – снова успокоил ее Мишель. – Ах, ты явился наконец, бродяжка?.. Эдме, дитя мое, подай мне лампу и пяльцы, я хочу поработать немного! И тотчас же принялась похрапывать. – Ее бедная голова становится слишком слабой, – печально произнесла Эдме. Между госпожой Лебер и Мишелем давно уже установилась нерасторжимая связь. Старая дама, не забывшая о героически добытом хворосте для их камина, продолжала считать юношу отважным мальчиком с добрым сердцем и не умела произносить его имени без улыбки. – Когда мы поженимся, дорогая, – с чувством заговорил Мишель, – мы сможем сразу погасить все ваши долги. Я столько думал все это время о нашей бедной маме Лебер… – Ты так испугал меня, – прервала его Эдме, – когда вдруг объявил: «Я богат». – Я должен рассказать тебе потрясающие вещи. Это, конечно, большая тайна, но разве я могу скрыть что-нибудь от тебя! Он поднялся и поплотнее притворил дверь в соседнюю комнату. Эдме наблюдала за ним удивленным взглядом. Мишель пояснил тоном полушутливым-полуторжественным: – Мы обсудим вопрос, что называется, жизни и смерти. Во-первых, – начал он, придвинув поближе заждавшееся его кресло, – этот самый Брюно настоящий злодей, и нужно как можно быстрее вернуть деньги, которые вы ему задолжали. – Откуда ты знаешь? – смущенно пролепетала Эдме. – Нужная сумма у меня есть, – вместо ответа похвалился Мишель, похлопывая себя по карману с триумфальным видом человека, у которого редко водятся деньги, и тут же грустно добавил: – Вот к чему приводит безденежье: у меня появились жесты, словечки и радости пошлого обывателя. Еще бы! Шесть месяцев я был гол как сокол! Деньги – кровь в жилах нашего века, это уж точно. Отсутствие их приводит к деградации… До чего я докатился? Брюно – чистой воды бандюга, и графиня Корона недалеко от него ушла. Без господина Лекока, можешь мне поверить, Эдме, я бы совсем пропал. Глаза девушки наполнялись тревогой всякий раз, когда он произносил это имя. Она спросила: Это Лекок наговорил тебе всяких гадостей про господина Брюно и графиню Корона? – Уж не собралась ли ты защищать графиню Корона? – изумился Мишель. – Она тебя любит, а ты ее нет. Когда мне было плохо, я думала о ней как о подруге. – Как о подруге! – со смехом повторил Мишель. – Но сейчас речь не о ней, и к достойному господину Брюно мы вернемся чуть позже… Повторяю: все твои истории с Лекоком мне известны. – Все!.. – эхом отозвалась Эдме. – Все! Девушка глядела на Мишеля потрясенным взглядом. – Хорошо-хорошо! – поспешно заговорил он. – Давай рассуждать спокойно. С каких это пор порядочному человеку запрещено подумывать о свадьбе с порядочной девушкой? О свадьбе? – воскликнула Эдме возмущенно, и щеки ее залились краской. – И это говоришь мне ты, Мишель? С каких это пор, – продолжал тот развязным тоном и не сморгнув глазом, – порядочному человеку, забравшему в голову такую мысль и к тому же чрезвычайно богатому, запрещено подвергнуть эту бедную молодую девушку маленькому испытанию? Женятся ведь не на один день. – Ты решил надо мной поиздеваться? – оскорбленно спросила Эдме. – Ни в коем случае! – Значит, ты уже не любишь меня? – Я люблю тебя всем сердцем… но будь же благоразумна, моя маленькая Эдме! Клянусь, я люблю только тебя и никогда в жизни не полюблю никого другого. В этой клятве было столько жара и искренней нежности, что девушка не смогла удержаться от улыбки. – Остальное меня мало волнует, – вымолвила наконец она. – Все хорошо, если ты меня любишь. Тем не менее… – Тем не менее… – повторил Мишель, следивший за реакцией девушки с чувством некоторого превосходства. – Тем не менее, – продолжила Эдме, пристукнув ножкой, – я уже видела подобные фокусы в комедиях! – У Мольера, разумеется, в «Тартюфе». Ты имеешь в виду Оргона? И наш герой безмятежно расхохотался. В прекрасных глазах Эдме мелькнула искорка гнева. – Ты сама, моя дорогая, маленький прелестный Оргон, – продолжал веселиться Мишель. – А Тартюф – это твой господин Брюно, опутавший тебя всякой ложью. Эдме, уже пожалевшая о своем гневе, подставила ему лоб для поцелуя и заметила примирительно: – Какое нам до всего этого дело? Поговорим о тебе! – Вот именно, какое нам до всего этого дело! – в свою очередь, оскорбился Мишель. – Мы говорим обо мне, и о тебе – о нас! Господин Лекок послан нам Провидением! – Ты сошел с ума! – ответила Эдме почти жестко. – Разумеется, раз я с тобой не согласен. – Ты сошел с ума!.. Он сказал тебе, что хотел жениться на мне? – Хотел, он же не знал, что мы любим друг друга. – И чтобы закрасить гнусность своих приставаний, он придумал какое-то испытание. Ты покраснел, Мишель… – Потому что я люблю тебя… Да, он говорил про испытание с полной искренностью и глядя мне прямо в глаза. – Ясно, глаза пришлось опустить тебе. – Да. – Ты сошел с ума! Мишель встал, выпрямившись во весь свой немалый рост. – Если он тебя оскорбил, скажи! В этом человеке последняя наша надежда, но если он тебя оскорбил, я его убью! Эдме на секунду заколебалась, затем взяла руки юноши и прижалась к ним горящими губами. – Вот еще! – встревоженно произнесла она. – Не надо меня пугать! Мишель ждал, и девушка ответила голосом неискренним, но твердым: – Нет, он меня не оскорбил. – Ну вот! – обрадованно воскликнул Мишель, усаживаясь на прежнее место. – Ты просто не желаешь понять его характера. Его голова и сердце заняты одной великой идеей. Ты не веришь ему, потому что он богат. Но я имею доказательства его бескорыстия! Он говорил с жаром. Эдме слушала, не прерывая, полуприкрыв ресницами недоверчивый взгляд, что делало ее еще красивее. Зато на плотно сжатых губах ее явственно читалась сочувственная фраза: «Бедный мой Мишель, где тебе тягаться с таким хитрецом!» Какой-никакой, но читать по лицу любимой наш герой умел. – А вот и нет, мадемуазель! – обидчиво воскликнул он. – Мы не так слепы, как вы полагаете! Я проверю, с кем имею дело. – Но в конце концов, – едко заметила девушка, – нельзя же жениться на двух женщинах сразу! Его свадьба с Бланш… – Свадьбы не будет! – решительно объявил Мишель. Эдме не скрывала своего изумления. – Неужели он упустит такую добычу? Мишель нехотя пояснил: – У господина Лекока богатые источники информации… Улыбайся, если тебе нравится, дорогая, но ты перестанешь улыбаться, когда узнаешь, почему он избрал именно такой род занятий, который многие презирают. Так вот, из надежных источников он узнал, что состояние барона Шварца огромно, но происхождение этого богатства… Ладно, я знаю, что говорю. – Откуда вдруг этакая щепетильность… – недоверчиво начала Эдме. – Да, щепетильность, – прервал ее Мишель. – А еще благородство и отеческая доброта. Господин Лекок узнал от меня о нежных чувствах, которые питают друг к другу Бланш и Морис. Достаточно было сказать одно слово… Он позаботится о их счастье. Поскольку очаровательное лицо Эдме упорно хранило недоверчивое выражение, наш герой Мишель поднес ее пальцы к губам и запечатлел на них покровительственный поцелуй. – Ты непременно хочешь быть умнее меня, дорогая? – шутливо спросил он и укоряюще добавил: – О женщины! Даже лучшие из вас не лишены тщеславия! Самое тонкое и благородное, самое скромное существо на свете, я говорю про тебя, Эдме, тоже имеет слабость считать себя всеведущей феей. Но я могу опрокинуть все твои возражения одним ударом. Ответь мне на один простой вопрос: если господин Лекок имеет против тебя, а значит, и против меня, злой умысел, в котором ты его подозреваешь, как он должен вести себя, увидев меня за решеткой? Обрадоваться, не так ли? – Что ты говоришь?! – испуганно встрепенулась Эдме. – Отвечай… мои рассуждения ясны как день. Я – препятствие, которое невозможно обойти. Так знай же: если бы не господин Лекок, я бы сейчас находился в тюрьме! – В тюрьме! За что, Мишель? – За то, – несколько смутившись, отвечал наш герой, – зато, что я хотел разбогатеть с одного удара, вот за что. И тут же поспешил добавить: – Не подумай, что я так уж привязан к деньгам, алчности за мной как-то не замечалось. Я хочу стать богатым ради тебя, Эдме. – Ради меня – не стоит, – сурово отрезала девушка. – Мне богатство не нужно. – Как же не нужно? А ваш долг… – Да, да, мальчик, наш долг! – раздался от двери дрожащий голос. – Я так надеюсь, что ты станешь богатым! Они обернулись: в дверях стояла госпожа Лебер – босиком. Эдме бросилась к матери и на руках отнесла ее в постель. Старая дама сухо кашляла и удивлялась: – Как я там оказалась? Но он ведь говорил про богатство, да? Эдме притворила дверь, оставив Мишеля в комнате одного. Он подошел к окну. Творческая мастерская напротив, обходившаяся без занавесок, являла привычную картину: Этьен и Морис яростно жесткулировали. Наш герой, ласково улыбнувшись, подумал: малыши. Себя он, разумеется, считал человеком взрослым и рассудительным. Вошла Эдме, из-за двери слышался крик больной: – Лампу и пяльцы! Я хочу поработать! В глазах девушки стояли слезы. – Бедная мама! С головой у нее совсем плохо. Мишель, снова усевшись, сказал: – Именно потому нам и нужно богатство. От золота такие болезни проходят. – Поговорим о тебе, Мишель, и поговорим серьезно. – Для этого я и пришел сюда, дорогая. Я могу быть деловым человеком, когда захочу. Мне не терпится сообщить тебе о своей удаче: я безумно влюбился в прелестную, но бедную девушку, и вдруг оказалось, что моя девушка очень богата, хотя и не подозревает об этом… – Надо полагать, сведения получены от господина Лекока? XXVI ШКАТУЛКА Лицо Мишеля расплылось в счастливой детской улыбке. – Моя будущая женушка, – шутливо продолжил он, – имеет полное право подозревать меня в корыстных расчетах: вдосталь набегавшись, я вернулся к ней, привлеченный таинственным ароматом ее богатства. – Мишель, перестань шутить. Объясни мне наконец в чем дело! – Я и стараюсь объяснить, мой ангел. Сейчас ты убедишься, что поведение господина Лекока, в сущности, вполне логично. Не находишь ли ты, что Бланш слишком молода для него? – Разумеется, нахожу, – с легкой усмешкой ответила девушка. – Но речь сейчас не про Бланш. – Речь сейчас про тебя. Господин Лекок, узнав из своих источников о богатстве, которое тебе принадлежит, и, видимо, желая иметь законное право отвоевать твое богатство у тех, кто его удерживает… О, ты еще не знаешь этого человека! – Да где оно, это мое богатство? – вышла из терпения] Эдме. – И кто, интересно, его удерживает? Мишель впал в задумчивость. По ту сторону двора, вон там, – заговорил он, указывая пальцем на голое окно молодых авторов, – живут два моих дружка, которых ты хорошо знаешь. Они, конечно, с приветом, но совсем чуть-чуть, не больше, чем все прочие парижане. Ребята помешались на идее создать пьесу из реальной жизни, так многие драматурги делают, в этом что-то есть. Так вот, они стали строить свою городьбу вокруг нас с тобой, вокруг дома Шварцев, вокруг всяких прочих вещей, нам с тобой хорошо известных… а может, они докопались уже до каких-то секретов, которых мы не знаем. Я одно время работал с ними и, странное дело, среди груды всяких гипотез, какими они орудовали, по– стоянно повторялся один и тот же конфликт – между Олимпией Вердье и Софи. Софи – это ты, Олимпия Вердье – моя мать. Моей тайны они не знают, и совершенно не понимают моей матери, которая доверяет свое сердце только Богу. Но суть не в этом, а в том, что информация господина Лекока подтверждает одну из их гипотез – о неправедности богатства барона Шварца… Барон Шварц – человек ловкий, я могу ручаться только за свою мать… Так вот, когда моя мать выходила за него замуж, у него было уже четыреста тысяч франков. Четыреста тысяч франков! Именно четыреста тысяч? – девушку, казалось, поразила сама эта цифра. – Прошу тебя, Мишель, рассказывай, ничего не скрывая! – Господин Лекок, – продолжал наш герой с видом человека, решившегося выложить наконец всю правду, – утверждает, что незадолго до свадьбы Шварц принял от него приглашение на ужин в одной из гостиниц Кана. – Кана! – эхом отозвалась приходившая все в большую тревогу девушка. – В тот день господин Шварц был очень голоден – ему не на что было купить себе еды. После некоторого молчания Мишель промолвил: – Я мечтаю о семье: мы с тобой и наши матери. Какое мне до всего остального дело? – И добавил с внезапной горечью: – Моя мать не похожа на несчастную женщину, а у господина Шварца репутация порядочного человека. Больше не спрашивай меня ни о чем. Я все сказал про твое богатство и перехожу к своему. Ты слушаешь? Куда ты от меня улетела? Эдме, стряхнув задумчивость, ответила: – Я слушаю тебя. – Бывают моменты, – вслух подумал Мишель, – когда мы с тобой холодны, как надоевшие друг другу супруги. Эдме подняла на него прекрасные глаза и с глубоким чувством сказала: – Я с каждым днем люблю тебя все сильнее. – Дорогая, – взволновался Мишель, покрывая поцелуями ее руки, – я не стою тебя, это правда, но все, что я делаю, хорошо или плохо, все только для тебя, для тебя одной. Что бы ни случилось, не беспокойся за мою любовь, она всегда с тобой – ты так нужна мне! Я смог так долго жить вдали от тебя, потому что знал: у меня есть ты. Все на этой земле кажется мне возможным, кроме нашего расставания. Однажды утром ты проснешься принцессой, и если я стану королем… Однако хватит романсов! Давай вернемся к нашим делам. Что касается господина Лекока, то я тоже поначалу был настроен против него, тем более что подслушал случайно один секрет – пароль, предназначавшийся ему. Некоторые люди в Париже распознают друг друга с помощью одной фразы, звучащей вполне невинно: «Будет ли завтра день?» Но ничего криминального тут нет, я сам стал пользоваться этим паролем в своих отношениях с матерью. В том деле, каким занимается господин Лекок, нужны всякие предосторожности, к тому же приходится пользоваться услугами, платить, одним словом, общаться с публикой, мягко выражаясь, сомнительной… – Позволь тебя спросить, – прервала его Эдме, – ты сообщил этот пароль господину Брюно в то время, когда доверял ему? Может быть, – ответил Мишель, – свои счеты с этим типом мне еще предстоит свести. Повторяю: профессия господина Лекока сперва отталкивала меня точно так же, как и тебя. Ты, моя маленькая Эдме, не очень часто ходишь в театры и почти не читаешь романов, но все равно ты наверняка слыхала о людях, которые вынуждены принимать на себя, следуя долгу или страсти, роли неприглядные ради благородной, а то и героической цели. Цель оправдывает средства. Господин Лекок идет по следу, очень запутанному – ему пришлось принять на себя роль ищейки. Не вижу тут ничего нечестного, для этого требуется много мужества и ума. Ты согласна? Он остановился, ожидая одобрения или протеста, но Эдме молчала. Мишель заговорил снова: – Господин Лекок с самого начала проявлял ко мне исключительный интерес, и если бы я послушался его советов, мы бы уже давно были счастливы. Но из-за своего предубеждения, усиленного полунамеками графини Корона и клеветами нашего драгоценного Брюно, я от него совершенно удалился. Я тогда как раз искал места, но мой уход от Шварцев закрыл передо мной все двери в сфере финансов и предпринимательства: слух о моей черной неблагодарности по отношению к горячо любившему меня шефу распространялся с небывалой быстротой. Во всем Париже для меня так и не сыскалось местечка!.. Вы тогда стали моим прибежищем, ты и твоя добрая матушка. Я хватался за любую оказию, чем только не пытался заниматься – сочинением пьес, изобретательством и всякими прочими глупостями… Но кое-какие средства у меня все же имелись: чья-то таинственная рука, надо полагать, баронесса Шварц, поддерживала меня… В довершение всех безумств я обратился к игре… – Это худшее из твоих безумств! – Как сказать! Удачникам и ловкачам везет, но для тех, кто испытывает судьбу, безразлично, любят их или нет… Я проигрывал и подписывал векселя, не один, как мои дружки-драматурги, а в большом количестве. И представь себе, Эдме, дорогая, все это делалось для тебя. Не веришь? Напрасно! Не будь тебя, я спокойненько получат бы свои сто восемьдесят франков в какой-нибудь заплесневелой конторе. Ты – мой добрый ангел! Эдме, не ожидавшая подобного умозаключения, возразила: – Зато это надежно. Ты мог бы продвигаться по службе. Невозможно! В доме Шварцев меня набаловали роскошью, свалившейся на меня как раз в то время, когда формируется характер. Если я все-таки остался неплохим малым, то лишь благодаря нашей любви. А потом знаешь, Эдме, моя мать как-то со слезами на глазах призналась: «Юность моя была блистательной». А я, как ни верти, сын своей матери. Девушка опустила глаза. Друзья у меня имеются, – продолжал говорить Мишель, – кроме Мориса с Этьеном, преданных мне по-братски, есть еще этот славный Домерг, который, впрочем, сильно усугубил мое тщеславие, всяческими намеками давая понять, что я сын господина барона. Вбил себе в голову эту идею и до сих пор верит в нее неколебимо. Графиня Корона тоже со мной говорила загадками, разумеется, не столь наивными – зазывала в сады Армиды. Знаешь, кто приносил мне записки от этой женщины? Трехлапый! Калека из почтовой конторы. Вот настоящий ребус – пара вполне фантастическая: графиня Корона и Трехлапый! Она его навещает, это известно всем. Пожалуй, только Лекок мог бы разрешить эту шараду… Ну и, конечно, наш уважаемый торгаш господин Брюно тоже побывал у меня в приятелях: усердно скупал мой гардероб и одалживал деньги… Моя мать ничего про это не знает. Да и давно ли я называю ее матерью!.. Потерпи, Эдме, не закрывай глаз, я подхожу к концу. – Я закрываю глаза, чтобы вспомнить, как она прекрасна. Я так рада, что снова могу восхищаться ею без слез, с прежней искренностью. – Она полюбит тебя, вот увидишь! Знала бы ты, как она умеет любить!.. Да, кстати, пока не забыл, я тоже хочу выведать у тебя один секрет. Скажи мне, с какой стати стал наведываться в ваш дом господин Брюно? – Появился он месяца три назад, я тогда болела после встречи с баронессой Шварц у твоего порога, а мама отослала деньги в Кан, и нам не на что было жить. Однажды утром, мы как раз проветривали комнаты и все распахнули настежь, я заметила в одном из противоположных окон лицо этого самого Трехлапого, полускрытое занавеской. Он меня не видел, и вообще не подозревал, что за ним наблюдают. Как ни странно, калека рассматривал нашу квартиру с каким-то особым вниманием; словно не доверяя своим глазам, он через несколько секунд достал большой бинокль и направил его в комнату мамы. – А на что он смотрел? – Сперва я не поняла. Он исчез, а немного спустя, когда мама ушла в магазин, господин Брюно постучал в нашу дверь, спрашивая, нет ли у нас чего для продажи. Я его впустила, в нашем районе он считается человеком справедливым, и он действительно дал очень хорошую цену за те мелочи, что мы собрались продать, но он хотел приобрести вовсе не их. – А что? – Он хотел купить латную рукавицу… И я часто думала потом, что Трехлапый тоже рассматривал в бинокль эту вещь. – Вот и доказательство, что эти жулики орудуют сообща, – заметил Мишель. – Я их никогда не видела вместе, – возразила Эдме. – Господин Брюно заходил к нам еще несколько раз, всегда в отсутствие матери, и если говорить честно, оказал нам немало услуг, за которые мы ему благодарны. – Всегда в отсутствие матери! – задумчиво повторил Мишель. – Это, может быть, и случайностью… Но он несколько раз предлагал за боевую рукавицу большие суммы. – Да, вещица, должно быть, ценная! – Надо думать, потому что ее хотел купить не только господин Брюно. – Трехлапый? – Нет. Господин Лекок. Впервые он переступил наш порог из-за боевой рукавицы. У него якобы есть один знакомый любитель, который готов дать за нее десять тысяч франков. – Десять тысяч франков! Вот это да! – изумился Мишель и тут же добавил: – Люди ищут иногда окольных путей, чтобы сделать добро. Эдме замолчала, ее нахмуренные брови свидетельствовали о прежнем неверии в добродетели господина Лекока. – Если бы не Лекок, – нарушил молчание Мишель, – мне бы от тюрьмы не спастись. Вот уже три дня, как я играю в прятки с господином Брюно, у него есть право на мое задержание. Мне пришлось нелегко, против меня орудовала целая троица: нормандец, Трехлапый и его графиня. Она-то с какой стати затесалась в эту компанию? Вот чего я не могу разгадать. Но что она их сообщница, это уж точно, именно из-за нее я чуть не угодил в ловушку. Правду сказать, в этой прелестнице есть что-то от жены Потифара: она знает, что я тебя люблю, и, наверное, вредит мне из мести… Я ей проговорился, где я скрываюсь от; восхода солнца до позднего вечера, а нынче ночью получил записку от господина Лекока, предупреждавшую, что на мой след напали и вот-вот арестуют. И действительно, едва я спустился с лестницы, как понял, что дом окружен. Там почему-то оказался и Трехлапый в своей дурацкой плетенке, я видел, как он говорил с жандармами. Господин Лекок назначил мне в записке свидание, я убежал к нему. Как жаль, что моя мать тоже настроена против этого человека! – Вот видишь! – воскликнула Эдме. – Два любящих тебя сердца чувствуют одинаково! Но факты говорят обратное, а я верю фактам. К тому же господин Лекок отсчитал мне по моему векселю денежки… – За что? – встревоженно спросила девушка. За мое большое спасибо, вот за что! Он понял, на что я способен, и верит в мое будущее. И правильно делает: первая же глупость, которую я сотворил, уйдя от него, увенчалась успехом. Заполучив деньги, я сразу же побежал играть и выиграл триста луидоров. Сейчас я вам отсыплю монет на погашение долга. С этими словами Мишель погрузил обе руки в карманы, забренчавшие золотым звоном, но тут же остановился, заметив странное выражение на лице Эдме. Девушка, прослушавшая заключительную часть его авантюры с грустным видом, вдруг заволновалась, на лице ее появилось беспокойное выражение, не имевшее отношения к его рассказу: округлившиеся глаза Эдме были устремлены в окно. Мишель тоже повернулся к окну, и оба одновременно вскочили на ноги. С другой стороны двора комната Мишеля, погруженная в темноту, осветилась внезапно, раздвинутые шторы позволяли отчетливо видеть происходящее. Этьен и Морис, все еще пребывавшие в своем живописном неглиже, встречали гостью: Морис держал лампу, а Этьен, согнувшись вдвое, отвешивал глубокий поклон даме, одетой в черное. Лицо ее было скрыто двойной вуалью из кружев. – Моя мать! – встревоженно воскликнул Мишель. – Да, это она, я ее узнала! – промолвила Эдме, и сердце ее дрогнуло при воспоминании об ушедшей муке. Мишель одним прыжком оказался у двери. Эдме погасила лампу и припала к окну. Баронесса Шварц, ибо это была она, уже исчезла, а молодые авторы поспешили в свое святилище, чтобы подыскать в своей драме подходящее местечко для этого неожиданного визита. Укрытая темнотой Эдме перегнулась через подоконник и увидела следующее. На двор выходили три двери, одна из которых вела на черную лестницу – она освещалась фонарем, прикрепленным над самым входом. Мишель, вихрем слетевший сверху, оказался во дворе первым; почти одновременно с ним появилась женщина под вуалью – она выбежала из-под арки, словно от кого-то спасаясь и сжимая в руках какой-то предмет, спрятанный цод шалью. Мишель кинулся ей навстречу, она слегка отступила, приложила палец к губам и лихорадочным жестом распахнула шаль, укрывавшую шкатулку редкой работы. Без колебаний и не промолвив ни слова, она сунула шкатулку в руки Мишеля и кинулась к черной лестнице. В ту же минуту из-под арки выскочил мужчина и тоже молча кинулся на ошеломленного юношу, пытаясь вырвать из его рук шкатулку. Мишель яростно сопротивлялся. Во время борьбы с незнакомца слетела шляпа, открыв лысый лоб господина Шварца. – Шкатулка моя! – задыхающимся голосом произнес он. – Эта женщина меня обокрала! Но внезапно узнав Мишеля, он вцепился ему в горло обеими руками и прорычал вне себя от злости: – Так я и знал, что в дело замешан ты, негодяй! Я тебя убью! – Вы сошли с ума! – раздался позади них нежный спокойный голос. – Господин Мишель, держите покрепче шкатулку, которую я вам отдала на хранение! Оба вздрогнули и одновременно повернулись к даме – она была одета в черное, лицо ее скрывала точно такая же вуаль, как у баронессы Шварц. Мишель испугался и вытянул руку, чтобы преградить дорогу банкиру. – Берегитесь! – пригрозил он. – А то как бы мне не пришлось убить вас! Женщина откинула вуаль, открыв бледное, редкой красоты лицо. – Графиня Корона! – изумленно пролепетал господин Шварц. – Я думал… Он не докончил и провел рукой по лбу. Ошарашенный Мишель не мог вымолвить ни слова, но про себя подумал: «Она выскочила точно из-под земли». Банкир подобрал шляпу, поклонился графине, что-то пробурчал в извинение, и направился прямо к черному входу, ведущему в апартаменты Лекока. Графиня, проследив за ним взглядом, задумчиво изрекла: – Пойдут разговоры. Что ж, одной клеветой больше, не так уж важно. – Сударыня, – учтиво произнес Мишель, – я надеюсь, мне представится случай отблагодарить вас. И тоже повернул к черному входу. Графиня жестом остановила его. – Вы можете не волноваться, – холодным тоном вымолвила она, – там, куда оба они пошли, им не позволят встретиться. И, опуская вуаль, добавила чуть потише: – Господин Мишель, вы любите ваших врагов и ненавидите, ваших друзей! С этими словами она отошла и словно растворилась во тьме. Мишель остался один посреди двора. Окошко Эдме с шумом захлопнулось, юноша вздрогнул и вновь устремил взор на черный вход, явно искушаемый желанием проникнуть внутрь. Поначалу его сбило с толку внезапное вмешательство графини, но последние ее слова доказывали со всей очевидностью, что она выступила в роли спасительницы баронессы Шварц. Шкатулка, конечно же, принадлежала его матери – она передала ему на хранение свою тайну. Мишель догадался, что произошло в доме Шварцев: он знал, что барон следит за женой с обывательским ражем. Почувствовав, что тайна ее находится под угрозой, Джованна вынесла шкатулку из дома, муж следовал за ней по улицам ночного Парижа, а встреча их сделалась неизбежной именно потому, что его, Мишеля, не оказалось дома. Он догадался и еще кое о чем: Джованна вручила шкатулку своему сыну, потому что в ней крылась тайна и его жизни. Но сколько еще оставалось неясного! Во-первых, спасительное вмешательство графини! Корона, твердо зачисленной им в стан врагов, во-вторых, неожиданный исход приключения: его мать направилась к черной лестнице твердым шагом, ясно, что дорога эта ей была хорошо знакома, точно так же поступил и барон. В ушах юноши снова зазвучал холодный голос графини, насмешливо выделивший последнюю фразу: – Там, куда оба они пошли, им не позволят встретиться! Куда оба они пошли? К Лекоку? Мишель впервые в своей жизни решил вести себя осторожно. – Сначала надо устроить шкатулку в надежное место, – вслух размышлял он, – а дальше видно будет. Мишель медленно поднялся по лестнице в свою квартиру и уселся рядом с друзьями, все еще оживленно обсуждавшими визит таинственной дамы. Он жестом призвал их к молчанию и объявил Морису: – Есть один человек, который может помирить тебя с бароном Шварцем. Бланш станет твоей женой, если ты захочешь. – Если я захочу! – воскликнул Морис, не скрывая радости: он знал, что в подобных вещах Мишель не позволит ни обмана, ни шутки. – Это целая история! – промолвил Мишель. – Вернее, настоящая сказка! Добрые волшебники еще не перевелись в нашем мире. Мишель обхватил голову обеими руками, эта задумчиво-печальная поза явно противоречила только что произнесенным веселым словам. – Ты такой бледный! – приглядевшись к нему, удивились друзья в один голос. – Пустяки, – ответил Мишель и добавил, ставя шкатулку на стол перед Этьеном. – Я думаю, тут прячется драма, да еще какая! Сразу возгоревшийся Этьен устремил было к сокровищу руку, но Мишель его удержал. – Со мной творится что-то неладное, – признался он не своим голосом. – Такая тоска меня разбирает, хотя дела наши пошли на поправку. Впереди богатство и счастье, а на сердце тяжесть… Морис, – обратился он к другу, положив на шкатулку руку, – я верю тебе как брату. Если со мной случится беда, то пусть у тебя хранится эта вещь, которая для меня свята: в ней жизнь и честь женщины. XXVII ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО Наш рассказ вынужден сделать шаг назад. За несколько часов до сцены, только что описанной нами, незадолго до наступления темноты, в то самое время, когда охваченная лихорадкой Эдме Лебер поспешно удалялась от замка Буарено, изящный экипаж остановил свой резвый бег перед воротами тихого особняка, в который мы входили однажды, чтобы познакомиться с почтенным старцем полковником Боццо и его внучкой Фаншеттой, так не любившей Приятеля-Тулонца. Это было давно, в тот самый день, когда Ж.Б.Шварц, обладатель четырехсот тысяч франков, венчался в церкви Сен-Рош с прекрасной иностранкой, донной Джованной Марией Рени, из рода графов Боццо. Несмотря на пробежавшие годы, особняк не изменил своего вида: внушительное строение, спокойное и холодное, по-прежнему походило на дома Сен-Жерменского предместья, возведенные в конце семнадцатого столетия. Улица Терезы перед особняком была устлана толстым слоем соломы – привилегия чрезвычайная, но бесполезная и прискорбная, оповещающая любопытную толпу о том, что один из счастливчиков мира сего тяжко страдает или находится при смерти. Кучер остановил лошадей молча. Дверца отворилась, из экипажа выпрыгнула женщина в черном, под вуалью, очень элегантная и, судя по движениям и фигуре, молодая. Легким-шагом она устремилась к воротам. Двор был погружен в молчание. Окна второго этажа блестели, но каким-то безрадостным блеском, не вызывавшим мысли о празднике. Привратник, вытянувшийся возле своей будки, тихим голосом произнес: – Приветствую вас, госпожа графиня, конец уже близок. Молодая женщина ускорила шаг и подошла к крыльцу. На верхней ступеньке ее уже поджидал старый, монашеского вида слуга в темной ливрее, моментально распахнувший перед ней двери. Приподняв повыше светильник, который он держал в руке, слуга сообщил: – Хозяин очень плох, навряд ли он переживет эту ночь. – Он спрашивал про меня? – поинтересовалась женщина. – Два раза, до и после исповеди. – Ах так! – с какой-то странной тревогой воскликнула женщина. – Значит, уже была исповедь? – Точно так, уже была, – многозначительным тоном ответил похожий на монаха слуга, и еле приметная усмешка скользнула по его губам, когда он пропускал гостью вперед. – В доме есть посетители? – спросила она, войдя в вестибюль. – Есть. Господа приказали подать себе ужин в гостиной. – Кто? – Герцог, англичанин, доктор, ваш муж и новенький, только что прибывший из Италии и знающий слово Каморры. Она слегка вздрогнула и поспешно поднялась по лестнице. На лестничную площадку второго этажа выходили три двери, за одной из них слышался звон посуды, сопровождаемый приглушенными голосами и негромким смехом. Это, конечно, был не пир, но вполне жизнерадостный ужин с шуточками и разговорами о делах. Голоса раздавались слева. Две другие двери хранили полнейшую тишину. – Господин Лекок прибыл? – Он привел священника. – А сам вошел? – Нет. Он сказал: я еще вернусь. – А священник? – Священник провел с умирающим полчаса. Из-под кружевной вуали на лицо слуги устремился пристальный взгляд. – А вы уверены, что он настоящий священник? – тихонько поинтересовалась графиня. Слуга, пожав плечами, ответил: – Это тот самый новенький, что прибыл из Италии – он знает слово Каморры. Он вместе с другими господами за столом. Если угодно взглянуть, пожалуйста. Женщина приблизилась к двери справа и, откинув мешавшую ей вуаль, приложила глаз к замочной скважине. Когда она выпрямилась, лампа осветила лицо оригинальной красоты: бледное и тонкое, оно было вылеплено весьма энергично, несмотря на нежность и изящество контуров. На вид ей было лет двадцать пять, но страдания или удовольствия, чьи отметины схожи, уже оставили на этом лице свой след. Особенно поражал взгляд огромных глаз под эффектно вычерченными надбровными дугами: властный и гордый, даже дерзкий, он в то же время говорил об усталости и тайной муке. Мы уже видели когда-то эти огромные глаза на той же самой широкой пустынной лестнице, где стояла сейчас молодая женщина, – тогда они сверкали из-под детских кудрей, растрепавшихся вокруг высокого лба. Девочка тогда смеялась, и огромный букет мокрых цветов, метко ею брошенный, угодил господину Лекоку прямо в лицо. Она грозилась прогнать его как лакея – они были завзятыми врагами в то время: господин Лекок и озорная девчонка, не боявшаяся давать наглецу отпор. Что стало с их давней враждой теперь? Какое-то время молодая женщина задумчиво стояла перед дверью, отделявшей ее от веселого ужина, лицо ее выражало холодное презрение, смешанное с угрюмой тоской, затем она пересекла лестничную площадку, не опуская вуали. – Открывайте! – приказала она. Тотчас же старый слуга ввел в замочную скважину правой двери ключ, выбрав нужный из целой связки. Комната, в которую они вошли, служившая прихожей, была пуста; во второй, похожей на маленькую гостиную, обставленную строгой, вышедшей из моды мебелью, бодрствовала сестра милосердия; на столе, освещенном двумя свечами, лежало распятие. Умирающий находился в третьей – это была обширная спальня, почти лишенная мебели и освещенная единственным окном, выходившим через балкон в сад. В пустынной комнате бросалось в глаза изобилие дверей: их было четыре вместе с той, в которую вошла молодая женщина. Придвинутый к кровати дубовый стол был заставлен пузырьками с лекарствами, пропитавшими воздух тем специфическим запахом, который всегда устанавливается в комнате тяжело больного. Человек, который умирал на плоской постели, окруженной блекло голубыми занавесками с белой бахромой, считался богатым. Капитал его был доверен банку Шварца, его особняк имел внушительный вид, к тому же этот человек делал добро, как очень неопределенно выражались о нем доброжелатели. В кругах более информированных он считался очень богатым, а тяга его к добру подвергалась сомнению. И наконец очень тесная группка людей, имевших кое-какие сведения о его; жизни и роде деятельности, полагала, что человек этот, никакого отношения к апостольским добродетелям не имеющий, является обладателем упрятанного в надежном месте золотого клада. На самом же деле жизнь его так и осталась для окружающих тайной. Легко приноравливаясь к разным нравам, менявшимся в череде эпох, он исполнил на жизненной сцене одну из самых трудных ролей, разыгрывая ее среди бела дня, под прицелом общественного мнения и под бдительным оком властей. Умирая с почетом, с головой, уложенной на удобной подушке, а не на чем другом, он праздновал свою последнюю победу над миром, который на протяжении почти сотни лет так и не сумел проникнуть в его тайну ни силой, ни хитростью. Он был настоящим счастливчиком, этот заядлый игрок, блистательный мот, победитель сердец и властитель умов. В юности он любовался грандиозным карнавалом старых монархий, Республика вызывала у него град насмешек, под которым смешивались неразличимо ее подвиги и преступления; во времена Империи он затеял свою собственную войну и повел ее столь успешно, что сам себе присвоил звание полковника. Неразбериха, царившая в эпоху двух реставраций, утвердила его в контрабандном чине, и когда он впервые появился в нашем рассказе, право на это звание ни у кого не вызывало сомнений. А патент? Глупости. Для людей его типа не существует трудности в добывании вещей, которые могут быть сфабрикованы ловкими пальцами. К тому же этот человек, как мы убедимся позднее, мог претендовать на куда более высокое звание, чин полковника был слишком скромен для масштабов личности, стоящей во главе огромной и грозной армии. И вот теперь он умирал, в полном одиночестве – как святой или как безродный пес… Где был его генеральный штаб? И какой цели служили его бесчисленные победы? Минуло уже много лет с тех пор, как полковник отказался от шумной и блестящей жизни. Был он дьяволом или нет, но он стал отшельником и тихонько поживал себе, пользуясь весьма скромным достатком, подобно обыкновенному рантье, укрывшемуся в своей раковине. Раковина, разумеется, была вполне респектабельной – особняк, экипаж, слуги, – но траты его не выходили за те границы, в которых пребывал рядовой буржуа с доходом в тридцать или пятьдесят тысяч франков. А человек по кличке Черная Мантия мог пустить свои миллионы на четки – и их получилось бы, вероятно, великое множество. Никто в мире, ни среди подданных Каморры, родного его полуострова, для которых он оставался верховным правителем, ни среди разборосанных по всему миру членов обширнейшей тайной организации, давших ему присягу, не сумел бы назвать точную цифру, способную измерить сокровища Черной Мантии. Он лежал на спине, и тело его, с трудом угадывавшееся под одеялом, уже походило на труп. Двухнедельный нарост, очень густой и белый, покрывал его костистое лицо точно изморозью. Закрытые глаза глубоко запали, надбровные бугры и выступающие скулы казались навечно застывшим горным рельефом. Подле него не было ни друзей, ни слуг, не было даже собачонки, готовой посочувствовать страдающему хозяину. Дыхание его, трудное и прерывистое, сторожила расположившаяся в соседней комнате сиделка-монахиня. Вероятно, такова была его воля: смерть его выглядела столь же странно и холодно, как и жизнь. Погруженный в одиночество своей агонии, он то размышлял о чем-то и даже строил планы на будущее, уже не принадлежавшее ему, то вдруг начинал бредить, но даже бред его звучал бесчувственно и разумно. В тот момент, когда молодая женщина переступила порог его спальни, он пришел на какой-то миг в сознание, окостеневшее лицо тронуло что-то похожее на улыбку, и губы с трудом выдавили слова: – Вот и Фаншетта… Я знал, что моя Фаншетта придет! Но он тут же потерял ясность сознания и принялся бредить спокойно и деловито – поручения, подсчеты, поездки. Женщина, которую он назвал Фаншеттой, приблизилась к его кровати и пристально вглядывалась в лицо забывшего про нее больного. В ее взгляде смешалось многое: дикое любопытство, остатки прежней, исчезнувшей в прошлом нежности и… ужас. Она молчала, а губы смертника двигались, выпуская слова, подобно четко работающему механизму. – Кто из нас Хозяин, – очень властно и отчетливо произнес он, – я или ты, Приятель? Вот так-то… – Затем чуть помягче добавил: – Груша созрела в доме Шварца… Банкноты уже готовы? Это будет мое последнее дело… Конец фразы застрял в застопорившихся губах. Женщина положила ему руку на лоб, и прикосновение к мертвой, по-змеиному холодной коже заставило ее вздрогнуть и поспешно убрать пальцы. – Ты пришел наконец, Приятель-Тулонец? – спросил старец вкрадчивым тоном, полуоткрыв свои почти слепые глаза. – Нет, дедушка, это я, – тихо ответила женщина. Он, казалось, силился собрать свои мысли, и это ему наконец удалось: – Ах да… и правда… моя маленькая Фаншетта, она любит своего дедушку! – И сквозь зубы прибавил: – Госпожа графиня Боццо-Корона! Женщина, горько улыбнувшись, спросила: – Вам больше нечего мне сказать, дедушка? Старец пытался сделать какое-то движение. Его исхудалые руки судорожно вцепились в складки простыни, словно они могли послужить ему опорой. Этот жест, свидетельствующий о крайней беспомощности, всегда пугает тех, кто не привык к смерти. Графиня вздрогнула и отвернулась. – Как же, как же, – с трудом промолвил больной, – я многое должен тебе сказать… и силы для этого пока есть. Я еще держусь! И не думай, что я очень страдаю, нет, я угасаю без мук. Я прожил мудро, устроив самому себе бенефис. Моментами мне даже кажется, что я еще поживу. Вот сейчас я чувствую, как кровь разогревается в моих жилах… Я так любил тебя, девочка. Когда ты была малышкой, я исполнял любые твои капризы. Надо было держать тебя подальше… от меня и от моих дел, ты бы не знала ничего, была бы богатой и счастливой… женой честного человека. – Почему же вы не сделали так? – воскликнула графиня, и глаза ее сверкнули мрачноватым огнем. – Почему не сделал? – полковник на какой-то миг задумался. – Потому что мы секта вроде индийский йогов. Твоя мать знала то же самое, что и ты, но ходила в церковь и умерла как праведница. Ты видишь – я тоже умираю спокойно. Я никогда не оскорблял Бога. За свою долгую жизнь я убедился, что все, почти все люди крадут, грабят и убивают, разумеется, прикрывая свои злодейства всякими удобными формулами. Ответь, девочка, кто лучше: туземец, который душит англичанина, торговца опиумом, или англичанин, отравляющий опиумом туземца? А ведь одного глупая толпа считает чудовищем, а другого честным негоциантом, разумеется, если он не стал банкротом. У нас опиумом не торгуют, а делают кое-что похуже, но только банкротство приводит закон в волнение. Я славно пожил – почти сто лет богатой, спокойной и окруженной почтением жизни, я не попадал в банкроты, и закону не было до меня никакого дела. На что ты жалуешься, девчонка, гордая и неблагодарная? Он говорил уже без труда и с прежней силой. Повернув голову на подушке, полковник пристально глядел на графиню запавшими глазами. Она опустила взор и нахмурилась. – Я никогда вас ни в чем не упрекала, дедушка. Да, но ты страдала, – вскричал больной, оживший вдруг точно по волшебству. – А это уже упрек. Слушай, Фаншетта, ты станешь очень богатой. Тулонец говорит, что ты водишь дружбу с нашими врагами, но мне плевать. Я все равно люблю тебя, и все мое состояние получишь ты. Считай, уже получила, я – мертвец. Я никогда больше не увижу ни каштановых рощ на нашей с тобой родине, ни миртовых зарослей, ни голубого моря, я не увижу даже парижской своей улицы, не увижу и не услышу – ее уже застелили соломой… У тебя ведь хорошая память? – внезапно прервался он. – Скажи Тулонцу, что груша уже созрела в известном ему доме, созрела вполне. Пора срывать. Если он поспешит, я успею еще полюбоваться на результаты. Это будет мое последнее дело. Графиня с легким презрением заметила: – Ведь священник уже принял вашу исповедь! – Принял. Так положено, а я соблюдаю приличия. – И что же вы ему сказали? – Я сказал ему то, что полагается говорить в таких случаях, – суровым тоном ответил полковник. – Я родом из тех мест, где верят, и из тех времен, когда верили. Мне довелось видеть и калабрийских разбойников, и энциклопедистов, они хорохорились, пока были молоды и полны сил, но смерть всем им поубавляла гонору. – Но вы же продолжаете грешить – в своих мыслях! – Потише, в соседней комнате монахиня… Чему ты смеешься, девочка? Человек грешит постоянно и постоянно раскаивается: это называется совесть. Он закрыл уставшие глаза и хрипловато вздохнул. Но силы его еще не покинули; теребя простыню, он спросил: – Сколько их там собралось, нетерпеливых, ждущих, когда я отдам концы, чтобы обыскать мой тюфяк? – Вы угадали, – ответила Фаншетта холодно, – нетерпеливые собрались и ждут. – Если бы я захотел, – пробурчал полковник, – я мог бы умереть в окружении гвардейцев, как король. Но ответ графини, видимо, его задел, он надеялся на возражение. – Ты их терпеть не можешь, моя девочка. Так сколько? – Пятеро. Герцог, милорд, доктор и граф Корона. – И Приятель-Тулонец? – Тулонец уже сорит вашим наследством. Мошенник и неблагодарный подлец. – Мой воспитанник, – промолвил старец так тихо, что графиня еле его расслышала. – Если бы ты его взяла в мужья!.. Фаншетта, – вдруг заволновался он, – как странно, что ты никогда не хотела стать вдовой! – Я и сейчас не хочу, предпочитаю страдать. – Меня скоро не станет, но если ты сменишь мнение, помни, что ты из Сартэна и к тому же очень красива. Кто-нибудь полюбит тебя и возненавидит его… – Я люблю, а меня не любят, – призналась молодая женщина со слезами в голосе. – Кого же ты полюбила, девочка? – с детским любопытством спросил больной. – Мишеля! Глаза полковника расширились от изумления. – Мишеля! – пораженно повторил он. – Сына Мэйнотта! То дело… да, оно никак не хочет уходить в прошлое! Затем, стараясь избавиться от какой-то докучливой мысли, спросил: – Ты мне назвала только четверых, Фаншетта. Так кто же пятый шакал? – Ваш исповедник. Ей показалось, что больной сейчас вскочит с постели, так сильно он был потрясен ее ответом. – Они решились на это! – выкрикнул он, задыхаясь от возмущения. – Посмели рисковать моим вечным спасением? Графиня, изумленно созерцавшая его волнение, подумала про себя: «А ведь он и впрямь надеется обвести Бога вокруг пальца!» – Пойти на такое! – продолжал возмущаться старец, и голос его слабел, по мере того как росла злость. – Единственное злодейство, которому нет прощения: святотатство! Втянуть меня в святотатство! Ах, мошенники, будь они прокляты! Ну и компания собралась; герцог, бессердечный распутник; лорд, карманный воришка, и доктор, круглый невежда! Про твоего муженька, мерзавца чистой воды, и говорить нечего!.. А я… я молодец, что не все священнику выложил. Тайна осталась при мне! Слава Богу! Бог есть! Я всегда верил в Него, и теперь знаю, что Бог есть! – Значит, все-таки имеется тайна? – спросила графиня, и глаза ее хищно блеснули. Гнев полковника поутих, он окинул внучку сумрачным взглядом. – Конечно, имеется, – торжественно, но с легким сарказмом проговорил он. – Слышала ты мое имя, то, которое я носил, когда предводительствовал над всей Каморрой? – Да. – Это имя звучало громко. Но его не напишут на моей могиле. А слышала ты что-нибудь о талисмане из монастыря? Женщина молчала, но глаза ее разгорелись. Старец поднес руку к своим векам, словно желая убрать пелену, мешавшую ему прочитать взгляд графини, затем рука его бессильно упала вниз, и он пожаловался: – Я совсем перестал видеть. Не смог распознать обманщика, укравшего мою исповедь! Но они не получат тайны. Только один человек остался мне по-настоящему верным. Приятель-Тулонец не участвовал в их подлом деле. Он мой воспитанник. Я передам талисман ему. – Это он привел обманщика, укравшего вашу исповедь, – сухо заметила графиня. – Не серди меня, девочка, – сказал старец, тускло блеснув глазами, – это подрывает мои силы, не забывай, что я все-таки твой дед. Он сделал жест, хорошо знакомый графине: она тут же взяла со стола пузырек и, накапав микстуры в серебряную ложечку, поднесла к губам больного. – Ты любишь меня, Фаншетта, – признал он, выпив лекарство. – Спасибо. – Я люблю вас, дедушка, – ответила графиня. – Если Хозяином станет Тулонец, он погубит меня. – Ты – женщина. Тебе не годится быть Хозяином. – Посмотрите на меня хорошенько. Гибкая и мускулистая, она выпрямилась во весь рост, величественная, как королева. Старец, выразив восхищение кивком головы, одобрительно произнес: – Ты и вправду сильнее любого мужчины! Но… время пока что есть. Вероятно, под действием лекарства изможденные щеки больного порозовели. Казалось, он слышит какой-то шум, не доходивший до его собеседницы; заблестевшие глаза его обежали комнату, поочередно останавливаясь на трех закрытых дверях, и внимательно осмотрели окно. – Они уже вышли из-за стола, – объявил он. И в ответ на вопросительный взгляд графини приказал: – Иди проверь. Она повиновалась беспрекословно. Во время ее отсутствия сестра, дежурившая в соседней комнате, подошла к порогу и окинула постель внимательным взором. Больной следил за ней, полуприкрыв глаза. Графиня вернулась и, сев возле его кровати, сообщила тихонько: – Они ушли. Губы полковника скривились в горькой улыбке. Он сделал ей знак приблизиться и произнес очень быстро и очень отчетливо: – Они здесь… я их почуял… я их вижу сквозь двери, за каждой створкой по хищнику и за окном тоже – я слышал на балконе шаги. Не шевелись… не смотри туда… будь осторожна: если они узнают, что я шепчу тебе на ухо, ты будешь убита. Графиня, видимо, тоже не сомневалась в этом – по телу ее пробежала дрожь. – Они пытаются обмануть друг друга, – продолжал полковник. – Такая порода. Союз между ними подорван беспрерывной враждой, кабы не это, не было бы предела их могуществу… Все они сделали вид, что уходят, и вернулись крадучись. Боятся упустить мой конец… – Но они просчитались, дедушка, – сказала в ответ графиня, удивленная явными симптомами возвращения жизни в тело и сознание больного. – Вам стало гораздо лучше. – Не пройдет и четверти часа, – холодно объявил полковник, – как я буду мертв. Все переходит к тебе, Фаншетта, все: тайна Черных Мантий, талисман и ключ от сокровищ. Ты зарумянилась, твои глаза заблестели – ты не любишь меня! Будет ли завтра день? Для меня не будет, во всяком случае, здесь. Впрочем, как знать? В то место, куда я ухожу, ничего не возьмешь с собой… Куда я ухожу? Он слегка вздрогнул всем своим укрывшимся под простыней худым телом. Голос его оставался отчетливым, но спокойствие уступало место глухому отчаянию. Глаза потерянно и тускло глядели из глубоких впадин. – Будет ли завтра день? – повторил он. – Воспоминания прошлого накатывают на меня потоками. Мои глаза были зорче, чем у орла, мой голос перекрывал шум ручьев, там, в наших горах, где тысячи воинов Каморры склоняли свои гордые головы только передо мной! Мы побивали целые армии… «Будет ли завтра день?» Знаешь ли ты, откуда пришла эта фраза? Она была когда-то воинственной и веселой, она обещала риск и добычу. На этот вопрос моих тайных подданных всегда отвечал я сам. После недель роскошных ночных пиров в наших подземных жилищах приходила пора вернуться к свету и битвам. Будет ли завтра день? Будет кровь и золото? Услышим мы песню пороха? Перекинем ли через седла белокожих пленниц с растрепанными волосами?.. Да, говорил я, завтра будет день. В ответ раздавался нескончаемый крик радости. Женщины казались еще прекраснее, и вино еще больше горячило кровь. И я никогда не обманывал! На следующий день мы выходили на свет. Мои черные рыцари рыскали по горным дорогам, а самые дерзкие добирались и до городов… И было одно имя, мое, которое грохотало громом… Голос старца слабел, обессиленный внезапным волнением. Графиня схватила его за руку. – Дедушка, вдруг вам не хватит времени! Он поглядел на нее потухшим взором. – Будет ли завтра день? – повторил он еще раз. – Я не знаю. Никому не дано этого знать. Я верю в Бога, но можно и ошибиться. Я славно пожил – чуть ли не сто лет! Может, сыщется для меня дело и за гробом, посмотрим… Не бойся, девочка, я успею сказать все. Не может быть, чтоб не хватило минуты в конце такой долгой жизни! Талисман перейдет к тебе, ты будешь богата, ты будешь любима. Пригнись-ка ко мне пониже… будто ты целуешь меня от всего сердца. Вокруг моей шеи шнурок, перекуси его зубами, и талисман твой. Как сверкают твои глаза! Поцелуй меня еще раз, хоть ты и не любишь меня! – Талисман у меня, – сообщила графиня хладнокровным тоном. – Значит, поцелуя не будет. Тайна Черных Мантий в этой ладанке… Она приложилась губами ко лбу полковника. – Спасибо, ты очень щедра! Что касается денег… Да, деньги, пришлось же мне из-за них потрудиться! Слушай: груша совсем созрела в доме Шварца, я, может быть, еще полюбуюсь на это дело – мое последнее. Больше мне не перепадет ничего… Я уже сказал тебе, где укрыты сокровища Каморры?.. Нет?.. В развалинах монастыря… ты их найдешь в… Тело старца сотряслось крупной дрожью. – Я их найду… где? – взволнованно допытывалась графиня. Полковник не отвечал. Глаза и рот его были широко открыты. Она проверила сердце и, перекрестившись, сняла со стены маленькое эбеновое распятие. Положив его на одеяло, поверх груди усопшего, графиня твердым шагом вышла из спальни и объявила монахине, дежурившей в соседней комнате: – Сестра моя, полковник Боццо-Корона мертв. Через минуту ее карета бесшумно катила по устилавшей мостовую соломе. В тот самый момент, когда монахиня поднялась, чтобы войти в комнату покойника, чья-то рука, обернутая шелковым носовым платком, разбила стекло в выходившем на балкон окне и, просунувшись внутрь, сдвинула шпингалет. Рука орудовала умело и ловко. Окно раскрылось – человек в маске впрыгнул с балкона в комнату. Он подбежал к кровати и, сорвав верхнюю пуговицу с рубашки покойного, широко распахнул ее, открыв грудь и плечи. В то время как он проворно и со знанием дела выполнял эту работу, три плотно закрытые двери начали легонько приоткрываться: две из них впустили по два человека каждая, в третью вошел лжесвященник. Это были недавние сотрапезники, догадка умершего полковника подтвердилась в точности. Все пятеро были вооружены. Четвертая дверь, ведущая в комнату, где постоянно бодрствовала сиделка, тоже открылась, обнаружив присутствие вовремя подоспевшего слуги с монашескими повадками. Все собравшиеся с немалым любопытством наблюдали за действиями человека в маске. Тот, завершив осмотр, гневным жестом отбросил простыню на лицо покойника. Публика отозвалась дружным смехом. – Ты припоздал, Приятель! – низким голосом проговорила монахиня. Человек в маске выпрямился, не выражая ни растерянности, ни испуга. Скрестив на груди руки, он обвел взглядом присутствующих. Они приблизились и сомкнулись вокруг него кругом. Среди них обращал на себя внимание юноша, похожий на портреты короля Людовика XV и несколько по-женски красивый – густые черные кудри обрамляли нежное, изящного рисунка лицо: это – герцог. Рядом с ним молодой человек с рыжеватыми, причесанными на английский манер волосами – все его называют милордом. Мужчина лет сорока с энергичным лицом и холодным взглядом, одетый с подчеркнутой благопристойностью, – доктор, окружающие поглядывают на него опасливо. Затем идут два итальянца: граф Корона – с лицом падшего ангела и с явными признаками деградации во всем облике, и лжесвященник, с физиономией потрепанной, но дьявольски смышленой, на которой еще заметны остатки мастерски нанесенного грима, сумевшего ввести в заблуждение потухающие глаза полковника. И наконец странную эту компанию дополняли монахиня, красивая девица с хриплым голосом и нагловатым смехом, и старый слуга, по закоренелой привычке продолжавший даже среди своих хранить ханжеский вид. – Я вас всех поджидал здесь, – нашелся что сказать человек в маске. – Приличие требует, чтобы Высокая Ложа Черных Мантий в полном составе собралась вокруг смертного одра Отца. – Троих не хватает, – возразил доктор. – Нас, посвященных первой степени, двенадцать, включая Хозяина. – Хозяин – я! – объявил человек в маске. – Вместе со мной нас теперь одиннадцать. Отсутствуют Фаншетта, господин Брюно и Трехлапый. О Фаншетте разговор особый, господин Брюно мне подозрителен. Трехлапый – мой раб. Можно начинать совещание. При словах «Хозяин – я!» присутствующие зароптали, но человек в маске, не обращая на это никакого внимания, продолжал: – Погребальная церемония будет проведена с пышностью, подобающей событию такой важности. Явиться должны все: не только вы, но и посвященные второй степени, и рядовые члены нашего братства. Завтра будет день – наша могучая организация среди бела дня явит себя взорам профанов. – Однако какова речь! – со смехом воскликнул граф Корона. – Неужто чтобы прочитать нам такую проповедь, надо было прыгать в окно, Приятель? – Да еще в карнавальной маске, – захихикала монахиня, уже избавившаяся от грубого монашеского одеяния и наводившая в своей внешности порядок перед зеркалом. – Я знал, что дело не обойдется без последнего визита графини, – ответил человек в маске и, адресуясь к графу, добавил: – По этому поводу отчет надо бы спросить с тебя. Корона огрызнулся, пожав плечами: – Не будь этого чертова Отца-Благодетеля, я бы сделал себя вдовцом на следующий день после свадьбы. – Было что-нибудь интересное на исповеди? – спросил человек в маске у лжесвященника. – Признался в нескольких милых шалостях, а насчет крупных дел – ни-ни! Умер, как святой, честное слово! – Это был Человек, это был Благодетель! – напыщенно продекламировал Приятель-Тулонец, словно погребальная церемония уже началась. – Братья мои! – торжественным тоном продолжил он. – Вы, кажется, полагаете, что я припоздал. И в каком-то смысле это действительно так: я припоздал, чтобы отвоевать причитавшееся вам. Но причитавшееся мне я получил: несколько дней тому назад Отец передал мне из рук в руки талисман с тайной Черных Мантий и изрек свою последнюю волю. – Что ты искал у него под рубашкой, если талисман у тебя? – жестким тоном задал вопрос доктор. – Покажи талисман! – потребовал граф. – Я покажу талисман на ассамблее, которая будет созвана для знакомства с наследником Отца, там же я объявлю его последнюю волю и расскажу подробно о той огромной операции, которую он задумал перед своей смертью… это могу сделать только я. У вас есть какие-то возражения? – Что ты искал под его рубашкой? – повторил свой вопрос доктор. – Я искал конверт, предназначенный мне, но я его не нашел. Отец отдал мне талисман – тайна должна принадлежать только одному человеку. А сокровища предполагалось разделить между всеми вами, но, как известно, у умирающих свои причуды: старик ни в какую не хотел расстаться с ключом от клада при своей жизни – распроститься с золотом не так легко. – Это верно, – заметил лжесвященник, – он питал слабенькую надежду пожить еще. – Я искал ключ и пояснительное письмо – оно должно было ввести вас во владение наследством. Но вы и сами видели, что у его постели до меня побывала женщина. Мы следили за ней, это правда, но в жилах ее течет корсиканская кровь: она отважна, ловка и коварна… Заметили вы один интересный момент… графиня низко склонилась, чтобы поцеловать старика? – Верно, – зашумели вокруг, – момент подозрительный. – Эта женщина всегда выступала против нас, даже когда была ребенком. – Верно! Верно! Ее родители тоже старались держаться от нас подальше! – Эта женщина украла ваше богатство, чтобы отдать врагам, отняла у вас наследство, которое сразу сделало бы вас богатыми. Отец мертв, и ей некем больше прикрыться от нашего наказания. Эта женщина должна умереть. Семь голосов дружно подтвердили справедливость приговора: – Да будет так: она должна умереть! Граф Корона, разразившись циничным смехом, добавил: – Я ревнив. Прошу не вмешиваться в это дело – я с ней управлюсь сам. XXVIII АГЕНТСТВО «Агентство Лекока», чей знаменитый порог мы наконец-то переступаем, производило богатое впечатление и пахло деньгами: не теми деньгами вроде ренты, что являются периодически, подобно приливу, создавая интерьеры чистенькие, благопристойные и блистающие порядком, а деньгами капризными, артистическими, добываемыми то тут, то там разными способами, деньгами от комбинаций, махинаций и спекуляций, что называется, деньгами шальными, какие водятся у азартного игрока. Как бы далеко ни отстояло от нас царствование Луи-Филиппа, совершенно очевидно, что уже в те времена Париж, город богатый, нарядный, плутоватый и чрезмерно изобретательный, умел гнать деньги из самых разнообразных фривольных промыслов. Рекламные объявления, этот барометр цивилизации, появились уже тогда; вовсю процветали свадебные конторы и бюро знакомств. За двухстворчатой дверью, украшенной вывеской «Агентство Лекока», располагалась обширная передняя, оборудованная под канцелярию и разделенная в ширину на две равные части, одна из которых предназначалась для публики, а другая Для служащих, защищенных решеткой и шелковыми зелеными занавесками. Комната походила на вестибюль второразрядного банка или на контору биржевого маклера. Хотя было воскресенье и отбило уже девять часов вечера, за шелковой занавеской слышались голоса, там, видимо, продолжали усердно трудиться. За конторой следовал салон, обставленный спокойно и с претензией на благородство: пунцовый бархат и лакированное красное дерево, часы, украшенные философическим сюжетом, богатые канделябры не очень удачной модели, потертый абиссинский ковер, круглый столик с разбросанными политическими брошюрами, огромный рояль, картины в дорогих рамах. Все было рассчитано на то, чтобы ослепить посетителя. Освещенный безрадостным светом настольной лампы салон пустовал. Трудно одним словом определить физиономию кабинета, который шел за салоном. Он был большого размера и вида вполне официального, но хранил устойчивый запах трубочного табака. В 1842 году трубка не занимала в свете того высокого положения, что ныне, наши нравы еще подлежали отшлифовке. Запах табака респектабельным не считался, но зато раскиданные повсюду груды важных бумаг, элегантного вида папки, мебель, строгая и внушительная, придавали кабинету поистине министерскую солидность. В таком месте работают по-крупному – это сразу бросалось в глаза. Над чем работают? Пожалуйста, полюбуйтесь, если угодно: все на виду и никаких тайн – на письменном столе цилиндрической формы валяются в беспорядке чуть ли не поэтическом официальные бумаги и даже распечатанные письма. Полное отсутствие предосторожностей, разумеется, свидетельствует о честности: те, кому нечего прятать, внушают доверие. С другой стороны, подобная, демонстрирующая христианскую праведность, небрежность, может сослужить агентству плохую службу – ведь оно занимается чужими делами. Успокойтесь: агентств, не умеющих хранить тайны, не бывает. Скрытность – первейшее условие этого ремесла. Глава такой фирмы – исповедник, его кабинет – могила. Попробуйте этот кабинет обыскать, переверните его вверх дном, вы не найдете ничего существенного, разве что клюнете на наживку, приготовленную специально для такой рыбки, как вы. Невинного вида кабинеты существуют в таких агентствах для отвода глаз, настоящие же дела творятся в других, более интимных помещениях, недоступных для широкой публики. Дела сложные и запутанные, которые не по зубам учреждениям официальным, разрешаются в таких вот безвестных конторах, не претендующих на отличия и дипломы. Лампа на камине, парная с той, что горела в салоне, освещала полуоткрытую дверь в будуар, предназначенный для приема дам. Будуар изо всех сил старался казаться кокетливым, тем не менее аромат трубочного табака царил и здесь. В те времена курить при дамах считалось дерзостью, значит, фавн, обитавший в этих пещерах, считал себя вправе не соблюдать стеснительных приличий. Стены будуара украшали галантного жанра картины, в том числе две уменьшенные репродукции Прадье; на столике розового дерева, инкрустированном медью, расположились модные журналы и искусно выполненные литографии Гаварни; вазы были наполнены цветами; свободно ниспадающие бархатные шторы прикрывали окна. Имелось, разумеется, и необходимое количество входов и выходов, чтобы дамы отбывающие не столкнулись ненароком с дамами прибывающими. Увы! Такого будуара не было в агентстве у Эшалота! Там не было ни прихожей, ни служащих за зеленой шелковой занавеской, там не было ни салона, ни будуара..Симилор, блистательный, но бесполезный, приносил вреда больше, чем пользы, разве что Саладен, хоть и разводивший в мансарде много дополнительной грязи, мог все-таки сойти за единственный предмет роскоши. Эшалоту всегда не хватало тридцати пяти франков, чтобы заработать по-крупному! Будуар был последним официальным помещением «Агентства Лекока». Маленькая площадка черной лестницы отделяла его от столовой, с которой начинались личные апартаменты шефа фирмы. Спальня господина Лекока, выдержанная в гиперанакреонтическом стиле, тоже выходила на эту лестничную площадку. По слухам, он вел весьма бурную интимную жизнь. Здесь не валялось ни единой бумажки, зато имелись хитроумные папки со многими степенями защиты в выдвижных ящиках с тройным секретным замком, имелся сейф, настоящий шедевр фирмы «Бертье и К0», снабженный петардой. Именно здесь, в этом храме, господин Лекок выполнял наиболее таинственную часть своих обязанностей. Секреты дам и господ покоились в полнейшей безопасности до тех пор, пока он не находил нужным вытащить их на свет божий. Жизнь – это битва. Когда-то, чтобы проложить себе дорогу в схватке, требовалось оружие жестокое и громоздкое. Ныне старенькая Европа, ревматичная и подагрическая, не жалует тяжелой боевой оснастки. Изобретение фармацевтической дуэли пришлось по вкусу многим домоседам, но драка на пилюлях вызвала неудовольствие закона, а также медиков, настаивавших на том, чтобы отравления совершались только по предписанным ими правилам. Где же искать оружие для ведения современных битв? В «Агентстве Лекока», если вам угодно. Фирма снабдит вас необходимой информацией: можете мне поверить, что информация, с толком употребленная, куда опаснее, чем три или четыре револьвера. Прежняя война уходит в прошлое, это ясно. Тем лучше! Завтра, когда война отпляшет свою последнюю джигу, мы проведем смотр дипломатического оружия. Господин Лекок был настоящим дипломатом. Он организовал в Париже первую контору по поставке информации. Он принадлежит истории и среди великого множества эпигонов выделяется своим масштабом. К нему, видимо, обращался и сам стоглазый Аргус, когда к старости у него подупало зрение, даже полиция не гнушалась скупать у него кое-какие слушки и слухи. Можно было, конечно, ожидать большей роскоши в доме человека столь значительного, однако контора его располагалась в квартале богатом, но завистливом и бесцеремонном, где следовало избегать излишней роскоши. Денег зарабатывалось гораздо больше, чем тратилось: в противоположность банкирским домам здесь было нежелательно афишировать свое богатство. Давно уже не доводилось нам видеть господина Лекока лицом к лицу. Мы частенько упоминали его имя, и читатель уже осведомлен о том, что бывший коммивояжер знаменитой фирмы «Бертье» успел проделать блистательную дорогу, но любопытно и поучительно приглядеться к тем превращениям, которые произвело время в богатой натуре. Столь неординарная юность вызревает богатыми плодами. Потому не без чувства законной гордости мы представляем читателю нашего преображенного героя: господин Лекок де ла Перьер, кавалер многих орденов. Он оставил далеко позади себя оболочку коммивояжера, блистательного, но подпорченного дурным вкусом, пропитавшим этот социальный слой. Господин Лекок не сохранил ничего от тех весьма примечательных манер, которые Комеди Франсез так удачно выставила в карикатуре: он не потряхивал жабо, не крутился на каблуках, не щелкал пальцами. Нагловатость превратилась у него в уверенность, грубость выглядела прямотой, а склонность к фанфаронсту – значительностью: сущность его оставалась прежней, но формы проявления ее утончились и облагородились. Господин Лекок просто-напросто сделался прочищенной квинтэссенцией того удачливого молодца, которого мы впервые встретили в дешевенькой гостинице города Кана. Теперь он переместился в роскошную квартирку и в собственной спальне занят доверительной беседой не абы с кем, а с самим маркизом де Гайарбуа. Птица высокого полета: человек сановный и влиятельный, связанный с министрами и даже со двором, по слухам, сумевший очень дорого продать власти, почти королевской, свое прошлое вандейского[23] заговорщика. Господин маркиз и господин Лекок находились в отношениях довольно тесных, это было видно сразу. Маркиз курил сигару и попивал shot ale[24], удобно развалившись в кресле и поместив ноги в отлакированных, как китайский столик, ботинках на каминную решетку. Господин Лекок, полулежа на козетке попивал shot ale и курил большую албанскую трубку с янтарным чубуком. Выбор напитка удивлять не должен: пиво – универсальное питье для курящих, будь то простые мужики или принцы. Господин Лекок имел на себе черный бархатный халат, подбитый вишневым атласом и подпоясанный золотым шнуром. Мы знаем, что ему перевалило за сорок, но он сохранился отменно и выглядел молодым человеком, несмотря на вызванные веселостью нрава морщинки, веером расположившиеся в уголках светлых глаз. Черты лица его высечены твердо, особенно римской формы нос; каштановые, с рыжим отливом волосы курчавятся над высоким лбом: брови светлее волос; взгляд с прищуром; рот большой, энергичный, с саркастической складкой у губ; бороды не носит. Особенно молодой казалась его фигура, гибкая и сильная. С первого взгляда на него становилось ясно, что он большой весельчак и гуляка. Маркиз, лет на десять постарше хозяина, бывший красавец, хоть и поистрепанный жизнью, все еще выглядел достаточно импозантно. Вполне вероятно, что волосы он не красил, хотя такое подозрение возникало, ибо борода и усы его тоже были черны как смоль. Сразу было видно, что это человек высокопоставленный и светский, несмотря на то сомнительное место, куда его занесло. Преувеличенная небрежность, которую он на себя напустил, не могла скрыть изысканности его манер, особенно явственно проступающей по сравнению с развязными повадками господина Лекока. Одет он был элегантно и с благородной простотой, отличающей людей высшего света. И еще одна деталь: высокомерно взирающие на окружающих глаза господина маркиза, черные, раскосые, с большими темными кругами, изредка, словно принуждаемые какой-то неодолимой силой, клонились долу, но он преодолевал себя и возвращал взгляду необходимую дозу самоуверенности. В тот момент, когда мы проникли в сей тайный храм, беседующие как раз заканчивали легкую передышку, перед тем как приступить к продолжению серьезного разговора. Господин Лекок отвел от своих губ трубку со словами: – Черные Мантии у меня в кармане, и если префект захочет, я их ему уступлю не очень дорого. Маркиз хранил молчание, пуская под потолок огромные клубы дыма. Господин Лекок отложил трубку и снял со стены похожее на рожок слуховое устройство из слоновой кости. Два зеленых провода, гибкие по-змеиному, шли по стене в противоположных направлениях. Господин Лекок поднес рожок ко рту и дунул в раструб. Ответив вздохом, рожок свистящим звуком объявил о готовности слушать. Приблизив его к губам, он тихонько спросил: – Трехлапый вернулся? – Еще нет, – ответили из раструба. Долгим вздохом вздохнул другой рожок. Господин Лекок тотчас же приложил его к уху и получил следующее сообщение: – Кокотт и Пиклюс ждут. XXIX ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ГОДИТСЯ Сообщение о Кокотте и Пиклюсе не произвело на могущественного Лекока должного впечатления: оставив его без ответа, он небрежно отбросил рожок и снова взялся за свою албанскую трубку. Маркиз не уловил ничего из состоявшегося на его глазах обмена вопросами и ответами. – Наделали эти Черные Мантии шума! – заметил он после молчания. – Пресса ими увлечена, и наверху беспокоятся. – Шума они действительно наделали, – пожав плечами, согласился Лекок. – Но если префект пойдет мне навстречу и мы сговоримся, я позволю ему их сокрушить. – Я не уполномочен заниматься делами господина префекта, – кислым тоном ответил маркиз. Господин Лекок оценивающе поглядел на него сквозь дым и не без иронии произнес: – Ясное дело, не уполномочены. Местечко хорошее и вполне вам по силам… Я уже думал об этом. – О чем? – О префектуре полиции для вас. Маркиз убрал ноги с каминной решетки, переместив их на пол, и обеспокоенно промолвил в ответ: – Только без глупостей. Мне эти люди нужны. – Неужели они предел ваших амбиций? – презрительно поинтересовался Лекок. – А ведь в вашем славном роду были и крестоносцы! Маркиз собрался было что-то ответить, но рожок, объявивший о прибытии Кокотта и Пиклюса, вздохнул снова. Лекок небрежно приблизил его к уху. – К вам в башню кое-что поступило, – сообщили оттуда. Он тотчас поднялся: нажав кнопку, отворил маленький стенной шкафчик с одной створкой и вынул оттуда картонную коробку и большой конверт, который сразу же распечатал, пробормотав извинение: – С вашего разрешения… Браво! – вскричал он, бросив взгляд на содержимое конверта. – А к вам все еще благоволят При дворе, господин маркиз? Надеюсь, – пробурчал тот с демонстративной холодностью. Господин Лекок открыл картонную коробку, и, углядев там кусок воска, еще раз выразил одобрение: – Браво! Маркиз, стряхивая пепел с сигары, заговорил: – Дружище, я упомянул Черные Мантии просто так, мимоходом. Нельзя сказать, чтобы у вас были так называемые враги в министерстве или даже в префектуре полиции. Но, поймите меня правильно, положение ваше неопределенно, хотя вы делаетесь все заметнее… Во всех странах, где имеется администрация, вопрос полномочий ставится довольно остро. Пусть вас это не огорчает, но… – Меня это не огорчает, – отрезал Лекок. – Ваши министры и ваша префектура нужны мне как прошлогодний снег! – Вы можете не огорчаться и хорохориться сколько угодно, – ответил маркиз, – но все-таки, по моему мнению, неосторожных выходок вам следует избегать. Господин Лекок внимательно изучал присланный документ, время от времени бросая взгляд на вынутый из коробки кусок воска. – Есть такой малый по кличке Пиклюс, – заговорил он наконец, – который служит мне вернее пса только за то, что время от времени я бросаю ему обглоданную кость со своего стола. Этого парня я не променяю на полдюжины ваших чиновников, получающих по двадцать тысяч франков в год… В чем дело? Мне собираются чинить помехи? Прошу вас говорить откровенно! – Дорогой мой господин де ла Перьер, – отвечал маркиз, стараясь сохранять дистанцию, – нет ничего опаснее, чем пытаться обвести вокруг пальца такого человека, как я. Мне так и не довелось узнать истинной подоплеки вашей деятельности. Если бы я ее знал, я мог бы быть вам гораздо полезнее. Господин Лекок восхищенно созерцал клочок бумаги, исписанный отчетливым почерком нашего друга Пиклюса. Усмехнувшись, он взял кусок воска и, внимательно исследовав его, пробормотал: «Кокотт тоже славный мальчик!» Слуховой рожок, расположенный слева от него, снова задышал и сообщил в подставленное ухо: – Барон Шварц ожидает вас в кабинете! – Через несколько минут я к услугам господина барона, – пообещал Лекок в раструб и, повернувшись к маркизу, без обиняков объявил: – Вы полезны мне точно настолько, насколько я этого желаю. Заметив, что обидчивый дворянин покраснел от злости, он почел нужным разъяснить: – Есть один пункт, насчет которого мы должны договориться с вами раз и навсегда… Что там еще? – раздраженно прервался он, хватая нетерпеливо посвистывающий рожок, который доложил: – Баронесса Шварц ожидает вас в будуаре! Разразившись смехом, Лекок ответил: – Через несколько минут я к услугам госпожи баронессы! – Счастливчик! Вас посещают баронессы да еще в такое позднее время, – игриво заметил маркиз, ухватив на лету последнее слово. Господин Лекок вместо ответа повторил: – Так вот, есть один пункт, насчет которого мы должны договориться раз и навсегда: без всякой обиды вы должны довольствоваться тем, во что я могу вас посвятить. Мне пришлось вращаться в таком мире, о каком вы понятия не имеете, и свой богатый опыт я вовсе не намерен терять. У меня нет ни малейшей претензии стать выше вас или хотя бы сравняться с вами. Мы с вами делаем дела, для этого нам обоим необходимы связи. Дорогой маркиз, по необходимости я вынужден поддерживать отношения с людьми, стоящими очень низко на социальной лестнице, в плане дружеском я общаюсь с людьми своего круга и наверх не рвусь. Я – господин Лекок, если угодно – де ла Перьер, на чем не настаиваю, занимаюсь предпринимательством, ни больше ни меньше. Мне очень важно точно знать, что происходит в министерствах и префектуре, так как мною затеяны предприятия смелые и… огромные. Вы один из тех, кто поставляет мне отменную информацию, и я это учитываю. Но чтобы опасаться каких-то там министров или префектуры – увольте. Если они вздумают атаковать меня, это будет мне только на руку: я подсчитал, что подобное остолопство сделает мне рекламы на сто тысяч экю. Надеюсь, теперь вам ясно, как обстоят дела? Речь эта была произнесена спокойно и вразумляюще, чуть ли не отчеканена по слогам. Маркиз бросил в огонь сигару и, вставая, сказал: – Приходится принимать вас таким, каков вы есть. – Позвольте, – остановил его хозяин, – вы куда? Мы еще не закончили. – Госпожа баронесса заждалась, – фривольным тоном напомнил маркиз, чтобы разрядить обстановку. Зажав между большим и указательным пальцем реляцию, полученную от Пиклюса, господин Лекок попытался успокоить себя словами: – Не думайте, что я собираюсь втянуть вас в какую-то спекуляцию, хотя моя идея может принести много денег. В каждой хорошей идее скрыты деньги. Будьте добры сесть и дослушать меня. Маркиз повиновался. Слово «деньги» заставило его навострить уши. – У меня деятельная натура, – продолжал господин Лекок. – Планы так и бурлят в моей голове. Я затеваю много всяких дел, может быть, слишком много… впрочем, нет, я не разбрасываюсь, а просто пытаюсь разными способами выполнять одну и ту же работу. Нам многое предстоит обсудить в этот вечер, и вам, вероятно, покажется, что мы говорим о не связанных между собой вещах, но уверяю вас, речь пойдет об одном только деле, причем огромном. Хотите вы поприсутствовать завтра или самое позднее послезавтра на курьезнейшей церемонии? – На какой? – На похоронах предводителя Черных Мантий. – Вот как! – изумленно вскричал маркиз. – Значит, они все-таки существуют, Черные Мантии. – Конечно, существуют. Человек, который только что умер и которого вы имели честь лично знать, командовал двухтысячной шайкой бандитов в Париже. – В Париже! Две тысячи бандитов! – Да, мужчины, женщины, дети, я не преувеличиваю. Впрочем, вы увидите сами. – И вы можете назвать имя этого человека? – Могу. Полковник Боццо-Корона. – Полковник умер? – Час тому назад. Отошел в мир иной праведником. – И вы выдвигаете против него обвинение? – Вот еще! Для этого требуются амбиции, а их у меня почти нет, так, самая малость, которая подсказывает мне, что господину Лекоку нечего в этой истории делать. – Но если полковник… – Полковник? Почтеннейший человек, не правда ли… Мои визитеры, кажется, начинают выходить из себя! Оба рожка застонали одновременно. Маркиз принялся за пиво, в то время как хозяин говорил со своими невидимыми собеседниками. Голова у маркиза шла кругом не от сигарного дыма и не от пива, а от тех головокружительных скачков, что позволял себе Лекок в разговоре. – Я как раз занимаюсь делом госпожи баронессы! – заверил Лекок рожок, расположенный справа от него, и столь же чистосердечным тоном заверил левый раструб: – Я как раз занимаюсь делом господина барона! И, улыбнувшись своему собеседнику, добавил: – С помощью этой простенькой формулы, дорогой мой, можно выиграть добрую четверть часа, даже имея дело с нетерпеливцами. Как только скажешь даме или господину: я занимаюсь именно вами, буря стихает, и самые бесноватые становятся мягкими как шелк. Секрет профессии. Ко мне люди приходят за помощью, и надо уметь обнадеживать их. К тому же я вовсе не лгу: занимаясь вами, собой и тысячью других вещей, я одновременно занимаюсь и теми, кто меня ждет сейчас. Чтобы как следует использовать оставшиеся нам четверть часа, двинемся прямо к цели: вы бы много дали за то, чтобы оказать значительную услугу общественной безопасности? – Много. – Сколько?.. Ладно, не отвечайте, цену вашей признательности я определю сам. Позвольте вас спросить: не сохранилось ли в глубинах вашего сердца старой легитимистской закваски? – Гм, – хмыкнул маркиз, скрестив ноги. – Понял. Бывают чувства и бывают выгоды. Старые чувства не мешают заботиться о новых выгодах. Наш король человек умный, философ, почти ученый… – Мы будем говорить о государственных делах? – искренне удивился маркиз. – Мы будем говорить о многом. Наше дело очень вместительно. – И о том, что вам хотелось бы стать министром? Господин Лекок одарил собеседника снисходительным взглядом. – Пока что речь идет о короле. Я бы охотно отвалил от трех до пяти сотен луидоров за то, чтобы быть принятым в Тюильри. Аудиенция может быть очень короткой, но с глазу на глаз. – Значит, вы вышли на какое-то серьезное дело! – воскликнул маркиз, и глаза его заблестели. – Однако, – продолжал Лекок, – своих луидоров я тратить попусту не люблю. Для всех, кто общается со мной, дорогой маркиз, гарантией может служить одно мое неизменное качество: я вовсе не филантроп. У меня нет никакого желания добывать богатство для вас, но добывая для вас богатство, я выигрываю очко для себя. Вы можете этим воспользоваться, если хотите. – Хочу, – проворчал маркиз, – чтобы хоть раз в жизни вы выражались человеческим языком. Я ничего не могу понять. – Я объясню, хотя для этого придется прибегнуть к алгебре. У меня нет патента, и осторожность не повредит. Я хочу сказать, что наш король, наделенный многими добродетелями, не лишен и некоторых слабостей. Среди слабостей короля наиболее заметной является его страсть высмеивать приверженцев легитимизма кстати и некстати… – Ну, это уже из высокой политики, – прервал его маркиз улыбаясь. – Это имеет касательство к нашему делу. Я сказал «страсть», и тут нет никакого преувеличения. Вот вы, к примеру, господин маркиз, пользуетесь при дворе настоящим авторитетом, только потому что притворились отступником от прежней веры… – Господин Лекок!.. – возмущенно одернул собеседника Маркиз. Позвольте продолжить. Я сказал: притворились – вы ни от чего не отреклись, это совершенно ясно. Политических ренегатов не бывает. Еще говорят: продались, но это вульгарное выражение тех, кого не покупают. Так вот, продавшиеся заговорщики никого не выдают королю, и его фанатичная вражда к легитимистам вынуждена довольствоваться тенями вместо реальности. – Надеюсь, господин Лекок, вы не собираетесь меня оскорблять? – Ни в коем случае, господин маркиз, я пытаюсь пояснить вам сущность моей идеи. Признаете вы, что главная слабость короля именно такова, как я ее описал? – Пожалуй, если вам угодно… – Да или нет? На моем деле вы можете добиться того, что от вас ускользало всю жизнь: богатства! В пристальном взгляде господина Лекока, в его хладнокровном и решительном тоне, во всем его облике, наконец, была настоящая убедительность. Маркиз де Гайарбуа, поразмышляв какое-то время, ответил с видом наставника, вынужденного отрабатывать свое жалованье: – Я могу вам дать по этому вопросу точную информацию. Король мною изучен основательно, и кое в чем вы действительно правы: он недолюбливает легитимистов, хотя старается побороть свое злопамятство. Республиканцы его беспокоят мало – он не верит в радикальную оппозицию. Более того, он верит, что радикальная оппозиция даже нужна его правительству. Во Франции любят настоящих королей. Наш король не со всем настоящий[25]. Среди его министров есть замечательные умы, и сам он достаточно умен, но между правительством и королем нет согласия по двум причинам: во-первых, король трактует политику как дело чисто семейное, как будто речь идет о процветании его собственного предприятия. Он внезапно остановился. Господин Лекок, внимавший ему с исключительным интересом, сделал поощрительный жест головой. – Золотые слова, господин маркиз. Я вижу в вас вчерашнего легитимиста… – И завтрашнего республиканца, хотите вы сказать, – прервал его маркиз, открывая портсигар. – Вы ошибаетесь: я пойду пешком или посижу дома, но омнибусом пользоваться не стану. Ладонь господина Лекока легла на руку гостя. – Я уважаю верность убеждениям, – широко улыбаясь, произнес он. – Что наш король такой и сякой, значения не имеет, на пятнадцать минут аудиенции, необходимой для моего дела, он – король. И вы совершенно правы: бельмо на глазу у короля всего одно – предместье Сен-Жермен. Так в чем же дело? У меня есть средство успокоить эту боль, я знаю, как разрубить предместье на две части. – Как? – Очень просто. Как разрубает гильотина? Голова катится в одну сторону, тело – в другую. От человека остаются два немых куска. Король не жалует выдумок. – Выдумки тут ни при чем, просто у меня широкие понятия О чести. Вернемся к Черным Мантиям. Маркиз, державший в одной руке сигару, в другой спичку, застыл от изумления и, глянув на Лекока, спросил: – Так это политическая организация? – А сколько бы вы за это дали? Гайарбуа залился краской и стал зажигать сигару, чтобы скрыть смущение. – Вы – оттуда! – отчеканил господин Лекок. В разговорном языке словечко «оттуда» перестало быть намеком, смысл его был доступен всем: из тайной полиции. Краска на лице аристократа сменилась бледностью. – Глупых профессий не бывает, – продолжал господин Лекок. – Я это понял давно. Парижский лес – мои угодья, изученные мной насквозь: я знаю всех охотников и всю дичь. В моих кущах диковинные нравы, я знаю зайцев, которые выслеживают псов… вы не поверите, мой дорогой, как много есть мошенников, способных вас переиграть. Полковник, только что почивший в бозе, в течение шестидесяти лет вертел всеми ищейками Европы. Он умер в своей постели, и я надеюсь, официальные власти почтят своим присутствием торжественную церемонию его похорон. – Вам угодно его не выдавать? Он был лучшим клиентом моего агентства и… может быть… Улыбаетесь? Ведь это я вам на него указал. Вы только и делаете, что ищете, и не находите ничего; я не ищу, но нахожу: что может быть страннее этого? Вы подумали, что это политическая организация? Да ничего подобного! Но сие вовсе не означает, что в ней не состоят политики. Именно в ней я нашел орудие, которое вас сделает префектом, а меня, если мне захочется, министром. – Ваше превосходительство, – вымолвил маркиз, сумевший придать своему тону прежнюю насмешливость, – вы так и будете до конца беседы вводить меня в курс дела параболами? – Про свое орудие я доложу вам отчетливо и ясно: это – герцог… – И герцог тоже… – Тем лучше, что и герцог тоже! Дорогой маркиз, фирма Лекокa – это паутина, раскинутая над всем Парижем с его пригородами и даже дальше. Окружность та же, что у вашей префектуры, но у вас работают наемники, которые приходят и уходят, а фирме Лекока служат преданные ребята, добывающие мне деньги. Разница большая. Поначалу я тоже не верил в таинственную организацию. Не верить – глупейшая привычка, нет ничего идиотичнее атеизма. Вера дает шанс. Однажды ветром ко мне принесло обрывок фразы, кабалистический пароль для входа в склеп: «Будет ли завтра день?» – «Будет ли завтра день?» – повторил маркиз. – Где же я это слышал? – Да повсюду! Песни и пароли быстро обесцениваются в Париже. Опасной фразой уже играют ребятишки. Но разве кинжал теряет остроту, если им играет малыш? «Будет ли завтра день?» Эту фразу я услышал от одного из малышей, она привела меня к жене банкира-миллионера, не отказывающей в свиданиях бывшему секретарю своего супруга. Черных Мантий нет, кроме тех, что у меня в руке! Однако этот самый секретарь живет в квартире вместе с парой вертопрахов, что пишут мелодрамы, а деньги занимают у маклера, торгующего старьем, маклер опекает учительницу музыки, чья мать, наполовину чокнутая, владеет боевой рукавицей. Внимание! Это вторая веха: боевая рукавица в нашей истории еще важнее, чем пароль. Притом заметьте, что учительница музыки – дульцинея бывшего секретаря, которая дает уроки дочери жены миллионера… – Черт возьми! – вскричал маркиз, вытирая пот со лба. – Что за белиберду вы несете? Я перестаю что-либо понимать, предупреждаю вас! – Это цепочка, – спокойно пояснил Лекок. – Куда она ведет, ваша цепочка? Она ведет к неожиданности, чуть ли не романической. Вы способны увлекаться шедеврами? Я иду по следу монументального ограбления. – Значит, мы удаляемся от политики? Как знать, дорогой маркиз, как знать! Я вынашиваю шедевр, это преступление распустится удивительными цветами. Оно сделает целую эпоху – ограбление с прологом, эпилогом и множеством разветвлений, и совершат его настоящие артисты, мастера своего дела: они хорошенько откормят кассу, прежде чем ее скушать. Так именно поступают гурманы с гусиной печенкой – растягивают, чтобы поплотнее набить ее трюфелями. Оно разыграется как по нотам, это ограбление, оно станет настоящей битвой, рассчитанной алгебраически, как военный маневр о предусмотренными запасными ходами. Феерическая драма! Тридцать шесть картин и сотни две персонажей! Нет, честное слово, прогресс делает большие успехи – такое ограбление по сравнению с прежними все равно что мощный локомотив рядом с заезженной почтовой клячей. И представьте себе, я видел, как оно готовилось, я присутствовал на репетициях и я осуществлю его постановку на сцене. Это мой шедевр, слышите! И одним моим словом может быть разрушена вся эта великолепная постройка. – Поберегите ее! Взгляды их встретились. Маркиз уже выдал себя невольно вырвавшимся восклицанием, Лекок буравил его испытующим взором. Затем улыбнулся и, протянув руку к заволновавшемуся рожку, ласковым тоном, но сквозь зубы сказал: – Вот вы и признались, что вы – оттуда. Он приблизил к своему уху раструб, который произнес одно только слово: «Трехлапый!» Лицо его тотчас переменилось, и он живо вскочил на ноги. – Подведем итоги, – сказал Лекок, протягивая на прощание руку маркизу де Гайарбуа. – Триста луидоров за аудиенцию у короля с последующим участием в намеченном деле, и в вашей руке конец веревки, которую я накину на шею Черных Мантий. Вам это подходит? – Мне это подходит. – Тогда я пришлю вам приглашение на похороны. Увидимся там. До скорого! XXX ГОСПОДИН ЛЕКОК В тот момент, когда господин маркиз выходил через главный вход, дверь, выходящая на площадку черной лестницы, отворилась, и в ней, дюймах в шести от пола, показалась лохматая голова калеки. Он перекинул парализованные ноги через порог, и кто-то тотчас же закрыл за ним дверь. Господин Лекок взял с дивана одну из подушек и размашисто кинул гостю. Трехлапый устроился на ней, испустив вздох облегчения. – Что-то вы поздновато сегодня, господин Матье! – сделал замечание патрон. – Ноги у меня, сами понимаете, не резвые, а беготни выпало много. Свет лампы бил прямо в лицо расположившемуся на полу калеке. Вид у него бы, разумеется, жалкий, но твердо очерченное с правильными чертами лицо, выглядывавшее из-под всклокоченных волос, имело странное выражение силы, притерпевшейся к постоянному страданию. Увидев его в эту пору и в этом месте явившимся на зов блистательного господина Лекока, трудно было отделаться от мысли о полном подчинении, если не о настоящем рабстве. Такие господа, как Лекок, умеют превращать людей в орудия для достижения своих сомнительных целей. Но в облике сидевшего на полу несчастного было нечто такое, что опровергало мысль о рабской зависимости. Смешно вспоминать льва при взгляде на эти человеческие остатки, парализованных львов не бывает, но если они бывают… Трехлапый вытер со лба пот тыльной стороной ладони и добавил: – Патрон, я очень устал! – Будь у тебя резвые ноги, – ухмыльнулся Лекок, – тебе бы тогда цены не было. Он наполнил до краев стакан маркиза пивом и протянул калеке. Тот принялся жадно пить, а Лекок сообщил, радостно потирая руки: – Полиция взяла наш след, слышишь? – Вас это забавляет, патрон? – Еще бы, старик! Тебе я могу сказать все: кроме меня, никто не доставит тебе того, что ты хочешь. Развлекает, потому что вся свора ринется меня искать там, где меня нет… но где я мог бы быть рано или поздно. Ведь партия стоит того, чтобы ее сыграть, да? – Да, конечно. У этого молодого человека действительно профиль Людовика Шестнадцатого с монеток в два су. Но он может быть только внуком, надо подыскать сына. – А ты бы не решился вырядиться в Людовика Семнадцатого, а, Матье? – Я бы решился на все по вашему приказанию, патрон, но возраст не подходит. – С какого ты года? То ли с тысяча восемьсот второго, то ли с тысяча восемьсот третьего, черт знает. Для брачных дел мне никогда не требовались документы. Он попытался игриво ухмыльнуться, а Лекок, вытянувшись на своей козетке, проворчал: – Да, было бы дело, кабы не эти двадцать лет да не твоя фигура… Твои палачи потрудились на славу: тюремщик Симон перестарался, отделывая тебя, старина! Он разразился смехом, а Трехлапый, тоже смеясь, ответил: – Точно, отделали они меня так, что лучше некуда, патрон. – А ты убивал, Матье? – внезапно спросил Лекок, не переставая смеяться. Он, видимо, решил воспользоваться подходящим моментом и вытянуть из компаньона ответ на давно интересующий его вопрос. Однако Трехлапый, не теряя хладнокровного веселья, отпарировал: – А вы, патрон? Увидев, что Лекок нахмурился, он добавил: – Вы знаете, что барон Шварц в салоне, а баронесса в будуаре? В двух шагах друг от друга! – подтвердил Лекок, внезапно развеселившись от какой-то новой мысли. – Дверь между ними закрывается только на задвижку. Интересно, на что он способен, этот эльзасский Отелло? – Баронесса знает, что он там, – ответил Трехлапый. – Она под густой вуалью. Господин Лекок приложил ко лбу кончик пальца. – Тут у меня целые миры! – горделиво и с глубоким убеждением объявил он. – Мы далеко пойдем, господин Матье, и вы обретете пару ног, если это можно обрести за банковские билеты. Кстати, насчет банковских билетов, как там обстоят дела с нашими? Трехлапый расстегнул бархатный пиджак и вынул из кармана бумажник. Пока он его открывал, господин Лекок делился своими соображениями дальше: – Пуская барон с баронессой ждут. Им надо показать, где раки зимуют. Тут сейчас разыграется любопытная сценка. Я все держу в своей голове, все! Калека протянул ему две бумажки. Лекок подошел к нему, чтобы их забрать. – Да, пускай они подождут, – поддакнул Трехлапый, – к тому же вам надо знать, что говорить, а для этого выслушайте мой рапорт. Господин Лекок не отвечал. Он разглядывал два банковских билета с чрезвычайным вниманием. – Какой из них настоящий? – спросил он. – А ты пока приступай к рапорту. Он вставил в глаз маленькую лупу, какой пользуются часовщики, и приблизился к лампе. Трехлапый, глядя на патрона посверкивающими глазами, заговорил: – Прибыв в замок, я встретил у его ворот юную Эдме Лебер. – Почему ты об этом упоминаешь? – Сейчас поймете. Господин Шварц принимал меня, а госпожа Шварц юную Эдме Лебер. – У тебя такой странный голос, старина, когда ты произносишь это имя «юная Эдме Лебер», – заметил Лекок, не отрывая глаз от банковских билетов. – Еще бы! Такое прелестное существо! У меня парализованы ноги, а не сердце. – Ну что ж, эти купюры не отличить друг от друга. А ты все еще продолжаешь разыгрывать с графиней Корона сказку «Красавица и чудовище»? – Я люблю женщин! – несколько напыщенно ответил Трехлапый. – Я тоже! – сказал Лекок, скрывая улыбку. – Странный ты все-таки тип, господин Матье! Похоже, ты был изрядным весельчаком, когда пользовался ногами. – Я и без ног продолжаю оставаться изрядным весельчаком, – сухо заметил калека. – Купюры вам подходят? – Думаю, в банке ничего не заметят. Надо печатать, и быстро! – Уже приступили. Я дал чек заранее. – Браво! На это, старина Матье, можно купить целый сераль! – На это? Вы что, собираетесь со мной рассчитаться… – начал Трехлапый кислым тоном. – Как ты, однако, недоверчив! – возмутился Лекок, не теряя самодовольства, составлявшего его силу. – Мой план – настоящий шедевр, мы не будем отступать от него. Знаешь, бывает такая охота, когда живых птиц приманивают на чучела? Я, как и ты, не питаю пристрастия к фальшивомонетчикам. Жалкая профессия! Сколько можно напечатать за двадцать четыре часа? – Два миллиона в день. Если постараться. – За три дня шесть миллионов. В среду я пристрою все, что мы отпечатаем… Докладывай дальше! – Во время беседы с бароном я обронил словечко о том самом деле… – И он сразу же примчался сюда! – Примчался он по другому поводу… хотя он бледнел и трясся, когда я говорил о Кане, о разорившемся банкире, о бывшем комиссаре полиции и о полковнике… – Что он сказал? – Ничего. Расспрашивал меня о графине Корона. – И что ты ответил? – Ничего. Я отчитываюсь только перед вами. Сюда барон Шварц примчался, потому что он, словно воришка, сделал слепок с ключа от секретера жены. Господин Лекок, погладив картонную коробку с присланным куском воска, вполголоса пробурчал: – Слепки на меня так и посыпались. А во весь голос сказал: – На него похоже. А ты как узнал об этом? – Узнал. – И не хочешь сказать как? – Не хочу. – Почему? – Потому что своим узнаваньем я зарабатываю на хлеб. – Верно. А баронесса с чем пожаловала сюда? – Эдме Лебер привезла ей бриллиантовую подвеску, потерянную на лестнице у… – Эта история мне известна. А я тут при чем? – Увидите… да и к тому же она знает, что муж сделал слепок с ключа. – Превосходно! Лучшего не попросишь! Когда план хорош, в него вписывается все. Превосходно! – Я еще не закончил. Прибыв сюда ненароком одновременно, барон и баронесса столкнулись. – Где? – спросил Лекок, настораживаясь. – В вашем дворе. Баронесса несла в шкатулке содержимое своего шкафчика, ключ от которого собирается подделать барон. – А ты знаешь содержимое этого шкафчика, а, старина? – льстивым тоном поинтересовался Лекок. – Не знаю, – холодно ответил калека. – Шкатулка все еще у баронессы? – Нет. Внизу, под вашими окнами, произошла сцена, достойная Бомарше. – Ты присутствовал? – Укрывшись в дворницкой, как мне и положено. – Выкладывай сцену! А ты все-таки очень странный тип! Трехлапый, стараясь говорить толково, начал рассказ: – Женщину, укрывшуюся под плотной вуалью, преследует муж. Она входит в наш двор, он идет по пятам. По двору в это время случайно проходит мужчина. Женщина под вуалью, не говоря ни слова, всучает ему в руки шкатулку и исчезает. «Отдайте, шкатулка моя!» – кричит муж на мужчину, совсем обалдевшего от неожиданности. «Не смейте отдавать!» – раздается властный голос, и появляется вторая женщина, завуалированная не менее плотно, чем первая. Настоящий театральный эффект… – Кто она, эта вторая женщина? – Графиня Корона, черт возьми! – Откуда она взялась? – Наверное, из-под земли. Лекок подпер голову рукой. – А случайно проходивший по двору мужчина? – Господин Мишель. Лекок наполнил свой стакан со словами: – В добрый час! Впишется и это. Трехлапый, улыбаясь, наблюдал, как патрон опорожняет стакан. Рука Лекока слегка дрожала, когда он ставил стакан на стол. – Тайна у нее! – процедил он сквозь зубы. – Тайна должна быть моей: старик меня обманул. Девчонка возненавидела меня раньше, чем научилась лепетать имя матери. Мой прирожденный враг! Тем хуже для нее! – Вы говорите о баронессе Шварц? – полюбопытствовал калека. – А ты знаешь, – вместо ответа спросил Лекок, – зачем приходила в наш дом графиня? – Она приходила обсудить со мной кое-какие дела, – не колеблясь, ответил Трехлапый. Лекок бросил на него подозрительный взгляд. – На вашем месте, – холодно промолвил калека, – я бы оставил графиню в покое. Она знает так же много, как вы. – И гораздо больше, чем ты? – Да, особенно про этого Брюно, который так вам пришелся по сердцу. Торжествующее лицо господина Лекока заметно омрачилось. – Сам черт ему помогает! – воскликнул он. – Три раза мы видели его с веревкой на шее, а в четвертый, когда он вернулся из Лондона, Отец сказал: «Смерть этого человека не берет, тогда его возьмем мы». Отец был очень умен, но он умирал слишком долго. – Теперь, когда он мертв, – сказал Трехлапый, – я могу наконец переведаться с моим соседом Брюно. Господин Лекок взял рожок, издавший в этот момент долгий призывный звук. – Надеюсь, ты не теряешь его из виду? – спросил он, прикладывая раструб к уху. – Я стал его тенью, – заверил Трехлапый. – Я живу в его шкуре. Я понаделал дырок в перегородке, чтобы слышать, как он спит. – Тебе ничего не удалось обнаружить? – Ничего особенного, кроме того, что сегодняшнее воскресенье он тоже провел неподалеку от замка, а от Ливри до Парижа ехал вместе с Эдме Лебер – в отдельном купе. – Надо спешить, – вслух подумал Лекок. – Затевается настоящее дело. Лишние нам не нужны. Груша созрела и должна упасть. Когда мы ее сорвем, можно будет вволю над этим Брюно посмеяться! Из раструба в его ухо сказали: – Баронесса вышла из терпения, а барон угрожает. – Пускай ждут! – заорал в ответ обозлившийся Лекок. – Терпения им понадобится очень много. Пускай ждут! – повторил он, вставая и принимаясь мерить комнату большими шагами. – Их головы под моей ногой! Посмотрим сейчас, кто кому будет угрожать! Ветер менялся: на него накатил приступ фанфаронства. – Значит, – продолжил он победительным тоном, круто останавливаясь перед Трехлапым, не изменившим своей спокойной и ленивой позы, – барон упустил шкатулку? – Упустил, отвесив чуть ли не земной поклон графине Корона. – Его одурачили? – Наполовину. – Узнал он своего Мишеля? – Конечно! Господин Лекок торжествующе хлопнул себя по ляжке. – Порядок! – вскричал он. – Я бы вовремя расплатился с Фаншеттой, не умей она увертываться так ловко! Брюно и твоя юная Эдме сослужат мне службу, не подозревая об этом. Когда план хорош, все… Какое местечко попросишь ты, мой дорогой шутник господин Матье, когда я стану министром, а? Ситуация прочищается одним ударом! Впереди нечего желать, позади нечего бояться! Как ты думаешь, сколько может принести билет в тысячу франков, бескорыстно отданный босяку? За пятнадцать лет? Четыре миллиона достаточно? Не стесняйся, накидывай до шести. Да, груша созрела, в этом старик не ошибся! И ты меня не предашь, Матье, слышишь! Уж ты-то знаешь прекрасно, что я обыграю всех. Раз, два, и готово! Через три дня, дружище, ты получишь свою богатую долю: целую груду профилей короля-гражданина, отчеканенных на золоте и серебре, на них можно закупить полсотни женщин, старина, ведь ты их так любишь! Женщин, которые не продаются, и все прочие радости жизни, а сверх того дружбу великого человека, посланную тебе благоволением небес, как говорится в песнях. – Так говорится в трагедиях, – поправил его Трехлапый. – В трагедиях так в трагедиях, тебе виднее, чудак! Погляди на меня хорошенько! Разве мы похожи на новобранцев? Настал момент напомнить тебе, что будь на то моя воля, через час тебя бы уже везли на каторгу. Трехлапый опустил глаза под пристальным взором господина Лекока. Это переполнило чашу горделивого ликования патрона. – Я держу тебя так же крепко, как остальных, – хвастливо продолжал он, – и в этом твой шанс, старина: не будь у тебя веревки на шее, я бы перестал тебе доверять. А когда я перестаю доверять… Ладно, хватит! Ты многого стоишь, и мне не хотелось бы лишиться тебя! – Патрон, – с простодушным видом промолвил калека, поднимая свои большие печальные глаза, – клянусь вам, что в моем прошлом было, больше несчастья, чем вины. Господин Лекок звонко расхохотался. – И в моем тоже, черт возьми! Превосходно!.. Тем не менее в своем прошлом ты увяз по уши, дорогой Матье! Он сделал пируэт и, схватив воронку, прокричал в нее: – Иду! Через две минуты подать клиентов горяченькими! Скрестив на груди руки, откинув голову назад и раздувая ноздри, он повернулся к сообщнику, внимавшему ему с задумчиво-униженным видом. – Теперь командуя я, – тоном сухим и резким объявил Лекок, – полковник пошел к чертям! Он был стар, он стеснял меня. Я не позволил бы упасть волосу с его седой головы, потому что он был – Отец. Но он мертв, и теперь Отец – я, я – генерал Каморры, предводитель Черных Мантий, Хозяин в Лондоне и Париже, я – Главный везде! Ты знаешь, что эта парочка, измученная ожиданием, моя добыча. Но даже ты не знаешь, как я собираюсь ее сожрать, этого не угадать никому. Понаблюдав, как я действую, можно кое-чему научиться. Я их допек ожиданием, я их заранее сокрушил – помял, запугал, унизил! Я возвышаюсь, сводя их на нет, ко мне переходит сила, которую они теряют. Кажется, что я болтаю, а я работаю. Чем больше они ждут, тем мягче они становятся, а они мне нужны мягонькими, как шевровые перчатки! Когда-то мне приходилось льстить, гнуть спину, действовать исподтишка. Это позади. В разные времена люди по-разному впадают в детство. Пуританин или философ превращается в идиота от страха перед каким-нибудь картонным монстром вроде Тартюфа, изобретенным гением. Произошла перестановка персонажей: на смену Тартюфу явился угрюмый добродей. Будь грубым – и в тебя поверят, раздавай на все стороны пинки – и тебя провозгласят апостолом. Мольер и Бомарше знали в этом толк: лицемерие оттачивало себя, становясь профессией. Дружище, пора и нам внести свой вклад в развитие комического жанра. Ты, будь так добр, отправляйся в караулку (он указал на дверь, ведущую в маленькое подсобное помещение), там есть окошечко, ты все увидишь и услышишь, там есть бумага, чернила и перо – будешь записывать… При этих словах Трехлапый ползком пересек комнату. Когда он одолевал порог соседней комнатушки, Лекок в напутствие ему сказал: – Смотри, слушай и делай заметки, поручение важное, в четыре миллиона: ты будешь одновременно свидетелем и секретарем суда. – Понял. – Проводите ко мне госпожу баронессу, – распорядился Лекок в раструб. XXXI ОЧНАЯ СТАВКА Оказавшись один в маленькой голой комнатке, которую патрон называл своей караулкой, Трехлапый подполз к соломенному креслу, стоявшему перед столом, но залезать в него не стал, а придвинул к двери, то же самое он проделал и со столом, с той чрезвычайной легкостью движений, которая обнаруживалась в нем, когда он не опасался чужого взгляда. В двери было проделано маленькое окошечко, похожее на круглую дыру и прикрытое квадратным куском материи. Трехлапый, подтянув себя до нужного положения, увидел Лекока – тот стоял посредине комнаты в торжественно-комической позе. Три раза пристукнув каблуком о пол, он объявил: – Внимание! Занавес! Начинаем! – Я уже на своем посту, патрон, – доложил Трехлапый. Патрон сделал выразительный жест, призывающий к молчанию. Дверь, ведущая в официальные помещения агентства, отворилась. Трехлапый провел дрожащей рукой по лбу, смоченному обильной испариной. Он был очень бледен. Лицо его, полускрытое буйной шевелюрой, хранило обычную неподвижность, но вокруг заблестевших глаз обозначились темные круги. Господин Лекок, галантно поклонившись баронессе, подвел ее к креслу. Случайно или умышленно, но кресло, в которое он усаживал жену банкира миллионера, располагалось как раз напротив окошечка. Трехлапый бросил на гостью всего один взгляд и полузакрыл глаза. Баронесса Шварц была очень взволнованна: длительное ожидание, наполненное тревожными мыслями, довело ее до предела. – Я занимался именно вами, моя прекрасная дама… – начал было Лекок. – Я пропала! – прервала его баронесса глухим голосом, заставившим вздрогнуть калеку, укрытого в тайнике. Этот голос красноречивее слов свидетельствовал о глубокой тревоге, переполнявшей ее сердце. – Согласен с вами, мадам, – холодно ответил Лекок. – Тем не менее я убежден, что вы заблуждаетесь насчет причин вашего отчаянного положения. – Можете вы сделать так, – резко прервала его баронесса, – денег я не пожалею, чтобы эта девушка, Эдме Лебер, немедленно отплыла в Америку? Господин Лекок презрительно улыбнулся, и эта улыбка горьким и печальным отражением тронула губы калеки. Патрон ответил: – Между Нью-Йорком и Гавром всего тринадцать дней морского пути. Ну, накинем еще денек-другой, все равно эта идея слишком старомодна для наших дней. Времена парусного флота прошли. Нынче требуются совсем иные меры предосторожности. И зря вы так беспокоитесь из-за этой девушки. Она не самая жгучая из ваших проблем. – Вы еще не знаете… – начала объяснять баронесса. – Я знаю все. Мысль, не знаю уж, честолюбивая или нет, сделаться зятем барона Шварца заставила меня глаз не спускать с вашего богатого и уважаемого дома. Во-первых, мне показался подозрительным тот факт, что вы пошли навстречу моим намерениям, хотя и с заметным отвращением. Денежные короли редко переступают через отвращение. Впрочем, кое-какие сомнения насчет вашего дома имелись у меня и прежде. Ну и, разумеется, в моем возрасте и в моем скромном положении домогаться столь блистательного союза было дерзостью, хотя и не лишенной некоторых романтических мотивов. – Нас удивил ваш отказ, – сделав над собой усилие, вымолвила баронесса. – А он должен был вас обрадовать или огорчить, мадам, слово «удивил» ничего не означает. В любом случае я остаюсь вашим другом, если вы позволите, а к мадемуазель Бланш сохраню нежную отеческую привязанность. Давайте говорить о вас, и ни о ком другом. Он уселся подле госпожи Шварц. Видимо, это был не первый ее визит в агентство. – Извините, что принимаю вас в халате, мадам, – произнес Лекок, разваливаясь в кресле. – Вы знаете, что я бесцеремонен… Признавайтесь: что спрятано в вашей божественной шкатулке? – Вы виделись с моим мужем! – ошеломленно пролепетала баронесса. – Еще не виделся. – Откуда же вам про нее известно? Лекок задумчиво поигрывал кисточками своей шикарной опояски. – Надо прояснить ситуацию, – наконец изрек он с видом человека, выдающего свои сокровенные мысли. – Мы с вами знаем друг друга давно, прекрасная дама, и люди, которые пишут комедии, совершенно правы, утверждая, что первая любовь не проходит бесследно. Прошу вас не оскорбляться! У нас бы уже могли быть взрослые дети. И может быть, вы не оказались бы на самом краю пропасти, которая готова вас поглотить. В руке он держал, как и во время разговора с Трехлапым, послание Пиклюса, уже изрядно поистрепавшееся. Как только глаза баронессы случайно коснулись этой бумажки, он развернул ее и, разгладив на своем колене, сказал: – Это касается вашего дома, мадам. Вам грозит огромная катастрофа, и я вынужден вас об этом предупредить. – Мой муж должен быть здесь, – снова забеспокоилась баронесса. – Который из ваших мужей, мадам? – спокойным тоном поинтересовался Лекок. Она задрожала. Калека в своей клетушке дрожал еще сильнее, чем гостья. – Надо прояснить ситуацию! – повторил Лекок, заботливо сворачивая бумажку. – Знакомство мое с господином бароном почти так же старо, как мои пылкие чувства к вам, и замечу кстати, что именно мои чувства, хоть и платонические, должны были стать причиной вашего нежелания видеть меня в своем доме. Вам пришлось побороть себя – бедная прекрасная душа, заблудившаяся в нашем злом мире. Однако вернемся к барону: если бы он увидел мою помятую бумажонку, он бы задрожал пуще вас – со страха за свой сейф. Вы когда-нибудь спускались в кассу, мадам? – Никогда, к тому же я пришла сюда обсудить свою ситуацию… – Вы бы там могли полюбоваться на любопытную вещь, – с добродушной жестокостью перебил ее Лекок, – вещь, купленную по случаю. По случаю! Слово как нельзя более точное. В кассе господина барона стоит сейф, о котором вы наверняка уже слышали, ибо прежний его владелец – несчастный банкир из Кана. Когда ваш супруг подыскивал для себя подходящий ящик, он поручил покупку мне, как вам известно, я считаюсь в этом деле специалистом. Сейф Банселля как раз находился в продаже, и я приобрел его для барона Шварца, потому как за этот ящик я мог поручиться вполне – ведь именно я продал его когда-то бедолаге Банселлю… – Зачем вы мне рассказываете об этом? – изменившимся голосом спросила госпожа Шварц. – Затем, что бывают удивительные совпадения, мадам. Я, представьте себе, знаю, где сейчас находится боевая рукавица. – Боевая рукавица! – воскликнула Жюли с болезненным содроганием. Мы не оговорились: это воскликнула Жюли Мэйнотт, а не баронесса Шварц, ибо с этой минуты сердце ее возвратилось в прошлое. Кто владеет теперь рукавицей? – спросила она. – Увы! – воскликнул Лекок. – Она принадлежит людям, которые не продадут ее ни за какую цену, несмотря на крайнюю бедность. Я заметил ее в спальной комнате госпожи Лебер. – Мать Эдме! – воскликнула баронесса и опустила голову. Калека по другую сторону двери, казалось, был охвачен вспышкой внезапного гнева. Он метнул в окошко сверкающий взор. – Почему сей предмет оказался у матери Эдме? Скажите мне, почему? – А вы знаете настоящее имя госпожи Лебер? Наступает пора, когда забытые вещи и события оживают. В том доме, где мы находимся, я знаю двух молодых людей: сына судьи, который вынес приговор Андре Мэйнотту, и сына комиссара полиции, который его арестовал. Молодые люди пишут пьесу, избрав сюжетом ту самую историю. Ту самую, вы понимаете? Это очень забавно, не правда ли? – Я ничего не понимаю, я забыла, что я вам хотела сказать, – ответила бедная женщина. – Зато я не забыл, и этого вполне достаточно. Бриллиантовая подвеска? Какая глупость! Ключ от шкатулки? Чепуха! Наша пьеса катится вперед очень быстро, она уже перепрыгнула через эти пустяки. Сейчас мы прямо тут разыграем три акта за десять минут. Что спрятано в шкатулке? Я спрашиваю вас об этом уже второй раз. – Вы спрашиваете об этом угрожающим тоном! – заметила баронесса обессиленным голосом. – Угрожаю не я, угрожают факты. У вас была причина явиться сюда. Если бы вы не пришли, я сам бы нагрянул в ваш замок этой ночью. – Этой ночью? Зачем? – Затем, что надо брать быка за рога. Он поглядел на часы и встал. Трехлапый, позабыв о своем убожестве, тоже дернулся, словно собираясь вскочить на ноги. – Приготовьтесь, – холодно произнес Лекок. – Вам предстоит пережить большой удар, дорогая мадам. Возьмите себя в руки. Обмороками делу не поможешь. Он взял в руки призывно посвистывающий рожок. – Барон уходит, – сообщили ему, – он в бешенстве. Позволить ему уйти? Известно, что звук застревает в жерле таких слуховых аппаратов. Ничего не доходило до ушей баронессы, хотя она, испуганная и выжидающая, напряженно старалась хоть что-нибудь уловить. Лекок ответил: – Попросите его успокоиться и пройти ко мне. Я жду! Баронессе удалось расслышать ответ, и она затревожилась. – Вы собираетесь принять постороннего? Я ухожу! – Это не посторонний, – жестко отрезал Лекок. – Сейчас здесь пойдет большая игра. Держитесь! Госпожа Шварц, уже приподнявшаяся в кресле, снова погрузилась в него. В этот момент дверь отворилась, и в комнату вступил барон Шварц. Баронесса с трудом удержалась от крика и беспомощно сжалась в кресле под ненадежной защитой своей вуали. Трехлапый припал взглядом к окошку. – Время! Потеряно! – возмущенно выкрикнул барон, переступая порог. – Утомительно и… бестактно. Последняя фраза, произнесенная обычным тоном, устанавливала дистанцию. Лекок двинулся ему навстречу, прикрывая собой гостью. – Всего-то! Два слова! – снова заговорил барон в своей усеченной манере. – Время! Потеряно! Неизвинительно! – А я и не собираюсь извиняться, господин барон, – развязно объявил Лекок. – Я действовал по своему усмотрению, но в ваших интересах. – В моих интересах! – возмущенно повторил миллионер, выпрямляясь во весь свой рост. Лекок отскочил в сторону со свойственной ему живостью, составлявшей один из секретов его удивительной моложавости. При виде баронессы, неподвижной и вжавшейся в кресло, господин Шварц попятился назад. Зубы его сухо щелкнули. Вуаль не помогла – он сразу узнал жену. – Вот как! – вскричал банкир, не ожидавший удара столь жестокого и внезапного, несмотря на свои давние подозрения. – Значит, это была она! – Черт возьми! – разразился смехом Лекок. – Хорошо сказано, тестюшка! Это была она! Барон словно окаменел. Наглость Лекока то ли не задевала его, то ли увеличивала его ужас. В соседней комнатушке смотрел и слушал Трехлапый. Он задержал дыхание, сердце его готово было остановиться. Поведение Лекока было для него загадкой, наполовину отгаданной, но бывают драмы с известной развязкой, которые тем не менее вызывают жгучее волнение у зрителей. – Надо прояснить ситуацию, – в третий раз повторил Лекок свою пресловутую фразу, без надобности затягивая вступительную часть, во-первых, чтобы увеличить тяжесть удара, припасенного для гостей, и во-вторых, чтобы самого себя показать в заранее намеченном масштабе. – Пора брать быка за рога! Вы попали в аховое положение, из которого трудно выбраться, можете мне поверить. Трудно, но можно, и я готов вам помочь, потому что сам заинтересован в этом. – Мадам, – заговорил господин Шварц, обращаясь к супруге. – Тихо, Жан-Батист, молчать! – грубо оборвал его Лекок. Давнее, оставленное в прошлом имя, выплывшее столь неожиданно, произвело странное впечатление – миллионер, крайне озадаченный, послушно замолчал. Именно в этот момент Трехлапый не смог удержаться от улыбки. Он окунул перо в чернила и поспешно нанес на бумагу несколько строчек. – Есть вещи, о которых нам надо поговорить, всем троим, – продолжал Лекок, пододвигая барону кресло, – вещи столь удивительные, что их опасно выслушивать стоя, можно грохнуться со всего роста на пол. Садитесь, прошу вас. – Ну и тон вы себе позволяете! – вполне связно произнес барон, отказавшись от своей излюбленной рубленой речи. Однако уселся, стараясь не глядеть на баронессу, которая казалась мертвой. – А вам хочется, чтобы я позолотил пилюлю? – спросил Лекок, грубостью и многословием прикрывая поиски наиболее уязвимого места противника для нанесения удара. – В моем возрасте себя переделать трудно. Нам уже не по двадцать лет, Жан-Батист. Я человек прямой и двигаюсь прямо к цели: по мне лучше обидеть, чем обмануть. Так вот, господин барон и госпожа баронесса: несмотря на миллионы, которыми вы владеете, не желал бы я быть в вашей шкуре. – Нельзя ли выражаться яснее? – воскликнул банкир, пытаясь вернуть себе прежний апломб. – Выражаться я буду, как мне захочется, мой мальчик, понял? Полагаю, вы оба сюда явились не за пустяками! Иезуит наговорил бы вам всяких любезных глупостей, но у меня для этого слишком мало времени: ваша жена обманула вас, дорогуша. Баронесса не шевельнулась. Господин Шварц, сжав кулаки, прорычал: – Так я и знал! В искаженном лице его страдания было больше, чем гнева, и даже самый заядлый насмешник навряд ли смог бы посчитать эту ситуацию комической. Глаза Трехлапого, наблюдавшие за бароном из укрытия, выражали крайнюю степень любопытства. – Советую вам, – продолжал Лекок с высокомерным презрением, – воздержаться от старомодных сцен ревности, хватит шпионить, выискивать и вынюхивать… красть ключи от секретера жены, вы же не мошенник! – Как вы смеете… – вскипая, перебил его барон. – Как я смею, черт возьми? Неужели вы станете отрицать, что у вас в кармане кусок воска? Могу вас успокоить: в секретере ничего любопытного не осталось. Зато здесь вы услышите много интересных вещей, способных насытить саму неуемную любознательность. О чем вам мог рассказать секретер жены? О том, что она вас обманула. Пришло время с ложью покончить: перед вами ваша жена, она может попотчевать вас множеством чистых правд! – За что вы нанесли мне такое оскорбление, мадам? – спросил барон с глубокой печалью, придавшей его словам достоинство. – Вы опять за свое! – воскликнул Лекок. – Неужели вам все еще непонятно, что речь пойдет вовсе не о супружеской измене? Я не настолько низок, чтобы поставить вас лицом к лицу ради такого дела! Но ложь началась с вас, господин Шварц, вы ввели в заблуждение свою жену: вы знали, что ее первый муж пребывает в живых! – Уверяю… – начал было банкир. – Напрасно вы станете уверять! – Клянусь… – Не клянитесь! – вымолвила молчавшая до сих пор баронесса. – Слава Богу! – обрадовался Лекок. – Наконец-то наша прекрасная дама обрела дар речи. Позвольте вам сообщить, господин барон, что госпожа баронесса удивлена не менее вас. Обоюдное изумление! Я большой чудак, не правда ли? Вы увидите, как я блистательно проведу дискуссию – я готовился к ней целый вечер. Вы знаете маркиза де Гайарбуа? Барон распустил узел галстука. – Да, апоплексический удар был бы в данный момент нежелателен, старина, – с юмором заметил Лекок, – если, конечно, вы не выбрали для себя именно этот род смерти. Однако не надо отчаиваться, черт возьми! Соберем наше мужество и выйдем из положения. Что касается маркиза де Гайарбуа, он готов вылезти из кожи, чтобы получить место префекта полиции. Высокопоставленный человек, решивший поохотиться за Черными Мантиями… Как велика сумма комиссионных, выплаченных полковником Боццо за ведение его финансовых дел, господин банкир? Вопрос был задан вскользь и нарочито небрежным тоном. Из всех присутствующих только Трехлапый догадался о его подоплеке. Барон устало ответил: – У меня все счета в порядке. Можете проверить в моих конторах. – Это ваш просчет, дорогой банкир, – сказал Лекок, понижая голос. – Огромный просчет. Финансовые дела подобных клиентов нельзя доверять конторам, если вы желаете спать спокойно. Этот чертов маркиз прекрасно осведомлен. Он мне сказал напрямик: «В банкирах у Черных Мантий подвизается барон Шварц». – Это клевета! – Точно так и я ответил маркизу! Есть у вас камердинер по имени Домерг? – Есть. Старый и преданные слуга. – Следует заметить, что справившись с делом Черных Мантий, маркиз одним прыжком попадает в префектуру. Потому он очень усердствует. Вокруг вас так и кишат агенты, и в Париже, и в замке. Ваш преданный Домерг, кажется, играет в игру «Будет ли завтра день?» Баронесса выдала себя невольным движением. – Значит, в эту игру играете вы, мадам? – Да! – не колеблясь, ответила она. Рассеянная рука калеки вывела на лежавшем перед ним листке бумаги следующие слова: «Паук, который плетет свою паутину…» Пауки появляются то тут, то там, повсюду развешивая скользкие, воздушно-тонкие нити. Поначалу трудно даже предположить форму в этой мастерски выплетаемой ловушке – кажется, что она делается наугад. Но вскоре проступает основа, составленная из искусно выплетенных петель. Каждый, кто угодит в паутину, становится пленником. Лекок поклонился баронессе и повернулся к ее супругу. – Я не знаю всего, – пояснил он, – всего и не узнаешь, когда дело касается дам. Надеюсь все же, что я знаю достаточно, чтобы дать вам добрый совет, добрый для вас, добрый для меня, ибо я не собираюсь трудиться задаром. Оставим пока в стороне нашего друга маркиза, действующего весьма ретиво, и вернемся в прошлое. Зная, что госпожа баронесса до вас имела супруга, вы не должны слишком удивиться тому, что существует и сын. – Мишель? – воскликнул господин Шварц, и лицо его чуть ли не просияло. И, обернувшись к жене, добавил с нежным упреком: – Джованна, почему же вы мне не сказали? Она хранила молчание. Сквозь кружевную вуаль угадывались ресницы, опущенные на бледные щеки. Зато развеселился Лекок. – Вот сцена, какой не хватает в старенькой мелодраме: «женщина и два ее мужа». Только весельчак вроде меня может создать подобную ситуацию! Однако не будем увлекаться мелодрамой, нам надо вывести дело на чистую воду. В Париже каждый день разыгрывается по дюжине пьес, посвященных двоемужеству, и заканчиваются они в зале суда, который не перестает удивляться их изобилию. Шутки в сторону: женщине почти всегда есть что сказать в свое оправдание, ей нужно только решиться заговорить. Согласны вы со мной, Жан-Батист? Вот уже в третий раз Лекок называл своего гостя по имени, в прежних своих отношениях с богатым банкиром он не смел себе такого позволить, и среди многих удивительных вещей, разыгравшихся в этот вечер, фамильярность шефа агентства особенно поражала баронессу. Господин Шварц не протестовал: его раздавила опасная странность ситуации, чреватой, как он предчувствовал, новыми разоблачениями. Тон Лекока заставил его живо припомнить далекий, ушедший в прошлое день – 14 июня 1825 года. Он явственно ощутил даже, если можно так выразиться, привкус чувств, обуревавших его во время встречи с нагловатым коммивояжером, состоявшейся на набережной Орна. Потому барон даже вздрогнул, когда Лекок, засунув руки в карманы халата и глядя на него в упор, напомнил: – Вино, игра, красотки, а, старина? Наш ужин в таверне «У отважного петуха»! Мамаша Брюле превосходно стряпала! А муж, знаменитый муж, папаша Брюле, смышленый малый, алиби любви! Моя позабытая трость, трость с серебряным набалдашником. И урок, затверженный для комиссара полиции, которого звали тоже Шварц: и потом помощенной! Тогда мы не были горделивыми, – ночью, на большой дороге и на ухабистом проселке? Билет в тысячу… да, вот кто здорово расплодился за это время, а, Жан-Батист? На висках господина Шварца появились крупные капли пота. Подавленный вздох распирал грудь калеки, уставившегося задумчивым взором в пустоту. XXXII ПОТАНЦУЕМ Вид у господина Лекока был победительно-добродушный. Он щурился на барона и галантно улыбался баронессе. Она нарушила молчание первая: – Я не все поняла из только что сказанного, – взволнованным голосом сказала она. – Вы намекаете, что господин Шварц был замешан в том ужасном деле Банселля? Лекок, загадочно хмыкнув, ответил: – Знаете, как бывает: коза и капуста, мясо и рыба, то и се. И заметив, что банкир выражает протест энергичным жестом, добавил: – Успокойтесь, дорогая мадам, ваш супруг невинен как новорожденный младенец. Он не замешан ни в чем. Он просто-напросто родился деловым человеком. Господин барон был ростовщиком, даже когда не имел ломаного гроша. Я имел честь предоставить ему первый ломаный грош, собственно говоря, он его слегка заработал. Заполучив его, он сразу же организовал ссудную кассу, наивный и довольно убогий прообраз будущего величавого банка. Вот и вся история. Есть на свете призвания. Евреи делаются не в синагоге. Он схватил господина Шварца за руку и принялся дружески трясти ее, сопровождая приступ сердечности словами: – Не правда ли, Жан-Батист? Между нами ведь все по совести. Однако не будем разбрасываться. На чем мы остановились? На маркизе и Черных Мантиях? Нет, еще рановато. Ах да, мы толковали о двоемужестве госпожи баронессы. Так вот, старина, с ее стороны никакой вины не было. Она думала, что ее муж мертв, и имела полное право, по законам Божьим и человеческим, вступить в новый брак, ведь это только в Бенгалии существует обычай сжигать вдов. Почему она вам ни в чем не призналась? Это было бы слишком, дорогой! Вы знаете, что ваша супруга заочно приговорена к двадцати годам принудительных работ? По закону на ее плече, бесспорно прелестном, полагалось бы красоваться каторжному клейму!.. Да! Да! – Моя жена! – К двадцати годам, ни больше ни меньше! Я даже подозреваю, что брак с вами стал для нее своего рода убежищем, хотя, разумеется, вы заслуживаете обожания и без всяких посторонних мотивов, Жан-Батист… Вы догадываетесь, какое имя носила Джованна Рени до брака с вами? – Я не желаю догадываться, – сквозь зубы процедил барон. – Это происходит невольно, – спокойно возразил Лекок, – о чем-то догадываешься или нет. Если вы не догадываетесь, я вам помогу. В тот день, когда вы получили божественный билет в тысячу франков, четыреста подобных билетов были похищены из кассы Банселля. Андре Мэйнотт, осужденный… – Довольно! – выкрикнул барон, вытирая платком лоб. – А правда, – спросил Лекок, – что он уже был седым, когда вы встретились с ним на острое Джерси через шесть или восемь месяцев после ареста? – Довольно! – с отчаянием повторил барон. Дыхание с глухим стоном вырывалось из груди баронессы. – Уж он-то, – заметил Лекок, – точно не должен питать к вам горячих чувств! Но не будем терять нашей нити, мы все еще не покончили с двоемужеством мадам. Старина, когда речь идет о жизни или о свободе, нельзя доверяться даже любви. Подчеркнув последние слова иронической усмешкой, Лекок продолжил: – Свобода Жюли Мэйнотт была под угрозой – приговор, вынесенный по делу Банселля, касался и ее. Нельзя же требовать, чтобы женщина сказала будущему супругу: «Я вдова каторжника, надо мной висит приговор. Согласны ли вы взять за себя двадцать лет принудительных работ и в придачу малыша от первого брака?» Представьте себя на ее месте, Жан-Батист! Сами вы не очень-то любите признаваться в своих грешках! Он засмеялся, среди гнетущей тишины смех его зазвучал скрипуче и остро. Баронесса казалась окаменевшей и походила на статую. Барон от каждого взмаха дубинки оседал книзу. – И в конце концов кто же выиграл от этого не совсем обычного брака? – вопросил Лекок, потянувшись за трубкой, но тут же отодвинул ее, вежливо улыбнувшись баронессе. – Вы, мой дорогой, так и остались неотесанным увальнем, а ваша жена одна из самых изысканных дам парижского света. Вот уже семнадцать лет, как вы боготворите ее, от чистого сердца, конечно, но и от тщеславия тоже. Еще бы: биржевый делец заполучил в жены аристократку! Попробуйте жаловаться, вам засмеются в лицо. О разводе не заикайтесь: вашего союза не существует, ваша дочь – незаконнорожденная от корешков волос до пальчиков своих крохотных ножек! – Все это правда, – пролепетал барон, – все это должно быть правдой, потому что она молчит. – Все это правда, – холодно подтвердила баронесса. Господин Шварц испустил стон. Перо Трехлапого вывело на бумаге несколько слов, после чего он странным голосом сказал самому себе: «Ты свидетель, секретарь и… судья!» – Общий итог: обоюдная ложь, – с довольным видом обобщил Лекок. – Солгал муж, солгала жена. Пока что оставим это в стороне и перейдем к вещам более серьезным, хотя бедный барон Шварц, которого я считал мужчиной, стал похож на мокрую тряпку. Возьмите себя в руки, старина! Нам потребуется много мужества, если мы хотим выйти из воды сухими. Гайарбуа опытная ищейка, и он уже взял след. Того гляди докопается и до тысячефранкового билета. Полковник, ваш вкладчик и ваш клиент, крепко приложил руку к той истории. Графиня Корона – его наследница, и я не стану перечислять многочисленных талантов сей очаровательной дамы. Все это очень серьезно, но все это пустяки по сравнению с главным: Андре Мэйнотт в Париже. Из груди баронессы вырвался невольный крик. Барон поглядел на нее, и печаль, совсем не похожая на владевшую им подавленность, засветилась в его взгляде. Перо застыло в пальцах калеки. – Андре Мэйнотт в Париже и чувствует себя превосходно, – продолжал Лекок, но в нагловатом голосе его появился оттенок смущения. – Вот это опасность, настоящая и большая: Андре Мэйнотт – закоренелый бандит. – Вы лжете! – звучно, во весь голос отчеканила баронесса. При этих словах Трехлапый вздрогнул с головы до ног, словно по нему прошел электрический ток. Господин Лекок отвесил баронессе иронический поклон. – Никто не посмеет оскорблять при мне Андре Мэйнотта! – добавила она, выпрямляясь в кресле. – Неужели вы все еще считаете себя женой этого каторжника? – сокрушенным голосом спросил барон. – Да, считаю. В своем сердце я всегда оставалась его женой. Калека обхватил лохматую голову обеими руками. – Как я раньше не догадался прострелить себе череп! – вслух подумал барон, блуждая по комнате несчастным взором. Удар, метко нанесенный Лекоком, был слишком для банкира жесток. Его рассудок, формалистический и холодный, никогда не выходивший из круга биржевой алгебры с ее хитрыми уравнениями, производил сейчас новый баланс: словно вспышкой молнии озарились роковые последствия давней его сделки с собственной совестью. Несчастье этого человека имело сложное происхождение. Воспоминание о первом шаге на пути к богатству всегда наполняло его жгучим стыдом: поступок, связавший его с любимой женщиной, вызывал раскаяние. В отношениях его с полковником тоже были сомнительные моменты, потому Лекоку не составило труда устрашить банкира. Господин Шварц не был чист перед своей совестью, но привык считать себя чистым перед законом, позабыв, что только чистая совесть может уберечь от ошибок. Все остальное предает и обманывает. Как только человек подобного типа становится жертвой лживого компромисса, заключенного с самим собой, закон, выпрямившись во весь рост, делается его врагом. Перед бароном Шварцем замаячила голова Медузы: отрекшийся от него закон обещал суровую кару. С баронессой все обстояло иначе, и не потому, что в ее душе не звучал укоряющий голос, наоборот: укоряющий голос звучал в ней очень давно. Однажды господин Шварц пребывал в долгой отлучке. Случилось это вскоре после рождения Бланш: семейная жизнь протекала спокойно, сквозь странную меланхолию молодой жены стало прорываться чувство – колыбель ребенка пробуждала в ней нежность. После отъезда мужа Жюли поспешила воспользоваться своей свободой: она тут же отправилась в церковь Сен-Рош и заказала заупокойную мессу, на которой присутствовала одна. Вернулась она сильно заплаканная и стала готовиться к путешествию. Мы знаем секрет ее неизбывной тоски: другой ребенок, оставленный на попечении кормилицы Мадлен, был отлучен от матери. Жюли не могла больше выносить разлуки, ей необходимо было увидеть сына. Господин Шварц не был еще ни бароном, ни миллионером, она взяла один из его чемоданов, намереваясь отправиться в путь в обычной почтовой карете. На чемодане был штемпель пакетбота, плававшего до острова Джерси. Жюли не была ни ревнива, ни любопытна, она уважала право другого на свои тайны и воспоминания. Тем не менее она раскрыла чемодан с жадным интересом. В нем ничего не было, кроме запыленного конверта без марки, набитого какими-то бумагами. Но адрес на конверте был – он молнией ударил по глазам молодой женщины. Очнувшись от обморока, Жюли накинулась на пыльный пакет, словно на долгожданную добычу. Весь день, закрывшись в своей комнате, она читала и перечитывала найденные бумаги, а вечером, бледная и изнеможенная, выехала к Мадлен. Своего сына она у Мадлен не застала: малыша украли через две недели после свадьбы Жюли с господином Шварцем. Кормилица рассказала ей о посещении Андре. По возвращении в Париж она несколько месяцев не покидала свою комнату, а вышла оттуда бледной и опечаленной навсегда. Опытные врачи, пытавшиеся разгадать характер ее странного недуга, советовали господину Шварцу лечить жену развлечениями. Пакет содержал всю серию бедных писем, доверенных Андре Мэйноттом банкиру, заскочившему на остров Джерси во время погони за несостоятельным должником. Трудно сказать, была ли забывчивость господина Шварца намеренным злом или простой небрежностью: мы знаем, что Андре, больше всего опасавшийся навести полицию на след Жюли, не выдал своего секрета. В этом случае, как и во многих других, поведение банкира было мутноватым: с одной стороны, виновен, а с другой стороны, не очень. Первым обрел дал речи Лекок. – Прострелить себе череп – недурная мысль, я не без уважения отношусь к этому акту. Когда мужчина делается похожим на мокрую курицу, пистолетный выстрел может разрешить его запутанные дела… Но это глупо. Последнюю фразу он произнес не без торжественности. Господин Шварц сидел с опущенной головой. – Любите вы свою жену? – спросил его Лекок. Горе смягчает даже деловые сердца. Господин Шварц, поглядев на баронессу робко и умоляюще, ответил: – Я люблю ее больше жизни! – Если ваш муж, я имею в виду вот этого, – пояснил Лекок, – будет вынужден покинуть родину, вы последуете за ним? – Да, – твердым тоном ответила баронесса. Это слово заставило калеку, погруженного в раздумье, очнуться. Руки его, сжимавшие голову, раздвинули буйную шевелюру вправо и влево, и лицо Трехлапого, может быть, от странного освещения казалось мужественным и красивым. Глаза его были устремлены на баронессу, сидевшую напротив его окошка. Она откинула вуаль, и веки его дрогнули, как от потока слишком яркого света. Она была прекрасна неописуемо. Благородное лицо с чистым высоким лбом хранило выражение глубокой печали. – Вы соглашаетесь не, ради меня, Джованна! – плаксивым голосом произнес господин Шварц. – Вы делаете это ради дочери. – Ради дочери! – повторил Лекок. – Разумеется, ради дочери, но и ради себя самой тоже. Она бросила на Лекока взор, заставивший его опустить глаза. – Если бы когда-то речь шла об эшафоте, – произнесла она медленно и тихо, но с той интонацией, от которой каждый слог звучал криком, – клянусь, я была готова умереть вместе с Андре. Но ваши оскорбления мною заслужены, потому что я… я устрашилась тюрьмы, она была для меня страшнее смерти, я не смогла бы жить опозоренной! По ее щекам медленно скатывались две слезы. В горле калеки застряло глухое рычание. Господин Лекок потер руки и воскликнул с видом человека, осененного внезапной идеей: – Разговор у нас, конечно, получился тяжелым, но мы можем все-таки прийти к соглашению! И, в ответ на вопросительные взгляды супругов Шварц, продолжал: – Сегодня воскресенье… я думаю, ваш отъезд должен состояться с среду. – Слишком рано! – запротестовал банкир. – Мой сын должен быть надежно обеспечен, – поставила свое условие баронесса. – У меня огромные капиталы, – напомнил господин Шварц. – И я никогда не делал ничего недозволенного. До этой беды… – Значит, – прервал его Лекок, – мне придется начать все сначала и сделать кратенький обзор вашей нынешней ситуации. Завтра же против госпожи Шварц может быть выдвинуто обвинение в бигамии, что касается вас обоих. За прекрасной дамой еще одно преступление: семнадцать лет укрывательства от приговора канского суда. Теперь посчитаем вины господина барона, допустим, предположительные, но почему бы не поохотиться за предположениями? Дичи наберется предостаточно!.. Начинаю загибать пальцы: присутствие Ж.-Б. Шварца в Кане в ночь на четырнадцатое июня 1825 года; вышеупомянутое ложное показание, данное своему тезке, комиссару полиции; билет, полученный на пустынной дороге; отъезд из города в одном дилижансе с женой осужденного Мэйнотта, которая, по мнению суда, увезла с собой четыреста тысяч франков, похищенных в кассе Банселля; женитьба в скором времени на этой особе. Наличие у новоиспеченных супругов суммы в четыреста тысяч франков. Цифра весьма выразительная, не правда ли? На этом месте Лекок внезапно прервался: на бледном лице барона появилась холодная улыбка – его атаковали с той стороны, с какой он чувствовал себя достаточно защищенным. – Ну конечно! – воскликнул Лекок. – Время! Деньги! Мы двинулись ложной дорогой. Не таким языком разговаривают с ловкачами вашего типа! Считайте, что я ничего не сказал: господин Шварц чист с головы до ног! Куда подевался мой разум? Однако не забывайте, что имеется еще графиня Корона да этот шутник маркиз, не считая меня – тот, кто меня не слушается, должен со мной считаться. И к чему нам предположения! Когда речь идет о таких миллионах, как ваши, мысль о преступлении рождается сама собой. Что касается полковника, довожу до вашего сведения, что Черные Мантии вовсе не досужая выдумка, а шеф их… Впрочем, делам это не должно мешать. Любой банкир вправе манипулировать деньгами любого вора, даже если эти деньги сильно припахивают, но… Но подумайте о суде присяжных, старина! Это далеко не забавно. Вы знаете, почему собаки и волки терпеть друг друга не могут? Потому что они родственники. Собака – это неудавшийся волк. Мелкий торговец, измученный мечтой о недостижимых миллионах, вскормленный желчью и завистью, обиженный судьбой и скорбящий о попустительствах закона, вот этот маленький человечек – а таких много в командитных товариществах, делающих из собак волков, а из волков собак – вас погубит. Вы станете его вожделенной добычей. Он беден, мечтает о роскоши, если не о пороке, тем сильнее обрушится на вас его вынужденная и лживая добродетельность. Как только ему подадут вас для экспертизы, он мастерски разделает вашу шкуру своими когтями. Он сумеет обнаружить вину, которая есть, и ту, которую сам придумает. Ненависть сделает его проницательным и очень ловким: он наизобретает вам таких искусных мошенничеств, о которых вы, несмотря на немалый опыт, и понятия не имели. То, что будет ему не по зубам, он заляпает грязью. И поверьте мен, публика, которая о вас и слыхом не слыхала, наградит его громкими аплодисментами, потому что вас, миллионеров, не любят, Жан-Батист, попробуйте мне возразить, я не поверю! Господин Шварц сидел с застывшим взглядом и повлажневшим лбом. – Вас, миллионеров, не любят, – повторил Лекок, голос его, сухой и острый, действовал подобно рубанку, ловко снимающему стружку. – Люди маленькие вам не верят, удивляясь, что со сложенными руками можно зарабатывать такие огромные суммы; люди большие раздражаются, вынужденные терпеть возле себя ваши непромытые головы. Слабые вас боятся, потому что вы провоцируете дурные страсти, сильные вас презирают, потому что ваша мошна не служит ничему великому. Деньги для вас, алчных фанатиков, всего лишь средство делать новые деньги. И на смертном одре вы мечтаете о биржевых спекуляциях. Нищие проклинают вас, даже когда вы лезете к ним с благодеяниями. Богатые, настоящая знать, гнушаются скандальным шумом, производимым вашими экю. Люди средние судят вас с суровостью слепой и, вероятно, не совсем справедливой, вы все-таки приносите пользу общественному благосостоянию, но вы избавлены от налогов, и тот, кто от них задыхается, вас ненавидит. В дополнение ко всем прочим даже мошенники, видя в вас опасных конкурентов, сумевших пробраться наверх, питают к вам чувство ядовитейшей братской злобы. Итак, уважаемый господин барон, кроме меня, Лекока, имеющего свои резоны поддерживать вас до известной степени и не скрывающего своей корысти, в будущий четверг весь Париж разразится бурными аплодисментами, узнав, что бумаги ваши опечатаны и что разъяренная мордочка ревизора уже обнюхивает усердно вашу плантацию трюфелей. Я сказал все. Поступайте, как вам угодно: я умываю руки. Господин Лекок встал со своего места и выпрямился перед камином, заложив руки за спину. – Вы спрашивали, – промолвила баронесса, обращаясь к мужу, – последую ли я за вами… – Мнение. Сменил, – объявил банкир, совершенно неожиданно обретая и свой усеченный синтаксис, и свой напрочь было утерянный апломб. – Похоже на бегство. Бросится в глаза. Предпочитаю остаться. Идея. Лекок сардонически улыбался. – Идея. Не ахти, – заметил он, интонацией пародируя лаконизм барона. – Опасно. – А я, – промолвила баронесса, – уеду, забрав с собой дочь. – Разумно, – одобрил супруг. – Чтоб было не очень шумно, – в рифму сострил Лекок, изображая веселость. – Дорогой господин Лекок, – поднимаясь, сказал барон с видом уверенным и непринужденным, – не сомневаюсь, что под странностями вашего поведения кроется много чувства и преданности. Я не отказываюсь оплатить предъявленный вами счет, тем более что я действительно получил от вас в 1825 году билет в тысячу франков, которым, как мне представляется теперь, вы хотели купить мое молчание. В какое преступление вы замешались тогда, мне неизвестно. Тысяч десять-двенадцать луидоров, а то и больше, для меня пустяки. Предлагаю подумать. В среду вечером я даю бал в честь именин своей дочери. Я и моя супруга рады случаю пригласить вас на этот бал. Он подал руку жене. – Потанцуем? – язвительно усмехнулся Лекок. – Потанцуем, – ответил банкир, поклонившись. Баронесса, переступая порог, громко сказала: – Мне надо поговорить с вами завтра, господин Лекок. Лекок молча поклонился даме. Оставшись один, он погрузил руки в карманы своего халата и в раздумье стоял посреди комнаты. Скрипнувшая створка заставила его поднять глаза. Он увидел Трехлапого, съежившегося за столом с пером в руке. Свет лампы, падающий отвесно, освещал странное лицо калеки. Какое-то время Лекок молча вглядывался в него. Трехлапый улыбался. – Почему ты смеешься? – грубым тоном спросил Лекок. – Потому что смешно, – ответил калека. – И, помолчав, добавил: – Значит, этот Андре Мэйнотт был невиновен! Лекок пожал плечами и принялся расхаживать по комнате. Сделав три круга, он остановился перед Трехлапым, который все еще на него глядел, и прорычал: – Если ты упустишь Брюно, я тебя удавлю! – Это сделать не трудно. – Бывают моменты, когда ты внушаешь мне страх, – произнес Лекок, обращаясь скорее к самому себе. – Но Андре Мэйнотт – это Брюно, Брюно и никто другой. – Я сам вам это сказал, патрон… Взор Лекока, жесткий и подозрительный, приковался к нему. – Она удивительно красива, эта баронесса Шварц, – воскликнул калека, и глаза его засверкали. – Я схожу с ума, – проворчал Лекок и, круто повернувшись, снова заходил по комнате. – А похож я хоть чуть-чуть на этого Андре Мэйнотта? – поинтересовался Трехлапый. – С чего бы это? – удивился Лекок, круто остановившись. – С того, что она все еще неравнодушна к нему, – с простодушным цинизмом ответил калека, – и если я на него хоть чуть похожу… – Я схожу с ума! – повторил Лекок и добавил: – Видел ты, как я их вывалял в грязи с ног до головы? Под конец он заартачился, для форсу, чтобы я на него не напустил полицию, но отъезд его – решенное дело. – А этот бал… – Этим балом он себя выдал. Старый трюк. В среду он заберет деньги, я думаю, он сможет собрать четыре или пять миллионов. – Возьмет кредитными билетами, если едет в Англию. – Нет, хвоста он за собой не оставит, возьмет обычными банковскими билетами, сделав вид, что ему надо произвести срочную выплату. Я его знаю: в маленьких делах он ловкач. – А жена? – А жене он и в подметки не годится. Прислеживай за Брюно. Между баронессой и Брюно существует одно препятствие, я знаю, какое, потому что сам его воздвигал. Одного слова баронессы достаточно, чтобы оно упало. Глаз с него не спускай, господин Матье, пост у тебя удобный, но если ты на нем заснешь, то можешь никогда не проснуться! – Я всегда сплю вполглаза, патрон. Лекок еще раз вгляделся в него, но ничего не усмотрел в этом окаменелом лице. Затем переступил порог караулки и из-за плеча Трехлапого прочитал сделанную им запись. – Двадцать строк, и все уложилось! – одобрил он. – Распишись. Завтра супруги Шварц узнают, что у нашей беседы был свидетель и секретарь. Трехлапый без колебаний расписался и с тщеславной ноткой в голосе заявил: – В доме Шварца моя подпись известна. – Прочитай-ка вот это! – сказал Лекок, подавая ему послание Пиклюса. – Ты гляди! – удивился калека. – Значит, вы решили наполнить кассу, перед тем как ее опорожнить? Улыбающийся Лекок утвердительно кивнул головой. – Очень ловкий ход! – восхитился Трехлапый. – А зачем же тогда фальшивые купюры? Лекок с горделивостью автора, вызвавшего аплодисменты, сказал: – Увидишь. В этом самое интересное. И, потерев руки, распорядился: – Нам понадобятся актеры и статисты. Завтра ты займешься распределением ролей, подберешь своих людей в кабачке «Срезанный колос». – Будет сделано, патрон. – Да, и наши купюры: нужно не меньше четырех миллионов. – Понял. – А главное Брюно! Не проморгай! – Не беспокойтесь, патрон, я сделаюсь его тенью, – торжественно заверил Трехлапый. Часть Третья ПАРИЖСКИЙ ЛЕС I ТРАКТАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПАРИЖА И ДОРОГА ВЛЮБЛЕННЫХ Всякая вещь, велика она или мала, хранит печать своего происхождения. Возьмем, к примеру, огонь. Он ласково потрескивает в уютном камине, сжигая дорогостоящие дрова, вспыхивает красным пламенем в печке, поглощая уголь, положенный туда бережливой хозяйкой, томится в очаге бедняка, пытаясь воспламенить брошенный в него торф, и, не давая ни света, ни огня, медленно пожирает сам себя под слоем пепла. Дрова когда-то были деревьями, растущими в чудесных лесах; уголь извлекают из глубин шахт; торф образуется среди ядовитых испарений болот. Лондон вырос на унылом болоте; Париж вознесся из лона чудесного леса. Над Лондоном стелется черный дым, Париж полыхает яркими огнями. В Старом Свете нельзя построить еще один Париж. Париж – это высшее достижение нашей цивилизации. Однако злоречивые провидцы мрачно пророчествуют о том, что настанет час, и неведомый дух, крадучись, словно волк, выступит из глубины веков и отвоюет свою исконную вотчину. Рухнут одряхлевшие дубовые стропила Нотр-Дам, а на развалинах Лувра поднимется стройная колоннада молодых дубков. И какой-нибудь варвар-сатрап, посланный своим диким владыкой разведать, жива ли еще старушка Европа, подивится, обнаружив в Ботаническом саду скелет умершего там слона Киуни, а едущий в обозе историограф сатрапа дотошно подсчитает обломки колонн Биржи. Из этих наблюдений родятся две книги: в одной будет доказано, что исчезнувший вид слонов происходил из окрестностей улицы Муфтар, а в другой – что в стародавние времена, когда Франция переживала период расцвета, в стране уже существовала религия… Париж будет построен в другой части света, исполнится очередная прихоть капризницы Истории, но это будет совсем иной Париж. Этот маленький и тесный город, каковым является Париж в наши дни, можно обозреть с высоты Монмартрского холма: оттуда даже близорукий взор вполне может охватить его целиком. Париж красив, и он это знает. Парижане гордятся собой, словно эскимосы или самоеды: численность и тех, и других по сравнению с численностью прочих народов, населяющих землю, чрезвычайно мала. Париж обольстил немало писателей и вменил им в обязанность беспрестанно твердить миру, что только в этом городе существуют подлинное остроумие, честь и красота. Всем известно, что в Париже каждый, кто умеет держать перо, может зарабатывать себе на жизнь, ежедневно выписывая одну только фразу: «Парижане – самые элегантные люди на земле». Впрочем, в Лондоне то же самое говорят об англичанах, в Берлине о пруссаках, а в Гааге о голландцах. Будучи довольно неплохо знакомым с современной литературой Поднебесной Империи, я осмелюсь утверждать, что в Пекине ни один мандарин никогда не станет читать книгу, если в ней не воздается хвала его никогда не касавшимся земли ногам. А раз все города гордятся собой, то можно утверждать, что все города чем-то похожи на Париж. Но быть похожим на Париж еще не значит быть Парижем. Все страны мира жаждут иметь свой Париж. Все столицы хвалят себя, но только Париж воздает себе должное. Париж – это Париж, его забавляет все, в нем все предаются веселью. В воздухе Парижа растворен веселящий газ, – еще в те времена, когда кругом не было ничего, кроме леса, здесь уже смеялись. Нередко в те дни среди стройных елей улицы Сент-Оноре или в густых перелесках шоссе д'Антен происходили мрачные трагедии, те самые, которые впоследствии были пересказаны нашими поэтами и драматургами. О парижской весталке рассказывали прелюбопытнейшие истории, а заросли кустарника, произраставшие там, где теперь стоит Театр водевилей, напротив которого выстроена заемная контора, всегда, даже в дни человеческих жертвоприношений, источали приятнейшие, веселящие запахи. Впрочем, и сегодня в обоих этих святилищах люди расстаются с жизнью: но разве из-за этого стоит лить слезы? Возможно, что именно в Париже Цезарь встретил ту самую женщину, чья красота, по слухам, затмила красоту небесных ангелов. Первые дикие киски… видите, как глубоко засел в нас лес! Любой другой город, возникший на бывшей плодородной ниве, на каменистом бережке или на лугу, нашел бы иное слово, чтобы обозначить разновидность тех развеселых непотребных существ, которые, – словно коревая сыпь, рассыпались по телу города, отчего он постоянно почесывается, испытывая при этом невообразимое удовольствие. Дикие киски водятся только в Париже; сюда за ними приезжают с Юга и с Севера, с Востока и с Запада; произрастают и воспроизводятся они тоже только здесь, без малейших усилий или надзора с чьей-либо стороны, словно трюфели в Перигоре, каштаны в Лионе или сардины возле западного побережья. Парижская почва питает их своими плодородными соками. Немало усердных зоологов пытались развести их в других странах: безуспешно! Что же касается котов… Мольер умер, и без него язык бессилен дать данным особям иное наименование; согласитесь, однако, что это не совсем благовидное прозвище прямо-таки во всю глотку орет о лесном происхождении его обладателей. А если вспомнить о том, что наш лес из конца в конец пересекают многочисленные бульвары, то можно смело утверждать, что столь великолепных охотничьих угодий не существует нигде в мире. Охотники и дичь фланируют по бульварам, освещаемые холодным светом газовых фонарей. Но еще есть, да и всегда будут, густые заросли, глубокие овраги и потайные пещеры, где обитает множество созданий, имеющих достаточно оснований не любить яркий свет. Что ж, каждый живет как может. В 1842 году в предместье Сен-Мартен брала начало и, прихотливо извиваясь, пробегала его до Бельвиля узкая кривая улочка; длина ее в общей сложности составляла более километра; та часть бульвара, откуда теперь открывается вид на белую ротонду цирка, называлась в те времена Галиот; за ней начинались парижские заставы. Отсюда и до самой площади Бастилии тянулся бульвар, вдоль которого с одной стороны теснились лавчонки, а с другой шла узкая и сырая полоска земли, упиравшаяся в улицу Амело, Ни наземных, ни водных перевозок, от которых и пошло название Галиот, в квартале более не производилось, но предприятие почтовых перевозок по каналу Урк еще сохраняло здесь свою маленькую контору, в окне которой была выставлена картина: «Орел из Мо № 2», влекомый могучей упряжкой. По соседству располагались дешевые рестораны и забегаловки, а на утрамбованной земляной площадке разместилось несколько балаганчиков. На месте, где сейчас находится вход в цирк, за строениями Галиот, начиналась та самая узкая улочка, что, проделав необычайно извилистый путь, соединялась с улицей Фобур-Сен-Мартен. Эта улочка, прозванная Дорогой Влюбленных, имела в квартале дурную репутацию. Поворот в нее было легко не заметить, ибо в самом ее начале находился проход к причалу с вечно сломанными двустворчатыми воротами. Неподалеку раскачивался фонарь, и его желтоватый свет падал на вывеску трактира «Срезанный колос», под которой располагалась вызывающая надпись: «Тут играют». Днем над входом в трактир можно было также полюбоваться картиной, изображавшей внушительных размеров колос, срезанный не менее гигантским серпом. На протяжении пятидесяти или шестидесяти шагов грязная улочка, обрамленная невероятными халупами, бежала параллельно улице Менильмонтан. На своем пути она встречала кафе-трактирчик, этакий внушительный памятник неподражаемого уродства, где во времена оные располагался завод. Улочка огибала его и, дважды послужив проспектом для посетителей трактира, продолжала свой бег перпендикулярно самой себе, направляясь к улице Крюссоль. Она пересекала улицу Крюссоль, затем проход Де-Буль и дальше протискивалась между двух строительных площадок, образовавшихся на месте бывшего монастыря Мальтийского ордена. Этот участок ее получал имя улицы От-Мулен; потом, огибая первый цирк, построенный братьями Франкони и дом № 16 в предместье Тампль, она пересекала широкий бульвар Тампль и тут же углублялась в подозрительного вида проход неподалеку от ресторана «Пассуар». Отсюда вид ее менялся. Дорога Влюбленных заслуживала своего имени. С одной стороны вдоль нее выстроились унылые дома с подслеповатыми окнами, более напоминавшие могильные склепы, нежели жилища; такие постройки – обычное украшение окрестностей Парижа. С другой стороны росли чахлые кусты бузины; поддерживаемые полусгнившими жердями, они образовывали живую изгородь, за которой раскинулся обширный пустырь, где паслись козы и произрастали чертополох и капуста. Пройдясь по улице, влюбленные сворачивали к пустырю. Бродившая там живность вносила оживление в скудный растительный пейзаж. В январе 1833 года некий влюбленный по имени Лассюс, владелец ювелирного магазина, молодой человек двадцати двух лет, хилый и безобразный, был убит на Дороге Влюбленных ударом железного прута; тело его закопали на пустыре, неподалеку от нынешнего таможенного склада. Невеста молодого человека проживала на улице Фонтен-о-Руа, и он, проводив ее, возвращался домой на улицу де л'Индюстри. Убийство было совершено в четыре часа пополудни! Дорога Влюбленных, размеченная прихотливым землемером, по всей своей длине имела разную ширину. На главном ее отрезке двое людей, идущих навстречу друг другу, с трудом могли разойтись, а каждый из ее многочисленных поворотов можно было бы оборонять с гораздо большим успехом, нежели Фермопилы. Однако в двух местах она так расширялась, что на ней вполне могла разъехаться пара карет: неподалеку от улицы Ланкри и в той части, что под именем улицы От-Мулен шла от предместье Тампль к мальтийским строительным площадкам. В ночь со вторника на среду, то есть спустя двое суток с того воскресного вечера, о событиях которого мы уже рассказали, закрытая двухместная карета остановилась возле въезда на Дорогу Влюбленных, шагах в двадцати пяти от Тампля, куда был устремлен меланхоличный взор запряженной в карету лошади. Было около четырех часов утра. Кучер, закутавшись в плащ, спал на козлах. Карета эта заслуживает внимания не только потому, что по причине столь позднего часа вокруг не было иных экипажей. Минут двадцать карета стояла неподвижно. Затем из нее выпорхнула молодая женщина; лицо ее было скрыто легкой вуалью. Одежда незнакомки отличалась элегантной простотой. Приказав кучеру развернуть лошадь и ждать ее возвращения, она отправилась по Дороге Влюбленных и вскоре исчезла за ближайшим поворотом. Но прежде чем кучер совершил предписанный ему маневр, какой-то человек, всем своим обликом отнюдь не похожий на лакея, проворно спрыгнул с подножки кареты и ринулся за угол, явно не желая быть замеченным. Спрягавшись за углом, человек принялся наблюдать за кучером. Тот же, развернув экипаж так, как приказала хозяйка, явно собирался подремать. Соседство большого бульвара убаюкивало страхи перед нападением грабителей. Убедившись, что вокруг никого нет, а кучер мирно спит, человек выскочил из своего укрытия, подбежал к карете, бесшумно открыл Дверцу и, словно призрачная тень, проскользнул внутрь. Устроившись на сиденье, он столь же бесшумно закрыл за собой дверцу. За время своего перемещения он не произвел ни единого шороха. А в это время в противоположном конце улицы, в окне убогой кузницы, замигал красноватый огонек. Кузница располагалась рядом с известным трактиром «Срезанный колос», где также, невзирая на ночь, кипела жизнь. Из-за закрытых ставней доносился равномерный гул, перебиваемый сухими трескучими ударами бильярдных шаров друг о друга и звонкими ударами от соприкосновения шаров с кием. Дверь кузницы открылась, и оттуда вышли двое; в мерцающем свете, падавшем из окна, можно было разглядеть бледное лицо красавицы Эдме Лебер и чеканный, словно отлитый из бронзы, профиль господина Брюно, торговца верхним платьем с улицы Нотр-Дам-де-Назарет. Господин Брюно сказал: – Дочь моя, здесь мы с тобой расстанемся. И с этими словами он вручил ей средних размеров сверток; завернутый в ткань предмет издал глухой металлический звон. – Еще до конца дня у вас его непременно купят, если, конечно, вы согласитесь его продать. Впрочем, если вы откажетесь это сделать, его у вас просто украдут. – Так как же мне поступить? – спросила девушка. – Никак… ждать. Капкан поставлен, и волк попадется в него. – А не навлеку ли я беду на свою несчастную мать? – снова спросила Эдме. – Нет, – ответил господин Брюно. И, привлекая девушку к себе, взволновано и торжественно произнес: – Вы станете женой Мишеля, а ваш отец будет отомщен. И, отпустив девушку, Брюно спокойно и уверенно зашагал к предместью Тампль. Эдме долго смотрела ему вслед, а затем мимо трактира направилась к улице Галиот и дальше на бульвар. Мысли, бешеным вихрем кружившиеся у нее в мозгу, не давали ей вспомнить о страхе перед ночными улицами. Тем временем молодая женщина из кареты и господин Брюно неуклонно двигались навстречу друг другу. Это было заранее назначенное свидание. Они встретились возле пассажа Де-Буль. Молодая женщина приподняла вуаль, и господин Брюно запечатлел на ее лбу поцелуй. Фонарь осветил очаровательное бледное лицо графини Корона. II ГРАФИНЯ КОРОНА Сюжет нашего романа содержит множество загадок, и не только для читателя, но и для того, кто решил изложить эту историю на бумаге. Ибо я лишь условно могу называться автором или сочинителем: моя заслуга состоит исключительно в том, что, услышав однажды рассказ об этих удивительных, но отнюдь не завершившихся событиях, я взял на себя труд записать их, придав им форму драматического повествования. А посему действие разворачивается так, как ему угодно, и никто не властен его изменить. От себя же добавлю, что не знаю ничего более трогательного, нежели незавершенное произведение искусства. Не приравнивая свою жалкую писанину к Венере Милосской, я тем не менее осмелюсь утверждать, что, имей эта статуя руки, очарование ее значительно поубавилось бы. Каждое произведение искусства должно обладать некой незавершенностью, дабы творец, будь то поэт, художник или скульптор, мог бы в воображении своем доводить его до одному ему ведомого совершенства. Мне кажется, что если сравнить эту книгу со статуей, то это была бы статуя из глины, слепленная кое-как неопытным мастером. И самым нелепым и загадочным из ее глиняных персонажей была бы графиня Корона. Другие герои вырисовываются вполне отчетливо. Даже образ самого полковника Боццо, как мертвого, так и живого, подернут романтической дымкой не более, нежели того требует романический жанр. Все видят, как он ловко лавирует в зарослях кустарника или ведет свое пиратское судно в водах Лондона и Парижа, и, встречаясь с ним, узнают его, хотя его внешность и не соответствует внешности подобного рода персонажей. Но почему бы состарившемуся Фра Дьяволо не бояться насморка и не одеваться во фланель? Господин Брюно, равно как и Трехлапый, еще не раз появятся на страницах нашего повествования, и читатель сам сумеет с ними разобраться. Эти трое, если можно так выразиться, составляют торс статуи, то бишь являются главными героями нашего рассказа, хотя надо признать, что моя склонность к незавершенности может дойти до полного уничтожения телесной оболочки, дабы легче было добраться до внутренностей. Беспорядочное переплетение последних и есть графиня Корона. Графиня Корона, та самая девчонка из Сартэна, с густыми, вечно спутанными волосами, обрамлявшими худое лицо, на котором блестели огромные глаза, очерченные тонкой линией черных бровей; маленькая дикарка Фаншетта, с риском для жизни передавшая первое послание Жюли к Андре; Фаншетта, последняя любовь холодеющего старца; Фаншетта, заклятый враг Приятеля-Тулонца, воскресившего Андре Мэйнотта и тем самым поразившего ее детское воображение… Кто была эта женщина? Откуда в ней появилось это глубокое влечение к Андре? Влечение, поистине инстинктивное, родившееся, можно сказать, вместе с ней, но отнюдь не помешавшее ей вспыхнуть и запылать совсем иной страстью, разбившей ей сердце? Что привело ее в Париж? Отчего она запуталась в тенетах преступного сообщества, порочная слава которого, казалось, совершенно не коснулась ее? Какую роль играла она в этом сообществе? Стала ли она, сама того не зная, носителем зла? Или, напротив/по мере своих сил старалась разрушить коварные интриги, плетущиеся вокруг нее?.. Нередко в характере девушек, рожденных на Средиземноморском побережье, можно найти ответы на взаимоисключающие вопросы: их кровь кипит, в жилах их струится огонь. История умалчивает о полученных ответах. Но не отрицает правомерности поставленных вопросов. История являет нам странное, но прекрасное создание, следующее своим непонятным путем, а я разрешаю ему пройти по своим страницам. Имя этого создания – графиня Корона. Законная жена жалкого и порочного бандита, сотрапезника за страшным «круглым столом», омерзительнейшего из людей, которые когда-либо низвергались с самых высоких вершин на стезю Порока. Почему так получилось? Что заставило эту отважную и поистине героическую девушку отдать свою руку лакею Приятеля-Тулонца, что побудило ее бросить ему под ноги свою свободу? В то время когда наша маленькая Фаншетта превратилась в восхитительную женщину, граф Корона был молод и необычайно красив. Он не отступал ни перед чем. Да и господин Лекок также не был обделен талантами. Потом ее дом стал игорным притоном, и Мишель, тогда еще подросток… но что нам до того? Кого только не встретишь среди жалких жертв случая. Так не будем же сдергивать последние обрывки вуали с этой гордой и печальной красоты. Стояла летняя ночь, теплая, но ветреная, какая обычно венчает день накануне равноденствия. Мчащиеся по небу кучевые облака заволакивали восходящий над горизонтом ущербный диск луны. Рассвет был не за горами, однако темнота становилась все непроглядней. На отрезке Дороги Влюбленных, известном под названием улицы От-Мулен, стояло два или три фонаря, но уже в пятидесяти шагах от каждого их этих источников тусклого света вновь воцарялся кромешный мрак, и извилистая улочка в полной тьме кралась мимо строительных площадок. Именно сюда и направлялись господин Брюно и графиня Корона. Здесь, как и в прилегавших переулках, не было ни души. В час, предшествующий пробуждению, Париж превращается в молчаливую, безлюдную пустыню. Некоторое время господин Брюно и графиня Корона молча шли рядом; в ночном сумраке могучая фигура нормандца утратила свою грузность, и он вновь был похож на юного рыцаря. Его плечи стали шире, появилась горделивая осанка. – Вы молоды, – первым нарушил молчание Брюно. – Вас ничто не удерживает во Франции. Мир велик. – Я уже думала об этом, – так скорбно ответила графиня, что у ее спутника похолодело сердце. – Мы непременно найдем уголок, где вы будете счастливы, – робко промолвил он. – Счастлива!.. – эхом откликнулась она. Господин Брюно протянул к ней руку и почувствовал, как на нее упала слеза… Графиня прошептала: – У меня нет сил жить, но я боюсь умереть. Брюно сжал ее холодные руки. Звенящим голосом она спросила: – Андре Мэйнотт, близится час вашего отмщения: скажите, вы удовлетворены? – Я жду этого часа вот уже много лет, – проговорил ее спутник, невольно опуская голову. – Вам грустно, – произнесла она. – Я все понимаю. Ваша любовь сильнее ненависти. Внезапно она разразилась слезами: – Я даже не знаю, была ли я когда-нибудь невинным ребенком. В том огромном замке, воспоминание о котором постоянно преследует меня, жил демон. Я сомневаюсь в своем отце, сомневаюсь в той несчастной, вечно коленопреклоненной женщине, называвшейся моей матерью. Они жили в этом замке. Они в нем умерли. Я не могу вспоминать о своих первых играх, ибо мгновенно передо мной возникает демон разврата в образе Тулонца. Тот старик, который любил меня и который, быть может, был единственным человеком, действительно любившим меня, – мой дед… Так разве я могу убежать в свои воспоминания? – Ничто не может запятнать чистоту алмаза, – произнес Андре Мэйнотт, привлекая ее к себе и запечетлевая на ее челе отеческий поцелуй. – Вы сохранили в чистоте ваше сердце, Фаншетта. Она резко высвободилась из его объятий, и в ночном мраке прозвучал ее отрывистый сухой смех. Мое сердце! – горько усмехнулась она. – Рана, куда каждый вонзает свой кинжал! Те, кого я ненавижу, и те, кого я люблю! Вы хотя бы отомстите за себя, Андре; а я даже не имею права на месть. Дважды вы становились виновником моего несчастья, а я с радостью готова отдать за вас жизнь!.. Разве я могу ненавидеть этих женщин, – внезапно воскликнула она, – этих двух моих соперниц? Дважды я потерпела поражение: сначала от отца, а потом от сына… и это справедливо! Разве я могу сделать кого-нибудь счастливым, я, воплощение несчастья? Я не могу ненавидеть их, потому что вы их любите. Что ж, значит, такова моя судьба: похоронить в глубинах сердца свою любовь и довольствоваться холодной вежливостью. Я напоминаю себе убийцу, который, расправившись со своей жертвой, начинает заниматься благотворительностью! – Вы правы, – печально ответил Андре, – вы облагодетельствовали меня. Она обвила руками его шею и повисла на нем. – Я вас ни в чем не упрекаю! – воскликнула она. – Я ваша, и в этом мое предназначение. Моя невинная душа тянется к вам. С самого первого дня я ревновала вас к Джованне. О, как она была прекрасна, когда плакала! Но клянусь тебе, Андре, любовь сделала меня снисходительной. Если бы вы только знали, о чем я думаю, когда задаю себе вопрос, что может отдать женщина обожаемому ею мужчине! Нет, выслушайте меня! Как знать, случится ли нам еще раз поговорить друг с другом? Быть может, исповедуясь вам, я сумею облегчить свои страдания. Я не знала, что он был вашим сыном, но в нем я любила вас. И это правда: я узнала вас. Зачем вы обрекли меня на эту пытку, Андре? Разве мне мало одного мученика? Скажите же, что это были вы, только моложе, красивее, и свободны… Тогда он еще не любил эту девушку. Это она пробудила в нем ответную любовь, ибо сама полюбила его. Я не питаю к ней ненависти: у нее есть то, чего я бы не смогла дать моему Мишелю… Мой Мишель! Мое безумие! Почему вы бросили меня на растерзание этому льву, застенчивому и кроткому, как агнец? Вам надо было следить за ним! Разве порох может уберечь пламя? Я любила его в тысячу раз сильнее, чем вас… Нет! Я любила его иначе, более пылко, более безрассудно, со всей страстью своих юных лет, уже отягощенных печальным опытом; я прибегла к соблазнительнейшим уловкам, дошла до того, что согласилась стать сообщницей Лекока, неумолимо влекшего его в пропасть. Я говорила себе: я буду рядом с ним и не дам ему упасть… или же мы упадем туда вместе! Она трепетала в объятиях Андре, и он вновь запечатлел на ее челе холодный поцелуй. При прикосновении этих ледяных губ она резким движением вырвалась из его объятий. – Вы даже не проклинаете меня, – простонала она, уязвленная до самой глубины своей израненной души. – Вы презираете меня… Не стоит пренебрегать мною, Андре! Ведь корсиканки всегда готовы пустить в ход кинжал! Они дошли до угла улицы Крюссоль. Тусклый свет соседнего фонаря освещал взволнованное лицо графини. Андре смотрел на нее с восхищением, ибо она была воистину прекрасна. – Господь даровал вам семью, сударыня, – произнес он. – Я ваш отец, а он ваш брат. Она криво усмехнулась. – Моя мать и моя сестра! – тихо прошептала она. – Они обе тоже много страдали! Об этом я пока не думала. В нескольких шагах от них они заметили выходящий на улицу приземистый фасад кафе-трактира «Срезанный колос». – Вы были там? – спросила Фаншетта. – Нет, – ответил он. – Но отправлюсь туда через несколько часов. – Вы! – воскликнула она, словно речь шла о святотатстве. – Вы – в обществе этих людей! Повернувшись к нему спиной, она быстро зашагала в противоположном направлении, не переставая говорить: – Но ваше время поистине бесценно, Андре, и я пришла вовсе не для того, чтобы говорить о себе. Барон Шварц имел объяснение со своей женой. – Ах вот как! – насторожился Андре Мэйнотт. – Отъезд назначен на четверг, то есть на завтра. – А бал, как и условлено, состоится сегодня вечером? – Бал будет великолепен. Они хотят одурачить Лекока. – Они оба согласны? – Всем заправляет баронесса. Она посвятила сына в свои планы. – Он тоже отправится в путешествие? – Они уезжают порознь. Барон в почтовой карете отбывает на рассвете вместе со своими слугами. Баронесса с детьми отправляется по железной дороге. Бланш знает, что у нее есть брат. – Так, значит, у Шварца есть серьезные основания для бегства, – задумчиво произнес Андре. Графиня не ответила, но через минуту сказала: – Полковник должен был любым способом скомпрометировать его. Семнадцать лет он, по монетке, копил эти миллионы. Впрочем, барону известно, на что способен Лекок. – Я спрашиваю, – уточнил свой вопрос Андре, – как по вашему мнению, был ли барон Шварц когда-либо сообщником полковника или Лекока, а если был, то до какой степени? Мне необходимо это знать. – Вы уже вынесли свой приговор, – ответила графиня, – но раз вы хотите, я отвечу. Что касается прошлого барона, то в нем нет ничего предосудительного, кроме истории с тысячью франков, но когда Шварц получал эту тысячу, он ничего не знал о совершенном преступлении. Сейчас же Лекок решил всерьез заняться так называемым сыном Людовика Семнадцатого, герцогом и одним из двенадцати сотрапезников «круглого стола»; по крайней мере он сам об этом говорил. Барон Шварц согласился отдать свою дочь за принца. Люди его склада по-своему очень романтичны. Их жизнь была золотым сном; они продолжают верить в чудеса. Улыбка Андре выражала удовлетворение, смешанное с презрением. – А Бланш? – снова спросил он. – Бланш любит своего кузена Мориса; вы знаете об этом лучше меня. – Детская привязанность? – Она дочь своей матери. Она не больше остальных поверила в женитьбу Лекока. В ее жилах течет наполовину корсиканская кровь. – А разве Эдме, – перебил ее Андре, – не будет на балу? Голова графини безжизненно поникла. – Так, значит, она красивее меня? – прошептала она. Затем, сделав над собой неимоверное усилие, она гордо вскинула свою благородную голову: – Я не питаю к ней ненависти! Я бы убила ее, если бы он колебался, кого из нас двоих выбрать. Но он не колебался. Так пусть же судьба моя свершится! Она будет счастлива; она плакала в последний раз. Баронесса Шварц посылала за ней экипаж, чтобы привезти ее на бал. – Ах, вот как! – вздохнул Андре. – Дело сдвинулось… Он задумался и через минуту снова спросил: – А Лекок об этом знает? – Лекок знает все, – бросила графиня. – Когда имеешь с ним дело, неведомо, кто останется в выигрыше, даже если все игроки уже выложили карты на стол. – Но моя-то игра еще не окончена! – не без гордости заметил ее собеседник. – Разве можно исчерпать кассу Шварца за столь короткое время? – А почему бы и нет? Эти люди хорошо знают свое дело. – А как обстоят дела с деньгами в Лондоне? – Там нет ни шиллинга. Только банковские билеты. – Этого Лекока голыми руками не возьмешь! – процедил сквозь зубы Анд ре. – Не знаю, что вы имеете в виду, – сказала графиня, – но этот человек настоящий колдун. И он всегда прав. Андре снова улыбнулся. Они шли по стороне улочки, примыкавшей к докам. Графиня взяла Андре под руку и прижалась к нему. – Я несчастна, – начала она тихим, дрожащим голосом, – устала и измучена. Пока я с вами, Андре, пока я могу видеть человека, ради которого готова пожертвовать своей бессмертной душой, я не могу искать утешения в религии. Церковь отторгает тех, кто не хочет покаяться. И тем не менее у меня нет иного пристанища, Андре; а я нуждаюсь в покое, забвении и смерти… Она вздрогнула, произнося последнее слово. – Неужели я, как и он, умру без исповеди! – в ужасе прошептала она. Затем, подчинясь прихотливому течению своих мыслей, она выпустила руку Андре, расстегнула платье и достала тонкий шнурок. – Вот почему они хотя меня убить! – стуча зубами от страха, промолвила она. – Убить вас, Фаншетта! – эхом откликнулся ее спутник. Она поднялась на цыпочки и обвила его шею шнурком, концы которого по-прежнему держала в руке. – С помощью этой штуки, – надменно произнесла она, – если бы у меня еще оставались мужество и надежда, я смогла бы защитить себя, ибо все члены тайной ассоциации, с которой вы боретесь, подчиняются этому знаку. – Это же удавка! – живо воскликнул Андре. – Удавка Спасения! – отчеканила графиня. – Тайное оружие Черных Мантий и знак повиновения Каморры. Было слишком темно, чтобы заметить, как пальцы Андре настойчиво ощупывали два квадратных кусочка материи, прикрепленных к концам шнурка; в каждом из них было зашито что-то твердое. – Вам никогда не хотелось распороть ткань и посмотреть, что кроется на концах удавки? – спросил Андре. – Еще вчера я жаждала продолжать борьбу, – отвечала она. – Я говорила себе: если у тебя есть деньги и власть, ты сможешь заставить любить себя. Я мечтала о талисманах, волшебных напитках, о колдовстве. То мое воображаемое кольцо разбивало счастливое кольцо соперницы, сделавшей меня такой несчастной, то я щадила ее, дабы торжество мое было полным. Я хотела, чтобы она увидела, как Мишель приползет к моим ногам. Да, я распорола ткань. И я теперь понимаю, что они с легкостью пойдут на убийство, лишь бы завладеть этим наследством. – Вот уже второй раз вы говорите об убийстве, – произнес Андре, ласково привлекая ее к себе. Некоторое время она молчала, потом чуть слышно прошептала два слова: – Муж мой… И продолжила: – Они знают, что последние слова Отца были обращены ко мне. Теперь Хозяином стал Приятель-Тулонец: начиная с воскресенья мною распоряжается граф Корона. – Я больше не оставлю вас! – воскликнул Андре. Она подставила ему для поцелуя свой прекрасный лоб; глаза ее были полны слез. – Благодарю! – сдавленно прошептала она. – Вы добры, вы сжалились надо мной. Но вам пора идти, а страхи мои просто глупы. Вокруг меня немало преданных друзей; Баттиста, мой кучер, ожидающий меня в начале улицы, знал меня еще младенцем и, если понадобится, даст себя убить ради меня. Слуги любят меня: я всегда старалась быть справедливой хозяйкой. Они будут надежно охранять меня те несколько часов, которые отделяют вас от исполнения цели всей вашей жизни, Андре, а когда вы достигнете этой цели, мне будет больше нечего бояться. Где я смогу вас увидеть? – Сегодня вечером на балу у баронессы Шварц. – Вы идете на этот бал! – изумилась молодая женщина. – Там будут все, кого я люблю, а мне сейчас нужна их помощь. – Тогда до вечера. Не ходите дальше, оставайтесь здесь и ждите, пока я не буду в безопасности, то есть не сяду к себе в карету. Неожиданно она схватила руку Андре, поднесла ее к губам и стремительно зашагала прочь. Заметив в темноте стройную молодую женщину, идущую быстрым шагом, вы бы наверняка сказали, что она возвращается с любовного свидания. Не более пятидесяти метров отделяло поворот, где стоял Андре, от начала улочки, где графиню ожидала карета. Андре услышал, как хлопнула дверца, графиня села в карету и крикнула кучеру: – Домой! Андре не заметил ничего подозрительного, что подтверждало бы страхи графини. Лошади встрепенулись и помчались рысью. И в этот миг ему послышался сдавленный крик, тотчас же потонувший в стуке колес. Он ускорил шаг; сердце его сжалось от страшных подозрений. Добежав до конца улицы, он увидел, как карета, увлекаемая мчащимися галопом лошадьми, выехала на бульвар. Андре побежал к бульвару. Но экипаж уже скрылся в ночи, и только затихающий шум колес некоторое время еще доносился до его ушей. Андре встал под фонарем, и с помощью кинжала распорол оба матерчатых квадратика, коими оканчивался грозный шнурок. III О ПОЛЬЗЕ ПРИВИВОК Англичанин Эд Дженнерс осчастливил мир своим замечательным открытием: профилактическим гомеопатическим лекарством. Благодарный Парламент присудил ему премию в двадцать тысяч фунтов стерлингов, и надо сказать, что цена эта была весьма невелика, ибо всего за полмиллиона франков была спасена жизнь множества мужчин и красота еще большего числа женщин. За то же самое открытие изобретатель Эшалот и его приятель Симилор получили ни больше ни меньше, как три франка пятьдесят сантимов. С такими деньгами трудно говорить об обеспеченном будущем. Постоянно пребывая в немилости у фортуны и не будучи в состоянии совершить ни одного из тех преступлений, которые как на сцене, так и в жизни приносят людям оборотистым и себе на уме несметные богатства и почет, этим славным малым только и оставалось что почесывать затылок. Симилор проделывал это с досады и от уязвленного самолюбия, а Эшалот – от сочувствия к Симилору и от жалости к нежному созданию, именуемому Саладеном, для которого Эшалот был кормящей матерью. В какой-то миг надежда посетила их сердца, и сей визит повлек за собой целую череду упоительнейших сновидений. Приятели увидели возможность поправить свои дела – убить женщину! Но их соседи, двое молодых людей, столь же, хотя и несколько по-иному, влюбленные в театр, имели жестокость высмеять их скромные притязания, ибо, поверьте мне, Эшалот и Симилор не стали бы дорого брать за то, чтобы убить женщину. А чего бы это стоило им самим, ведь у обоих была такая чувствительная душа! С тех пор приятели видели все в черном свете. Нужно очень долго убеждать себя, чтобы в конце концов решиться убить женщину. Когда же требуемая работа ума и сердца совершена и отчаянное решение принято со всей допустимой серьезностью, но искомой женщины нет как нет, мгновенно дает о себе знать пустота существования. Сомнений больше нет: жизнь – всего лишь чудовищное нагромождение иллюзий, и на самом деле на этой грешной земле нет ничего, кроме нищеты. Так обстояли дела у Эшалота и Симилора. В ночь с воскресенья на понедельник они спали плохо, их терзала лихорадка и мучили одурманивающие кошмары. Симилор со всей присущей его противоречивой натуре страстью погружался в пучину самого необузданного разврата; Эшалот же устраивал свое воображаемое маленькое хозяйство, сдав в сберегательную кассу скромную сумму, полученную за убийство, совершенное весьма почтенным способом. Для одного рай виделся в угарном дыму, наполненный полуодетыми непотребными девками, пляшущими среди разбитых бутылок. Затем картина менялась, и появлялись роскошные гостиные, томные женщины, соперники, коих Симилор раскидывал точными боксерскими ударами. Ото всюду доносились соблазнительнейшие ароматы изысканной кухни и дорогого табака: только подумаешь об этом – дрожь берет! Но в этом сладостном угаре Симилор видел только себя одного. Для верного друга, равно как и для невинного отпрыска, никаких удовольствий не предусматривалось! Таковы уж эти кутилы. Для другого раем был дом, колыбель, пеленки, огромная, на два литра, бутыль вина, стоящая на столе рядом с большим блюдом вареной грудинки с приправой, огонь, ласково потрескивающий в камине, в табакерке, что лежит на каминной полке, две унции низкосортного табаку, именуемого в народе «капралом», и несколько серебряных монет в жилетном кармане. Эшалот счастлив, Саладен спит и во сне улыбается во весь свой огромный рот, перепачканный молоком. Видите, какая бывает разница между двумя бесхитростными существами, воспитанными в одной школе нищеты! Эшалот и Симилор собирались вместе начинать новую жизнь – убить женщину; но как по-разному хотели они употребить законно заработанные деньги! Однако пробудившись, Эшалот убедился, что мансарда по-прежнему пуста. В своей корзинке заливался Саладен. Симилор же, открыв глаза, обнаружил, что вокруг нет ни вина, ни женщин. Воистину пробуждение было горьким для обоих. Обычно туалет не занимал у приятелей много времени. У Симилора была склонность к кокетству, но сия добродетель никогда не заводила его далеко, и любые омовения были ему глубоко чужды. Он взбивал свои волосы куском кривого гребня, смахивал пылинки с лохмотьев и на сем завершал указанную процедуру. Эшалот, бывший в глубине души большим поклонником чистоты, вытряхивал свой фартук и чистил руки старым лезвием от ножа, с помощью которого он также приводил в порядок свои ботинки. Увы, мы вынуждены признаться: вода вселяла в них ужас. Излишне напоминать, что и спали они одетыми, и только обе шляпы – серая фетровая и соломенная – получали ночью возможность отдохнуть. – Ах, – с сожалением вздохнул Симилор, – ну и сны мне снились! – Увы, стоит нам проснуться, как они улетучиваются словно дым, – смиренно ответил Эшалот. – Плутовка снова удрала! – ругнулся бывший учитель танцев. Разумеется, речь шла о той женщине, которую предстояло убить. Эшалот встал и направился к кричащему ребенку. – Вот и еще один, кому не повезло в жизни! – вздохнул он. – Баю-бай, малыш, спи! – Лучше угости его хорошеньким подзатыльником! – посоветовал Симилор. – Лучше дай мне су, Амедей, чтобы я мог купить ему молока. Он не виноват, что дела наши идут из рук вон плохо. Симилор не удостоил его ответом. Он попытался снова заснуть, но тут, последовав примеру Саладена, завопил его желудок. Устав от борьбы с ним, Симилор тоже встал и ищущим взором окинул комнату, в надежде обнаружить что-нибудь, что можно было бы продать. Он уже в сотый раз брался за эти поиски, и все напрасно. Тогда он принялся ругаться и богохульствовать; Эшалот постарался ласково успокоить его. Воистину, это странное товарищество обоих приятелей необычайно напоминало супружескую пару. В этой семье Эшалот был матерью, кроткой, всепрощающей, деятельной, прилагающей героические усилия, дабы поддерживать на плаву их нищее хозяйство. Симилор был отцом, шумным и веселым, когда желудок был наполнен едой, и хмурым, жестоким и недовольным, когда кормушка была пуста. Вот и сейчас он нахлобучил свою серую шляпу на сальные волосы и проворчал: – Пойду прогуляюсь, мне надо немного размяться, пока ты тут сюсюкаешь с младенцем. – Твоя правда, я так привязался к нему! – с горечью в голосе прошептал Эшалот. Бывший учитель танцев пожал плечами и направился к двери, сжевывая по дороге кончик сигары. – Амедей, – окликнул его Эшалот, – если тебе не трудно, купи на одно су молока. И, прежде чем уйти, подойди и поцелуй Саладена, ведь поцелуй отца – настоящий бальзам для ребенка! Симилор нехотя подошел и небритым лицом неловко ткнулся в землистый лобик младенца; в ответ Саладен пронзительно заорал. – Гнусная тварь! – выругался Симилор. На глазах Эшалота выступили слезы, он взял Саладена на руки и принялся укачивать. Для многих прогулка была повседневным промыслом. Во времена, когда бульвар дю Крим процветал, она начиналась у ворот Сен-Мартен и оканчивалась у Пети-Лазари. Всякого рода прощелыги бродили друг за другом, словно муравьи, мимо печально известных домов: нигде нельзя было увидеть более жалкой процессии! Сюда приходили те, кто промышлял окурками сигар, неотесанные матроны, прибывшие из деревни, беспризорные дети, опустившиеся щеголи. Некоторые совершали сей славный променад вот уже десять лет, ни разу не найдя ни гроша, но избранники судьбы, случалось, находили даже монеты в пятьдесят сантимов. Эти легенды известны всем. И все верят, что в один прекрасный день повезет именно ему. А почему бы и нет, место подходящее. Оставшись один, Эшалот принялся укачивать Саладена, который хотел есть и потому не отвечал на его ласку. Этот младенец был стоек, словно кремень, но у всякого воздержания есть свои пределы. Саладен орал как бешеный; его тощее тельце корчилось и извивалось. Вся его кровь прилила к щекам, искаженное криком крохотное личико напоминало морщинистый лик демона. – Спи, малыш, баю-бай! – терпеливо твердил Эшалот. – Он у нас такой хорошенький, наш малыш, мамочка так любит его! Спи, а папочка скоро принесет тебе ням-ням. Именно этого и желал Саладен: ням-ням… Сколько раз Эшалот молил Господа совершить чудо: превратить его в женщину! Сколько раз после этих молитв он с тоской расстегивал свою аптекарскую блузу, снова и снова убеждаясь, что по-прежнему не может предложить свою грудь младенцу! Во время прогулок он с завистью смотрел на кормилиц. Такое же удовольствие доставляло ему созерцание военных, ибо их блестящие мундиры всегда привлекали взоры этих полногрудых дам. Что за трогательные ассоциации! – Баю-бай, малыш, спи! Наш папа Амедей добрый, гули-гули, ах ты, мой хорошенький, гули-гули-гуленьки! Он поднял Саладена высоко над головой и резко опустил вниз. Это любимая игра малышей, когда они сыты. О желудке Саладена нельзя было сказать, что он сыт. Каким бы щуплым ни был этот младенец, животик его был ого-го и требовал пищи. Саладен завопил с новой силой, и Эшалот почувствовал, что его уши вот-вот лопнут. Он рассердился. – Ах ты, маленький мошенник, – вскипел он, опуская ребенка на землю, – вот как сейчас сяду на тебя, помяни мое слово! Надоели мне твои вопли! Я же честно признался, нет у меня ничего – ни в руках, ни в карманах, а поэтому будь любезен, заткнись!.. Саладен заорал еще громче. – Ну что ж! – воскликнул Эшалот. – Раз такое дело, тем хуже для меня! Пойду с протянутой, просить милостыню! Обуреваемый противоречивыми чувствами, он вышел из дому. В душе Эшалот был горд, и мысль о необходимости протянуть руку за подаянием казалась ему непомерно унизительной. К счастью, Бог его миловал: перед дверью соседки стояла бутылка с молоком, принесенная перед завтраком молочником, Эшалот прибрал ее. Тут в нем зародилась профессиональная гордость, и, переступая порог их берлоги, он сказал себе: – Надо же, а у меня, оказывается, легкая рука! Расскажу об этом Амедею. Ну да что поделаешь, – продолжал он, поднося бутылку ко рту Саладена, который тотчас же умолк, как только почувствовал на губах вкус молока, – когда ты дошел до ручки, тут уж раздумывать не приходится, разве не так, сокровище мое? Да пей же ты! Пей! Только не захлебнись, обжора! Однако, – с неожиданной грустью пробормотал он, – соседка вовсе не богата! А я-то рассчитывал вырастить моего Саладена честным малым, который станет бриться каждый день. Ладно, после первого же дела заплатим соседке за молоко. А малыш не узнает, какими темными делишками было сколочено доставшееся ему состояние. У него засосало под ложечкой, однако он благоговейно спрятал бутылку с остатками трапезы Саладена; к этому времени младенец уже спал как сурок. Счастье никогда не приходит одно. На лестнице послышались шаги Симилора, фальшиво насвистывавшего модную песенку. Отчаянная надежда сжала сердце Эшалота. «Может быть, жильцы с третьего этажа вернулись к разговору о женщине», – подумал он. Вошел Симилор и высыпал на стол горсть монет по десять сантимов. – И все это ты нашел на прогулке? – ахнул Эшалот. – Не мелите чушь… – вместо ответа процедил Симилор. Ноздри бывшего аптекаря сладострастно втянули в себя подозрительно знакомый сладостный запах. – Вы пили водку, Амедей, – произнес он. – И что из этого? – А кто-то клялся, что не будет пить один. – Спокойно, мой котеночек! Чтобы обтяпать дельце, надо прежде поговорить с человеком, разве не так? – Да, Амедей, – смягчившись, согласился домохозяйка-Эшалот. – А с кем ты говорил? – Но чтобы поговорить с человеком, надо пойти в трактир, посидеть, сыграть партию в бильярд… – не слушая приятеля, продолжал Симилор. – А уж если он угощает… – Ну и голова же ты у меня! – с восхищением и завистью воскликнул Эшалот. – Хватай свою шляпу, и пошли. Скоро мы узнаем, чего ему Надо со всеми этими непонятными словами: «Будет ли завтра день?» – и прочими секретами. Я плачу за две порции колбасы и выпивку. – Благодарю, Господи! – прошептал Эшалот. – Неужели наконец и для нас настанут счастливые деньки! Восхищение приятеля пришлось Симилору по душе. – Вот и для простого человека, – назидательно произнес он, – есть свой случай, а тот, кто посмелее, сумеет его ухватить и выбраться наверх. Честность – это все чепуха; с ней так и будешь всю жизнь гнить в нужде. Если бы мы не дали слабину и сразу же выбросили из головы эти глупости, я бы не упустил столько возможностей и уже давным-давно выбрался бы из нищеты, которая нам мешает делать дела. Ведь если ты беден, общество почему-то считает своим долгом презирать тебя. А вот ежели ты, к примеру, разбогател не вполне честным путем, то все соседи перед тобой шляпу снимают. Разве не так? – Истинная правда! – подтвердил Эшалот, извлекая из-под кровати не поддающиеся описанию лоскутки. – Следовательно, – продолжил Симилор, – французское общество состоит из дураков и умников, урвавших свой кусок и сумевших вовремя выйти из игры. Вторые дурачат первых, при этом лицемерно им сочувствуя, но как только бедняги пытаются получить свою долю, умники мгновенно заявляют: «Это мое!» Таков закон, придуманный теми, что успели первыми набить карманы. Ну так что, хочешь вечно краснеть и оставаться в тени, затянув потуже пояс? – Нет, нет, – быстро ответил Эшалот, сворачивая в узелок свое тряпье. – Мы же уже договорились, что не станем обращать внимания на такие предрассудки, как честность. – Тогда вперед! Постараемся извлечь выгоду из их преступлений. А что ты намерен делать с этими тряпками? – Это моя стирка, Амедей! Я хочу постирать в канале пеленки Саладена. Эшалот взял узелок Саладена и бутылку с остатками молока. При мысли о том, что сейчас они будут есть колбасу, лицо его озарилось радостью. Симилор, имея некоторые представления о светском лоске, немного стеснялся узелка, а еще больше младенца. Ему казалось, что невинное создание может повредить его успеху у женщин. Описывая шествие по Парижу этой семьи, состоящей исключительно из мужчин, мы краснеем от стыда: Эшалот, как обычно, тащил тройную ношу; Симилор, как всегда прекрасный, гордо бросал убийственные взоры сквозь витрины магазинов и охотно уходил вперед товарища в надежде, что его сочтут холостяком. Так они дошли до убогой харчевни и сразу сели за черный от грязи, словно залитый чернилами, еловый стол, где стояли миска для салата и банка с горчицей. Саладен, узел и бутылка были последовательно развешаны на гвоздях, заменявших вешалку. Хозяйка, уродливая старуха, которая наверняка сильно грешила в молодости, ибо успела заработать деньжат на покупку этой харчевни, с подозрением на них посмотрела. – Карьера преступников обеспечит нам будущее, – деловым тоном произнес Симилор. – А подробности нам уточнят, вместе с «Будет ли завтра день?» и прочим. Кстати, это Пиклюс угостил меня сегодня утром… – Сам господин Пиклюс! – восторженно воскликнул Эшалот. – Эй, потише. Эти люди не имеют привычки говорить громко и не желают, чтобы их имена слышали все, кому не лень. – Ради этой колбасы я готов на все. Ох, что за прелесть! – Да, неплоха… Вскоре мы попробуем и другие блюда, те, что подороже, но это после, когда мы приобщимся к тайне, а это произойдет только в среду. – Разве? – удивился Эшалот. Симилор приложил палец к губам. – Да, а это означает, что еще два дня нам придется жить на собственные средства. А потом начинаем новую жизнь. Я больше не хочу упускать свой случай, думаю, что и ты тоже. Так что сейчас придется призвать на помощь всю нашу сообразительность, чтобы протянуть эти два дня. Как ты считаешь, имея двадцать пять франков, дотянем ли мы до среды? Тыльной стороной руки Эшалот вытер губы. Сорок восемь часов роскошной жизни! – Так вот, – завершил свою мысль Симилор, – я придумал одну штуку: надо спасти утопающего; за это мы получим премию в двадцать пять франков. – А у тебя есть на примете утопающий? – неуверенно спросил Эшалот. – Да, котеночек. Ты мой утопающий. И заметь, что это справедливо, а я – твой спасатель. Ну как, неплохо придумано? Все соприкосновение Эшалота с водой состояло в том, что он время от времени полоскал в канале полдюжины носовых платков, служивших пеленками Саладену. Вода внушала ему такое отвращение, что из страха перед ней он даже забросил свое любимое развлечение – ловлю рыбы на удочку. Мысль же Симилора была чрезвычайно проста: он хотел столкнуть Эшалот в шлюз, а затем вытащить его оттуда. Но тут возникло препятствие: Эшалот не пожелал лезть в воду. – О чем ты говоришь, ты же не умеешь плавать! – робко начал он, вздрагивая всем телом и отталкивая от себя тарелку. – Мне кажется, что это нечестная игра. – Ты что, струсил? – угрожающе возвысил голос Симилор. – Я всегда делаю все, что ты мне приказываешь, но лезть в воду – это уж слишком. – И ты еще смеешь утверждать, что это существо тебе дорого, – воскликнул Симилор, воздевая руки к Саладену, висящему на гвоздике и мирно спящему. – Ешь, бездельник! И зачем только я стараюсь ради этого ничтожества! Ешь! Но у Эшалота весь аппетит пропал. Завтрак его был испорчен. – Амедей, – печально сказал он, – ты оскорбляешь меня в лучших чувствах. – Нет больше Амедея, ты выходишь из дела. – Я готов на все, но только не прыгать в воду. – А у тебя есть другой способ заработать двадцать пять франков? Симилор, уже покончивший со своей колбасой, придвинул к себе колбасу экс-аптекаря и принялся с аппетитом уплетать ее. – Послушай, – сказал Эшалот, даже не пытаясь возражать против столь наглого грабежа, – а в этом шлюзе очень глубоко? – Да, – ответил Симилор, – зато он неширок. – Отлично! Тогда прыгай сам, а я даю тебе честнейшее слово, что мгновенно выловлю тебя оттуда! Симилор бросил на него испепеляющий взор. – Такое вот купание после еды, – произнес он, доедая вторую порцию колбасы, – и конец, твой друг скоропостижно скончался! У Эшалота хватило деликатности не напомнить приятелю, что тот только что предлагал ему проделать то же самое, нисколько не заботясь о его здоровье. Он никогда не пользовался своими преимуществами, что делало его поистине незаменимым партнером в делах. И приятели принялись искать способы. Нам же кажется, что настало время поведать некую трогательную историю, трепетную и истинно парижскую, а именно историю рождения Саладена, этого дитя сцены и кулис, чьим призванием скорей всего станет укрощение львов, глотание шпаг или же подмостки ослепительного театра Амбигю-Комик. Для этого нам предстоит вернуться к тем временам, когда серая шляпа Симилора была моложе на три года, а Эшалот подметал улицу перед покосившейся аптекой на улице Вожирар. Симилор, любезный кавалер, словно специально созданный для того, чтобы нравиться дамам, давал уроки танцев возле заставы Монпарнас. Ида Корбо по прозвищу Серебряная щечка, в юности своей испытавшая множество передряг, помогая нашим солдатам завоевывать Алжир, теперь торговала фруктами, ячменным сахаром и лимонадом напротив собора. Ветераны нашей славной армии по-прежнему обожали ее, так что в своем квартале она пользовалась заслуженным почетом и уважением. Бывшая маркитантка Ида Корбо была высокого роста, сутула, имела пышную седую шевелюру и густые мужские усы. Однако отдельные недостатки внешности никак не отражались на ее веселом характере. Происхождение же накладной щеки, которую она носила на правой стороне лица и которая придавала ее облику определенное своеобразие, оставалось тайной. До сих пор Симилор и Эшалот довольствовались обществом друг друга, и сердца их были свободны от нежных чувств. Но однажды вечером они повстречали Иду – как раз тогда, когда она, изрядно накачавшись водкой у стойки захудалого трактира, блистала в окружении избранного круга своих обожателей. Огонь, о котором говорит в своих бессмертных стихах лесбиянка Сафо, тут же заполыхал в жилах обоих приятелей. Воздух внезапно пропитался ароматами духов и сделался теплым; они поняли, что на улице весна, поют птички, улыбаются цветы. Ида затянула патриотическое куплеты, а затем отправилась танцевать с кавалером, имевшим вместо обеих ног деревяшки. Судьба обоих наших друзей была предрешена; Эшалоту, как всегда, предстояло сыграть благородную роль друга, жертвующего собой во имя дружбы. Эшалот преисполнился чувством самоотречения и даже стал находить в нем некое удовлетворение. Через несколько месяцев проведенных в саду Армиды, где у входа сидел меланхоличный Эшалот, Симилор возрадовался и возгордился. Он сообщил, что Ида скоро станет матерью. С этого дня Ида Корбо принялась поглощать спиртные напитки в поистине ужасающих количествах. Иногда Симилор позволял Эшалоту покупать ей сладости. Исполняя требования будущей матери, они целыми днями накачивали ее водкой. После рождения младенца Ида всерьез собиралась остепениться. Однажды вечером она пожелала принять лишний стакан, но хрупкий организм не выдержал этого испытания. Душа покинула ее тело как раз в ту минуту, когда Саладен входил в этот мир. Маленький плут родился пьяным. Эшалот поклялся воспитать его. Безутешный Симилор пожелал сохранить хотя бы щечку любимой. Однако его ожидало разочарование; покойница обманула его – щека была сделана из олова. Около полудня госпожа Эсташ, хозяйка кабачка, видя, что наши друзья не собираются больше ничего заказывать, выставила их за дверь. Эшалот и Симилор принадлежали к тем личностям, которые могут безропотно слоняться по улицам столицы мира по двенадцать часов кряду. К восьми часам они прошли восемь лье, но никакого приемливого способа обогащения их прогулка не породила. Они только нагуляли аппетит. Запахи, доносившиеся из дешевых харчевен, манили их все сильней и сильней. Беседа приятелей незаметно перешла на гастрономические темы, и они принялись составлять меню обеда, который они закажут себе послезавтра после «дела». Так они дошли до ротонды Тампля, как вдруг в глаза им бросилась афиша, приклеенная на высоте человеческого роста. И оба в один голос воскликнули: – А вот и наши три франка пятьдесят сантимов! – Они сделали открытие: прививание вакцины! Ибо афиша гласила: «Мэрия шестнадцатого округа. Бесплатное прививание вакцины с десяти часов до полудня, госпиталь Св. Людовика. Родителям, имеющим свидетельство о бедности, выдается премия в размере трех франков пятидесяти сантимов». Саладену не прививали вакцину. Некоторое время Симилор и Эшалот молча глядели друг на друга. Найдя способ, они обрадовались, но радость их быстро утихла. Между ними и премией стояло препятствие: свидетельство о бедности. – Черт побери, – решил Симилор, – вот ты и отправишься его получать. – Но ведь это ты отец ребенка! – возразил Эшалот. Можно понять инстинктивный страх наших друзей перед теми местами, где выправляют разного рода свидетельства. Внезапно Эшалота осенило. Он подошел к афише и одним рывком отодрал ее от стены, ухитрившись при этом даже не надорвать ее. Это было настоящее искусство. На вопросы Симилора он отвечал: – Амедей, благодаря моей идее мы удвоим эту сумму или даже утроим; к тому же никто не станет царапать ланцетом твоего ребенка. Есть нечто более ценное, чем деньги: это кредит. А что нужно, чтобы получить кредит? Некое существенное обоснование. Этим обоснованием была афиша, извещавшая, что Саладен оценивался в три франка пятьдесят сантимов, потому что ему не была привита вакцина. Когда же ему привьют вакцину, он больше не будет стоить ни гроша. Вооружившись афишей и Саладеном, Эшалот и Симилор начали свое триумфальное турне. Повсюду им открывали кредит в десять су под их живой залог. Переходя из кабачка в кабачок, они становились все богаче и богаче, а Саладен был спасен от прививания вакцины! Вечером следующего дня, утомленные от приятно проведенного времени и набитые едой, словно пушки порохом, они уселись отдохнуть на бульваре Тампль. Саладен также принимал участие в пиршестве, отчего теперь страдал животом; его поставили освежиться под скамью. Вокруг приятелей разыгрывались сотни мелодраматических сцен, и им оставалось только выбрать спектакль на свой вкус. Со своей скамьи им были видны улицы Галиот и вход в узкий проулок, ведущий к трактиру «Срезанный колос». Там начиналась земля обетованная; нет, больше: рай небесный! Некоторые парижские кафе поистине превратились в храмы, куда имеют доступ лишь посвященные; сознание того, что и тебе удалось побывать в них, наполняет тебя законной гордостью, и ты сразу же начинаешь причислять себя к избранному обществу. «Английское кафе», кафе «Тортони», кафе «Риш», как раз относятся к тем знаменитым капищам, одно лишь упоминание о которых заставляет трепетать сердце молодого человека. Вершиной вожделений наших друзей был трактир «Срезанный колос». Уже много месяцев, а может, даже и лет, как Эшалот и Симилор питали честолюбивые надежды переступить порог сего респектабельнейшего заведения. Но они не осмеливались. Хорошая еда делает сердце мужественным, удача распаляет честолюбие. – Хотя, конечно, свидание назначено на завтра, – произнес обычно застенчивый Эшалот, – но почему бы нам уже сегодня вечером не пропустить там рюмочку? Что ты на это скажешь, Амедей? Желания Симилора совпадали с желаниями приятеля, однако он сознавал, какое непреодолимое расстояние отделяет их от господина Пиклюса. – Ему все равно, что принц, что герцог, – заявил он, – если он пожелает, то и самого короля не впустит. Он такой важный, прямо как господин Кокотт, а может, и еще больше. Надо найти предлог. К примеру, ты пришел к нему в трактир повидаться с приятелем, который назначил тебе там встречу, или в крайнем случае ты случайно заметил, как твой приятель туда зашел. Только так, и никак не иначе. В этот момент человек в полувоенном костюме свернул с улицы Галиот к трактиру «Срезанный колос»; тусклый свет качающегося на ветру фонаря скользнул по его лицу. Великие решения всегда принимаются мгновенно, они похожи на вспышку молнии. Оба родителя Саладена разом поднялись. – Ты узнал его? – спросил Симилор. – Это господин Патю, капитан «Орла из Мо № 2», что плавает по каналу, – ответил Эшалот. – Нам повезло, – продолжал Симилор, – у меня есть к нему разговор: этот рулевой осмелился обойтись со мной неуважительно на своем корыте. Честь требует, чтобы я задал ему хорошенькую трепку – чем не предлог? Вперед! Эшалот не менее приятеля придерживался кодекса чести. Приложив все усилия, чтобы сдержать охватившее его волнение, он последовал за Симилором, который с задорным видом двинулся к проулку. Саладен остался под скамейкой. Что еще сказать? Мы знаем чувствительную душу Эшалота. Вместо того чтобы предаваться долгому и малоприятному анализу охватившего Эшалота наваждения, мы лишь констатируем факт: он забыл Саладена! Прежде чем войти, Симилор отряхнул костюм и сдвинул на ухо свою серую шляпу, но от его обычной самоуверенности не осталось и следа. Есть пороги, один вид которых заставляет сильнее биться сердце. Но он все-таки толкнул дверь; Эшалот проскользнул вслед за ним, инстинктивно стянув свою соломенную шляпу, словно христианин, проникающий в храм. Они очутились в насквозь прокуренном просторном зале, где в клубах табачного дыма сидели и выпивали человек сорок посетителей. Эти любители подымить трубочкой и игроки в домино, с виду напоминавшие мелких буржуа, скорей всего были, да что там говорить – наверняка были теми самыми парнями, которые знали свое дело! Симилор направился прямо к стойке, где толстая женщина в фиолетовом платье уже расточала нежные улыбки капитану Патю. – Капитан! – рявкнул Симилор не своим голосом. Пресноводный моряк вздрогнул и обернулся, ища того, кто осмелился прервать его приятный разговор. – Тише, Амедей, тише, – шепнул приятелю Эшалот. – Как, – не внимая другу продолжал Симилор, – вы меня не узнаете? Не узнаете молодого человека, которого вы оскорбили своим недостойным поведением, когда тот рискнул отправиться в плавание на вашем дрянном корыте? Так вот, знайте же, что я пообещал поколотить вас и сдержу свое слово, даже если у меня под рукой окажется всего лишь одеяло, трость или тарелка с пирожными! Я всегда дерусь с открытым забралом! Громовой раскат хриплого смеха встретил окончание этой речи, вызвавшей всеобщее одобрение. Эшалот взглянул на товарища, и ему показалось, что тот стал выше ростом. Во всех странах муж королевы окружен завистниками. Капитан Патю не избежал сей участи. Когда почтенная матрона, хозяйка «Срезанного колоса», заговорила о том, что неплохо бы выбросить Симилора за дверь, раздался приглушенный ропот. – В почтенные заведения не пускают всякий сброд! – настаивала управительница, откликавшаяся на веселое имя госпожи Лампион. – А почему бы вам не заткнуть свою пасть, моя толстушкa? – спросил Симилор, приосанившись. – Вот если, к примеру, вам шепнут на ушко: «Будет ли завтра день?..» Не успел он закончить фразу, как его глаза, нос и рот мгновенно исчезли под пресловутой серой шляпой, нахлобученной могучей рукой хозяйки по самый Подбородок… В зале раздались взрывы хохота. В Эшалоте проснулся лев. Он закатал рукава блузы и к вящему веселью галерки встал в стойку французского боксера. Но вместо того чтобы начать раздавать удары направо и налево, он вдруг принялся отчаянно чесать в затылке, бормоча при этом: – Здравствуйте, господин Пиклюс; доброго здоровья, господин Кокотт; ваш слуга, папаша Рабо. К стойке направлялся сам господин Пиклюс. Приблизившись, он тихо прошептал на ухо величественной Лампион: – Это овечки Приятеля-Тулонца. Поэтому давай без глупостей. А так как она открыла рот, намереваясь ответить, Пиклюс добавил: – Потерпи до завтрашнего вечера. Через несколько минут Симилор и его верный Эшалот, чувствуя себя на седьмом небе от счастья, уже сидели за столом среди пятнадцати-двадцати артистов, знающих свое дело. Это была поистине волшебная ночь: они играли и совсем позабыли о делах. Попав в столь изысканное общество, наши друзья буквально преобразились, и никто из них не вспомнил о покинутом младенце. Впрочем, уже сколько раз Саладена забывали, то под стулом, то подвешенным на гвоздике, хотя, надо признать, здоровье его от этого отнюдь не пострадало. Около четырех часов утра началось какое-то движение. Некто, в ком с первого же взгляда можно было распознать важную персону, вошел через потайную дверь, выходящую на Дорогу Влюбленных. При виде этого черноволосого человека с густыми бакенбардами и в синих очках у обоих приятелей зашевелились смутные воспоминания. Но они так и не смогли придать им ясности, ибо головы их уже были одурманены изобилием изысканных напитков и яств, коих им разом довелось попробовать. У Лекока не было ни черных бакенбард, ни синих очков. Когда же они все-таки попытались совместными усилиями что-то припомнить, Пиклюс шепнул им: – Пора бай-бай, мои пташки! Свидание назначено на завтра, на одиннадцать утра; вам предстоит встретиться с самым главным хозяином, господином Матье… – Так, значит, всем заправляет Трехлапый! – удивленно воскликнул Эшалот. А Симилор, которого удивить было гораздо сложнее, добавил: – Я всегда подозревал, что этот обрубок знает свое дело! Еще не начало светать, когда приятели направились по аллее, ведущей к бульварам. Симилор шел впереди, радостно расправив плечи. – Смотри, – говорил он, вдыхая полной грудью ночной воздух и выдыхая вместо него чистейшую радость, – видишь, как ярко сверкает на горизонте наше будущее? Эшалот, чье сердце и желудок были в равной мере переполнены, бросился к приятелю на шею, сжал его в объятиях и пробормотал: – Наш малыш выйдет в люди! Фраза эта завершилась истошным воплем. Эшалот отпрянул от Симилора и принялся лихорадочно ощупывать свою спину и подмышки, то есть места, где обычно размещался Саладен. Но Саладена там не было. Движимый неким слепым инстинктом, он даже обыскал карманы: Саладена не было нигде. К Эшалоту постепенно возвращалась память. Он жалостно заблеял и стрелой полетел к улице Галиот. – Черт возьми! – пожал плечами стоик Симилор. – Вряд ли кто-нибудь украл его… кому он нужен? Но так как внезапно до него донесся глухой вой Эшалота, то ему волей-неволей пришлось ускорить шаг. По дороге он заметил, как какой-то мужчина бегом пересек бульвар, и тут же карета, стоявшая на другой стороне бульвара, галопом понеслась прочь. – Убили женщину! – хрипел тем временем Эшалот, стоявший на коленях перед скамьей. – Убили двух женщин! В самом деле, возле скамьи в луже крови лежали два женских тела. Стоящий рядом фонарь освещал покоящуюся на куче мусора голову графини Корона, рядом с которой мирно спал Саладен. Здесь же можно было разглядеть мраморно-бледное лицо Эдме Лебер, обрамленное длинными спутанными золотистыми локонами. IV УБИТЬ ЖЕНЩИНУ За несколько минут в разных местах произошло два убийства, однако оба «доказательства преступления» были обнаружены под одной скамьей на бульваре. События последних двух дней разворачивались именно так, как о том рассказала графиня Корона. Часть нашего сюжета, а именно семейная трагедия супругов Шварц, почти подошла к развязке. Все, что зависело от исхода этого спектакля, должно было произойти согласно желанию баронессы, если только в последнюю минуту какие-нибудь тайные и могущественные силы не нарушат создавшегося равновесия. Господин Шварц, поглощенный решающей партией, которую он с присущим ему мрачным упорством собирался доиграть до конца, предоставил прочим событиям разворачиваться так, как им заблагорассудится. Можно было держать пари десять против одного, что роман юных влюбленных Мишеля и Эдме, равно как и Мориса и Бланш завершится банальнейшей развязкой, а именно двумя свадьбами, для которых теперь были устранены все препятствия. Но кто же в действительности – барон Шварц или его жена – претендовали на роль Провидения в том маленьком мирке, где живут Наши герои?.. Целый день Эдме была счастлива, однако ее все время лихорадило, ибо она лишь недавно оправилась после болезни, и теперь ее ослабленный организм не выдерживал обрушившихся на нее волнений. Бланш с матерью явились в бедное жилище госпожи Лебер. Нежный поцелуй заменил долгие объяснения между баронессой и Эдме. На потертую кушетку легло очаровательное бальное платье. Однако кое-кто отсутствовал. На этом празднике чувств не было Мишеля. После ухода своих гостей Эдме еще долго ждала Мишеля, но силы изменили ей, и она, как была в роскошном бальном туалете бросилась на кровать и забылась тяжелым сном. По прошествии некоторого времени – она не могла определить, как долго она проспала, – раздался тихий стук. Обрадовавшись, она вскочила и бросилась к двери, думая, что это наконец пришел Мишель. На улице было темно; лампа едва горела. Вошел господин Брюно. – Мишель не придет, – произнес он, отвечая на немой вопрос, светившийся в беспокойном взоре девушки. Затем он прибавил: – Надеюсь, что я заслужил право в течение сорока восьми часов безраздельно располагать его временем, чтобы обеспечить ему в дальнейшем счастливую жизнь. – Я верю вам, – испуганно, но в то же время почтительно прошептала Эдме, – верю во всем. Но вынуждена признаться: Мишель не любит вас. Господин Брюно улыбнулся, что случалось с ним отнюдь не часто. – Еще бы! – ответил он. – Он обижается на меня каждый раз, когда я не даю ему сломать себе шею. И, посерьезнев, спросил: – Скажите мне, спит ли ваша матушка? Получив утвердительный ответ, он поднял лампу и прошел в спальню почтенной дамы. Эдме последовала за ним и с удивлением увидела, как он, подойдя к комоду и откинув тонкую ткань, взял боевую рукавицу, украшенную чеканкой и драгоценными камнями. При этом взгляд его был устремлен на окно, и она заметила, что на улице стоит глубокая ночь. – Ах, значит, уже поздно? – пробормотала она. У соседей часы пробили три. – Мне не приходится выбирать время, – холодно произнес господин Брюно. – Проснувшись, ваша добрейшая матушка должна найти эту вещь на прежнем месте. Завтра ей предложат за нее кругленькую сумму. – Что вы собираетесь делать? – спросила Эдме, видя, что он прячет рукавицу под плащ. – Увидите, дочь моя. А сейчас вам придется пойти со мной, – ответил он. – Эта игрушка, уже успевшая причинить вам столько зла, должна наконец послужить доброму делу. Однако для этого в ней кое-чего не хватает. Мы отправимся недалеко, в кузницу моего старого друга. Через час вы вернете рукавицу домой. Эдме быстро привела в порядок волосы и набросила на плечи плащ. Окна в кузнице, находившейся по соседству с трактиром «Срезанный колос», были освещены; кузнец уже ждал их на пороге. Всем известно, что огромные негнущиеся латные рукавицы из железа, именуемые нами «боевыми рукавицами», давным-давно никто не делает. Идея создания таких рукавиц наверняка пришла в голову их изобретателю после длительного созерцания всевозможных ракообразных. Словно опытный повар, разделывающий омара, господин Брюно, от которого Эдме не ожидала подобной ловкости, в одно мгновение разобрал рукавицу. Кузнец уже держал наготове три стальные бахромчатые полосы; бахрома была выполнена из тонких острых игл. Брюно приладил полосы с внутренней стороны рукавицы, предварительно немного подогнув острые концы в направлении ладони. Затем он столь же быстро-заново собрал рукавицу. На этом операция завершилась. Мы уже видели, как господин Брюно простился с Эдме. Эдме медленно шла по южной стороне бульвара. Она не боялась пустынных улиц. Лихорадка прошла, и теперь она судорожно пыталась разобраться в обрывках мыслей, то и дело всплывавших в ее голове. Возле «Турецкого кафе» она разминулась с каким-то мужчиной. Пройдя несколько шагов, мужчина изумленно всплеснул руками, резко остановился и стал смотреть ей вслед. С виду это был человек средних лет. Он был одет в просторное пальто с высоким, до самых ушей, воротником. У него были черные бакенбарды и синие очки. Внезапно он принял какое-то решение и, развернувшись, заспешил обратно, старательно подражая нетвердой походке пьяницы. Догнав Эдме, он грубо схватил ее за талию и пьяным голосом произнес: – Ну что, моя крошка, ночь на дворе, а мы одни и хотим поразвлечься? Эдме, мгновенно выйдя из состояния оцепенения, высвободилась из его объятий и ускорила шаг. Но человек в синих очках уже успел нащупать у нее под плащом вышеупомянутую рукавицу. Если бы мы не боялись, что нас обвинят в избытке воображения, мы бы стали утверждать, что именно железная боевая рукавица была вожделенной целью его дерзкого ухаживания, ибо, обнаружив ее, он на несколько мгновений застыл – то ли от изумления, то ли от неожиданности. Впрочем, если он знал Эдме Лебер, он мог вполне знать и о рукавице. Однако замешательство его быстро прошло. Рванувшись вперед, он хрипло и нечленораздельно, как это свойственно запойным пьяницам, заорал: – Эй! Куда же ты? Ты что это, вздумала пренебрегать мной, раз у меня нет кареты? – продолжал он, шатаясь и беспорядочно размахивая руками. – Ишь ты, фря какая! Честный француз тебе сердце свое предлагает, а ты кочевряжишься? Только попробуй позвать полицию! Я тебе покажу такую полицию!.. Уж я тебя осчастливлю, даже если ты брыкаться будешь! Он разыгрывал пьяного, подобно знаменитому Фредерику Леметру… немного перехлестывая. Но у нашей бедной Эдме не было никакого опыта общения с подобного рода людьми. К тому же состояние ее не позволяло хладнокровно оценить обстановку. Она была охвачена тем инстинктивным страхом, что сжимает сердце ребенка, запертого в темном чулане. Испуская сдавленные крики, боясь услышать собственный голос, она в ужасе бежала куда глаза глядят. Забыв о своей роли, человек в синих очках следовал за ней. Он был уверен, что девушка не станет оборачиваться. Впрочем, у него была еще одна забота: его пронзительный взор, устремленный поверх очков, всматривался в даль бульвара, стремясь заметить, не покажется ли там сторож, способный отнять у него добычу. Но, насколько хватал глаз, бульвар был пустынен, а: крики бедной Эдме становились все глуше и глуше. Девушка перебежала на другую сторону улицы. Возможно, у нее мелькнула мысль повернуть назад и догнать господина Брюно, чтобы найти у него защиту. Что же касается человека в синих очках, то намерения его не оставляли никаких сомнений. Он хотел заставить свою дичь свернуть на пустыри, тянувшиеся по обеим сторона недавно проложенного бульвара Бомарше. Там он станет полным хозяином положения. Ему не пришлось долго бежать. Пересекая улицу, Эдме споткнулась о брусчатку мостовой и, сделав еще несколько шагов, без чувств упала на тротуар неподалеку от улицы Галиот. Сжалившись над девушкой, человек в синих очках поднял ее и, словно пушинку, отнес на ближайшую скамейку. Но там он оставил ее, даже не попытавшись привести в чувство, а сам удалился быстрым шагом, унося под пальто вожделенную рукавицу. Путь его лежал в трактир «Срезанный колос», где его приход стал сигналом для выдворения оттуда Эшалота и Симилора. Когда наши приятели оказались на улице, а двери святилища надежно заперты, человек снял синие очки, затем черные бакенбарды, и миру предстало энергичное лицо великого Лекока. – Вот так история! – воскликнул он, извлекая на свет свою добычу. – А я, словно простой воришка, уже собрался вскрывать отмычкой дверь своей соседки, чтобы раздобыть эту игрушку! – А что это такое, патрон? – раздались любопытные голоса. – Это, – ответил Лекок, – это четыре миллиона в банковских билетах, которые будут разделены между послушными котятами. Несколько десятков пар глаз вопросительно уставились на него. – Милые вы мои, – продолжал Лекок, – разве вы можете обвинить меня в том, что я боюсь скомпрометировать себя, появляясь в вашем обществе, а? Полковник был выпускником старой школы, я же получил новейшее образование, а в основе его лежит постулат: сделай так, чтобы тебя все обожали, и это будет лучшей защитой от предательства. – Но не снимай удавки с шеи своих обожателей, – заметил Пиклюс. Лекок одобрительно кивнул ему. – Ты всегда знаешь, что сказать, дружище! Не прерывая разговора, он тщательно разглядывал рукавицу, вертя ее во все стороны. – Править силой, внушив к себе любовь, – вот чему учат нас в новой школе, – рассуждал он. – Каждый из вас знает, что причинить вред папочке нет никакой возможности; но если бы такая возможность и представилась, то в почтенном обществе не нашлось бы ни одного Иуды! Согласны, мои голубки? Эта короткая, но весьма выразительная речь была встречена бурными возгласами одобрения. – Графиня Корона еще не приходила? – спросил Лекок, пряча под пальто железную рукавицу. Услышав отрицательный ответ, он внушительным взором окинул собравшихся. – Положительно здесь всегда чисто, столы накрыты и все готово! Кокотт! – позвал он. – Подойди сюда. Знаешь ли ты господина Брюно, торговца верхним платьем? – Еще бы! – ответил наш щеголеватый путешественник из монфермейского омнибуса. – Сейчас ты отправишься на бульвар. На ближайшей скамье ты увидишь девушку, она без сознания. Ты окажешь ей необходимую помощь, а когда она придет в себя, любезно проводишь ее домой, не дозволяя никаких неподобающих вольностей. Она живет в том самом доме, где я имею обыкновение отдыхать. По дороге ты сделаешь так, чтобы вы повстречали жандармов или наряд национальной гвардии. Девица сделает заявление, то есть с наивностью, присущей ее полу и возрасту расскажет полиции о том, что с ней случилось. Ты же скажешь, что при твоем появлении вор бежал, и подробно опишешь приметы господина Брюно. – Говорят, Брюно решил поиграть в подсадного, – заметил Пиклюс. – Да нет, – ответил Лекок, – он бы давно раскололся. Но это не твоего ума дело, дружище! А я тебе обещаю, что твой рассказ о подвалах особняка Шварца будет оценен в десять тысяч ливров ренты. Теперь дело за тобой, Кокотт! Твои показания будут оценены в ту же сумму. В последний раз мы видели карету графини Корона, мчавшуюся по направлению к воротам Сен-Мартен. Напротив театра, на пятачке, окрещенном местными остряками «шлюзом Сен-Мартен», шли дорожные работы. Кучер Баттиста, темноволосый, как и пристало полукровке, не слышал крика, заставившего господина Брюно бегом броситься в сторону бульвара Тампль. Поравнявшись с Пиром Анакреона, лошадь замедлила бег, и экипаж затрясся, преодолевая препятствия из нагроможденных повсюду куч строительного мусора. Тряска вывела Баттисту из состояния дремоты. Он обернулся. Дверца кареты была распахнута; какой-то человек бежал в сторону бульвара Тампль. Баттиста позвал хозяйку; она не ответила. Остановив лошадь, он спустился с козел и заглянул в карету: поперек сиденья распростерлась графиня. Она была мертва. Баттиста был верным слугой; в исступлении он вскочил на козлы, хлестнул лошадь и пустился в погоню за убегающим человеком, который, несомненно, и был убийцей. Но беглец как сквозь землю провалился. Тогда кучер подумал, что, может быть, графиню еще можно спасти. Он остановил экипаж у поворота на улицу Галиот, взял тело графини и понес его к ближайшей скамье, где, как мы знаем, уже лежала без чувств Эдме Лебер. Приняв ее за труп, Баттиста совсем потерял голову, бросил тело графини и пустился бежать. Мы даже не пытаемся описать смятения бедного Эшалота при виде двух трупов, ибо он принял за мертвую и Эдме Лебер. Он уже давно убедил себя, что убить женщину – простое и вполне естественное дело. И вот теперь, увидев, чем это кончается, он буквально оцепенел. Пары пунша мгновенно выветрились, состояние опьянения сменилось жалкой расслабленностью, на глазах появились слезы, и он, молитвенно сложив руки, упал на колени, повторяя: – Они убили женщину! Они убили двух женщин! Симилор ускорил шаг. Он все еще полагал, что над ним подшутили. Потом он увидел графиню. – Гляди-ка! – воскликнул он, – Графиня и… маленькая продавщица нот! Ах, черт! Ну и платье! Эшалот поднял Саладена и прижал его к сердцу. – Она была богата, – вздохнул он. – Ах! А теперь, бедная, плавает в собственной крови… И девушка наверняка тоже из хорошего дома. Какие же бессердечные эти разбойники! Ты только посмотри на эти прекрасные маленькие ручки! А какие нежные волосы! И Эшалот швырнул на землю Саладена, который хотя и не мог воспротивиться подобному обращению, тем не менее отчаянным воплем выразил свой протест. Но Эшалот словно не слышал его. Закатав рукава, он рыцарственным взором окинул поле сражения. – Будь что будет, – воскликнул он, – но клянусь, что я отомщу негодяю, совершившему это преступление! – Эй, а эта, кажется, шевелится! – закричал Симилор, приподнимая голову Эдме, только что испустившей глубокий вздох. Эшалот приложил руку к сердцу девушки: – О, только бы нам удалось спасти ей жизнь! Ради этого я готов пожертвовать даже нашим грядущим благополучием! Однако не подумайте, что наш чудак в действительности собирался что-либо сделать, хотя ради справедливости, надо сказать, что по щекам у него текли настоящие слезы. В это время неподалеку от роковой скамейки встретились двое мужчин. Обменявшись приветствиями, они тотчас же скрылись за углом дома, один торец которого смотрел на бульвар, а другой на улицу Галиот. Один из них был Кокотт, другой – убийца, которого мы уже видели, когда он, воспользовавшись тем, что кучер Баттиста спал, проскользнул в карету графини Корона. Этот другой был высокий бледный молодой человек, изящно сложенный, с удивительно красивым, но отмеченным печатью порока лицом. – Пришлось повозиться, – сказал он только что покинувшему трактир «Срезанный колос» Кокотту. – Но, похоже, я зря старался: шнурка при ней не было. Кокотт вздрогнул: это не был простой убийца. – Знаешь, – хладнокровно продолжил граф, приводя в порядок свой измятый костюм, – в сущности, все дело в ревности… я отомщен… А остальное мы свалим вон на тех двоих. Он указал на Эшалота и Симилора. – Невозможно! – ответил Кокотт. – Почему? – Они при деле! – Ну уж так и при деле! Когда речь идет о Хозяине… – К тому же это овечки Приятеля-Тулонца, и он пасет их для особого дела, – завершил Кокотт. – Что ж, – бросил граф, – значит, мне придется отправиться в путешествие ради поправки собственного здоровья. И пусть черт возьмет этого Приятеля! Он повернул за угол улицы Галиот и скрылся в улице Фоссе-дю-Тампль. Когда Кокотт приблизился к скамейке, Эдме уже окончательно пришла в себя. Эшалот смеялся сквозь слезы, видя, как румянец постепенно возвращался на ее исхудалые щеки, и судорожно покрывал поцелуями Саладена. Симилор, чьи чувства были так же искренни, хотя и не столь глубоки, почувствовал, как в нем зашевелилось тщеславие. Этот Симилор, несмотря на свой костюм, сшитый, словно нарочно, чтобы вызывать отвращение, был подлинным воплощением того любвеобильного Христа из преисподней, коего поэты окрестили Дон-Жуаном. Снедаемый потребностью обольщать, он уже придал своему телу наиболее, по его мнению, соблазнительную позу и лихорадочно припоминал весь набор нелепиц, каковыми изъясняются в раю, именуемом Фоли-Драматик. Появление Кокотта было поистине неожиданным; Симилор почувствовал в нем соперника; Эшалот был готов защищать жертву даже ценой собственной жизни. Но приобщенность к тайне возымела на них поистине магическое воздействие, так что они беспрекословно подчинились Кокотту и взвалили себе на плечи тело графини. Предварительно же сей господин удостоверился, что жертва мертва, а потом снял с нее брошь, часы и серьги. – Они могут выдать покойницу! – назидательно произнес он вместо объяснения. – Она скурвилась! Нелишне заметить, что все эти события, описание которых потребовало от нас стольких слов, на самом деле происходили необычайно стремительно, и искомая скамья на бульваре стала свидетельницей преступления не более четверти часа назад. Как обычно, едва преступник замел следы, появился патруль национальной гвардии, призванный блюсти спокойствие на улицах. Кокотт попросил Эдме Лебер подать жалобу на своего преследователя, и, уточняя сбивчивый рассказ девушки, подробно описал внешность господина Брюно, торговца верхним платьем. Черт побери, напомним, что в это время Эшалот и Симилор как раз стояли на берегу канала. Тело несчастной красавицы графини Корона с камнем на шее погрузилось в воду. – Ну и ладно, – бормотал Эшалот, меланхолично глядя на воду, где исчезала последняя рябь, – совесть моя чиста, ведь ни ты, Амедей, ни я не запятнали наши невинные руки безделушками покойной. А Саладен слишком маленький, чтобы помнить о случившемся. – Ах, как обворожительна была эта брюнетка! – воскликнул Амедей. – Она мне будет часто сниться. Эшалот взял Саладена под мышку и продолжил свои размышления: – Впрочем, есть способ выйти из этой дьявольской ассоциации, участие в которой непременно приведет нас на эшафот: собраться с духом и податься в наседки в жандармерию департамента. V ПОХОРОНЫ ПРАВЕДНИКА Было девять часов утра. В «Турецком кафе» появились первые посетители, а в многочисленных кабачках, облепивших театры, наоборот, только выпроваживали последних гостей. Дамы, принадлежавшие к той категории женщин, которую писатели по моде прошлого сезона именуют «ученицами», завершив трудовую ночь, в нанятых экипажах или пешком возвращались в свои потаенные жилища. Вдоль бульвара трусили фигуры в цветастых жилетах и нежного цвета галстуках – этакий живой цветник. К десяти часам количество прохожих значительно увеличилось; в половине десятого по бульвару сновала уже целая толпа. Толпа – это человеческий поток, имеющий обыкновение течь и останавливаться исключительно сам по себе. Лавировать среди скопища людей, топтаться в толкучке – вот истинно парижское развлечение. В одиннадцать часов дня эта людская масса колыхалась между воротами Сен-Дени и площадью Бастилии. Толпа не всегда понимает, зачем она собралась. Она сначала собирается, а уж потом узнает, зачем. В этом она сродни своему брату мятежу, который, выиграв битву, спрашивает у побежденного, что ему делать со своей победой. На этот раз большим достижением собравшихся была их всеобщая осведомленность: все ожидали похоронный кортеж полковника. Какого полковника? Полковника Боццо. Стояла прекрасная погода; собравшиеся выглядели вполне прилично; более того, среди них явно были люди, пришедшие сюда совершенно сознательно. Толпа быстро прибывала. Шествие обещало быть приятным, многолюдным и веселым и заслуживало всяческого внимания со стороны любителей подобного рода развлечений. В одиннадцать с четвертью звуки духового оркестра напомнили собравшимся, что покойный был миллионером. Подобных почестей во всем мире удостаиваются усопшие, имевшие возможность заплатить за сие удовольствие. Когда музыка стихла, в конце улицы, хорошо просматриваемой из окна «Турецкого кафе», где мы как раз и находимся, показался катафалк с балдахином, увенчанным пышным султаном из перьев, словно сень на празднике Тела Господня, и влекомый скакунами, которые, казалось, чрезвычайно гордились своей ответственной ролью в траурной процессии. Время от времени торжественная тишина тягучего шествия нарушалась глухим, мрачным барабанным боем, издаваемым огромным барабаном, обтянутым ослиной кожей и окутанным крепом. Катафалк был высок и напоминал один из тех славных возов с сеном, что являются гордостью нормандских крестьян. Впереди шли известные и в высшей степени почтенные люди: господин Элизе Леотар, известный во всей Европе филантроп; господин Контантэн де ла Лурдевиль; всеми любимый ученый доктор Люна, а также Савиньен де Ларсен, водевилист юный, но уже набивший руку в воровстве чужих сюжетов и выдаче их за свои! Следом за катафалком вышагивали чиновники из похоронного бюро, все как один бывшие сочинители водевилей, облачившиеся нынче в костюмы, приставшие их заведению и по совместительству исполнявшие роли плакальщиц, чье присутствие возле гроба покойного восходит к незапамятным временам античности. За ними в карете ехало духовенство, за каретой следовали шесть человек, облаченных в глубокий траур. Среди них мы узнали Лекока и всех тех особ, коих мы впервые встретили у смертного одра полковника. Вослед им, сосредоточившись, двигалась огромная толпа, где можно было различить представителей всех слоев общества. Там были Кокотт и Пиклюс, привратник богадельни папаша Рабо и множество завсегдатаев трактира «Срезанный колос». Тут же шел и Эшалот; лицо его еще носило отпечаток бурно проведенной ночи; под мышкой он держал Саладена. Неподалеку от него мелькал Симилор; события прошлой ночи никак не отразились на его внешности, а посему мы смеем утверждать, что человек этот ставил себя выше любых обстоятельств. Замыкала шествие длинная вереница карет, медленно двигавшихся между двумя шеренгами солдат; следом за каретами, напоминая о том, что от возвышенного до смешного рукой подать, катилась колесница Трехлапого, влекомая собакой. Чтобы достичь кладбища Пер-Лашез, нужно было сделать изрядный крюк, свернув с площади Бастилии на улицу Рокетт. В седьмой по счету траурной карете, ехавшей перед пустым экипажем барона Шварца, молча сидели двое погруженных в размышления мужчин; судя по их виду, оба уже миновали середину своего жизненного пути. Один был бывший комиссар полиции Шварц, отец Мориса, исполнявший теперь обязанности начальника подразделения в префектуре; вторым был господин Ролан, отец Этьена, советник королевского суда в Париже. Их присутствие на церемонии в одном экипаже не следует приписывать случаю, хотя сия история и весьма охотно обращается к его помощи. Они пришли, влекомые воспоминаниями и как будто повинуясь чьей-то таинственной воле! Они не виделись семнадцать лет. Когда все выходили из церкви, какой-то человек в черном взял их под руки, подвел к экипажу, усадил в него и захлопнул за ними дверцу. Пока карета медленно катила мимо театров, советник Ролан говорил: – Мне не в чем себя упрекнуть, моя совесть чиста; мои познания и мой опыт убеждают меня в том, что Андре Мэйнотт был виновен. – Однако, – заметил бывший комиссар полиции, – воспоминания об этом до сих пор тревожат вас… Господин Ролан на ответил. Похоже, он действительно был взволнован. Бывший комиссар продолжал: – Я не могу похвастаться столь доскональным знанием законов, но и мой немалый жизненный опыт подсказывает, что Андре Мэйнотт был виновен. – Да, разумеется, виновен, тысячу раз да, – убедительно произнес советник. – Виновен! И это совершенно очевидно! А знаете, что я вам еще скажу? Вокруг нас постоянно идет какая-то закулисная возня. – Вы правы… я получил письма… и виделся с одним человеком… – Я тоже, – выдавил из себя внезапно побледневший советник. – И разве не странно, – продолжал размышлять господин Шварц, что наши сыновья, не сговариваясь, занялись одним и тем же? – Чем же? – живо спросил советник. – А вы разве не знаете, что они сочиняют драму «Черные Мантии»? – Ах, вот вы о чем! – облегченно вздохнул Ролан. – …И сюжетом ее является история этого самого Мэйнотта! – Действительно странно, – промычал советник. – Но, – продолжал бывший комиссар, – они не сами придумали ее, им подсказали… Воцарилась тишина; господин Ролан первым нарушил ее. – Говорят, полиция начала большое дело. – Не могу вам ничего сказать, – ответил господин Шварц. – Префект частенько запирается у себя в кабинете и никого не посвящает в свои планы. – Человек, о котором вы упомянули, – тот самый калека-нищий? Господин Шварц утвердительно кивнул головой. – Сегодня вечером вы приглашены? – Разумеется, как и вы, как и все, на бал к барону Шварцу. – Вы пойдете? – Пойду. В карете, ехавшей за пустым экипажем барона Шварца, также сидели двое и вели странную беседу, совершенно не относящуюся к помпезному шествию, провожавшему в последний путь полковника Боццо-Корону. Один из собеседников был маркиз де Гайарбуа; имя, равно как и титулы второго собеседника мы скроем, и, пренебрегая насмешками, впрочем в данном случае вполне заслуженными, осмелимся именовать его незнакомцем. Незнакомец говорил: – Общество взбудоражено. Лично мне что-то не слишком верится в эту многотысячную ассоциацию злоумышленников. Подобные штучки хороши для романов, что, словно пирожки, сотнями пекутся на потребу нашим бездельникам. – Но вместе с тем… – вставил Гайарбуа. – Я ничего не отрицаю, я только сомневаюсь. Можете ли вы показать мне этого пресловутого герцога? Гайарбуа высунулся из окошка кареты и огляделся. – Вон он, идет рядом с Лекоком, – произнес он. Теперь настала очередь незнакомца выглядывать из кареты и внимательно присматриваться к идущим впереди. Однако ему удалось разглядеть только голову молодого человека с точеным, поистине бурбоновским профилем. Откинувшись на спинку сиденья, незнакомец произнес: – Из всех вредоносных созданий, коими изобилует Париж, этот Лекок, без сомнения, самый опасный. – Но ведь он работает на вас, разве не так? – Работу первой собаки исполнял дрессированный волк… но продолжал кусаться. – А если полиция неожиданно устроит облаву на Черные Мантии? – спросил маркиз. Незнакомец презрительно пожал плечами. – К чему, – ответил он. – Сжав кулак, мы ухватим только ветер. Дело сына Людовика Семнадцатого гораздо более выигрышное. По существу, это полная бессмыслица, но король заинтересовался этой историей. – Ах, – воскликнул Гайарбуа, – Лекок видел короля! – А разве он не заплатил вам за эту аудиенцию? Да, он видел короля: аудиенция, встреча, посиделки, называйте как хотите эти два часа, что они провели с глазу на глаз. – А что сказал король? – Гм! Гм! Вы прекрасно знаете, что король никогда не дает прямых ответов. Похоже, эти люди готовы предъявить целые чемоданы, набитые доказательствами: дипломами, нотариальными актами, письменными свидетельствами. Ришмон, Нондорф, Матюрен Брюно просто ничтожества по сравнению с этим Дофином! У них есть письма папы, Людовика Восемнадцатого, герцогини Ангулемской, письма Петиона, письма английского короля и императора всея Руси, письма госпожи Бурьенн, и даже письма Шаретта! Словом, полный букет! – Что стало с его отцом? – спросил маркиз. – Это секрет Лекока. – А в чем вы видите здесь выгоду для короля? Незнакомец вопросительно уставился на него. – Ах, вот оно что! – удивился он. – Так, значит, вы ничего не знаете? – Это я довел дело до сведения короля, – надменно произнес маркиз; слова собеседника явно задели его за живое. – Согласен, но как почтальон, который вручает адресату запечатанный конверт. Я всегда интересуюсь вашими делами, дорогой мой. В наших агентствах принято смотреть несколько дальше кончика собственного носа. Король вполне мог бы извлечь выгоду… Сейчас вы поймете, что этот мерзавец Лекок великий политик. Представьте себе, что вся эта история с Дофином будет подтверждена юридически, а ведь если Лекок захочет, то он раздобудет доказательств в три раза больше, чем имеет сейчас: и вот пожалуйста, перед нами законный монарх… – Достойный результат! – Следите дальше за моими мыслями: раз именно этот король – законный, то, значит, имевшийся ранее другой законный король таковым больше не является; Генрих Пятый обращается в ничто. – Но ведь этот новый претендент станет мешать вам не меньше, чем прежний! – Отнюдь! Во-первых, Лекок преподнесет его на тарелочке. Во-вторых, новоявленный претендент очень милый юноша, готовый удовольствоваться титулом первого принца крови, весьма умеренным – не более миллиона – годовым доходом, королевским замком для постоянного жительства и дворцом в Париже. Словом, Карл Пятый, не хватает только рясы: вдовствующий король… – Он отрекается! – воскликнул маркиз. – Черт побери! В нашу же пользу! И семейство Карла Десятого, эти упрямые шуты, живущие воспоминаниями о Людовике Пятнадцатом, остаются с носом, а предместье Сен-Жермен потешается над ними в свое удовольствие! – Черт меня побери, – восхитился Гайарбуа, – вот так комбинация! И она удастся? – Если я того захочу, – отчеканил незнакомец. – И если будут деньги, – дополнил маркиз. Выспренно, однако не без почтительности, незнакомец ответил: – Лекок готов предоставить четыре или пять миллионов. – И откуда только он их выудил! – проворчал Гайарбуа. – Если в его распоряжении действительно находится армия Черных Мантий… – задумчиво произнес незнакомец, постукивая себя пальцем по лбу. Кортеж миновал улицу Фий-дю-Кальвер. Смешавшись с толпой, но вовсе не для того, чтобы следовать за процессией, Этьен выловил из нее одного из тех чудаковатых типов, паяцев нашего цивилизованного общества, которых жители окраинных кварталов с присущей им вульгарностью величают «комедиантами», а в театрах и окружающих их кабачках именуют «артистами». Обычно эти люди грязны, плохо причесаны и облачены в причудливые лохмотья; однако они целиком, от шутовских шляп до дырявых ботинок, пропитаны наивным тщеславием: бахвальство буквально лезет у них из ушей. Один из этих типов теперь принадлежал Этьену. Этьен чувствовал себя его безраздельным хозяином и не расстался бы с ним даже за целое царство. Этьен говорил, не переставая, не думая о том, правильно ли он употребляет то или иное слово; он спешил изложить сюжет своей драмы этому потертому фанфарону, и тот, вспоминая, уж не знаю какой, театр, на сцене которого он некогда упражнялся в красноречии, утешал себя тем, что его непревзойденный талант наконец-то обрел почитателя. – Я остался один, – говорил Этьен, – мой соратник женится и бросает наше ремесло. Он очень умен, но он никогда бы не сумел преуспеть. Мой дорогой Оскар, я хочу, чтобы вы непременно сыграли в моей пьесе, получив за свою роль не менее пять сотен, но для этого вам надо заинтересовать ею вашего директора. – Мой директор осел, – честно ответил несравненный Оскар. – Дело в том, что я еще не распределял роли в своей пьесе, а такой великолепный актер, как вы… – А сколько вы платите, Фанфан? – Столько, сколько вы захотите. Чтобы соблазнить этого всемогущего Оскара, которому сам директор был недостоин чистить башмаки, Этьен отдал бы всю свою молодость. Оскар потребовал подогретого вина. – У моего соавтора было слишком много литературных претензий, – продолжал Этьен, когда они сели в одном из тех актерских кафе, которые во множестве выросли вдоль бульваров и куда обычно ходят статисты. – Нет, вы только подумайте! Век Корнеля канул в небытие, мы вырвались вперед! Теперь самое главное – это сюжет… – И табак, – добавил Оскар. – Официант! Табаку… У меня есть сюжет – острый и современный. – Огня! – приказал Оскар. – Официант! Огня!.. Мой сюжет… – Что касается меня, – задумчиво произнес Оскар, – то я бы не отказался немного перекусить. – Официант! Холодного мяса!.. Мой сюжет… – Мне годится любой сюжет! – Мне показалось, что вы заинтересовались… – Необычайно!.. Но я питаю слабость к сардинам в масле. – Официант, принесите сардины в масле!.. Я предлагаю вам сотрудничество: вы меня поняли? – Нет, я сделаю вам из вашего сюжета три пьесы по шесть франков или же одну за тридцать, если вас так больше устроит… давай перейдем на ты, малыш! – Согласен! – воскликнул Этьен, дрожа от счастья. – Тогда закажи мне паштет из гусиной печенки, да только свежий! Я обожаю его! – Официант, порцию паштета из гусиной печенки… Вот как я понимаю соавторство. Оба автора разрабатывают сюжет драмы, но на самом деле это действующие лица… – Кто их придумывает? – перебил его Оскар, набивая рот паштетом. – Никто… то-то и оно, что на самом деле драма, в которой они участвуют, вовсе не придумана, а самые что ни на есть подлинные события, улавливаете? – Все схвачено, старина. – И что вы на это скажете? – Рюмку коньяку! – Официант, рюмку коньяку! Там есть некий повеса, у него в комнате стоит шкатулка… – Для меня? – Как они торопятся, эти актеры! Шкатулка принадлежит Олимпии Вердье. Оскар встал. – Еще не время обсуждать подробности, – высокопарно произнес он. – Я хочу занять у тебя пять франков, долг чести… Приходи завтра сюда же. Мы пообедаем вместе. Решительно фортуна благосклонно взирала на первые шаги Этьена на избранном им поприще. Молодому человеку удалось снискать благосклонность самого Оскара! А в эти счастливые для него минуты у входа на кладбище Пер-Лашез участники похоронной процессии высаживались из карет. Бывший полицейский комиссар Шварц и господин Ролан почтительно приветствовали незнакомца. Над раскрытой могилой господин Котантэн де ла Лурдевиль произнес положенную речь. Он говорил об ошибках дореволюционной монархии; о бесчинствах Революции, о битвах Империи, и так далее, и тому подобное. Он объяснил, почему его подзащитный (а почему бы и не предположить, что мертвые тоже нуждаются в адвокатах?) отказался от армейской карьеры и занялся исключительно делами благотворительности, Пристрастие к игре и необузданные страсти юности в еще большей степени способствовали приданию героического ореола подвижничеству зрелых лет этого поистине выдающегося человека, о котором мы все сожалеем. Великие сердца способны вместить в себя и цветы добра, и зародыш зла… Конечно, нельзя сказать, что он покинул нас во цвете лет, ибо его столетний юбилей был не за горами, но его энергическая натура сулила ему долгую и активную жизнь! В своем возрасте он читал, не пользуясь очками! – Прощайте, полковник Боццо-Корона! – заключил Котантэн де ла Лурдевиль, – прощайте, наш почтенный друг! С высоты небес, вашего высшего прибежища (последнее пристанище считалось уже избитым сравнением) обратите взор ваш на это безбрежное людское море! Отныне в пятидесяти тысячах сердец будет храниться, словно святая реликвия, память о вас!!! Между тем вокруг происходило странное оживление. В толпе, где билось пятьдесят тысяч сердец, шелестели какие-то слова. Не желая подражать гиперболам господина Котантэна, скажем только, что слова эти были предназначены всего лишь для нескольких сотен пар ушей. Сначала прошелестело: «Горячо!» Затем из уст в уста полетели бессвязные слова: «В полдень, ставка»; следом пошли имена. Казалось, что имена эти исполняют роль сита для просеивания нужных людей, ибо среди людского моря постепенно стали образовываться островки. Осыпаемый горячими поздравлениями Котантэн де ла Лурдевиль скромно отвечал: – Я старался ничего не забыть… Пока толпа расходилась, какой-то человек в костюме рабочего подошел к незнакомцу, который уже занес ногу на ступеньку своей кареты, и тихо сказал ему. – Горячо. День будет завтра в полдень, в трактире «Срезанный колос». Ставка сделана! VI ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА Давайте вместе войдем во дворец немногословного финансиста, барона Шварца. Не пугайтесь, вас не станут терзать удручающими описаниями; просто представьте себе любой особняк, построенный для какого-нибудь биржевого воротилы: в нашем славном Париже таковых насчитывается без малого пять сотен, так что выбирайте тот, который вам больше всего приглянулся. Желательно только очень красивый. Единственное, что отличает наш особняк от ему подобных, так это то, что в нем на антресолях и первом этаже разместились конторы, окна которых смотрели на улицу. Парадный фасад, роскошный и кокетливый, был обращен во двор, за которым раскинулся чудесный сад. По обеим сторонам двора располагались службы: конюшни и каретные сараи справа, хозяйственные постройки слева. И те, и другие были соединены галереями с главным зданием дворца. В ту знаменитую среду, ближе к полудню, конторы работали, словно ничего не произошло; господин Шампион, как всегда, сидел на антресолях в кассе, несколько обиженный тем, что вот уже три дня, как патрон возложил на себя его обязанности и вместо него занимался оприходованием наличности. Суммы эти были весьма значительны, но дальнейшее помещение данных капиталов было для господина Шампиона совершеннейшей загадкой. Сегодня утром, а именно в те блаженные минуты, когда вы уже проснулись, но еще пребываете в теплых объятиях постели, он сказал жене: – Не правда ли, Селеста, рыба в воскресенье была очень вкусна? И на утвердительный ответ госпожи Шампион добавил: – Завистники есть везде. Однако не думаю, что внезапная скрытность патрона является предвестницей моего увольнения. Банкирский дом Шварца не может обойтись без такого человека, как я. Это просто смешно. Хозяин взял у меня ключи от большого сейфа, где обычно лежит наличность. Вряд ли он собирается устроить панику на бирже, ибо в его положении он в любое время может спекулировать на дефиците. Я начинаю подумывать о неучтенном займе… Поверь мне, этот человек будет министром… Ах, ты даже представить себе не можешь, Селеста, сколько людей завидует моим успехам в ловле на удочку. – Мало кто из любителей поудить рыбу может с тобой сравниться, – ответила Селеста, готовая ради поддержания мира в семейном очаге выслушивать любые глупости мужа. К сегодняшнему вечеру у нее уже был приготовлен ослепительный туалет: она собиралась идти на бал в сопровождении нотариуса, мэтра Леонида Дени. В двадцать семь лет Леонид и Селеста – впрочем, свято чтившая свой супружеский долг и гордившаяся своим Шампионом, – воспылали друг к другу тем платоническим чувством, которое угасает только вместе с жизнью. В самом же доме все шло кувырком. Семейство Кодийо образца 1842 года захватило жилые помещения и разгромило их сверху донизу. Ни хозяин, ни хозяйка дома, разумеется, не принимали никакого участия в этой бешеной деятельности, и лишь супруги Эльясен время от времени бросали томный взор на эти приготовления. Однако ни у кого не было предчувствия надвигающихся перемен. Слуги свободно сновали повсюду, и сам могущественный Домерг выглядел совершенно буднично. Только камеристка, госпожа Сикар, особа, привыкшая всюду совать свой нос и возвращаться от своей крестной матери, благоухая сигарным дымом, была взволнована. Она буквально заболела от своего неуемного любопытства. Подумать только, вместо того чтобы, как и положено знатной даме, заниматься туалетами, госпожа баронесса запиралась у себя в комнате с такими ничтожными людишками, что она, Сикар, ни за что бы не предложила им стаканчик своего любимого касиса, напитка, потребляемого этой дамой втайне от своей хозяйки. Баронесса Шварц сидела в своей спальне в одном пеньюаре. Лицо ее выглядело усталым, щеки были бледны, но все эти признаки волнения лишь придавали ее ослепительной красоте какую-то новую притягательность. Она была блистательна и одновременно трогательна. Два юных создания, подавленные, льнули к ней, касаясь своими невинными губами алебастра ее рук и взирая на нее с поистине суеверным обожанием. Эти молодые люди, не будучи ее кровными детьми, тем не менее были преданы ей всем сердцем. Сейчас они слушали ее: Морис Шварц стоя, Эдме Лебер сидя на подушке у ее ног. Морис был бледен, как и она сама, взор его метал молнии. Эдме все еще ощущала на своем лбу нежный материнский поцелуй. Глаза Эдме были заплаканы: мать Мишеля только что завершила свой рассказ. Морис был взволнован до самой глубины своего юного и возвышенного сердца. Но, как это обычно бывает у личностей, именующих себя писателями, сердце Мориса, образно говоря, состояло из двух половинок, причем вторая из них принадлежала драматургу, и, следовательно, являлась тем объемистым карманом, где исчезают истинные чувства и, переплавляясь, вновь появляются на свет в виде банальных тирад, раздутых образов и напыщенных монологов. Но поспешим сказать, что Морис заразился театральной холерой в легкой форме, эпидемия только слегка затронула его. Он не утратил ни свежести чувств, ни способности восхищаться и переживать, был способен на дерзкие и героические поступки. Поэтому безмерное горе прекрасной и благородной баронессы Шварц, согрешившей, но искупившей свой грех годами мученичества, пробуждало в нем искреннее сострадание. Баронесса умолкла; Эдме и Морис все еще продолжали слушать. Баронесса говорила долго; при этом глаза ее были сухи, но сердце разрывалось от жестоких воспоминаний. – Я все сказала, – промолвила она, поцеловав склонившиеся к ней головы молодых людей. – Бланш не должна была меня слышать, ибо, сама того не желая, я обвиняла ее отца. Также мне было бы слишком трудно исповедаться в присутствии Мишеля. Я все рассказала той, кто должна стать женой моего сына, и тому, кто станет любить и защищать мою дочь. Они имеют право знать, какая страшная трагедия скрывается за нашим богатством. Моя ошибка в том, что я испугалась. Известие о смерти Андре разбило мне сердце; я была сама не своя. Мысль о том, что меня могут посадить в тюрьму, сводила меня с ума, и именно он, такой нежный, такой преданный, такой великодушный, возбуждал во мне этот страх. Я была одна; вернее, я думала, что одна, но, как оказалось, меня постоянно окружали невидимые силы, подталкивающие меня к пропасти. Какое-то время мне казалось, что брак воздвигнет преграду между мной и моими страхами. Я вступила в этот брак, словно вошла в убежище, и обрела в нем если не счастье, то некое отдохновение. Так было до того самого дня, когда я обнаружила письма Андре, и страхи мои пробудились с новой силой. Я коротко изложила вам содержание этих писем, которые сейчас, возможно, находятся в руках нашего смертельного врага. Сегодня утром каждый из вас принес мне плохую новость, грозный частокол препятствий, преграждающих мне путь, час от часу и день ото дня становится все гуще и гуще: Морис сообщил мне о похищении шкатулки, Эдме о краже боевой рукавицы. Оба удара нанесены одной рукой. Все, что мне удалось сделать за эти семнадцать лет, может оказаться бесполезным. Грозная длань закона по-прежнему занесена надо мной, с того дня, как в наш дом пришло несчастье, не изменилось ничего. Впрочем, нет, дети мои, кое-что все-таки изменилось: я больше не боюсь. И если кровь иногда еще стынет у меня в жилах, то только при мысли о моей девочке. За себя я больше не боюсь. Взгляд прекрасных, наполненных слезами глаз Эдме был красноречивей любых слов. Она взяла руку баронессы и поднесла ее к губам. Морис сказал: – С самого начала этого дьявольского дела мой отец, как и многие другие, совершил ошибку. Но он честный и добрый человек. Если бы я пошел к отцу… Печальный, но решительный взор баронессы остановил его. – Нам даже не позволено защищаться, – медленно произнесла она. – Сделайте так, чтобы моя дочь, которая скоро станет вашей женой, была счастлива. Мне же, Морис, никто не сможет помочь, никто, кроме того единственного человека, который имеет право взять факел и осветить этот ночной мрак; того, кто страдал больше нас, ради нас; того, кого я оплакала кровавыми слезами и чье воскресение открыло бы мне путь к счастью, если бы между нами не пролегла пропасть. – Он жив? – робко спросила Эдме. В своей драме писатель Морис уже успел его воскресить. Эта драма преследовала его, разрастаясь до уровня пророчества. Бледная рука баронессы легла на пылающий лоб девушки. – Я чувствовала его возле себя, – задумчиво произнесла она. – Часто я подавляла порывы своего сердца, старалась отогнать от себя это наваждение. Но все напрасно: предчувствия не покидали меня, скоро они переросли в уверенность. Возлюбленный мой казался мне призраком, и, не зная, что творится у меня в душе, этот неумолимый призрак готовился отомстить мне. – И я не ошиблась: он вынес мне свой приговор. – Теперь с прошлым покончено, дети мои; остается настоящее. Повторяю вам, что вы имеете право знать все. Баронесса достала из-за корсажа письмо; оно было помято и казалось мокрым. Печально улыбаясь, она сказала, намекая на плачевный вид письма: – И все-таки оно написано сегодня! Оно от моего мужа, – продолжала она, стараясь придать своему голосу как можно больше твердости, – от того, кто остается моим мужем перед Богом. Вы оба еще очень молоды и только позднее сможете в полной мере оценить жертву, принесенную несчастной женщиной, поведавшей вам, в какую пучину стыда и горя она погрузилась. В едином порыве Эдме и Морис вскочили и и бросились к баронессе; на несколько минут все застыли в безмолвном объятии. – Андре Мэйнотт, – продолжила баронесса, – находился в десяти шагах от меня, в церкви Сен-Рош, когда я отдала свою руку, руку, которая мне не принадлежала, барону Шварцу. После долгой и тяжелой болезни Андре, чтобы не погубить меня, покинул Францию. Над его головой был занесен безжалостный меч. Тот, кто уже однажды ударил его кинжалом, решил нанести новый удар, еще ужасней прежнего. В Лондоне Андре был обвинен в краже и приговорен к повешению. Кража! Быть дважды осужденным за кражу! И это в то время, когда ты – само воплощение честности! Андре бежал из лондонской тюрьмы, так же, как когда-то из заключения в Кане. И хотя демоны, преследующие его, очень могущественны, все же Провидение иногда вспоминает о нем, и когда смерть уже стоит у него за плечами, протягивает ему руку помощи. В этих строках, наполовину размытых моими слезами, рассказана история его жизни за пятнадцати лет нашей разлуки. И это чудо, что после стольких страданий ему удалось выжить. Андре живет для своего сына. Меня он больше не любит. А как он любил меня прежде! К тому же он родом с Корсики и хочет отомстить. Он проник в стан врагов. Два приговора – один к двадцати годам каторжных работ, другой к повешению, стали его козырями в страшной игре. У тех людей есть свои неписанные законы, направленные на борьбу с законами общества. Я уже говорила вам, что речь идет об ассоциации Черные Мантии. Даже главари не могли открыто погубить Андре, так как для всех жизнь его была освящена героическим ореолам двойного преступления. Но его можно было обмануть; они это сделали: сбили его со следа и направили его гнев против невиновного, по крайней мере невиновного в том преступлении, которое стало причиной нашего общего несчастья. Дорогая моя Эдме, многие годы Андре думал, что барон Шварц был организатором ограбления, совершенного 14 июня 1825 года в Кане. Эта уверенность была основана на множестве странных стечений обстоятельств. После побега из тюрьмы в Кане Андре переправил мне письмо, где напоминал, что Шварц, явившийся к нам в лавку без гроша в кармане, во время моего бегства в Париж почему-то оказался в том же самом дилижансе, что и я. Он вспомнил и слова трактирщика Ламбэра, соучастника кражи: «Черная Мантия одним выстрелом убил двух зайцев; а все это, чтобы заполучить крошку из скобяной лавки!» И вот, вернувшись, Андре узнал, что я замужем за этим нищим, но теперь этот нищий ворочает сотнями тысяч франков, и он уничтожил послание, доверенное ему на острове Джерси! Но ошибка спасла барона Шварца: Андре решил, что я люблю своего нового мужа. У Андре самое великодушное сердце в мире! Он был судим; теперь он сам стал судьей. Он поступает не так, как поступали те, кто приговорил его, хотя его не сдерживали ни рамки закона, ни судебная процедура, ни данные под присягой показания свидетелей. У него было время во всем разобраться. Он посвятил этому делу всю свою жизнь. Он ждал, искал и нашел. Баронесса развернула письмо и отложила в сторону две страницы, написанные тонким убористым почерком. – На этих страницах рассказывается о том, что вы уже знаете, – произнесла она, дрожащей рукой поднося листы к губам. Остальное я должна прочитать вам, потому что здесь говорится, как нам надлежит поступать. «…Человек, продавший мне боевую рукавицу, мертв; тот, кто воспользовался ею, жив. Вы, Жюли, знакомы с ним гораздо дольше меня, ибо это он был причиной нашего отъезда с Корсики. Я долго был игрушкой в его руках, но это время ушло: теперь он в моей власти. Через двадцать четыре часа сообщество Черные Мантии прекратит свое существование. Я знаю все. Господь дозволил мне прочесть книгу вашего сердца. Прошлого не вернешь, но тем не менее я был рад, когда взор мой смог проникнуть в ваши потаенные мысли. Вы сказали правду; вы были готовы последовать за мной на эшафот… Но жить, ежеминутно осознавая свой позор, более страшная пытка. Мне нечего вам прощать. Я отдал бы за вас жизнь, и даже больше. Не будучи виновным в том, в чем я долго подозревал его, барон Шварц все же заслужил наказание. И он будет наказан – соразмерно его вине, не более, ибо он отец прелестного ребенка, матерью которого являетесь вы. Все, что происходит вокруг вас, заранее продумано, рассчитано и не зависит от ваших действий. Те, кто по неосмотрительности подходят слишком близко к лопастям паровой машины, рискуют быть затянуты внутрь и размолоты на мелкие кусочки. На несколько часов вы окажетесь в окружении таинственных механизмов, приведенных в движение силой, более мощной, нежели пар. Ничего не предпринимайте, это совет и одновременно приказ. Что бы ни случилось с Мишелем, Бланш, Морисом и Эдме, знайте, что я помню о них и люблю, поэтому не делайте ничего. Я здесь, я наблюдаю за всеми и смогу предотвратить все, кроме неосторожного движения: оно может затянуть вас в запущенный мною механизм. Сохраняйте спокойствие, а главное, не волнуйтесь за Мишеля. Этот мальчик – настоящий лев. Пришлось его связать и надеть на него намордник. Сегодня ночью вы увидите меня». Баронесса Шварц прекратила чтение, потому что из прихожей послышался шум голосов. Дверь распахнулась, ив комнату, запыхавшись от долгого бега, ворвался раскрасневшийся и потный Мишель. – Я же знал, что найду всех здесь! – воскликнул он. – Меня не хотели впускать, но сегодня никто не устоит передо мной… а, вот и ты, жених! Он весело кивнул Морису, поцеловал руку матери и коснулся губами лба Эдме. Глядя на молодых людей, ставших ей одинаково родными, баронесса не смогла сдержать улыбки. – А завтра с нами будет еще и Бланш! – произнесла она, отвечая на собственные мысли. Я вам помешал? – поинтересовался Мишель. – Но я не собираюсь выведывать ваши секреты. Напротив, я сейчас выложу вам свои: я бежал из тюрьмы. – Из тюрьмы! – в один голос воскликнули баронесса и Эдме. Из Сент-Пелажи, куда меня засадили с утра пораньше стараниями этого доброго господина Брюно и его достойной приятельницы графини Корона. Вы случайно не знаете, мама, что я сделал этим двоим? – Нет, – ответила баронесса, – не знаю. Она погрузилась в размышления; ее охватил какой-то непонятный страх. Не в силах предугадать, что именно должно произойти, она чувствовала приближение катастрофы. Андре хотел связать Мишеля и надеть на него намордник. Андре, тот, кто в этот решающий час стал вершителем их судеб. – Хорошо иметь друзей, – продолжал Мишель. – Я посылаю записочку Лекоку, получаю от него ответ, мой вексель оплачен, и – кучер, вперед! А знаете, что я узнаю, вернувшись домой? Шкатулка украдена! Но ничего, даже если в ней находились драгоценности или ценные бумаги, то можете быть спокойны, мама, бандит не успеет воспользоваться ими. – Какой бандит? – с нарастающим беспокойством спросила баронесса. – Сейчас узнаете; я уже давно кое-кого подозревал. Я бросаюсь вниз по лестнице, чтобы убедиться… И тут мне повезло! Внизу я натыкаюсь на полицейских, оповещающих собравшихся зевак о приметах какого-то мужчины. Я прислушиваюсь: набросанный ими портрет полностью совпадает с внешностью того типа, кого подозреваю я. И расспросив их… – Скажи наконец, о ком ты говоришь? – испуганно спросила госпожа Шварц. Эдме поддержала ее: – Назовите его имя, Мишель! – Имя? А вот его-то я и забыл! Одно из тех имен, которыми прикрывается этот Брюно, когда хочет совершить очередную пакость… – А почему они искали его? – спросил Морис. – Отнюдь не из-за избытка добродетели, кузен. Я постараюсь вспомнить имя. Во всяком случае, я навел ищеек на след, дом был окружен, и комиссар, повязав свой шарф, поднялся по лестнице к Брюно… Да что это с вами? В комнате воцарилась мертвая тишина; слушатели страшно побледнели. – Черт, никак не могу вспомнить это имя, – продолжал Мишель, – подождите-ка… Мэйнотт, черт побери! Андре Мэйнотт! Баронесса медленно встала; во взгляде ее читался такой неподдельный ужас, что Мишель в замешательстве отшатнулся. В эту минуту госпожа Сикар, счастливая от того, что, наконец, может выказать свое усердие, запыхавшись, вбежала в комнату. – Господин барон! – кричала она. – Господин барон хочет видеть госпожу баронессу! – Пригласите его, – машинально ответила Жюли. Тут же следом за камеристкой появился барон Шварц. За последние три дня он очень изменился; он постарел, но внешне выглядел совершенно спокойным. – Новости! – произнес он, окинув тревожным угрюмым взором молодых людей, собравшихся в комнате его жены. – Странные! Пышные похороны. Сегодня ночью убита графиня Корона. – Графиня Корона! Убита! – эхом откликнулась баронесса, словно ее потрясенное сознание с трудом улавливало смысл слов мужа. – Красивая женщина! И несчастная, – произнес банкир. И явно намереваясь нанести удар, без перехода добавил: – Господин префект был к нам очень благосклонен. Он будет сегодня вечером. И заключил на ухо жене: – Мы просто поддались панике. Но сегодня я как никогда уверен в себе! – А о графине Корона, – начала Жюли, – что слышно?.. – Черные Мантии, – оборвал ее барон, снова принимаясь изъясняться телеграфным стилем. – Дом окружен, улица Сент-Элизабет. – Со стороны улицы Сен-Мартен? – быстро уточнил Мишель. – Именно, – ответил господин Шварц, и, исполнив замысловатый пируэт, направился к двери. – Некто Брюно. – Что я говорил! – воскликнул Мишель, рванувшись, сам не зная почему, вслед за банкиром. Эдме и Морис подхватили теряющую сознание баронессу. Мишель, не замечая состояния матери, продолжал: – Случай пришел мне на помощь… Я дал указания агентам… – Замечательно! – не оборачиваясь, с порога бросил Шварц. – Ловушка готова. Ни одна мышь не выскользнет из обоих домов. Разве только трехлапая. Господин Матье. Обернувшись, Мишель увидел, как мать повисла на руках Мориса и Эдме. Он бросился к ней, но она с ужасом оттолкнула его. – Андре Мэйнотт – твой отец! – прошептала она; глаза ее закрылись. Мишеля словно громом поразило; не говоря ни слова, он бросился вон из комнаты. Он мчался как сумасшедший по улицам, не представляя, каким образом он станет прорываться через полицейские посты, окружившие жилище его отца. У ворот Сен-Мартен кто-то окликнул его по имени. Это был Трехлапый в своей корзине, запряженной, как обычно, собакой. Похоже, он был в превосходном настроении. На лице его, напоминавшем застывшую маску, играла улыбка, правда, тщательно скрытая топорщившейся во все стороны небритой щетиной. – Я только что был у вас, господин Мишель, – произнес он, – хотел поговорить о вашем соседе Брюно. Если кто-то беспокоится о нем, то передайте тому человеку, что свидание, назначенное на сегодняшний вечер, состоится. Скажите также, что шкатулка находится в надежных руках, да, та самая шкатулка, которую вы не сумели уберечь. А сейчас прощайте, молодой человек! И мой вам совет: когда выходите из тюрьмы, смотрите под ноги, а то чего доброго в капкан угодите! VII СТАВКИ СДЕЛАНЫ Королева Лампион была настоящей красавицей. Софи Пистон, любовница Пиклюса, и чувствительная Сапажу, дама грез Кокотта, были миленькими очаровашками: так, как они пили абсент, могли вкушать нектар только ангелы. А еще была Рикетт, умевшая чрезвычайно грациозно вскидывать ножку в танце, Капораль, дымившая, словно печная труба, и Ребекка, постоянно беременная вещами, краденными в окрестных лавках. Все они были дорогими девочками, потому что наряду с красотой, этим даром богов, они обладали немалыми талантами, которые, как известно, приобретаются учением. Но Мазагран затмевала всех своих соперниц. Мазагран была на коне. После болезни она облысела, зато сохранила все зубы, и когда ярчайшие румяна толстым слоем покрывали ее смуглые щеки, она как нечего делать могла вскружить голову кому угодно. И вот эта чаровница расставила нежные силки на тропе пылкого Симилора. Увы! Сюжет заставляет нас двигаться дальше. От Мазагран у нас останется лишь улыбка, ибо наш путь лежит не в храм наслаждений, но в добропорядочный трактир «Срезанный колос». Те, к кому на кладбище были обращены слова: «В полдень», «Ставка», – уже были на своих местах: стояли вокруг бильярдного стола или сидели на набитых соломой банкетках. Небезызвестный нам Эшалот дымил как паровоз, напоминая покойного государственного секретаря Шамийара. Любители погонять шары по зеленому сукну развлекались тем, что пытались делать это одной рукой, прикрутив к ней ремнем кий. Поистине каждую минуту в этих незаметных людях открывался новый талант, и в этом было их очарование. Эшалоту очень хотелось присоединиться к игрокам, но тяжелая куртка и Саладен стесняли его движения. Заметим, что куртку он не снимал никогда, ибо рубашку прачка давным-давно оставила себе в уплату за ее стирку. Наконец он не выдержал, повесил Саладена на гвоздь, засучил рукава, подоткнул фартук и ринулся в бой. От его ударов шары градом сыпались в лузу. Но тут королева Лампион просунула в дверь бильярдной свое багровое лицо и произнесла: – Господин Матье ждет вас! Игроки мгновенно оставили кии, зрители повскакали с мест, Эшалот, употребляя его собственное выражение, вновь впрягся в Саладена, а Симилор в последний раз одарил пламенным взором Мазагран. Все были готовы исполнить любое приказание Трехлапого. Господин Матье не любил ждать. Сейчас он, привалившись к стене, сидел на столе в одной из задних комнат трактира. По словам тех господ, которым довелось беседовать с ним на равных, то есть на высоте привычного человеческого роста, Трехлапый имел вид весьма внушительный и, несмотря на свое увечье, держался с поистине королевским достоинством. Его боялись и им восхищались; этот исковерканный Ришелье темного царства внушал младшим офицерам и солдатам своей армии безграничное почтение. Все вошли и молча встали вокруг. Каждый исподтишка разглядывал это окаменевшее лицо, поросшее клочковатой щетиной. Только женщины, рискуя вызвать буйную вспышку гнева, осмеливались приближаться к нему. Впрочем, всем было известно его необычайное пристрастие к женскому полу. Господин Матье нежно любил женщин. Слухи, ходившие о его любовных похождениях, немало способствовали его славе. На кокетство вошедших дам он отвечал снисходительной улыбкой. Подобное выражение лица бывает у кукольных злодеев в балаганчиках Гиньоля. Но кукла в натуральную величину – это уже страшно. – Сегодня утром Фаншетта заработала свое перо, – хмуро произнес он. – Допрыгалась! – раздались приглушенные голоса. – А правда ли, мой миленький Трехлапый, – слащавым голосом спросила Софи Пистон, – что ты был добрым другом этой графини? Лицо калеки передернулось. Тоном, не терпящим пререканий, он заявил: – Мало ли с какими женщинами я был знаком! Он развернул лист бумаги и спросил: – Все ли здесь? – Все, – прозвучало в ответ. – День настал! – торжественно произнес господин Матье. Это сообщение не заключало в себе ничего необычного, ибо полчаса назад часы пробили полдень; однако все присутствующие восприняли его как большую новость. Собравшиеся оживились: – Говорите, Черные Мантии! Двери были заперты. Мы не можем скрыть тот факт, что при виде столь замечательной мизансцены Симилор пришел в необычайное волнение. Что же касается Эшалота, то мистерии Изиды, Элевсиса и Великой масонской ложи произвели бы на него менее устрашающее впечатление. И если, готовясь убить женщину, он вспоминал об убийстве Иоанна Крестителя, то сейчас ему казалось, что преступление это и в подметки не годится тем злодействам, что замышлялись в этой комнате. К счастью, Саладен был не в том возрасте, чтобы понимать это. Господин Матье объявил: – Приказ первой степени: сопровождение Приятеля-Тулонца, надзор за герцогом и доктором. Оценивается в четыре миллиона франков в кредитных билетах Французского банка. Восхищенный шепот пробежал среди собравшихся. – Тише! – сурово приказал господин Матье. И добавил, глядя в бумагу, которую он держал в руке: – Приступим к распределению ролей. Бумага содержала только список присутствующих; возле имени каждого стоял свой знак, напоминающий иероглиф. Во всем, что касается деталей, все полагались на великолепную память Трехлапого. – Это дело непростое, – снова заговорил он. – Большой спектакль, множество статистов, переодевания и все такое прочее. Тулонец еще никогда не проворачивал подобных дел. № 1, Риффар! Толстый щекастый парень шагнул вперед. – Это твой дядя служит привратником в особняке Шварца? – В некотором роде… – Умолкни! Сегодня вечером ты будешь стоять у ворот особняка и наблюдать за прибывающими гостями. Вот имена тех, на кого следует обратить особое внимание. Запиши их. – У меня хорошая память. – Тогда запомни: господин Морис Шварц, господин Этьен Ролан, господин Мишель, коротко и ясно… господин Брюно… когда появится этот последний, ты скажешь: «Как же так получается, что подобная птица удостоила нас своим посещением?» Как и в прошлую ночь, при имени Брюно раздались недоумевающие голоса: – Да ведь это подсадная утка! – Тихо! – крикнул Трехлапый. – Не вашего ума дело! Все замолчали. Трехлапый назвал имена еще четырех мужчин и двоих женщин. – Та же роль, что у Риффара, – произнес он. – Смешаетесь с толпой у ворот и, если понадобится, выступите свидетелями. – Подумать только, сыграть свидетеля! – задыхаясь от радости, шепнул Симилор на ухо Эшалоту. В ответ тот вздохнул: – Ох, и куда только мы ввязались! – № 8, Эшалот! – выкрикнул господин Матье. – Здесь! – ответил бедолага, и вместе с Саладеном на спине выступил вперед. С разных сторон посыпались плоские шуточки; но Эшалот надменно заявил: – Единственно необходимость добывать пропитание невинному младенцу заставила меня сойти во мрак этого подвала, хотя природа и создала меня для света. – Ты знаешь господина Шампиона? – прервал его Трехлапый. – Немного… я продал ему на три франка карасей. Он знает, что ты ходишь удить рыбу на канал? Да, и в доказательство… – Одиннадцать часов. Прибыть к господину Шампиону; сказать ему, что, возвращаясь с рыбалки, ты видел, как пожарники мчались к Ливри с криками: «Горит загородный дом кассира Шварца!» – Вот смеху-то! – воскликнул Эшалот. – То-то он перепугается за свои удочки! – Прошу извинить болтливость моего приятеля, – вставил Симилор. – Я делал все, что мог, но нельзя же зашить ему рот. Все рассмеялись. Оскорбленный Эшалот гордо вскинул голову. – Я сделаю все, что от меня потребуют, употребив всю данную мне от природы ловкость, – тоном оскорбленной невинности заявил он. – Я готов на все, кроме убийства, пролитие крови моего ближнего претит мне! С этими словами он, словно патронташ, перекинул Саладена и поднес ревущего младенца к левой стороне груди, откуда выглядывало горлышко бутылки. Это движение произвело такое потрясающее впечатление, что все без исключения захлопали в ладоши и закричали: – Браво, кормилушка! – Симилор, № 9! – вызвал господин Матье. Горделивый взор, любезная улыбка, изящная походка – всеми этими достоинствами Симилор был наделен в избытке. – Разве я не прав? – произнес он, выступая вперед. – Нельзя же отрекаться от товарища только за то, что у него нет твоих изысканных манер. Не первый раз мне приходится выгораживать его перед обществом. – Ты знаешь господина Леонида Дени? – спросил его Трехлапый. – Черт возьми! Не стесняйтесь, господин Матье, вы можете дать мне самую трудную роль. Я легко запоминаю слова, речь моя легка, я знаю, как надо производить благоприятное впечатление… – Молчи и слушай. Половина двенадцатого; Риффар поможет тебе войти. Ты спросишь госпожу Шампион. – Жену кассира? – Еще слово, и я вычеркну тебя! Ее муж уже отправился спасать свои удочки; она еще не успела отправиться на бал. Ты скажешь ей: «Господин Леонид Дени, королевский нотариус в Версале, при смерти. Ему известны кое-какие сведения, которые он не может доверить бумаге. И если вы хотите присутствовать при его последних минутах, то у вас еще есть время…» – Ах ты, черт! – проворчал Эшалот, украдкой вытирая глаза. – Однако и ввязались мы!.. – Повтори! – приказал господин Матье. Симилор повторил; на этот раз он остерегся прибегнуть к своему привычному витиеватому стилю. – Неплохо, – буркнул калека. – У дверей тебя будет ждать экипаж. Ты посадишь в него эту достойную женщину, а кучер сделает все остальное. – № 10 был кучер. № 11 – Мазагран! Когда девица проходила мимо Симилора, этот развратник украдкой пожал ей руку. – № 12, господин Эрнест! Этот господин Эрнест был почти столь же пылок, сколь и Кокотт. При вызове его было добавлено слово «господин». Равенства не существует даже среди отщепенцев. Эрнест был мелким служащим в конторе Шварца и был знаком с юным посыльным из кассы Шампиона; поэтому его и избрали. Воздадим же должное человеку, стоявшему во главе этого предприятия! Лекок был поистине велик. Он ничего не упустил, даже те нежные и платонические чувства, которые питали друг к другу версальский нотариус Леонид Дени и Селеста Шампион. Уверен, что вы даже не представляете себе, какими разнообразными талантами надо обладать, чтобы сделать карьеру на не слишком-то почитаемом поприще нарушителя законов. Вот уже три дня вокруг посыльного из кассы завязывалась невидимая интрига. Некая особа усердно одаривала его своим вниманием. Наконец они договорились о свидании, но теперь из-за отъезда господина Шампиона и его жены приходилось свидание отложить. Но тут очень вовремя подвернулся господин Эрнест; он пообещал юноше-посыльному присмотреть за кассой. Подобные услуги обычны между товарищами. Любви отводился час, затем предполагалось вернуться к исполнению долга. В задачу Мазагран входило продлить час любви до бесконечности. №13, № 15, № 16 и так далее исполняли роли кучеров и лакеев на запятках в той веренице экипажей с гербами, которая в подобных случаях выстраивалась вдоль тротуара. Номеру 20 и далее вручались пригласительные билеты, им также предстояло исполнять роли свидетелей, но уже в доме: у ассоциации были готовы актеры на любые роли, тем более что возбудить ревность в господах Тубане, Алавуа, Савиньене Ларсене и им подобных не составляло никакого труда. Номера 20 и далее, эти ловкие статисты, в нужный час должны были шепнуть им пару соответствующих слов о Мишеле и Этьене. В результате этой тщательно продуманной операции состоянию Лекока – а отнюдь не ассоциации, как мы вскоре в этом убедимся – предстояло непомерно возрасти, а сам господин Лекок должен был наконец обрести спокойствие, руками правосудия избавившись от тех, кто был вольным или невольным свидетелем его прошлого, а посему мешал его будущему. Трое молодых людей, семейство Лебер и Брюно были приговорены, и приговор обжалованию не подлежал. Скорей всего даже сам господин Матье не знал всех подробностей предстоящей операции, ибо Лекок никогда ничего не договаривал до конца. Но по крайней мере Матье был тем, кому великий человек доверял более всего. И как мы могли убедиться, калека честно служил ему. – № 30 и далее, до № 40! Этим номерам предстояло заняться соседями, а также улицами – их было необходимо держать под наблюдением. Как вы понимаете, это были второстепенные роли, но горе тому, кто с презрением относится к скромным статистам! Слушайте дальше! Номерам с 40-го по 50-й – господам и дамам – поручалось в нужный момент начать шумный спор, а то и настоящую потасовку: подразумевалось, что если с антресолей станут доноситься подозрительно громкие звуки, их надо было во что бы то ни стало заглушить. Назвав исполнителей благородных ролей – буржуа, служащих и лакеев, – господин Матье перешел к нищим, дорожным рабочим, цветочницам и даже органисту, как в деле Фуальдеса… Шестьдесят человек получили свои роли. Добавим к ним еще шестьдесят, ибо в хорошем театре всегда имеется второй состав. Предусмотрено все. Представлены все – от полицейского сержанта до полудюжины молодцов атлетического сложения, в обязанности которых входит организовывать беспорядки и под шумок устранять излишне прозорливых свидетелей, если таковые найдутся. Господин Матье позвонил в колокольчик и потребовал стакан рома. Общее собрание было закрыто; все, кроме членов тайного комитета ассоциации, разошлись по своим делам. Эшалот обратился к Симилору: – Раз ты теперь в деле, то не мог бы ты выделить некоторую сумму, чтобы приодеть нашего младенца? Приятель оставил его просьбу без ответа. – Ида отличалась легкостью поведения, – начал Симилор, устремляясь следом за Мазагран. – Неизвестно еще, кто отец этого ребенка. – Ну вот, началось, – прошептал Эшалот. – Он уже сомневается в своем отцовстве. Не трусь, Саладен! Перед ликом Господним я усыновляю тебя. С господином Матье осталось пять или шесть человек; калека приказал плотно закрыть дверь. Раздобывший план антресолей Пиклюс и подбросивший полиции улики против Брюно Кокотт, разумеется, были членами этого элитарного сообщества. – Крошки мои, – сказал им господин Матье, – теперь дело за вами! Вся эта шушера нужна лишь затем, чтобы устроить свалку перед воротами. Настоящий спектакль предстоит сыграть вам, за что вы и получите соответствующее вознаграждение. Весь доход от этой операции патрон решил отдать в пользу ассоциации, сделать, так сказать, всем подарок в честь его вступления на престол. Себе он не оставляет ничего; от этого доля ваша значительно увеличивается. – О! О! – недоверчиво усмехнулся Пиклюс. – Чтоб Тулонец да ничего себе не оставил! – Ну, разве что самую малость, – бросил Трехлапый, и на его неподвижном лице мелькнула зловещая улыбка. – Но давайте прежде уладим эту маленькую историю с ягнятами. – А сколько всего ягнят? – последовал вопрос. – Всего лишь двое: чудак Эшалот и красавчик Симилор. Нельзя допустить, чтобы они вышли сухими из воды, во-первых, потому, что они живут по соседству с молодыми людьми, а во-вторых, потому, что они были их слугами. К тому же именно им предстоит пристегнуть мошенника Брюно к делу об убийстве графини Корона. Эти два типа еще будут нам полезны. Двое из присутствующих обязались в нужное время устроить так, чтобы полиция заинтересовалась Эшалотом и Симилором. – В таком случае, – продолжил господин Матье, – наши тылы обеспечены. Правосудие получит свое, а старый счет по делу в Кане будет закрыт. А теперь – к сейфу! Он достал из кармана два банковских билета, ключи и два пригласительных билета; конверты, где они лежали, были запечатаны замысловатой печатью банкирского дома Шварца. Ключи были новыми, и, очевидно, сделаны в уже знакомой нам кузнице. – Вот пропуск на вход, – продолжил Трехлапый, отдавая Пиклюсу и Кокотту два пригласительных билета, – а вот инструмент для работы. И он дал им ключи. – Что же до этого, – завершил он, передавая банковские билеты, – то это на достойную экипировку и на карманные расходы. Кокотт и Пиклюс, не поблагодарив, взяли деньги. Их фанфаронская веселость улетучилась. – Вы кое о чем забыли, – заявили они в один голос. – Кажется, мы струсили, – усмехнулся Трехлапый, поднося к губам стакан рома. – Мы испугались когтей сейфа? – Рукавица… – начал Кокотт. А Пиклюс решительно завершил: – Мы не станем работать без латной рукавицы! Господин Матье посерьезнел и ответил: – Вы будете не одни, мои крошки. Куш слишком жирен, чтобы вам одним доверить получить его. Приятель-Тулонец сам проследит за работой, сам вручит вам рукавицу и покажет, как ею пользоваться. VIII МУЗЫКА И ДЕНЬГИ В такие ночи простой люд Парижа не ложится спать. В такие ночи простой люд бодрствует, обуреваемый жаждой все увидеть и услышать, стремясь вдохнуть тонкий аромат духов, уловить сверкание бриллиантов или блеск пленительных глаз, насладиться зрелищем роскошных туалетов, словом, лихорадочно стремится приобщиться к тем суетным и ничтожным радостям, которые кажутся ему столь притягательными и которые он сам отчаялся когда-либо вкусить. Квартал, где располагался особняк барона Шварца, жил в напряжении, какое обычно бывает вечером накануне фейерверка. В сущности, соседи весьма равнодушно относились к чете Шварц, ибо супругов можно было упрекнуть только в одном: они были слишком богаты. Была также Бланш, очаровательное дитя, не имевшее ничего общего с денежным мешком родителей. Преступление, именуемое счастьем, имеет срок давности. Берем на себя смелость сказать, что Бланш родилась не только в рубашке, но и в золотой колыбели, однако все оправдывали ее, ибо чтобы получить свое состояние, ей не пришлось ничего делать. Бланш была порядочной девушкой, она была богата во втором поколении, и ей прощалось богатство, накопленное родителями; она имела право быть красивой, благородной, самоотверженной и ослепительной, словно солнечный луч. Мы вовсе не хотим сказать, что взбудораженные жители окрестных улиц лишали себя удовольствия позлословить; впрочем, перемывание косточек было вполне обычным делом и за дверями гостиных; заметим также, что речи скромных соглядатаев-соседей мало чем отличались от речей привилегированных гостей господина барона. И вот все эти коварные привратники, легковерные зеваки и прочие праздношатающиеся особи слонялись вокруг особняка, изредка бросая взоры на стражей порядка, кои, подражая древним философам, считают себя чуждыми человеческих страстей. Пределом мечтаний каждого было разглядеть, что происходило во дворе особняка. Задача не из легких по причине постоянно прибывающих экипажей и упорства зрителей первых рядов, которые, приобретя сии престижные места ценой многочасового ожидания, готовы были оборонять их до самой смерти. Излишне напоминать, что во всех домах по улице Энгиен окна были распахнуты снизу доверху, от антресольных этажей до мансард. Высунувшиеся из окон люди оживленно переговаривались: – Вереница экипажей начинается у Мадлен. – За тридцать су ей продали конвертик от пригласительного билета! – Ого! Бывают же счастливчики! Начиная с одиннадцати часов экипажи прибывали беспрерывно; карета заезжала в обсаженный деревьями двор, из нее на крыльцо выплескивались женщины, бриллианты и цветы, и она отъезжала в сторону, уступая место следующему экипажу. Любопытные рисковали вывихнуть себе шеи. Время от времени объявляли о прибытии какой-нибудь знаменитости от искусства, политики или финансов. Тут же по толпе пробегал взволнованный шепот, никто ничего не видел, но каждый считал своим долгом высказать свое мнение об этой высокопоставленной персоне. Между тем в толпе невинных зевак кипела работа, та самая, что была подготовлена Трехлапым в трактире «Срезанный колос». Но тут появился человек, единственный в своем роде: он пришел на бал к господину Шварцу пешком. Имя его, произнесенное Риффаром, привело в волнение всех, вплоть до блюстителей порядка, которые тут же отправили донесение в префектуру. Риффар, племянник привратника особняка, пребывал на своем месте. С чувством выполненного долга он произнес: – Как же так получается, что подобная птица удостоила нас своим посещением! А на улице номера со 2-го по 8-й, лица как женского, так и мужского пола, повторяли имя господина Брюно, пространно объясняли, кто он и чем занимается, и не уставали изумляться его дерзости. А в это время тот же самый Риффар тихо и незаметно провел в дом направлявшегося к господину Шампиону Эшалота; чтобы достойно исполнить возложенное на него поручение, бывший аптекарь оставил Саладена в шкафу привратницы. С теми же предосторожностями был проведен и Симилор, направлявшийся к госпоже Шампион; бывший учитель танцев облачился в подобающий его роли костюм, выигрышно оттенявший его природные совершенства. Затем в дом проникли номера 11 и 12, то есть господин Эрнест и мадемуазель Мазагран, которым после отъезда супругов Шампион было поручено заняться рассыльным из кассы. Все шло своим чередом. Много говорили о Мишеле, Этьене и Морисе; все эти сплетни интересовали зевак до такой степени, что в нужный момент они все смогли бы превосходно исполнить роль свидетелей. Приглашенные Трехлапым (номера 20 и 30) уже вошли в дом, а какой-то человек с ящиком на спине даже успел начать две или три ссоры из-за своего груза. Номера с 30-го по 40-й, как вы уже знаете, находились возле окон. Таким образом, основные события происходили вне дома. В самом же особняке… будьте спокойны! Мы не станем утомлять вас излишними описаниями, проскочим мимо пышно украшенной лестницы и лишь упомянем об очаровательном убранстве гостиных. Это отнюдь не проявление великодушия с нашей стороны, а лишь уверенность в том, что в действительности в доме барона не было ничего исключительного, и если бы не изысканный вкус баронессы, то дворец Шварца ничем бы не отличался от прочих особняков биржевых дельцов. Бал был великолепен. Газетные репортеры, те, кого обычно именуют «весь Париж», были представлены все без исключения. Гостиные барона Шварца буквально кишели громкими именами. Там был двор, блистали многочисленные посланцы Сен-Жерменского предместья, литераторы и художники фланировали в окружении финансовых воротил и коронованных особ. Генералы, высшие судейские чины, дипломаты и послы, выстроившиеся вдоль обшитых деревянными панелями стен, напоминали блестящие елочные гирлянды. Гебвиллер, родовое гнездо этой удивительной династии Шварцев, имел полное право гордиться своим земляком, видя, как вся цивилизованная Европа собралась вокруг денежного мешка барона Шварца, умильно восхищаясь его миллиону, сколоченному по одному су. В этом сверкающем потоке знаменитостей только одна женщина заслуживает нашего внимания. Это баронесса Шварц – Джованна Мария Рени из рода графов Боццо. Ее смуглая, как у всех итальянок, кожа отличалась нежным матовым оттенком; на редкость правильные черты лица, обрамленного роскошными волосами, казалось, были выписаны кистью Тициана. Благодаря звучному имени своего семейства ей удавалось избежать назойливого покровительства именитых гостей барона. И если на корабле богача Шварца баронский герб был приколочен к дверце гальюна[26], то баронессу можно было сравнить с ярким вымпелом, гордо реявшим на мачте судна. Стоя возле дверей с приличествующей такому случаю любезной улыбкой, она исполняла обязанности хозяйки дома; но каждый, кто видел ее, невольно сравнивал ее с восседающей на троне королевой. У судьбы есть свои избранницы, они царят всюду и всегда. Баронессой восхищались, ей завидовали; барон Шварц и все, кто ее знал, обожали ее. Я не сказал: ее уважали. Ее состояние равнялось миллиону. У нас никто, включая самих поклонников золотого тельца, никто не уважает миллионеров. Это связано со многими обстоятельствами, и ни одно из них не делает чести ни миллионерам, ни нам. Как нам известно, барон Шварц давал бал вовсе не для того, чтобы потанцевать. И мы также пришли сюда вовсе не смотреть на танцующих. В особняк барона нас привело стремительное развитие нашего сюжета, приближающегося к своей развязке. Наши актеры-любители незаметно преодолели стоявшие у них на пути преграды, праздник был в разгаре, но их невидимые усилия произвели надлежащее действие. Разнесся слух о возможном браке Мориса и Бланш. Нам кажется, что дочь баронессы была единственной, кто на этом балу веселился от всего сердца. – Восхитительная пара! – умилялись досужие сплетники. Все помнили, что юный Морис был сыном начальника отделения префектуры. Кто знает, зачем может возникнуть нужда в префектуре. Подробности обсуждались исключительно в узком кругу: – Дорогуша, этот ангелочек получит приданое, равное двум или трем приданым бельгийской королевы. – За нее прочили некоего господина по имени Лекок де ла Перьер. – Чрезвычайно странный молодой человек! А вы слышали, какие небылицы рассказывают об этом бедняге, стареньком полковнике Боццо-Корона? – А вы знаете, что графиня, его внучка, была убита среди бела дня в самом центре Парижа? – Ночью, дорогая моя, на скамейке на бульваре… И на каком бульваре! – А это странное бегство… – Так убийца скрылся? – Нет, полиция напала на след: это Черные Мантии. – Гайарбуа мне говорил, что в Париже больше десяти тысяч мошенников причисляют себя к этой ассоциации! – А известно ли, зачем бедняжка-графиня отправилась на этот бульвар? В другом узком кругу, рангом пониже: – Ах, вот оно что! Так, значит, этот юный Мишель – родственник господина Шварца?.. – Тогда где же он был раньше? – Баронесса… Вы же понимаете! – Он долго путешествовал… – Еще бы, даже успел побывать в Сен-Пелажи! Еще один узкий круг. – Что бы там ни говорили… Барон будет рад заполучить в зятья человека, вхожего во дворец. И не только во дворец!.. – Не знаете ли вы, чем завершилась их беседа с полковником? – Послушайте, господин Котантэн, по-моему, эта история с Черными Мантиями – просто дурная шутка. – Может быть… а может, и не быть… Мои высокопоставленные друзья придерживаются того же мнения… Но скромность не позволяет мне продолжать. – Четвертый узкий круг, сливки общества: – Здесь без труда можно разглядеть их вблизи. – Этим следует воспользоваться. Это любопытно. – Однако это настоящий успех. Я видел здесь маркизу. – И виконтессу, и всех обитателей дворца де… – Слишком много судейских. – Они любят ходить в театры. Приходится с этим мириться! Пятый узкий круг, чрезвычайно узкий и чрезвычайно ядовитый: – Хотя в Париже его и не любят, я счел своим долгом принять приглашение. – Мой бедный Бло, он просадил здесь не одну тысячу франков. Вот увидите, он плохо кончит. Надо же, растратить сто тысяч франков в угоду маленькой девочке! – Об этом бале уже ходят легенды. – Теперь все кругом мошенники! Разве я вам не рассказывал, как в воскресенье в омнибусе у меня украли табакерку, шейный платок и портмоне?.. Ах! Это воскликнула госпожа Бло. Рантьерше показалось, что среди гостей она узнала того красноречивого путешественника, привлекшего ее внимание своими рассуждениями о Париже. Но уже через минуту госпожа Бло поняла, что ошиблась. Надеюсь, вам понятно, что иначе и быть не могло. Но среди пустяков, о которых обычно беседуют, чтобы поддержать общий разговор, неожиданно стали проскальзывать весьма любопытные сведения; с каждой минутой количество этих сведений увеличивалось, однако никто не мог сказать, кто же первым сообщил их. Из уст в уста передавались имена полковника Боццо и графини Корона. Рассказ об убийстве графини обрастал тысячью подробностей; тут же называли имя убийцы, оно мгновенно приобрело роковую известность. Через час не осталось ни одного человека, кто бы не знал Брюно, торговца платьем с улицы Сент-Элизабет. Мы уже говорили, что графиня Корона была тесно связана с парижским светом. Ее смерть внезапно обратила в реальностью легенду о Черных Мантиях. Подтверждались слухи, уже давно ходившие среди легковерных парижан, что таинственная ассоциация, корнями вросшая в беднейшие слои нашего общества, ветвями своими уже достигла его верхушки, обычно огражденной благодаря своему богатству от досужих домыслов. Кто бы мог подумать, что полковник Боццо-Корона?.. Во всем этом была одна сплошная загадка. Графиня, в чьей жизни всегда было предостаточно как романтических, так и темных сторон, была ли она связана с ассоциацией? Страшное преступление, жертвой которого она стала, смахивало как на возмездие, так и на месть. А ее муж… это еще одна тайна. И как-то само собой получилось, что постепенно всеобщее внимание переключилось на трех молодых людей, среди которых только один, а именно Мишель, мог претендовать на некоторую известность. Однако вместе с Мишелем все обсуждали Этьена и Мориса. Утверждали, что они были соседями этого Брюно. К тому же они сочиняли драму, сюжетом которой было дело Мэйнотта. Никто из собравшихся никогда раньше не слышал об этом деле, но тем не менее скоро уже все рассказывали друг другу об ограблении, случившемся ночью 14 июня 1825 года в городе Кане. Кто же позаботился об этом? Услужливые люди… Приглашенные, чьи имена остались неизвестными. На многолюдных балах вроде того, где мы с вами присутствуем, всегда есть не меньше полусотни господ, которых никто никому не представлял и чьи лица совершенно незнакомы хозяевам дома. Немало подобных лиц, кем бы они ни были на самом деле, оказалось и на балу барона Шварца. Словно опытные рыболовы бросали они свою наживку любителям позлословить, а уж те совершенно бескорыстно разносили слухи среди приглашенных. Не обошли стороной и хрупкое создание по имени Эдме. Прежде ее видели в качестве скромной учительницы музыки: сегодня она была не менее скромна, но сколько очарования таила ее неброская красота! Вместе с госпожой Шварц ей выпала честь разделить успех, состоявший в том, что все прибывшие на бал особы женского пола внезапно воспылали к ним неугасимой ревностью. И какое отношение имела она к семье Шварц? Похоже, что эти Шварцы были лучше всех осведомлены о некой мрачной истории, где речь шла о девушке, найденной ночью, без сознания, на той же самой скамье, что и графиня Корона. На вопрос, кто была эта девушка, чей-то голос назвал имя Эдме. Эдме была знакома с Брюно, к тому же она проживала в доме «трех молодых людей», и… о чем это я? Разве теперь в это поверят? Париж верит и не верит; он познает себя. Он равнодушно болтает о том и о сем, пересказывая немыслимые слухи, которые уже на следующий день становятся достоянием истории. Нет, он им не верит. Однако когда событие все-таки произошло – нелепое, невероятное, невозможное, – он с улыбкой, как у Вольтера, подмигивает вам и изумленно, словно Бомарше, разводит руками: а разве я вам этого не говорил? Когда все уже перестали ждать, появился барон Шварц; он был исполнен достоинства и явно красовался своей приобретенной в тяжких трудах полнотой. Манеры его были безупречны. Слышно было, как он, раскланиваясь с гостями, говорил: – Я счастлив, госпожа графиня. Необычайно признателен за оказанную нам милость, господин герцог. Для нас это большая честь, госпожа маркиза… Было ясно, что он, зная свою привычку изъясняться излишне лаконично, выучил назубок все титулы и теперь исполнял обязанности хозяина, подходя ко всем, кто имел на то несомненное право. Он не был ни взволнован, ни подавлен, а опытные физиономисты даже пришли к заключению, что барон предвкушает некие весьма радостные для него события. Когда взор его останавливался на ослепительной в своей красоте баронессе, в глубине его глаз вспыхивало пламя безмерной страсти. Лекок на ходу бросил ему несколько слов. Господин Лекок де ла Перьер шел в сопровождении высокого юноши, необычайно красивого, хотя и несколько грузноватого; юноша имел ярко выраженный бурбоновский профиль. Свадьба Бланш с этим юным безумцем Морисом пока еще не состоялась. Каждый мог видеть, как хорошо сохранился господин Лекок де ла Перьер; мало кто рискнул бы соперничать с таким женихом… Послушайте! Может быть, именно здесь и таилась причина торжества, побуждавшего барона Шварца гордо вскидывать голову. Все знали, что Лекок был принят в Тюильри, и не одна благородная дама созерцала черты его юного спутника с благоговейным волнением. Все называли его просто герцог. Ибо ни одно имя не могло заменить имени Бурбонов, на которое он имел несомненное право, но которое ему пока еще не было дозволено носить. Этот молодой человек изрядно будоражил мысли собравшихся. Бурное оживление наблюдалось также при виде лица, занимавшего высокий пост в правительстве, того, кого в рассказе о похоронах полковника мы именовали незнакомцем. За ним как тень следовал маркиз де Гайарбуа. Незнакомец приветствовал Лекока и его юного спутника. Но если бы вы только знали, как далеки от этой суеты были Эдме и Мишель, Морис и Бланш, в каких заоблачных высотах парили они над этой сутолокой! Впрочем, Морис только что встретил своего отца, бывшего комиссара полиции, и тот, пожимая сыну руку, многозначительно произнес: – Я рад видеть вас здесь. Точно такая же сцена произошла между господином Роланом и Этьеном; в отличие от Мориса, Этьен не был влюблен, но, снедаемый театральной лихорадкой, он сладострастно вдыхал ароматы своей драмы. Считая себя автором пьесы, Этьен старался уловить малейшие детали действия, и не замечал, как сам постепенно становился одним из ее персонажей. Он чувствовал приближение катастрофы, подстроенной неизвестными ему людьми. Эти люди должны были стать его добычей, он жаждал выследить их. К часу ночи господа Ролан и Шварц из префектуры сошлись в узком оконном проеме. – Кажется, все произойдет сегодня ночью, – произнес бывший комиссар полиции и попытался улыбнуться. – Нам собираются доказать, что мы напрасно спокойно спали все эти семнадцать лет. Советник мрачно повторил: – Именно сегодня ночью. Нам собираются это доказать. Человек, не знакомый ни одному из собеседников, приблизился к ним, и, отвесив почтительный поклон, тихо произнес: – Будьте готовы, господа. Пароль: «Правосудие никогда не ошибается». Собеседники вздрогнули; щеки чиновника запылали от гнева. Но незнакомец вновь отвесил им бесстрастный и вежливый поклон. Это был всего лишь посланец, для него смысл переданных им слов, несомненно, был сокрыт. Господин Ролан и господин Шварц из префектуры молча переглянулись и позволили посланцу удалиться. IX ИСКУПЛЕНИЕ И ЛЮБОВЬ Красавца Мишеля снедала тревога, и неизвестно, что бы он натворил, если бы не трепещущая от счастья Эдме Лебер, сумевшая передать ему частичку той радости, ко-торую испытывала она сама. Те, кто видел девушку в этот вечер, могли бы поклясться, что ее прекрасные глаза никогда не знали слез. Она удерживала Мишеля от бессмысленных поступков, ибо в часы решающего испытания он сознавал свою бесполезность, и от этого приходил в ярость. Эдме делала все, чтобы успокоить нашего бедного героя, чувствовавшего себя марионеткой в руках умелого кукловода. Он все время порывался оборвать поддерживающие его нити, хотя и понимал, что тут же упадет и вряд ли сумеет сам подняться. Понимала это и Эдме и, зная пылкую натуру Мишеля, содрогалась от страха; единственным выходом в создавшемся положении было протянуть время, и она заставляла Мишеля забывать о времени. Кто-то шепнул Эдме: «Не дайте Мишелю натворить глупостей!» Но если стараниями Эдме Мишель ничего не предпринимал, то это вовсе не означало, что о нем забыли. Не знаю, долетели ли двусмысленные намеки, оброненные в прихожей всесильным Домергом, до гостиной, но внезапно гости принялись упорно искать сходство между мужественным красавцем Мишелем и бароном Шварцем, чье лицо походило на морду разжиревшей ласки. Ошибки быть не могло: эти два человека были похожи друг на друга, как день и ночь; но ночь, как известно, сестра дня, а потому «семейное сходство» бросалось в глаза. Высокий и исполненный благородства молодой человек был плодом греховной страсти юных лет. Все помнили о его недавнем расточительстве и о том блестящем положении, которое он занимал среди парижской золотой молодежи. Сама опала его более всего напоминала отцовское наказание; к тому же баронесса, будучи матерью единственной дочери, не должна была питать к нему нежных чувств и наверняка настраивала против него барона. Но вы уже убедились, что Париж никому не верит на слово и будет обдирать шелуху, пока не докопается до истины. Париж успевает делать все. Вам кажется, что свежие сплетни заставляют парижан забыть о том, что случилось вчера? Тогда давайте послушаем еще немного. – Надеюсь, вы согласитесь со мной, маркиза, что господин префект присутствует здесь отнюдь не ради прусского короля? – Разумеется, нет, граф, просто здесь сегодня весь свет. Мы ведь тоже здесь! – Бомба взорвется, я вам предсказываю. Гайарбуа сказал мне, что у этого Лекока де ла Перьер такие связи… Вы же понимаете! – Да он настоящий кудесник, этот Лекок! – В конце концов, сегодня в Париже не меньше пятидесяти тысяч человек в один голос твердят: Черные Мантии! Нет, положительно этот Лекок станет министром! – И каким же образом? – Очень просто: господин барон удвоит обещанное приданое, чтобы стать тестем принца крови. – И вы туда же – поверили этой сказке о Людовике Семнадцатом! – Мне кажется, что мы снова вернулись к тому, что эта ассоциация Черные Мантии, или, иначе, сборище заговорщиков… – Господин Лекок только что говорил с баронессой Шварц! Господи, как она побледнела! – Надеюсь, что при новом режиме воцарится настоящий порядок. – На мой взгляд, – обращался в скромном узком кругу попутчик из Ливри к госпоже Бло, рантьерше, – проживание в Париже этого весьма состоятельного частного лица отнюдь не пойдет столице во вред. А рантьерша отвечала загадочным тоном: – Вы знаете, о чем все шушукаются? Дом полон полицейских шпионов. Мой бедный Бло уверен в этом: он их за версту чует! Кажется, убийца этой графини Корона сейчас здесь, на балу. В эту минуту человек, с самого начала именуемый нами незнакомцем, быстрым шагом покинул гостиную. Маркиз де Гайарбуа остался. Вид у него был озабоченный. Когда отзвучали последние аккорды кадрили, в открытые окна издалека донеслись пронзительные выкрики шарманщика: – Волшебный фонарь! Спешите видеть! – Куда же девался этот пресловутый господин Лекок? – через несколько минут спросила маркиза. – Исчез… вместе с префектом полиции. – А разве что-то случилось? Однако баронесса была совершенно спокойна и продолжала одаривать всех очаровательными улыбками. Барон Шварц старательно исполнял роль радушного хозяина дома и с удовлетворением отмечал, что праздник удался! Почти в то же время человек, передавший загадочные слова Ролану и начальнику отдела префектуры, подошел к баронессе и приветствовал ее. Баронесса механически поклонилась ему, как она кланялась сегодня вечером всем гостям. Отвечая на поклон хозяйки дома, человек произнес фразу, услышанную только ей одной: – Он ждет вас в вашей в комнате. Баронесса Шварц не перестала улыбаться, однако под ее глазами мгновенно пролегла черная тень. Посланец удалился. Через несколько секунд баронесса встала и оперлась на руку Мишеля; тот испуганно спросил ее: – Что с вами, матушка? Ибо даже через плотную ткань платья он почувствовал, что рука матери холодна как мрамор. Барон издали наблюдал за ними. В соседней гостиной баронесса отпустила Мишеля. – Я скоро вернусь, – сказала она. – А ты возвращайся к Эдме. И с прежней ослепительной улыбкой она направилась к лестнице, ведущей в семейные апартаменты. Сердце ее билось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит из груди, упадет на ступени и разобьется на тысячи кусков. Словно юная девушка, спешащая на первое в своей жизни свидание, она взволнованно шептала: – О, если бы он назвал меня Жюли! Банально утверждать, что улыбка часто помогает женщине скрыть ее истинные чувства – щемящую тоску или отчаянную надежду. Вот уже три долгих часа Жюли молча улыбалась гостям, в то время как душа ее стенала, а сердце захлебывалось от рыданий. Теперь же она чувствовала, что воскресает, просыпается после долгого семнадцатилетнего сна. Жюли вновь была юной, пылкой, пытливой, страстной и женственной, в тысячу раз более женственной, чем была тогда. Вот уже три часа, как Жюли, в отличие от большинства дочерей Евы, легко справлявшихся с подобными задачами, прилагала поистине нечеловеческие усилия, чтобы скрыть счастье, которым она упивалась, и страдание, истерзавшее ее душу, мучительные страхи и упоительнейшие надежды, всевозможные мысли и изнуряющую боль утраты – словом, все те чувства, кои испытывает влюбленная девушка шестнадцати лет. С того июньского вечера 1825 года, когда она, рыдая, шептала слова прощания, склонившись к дверце почтовой кареты, уносившей ее в Париж, с того далекого, но навеки запечатлевшегося в ее памяти вечера, не было ни единого часа, когда бы она не молила Небо даровать ей встречу с человеком, ожидавшим ее сейчас… Сколько раз, внезапно проснувшись или задумавшись, она слышала эти волшебные слова: – Он здесь! Он ждет вас! Андре! Человек, которого она любила и которого не послушалась, а потом горько упрекала себя за это. – Мне известно, что вы все осудили ее, ваш приговор был строг и обжалованию не подлежал; но там, в Кане, их тоже судили, и тоже вынесли не подлежащий обжалованию приговор. – Вы говорили себе: «У этой женщины не хватило мужества. В ее поступке было много эгоизма и слабости». – А я отвечаю вам: «Да, вы правы, но не судите ее». Суд присяжных в Кане просто-напросто ошибся. Вы не ошибаетесь. И все же судите. Словно распустившийся цветок, красота ее вновь расцвела во всем своем великолепии. Время было не властно над прелестью ее юного тела. Долгое время оно было лишь пустой оболочкой. Теперь в него вновь вдохнули душу – трепетную, нежную и глубокую. Перед нами вновь была отважная и пылкая женщина; каждая частичка ее существа дышала страстью, она напоминала натянутую струну, издающую под рукой гения то торжествующий аккорд, то скорбный плач. Это была сама любовь, безоглядная, безграничная, безмерная, любовь, освященная скорбными бдениями, любовь юная, живая и чистая, как пылающий огонь, любовь-рок, любовь-безумие. Прошлое не имело никакого значения. Она была так же чиста, как в те далекие годы, и так же прекрасна! – Неужели он назовет меня Жюли? Словно невинное дитя мечтала она об этом. Грудь ее трепетала, веки вздрагивали, роняя слезы. За те несколько шагов, что ей пришлось пройти, она успела перебрать все свои воспоминания, все свои устремления, все желания, все ужасы, пережитые за долгие годы изгнания. Мысль о своем проступке угнетала ее; но Андре был таким великодушным! И он так любил ее когда-то! Как он изменился! Говорили, что волосы его стали совсем седыми! Какое это имеет значение! Для нее он был по-прежнему прекрасен. Она снова увидит его улыбку! Господи! Господи! Она без сил опустилась на последнюю ступень лестницы. Вокруг не было никого, кому ее внезапный приступ слабости мог бы показаться странным. Кто-то позаботился принять надлежащие меры предосторожности. Она не встретила ни вездесущего Домерга, ни несносную госпожу Сикар, имевшую привычку постоянно оказываться там, где ее менее всего желали бы видеть. Звуки бала почти не доносились до этой части дома. Но сейчас, когда Жюли охватил страх, даже эти отдаленные звуки придавали ей бодрости. Помните ли вы поляну в густом лесу Бургебюс? Память Жюли воскресила перед ней эту картину, и она вновь увидела своего мужа, своего любимого, благородного молодого человека, которому выпала роль мученика. Солнце, пробивавшееся сквозь листву, играло в черных кудрях, обрамлявших его прекрасный лоб. О, разумеется, она любила его всем сердцем. Но сейчас этого было недостаточно. Каждая частичка се существа изнемогала от любви к нему. Он был здесь, в нескольких шагах от нее; к чему медлить? зачем терять минуты? Она резко поднялась и быстрым шагом направилась к двери спальни. Дверь была приоткрыта. Холодными как лед руками она сжала пылающие виски и стремительно распахнула дверь. Войдя в комнату, она медленно обвела ее затуманившимся взором. Никого. Внезапно жуткий вопль сдавил ей горло. Возле двери, ведущей в комнаты Бланш, почти на уровне пола она увидела хорошо знакомую зловещую фигуру Трехлапого, калеки с подворья Пла-д'Етен. Страшное лицо его словно окаменело и напоминало застывшую маску, покрытую всклокоченной щетийой. В ужасе она отшатнулась и прошептала: – Это не он! В эту минуту в ее возбужденном мозгу билась всего лишь одна мысль: увидеть его. Все остальное перестало для нее существовать. Сейчас она не была ни женой барона Шварца, ни матерью Бланш; она была одна и свободна; сильные руки всепобеждающей страсти сжимали ее в своих объятиях. Она была готова на любой риск, никакие угрозы не смогли бы остановить ее, ничто в мире – ни святыни, ни дьявольские искушения – не воспрепятствовали бы ее порыву. И если– бы вместо этого несчастного перед ней был Андре, Андре-старик, Андре-прокаженный, Андре-преступник, она уже была бы в его объятиях! Но это был не он! Первым ее порывом было обратиться в бегство. – Я пришел от него! – раздался мрачный голос, звуки которого, словно тяжелые грубые руки, легли на ее обнаженные плечи. Она никогда не слышала, как разговаривает нищий с подворья Пла-д'Етен; голос, звучавший в ее воспоминаниях, совершенно не был похож на тот, который она только что услышала. И вес же слова, произнесенные Трехлапым, заставили ее вздрогнуть. – Почему он не пришел? – прошептала она. – Потому что сегодня, как и в те далекие времена, – отвечал он, – над ним вновь нависло обвинение, а значит, смертный приговор. – Ах! – вскрикнула она, невольно впиваясь взором в калеку, чей голос пробуждал в ней противоречивые чувства и терзал ей душу. – Его вновь оклеветали! И снова его ждет суд! Господин Матье в упор смотрел на нее; его холодные глаза сверкали, как два кусочка хрусталя. Чтобы не упасть, она вцепилась в стойку кровати. Ее поза, весь ее отчаявшийся вид являл странный контраст с ее роскошным платьем. У нее был взгляд затравленного зверя. Господин Матье отвел взгляд, но тут же вновь раздался его леденящий душу голос: – Я заменяю его, сударыня, поэтому вам придется выслушать меня. – Расскажите мне о нем! – умоляюще попросила она. – В вашем доме, – вместо ответа начал Трехлапый, – сейчас происходят некие события, и вы, сами того не подозревая, находитесь в их центре. Всем, кого вы любите, грозит опасность… – Я люблю только его, – простонала Жюли, бросаясь на кровать и заламывая руки. И, словно очнувшись, со слезами в голосе воскликнула: – О, мои дети! Дети мои! Мой Мишель, его сын! Моя маленькая обожаемая Бланш! Руки ее дрожали, голос звучал надрывно. И все же, охваченная безумной страстью, она прошептала: – Умоляю вас, расскажите мне о нем! Из-под полуприкрытых век Трехлапого стальной молнией метнулся острый, пронизывающий взгляд. Внезапно его бледное лицо посерело, под глазами пролегли глубокие круги. – Когда-то вы сказали ему, – тихо произнес он, – «во всем мире для меня существуешь только ты; и нет силы, способной отдать меня другому!..» Она встала, тонкая и стройная; невысказанная страсть вдохнула в нее силы. Угасшая на миг красота, словно пожар, вспыхнула с новой силой. Она шагнула вперед: в ее широко распахнутых глазах читалось все, что творилось сейчас в ее душе. Но взгляд ее натолкнулся на мрачную окаменелую маску. Откуда этот человек все узнал? Неразрешимая загадка терзала сердце Жюли. В эту минуту она напоминала львицу. Грудь ее часто вздымалась; кровь яростно прихлынула к пылающим щекам; растрепавшиеся волосы буйной волной рассыпались по груди и плечам. Ее взор вопрошал. Вряд ли даже ученые, посвятившие себя классификации человеческих взглядов, смогли бы подобрать точное определение пронзительнейшему взору Жюли. Но ее яростно кричащий немой вопрос встречал лишь глухую стальную стену безучастности. Ничего. Ни единого следа. Неужели именно этого странного человека Андре сделал своим доверенным лицом, неужели именно ему поведал свои самые сокровенные и мучительные тайны? Окна спальни выходили во двор; там уже давно стих стук колес экипажей. А когда умолкли звуки шарманки, раздался пронзительные выкрик: – Волшебный фонарь! Спешите видеть! Этот призыв звучал уже второй раз. Взгляд господина Матье устремился на стенные часы с боем, и он отрывисто произнес: – Сударыня, через десять минут мы должны завершить наши переговоры! Слова эти явно шли вразрез с желанием того, кто их произносил; они принадлежали не посланцу, но тому, кто его послал. Жюли не слышала, не понимала ничего, кроме того, что могло бы раздуть пламя ее безумной, угасающей надежды. Она сделала еще шаг, ее вопрошающий взор перешел со страшного, словно окаменелого лица калеки на его грудь, а затем и на ноги. Для нее Андре всегда воплощал силу; закрывая глаза, она видела перед собой его статную юношескую фигуру. Острая тоска сдавила ей сердце, из груди ее вырвался стон. Это был не он! Она больше не хотела, чтобы это был он! Она остановилась, раздавленная тяжким грузом воспоминаний; чтобы не упасть, она была вынуждена прислониться к мраморному камину. Мозаичный паркет закружился под ее ногами, она вцепилась в каминную полку, и голова ее безжизненно поникла. Там, внизу, в гостиной, улыбаясь гостям, она исчерпала все свои силы! И так она стояла, поникшая и разбитая, когда Трехлапый снова устремил на нее свой леденящий взор. – Вы меня слышите? – резко спросил он. Тело баронессы содрогнулось. Она не ответила. Но услышала и все поняла. В голове ее билась мысль: «Как часто избыток строгости – всего лишь маска для безграничной жалости, которая боится явить себя…» Вымысел – последнее прибежище приговоренных. – Я завтра уезжаю, – воскликнула она. – Сегодня ночью я хочу увидеть его. Увидеть его хотя бы на миг – ради этого я готова на все. Где он? Я пойду к нему. Брови господина Матье нахмурились. Она улыбнулась ему, так, как улыбаются сердитому ребенку, когда желают лаской смягчить его гнев. – Я знаю, знаю, – нежно произнесла она, – вы спешите. Вы пришли не ради меня. Он меня больше не любит, разве не это истинное мое наказание? Но вы добры, раз он поведал вам свою тайну. А знаете ли вы, как я страдаю? Сударь… бедный мой… довольно! Не нужно десяти минут, чтобы отдать приказание рабу. Вы пришли от него: я сделаю все, что вы прикажете… – Осталось только пять минут, – произнес калека, чей отрывистый голос стал совершенно хриплым. – Этих минут слишком много, чтобы дать согласие выполнить любой его приказ, – произнесла она, перестав опираться на камин и неуверенно делая шаг вперед. – Чтобы произнести слово «да», достаточно и секунды. А чтобы говорить о нем, мне не хватит всей жизни. О, взгляните же на меня, молю вас! Если бы он видел меня сейчас, он бы сжалился надо мной… Я совсем потеряла разум… мгновение назад я подумала, что это вы… Я спросила свое сердце, любило бы оно его по-прежнему, если бы он был также изуродован, искалечен, повержен… как вы… сударь… бедный вы мой… Она не двигалась с места, и все же расстояние между ними сокращалось. В этом было нечто необъяснимое. Камень медленно превращался в воск. Так почему же он не произносил слова, предназначенного завершить встречу? В логове Лекока Трехлапый часто хвастался своими победами над женщинами. В ответ Лекок лишь философски улыбался, привыкнув снисходительно относиться ко всякого рода странностям. Так, может быть, перед нами сидел увечный сатир, этакий безногий вампир, готовящийся упиться кровью очередной жертвы?.. Многие, несомненно, поверили бы этому, заметив, как по недвижному телу калеки пробежала мелкая дрожь. – Бедный вы мой… сударь… – продолжала Жюли, – стань он еще более увечным, чем вы, еще более уродливым, чем вы… и сердце отвечало мне, что любило бы его и таким… любило бы в сотни, в тысячи раз сильнее, чем можно выразить словами… Пощадите меня, иначе я сойду с ума… и я не могу не говорить… я думала обо всем, даже об эшафоте! Я взойду за ним на эшафот и буду любить его, будь он жертвой…. или палачом! Последнее слово, сорвавшееся с ее дрожащих губ, прозвучало словно крик души, обращенный к божеству. Дыхание калеки участилось, но он по-прежнему не двигался. Откинув назад свои непокорные волосы, Жюли продолжала: – Я красива; Господь сохранил мою красоту для него. Если бы вы знали, как он тогда любил меня. А я… О! Я не знала собственного сердца… Это он сказал мне: «Не ходи в тюрьму…» Теперь же, если бы даже он сказал мне: «Не спускайся в ад!..» Ваши глаза засияли! – радостно воскликнула она… – Если бы на вашем месте был он!… Но нет… вы бы пощадили меня! Влекомая неведомой силой, она наклонилась над уродом: два ледяных зрачка уставились на Жюли. Затем веки Трехлапого опустились, и он произнес: – Время идет! – Скажите ему, – зашептала она с нежностью, которую не смогли бы передать никакие слова, – что я буду ползать как вы… как он, мои губы всегда будут рядом с его губами, если он вдруг пожелает поцеловать их… если он нищ, я буду просить милостыню… скажите ему это… но пусть он знает, что я не забыла ни о дочери, ни о сыне… моя дочь принадлежит мне; она последует за нами… мой сын принадлежит ему… скажите же ему… скажите ему, что вы видели несчастную женщину… его жену! Которая любит его также, как он ее любил! Нет, еще сильнее! Женщину, которая принадлежит ему, пусть даже против его воли, женщину, которая будет счастлива умереть, лишь, бы только заслужить его прощение… Она перевела дыхание и, сделав резкое движение рукой, завершила: – Несчастная готова вырвать сердце из своей груди и бросить к его ногам! Калека упорно смотрел вниз, но человеческие силы имеют свои пределы. По лбу Трехлапого градом катились крупные капли пота. Мускулы его лица задрожали, круги под глазами налились свинцом, на щеках проступили алые пятна. Жюли опустилась на колени и поползла к калеке. В глазах ее блестели слезы, а на губах играла счастливая улыбка, чистая, словно небесный поцелуй. При ее приближении Трехлапый тяжело задышал. – Андре! – прошептала она. Увечный жутко побледнел, голова его упала на грудь. Жюли протянула к нему руки и, опьяненная радостью, прошептала: – Андре, любимый мой, Андре! Это ты! Я знаю, что это ты! Но внезапно руки ее опустились, слова застряли в горле; в широко раскрытых глазах ее читался невыразимый ужас. Дверь за спиной беззащитного калеки медленно отворилась, и в проеме появилось искаженное лицо барона Шварца. X ЧЕЛОВЕК В ПАРИКЕ Барон Шварц пребывал в самом расцвете сил, он был крепок и энергичен. Люди, подобные ему, достигнув определенного возраста, становятся на редкость спокойными: невозмутимость являлась одной из характерных черт уроженцев Гебвиллера. Но невозмутимость – всего лишь инструмент, который, когда нужда в нем пропадает, с легкостью забрасывают в дальний угол, и извлекают только в случае крайней нужды. К тому же эти конкистадоры из Гебвиллера обладают весьма странным свойством: спокойствие и терпение свойственны им лишь до тех пор, пока они тощи, пронырливы и алчны; но как только они начинают удовлетворять свои аппетиты, то вместе с жирком количество крови в их жилах явно увеличивается, и эта кровь принимается бурлить и кипеть, толкая преуспевающего конкистадора на мотовство и безумства. Так что если вы увидите разгневанного гебвиллерца, можете быть уверены, что это человек состоятельный и преуспевающий. За всю свою жизнь барон Шварц редко гневался и прибегал к насилию: он не был злым. Однако почти все его нечастые приступы гнева обрушивались на головы тех, кто был значительно слабее его. Только раз или два он действительно дал достойный отпор наглецам, но этого было вполне достаточно, чтобы заслужить репутацию человека вспыльчивого. Господину же Шварцу подобная известность была весьма на руку. Приятели банкира были уверены, что только сумасшедший может пытаться завоевать расположение жены господина барона, ибо гнев уязвленного супруга будет ужасен. Вот уже несколько дней барон Шварц пребывал в лихорадочном возбуждении. Причиной столь непривычного для него состояния были страхи и надежды одновременно, ибо лихорадка, о которой мы говорим, не была тем простым учащением пульса, сопровождающим ежедневную работу по добыванию миллиона и постепенно убивающим человека, как опиум или абсент. Нет, это была тяжелая, губительная болезнь, способная расстроить счетную машину, именуемую мозгом банкира, заставить обладателя ее забросить счета и очертя голову пуститься в рискованные авантюры. Барон поверил автору зачитанного до дыр романа и решил, что, связав с ним свои планы, сумеет извлечь из этого союза немалую выгоду: он поверил в существование внука Людовика XVI. И теперь господин Лекок держал его так же крепко, как стальная рука, это чудо-изобретение современных умельцев, сжимала руки грабителей, пытавшихся взломать знаменитые сейфы с секретом, распространяемые торговым домом «Бертье и К°». Господин Шварц силой заставил фортуну обратить на него свой благосклонный взор. Но в тот момент, когда, казалось, он, наконец, мог торжествовать, сработал демонический механизм возмездия: появился господин Лекок! Принимая участие в делах, разворачивавшихся вокруг так называемого сына Людовика XVI, затравленный господин Шварц искал забвения, они были для него чем-то вроде знаменитой железной латной рукавицы, оставленной взломщиками сейфа Банселля в его механических когтях ночью 14 июня 1825 года. Банкир ничего не украл, не совершил противозаконных деяний; но не будем забывать о горьких мыслях, обуревавших невиновного Андре Мэйнотта после того, как его обвинили в чужом преступлении. Рука, некогда схватившая за горло Андре Мэйнотта, теперь вцепилась в глотку барона Шварца: та же самая рука! Андре Мэйнотт был всего-навсего бедным влюбленным юношей, и все, что ему удалось сделать, – это защитить его обожаемое сокровище, его Жюли. Среди нагромождения роковых совпадений и случайностей правосудие так и не смогло обнаружить затерявшуюся в них истину. Господин Шварц, напротив, был не новичок в интригах; к тому же он был закован в надежную броню баснословного состояния, а посему мог успешно отражать удары врагов. И все же он чувствовал, что задыхается, не в силах высвободиться; безжалостная таинственная рука неумолимо сжимала его горло. Барон уже хрипел, ибо, завершая наше сравнение, напомним, что он тоже любил: рядом с ним была женщина, и заботы о ее спокойствии сковывали его по рукам и ногам. Он обожал эту женщину – ту же самую женщину! Заметьте, я не сказал, что это была та же самая любовь. Страсть, наслаждающаяся безмятежным покоем, в час страданий вырывается наружу подобно вулкану. В той страшной битве, которая разыгрывалась вокруг барона, тот думал только о своей жене. Жена стесняла его движения, путала его мысли, поглощала все его существо. Он любил ее безумно, пылко, яростно, особенно с тех пор, когда она Перестала быть ему женой. Он любил ее столь жгуче, что в какой-то миг у него даже мелькнула мысль отдать ее в руки полиции, дабы она не досталась никому. Ведь постановление Канского суда о ее аресте до сих пор не было отменено! Барон Шварц до слез любил собственную жену; оставаясь один в своем кабинете, чьи стены более привыкли к виду золота, нежели проявлениям человеческих эмоций, он плакал, и леденящий ужас перед неведомым грядущим сжимал ему сердце. Угроза разоблачения, страшные обвинения, нависшие над ним, смыкали вокруг него свой роковой круг. Он обманом взял в жены замужнюю женщину. Поверив лжи, замешанной на капле правды, он стал кассиром, сообщником гнусной бандитской ассоциации; плоды шестнадцати лет изнурительного труда, честного в той степени, в какой могут быть честными труды по добыванию золота, безупречного по меркам золотой морали ему подобных, в одно мгновение могли пойти прахом. Коготок увяз – всей птичке пропасть, нелегко отважиться привязать к ноге колокольчик прокаженного, но еще труднее доказать, что ты выздоровел. Барон Шварц был свидетелем краха многих банкирских домов; финансовый Париж не имел от него секретов. К тому же, не склонный ни к преувеличениям, ни к иллюзиям, он был готов, гордо подняв голову и потрясая, словно дубиной, своим кредитом, выступить навстречу грозившей ему опасности! Готов… если бы только путь ему не преграждала любимая им женщина! Чтобы спасти ее, он губил себя. Он поступал так же, как Андре Мэйнотт: в минуту борьбы руки его, вместо того чтобы защищать себя, судорожно обнимали свое сокровище. Он был беззаветно предан, но, в отличие от Андре Мэйнотта, не любимой женщине, но своей любви к этой женщине. Эта преданность и подсказала ему решение. Он решился бежать, но вместе с ней. Он поступал безрассудно, повинуясь лишь собственным чувствам; в этой игре супружеской страсти он рисковал потерять все свое состояние, достаточное, чтобы оплатить всю любовь Парижа… Таков был человек, чье истерзанное страстями лицо просунулось в дверь позади ничего не подозревающего беззащитного калеки. Сомнений не было – он слышал последние слова Жюли. Жюли ни на секунду не сомневалась в том, что последует дальше. Перед глазами ее встала картина убийства – так, как если бы оно уже свершилось, как если бы кинжал, который держал в руках банкир, уже вонзился в спину Андре Мэйнотта. Она прекрасно знала этого человека – палача и жертву одновременно, знала, что в нем было хорошего, а что плохого. Но сейчас все силы его, и добрые и злые, объединились, чтобы нанести один из тех ударов, что по самую рукоятку вгоняют смертоносную сталь в трепещущую плоть врага. Жюли хотела закричать, но крик застрял у нее в горле. Она подалась вперед, но силы отказали ей: она не двинулась с места. Трехлапый заметил ее движение. Но у него не было времени обернуться. Банкир не колебался ни секунды, поэтому дальнейшие события разворачивались весьма стремительно. И все-таки мы медлим произнести те несколько слов, которых вполне хватило бы, чтобы описать действия барона. Мы медлим, наша лодка рассказчика села на мель. Рука господина Шварца явно не привыкла держать кинжал, хотя сие оружие было разбросано по дому наряду с прочими безделушками. Глядя, как сведенные пальцы барона судорожно сжимают рукоятку, становилось ясно, что он схватил его просто потому, что кинжал подвернулся ему под руку, как хватают первый попавшийся камень, чтобы размозжить голову выползшей на дорогу змее. Поэтому мы позволили себе столь многословное отступление. В сущности, кинжал в руках барона был совершенно бесполезным орудием. Бывают случаи, когда трагедия по неопытности автора превращается в комедию. Без сомнения, барон Шварц жаждал убить Трехлапого. Об этом свидетельствовали его глаза, пылавшие кровавым огнем, его искаженный гримасой рот, его мертвенно-бледные губы, сладострастные движения его пальцев, ласкавших рукоятку кинжала. Всем видом своим он напоминал тигра, опьяненного запахом крови; а если вспомнить, что мысль о самоубийстве уже закрадывалась в его голову… Но даже если предположить, что жажда крови захлестнула все существо барона, банкир, человек весьма мирных занятий, не может нанести удар так, как наносит его опытный убийца. Впервые решившись на убийство, банкир действует неловко и даже как-то инфантильно. Во второй раз это обычно получается значительно лучше. Замахнувшись кинжалом, барон Шварц ударил в пустоту. Перед разъяренным банкиром мелькнула лишь заросшая жесткими волосами голова нищего калеки. Трехлапый растянулся на ковре, лица его не было видно. Не выпуская кинжала, барон, словно оголодавший зверь, жадными руками вцепился в густую шевелюру и с бешеной яростью дернул ее на себя. Он хотел задушить своего противника, а затем, повалив на землю его мертвое тело, попирать его ногами на глазах у женщины, только что крикнувшей этому чудовищу: «Я люблю тебя!» Шевелюра поддалась. Парик – вот оно, то низкое слово, которое мы никак не решались употребить! – парик вместе с накладной бородой остался в трясущихся руках господина Шварца; барон отскочил назад и остался стоять, широко разинув рот.» Трехлапый обернулся; движения его были быстры и уверенны. Вместо нищего калеки на полу оказался господин Брюно, сбросивший с себя маску простоватого добродушия. К банкиру было обращено молодое, необычайно красивое мужественное лицо, обрамленное совершенно седыми волосами. Дрожащим голосом барон Шварц пролепетал: – Человек с острова Джерси! Затем он перевел взгляд на парик, который он все еще держал в руках вместе с бесполезным кинжалом. Глаза банкира потухли, и он, чувствуя, как у него подгибаются ноги, весь подался вперед. Жюли испустила долгий вопль. Прилив жизненных сил захлестнул ее. Вытянув руки и шепча ласковые слова, какие обычно молодые матери шепчут своим младенцам, она устремилась к Андре. Барон хрипло застонал. Поведение Жюли не было ни жестоким, ни вызывающим: она просто забыла о бароне. Обеими руками она обвила шею Андре и изо всех сил прижалась к нему; при этом она была так красива, движения ее были так грациозны, что по щекам несчастного зрителя этой сцены скатились две кровавые слезы. Он зашатался. Рука его по-прежнему стискивала кинжал. На лице его блуждала безумная улыбка. За одну минуту барон Шварц постарел на десять лет. – Муж мой! Мой муж! Мой муж! – трижды повторила Жюли, душа ее полностью растворилась в поцелуе. – Ее муж! – повторял барон Шварц. Он выпрямился во весь свой рост. Резкий сухой смешок сотряс его тело, на миг барон замер, и, словно куль, свалился на пол и больше не шевелился. Шум от его падения вывел Жюли из сладостного забытья. В наступившей мрачной тишине были слышны отдаленные звуки оркестра. На улице в третий раз раздался крик шарманщика: – Волшебный фонарь! Спешите видеть! Безжизненное тело банкира перегораживало проход. Андре и Жюли молча смотрели на него; охваченная ужасом Жюли изнемогала от неутоленной страсти. Андре был холоден как лед. Он первым нарушил молчание. – Мне известно, что апартаменты барона Шварца сообщаются с конторскими помещениями, – сдержанно произнес Андре, и от звука его голоса сердце Жюли забилось ровнее, – поэтому я прошу вас объяснить мне дорогу к сейфу. Я провожу вас туда, – с готовностью воскликнула она. – Нет, – ответил он, – я прошу вас только объяснить, как пройти к сейфу, и дать мне ключ. Я опаздываю. Она запротестовала; не терпящим возражения тоном он остановил ее: – Прошу вас, сударыня, дайте мне ключ. Чтобы попасть в комнату барона, Жюли пришлось перешагнуть через бесчувственное тело супруга. «Он отомщен!» – промелькнула в ее голове мысль, и она бросила на банкира взгляд запоздалого сочувствия. Когда она вернулась с ключом, страшного калеки не было и в помине. Андре твердо и уверенно стоял на своих ногах. Жюли с мольбой глядела на него. Он взял ключ и молча выслушал ее объяснения. Слова ее перемежались рыданиями. Как только она умолкла, он протянул ей руку: Жюли сделала неловкую попытку поцеловать ее, но он оттолкнул ее. – Прощайте, – произнес Андре, – мы больше не увидимся. Я простил вас… сердце мое простило вас. А теперь исполните свой долг и позаботьтесь о вашем муже. Жюли медленно опустилась на колени. Андре вышел, не обернувшись. Жюли распростерлась на полу и, припав ухом к половицам, в отчаянии пыталась уловить шум его удалявшихся шагов. Сердце ее было растоптано, голова гудела, у нее не было ни одной мысли. Нужно ли объяснять, что она даже не задалась вопросом, почему Андре один направился в кассу? Но даже если предположить, что ее мозг сохранил бы в эту минуту способность мыслить, у нее все равно не зародилось бы никаких низменных подозрений. Настал час расплаты, и Андре стал ее судьей. В эту минуту она поистине благоговела перед ним и была готова выполнить любой его приказ. Только что ее страстное чувство лелеяло ликующую развязку, только что она уверовала, что ее любовь преодолела все препятствия, как внезапно она была низвергнута с вершин своих надежд: прозвучал приговор, не подлежавший обжалованию. Но Жюли не воспротивилась. Он имел право так поступить: ее раскаяние граничило с самоуничижением. Он был справедлив. Теперь она могла лишь удивляться своим прежним мечтам. В ее покаянном порыве потонули последние остатки надежды, на миг озарившей ее жизнь. Андре сказал: «Позаботьтесь о вашем муже». Она исполнила его приказ. Подойдя к барону, она приподняла его голову и положила ее к себе на колени. Это был ее муж. Быть может, теперь она бы взбунтовалась против двойного надругательства над церковным обрядом и законом. Но так сказал Андре: значит, этот человек был ее мужем. Андре имел право так сказать. Он был для нее и судьей, и священником в одном лице. Жюли выплакала все свои слезы. Она смотрела на белокурую голову отца своей дочери без ненависти и без любви. А когда барон открыл глаза, она попыталась улыбнуться ему. Несчастный банкир был словно оглушен ударом тяжеленной дубины. Озираясь по сторонам, он увидел улыбку жены и решил, что все еще бредит. Жюли сказала: – Вы без труда можете отомстить за себя: Андре Мэйнотт и Жюли Мэйнотт, его бывшая жена, приговорены к каторжным работам. Выдайте их правосудию. Жюли Мэйнотт сидела на полу; она была удивительно прекрасна. В такой позе утро обычно застает светскую красавицу, утомленную ночным балом в Опере. Вакханалия безумств завершилась, и она вместе со своим любовником падает на ковер, не в силах больше сделать ни шагу. В эту минуту до супругов донеслись веселые звуки оркестра: праздник был в самом разгаре. Лежащий на полу барон внимал этим звукам с тупым изумлением. Словно ребенок, он спрятал лицо в шелковых складках платья жены и затих. Чтобы попасть на первый этаж жилой части особняка Шварца, надо было подняться по лестнице в целых двенадцать ступеней; этот этаж находился на одном уровне с антресолями, окна которых смотрели на улицу. Отдельная лестница вела из апартаментов барона в галерею, тянущуюся вплоть до самых контор. Быстрым и уверенным шагом Андре Мэйнотт начал спускаться по этой лестнице. Вокруг не было ни души. Но тут силы изменили ему, он остановился и тяжело задышал, словно путник, взбирающийся по крутому склону и вынужденный перевести дыхание от усталости. Одна рука его вцепилась в перила, другая же была плотно прижата к бешено колотящемуся сердцу, дабы успокоить его. Но напрасно: каждый удар его причинял Андре жестокую боль. Сдавленный стон вырвался у него из груди. Более ничего; Андре Мэйнотт справился со своими чувствами. Возле лестницы стояли двое. Лампа, висевшая под потолком узкого коридора, освещала их суровые, встревоженные лица. Один их них был господин Шварц, бывший комиссар полиции в Кане, второй – советник Ролан. При виде Андре Мэйнотта, спускавшегося по лестнице с гордо поднятой головой, оба чиновника вздрогнули. Они узнали его с первого взгляда, условная фраза не понадобилась. – Сударь, – обратился к Андре советник Ролан, первым опомнившийся от изумления, – как видите, мы исполнили просьбу, которая, согласитесь, не могла не показаться нам весьма странной. Честно говоря, я ожидал, что мы снова будем втянуты в дело, где каким-то образом замешаны вы, но что мы встретимся с вами лично – такого я не мог предположить. Надеюсь, что вы домните, что мы пребываем при исполнении служебных обязанностей…. – Вы люди чести, – прервал его Андре. – Ваша совесть испытывает некоторые угрызения, ибо та, кто сейчас носит имя баронессы Шварц, находится на свободе, а оба ваших сына, господа, собираются связать себя с ее домом тесным узами. – Я утверждаю… – начал Ролан. Андре жестом остановил его. – Вы люди чести, – повторил он, – и я рад снова оказаться в ваших руках. Я много страдал, прежде чем пробил час божественного правосудия. Вы ничем не можете мне помочь. Вам отводится роль свидетелей, безмолвных свидетелей, чьи показания никогда не прозвучат в суде, ибо если теперь я и предстану перед судом, то только перед судом Господа. Я воззвал к вашей совести; нас здесь трое, мы все люди чести. Следуйте за мной, слушайте, смотрите и судите, как подсказывает вам совесть. XI ТЕМНАЯ КОМНАТА – Эти банкиры, – заявил Эшалот, чье веселье становилась все более буйным, прямо пропорционально количеству содержимого дешевых бутылок с вином, вливавшегося в его желудок, привыкший к вынужденному воздержанию, – эти банкиры все мошенники, все, как один, разве не так, Саладен, сокровище ты мое? – Надеюсь, ты не забыл, – отозвался Симилор, – что ребенок еще не в том возрасте, когда он сможет тебе ответить, что общественный прогресс направлен на устранение неравенства состояний, кое банкиры с Биржи, этой ненасытной пиявки, вечно алчущей нашего пота… Поехали, котеночек!..'Ты доволен, что ввязался в дело? Ах, я уверен, что этот добрый, этот чувствительный Эшалот был всем доволен! Страшное зрелище убитой женщины временно омрачило его настроение, но Симилор, будучи лучше знакомым с жизнью, быстро дал ему понять, что это всего лишь неизбежная, хотя и печальная случайность. Тайна неотрывна от преступления, но тому, кто сам не запятнан кровью, беспокоиться нечего. Формулировка была найдена, постановление единодушно одобрено. Оба приятеля, в сущности, искренние и доброжелательные создания, порешили: «Убивать – глупо, совесть замучает; старайся ограничить свою деятельность мошенничеством и обманом, не причиняя никому слишком большого вреда». Заметьте, что у этих знатоков по части эвфемизмов нигде не прозвучало слова «кража»! Совесть терзала Эшалота за бутылку молока, позаимствованную утром у соседки. Мысль о том, чтобы запустить руку в карман своего ближнего, глубоко возмущала их обоих. Но мошенничество! Розыгрыш! Сыграть роль, провести всех! Блеснуть талантом! Вызвать восхищение других артистов! Завоевать положение среди завсегдатаев этого рассадника мысли – трактира «Срезанный колос», зарабатывать золото таким сладостным ремеслом! Конечно, разумеется, Эшалот был счастлив, что его взяли в дело! И#как же порой бывает нужно мало времени, чтобы в корне изменить судьбу человека! Всего за один день наши друзья завоевали свое место в обществе. Они больше не были первыми встречными, чудаками, мечтавшими о крупном Розыгрыше, такими, как наш Этьен, бредивший славой драматурга. Они вошли в дело, их занесли в списки, им дали роли. Даже облик приятелей мгновенно изменился! Теперь каждый с первого же взгляда мог сказать, что эти двое молодых людей устроены. Лица приняли надменное выражение, соответствующее их новому положению и осознанию собственной значимости. Костюмы, хотя и не отличавшиеся пышностью, выдавали природное стремление к изысканности: несколько легкомысленный наряд Симилора и добротный, без затей костюм Эшалота. На башмаках гордо сверкали новые подметки, головы украшали купленные по случаю жокейки, а на плечах болтались рединготы, приобретенные возле ротонды Тампля; к тому же у каждого появилась рубашка. Саладену тоже кое-что перепало от всеобщего процветания: он был завернут в абсолютно новый кусок материи, правда, предназначенной совсем для других целей, и она нещадно царапала его нежную кожу. Младенец орал, но Эшалот мгновенно давал" ему глотнуть кофе с капелькой водки. Словом, все трое являли собой весьма трогательное и умилительное зрелище. Сейчас наши приятели больше походили на чиновников, постоянно осыпаемых милостями начальников, нежели на художников, внезапно поправивших свои дела с помощью ангела-хранителя богемы. С наступлением вечера оба наших друга, довольные собой и окружающим миром, купили себе по контрамарке и устроились в третьем ярусе Национального театра Мерсимон-Дье! Они со сладострастным благоговением слушали народную драму, простенькое действие которой разворачивалось то на каторге, то под мостами Парижа, то в парижской канализации, которая, как всем известно, содержится в превосходном состоянии. Именно в такие места «народные» авторы обычно помещают «свой» народ. Полагаю, что народ когда-нибудь предъявит «своим» авторам весьма суровый счет. И хотя Эшалот и Симилор считались людьми со вкусом, они любили подобного рода зрелища. Они были счастливы: предателя топили в пруду Монфокона именно в ту самую минуту, когда он собирался поджигать «одинокий домик», где нашла убежище офицерская дочка. В течение всех двенадцати актов соседи неоднократно предлагали нашим друзьям сесть на Саладена, ставшего после кофе изрядно шумным; Симилор краснел и отрицал свою причастность к младенцу. Неожиданно кому-то показалось, что Саладен – это то самое дитя из папье-маше, что мелькало в прологе. Ветер сразу переменился, и примирившаяся галерка яростно забила в ладоши. – Это мой ребенок! – воскликнул в восторге Симилор. – А мой друг всего лишь воспитатель! Окруженные всеобщим поклонением, они вышли из театра как только герой, прозванный Ньюфаундлендом, ибо он, как и собака означенной породы, все время кого-нибудь спасал, вложил руку юного адвоката в руку дочери офицера, произнеся при этом общеизвестные банальные слова. – Час пробил! – воскликнул Симилор, как только они очутились на бульваре. – Действительно, вот уж точно счастье привалило, – поддакнул Эшалот. Эти двое были поистине талантливы, или, точнее, умели вдыхать талант, разлитый в том воздухе, которым дышат в нашем зачарованном лесу. Достигнув улицы Энгиен, друзья провели последнюю репетицию. Эшалот вошел первым и тут же положил Саладена на нижнюю полку шкафа. При виде своего преследователя господин Шампион сразу же подумал о новом вымогательстве; но едва услыхав о пожаре, он буквально потерял голову. Удочки! В его коллекции было пятьсот двадцать две удочки! С воплями бросился он в комнату госпожи Шампион. – Катастрофа! Я еду, попытаюсь спасти то, что еще можно спасти. Жди моего возвращения! И он бросился вон из дома. Позаботиться о том, чтобы он вернулся к себе как можно позднее, должны были уже другие актеры. Разодетая для бала Селеста все еще раздумывала над странными словами супруга, когда к ней, томной и торжественный, словно паж Мальбрука, вошел Симилор. Он был неотразим; на лице его лежала печать таинственности. Мэтр Леонид Дени, лежащий на одре болезни в Версале, прежде, чем душа его покинет тело, желал еще раз увидеть обожаемую женщину, эту фею, этого ангела… Ах! Селеста нашла это желание таким естественным! Она накинула дорожный плащ прямо поверх бального платья: все герои нашего рассказа обожают производить эффектное впечатление, и Селеста здесь не исключение! Можете себе представить, как она будет хороша в своем бальном платье на последнем свидании с мэтром Дени! Селеста позвала рассыльного из кассы и приказала ему не спускать глаз с сейфа. Теперь настала очередь соблазнительнейшей Мазагран. Риффар, ветреный племянник привратника, провел Мазагран и ее сообщника, господина Эрнеста, тем же путем, каким он уже вел Эшалота и Симилора. Юный помощник кассира был в меру честен и чрезвычайно чувствителен. Спустя четверть часа охрана жилища господина Шампиона была поручена господину Эрнесту. Овчарня осталась в распоряжении волка. Излишне добавлять, что режиссер, поставивший сей спектакль, позаботился о том, чтобы проделать соответствующие маневры и в соседних конторских помещениях. На антресолях не осталось никого. Все эти сцены разыгрывались в то самое время, когда шарманщик первый раз выкрикнул свою фразу про волшебный фонарь, то есть где-то через час после полуночи. Тут же господин Лекок де ла Перьер, послушный сигналу, покинул танцевальный зал. С той минуты прошло около получаса, и за это время шарманщик еще дважды выкрикивал свой призыв. Но ни об одном из тревожных событий, происходивших на другой половине дома, в бальную залу не просочилось ни единого слова, а посему здесь по-прежнему царило радостное оживление. Вам же мы обо всем рассказали в предыдущей и отчасти в настоящей главе. Позволим себе также напомнить, что после полуночи приглашенные обычно веселятся сами по себе, и вряд ли кто-нибудь заметит отсутствие на празднике хозяев дома. Пятеро гостей из десяти обычно вообще за всю ночь ни разу не видят хозяев. Дверь из апартаментов Шварца, выходящая в коридор, откуда через комнаты господина Шампиона можно было попасть в контору, была открыта. Андре Мэйнотт первым переступил ее порог. Бывший комиссар полиции и советник следовали за ним. Лампы, освещавшие коридор, сейчас были потушены. Только слабый свет, проникавший в оставшуюся у них позади дверь в вестибюль, освещал им дорогу. Все трое шли молча. По своей протяженности коридор был равен двору. Пройдя половину пути, Андре остановился и сказал: – Вы производите слишком много шума, господа; тот, кто ждет нас здесь, никогда ничего не скажет, если поймет, что я не один. – Куда вы нас ведете? – нарочито спокойным голосом спросил советник. – Должен вас предупредить, что я вооружен, – отнюдь не бесстрастно добавил бывший комиссар полиции. – У меня нет оружия, – сказал Андре, и продолжил, отвечая на вопрос советника: – Я веду вас к раскрытию истины, относящейся к преступлению, по которому вы некогда вынесли приговор, и преступлению совсем недавнему, которым вам предстоит заниматься завтра. Речь идет об ограблении сейфа Банселля и убийстве графини Корона. – Вы были осуждены по обвинению в первом, и обвиняетесь во втором, – прошептал советник. – Особняк барона Шварца окружен вашими агентами, – медленно произнес Андре. – У меня нет ни возможности, ни желания бежать. Ответа не последовало. Все двинулись дальше. Чиновники старались ступать как можно тише. Мы наверняка где-нибудь упомянули о том, что в роскошных конторах барона Шварца, расположенных на первом этаже особняка и окнами выходивших на улицу Энгиен, имелись свои расходные и приходные кассы. Мы вынуждены говорить о них во множественном числе, ибо в доме размещались конторы различных отделений банкирского дома Шварца. Пресловутый сейф, стоящий в кассе на антресолях, именовался главной или центральной кассой; он поистине был душой, вобравшей в себя все, что огромное тело банка сумело накопить в результате различных операций. Здесь, под неусыпным надзором способного и надежного человека, а именно господина Шампиона, хранилась наличность банкира Шварца. «Способный» отнюдь не значит «умный»; скорее, это понятие означает некое специальное качество, проявляющееся исключительно при стечении определенных обстоятельств. Впрочем, во всем Париже не было лучшего, а главное, более подходящего для данной должности бухгалтера, нежели господин Шампион. За последние дни к содержимому сейфа прибавились огромные поступления от неких операций, молниеносно произведенных банкиром; причина столь внезапного накопления наличных денег для господина Шампиона пока оставалась тайной. Коридор, где двигались наши три молчаливых спутника, упирался в тщательно запертую двойную дверь, о которой не было упомянуто достославным Шампионом в его блистательной поэме, прочитанной в омнибусе, только потому, что этой дверью пользовался исключительно господин Шварц. У Андре Мэйнотта были ключи от обоих замков, и он последовательно отпер их. Вокруг по-прежнему царила тишина. Все трое осторожно вошли; дверь за ними захлопнулась, и они оказались в кромешной тьме. Я подчеркиваю, что именно в кромешной, ибо еще господин Шампион говорил, что окна антресольного этажа закрывались сплошными железными ставнями. Однако здесь темнота явно была не вечной: в воздухе пахло свечным воском, что означало, что в помещении кто-то побывал. Андре Мэйнотт по крайней мере был в этом уверен. Найдя руки своих компаньонов, он выразительно пожал их, давая понять, что они у цели. Затем он один двинулся вперед. Следующая дверь вела в комнату, описанную господином Шампионом: там, охраняемый бдительным оком главного бухгалтера, стоял знаменитый сейф, сыгравший столь важную роль в начале нашего рассказа. Однако нам до сих пор так и не удавалось его увидеть. Раньше сюда вела всего одна дверь, теперь же путь к сейфу преграждала еще и стальная решетка, установленная во время достославных событий, стремительное развитие которых потребовало сего дополнительного фортификационного сооружения. Комната была просторна, но с низким потолком. Она одновременно служила спальней юному рассыльному, тому самому, кто соблазнился несравненными прелестями Мазагран; каждый вечер молодой человек со вздохом водружал свою постель на железный сундук с деньгами. Направо и налево были расположены комнаты господина и госпожи Шампион. Андре нащупал проход между решетчатыми створками, проскользнул в него, и оттолкнув от себя обе створки, захлопнул стальную дверь. В тишине раздался звонкий лязг железа. – Отлично! – шепнул Андре. – Ловушка захлопнулась. – Темно словно в печной трубе. Последние слова были сказаны голосом Трехлапого, словно тот разговаривал с самим собой. Бывший комиссар полиции и советник остались стоять возле железной решетки. Они больше не узнавали голоса человека, приведшего их сюда. Трехлапый закашлялся, задвигался и внезапно произнес: – Да откликнитесь же вы, если вы уже здесь, не изображайте покойника. Я не собираюсь играть с вами в прятки, патрон! – Я здесь, – глухо донеслось из глубины комнаты, – но черт нас всех побери! Я попался в капкан, словно волк! – Какой капкан? – спросил Трехлапый. – Разве у вас нет железной боевой рукавицы? Разумеется, обоим свидетелям не нужно было напоминать о внимательности и осторожности. Однако при слове «рукавица» они невольно подались вперед. – Мне что-то послышалось, – мгновенно забеспокоился голос в глубине комнаты. Но в темноте уже отчетливо слышалось шуршание, производимое ползущем по паркету человеком. Трехлапый двигался на голос, тот же продолжал: Рукавица на мне, но она-то меня и держит… этот мерзавец Брюно подложил мне свинью. Конечно, это он поставил у меня на дороге эту девицу. Негодяй отличный кузнец; он упрятал в боевую рукавицу ловушку для дураков… каждый раз, когда я хочу вытащить руку, в нее впиваются сотни иголок и ранят меня до костей! – Ну и ну! – ухмыльнулся Трехлапый, продолжая шумно двигаться, – так, значит, это вы оказались дураком! Вместо ответа прозвучало замысловатое ругательство, ясно выражавшее весь гнев и всю боль говорившего. – Зато остальное идет как по маслу, – продолжал калека. – Там, наверху, танцуют, нужные нам сплетни уже у всех на устах… Ну, как там ваши иголки? – Если бы я мог, я бы отрезал себе руку, – заскрежетал зубами Лекок. Для этого нужен настоящий мастер, – холодно заметил Трехлапый, – и хороший инструмент… Наша механика крутится как изнутри, так и снаружи: юная Эдме Лебер, трое наших молодых людей… собственно, вот и все! – А что слышно о Брюно? – спросил Лекок. – Ничего. Что до него, то вам следовало бы купить его, сколько бы он ни запросил. – Да ведь это тебе было поручено следить за ним… ты виноват… – Милейший господин Лекок, – оборвал его Трехлапый, – я – что ж, я-то на вашей стороне; но когда сюда придут товарищи, то если они застанут вас в таком положении, берегитесь кинжалов! Они сразу догадаются, что вы тут вовсе не для того, чтобы озолотить ассоциацию. – Я Хозяин, – ответил Лекок. – Можешь ли ты дотащиться до меня, чтобы разобрать латную рукавицу? – Ну нет, куда вам до Хозяина! – бросил калека. – Но все-таки я постараюсь вытащить вас из передряги. Эх, будьте уверены, здорово вы влипли! Лекок, щупавший в темноте ногой вокруг себя, наткнулся в этот момент на бок Трехлапого. Обычно спустя некоторое время глаза привыкают к темноте, однако здесь ночь поистине была непроглядной. Господин Лекок сменил раздраженный тон на добродушный и ласковый: – Ты мой друг и прекрасно знаешь, что я всегда хотел помочь тебе сделать состояние… Поднимайся! – Мое состояние! – повторил Матье. – Гм! Гм! Патрон, с вами лучше синица в руках, чем журавль в облаках… Так говорят. Глухой стон свидетельствовал о том, что Трехлапый изо всех сил пытался выпрямиться. – Зайди с другой стороны, – приказал Лекок. – У меня одна рука свободна, и я могу помочь тебе. Трехлапый, торопливо вцепившийся в его одежду, напоминал пловца, который, вылезая из воды, пытается преодолеть крутой склон. Похоже, он делал все, что было в его силах. Лекок, едва лишь ему удалось схватить Трехлапого за сукно редингота, тотчас же мощным рывком оторвал его от земли. – Вы чертовски сильны, патрон! – восхитился калека. – Ты сменил свою бархатную куртку… – подозрительно проворчал Лекок. – Я же вышел в свет… – добродушно ответил Трехлапый. – Ты смог свободно войти в особняк? – Ну, знаете, пройти можно всюду, если очень захотеть. Он шумно вздохнул и сладострастно завершил: – О! О!.. Ах, черт возьми!.. Ведь сердце мое не парализовано, патрон. А эти ваши порядочные дамочки куда как лихо раздеваются. Те, кого не считают порядочными, никогда не выставляют напоказ столько своих нежно-розовых прелестей! – Шутник! – усмехнулся Лекок. – Ну и развернешься ты, когда разбогатеешь! Не дави мне правую руку, злодей!.. Но почему ты сказал мне: «Ну нет, куда вам до Хозяина!» – Потому что Хозяин, – ответил Трехлапый, – это тот, кто держит в руках удавку и тайну. – У меня есть и то, и другое. – У вас нет ни того, ни другого, патрон… Графиня была красивой женщиной. – Ты не можешь простить мне это убийство? Трехлапый уклонился от ответа: – Чего уж говорить, когда красивая женщина мертва! И он закашлялся, словно желая привлечь к этому первому признанию внимание свои невидимых спутников. – Но только, – продолжал он, – напрасно вы убили ее. И удавка, и тайна оказались в руках другого. И кто же он, этот другой? – Смотрите-ка, патрон, – внезапно воскликнул калека, – сейф открыт! Я протянул руку и нащупал толстые пачки банковских билетов. Ах, какие они гладенькие. Будь на моем месте кто другой, он бы бросил вас здесь, а сам ушел бы отсюда разбогатевшим! Лекок издал хриплый смешок. – Ты что же, считаешь, что свободен? – прошипел он. Трехлапый почувствовал, как сильная рука сдавила его поясницу. – Патрон, не жмите так сильно! – взмолился калека. – Я всего лишь несчастный инвалид. И тут же странным голосом прибавил: – Хоть вы и не из слабеньких, в вашем положении вы беспомощны даже перед таким колченогим уродом, как я. Посудите сами: у вас свободна всего лишь одна рука, если вы меня не отпустите, я все равно смогу ударить вас кинжалом, а если отпустите, то уж тем более прости-прощай! Из груди Лекока вырвалось сдавленное, хриплое дыхание. – Ах, вот мы какие, приятель! – свистящим голосом произнес он. – Ты, кажется, забыл о третьей возможности: при первом же твоем движении я приподниму тебя и разобью твою голову об этот железный ящик. И будете дожидаться, так сказать, с поличным, – усмехаясь, ответил Трехлапый, – своих товарищей, а то и полиции… Ибо этот дьявол Брюно, словно крот, всюду прорыл свои ходы. На вас с интересом посмотрят там, наверху: гостям на балу, а особенно дивизионному комиссару Шварцу и советнику Ролану, будет весьма интересно узнать, какую участь вы готовили их сыновьям, Этьену Ролану и Морису Шварцу, равно как и господину Мишелю и юной Эдме Лебер. Ты все еще желаешь эту девушку! – яростно воскликнул Лекок. Трехлапый ответил: – Я люблю женщин! XII БОЕВАЯ РУКАВИЦА На несколько секунд голова Лекока безжизненно поникла. Сознание своего бессилия сдерживало его, словно боевая рукавица, которая, казалось, сдавила ему не только руку, но и горло. При желании он мог бы убить Трехлапого, но это бы его не спасло. А судя по речам калеки, у того были свои, далеко идущие замыслы. – Ты сильнее, – сказал он, – давай поговорим. Чего ты хочешь? – О! – ответил Трехлапый. – Мы всегда сможем договориться. – Я предлагаю тебе двести тысяч франков сразу… Но я хочу знать… – Двести тысяч франков! Никогда не видел столько денег! Знать… что? – Как ты здесь очутился? – Ну, я еще на кое-что способен. Я взял ключи в комнате барона Шварца. – А зачем ты пришел? – Мне показалось, что ваше отсутствие затянулось. – Ты один? – Вы прекрасно знаете, что я никогда не работаю вместе с кем-то. – Хочешь меня освободить? – Это мой долг, к тому же это в моих же интересах. – Тебе придется проявить некоторую смекалку… – Как у обезьяны, черт побери! – Ты сможешь дотянуться до рукавицы? – Меня высоко подняли. – Ощупай мой карман. – Вот он! – произнес Трехлапый, шаря рукой по одежде Лекока. – Не этот! – быстро воскликнул Лекок. – А-а! – протянул Трехлапый. – Значит, в этом кармане лежит какая-нибудь интересная штучка? – Моя отвертка в другом кармане. – Значит, мы по-прежнему отправляемся надело с полной выкладкой? Одобряю! – Ты нашел отвертку? – Нашел, не дергайтесь. Однако странная история приключилась с этой рукавицей! Вот уж бы посмеялся Андре Мэйнотт, если бы оказался на моем месте. Трехлапый умолк, и после паузы спросил: – А помните, патрон, как однажды вы мне сказали: «Не будь этого Брюно, я бы задушил тебя». Ведь вы чуть было не решили, что я – это Андре Мэйнотт, разве нет? Ах, если бы вы не погасили ваш фонарь, мы бы сейчас такое увидели! – Вы делаете мне больно! – тревожно простонал Лекок. – Терпение! Не шевелитесь. Я уже принялся за работу! Заскрежетала сталь, и воцарилась тишина. Трехлапый трудился, поддерживаемый Лекоком; однако рука последнего уже начинала уставать. Два свидетеля этой невидимой сцены замерли за стальной решетчатой дверью; разговор Лекока и Трехлапого позволял им догадываться почти обо всем, что происходило возле сейфа. – Наверху все еще танцуют, – продолжал калека, – а вот и винт, который надо выкрутить. Сколько же здесь всего таких? Одиннадцать! Для этого понадобится время! – Так поторопитесь же, – воскликнул Лекок, не в силах скрывать боль, – поспешите, черт побери! – Я и так спешу, патрон. Вы успели обменять фальшивые банкноты на подлинные? – Нет, фальшивые лежат у моих ног. – Хотите, я подменю их? – Нет… продолжайте вашу работу! Голос Лекока, отрывистый и жесткий, выдавал его страшное нетерпение. Страдалец чувствовал потребность говорить, чтобы заглушить боль, и продолжал: – Когда я услышал, как вы вошли, я как раз собирался делать то, что делаете сейчас вы. Эй, вы что, уснули там, что ли? Дайте сюда отвертку! – Второй винт вывернут! – заявил Трехлапый. Лекок тяжело задышал. – Не зная, кто это может быть, – продолжал он, – я погасил фонарь. – Вы человек осторожный, патрон, предусмотрительный. А вот и третий винт. Можно подумать, что я всю жизнь только и выкручивал винты!.. А все-таки признайтесь, что этот Андре Мэйнотт ловко придумал: начинить рукавицу загнутыми внутрь шипами! Тогда, в Кане, дельце у вас выгорело… Так, значит, он знал, что барон Шварц купил сейф Банселля? – Вот уже семнадцать лет, как он выслеживает меня, словно краснокожий дикарь, идущий по следу своего врага! – выругался Лекок. – Что там, четвертый винт держится прочнее, приятель? Трехлапый закашлялся во второй раз. Было сделано второе признание, и сделано весьма недвусмысленно. Лекок не стал возражать против слов: «Тогда, в Кане, дельце у вас выгорело»! – Кое-где они заржавели, – сказал Трехлапый, – и ржавчина не пускает… Мне кажется, что этот мошенник проник в Сообщество не для того, чтобы красть, но чтобы быть поближе к вам! Без Фаншетты… – начал Лекок, скрежеща зубами от боли. – Поторопись, приятель! Полковник был Хозяином, но полковник глядел на все глазами графини Корона. – Да, да. Бедняга, его песенка спета. Его изворотливости можно было только позавидовать, уж он бы не дал схватить себя за лапу! То, что удалось один раз… Вы отпустили руку, патрон? – Никогда не думал, что ты такой тяжелый! – проворчал Лекок. – Крепитесь! Вот пятый винт… надо же до такого додуматься – выставить боевую рукавицу у матери юной Эдме, словно какую-нибудь реликвию! – Ты просто весь трясешься, когда произносишь имя этой девицы! – Да еще прямо напротив вашего окна! – завершил калека. – Ясное дело, что нарочно, чтобы вас искушать! Вы опять дергаетесь, ваш пот капает мне на лоб… Хотите немного отдохнуть? В ночи раздался серебряный звон. Невидимые часы пробили полчаса. – Нет! – ответил Лекок; в его голосе затаилась ярость. – Продолжай! – Тогда держитесь! Надеюсь, вы понимаете, что я тут разболтался только потому, что хочу вас немного развлечь? Так поступают зубодеры… Я прекрасно понял, почему там, в «Срезанном колосе», вы приказали мне обделать это дельце так, чтобы полиция пустилась по следам Брюно! Ах! Какой же он мошенник! Как он вас обвел вокруг пальца! Я даже догадываюсь, отчего вы имеете зуб на семейку Лебер. Заметьте, я больше не произношу «на юную Эдме», раз это имя в моих устах действует вам на нервы. Я даже понимаю, чего вам дался этот Мишель, ведь если он действительно сын Андре Мэйнотта… Но зачем губить двух остальных молокососов? Этьена и Мориса? – На всякий случай, – ответил Лекок. – Они родственны^ ми узами связаны с домом Шварцев, и наверняка знают тех, кого им не надо знать. Соединить всех шестерых: Андре Мэйнотта, обеих Лебер, Мишеля, Этьена и Мориса было поистине гениальной находкой. Главное, что все они, хотя и по разным причинам, находятся на подозрении: математический закон ассоциации Черных Мантии здесь строго соблюден. Дело сладится еще лучше, чем процесс в Кане! Трехлапый добродушно засмеялся, даже раскашлялся от смеха. – Да, да, – согласился он. – Держитесь, уже седьмой винт. В школе права Черные Мантии имели бы медаль. Однако на все может найтись своя закавыка… Ведь если это Андре Мэйнотт подшутил над вами, значит, он мог пойти и дальше, дойти до префектуры и выдать ассоциацию. – Я больше не могу! – простонал Лекок. Лишившись поддержки, Трехлапый, боясь упасть, вцепился в его одежду. Лекок вытянул затекшую руку и пошевелил пальцами. – Андре Мэйнотту, – отвечал он, отирая пот со лба, – грозит виселица, на его шею накинуто две или три петли. Не будь этого, то что бы там полковник ни говорил, Андре Мэйнотт уже давно лежал бы на дне канала… Продолжай же свою работу, я потерплю; сколько тебе еще осталось? – Идет девятый. – Стой! Трехлапый прекратил отвинчивать и, помолчав, спросил: – Вы что-то услышали, патрон? Лекок вздрогнул. – Нет, – ответил он изменившимся голосом, – но… – Но что? Трехлапый почувствовал, как его компаньон дрожащей рукой быстро ощупал его щеки и волосы. Завершив эту операцию, Лекок с испугом спросил: – Кто вы? Рассмеявшись, калека схватил его за руку. – Без глупостей, патрон! – воскликнул он. – С чего это вам вдруг пришло в голову позабавиться с ножиком? – Кто ты? – повторил Лекок, стараясь высвободить руку. Удерживая его руку, Трехлапый натужно рассмеялся. – Что, патрон, разве мне не дозволено привести себя в порядок, чтобы выйти в свет? – отвечал он. – Я приказал постричь меня и побрить; между прочим, из-за ваших фокусов мы потеряли пять минут. Продолжая ворчать, Лекок занял свою прежнюю позицию и сказал: – Ты прав. За дело! – Вы же прекрасно знаете, патрон, что это я! – заметил калека, возобновляя свою работу. – Я отдал бы целых двадцать пять су, мой милый, – ответил Лекок, пытаясь рассмеяться, – чтобы увидеть тебя подстриженным и выбритым! Ты, должно быть, неотразим! – Может, еще и увидите, патрон. Мы уже вывинчиваем десятый винт. Я не так богат, как вы, и поэтому согласен отдать половину этой суммы: двенадцать с половиной су, чтобы узнать, какие же три петли готовы затянуться на шее этого мошенника Брюно. Не двигайтесь и потерпите. – Первая, – страдальческим голосом ответил, Лекок, – и последняя по времени – это убийство графини Корона… Да! Твоего Брюно радостно встретят в префектуре! Вторая – это приговор, вынесенный ему в Кане, и до сих пор не отмененный; и наконец, третья, самая прочная, – это приговор, вынесенный его жене… – Ба! – перебил его Трехлапый. – Баронесса Шварц больше не его жена! – Он никогда не переставал любить ее. – Вы уверены? Опустите немного локоть. – Я в этом уверен. – Целых семнадцать лет! Какое постоянство! – Не перевелись еще трубадуры! – заметил Лекок. Слова эти он произнес уже совсем иным голосом. И без промедления, словно с этой минуты он стал находить удовольствие в разговоре, он продолжал: – Если бы мы с полковником не направили его по ложному следу, не подставили ему Шварца, кто знает, какие шаги сумел бы он предпринять против нас? Но не будем забывать, что он мужик, деревенщина. Он сумел избежать виселицы в Лондоне, также как и каторги во Франции. Но куда ему до таких джентльменов, как мы с полковником! Здесь голой силой не обойдешься. Все время держа его на расстоянии, мы пустили ему в глаза целый воз песку: барон Шварц был в Кане в ночь ограбления, Мэйнотт знал об этом; год спустя у барона Шварца было уже четыреста тысяч франков, и он женился на Жюли. С одной стороны, эта женитьба спасала Жюли. У Жюли родилась дочь. Может быть, она любила своего нового мужа… – Черт побери! Будь я на его месте, у меня бы все нутро сгорело при одной лишь мысли об этом! – Всегда найдется свой ньюфаундленд, Монтионовская премия… словом, дураки! Разумеется, господин Лекок отнюдь не считал себя дураком. Но блестяще сыграв роль, позволившую ему незаметно устроить проверку Трехлапого, он тем не менее не смог сдержать победной радости, оказавшейся сильнее многолетней привычки лицемерить. Лекок с трудом подбирал слова, стараясь скрыть охватившее его крайнее волнение. Однако речь его постепенно становилась невнятной, а дрожь, сотрясавшая все его тело, опровергала его велеречивое красноречие. Голос его стал блеющим – верный признак того, что он излишне много говорил; во всех его движениях появилась лихорадочность, отнюдь не связанная с желанием поскорей высвободиться из стальной ловушки. В непроглядной тьме от Лекока повеяло угрозой. Но похоже было, что Трехлапый не замечал признаков надвигающейся опасности. Он работал сосредоточенно, не отрывая взора от рукавицы. Но откуда же надвигалась гроза? Вот уже целую минуту свободная рука Лекока более не утруждала себя. Она по-прежнему сжимала талию калеки, но направление ее усилий изменилось, она перестала поддерживать Трехлапого на весу. Изменения происходили постепенно и совершенно незаметно: это была проверка. Без могучей поддержки Лекока безногий калека должен был бы упасть и распластаться по полу, раскинув свои омертвелые ноги. Трехлапый же остался стоять! Вот почему Лекок вдруг стал таким болтливым: так чаще всего поступают те, кто хочет скрыть сильное волнение. И вот почему, пока он говорил, голос его менялся и дрожал. Что за человек выдавал себя за Трехлапого? Ради каких неведомых целей он освобождал его пойманную в капкан руку? Скорей всего это был некий неведомый друг, ибо вряд ли враг стал бы проделывать ту работу, которую исполнил Трехлапый: с его стороны это было бы чистейшим безумием. Впрочем, философия господина Лекока и ему подобных значительно отличается от общепринятой, и им не чужды сомнения. Внезапно в мозгу Лекока блеснул свет. Существуют призраки, чье появление, словно молния, ослепляет того, кому они являются. Призрак Андре Мэйнотта, возникнувший в кромешной тьме кассы Шварца, ослепил взор Приятеля-Тулонца. Постоянно чувствуя на своей талии давление сильной руки, Трехлапый, возможно, и не догадался об обмане. Он вновь закашлялся, словно желая привлечь внимание к последним словам-признанию Лекока, а затем произнес: – Патрон, с вас причитается, работа окончена. Бывший комиссар полиции и советник действительно услышали металлический скрежет разомкнувшейся латной боевой рукавицы. И сразу же следом сдавленный голос прокричал: – Получай! Вот тебе за работу! Несмотря на данное обещание, оба свидетеля устремились к решетчатой двери и попытались ее открыть. Инстинкт, обостренный долгим ожиданием, подсказал им, что Лекок, оказавшись на свободе, тут же попытается заколоть Андре Мэйнотта. И они не ошиблись. Стремительным, словно молния, броском Лекок, отпустив талию своего освободителя, нанес ему удар кинжалом: он целил прямо в грудь. Но кинжал встретил пустоту, а откуда-то с пола Прозвучал голос калеки: – Патрон! Вы уронили меня! В отчаянии Лекок метнулся на этот голос. – Вот тебе на! – удивленно воскликнул Трехлапый в нескольких метрах от него. – Так-то вы благодарите меня, патрон! Господин Ролан затряс дверь, но та не поддавалась. Лекок услышал шум и прыгнул в ту сторону, откуда он доносился. Не найдя там своей жертвы, он в ярости забился о решетку. – Сюда, – позвал его Трехлапый, как подзывают собаку. – Сюда, Приятель-Тулонец! Тебя тут ждут! На этот раз голос шел с высоты обычного человеческого роста. Издав хриплое рычание, Лекок прыгнул на врага. Мнимый Трехлапый встретил его, прочно стоя на ногах; раздался глухой стук, затем послышался шум яростной борьбы. И молниеносной – добавим мы, ибо она длилась не более минуты. Во мраке раздался предсмертный вопль. – Это вы, господин Мэйнотт? – невольно воскликнул советник. – Вы не ранены? – Так, значит, это он! – заскрежетал зубами тот, чей вопль только что засвидетельствовал его поражение. – Да, это я, и моя нога стоит на горле этого мерзавца, – ответил Андре своим собственным звучным голосом. – Не волнуйтесь за меня. Некоторое время было тихо, потом господин Ролан попросил: – Не убивайте его, им должно заняться правосудие. Андре Мэйнотт ответил: – Я не доверяю вашему правосудию, но я не убью его. Часы пробили два. Это был час, определенный господином Матье для выхода на сцену своих главных актеров: Кокотта и Пиклюса. Возле главной двери раздалось слабое поскрипывание, и дверь мгновенно открылась. Отмычки были превосходны, а те, в чьих руках они находились, ловко умели ими пользоваться. – Будет ли завтра день? – раздался шепот. – Если будет угодно Господу, – столь же тихо прозвучал ответ. – Это вы, патрон? Ответа не последовало, зато раздалось два крика, мгновенно заглушённых, и поток света затопил жилище господина Шампиона. В этом ярком свете всем были явлены Пиклюс и Кокотт, связанные и с кляпами во рту. Их удивленные лица явственно свидетельствовали о том, что они не ожидали столь энергичного приема. Из-за них выглядывали агенты полиции, набившиеся в гостиную Шампиона; они с любопытством вытягивали шеи. Среди этих бравых жандармов вы бы, несомненно, узнали два или три лица заядлых игроков в бильярд. Как и положено, у заговорщиков из трактира «Срезанный колос» также были свои прирученные волки. Но это частности. В ярком свете стали видны гораздо более важные для нас лица и вещи. Прежде всего перед нами наконец предстал огромный и тяжелый сейф Шварца, бывший сейф Банселля, уже давно пребывающий в центре нашего рассказа. Его широко распахнутая дверь являла собой лист металла толщиной в четыре дюйма; казалось, что ее нельзя пробить даже из пушки. Роскошные, чрезмерно огромные замки блистали отполированной сталью; на оборотной стороне дверцы выступали замочные язычки с острыми краями. С внешней стороны, непосредственно над тремя накладками из позолоченной меди, предназначенными для «игры в комбинации», были вмонтированы когти-захваты, в обычном состоянии скрытые в массивной накладке, а будучи потревоженными, выскакивающие из маленьких квадратных отверстий; сейчас когти все еще удерживали боевую рукавицу, вспоротую по всей своей длине, словно панцирь омара, вскрытый опытным поваром. Презрев на миг законы перспективы, мы приблизимся к боевой рукавице и рассмотрим вблизи результат таинственной работы, произведенной Андре Мэйноттом прошлой ночью в кузнице по соседству с трактиром «Срезанный колос». Внутри рукавица имела подкладку из кордовской кожи, а там, где помещалась ладонь, – небольшую подушечку. Сегодня ночью латы были развинчены, и можно было увидеть, что за крючки вставил в нее господин Брюно. Вдоль панциря, прикрывающего руку вверх от кисти, были прикреплены узкие стальные пластины, усеянные свободно закрепленными иглами, тонкими, острыми и загнутыми на концах. Когда рука входила в перчатку, они ложились в направлении ладони; но когда рука хотела выйти, они топорщили свои заостренные концы и больно жалили плоть. С каждой новой попыткой высвободиться они кололи все сильнее. Господин Лекок вырывался долго – об этом свидетельствовал залитый кровью паркет возле сейфа. В луже крови и вокруг нее валялись четыре связки банковских билетов Французского банка по тысяче франков, каждая связка в два раза толще величественного экземпляра Альманаха Боттена. Это были фальшивые банковские билеты, предназначенные для сообщества Черные Мантии, которое должно было их забрать после того, как настоящие билеты были бы похищены Лекоком. Таким образом, этот изобретательный человек прибирал к рукам все богатство, сделав при этом вид, что отдает его своим собратьям. Одним ударом он убивал двух зайцев, исполняя тем самым один из фундаментальных догматов Милосердия. Каждый фальшивый казначейский билет в руках членов ассоциации становилась клочком хитона Несса. В интересах Лекока, отныне богатого и жаждущего прорваться в высшие слои общества, было уничтожить сообщество Черных Мантий. Он уплывал в открытое море и сжигал за собой корабли. Сейф был набит банкнотами: они были подлинные, а посему должны были доставить Лекоку звание протектора принца. Заметьте, что не вмешайся Трехлапый, Лекок бы уже давно совершил свое дерзкое и превосходно подготовленное ограбление. Дом барона Шварца, полиция и сами Черные Мантии должны были быть поглощены огнем. Подозрения, ловко отведенные от Лекока, пали бы на тех, кого он изначально наметил бросить в пасть правосудия. Боевая рукавица во второй раз навела бы следствие на ложный след; суд присяжных в Кане должен был повториться. Все меры были приняты; Лекок до тонкостей изучил сейф, который он успел уже дважды сбыть с рук и который стал его Троянским конем; у него было достаточно времени. К двум часам, сроку прибытия Пиклюса и Кокотта, он без особого труда успел бы все сделать и был бы уже далеко, то есть танцевал в гостиных барона Шварца. Что касается барона, то предполагалось, что он займется своей кассой только перед отъездом, то есть после бала. Но зачем ему уезжать? Лекок сеял панику с вполне определенной целью, и сумел достичь ее. Банкирский дом Шварца обладал огромными богатствами; разорить его могло только бегство его главы, но уж никак не потеря четырех миллионов. Лекок явился к банкиру, чтобы воскресить его дерзость и мужество, некогда им же самим и уничтоженные. Соглашение было заключено, перед его участниками открывалось новое будущее. Пока крайне запутанное судебное разбирательство шло бы своим ходом и в него были бы втянуты и Черные Мантии, и все те, кого Лекок решил погубить, он сам стоял бы в стороне от этого трагического поединка и, вращаясь в высоких политических кругах, сохранял бы за собой право появиться в какой-либо торжественный момент, словно Deus ex machina.[27] Справедливо замечено, что свобода действий, предоставленная индивиду, нередко оказывает нашей цивилизации заметную услугу. Когда Лекок, заняв место отважного странствующего рыцаря, поставил для себя целью задушить в смертельных объятиях сообщество Черные Мантии, он, бесспорно, завоевал привилегию Курциев, которые, как известно, не судимы по общим законам. Но кто сказал «а», должен сказать и «б».Чтобы победить бандитов, надо войти в лес. Курций получил аудиенцию у короля; общество посмеивалось, но тем не менее взволнованно обсуждало эту аудиенцию. У Курция сегодня было на четыре миллиона больше, чем вчера. Собственными руками Курций держал за горло главу огромного банкирского дома: он мог задушить его или вознести. Курций вознесся на сто локтей над своим опасным прошлым; очутившийся под его крылом юный герцог с бурбоновским профилем, увешанный титулами, способными убедить самых завзятых скептиков, имеющий надежных приверженцев в Сен-Жермен, хотя и испытывал в отношении его действий вполне резонные сомнения, тем не менее был искреннее к нему привязан. Но история с герцогом требовала золота, вот почему Лекок и барон Шварц собирались заключить соглашение и сыграть ва-банк, дабы не упустить сей феерический шанс; юный же герцог, исполнив в Нотр-Дам роль статиста, теперь был готов сыграть главную роль и вписать свою страницу в заслуживающую всяческого почтению драму, именуемую Историей… Только наш Курций поскользнулся, поднимаясь из пропасти к лучезарным вершинам, где избранника ждет героический ореол, а посему по-прежнему носил имя Лекока. Мало того, он еще и прозывался Приятелем-Тулонцем. Сейчас же это был и вовсе обычный мошенник, попавшийся с поличным, и свет, проникший в помещение кассы, падал на его черное от засохшей крови лицо, в то время как он сам в бессильной злобе извивался под каблуком Андре Мэйнотта, наступавшего ногой ему на горло. XIII СЕЙФ БАНСЕЛЛЯ Андре Мэйнотт стоял, держа в руке кинжал, вырванный им из сведенных судорогой пальцев Лекока. Мы знаем, сколь ловок и силен был этот господин, да к тому же вооруженный тонким корсиканским стилетом, так что победитель его должен был быть действительно наделен необычайной физической силой: Лекок распростерся на паркете словно безжизненный куль. На его мертвенно-бледное лицо, покрытое черными и багровыми пятнами, было страшно смотреть. Привычная маска дерзкого и наглого фанфарона исчезла, непобедимый Аякс Черных Мантий как-то стушевался. На полу корчился побежденный негодяй с разбитой физиономией. Его правое запястье было до крови исколото боевой рукавицей, разорванный ворот рубашки обнажал шею, где чернели два огромных синяка, решивших исход стремительной борьбы в темноте. Если сначала Лекок бился в конвульсиях, то теперь он затих, впившись ногтями в пол; дыхание с хрипом и свистом вырывалось у него из груди. Налитые кровью глаза были скрыты под полуопущенными веками, но время от времени он бросал по сторонам яростный, злобный взор. Нога Андре по-прежнему прижимала к полу его шею. Только что описанные нами события разворачивались столь стремительно, что в момент, когда в гостиной Шампиона зажгли свет, проникший и в помещение кассы, в воздухе еще не стих звон часов, пробивших два. Андре взглянул на открытую дверь, за порогом которой толпились любопытные полицейские агенты, затем перевел взор на Лекока, неподвижного, словно мертвец. Андре не доверял Приятелю-Тулонцу и внимательно следил за ним. – Давайте сюда свет, – приказал он. Господин Ролан сам взял лампу из рук стоящего поблизости агента. – Теперь прикажите закрыть эту дверь! – добавил Андре. – Всем потушить светильники и молча ждать: сейчас сюда придут новые злоумышленники и попадутся в ту же самую ловушку. Губы Лекока дрогнули в едва заметной улыбке. Означало ли это, что к нему возвращалась надежда? Бывший комиссар полиции, равно как и советник, мгновенно исполнили приказание Андре Мэйнотта, словно именно ему и надлежало здесь командовать. Действительно, Андре держался гордо, и, сам того не замечая, вел себя словно главнокомандующий на поле битвы: глаза его блестели, щеки были бледны, при дыхании ноздри его раздувались, как у льва, победившего в тяжелой схватке с врагом. От прежнего Андре Мэйнотта не осталось и следа. Семнадцать лет страданий облагородили его простонародную красоту, придали отпечаток мужественной силы чертам его лица, во взоре его читались великодушие и готовность к самопожертвованию. Разумеется, исчезла без остатка застывшая, циничная маска Трехлапого, не было и в помине добродушного выражения лица господина Брюно, нормандца, торговца верхним платьем. В нем все было прежнее, но, если можно так сказать, вознесенное на недосягаемую высоту, избавленное от морального маскарада, в котором этому человеку с несгибаемой волей пришлось так долго участвовать. Между его молодым, горделивым, торжествующим лицом, обрамленным совершенно седыми волосами, и скромной физиономией торговца платьем была такая же разница, как между его стройный фигурой, напоминавшей античную статую, и искривленным телом человека-рептилии, парализованным комиссионером со двора Мессажери. Чтобы в течение долгих лет выдерживать муку этой двойной лжи, надо было обладать поистине железной выдержкой. Андре был силен, а его спокойствие равнялось его силе. Как только дверь была закрыта, он произнес: – Я не желаю мстить за себя, я просто хочу, чтобы виновный понес заслуженное наказание. Я все обдумал, решение мое непоколебимо. Отныне один только Господь может укрыть его от меня. Что бы вы ни говорили, судьей буду я. Здесь мой трибунал. Я не спешу, приговор будет вынесен беспристрастно. У меня есть время. Сюда больше никто не придет: Черные Мантии повсюду имеют своих осведомителей, так что их наверняка уже предупредили. Но это не имеет никакого значения, тайна раскрыта, ассоциация умрет. Из дома также никто не придет, кругом праздник, послушайте! Издалека насмешливым эхом доносились радостные и мелодичные звуки. Андре Мэйнотт прибавил: – Этот человек не станет защищаться. Он играл ва-банк. Он проиграл. Он мертв. Полная неподвижность Лекока, казалось, подтверждала это суждение. Оба же свидетеля, советник и бывший полицейский, были буквально заворожены этой странной сценой. Начальник подразделения префектуры, по натуре более робкий и консервативный, безмолвно искал поддержки у господина Ролана: советник обладал умом более гибким, а вояжи по министерским коридорам сделали его склонным к компромиссам. Оба в равной мере испытывали живейшую потребность опровергнуть Андре Мэйнотта. Никто не вправе назначать себя судьей, особенно судьей своего собственного дела. Господин Ролан и господин Шварц признавали только суд людей в черных или красных мантиях, восседающих в зале под распятием, в присутствии присяжных и зрителей. Суд – это закон, порядок и право обжаловать приговор. Здесь – ничего подобного. Двери плотно закрыты, зрители – они же свидетели – отгорожены от зала решеткой, арбитр всего один, и его нога стоит на горле обвиняемого. Однако свидетели хранили молчание. У них были честные сердца; но хотя один был отважен, а другой обладал сугубо мирным характером, оба в равной степени были рабами общепринятых понятий и представлений: за тридцать лет государственной службы многие привычки стали, как говорится, второй натурой этих людей. Оба были потрясены разыгравшимися перед ними событиями; открывшиеся обстоятельства дела предвещали грандиозный судебный процесс. Однако еще больше они были взволнованы воспоминаниями о той давней драме, где каждый из них сыграл свою роль и которая получила развязку только сейчас, в присутствии двух основных ее актеров, и с главным реквизитом. Сейф Банселля и резной поручень: немой голос этих двух предметов звучал громче человеческих голосов. Тут в тишине снова раздался голос Андре Мэйнотта: – Надеюсь, настоящее прояснило вам прошлое? – спросил он, обращаясь к свидетелям. И так как они колебались, Андре прибавил: – Ночью четырнадцатого июня тысяча восемьсот двадцать пятого года этот человек проник ко мне в дом на пощади Акаций в Кане и украл у меня поручень, с помощью которого он совершил преступление – ограбил сейф. Надеюсь, это теперь доказано? – Да, – тихо ответили оба судейских чиновника, – мы считаем, что это доказано. – В этом ограблении – продолжал Андре Мэйнотт, – суд присяжных в Кане обвинил меня; также он признал моей сообщницей мою жену. Его приговор до сих пор тяготеет над ней и надо мной. – Мы сделаем все… – в один голос воскликнули оба свидетеля. Не терпящим возражений жестом Андре Мэйнотт остановил их. – Есть раны, – произнес он, – которые ничто не может излечить, а я перестал доверять докторам. Затем он продолжал: – Там, где я родился, на острове Корсика, есть разбойничий притон; никто из тех, кто по долгу службы обязан защищать наших сограждан, никогда не сможет обнаружить его. Прежде чем умереть, я покажу им его, и таким образом воздам вашему обществу добром за зло. История, завершившаяся здесь, началась не в Кане, все началось на моей родине. Однажды вечером этот негодяй, известный среди себе подобных под именем Приятеля-Тулонца, оскорбил благородное юное создание, в которое я был безнадежно влюблен. Я вступился за девушку. С тех пор он возненавидел меня. Его страсти всегда были порочны; когда нашлась женщина, уступившая его притязаниям, он отдал ее другому. Юное создание была Джованна Мария Рени, из семейства графов Боццо, иначе Жюли Мэйнотт, баронесса Шварц, словом, ваша жертва, господа, ибо вы толкнули ее на дорогу, ведущую к погибели. Не перебивайте меня. Я знаю, что вы порядочные люди: именно потому, что я это знаю, вы сейчас находитесь здесь и сделаете то, что подскажет вам ваша совесть. Но я тоже был порядочным человеком; моя жена была порядочной женщиной. Женщину погубили; мужчину обрекли на адские муки, потому что суд, состоящий из порядочных людей, по чести и по совести вынес приговор, с которым согласились двенадцать присяжных, тоже люди порядочные… Я больше не доверяю никому. Чтобы покарать того, кого я ненавижу, и спасти тех, кого я люблю, мне не требуется иного судьи, кроме меня самого. У меня есть сын, чья юность благодаря вам была незаслуженно суровой. У меня больше нет жены, хотя Жюли Мэйнотт и жива. Я люблю ее всеми силами своей души; она всегда любила только меня. Но теперь между нами зияет огромная пропасть. Она была молода. Среди ваших наказаний есть кары страшнее смерти. Разве не вы сказали: «Лучше бы эта воровка убила себя»? В трупе, найденном на речном берегу, опознали меня; она поверила, что стала вдовой: а теперь разве не вы первые бросите камень в эту женщину; вступившую во второй брак при живом муже? Она замужем за двумя мужьями; она воровка! Она, Жюли, святая любовь моей юности! Языческие идолы были слепы и глухи. Разве живой Господь мог бы допустить столь роковое стечение обстоятельств? Ваш закон дважды ополчился на нее: как на воровку и как на нарушительницу брачного закона. Человек, который лежит здесь, у меня под ногой, об этом знал. Он читает ваши кодексы едва ли не чаще вас самих. Ваши книги – это и его книги. В его руках ваш закон превращается в удавку, набрасываемую им на шею своих жертв. Человек этот свободен и могуществен; если вы станете просматривать ваши реестры, вы быстро убедитесь, что вам он ничего не должен. Если бы меня сейчас здесь не было, четыре миллиона, находящиеся в этом сейфе, лежали бы у него в кармане, а сам он был бы уже далеко. Правосудие вновь было бы введено в заблуждение, а невинные люди, среди которых и оба ваших сына, вновь расплатились бы за ошибки судей. Вы думаете, что у него были сообщники? О! Разумеется, целая армия сообщников. Значит, дележ уменьшит его долю! Никакого дележа! Здесь, в крови, что стекала с его руки, лежат четыре толстые кипы, последнее достижение изощренного ума. Это четыре миллиона: четыре миллиона фальшивых банкнот, предназначенные для Черных Мантий. Этот человек предал ассоциацию, предал, не опасаясь, что имя предателя будет раскрыто, ибо в этом деле у него был только один соучастник: Трехлапый. Калека, урод, нелепое существо, которое, словно змею, убивают ударом каблука. Я не должен был встретить утро завтрашнего дня. А завтра, с гордо поднятой головой, он бы проследовал своим путем, в стороне от поднявшейся шумихи, в то время как безвинные и виноватые стали бы биться в ваших сетях, запутываясь в них все сильнее и сильнее. Он уверен даже в тех, кого предал. Никто не произнесет его имени, все будут уповать на него как на спасителя. До самых ворот каторги, до самого подножия эшафота они будут надеяться на него, верить в него; их падение еще выше вознесет его авторитет. Он стал наследником дерзкого замысла, который, быть может, и удался бы, займись его исполнением сам автор. Но Лекок метит выше, он делает ставку на короля. Он измышляет некий чудодейственный способ привлечь на свою сторону одну из партий. Его предложение отвечает страстным чаяниям этой партии. Кто знает, до каких высот вознесет Лекока фортуна! Безумие, скажете вы? Да, действительно, безумие, потому что есть я!.. Мое расследование окончено. Вот обвинительное заключение: этот человек пытался убить меня на Корсике; ему удалось уничтожить меня морально во дворце правосудия в Кане; он пытался прикончить меня в Париже, у себя дома, на улице Гайон, где меня спасла дорогая моему сердцу женщина, которая совсем недавно пала жертвой его козней; он послал меня на виселицу в Лондоне; и, наконец, вчера он взвалил на меня свое последнее преступление, убийство несчастной красавицы графини Корона. Все было подстроено так, что я до сих пор должен был сидеть под замком под бдительным оком полиции; но я долгое время обучался ведению поединка, в котором главное – вовремя отразить удар…. В этот миг по другую стороны главной двери, ведущей в гостиную Шампиона, раздался легкий шум. Лекок под ногой Андре зашевелился: он прислушивался. В то же время потайная дверь в коридор чуть заметно дернулась. В глазах Лекока загорелся злорадный огонек. Никто не обратил на это внимания. – Это ловушка, расставленная наверняка для какой-нибудь мелкой сошки, – произнес Андре, намекая на шум, донесшийся из гостиной Шампионов, – но к нам это не относится, и я продолжаю. После убийства графини жилище Брюно было оцеплено. Комнату Брюно и мансарду Трехлапого разделяла всего-навсего тонкая перегородка. Они хорошо знали, кто такой Брюно, и поэтому не удосужились поближе познакомиться с Трехлапым. Маскарад был столь хорош, что они поручили Трехлапому следить за Брюно! Маска была необходима. Надо было усыпить бдительность человека, чей взор привык угадывать под чужой личиной истинное лицо ее обладателя. Черные Мантии, Отец-Благодетель, Могол – эти имена носил главарь банды – был умен, осторожен, ловок и дьявольски хитер. Умея виртуозно запутать правосудие, он долгое время сбивал меня со следа, скрываясь за спиной барона Шварца: он знал, что у меня имеется немало поводов ненавидеть барона. Но хозяином был он, а барон всего лишь слугой; он был мыслью, банкир всего лишь рукой. И вы сами видите, что как только Господь поразил мысль, так руку тотчас же охватил паралич. Я знаю, что я единственный, кому предначертано узнать настоящее имя того, кого вы называли полковником Боццо-Корона. Впрочем, если бы Париж узнал это имя, весь Париж отправился бы в паломничество к его могиле. Полковник, словно состарившийся тигр, выбрал местом своей смерти единственные сохранившиеся в Европе джунгли. Последний из легендарных бандитов Калабрии уже давно покинул чахлые местные леса, где грабежи и убийства позволяли добывать всего лишь скудное пропитание. Полковник искал настоящий лес и нашел его – огромный густой лес, именуемый Парижем, через который проходят толпы людей и движутся многочисленные караваны, груженные сокровищами. Здесь, в Париже, после долгих лет побед, бывший герой больших дорог угас у вас на глазах в своей постели, и ваши визитные карточки пополнили корзину консьержа его особняка. Вы возвели его в сан филантропа; под рубищем отшельника никто из вас не распознал дьявола. Вы чинно выстроились вокруг его могилы и выслушивали панегирики. Он пережил свой триумф, весь Париж хором скандировал легенды о его героических деяниях. Однажды я увидел его в театре, в первом ряду ложи. Театр содержался на средства казны; улыбаясь, он слушал оперу, восхвалявшую его былые проказы. Музыку сочинил один академик Французской академии, слова – другой академик. Париж охотно славит бандитов; бандиты любят Париж. В роскошном зале Опера-Комик Париж и бандит аплодируют друг другу: в этом городе тот, кто крадет и насилует, издавна пользуется успехом в глазах очаровательных женщин и многоумных мужей, ибо и те, и другие, считают своим неотъемлемым правом бичевать закон, воплощенный в образе жандарма. Этот бандит, которого вы все знали, был с головы до ног замаран кровью своих жертв; сначала он был главой итальянской Каморры, потом стал руководить Черными Мантиями. Узнав однажды его прозвище, вы содрогнетесь от отвращения, оно же останется в истории. Его звали… Лекок сделал резкое движение, и впился жадным взором в дверь, выходящую в коридор, ведущий в апартаменты барона Шварца. Дверь дрогнула. – Осторожно! – произнес не спускавший с бандита глаз советник. Во время рассказа Андре Мэйнотт убрал ногу с горла Лекока, и тот остался лежать словно мешок с песком. – Мне нечего бояться, – отвечал Андре. – Я уже сказал вам: этот человек почувствовал свое бессилие. Он трижды потерпел поражение: от меня, – и от этого поражения ему уже не оправиться, – от вашего закона и от себя самого, то есть от Черных Мантий. При этих словах налившиеся кровью глаза Лекока уставились на Андре. Андре Мэйнотт распахнул фрак и указал на тонкую темную полосу, выделявшуюся на снежной белизне сорочки. Это была удавка, завещанная полковником графине Корона. – Я Хозяин Обители Спасения! – торжественно произнес Андре. Веки Лекока дрогнули, и он снова стал недвижен. Однако щеки его то краснели, то бледнели. Вряд ли кто-нибудь усомнился бы в словах Андре. Казалось, что Лекок уже никогда не оправиться от нанесенного ему поражения. Часы в комнате господина Шампиона пробили три. – Настало время действовать, – заявил Андре Мэйнотт, подходя к железной решетке. – Господа, я сказал все, что было необходимо сказать, но сделал это не для того, чтобы отомстить вам за себя, но единственно, чтобы вы осознали ваш долг по отношению к той, кто носит имя баронессы Шварц. Нас, тех, кто знает ее секрет, способный убить ее столь же верно, как убивает направленный в сердце кинжал, только пятеро: вы двое, барон Шварц, тот человек и я. Вы еще прежде, чем узнали его, прониклись состраданием… – Вы ошибаетесь, господин Мэйнотт, – прервал его тихим голосом советник. – Мы не имеем права на сострадание. Мы делали все, чтобы обратить подозрения в уверенность… Господь вовремя воскресил вас. – Согласен, – ответил Андре. – Но теперь, когда вы все знаете, надеюсь, ваша совесть придет в согласие с вашим служебным долгом. Остаются барон, я и тот человек. Барон любит Жюли и готов отдать за нее жизнь. Я же… надо ли говорить обо мне? Остается только тот человек. В течение двадцати лет он, словно дамоклов меч, угрожает нашей жизни. Я остановил его в ту минуту, когда он был почти у цели; только что я вырвал у него его добычу, уже зажатую в его жадной руке. Он побежден, разбит, лишен надежды на будущее… Впрочем, нет, я ошибаюсь! Своей смертью он надеется отомстить мне за себя! Чтобы утолить свою ярость, он готов живьем отправиться в преисполню. Он знает, как поразить меня в самое сердце. Ведь Жюли еще не спасена. – Наших свидетельств, – начал было советник, – будет достаточно, чтобы суд… – Я не доверяю вашему суду! – жестко перебил его Андре. – Сегодня, как и раньше, я желаю, чтобы, пока суд будет делать свое дело, она была в безопасности. – Прошу меня извинить, господа, – продолжил он уже более спокойно, – но я во что бы то ни стало обязан спасти баронессу Шварц. Если вы чувствуете, что кое-что мне должны, то, когда вы спасете ее, мы будем в расчете. Готовы ли вы помочь мне, как я того желаю? Оба чиновника, похоже, совещались. Но это совещание было вызвано отнюдь не нерешительностью, потому что господин Ролан ответил твердо: – Мы готовы, господин Мэйнотт, пусть даже ради этого нам придется распрощаться с карьерой, ибо то, чего желаете вы, можно сделать, только обладая полной свободой действий, то есть не состоя на государственной службе. Андре обратил к ним благодарный взор и продолжил: – Барон Шварц собрал в сейфе деньги для того, чтобы уехать из Парижа, покинуть Францию. Но когда этот негодяй раскрыл свои карты, барону пришлось выбирать между любовью и честолюбием: жене его вновь грозила опасность разоблачения. И что бы там ни говорили, я убедился, что у барона Шварца есть сердце, и я простил ему зло, которое он мне причинил. Теперь надо сделать так, чтобы через час барон Шварц и его жена были уже за пределами Парижа. Впрочем, все было подготовлено; бал должен был стать прикрытием для побега; почтовая карета должна стоять наготове. – Но как же вы? – робко спросил Ролан. Ибо в сознании советника и бывшего комиссара полиции бегство баронессы Шварц представлялось несколько иначе: взаимная страстная любовь, супруги, вновь обретшие друг друга… – Я остаюсь, – медленно произнес Андре. – Говорят, что богохульствующий атеист всего лишь лжец и фанфарон. Я проклял ваше правосудие, оно было слепо и глухо к моим мольбам; но иногда сам я напоминаю себе этого атеиста. У меня есть сын; я хочу вернуть ему имя отца. Из-за этого я не раздавил ту гадину, что извивается у меня под каблуком… Если вы не согласитесь помочь бегству Жюли, я убью его, ибо одно лишь его слово может ее погубить. Но если Жюли будет далеко отсюда, опасность будет грозить только мне. Я же тот, над кем висит приговор суда в Кане и кого обвиняют в убийстве в Париже, я сам приведу вашим судьям того, кто ограбил сейф Банселля и убил графиню Корона! С этими словами он отодвинул задвижку, на которую была закрыта решетчатая дверь. Господин Ролан взял Андре за руки и привлек его к себе. – Этот поступок станет венцом вашей самоотверженной жизни, – с глубоким чувством произнес он. – Мы будем с вами. Я не могу помочь вам обрести счастье, но обещаю вам, что репутация ваша будет восстановлена. Бывший комиссар полиции смахнул набежавшую на глаза слезу. Четыре пачки банковских билетов из сейфа были вручены двум полицейским чиновникам. Лекок по-прежнему лежал не шевелясь. Осужденный канским судом обменялся рукопожатием с теми, кто арестовал его и вел его уголовное дело. – Я отвечаю за этого человека, – произнес Андре, вновь закрывая решетку. – Когда баронесса Шварц уедет, присылайте сюда ваше правосудие; мы оба будем ждать его. И он вернулся к поверженному Лекоку. В ту минуту, когда Андре Мэйнотт произносил свои последние слова, дверь в коридор, издав протяжный скрежет, распахнулась, и раздался пронзительный женский крик: – Андре! Андре! Я не хочу уезжать! Растрепанная, с блестящими безумными глазами на пороге выросла баронесса Шварц. В ответ на ее крик со стороны решетки раздался дикий восторженный вопль. Прежде чем взволнованный и изумленный Андре попытался что-либо сделать, Лекок с быстротой змеи покатился по полу и таким образом пересек всю комнату. И вот он уже стоит в дальнем углу, сжимая в руке двухзарядный пистолет. – Ты был прав! – сипло вскричал Лекок, пьянея от ярости. – В том кармане у меня действительно кое-что припасено! И я прекрасно знаю, куда надо тебя разить, приятель! Ха! Я знаю, где твое сердце, и прежде чем отправиться в ад, я разом уплачу тебе все мои долги… Смотри же! И он направил пистолет прямо в грудь Жюли; раздался выстрел. Но кто-то с быстротой молнии выскочил из коридора и заслонил Жюли. Это был барон Шварц; сраженный пулей Лекока, барон упал. А Андре Мэйнотт и Приятель-Тулонец уже сцепились в смертельной схватке, напоминавшей поединок льва и тигра: враги боролись яростно и молча. Сжимая друг друга в яростных объятиях, они покатились по полу к самому сейфу, и Андре со всей силой ударился головой о его стальную дверцу. Слизывая с губ кровавую пену, Лекок мгновенно высвободил руку, сжимавшую пистолет, и, испуская глухое рычание, приставил его к окровавленному виску Андре. Даже если бы свидетели могли броситься на помощь Андре, они бы опоздали. Господь сам решил исход поединка. Лекок распластался возле внутренней стороны распахнутой двери сейфа, Андре – возле внешней. В тот миг, когда Лекок спустил курок, Андре изловчился, рванулся и толкнул дверцу. Раздался выстрел, однако пуля натолкнулась на тяжелую стальную дверь. Каждый знает, сколь массивны дверцы сейфов, как велика их инерция. С силой атлета Андре оттолкнул от себя дверцу, и та, придя в движение, медленно и уверенно закрылась. Это была отвратительная смерть. Дверь, словно пушечное ядро, смела Лекока со своего пути и, презрев препятствие в виде головы Приятеля-Тулонца, захлопнулась. Раздавленная голова скрылась в недрах сейфа, оставив лежать рядом изуродованное тело… Андре Мэйнотт без чувств распростерся на полу. Сдавленным голосом баронесса Шварц спросила: – Он мертв? – Нет, – ответил Ролан, приложив ухо к груди Андре. Тогда она опустилась на колени возле умирающего у ее ног барона Шварца. – Я был прав, что не стал убивать себя сам, – прошептал барон. Андре не ошибся: у барона было сердце. Умирающий прижал свои пересохшие губы к прекрасным рукам Жюли и едва слышно произнес: – Пред Господом, которому известно, как я вас любил, клянусь, что я не виновен, но… Последние слова банкира потонули в предсмертном хрипе. Пуля перебила ему сонную артерию. Бал в особняке Шварцев подходил к концу; как обычно, веселье завершалось под звуки музыки, способные заглушить даже раскаты грома. Тем временем по зале расползался зловещий слушок. Двое бледных как мел мужчин подошли к высокопоставленному лицу, чье инкогнито мы продолжаем хранить. Затем во все стороны побежали слова: – Барон Шварц мертв. Черные Мантии… Эпилог I СПЕКТАКЛЬ Первое представление «Черных Мантий» Драма в пяти актах и 12 картинах Спектакль с прологом, эпилогом, семью сменами декораций, переодеваниями и танцами. Таково было приблизительное содержание огромной афиши траурного цвета с большим белым квадратом посредине, где, помимо прочего, стояло: «В роли графини Фра Дьяволо дебютирует мадемуазель Тальма-Россиньоль». В Париже ни для кого не было тайной, что директор театра Мерсимон-Дье, словно заядлый игрок, поставил все на этот спектакль. Изворотливый и неглупый директор, ухитрявшийся долгое время поддерживать на плаву свой убыточный театр, рискнул пойти на непомерные расходы; в случае, если бы они не окупились, директору пришлось бы объявить себя банкротом. Помимо ангажемента для мадемуазель Тальма-Россиньоль, он заполучил шесть еще незнакомых публике клоунов, трех дикарей с берегов Рио Колорадо, питавшихся мясом своих поверженных врагов, некую даму, виртуозно глотающую шпаги, и юное дарование, обладавшее великолепным сопрано; дарованию предстояло исполнять песенку о грязи. В третьем акте зрителям были обещаны волнующие картины заснеженных просторов полярных морей, оживляемые появлением настоящих белых медведей. В четвертом акте им" сулили балет охотников, убивающих тигра, гальванические огни и запуск воздушного шара. В седьмой картине – доподлинный лесной пожар. Серьезные критики готовы были держать пари, что представление ждет грандиозный успех, и театр сразу же затмит славу своих соседей по бульвару. При этом они сетовали на те гиблые дебри, где приходится плутать искусству после преждевременной кончины Вольтера. II ПЕРЕД ПОДНЯТИЕМ ЗАНАВЕСА Места в оркестре были заняты людьми, кои вели себя столь шумно, словно находились в собственной гостиной. – Не знаю, не знаю, – сомневался удачливый аферист Кабирон, – как это они сумели втиснуть индейцев-антропофагов в высшей степени парижскую пьесу. – Если хорошенько поискать, в Париже можно найти все, – отвечал Алавуа. – Как подумаешь, что мы раз двадцать обедали у этого полковника!.. – Фра Дьяволо! Дерзкий обманщик! – Честное благородное слово! – воскликнул Котантэн де ла Лурдевиль. – Я лично видел знаменитую удавку в руках милейшего господина Мэйнотта. Там было написано разборчивыми буквами: Фра Дьяволо. И даты… Когда этот мошенник хозяйничал в Апеннинах, он захватил в плен самого папу! Его настоящее имя Мишель Поцца или Боцца; в 1806 году как главарь Каморры он был приговорен к повешенью в Неаполе. И я вовсе не раскаиваюсь, что произнес на его могиле несколько слов, ибо, в сущности, только такие личности и остаются в истории. – Фра Дьяволо! Улица Терезы! – вздохнула госпожа Тубан, покачивая головой в шляпке с роскошным плюмажем. – О, это невероятно! Санситив принялся насвистывать: Посмотрите на эту скалу, На молодца, чей взгляд дерзок и горд, Мушкет прижат к его боку, Он на расправу скор. – Он совсем не был похож на разбойника, – промолвил Алавуа. – Марсельезу! – закричали с галерки. – Если бы банкирский дом Шварца разорился, – заметил господин Туранжо, адъюнкт, вместе со своей компанией занимавший место в галерее, что огибает по периметру партер, – это нанесло бы большой ущерб всей стране. – Разорился! – воскликнула госпожа Бло. – Неужели? Я слышала, что барон получил пулю, защищая свою кассу… по крайней мере так говорят, хотя, конечно, бывший муж его жены имел достаточно оснований искать с ним ссоры… – Позвольте заметить, что с тех пор как господа Мишель и Морис взяли дела в свои руки, – раздался добродушный голос достойного Шампиона, – банкирский дом Шварца процветает с каждым днем. – Ах, вот уж кто действительно осуществил свои мечты, – робко подала голос Селеста Шампион, – так это господин Мишель. О! Какое разочарование испытала эта женщина в ту памятную ночь. Ах, эта сентиментальная поездка в Версаль! Тем же, кто забыл, напомним, что Селеста нашла мэтра Леонида Дени в полном здравии, но отныне господину Шампиону было известно о предосудительном увлечении его жены. Ловкий и осторожный, как всякий опытный рыбак, Шампион не стал устраивать скандала, но дома стал обращаться с женой со всей возможной строгостью. Часто плача, Селеста говорила себе: «Если бы я хотя бы была виновна!» Над партером по обеим сторонам, друг напротив друга, были расположены две забранные решеткой ложи. Во втором ярусе сидел бывший капитан речного флота господин Патю; он сопровождал королеву Лампион, на чье сверкающее фальшивыми драгоценностями платье было просто больно смотреть. Окончательно похоронив предприятие почтовых перевозок, Патю удалился на покой и принялся устраивать свои личные дела. Теперь он управлял трактиром «Срезанный колос» на правах принца-супруга. После небольшого потрясения вследствие полицейской облавы, последовавшей за катастрофой в особняке барона Шварца, посетители трактира «Срезанный колос» продолжили свои повседневные занятия, и сегодня сие превосходное заведение процветало более чем когда-либо. Господин Патю и королева Лампион едва успевали раскланиваться и приветственно улыбаться. Название пьесы привлекло в театр всех завсегдатаев трактира; они сидели всюду, от литерной ложи до галерки. Так, например, на галерке вы могли бы увидеть Эшалота. Бедняга был один, без Симилора, а главное – без Саладена! О, какое несчастье! Голова Эшалота безжизненно болталась на груди, глаза были наполнены слезами. Он попытался поделиться своим горем с соседями, но эти бездушные насмешники смеялись в ответ, принимались кричать петухом, орать, свистеть, грызть яблоки и с шумом втягивать в себя удушающие миазмы, заполнявшие забитый до отказа раек. – Ребенок родился хиленьким, – жаловался Эшалот, – ростом с крысу, да к тому же раньше положенного срока, став при этом невинным виновником смерти своей матери. Он долгое время помещался в моей шляпе; она и стала его первой колыбелью. Ради этого младенца мне пришлось освоить ремесло кормилицы, хотя он был мне никто, так, внебрачный сын приятеля, который даже и не думал заботиться о нем и частенько оставлял его голодным. Теперь же, когда ребенок, достигнув трехлетнего возраста, проявил поистине феноменальное актерское дарование, Симилор пользуется всеми плодами его таланта. Он получает свои контрамарки и пятнадцать су за каждый выход малыша. Меня же выставили за дверь, словно бездомную собаку! Я вынужден платить за место, чтобы получить возможность хотя бы издали насладиться его игрой, не имея возможности в минуту торжества прижать к сердцу моего дорого малютку! Эшалот расплакался, чем и вызвал дружный смех соседей. Раздались три удара, и занавес дрогнул. Словно шпага, делающая параду, взлетела палочка дирижера. Раздались громоподобные звуки, кои с большим трудом можно было именовать музыкой. – Долой шляпы! – закричали в партере. – Убери голову, милорд! И клака, набивая руку, принялась аплодировать. ПРОЛОГ – ВЕНДЕТТА – БОЕВАЯ РУКАВИЦА 1-я картина: Гора. Фра Дьяволо и его бандиты разбили лагерь в безлюдном уголке. Не более сотни статистов, изображающих крестьян, крестьянок, солдат из свиты плененного папы, цыган и прочего люда мельтешат среди декораций, разрисованных неведомым живописцем. Бандиты сожгли замок сеньора. Родольфо, лейтенант Фра Дьяволо приводит дочь сеньора, юную Жозефу; он грозится убить девушку, если та не уступит его притязаниям. Хор бандитов, музыка, сочиненная самим дирижером. С шумом входит Фра Дьяволо; он советует своим людям не забывать не только об отваге, но и о хитрости. Далекий выстрел. Приводят незнакомца; его оставили в живых по просьбе дочери Фра Дьяволо. Клянусь адом, восклицает Родольфо, не пришлось бы нам раскаиваться в нашем милосердии! Наступает ночь. Незнакомец, оказавшийся кузнецом, перепиливает свои цепи и бежит вместе с дочерью сеньора Жозефой: она его невеста! Пробуждение бандитов. Приготовления к погоне. Родольфо это предвидел! «Если вы хотите преуспеть, – заявляет потревоженный посреди сна Фра Дьяволо, – то помните, дети мои, что смелость не исключает осторожности». 2-я картина: внутренняя обстановка дома кузнеца в Пуатьe (названия изменены по требованию цензуры). Паоло (Андре) и Жозефа трудятся. Он чинит железную рукавицу, она развешивает пеленки: у супругов родился ребенок. Ребенок лежит в колыбели. Мы-то с вами знаем, как превосходно исполнял эту роль Саладен! Паоло отправляется к самому богатому банкиру в городе. Входит Родольфо, переодетый паломником. Звонят к вечерней молитве. Жозефа отправляется за крестиком своей матери, чтобы повесить его на шею ребенку. Со словами: «О, моя месть!» – Родольфо уносит боевую рукавицу. Возвращается радостный Паоло. Планы на будущее. Супруги подсчитывают деньги в копилке. Приходят жандармы. Сейф самого богатого банкира в городе взломан с помощью латной рукавицы. Подозрение падает на Паоло, он арестован. «Мне останется хотя бы сын!» – восклицает Жозефа, без сознания падая возле колыбели. В комнату волчьей походкой прокрадывается Родольфо. Шепча: «О, моя месть!» – он сует в карман Саладена, на шее у которого висит крестик матери Жозефы. Пока оркестр исполняет нечто мрачное и гулкое, словом, звуки, приличествующие столь печальным обстоятельствам, Родольфо исчезает вместе с младенцем. Из-за кулис высовывается гордая физиономия Симилора; он провожает глазами сверток с Саладеном. На галерке Эшалот проливает слезы восторга, и влага эта обильно орошает головы сидящих в партере. – Саладен! Сын мой! – вопит Эшалот. – Если бы твоя несчастная мать видела тебя! Раздаются голоса: «Вышвырните за дверь этого идиота!» В воздухе проносится несколько гнилых апельсинов, но зычные голоса разносчиков уже предлагают почтенной публике: «Оршад! Лимонад! Пиво!» Спотыкаясь о декорации, за кулисами расхаживает бледный как смерть Этьен; взор его блуждает, волосы взъерошены. Его никто не замечает. Напротив, Савиньен Ларсен и его помощник господин Альфред д'Артюр окружены всеобщим подобострастным вниманием. Сам изобретательный директор удостаивает их улыбкой. 3-я картина: тюрьма. Камера для Черных Мантий. Паоло один. Чтобы насладиться своей местью, Родольфо стал тюремщиком. Монолог, в котором Паоло рассказывает о бегстве Жозефы. Дочь Фра Дьяволо (мадемуазель Тальма-Рос-синьоль) утешает его; она приносит ему пилу. Он перепиливает решетку и с криком: «О Небо! Защити невинность!» – бросается в пустоту. В эту минуту входит Родольфо; он должен зачитать смертный приговор Паоло. Видя, что узник бежал, Родольфо клянется отомстить. 4-я картина: паперть церкви Сен-Жермен-л'Оксерруа (название изменено по требованию цензуры с целью оградить от пустых подозрений неких лиц). Жозефа под именем Олимпии выходит замуж за молодого ростовщика Вердье, который предъявляет ей фальшивое свидетельство о смерти ее первого мужа. Фра Дьяволо под именем полковника Тобозо стал церковным старостой в этом приходе. Родольфо теперь прозывается Медок; он по-прежнему жаждет отомстить Паоло. Звонят свадебные колокола. Юные девы несут цветы. Из долгих странствий возвращается усталый Паоло. Он рассказывает о тех препятствиях, которые пришлось ему преодолеть, чтобы попасть в Париж. Он входит в церковь. Раздается крик. Со словами: «Это она!» – Паоло падает на церковные ступени. Появляется Родольфо. Внимательно вглядевшись в лежащего без сознания Паоло, он злобно восклицает: «Это он!» Родольфо втаскивает Паоло в карету и со словами: «О, моя месть!» – увозит. Свадебная процессия выходит из церкви; радостные юные девы обрывают лепестки цветов и осыпают ими новобрачных. 5-я картина: дом церковного старосты на улице Терезы. Фра Дьяволо, устав от жизни, полной опасностей, превратился в мирного буржуа. Но под прикрытием благотворительности он продолжает творить свои черные дела. К нему привозят бесчувственного Паоло. Родольфо хочет тут же прикончить его, ибо по корсиканскому обычаю он объявил ему вендетту. Фра Дьяволо замечает, что решительность отнюдь не противоречит осмотрительности. Появляется Фаншетта (мадемуазель Тальма-Россиньоль; условия ее контракта предусматривают, что она обязана играть роли дам и девиц в возрасте от десяти до шестидесяти лет). Фаншетта смеется над Родольфо, ласкает церковного старосту, возвращает к жизни Паоло. Церковному старосте известно все; он призывает Паоло к благоразумию: брак его жены уже свершился. Он помогает Паоло перебраться в Англию. Но благодаря его связям с преступным миром Паоло арестовывают и приговаривают к повешению. Почему же скромный церковный староста пользуется таким влиянием среди преступников? Он – главарь Черных Мантий! В тот момент, когда Паоло уезжает, входит Фаншетта, укачивая на руках дитя. Все прекрасно видят, что это не кукла, потому что малыш кричит и тянет свои ручонки к двери, куда вышел его отец. Трогательная сцена. На шее малыша висит крестик матери Жозефы. III АНТРАКТ – Очень мило, – заявил Алавуа, истекая потом. – Чепуха! – сухо, словно чиркнул спичкой о коробок, процедил Санситив. Некий серьезный критик обернулся к нему, и, приветственно улыбнувшись, поддержал: – Вы правы, сударь, трагедии Корнеля написаны гораздо тщательнее. – А покажут ли нам здесь историю подставного Людовика Семнадцатого? – спросила госпожа Тубан. – Цензура! – бросил Сенситив, пожимая плечами. Сидящему на галерке Эшалоту стало плохо, и соседи принялись приводить его в чувства. Ему совали в рот яблоки, предлагали выкурить трубочку или пожевать табаку, его буквально залили пивом и осыпали апельсинными дольками. – Ах, как здорово он кричал! – прошептал Эшалот, вернувшийся к жизни настоятельными заботами ближних. – Этот плутишка со временем станет настоящим Лаферьером! Спустя несколько минут появился Симилор. Благодаря обретенному источнику доходов он сильно изменился; костюм его был чист, и Симилор вполне мог сойти за торговца биноклями. Он пришел вместе с Саладеном, чья роль на сегодня была окончена. Переходя из рук в руки, малыш добрался до Эшалота, который мгновенно прижал его к сердцу. Саладен почти не подрос. Это было капризное и писклявое существо; его вытянутая голова была увенчана жестким ежиком волос цвета грязной соломы, а нахальные глаза занимали почти все лицо. Если вы хотите представить себе малыша Саладена, то советуем вам вызвать образ обезьяны или же – что еще лучше – дьявола во младенчестве. – Ах ты мой хорошенький! – воскликнул Эшалот, покрывая Саладена поцелуями. – Не помни мне его, – ворчал Симилор, – он дорого стоит. Эшалот поднял малыша высоко над головой. – Настоящий артист, – восхищенно произнес он. – Скоро мы увидим его имя отпечатанным на афише. И с чувством добавил, обращаясь к Симилору: – Я не претендую на его заработок, Амедей, но все же не забывай, что половина места в его сердце принадлежит мне. Зрители же, сидящие в галерее, окружавшей партер, внимали разглагольствованиям господина Шампиона. – Я один могу сказать вам всю правду об этом деликатном деле. В тот вечер меня обманным путем выманили из дома: мне сообщили, что моей коллекции удочек, по праву не имеющей себе равных в нашей столице, грозит огонь. Ах, а ведь я так был уверен в своем семейном окружении! – воскликнул он, бросая суровый взор на Селесту. – В истории знаменитых преступлений имеется не так уж много случаев столь тонкой, я бы даже сказал, научной разработки ограбления. Разумеется, после случившегося двери моего жилища были опечатаны, и мне пришлось ночевать в гостинице. Кассу открыли только на следующий день, в присутствии нашего патрона Мишеля. Тогда еще никто не знал, кем он приходится семейству Шварц. Но у него была доверенность от госпожи баронессы, которая согласно составленному по всей форме завещанию барона унаследовала состояние покойного, кроме тех сумм, что были завещаны мадемуазель Бланш. Как известно, сейчас мадемуазель Бланш является супругой нашего дорогого господина Мориса Шварца. О, что за страшное зрелище предстало перед глазами тех, кто пришел открывать сейф! Всюду налипли клочья ткани с приставшими к ним кусками человеческой плоти, торчали раздробленные кости, пол был залит кровью. Вам, несомненно, известно, что господин Лекок, предполагаемый глава ассоциации Черные Мантии, по сути, был гильотинирован острым как бритва краем сейфа. Люди искусства находят сей факт весьма примечательным и объясняют его вот как: сейф, сконструированный для совершенно иного употребления, сработал наподобие ножниц. Да, именно: сработал наподобие ножниц, люди искусства употребили в точности это самое выражение. Так что если желаете, можете зайти ко мне как-нибудь утром, я вам все покажу, и вы сами убедитесь, из какой высокопрочной стали сделан этот сейф. Края его режут, как бритва, и когда есть время, мы развлекаемся тем, что перерезаем ими разные ненужные вещицы. Для тех, кто пожелает ознакомиться, я собрал целую коллекцию таких вот разрезанных штучек. Но что самое удивительное, так это то, что под трупом господина Лекока были найдены четыре пачки фальшивых банковских билетов, совершенно неотличимых от настоящих! Я сам держал их в руках и долго спрашивал себя, не помутилось ли у меня зрение. Таких банкнот там было на сумму в четыре миллиона! – Четыре миллиона! – эхом отозвалась галерея. Господин Шампион продолжал: – А помните, как тремя днями раньше этих ужасных событий, в тот воскресный вечер, когда мы вместе возвращались в омнибусе из Ливри, у нас были позаимствованы… – Мой носовой платок! – мгновенно откликнулась госпожа Бло. – И чудесная шкатулка, принадлежащая госпоже Шампион, которая стоила целых восемьдесят франков, не говоря уж о моем собственном портфеле. Теперь-то я подозреваю… – Я заметил, – вставил господин Туранжо, – что в Париже как-то не принято жаловаться на воров. – Ну и разболтались же вы! – прибавила вдова судебного пристава. – Того и гляди сами разбежитесь ловить Черные Мантии! – Отныне никто больше не услышит от меня ни слова! – обиженно воскликнул господин Шампион. – Рыба нема, и в этом ее сила. Я же позволю себе дополнить свой рассказ одной лишь маленькой подробностью, чтобы вы смогли наглядно убедиться в дьявольской хитрости этого мошенника. Как вам известно, у меня был пес по кличке Медор, которому я полностью доверял. Когда же случились вышеупомянутые прискорбные события, меня необычайно удивило, что он не залаял. Когда же на следующий день я отправился покормить своего любимца, я увидел, что его подменили собакой той же породы, но только… чучелом… IV ДРАМА – Пи…уить! Этим условным знаком пользуются воры в мелодрамах, подзывая друг друга. Они боятся, как бы их вдруг не перепутали с положительными героями. Под акведуком, сооруженным в эпоху римского владычества, находится глубокое подземелье. Там, среди людей, не способных обучить мальчика ничему хорошему, и вырос Эдуар, сын Жозефы. Пи…уить! – Пи…уить! Лелея преступные замыслы, бандиты вводят его в дом барона Вердье. Его любовные интрижки с графиней Фра Дьяволо, роль которой доверена мадемуазель Тальма-Россиньоль. Эдуару отказывают от дома, ибо барон терзается муками ревности. Бриллиантовые пуговицы. Бурная сцена между Олимпией Вердье, бывшей женой Паоло, и юной инженю Софи. Все эти события представлены в трех картинах. В четвертой картине мы переносимся под мосты Парижа, декорация нарисована все тем же неизвестным живописцем. Графиня Фра Дьяволо исполняет песенку о грязи; невероятный успех. Вокруг ни одного жандарма. Трехлапый тщательно маскируется и наблюдает за всеми, однако с благородными намерениями. Он хочет раздобыть удавку Милосердия. Честолюбивый Медок (не кто иной, как Родольфо) имеет ту же цель; для ее достижения он воздвигает горы лжи и завлекает в ловушку барона Вердье. Пробуждение чувств: Эдуар и Софи, чистая любовь. Почтенная старушка мать, желающая оплатить свои долги. Шестая смена декораций: Трактир «Срезанный колос». Зажигательный танец, восемнадцать бильярдных столов, шесть клоунов, три каннибала. Дама, глотающая сабли. Фра Дьяволо, переодетый церковным старостой, убит своими собственными Черными Мантиями!! Олимпия Вердье обнаруживает на шее у Эдуара крест своей матери!!! Трехлапый проникает в тайну горного убежища бандитов! – Пи…уить! Согласие у ручья. Миловидная статисточка танцует польку. V ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ – Произведение искусства ценится нами за его простоту, – вещал серьезный критик. – Школа Бомарше уже была упаднической, но у него было много естественного остроумия. – Неужели мы увидим, как дверцей сейфа гильотинировало беднягу Медока? – спросила у Сенситива госпожа Тубан. – Это было бы слишком откровенно! – На то и есть цензура, – ответил поэт. – Они ухитрились собрать свой урожай отовсюду, – заметил Котантэн, – но все равно действие выхолощено, мертво! – Но куда же в конце концов девались сокровища полковника? – задала вопрос Селеста. После смерти барона Шварца господин Шампион в особенно значительные минуты жизни стал подражать телеграфному стилю покойного банкира. – Облава, там, на Корсике, – произнес он. – Развалины монастыря перерыты. Безрезультатно. Монастырь заминировали, взорвали – ничего! – А Черные Мантии до сих пор существуют? – спросил тюремный пристав. Господин Шампион пожал плечами. – В корзине для салата увезли полдюжины, а может, и больше: Кокотта, Пиклюса, мелкую рыбешку. Я все видел, следствие велось в моей собственной спальне… – Расскажите нам про расследование. – Так вот! Было два свидетеля; и господин Брюно, как открыто называют Андре Мэйнотта с тех пор, как тот получил охранную грамоту от самого короля… – А, первый муж! – протянула госпожа Бло. – Вот именно, и отец нашего патрона Мишеля. Так вот, как я уже сказал, этот господин Мэйнотт занял место в почтовой карете, а госпожа баронесса последовала за ним. Поначалу я счел такое поведение баронессы неприличным, но следствие разъяснило мне, что оно было вполне естественным. Свидетелями были советник Ролан и начальник отдела префектуры Шварц: не фунт изюму! Сначала оба они заявили, что подают прошения об отставке, ибо отныне они решили посвятить себя исполнению священного для них долга, несовместимого с их служебными обязанностями. Они показали, что господин Шварц был убит Лекоком. – Медок! Ах! Мошенник Родольфо! – И что господин Брюно без всякого умысла толкнул дверь сейфа, прихлопнувшую кровавого негодяя, который в эту минуту как раз разряжал пистолет в грудь Брюно… Но откуда там взялись эти люди? VI ЗА КУЛИСАМИ Драма подошла к концу. На сцене Олимпия Вердье, в окружении мертвых тел, возносила молитвы Господу. За сценой Этьен и Морис упали в объятия друг друга. – Так, значит, ты наконец женился? – А ты наконец заставил принять твою пьесу? – Да, – с мрачным видом ответил Этьен, – это моя пьеса. – Почему ты не заходишь к нам? – продолжал Морис. – За эти два года произошло столько всего!.. – Да, – ворчливо ответил Этьен, – столько всего! – Олимпия Вердье, моя обожаемая и очаровательная теща, вновь стала Жюли Мэйнотт; господин Брюно положил конец своим переодеваниям… – Об этом я напишу еще одну пьесу… – Ну уж нет! Хватит с тебя и этой! Она принесет тебе и славу, и состояние. – Состояние! – горько усмехнулся Этьен. – Из тех десяти процентов выручки, положенных мне как автору, четыре я отдал Альфреду д'Артюру, а еще четыре Савиньену Ларсену… – Ах, черт! Остается только два процента, негусто! – Директора это устраивает, – вздохнул Этьен. – Но по крайней мере тебе достанется слава! – Автора! Автора! – принялся скандировать зал. Этьен схватился за волосы и вырвал солидный клок. – Господа, – объявил великий актер, исполнивший роль Трехлапого, – драма, которую мы имели честь вам представить, сочинена господами Альфредом д'Артюром и Савиньеном Ларсеном! – А где же твое имя? – удивленно спросил Морис. – Занавес!.. VII ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД – Спектакль не даст сборов! – предсказывал Сенситив. – Держу пари на две сотни представлений, – сказал Туранжо. – Я отправлю на него всех своих земляков. – Но они так и не рассказали, что скрывала удавка, – заметила госпожа Тубан. – Расин наверняка сочинил бы иначе! – заявил критик. – Подводя итоги этого дела, – говорил Адольф Шампион госпоже Бло, – скажу лишь, что бывший советник и бывший комиссар полиции работают как лошади, чтобы добиться пересмотра решения суда в Кане. Эдме, жена господина Мишеля, распорядилась, чтобы всем кредиторам господина Банселля было уплачено сполна, и бедная старушка госпожа Банселль скончалась вполне умиротворенной. У госпожи Бланш родилась хорошенькая девочка, у госпожи Эдме растет очаровательный мальчик, госпожа Мэйнотт цветет как никогда… а я, я два раза в неделю хожу удить рыбу. – Но все-таки, – не отставала вдова пристава, – чем же закончилось дело с подставным Людовиком Семнадцатым?.. – Мой дорогой маркиз, – говорил влиятельный друг маркиза Гайарбуа, покидая вместе с ним зарешеченную ложу, – этот Лекок был просто мужлан! Король все больше и больше увлекается идеями, исходящими из предместья. Так что давайте-ка разыщем птенчика с клювом Святого Людовика! – Карета господина Мэйнотта! – выкрикнул ливрейный лакей. – Ого! – воскликнул Гайарбуа. – Так, значит, они сидели в ложе прямо напротив нас! Прежде чем сесть к себе в карету, могущественный друг маркиза распечатал конверт, только что переданный ему каким-то прилично одетым мужчиной. – А вот и эпилог, – прошептал он. – Граф Корона заколот кинжалом возле Сартэна неким Баттистой; этот Баттиста некогда служил кучером у его жены. Красивый малый. И приказал слугам: – В префектуру! VIII «ТЕАТРАЛЬНОЕ КАФЕ» Дымящиеся стаканы с грогом, желающим – сиропная настойка. Клубы табачного дыма. – Добродетель малютки Тальма под угрозой! – Лаферьеру не больше двенадцати… – Этьен? – воскликнул Савиньен Ларсен, отвечая на какой-то нескромный вопрос, – какой Этьен? Не знаю такого. – Если бы цензура не была столь строга, – разглагольствовал окруженный своими поклонниками Альфред д'Артюр, – банкирский дом Шварца наверняка бы купил рукопись за двести, а то и за триста тысяч франков. Что ж, подождем, пока народ пробудится! – Пришлите мне текст, – сказал серьезный критик Савиньену. – Я заметил кое-какие обороты, которых нет у Лагарпа. Между прочим, как вам удалось так ловко польстить зрителю, что он простил вам свое неудовлетворенное любопытство? Ведь вы так и не раскрыли знаменитый секрет Черных Мантий! – Я объявил всем, что скоро появится новая драма: «Секрет Каморры, или Фра Дьяволо в Обители Спасения». Примечания 1 Фамилия «Лекок» звучит по-французски так же, как le coq – петух (прим. пер.). 2 «Пришел, увидел, победил» (лат.). 3 Кабестан – подъемное устройство (лебедка) с вертикальным валом; применяется, например, на речных судах. 4 Я не говорю по-французски, сэр (англ.). 5 Хлеб, выпеченный из ржаной, мелко размолотой и просеянной муки. 6 Министерство иностранных дел Великобритании. 7 От франц. toupet – чуб. Старинная прическа: взбитый хохол волос. 8 Бечевая полоса вдоль рек, озер, обнажающаяся при низкой воде, используемая для нужд судоходства и сплава (в старину – для тяги бечевой). В длинную толстую веревку с лямками впрягались бурлаки или лошади и, идя вдоль берега, тянули речные суда против течения. 9 Заведомо ложный, обманный, несправедливый. 10 Популярная в те времена историческая мелодрама. 11 Quos ego! – Я вас! (Вергилий. «Энеида») (лат). 12 Монтионовская премия присуждалась за благотворительность. 13 Буль, Андре Шарль (1642—1732), мастер художественной мебели при дворе Людовика XIV, создатель так называемого стиля «буль» (для которого характерно инкрустирование мебели различными сортами дерева, бронзой, перламутром и т. д.) 14 По желанию, по выбору, как угодно (лат.). 15 Актриса, играющая роли простодушной, наивной девушки. 16 Начинай, мальчик! (лат.). 17 Название дельца, разбогатевшего в колониях, главным образом в Индии, и ведущего расточительный, пышный образ жизни. 18 Человек, обязанный проверять сохранность металлических ободов на колесах экипажей и менять их в случае износа. 19 In folio – в лист; формат издания в 1/2 листа, получаемый фальцовкой в один сгиб (лат.). 20 Слова улетают (лат.). 21 Beau monde – высший свет (фр.). 22 Черная мантия (англ.). 23 Департамент Вандея был главным очагом контрреволюции в 1793 г. 24 Маленькими глотками пить пиво (англ.). 25 Луи-Филипп (1773—1850), французский король в 1830—1848 гг., происходил из младшей (Орлеанской) ветви династии Бурбонов. 26 В морском обиходе: уборная на судне. 27 Бог из машины – здесь: неожиданно, сразу, внезапно (лат.). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 |
|||||||||