 |
|
Популярные авторы:: Чехов Антон Павлович :: Азимов Айзек :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Горький Максим :: Андреев Леонид Николаевич :: Лондон Джек :: Сименон Жорж Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Язва :: Истоpическая литуpгика :: Второе нашествие марсиан. Записки здравомыслящего :: Задача профессора Неддринга :: Где любовь, там и бог :: Кто осмелится не сделать подарок Санта Клаусу :: The Boarding House :: Утопия усталого человека :: Алмазная история - 1 |
Миракли (№1) - Легионы святого АдофонисаModernLib.Net / Современная проза / Яневский Славко / Легионы святого Адофониса - Чтение (Весь текст)
Славко Яневский Легионы святого Адофониса „Коснись меня, Господи, бесплотной рукой, научи, что есть человек, а что – крыса. Есть Ты, меня бы не было, нет Тебя, я – живой труп, вместо молитвы – брань.» 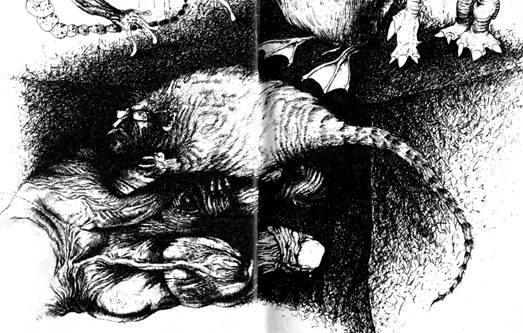 О магическом реализме Славко Яневского Открывая эту книгу, читатель попадает в необычный образный мир – югославский писатель Славко Яневский создает собственную поэтическую вселенную, населяя ее самыми разнообразными, причудливыми и непривычными персонажами, восходящими к мифологии балканских народов и давним христианским поверьям. Книга необычна даже на фоне того, что называют магическим или фантастическим реализмом. В ней соединяется набор местных преданий и образы, рожденные прихотливой фантазией то ли самого автора, то ли его персонажей. Монологи упыря-мертвеца, помнящего прошлое и будущее, перемежаются диковинными видениями монахов. Иные из символов принадлежат к числу тех, которые нынешняя наука называет архетипическими: таковы предания об исполинской руке, внезапно поднимающейся из земли, или об исполинском оке. Подобные образы есть в самых разных древних и новых мифологических традициях. Но в предлагаемой вниманию читателей книге есть очень много отраженных поверий и легенд, которые могли возникнуть только в описываемых автором краях. Все прошлое Македонии в переплетении с судьбой Балкан, по-своему преломленное античное греческое наследие, особенности православных верований в их взаимодействии с не угасшим совсем язычеством составляют основу эпизодов, способных поразить читателя, впервые знакомящегося с этим удивительным и странным миром. Наиболее выразительная особенность этого мира – то, что и образы народной демонологии, и видения монахов, томимых подавленными страстями, погружены в кошмарные и тягостные восприятия разрастающегося человеческого тела, становящегося чуть ли не главным субъектом мифов, собранных в книге. Тело это чаще всего уродливо, страдает каким-то дефектом, недостачей или избытком (то глаз не хватает, то мясо обглодано крысами), но, и даже когда оно вдруг покажется прекрасным, это кратковременное наваждение: за телом женщины просвечивает наславший ее злой дух или человечек, а то и эмбрион, в ней таящийся. Это колыхание плоти охватывает не только человека, но и зверей (сколько страшного и чудовищного в книге только о крысах), и растения. Природа кишит духами и призраками, любое животное и человек может вдруг оказаться их временным пристанищем. Весьма занимательны отношения автора и главных героев его трилогии со временем. Сознающие себя мертвецы помнят то, что с ними было много веков назад. В обрывках перед нами мелькает история Македонии и сопредельных стран (в том числе и Руси) на протяжении веков. Легенды и связанные с ними персонажи окутывают селение Кукулино, превращая его в таинственное обиталище вечности. Старцы, собирающиеся на совет, кажутся чуть ли не ровесниками мироздания. Оттого не только время, но и пространство повествования начинают выглядеть по-иному. Я совсем не уверен в том, что поверья и россказни, которыми полна книга, соответствуют реальным верованиям, когда-то бытовавшим в Македонии. Куда важнее другое: автор в духе всей новейшей европейской прозы рядом с описываемым миром строит другой, воображаемый, который для иных его героев становится едва ли не гораздо более реальным. Это двоякое существование персонажей одновременно в небольшом селе, крепости и монастыре неподалеку от него и в фантастических образах можно считать большой стилистической удачей писателя. Иной раз повторение мотивов, особенно кошмарных и тягостных (те же полчища крыс, одолевающих людей), может показаться нарочитым и назойливым, тем более что натуралистические подробности, возможно, и оттолкнут читателя. Но поэтика книги вся рассчитана на изобилие, в ней всего много: мифов, покойников, призраков, соблазнительных женщин и монахов, готовых поддаться соблазну. Автор словно не доверяет первому впечатлению и спешит усилить и закрепить его неоднократными повторами. Книга удивительно органична. Упыри и злые духи растут в ней, как деревья и травы. Подлинное ощущение природы, напоившее книгу поэзией, оправдывает и самые будоражащие душу описания омерзительных выходок нечисти. Разумеется, и по отношению к «Мираклям», как и ко многим другим показательным произведениям художественной литературы нашего века, можно задаться вопросом: почему – даже при описании монахов, отшельников и святых – такой перевес получают воплощения местного или мертвого зла? Литература XX века в большой мере обращена к изображению мелких бесов или настоящего черта. Это объединяет Запад и Восток, Сологуба и Булгакова, Томаса Манна и Акутагаву. В этот ряд произведений, воспроизводящих «пузыри земли» (слова из «Макбета», поставленные Блоком эпиграфом к его стихам на эту тему), встала и эта книга с ее колдовской и дивной поэзией. Читателю предстоит сложное и не совсем привычное чтение, хотя книга не нуждается в доскональном разъяснении, растолковании. Она требует от самого читателя работы мысли. И чувства тоже. И пусть, ведомый этими двумя наставниками, отправится он в многотрудное и познавательное путешествие по страницам богатейшего жизнеописания, предлагаемого ему Славко Яневским, писателем-мыслителем. Вячеслав Вс. Иванов К советскому читателю Мы не знакомы лично. Сегодня связь между нами с помощью издательства «Радуга» осуществляется через трех грамматиков и их записи в «Мираклях», через этих грешных святых и благословенных проклятых из прошлого. Этот текст я пишу в гостинице, расположенной неподалеку от храма Василия Блаженного, столь привлекательного места для грез и поэзии. Я проездом в этом городе – значит, у меня мало времени, чтобы объяснить все то, что предстоит тебе прочитать. События, описанные в книге, состоящей из трех частей, лишь часть большой хроники. Она начинается романом «Девять веков Керубина» (701 – 1596) и заканчивается «Рулеткой с семью цифрами» (2096). Между этими двумя книгами – романы «Легионы святого Адофониса», «Песье распятие» и «В ожидании чумы» (XIV век), сразу же за ними – «Чудотворцы» (XVIII век), «Упрямцы» (XIX век) и «Марево» (XX век). Место действия на протяжении всех четырнадцати веков – Кукулино, село в Македонии… на Балканах… на третьем адовом дне, где человеческой надежде только снится спокойствие, такое недостижимое. Предлагаемая советскому читателю трилогия представляет собой неразделимое целое, она объединена с другими романами общими героями и событиями – и все же достаточно самостоятельна, чтобы иметь право на жизнь в собственной Вселенной, среди мрака и блеска молний. Доверительно скажу: сотни и сотни ночей пробирался я по коридорам времени к истокам истины. Известно, что бывают моменты, когда автор живет и умирает вместе со своими героями. Было такое и у меня. Более двадцати лет создавал я этот опус. Стоило ли делать это – оценивать другим. Одним судьей будешь и ты, читатель. Я желаю тебе всего самого наилучшего. Написано в Москве, ноябрьским днем, двадцатым по счету, в год 1989. ЛЕГИОНЫ СВЯТОГО АДОФОНИСА (Легионите на свети Адофонис) 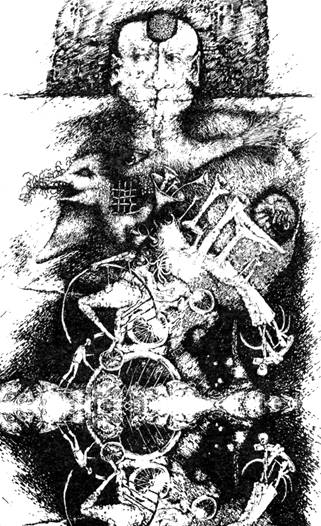 Помню ли, знаю ли, как подвигся я на воспоминания, подобающие тени вроде меня, – вот вопрос. Одно знаю: себя разыскиваю и нахожу в годах минувших, в коих ветры пустынь песком замели все подступы к воспоминаньям. Я их раскапываю. Назад тому сотню лет – а я тогда был в живых – не верилось мне в воскресающих мертвецов. Я про них и не ведал. До того дня, вернее, до той ночи, которую я провел в мертвом городе. Не важно теперь название города, как не важны и имена двух благочестивых паломников, взявших меня с собой на радение. Весь день шли мы под раскаленным солнцем к неясной цели, покуда, жаждущие, с потрескавшимися губами, не добрались до развалин – без имени, без зелени, без людей. В песке средь руин неуклюже пошатывалась дикая сука со стрелой в хребтине, оставляя за собой сгустки крови. Удалялась, ощетиненная и задышливая, с высунутым языком. При первом же наплыве тьмы она исчезла, внезапно, будто провалилась в песок. Те двое, приведшие меня поглядеть на чудо, стояли неподвижно и немо. Так же стоял и я, когда узрел, как среди развалин, из ямины ли, из песка ли, подымается некто, отродившийся от своей смерти, высохший и зеленый в лунном зловещем свете. Слышно было его тяжелое дыхание: прогнившее нутро наверняка забито песком. И все же он двинулся на отверделых ногах по кровавому следу. Слепой и тени под собой не имеющий, сыскал беспогрешно горбатую суку, задыхаясь склонился и высосал из нее кровь. Я чувствовал себя вовлеченным в действо, от которого рассудку несдобровать. Паломники пытались меня удержать, не пустить к упырю – он возвращался на свое прежнее место. Не ходи, испуганно молили они. Удержать не сумели, я, неведомо чего ради, мчался уже к тому, без тени. Оказавшись перед ним, обомлел, но не отступил. Он вытянул ко мне руки, я взмахнул ножом. Нож прошел сквозь его пустоту. Еще раз взмахнул и не устоял на ногах. Пал без памяти. Открыв глаза, я увидел паломников, удалявшихся с поспешением. Кликнул их слабым голосом, просил помочь, не бросать меня тут немощного. Один из них, на ходу обернувшись, вымолвил: «Ты не смел на него поднимать руки. С этой ночи станешь ты тем, кем был он от веку». Столетие пролегло с проклятой ночи. И не ведомо, стал ли я вампиром тогда или пришел таким в мертвый город после смерти своей, когда Растимир коварный выдолбил для моего надгробья на белой плите:  Те, из земли: Возьми заступ, зарой меня. Я, Борчило: Скорбь тебя обо мне одолеет, Возьми заступ, зарой меня. ПЕСНЬ ТЛЕНА  1. Рождество смерти Я восстал из могилы после стольких десятилетий. В тот день, обильный гусеницами и одуванчиками, жаркий, высушивший нивы, заявился в Кукулино прорицатель, некий Русе по кличке Кускуле-Недомерок, желтый и коренастый – под стать своему прозванию. Было лето шесть тысяч восемьсот тринадцатое [1], душное и сухое. К прорицателю выскочил из двуколки человек с плешью во все темя, с бородой зато столь окладистой, что разбойнику или игумену впору: глаза белесые, взор прилипчив, на груди малый крест из потемневшего серебра. «Предскажи мне что-нибудь, Русе», – промолвил он. Прорицатель запечалился. «Предскажу, только ты осерчаешь. В воскресенье тебя зароют». «С чего это мне помирать? – побелел сельчанин. – Ты даже имени моего не знаешь, да в воскресенье еще», – теперь и губы у него дрожали. «Знаю я твое имя, ты ведь Деспот, а? Так вот, Деспот, пухом тебе земля», – и он набожно прикрыл глаза. «Не мне, а тебе, вещун!» – вскричал Деспот, выхватил из груженной сеном двуколки косу и замахнулся. Прорицатель, и понять не успев, что и как, пал со взрезанным горлом. А через три дня, в воскресенье, явились из города на конях трое судей да шестеро стражников с мечами и по закону царскому злодея повесили. Русе Кускуле встал из могилы. Видели его – с головой в руках – на башне старой порушенной крепости. Враки. В Кукулине один только и есть сбежавший от смерти, я, Борчило, живой труп в мертвой крепости. Три года люди крестились и верили, что срезанная вампирова голова злобно скалит зубы на месяц. Уверяли даже, будто и Деспот повампирился. Ступая неслышно, шастает по гумнам, косит тени острыми и быстрыми взмахами – бешеный совсем, как при жизни, в вампирах стал вдвое бешеней, беда тому, кто под косу ему подвернется. На следующее лето в день поминовения вдова Стамена подступала к старенькому и хворому могильщику Живе, чтоб он мужа ее Деспота из земли выкопал и в сердце бы ему забил осиновый кол. «Мое дело зарывать, – отшамкивался Живе. – Сама его искапывай да пробивай». Его мучили зубы, от бессонницы взялись кровью глаза, отчего походили на две медные денежки, вытертые и тусклые. Грушеподобная голова держалась на тонкой морщинистой шее, выступавшей из серой рваной рубахи. Обеими руками отпихивал он от себя Стамену, видать, усатая ее образина страшила его куда более, чем вампиры, ткавшие для села саван из лунных нитей. Постанывал про себя. Зубная боль отдавалась в ушах и каждой жилке. «Да слышь ты, малоумный копальщик, – зашлась от злости Стамена. – Он по ночам шастает, давит кур у меня, он или Русе Кускуле. Видел его мой сын, Зафир Средгорник, и не только он». С вампирами никто связываться не решался, да и не было особой охоты. Не хотелось людям кольями забивать свои сказки. «Матери только б выдумывать, – смеялся Зафир Средгорник. – У нас и кур-то нету». А Живе себе могилы не выкопал. Упокоился на несколько недель раньше Стамены, и погребли обоих под молитвы отца Киприяна, монаха не очень старого из монастыря Святого Никиты, начатого и недостроенного на прогалинке, где когда-то стояла церковка, возведенная в честь святителя, чье имя и не поминается – не перед всяким склоняется Кукулино. Мертвые покрывались забвением, подходили свадьбы и праздники, лозы и яблони тяжелели плодами, а безбрежная синь небес – звездами. Овдовев, Фиде, урожденный Деспотом и Стаменой, сызнова жениться не пожелал. Из скарба своего кое-что продал, а кое-что подарил старшему брату Зафиру и отправился в город, не сказавшись зачем. Провожать его никто не ходил, зато потянулись за ним нити слухов – бежит, мол, потому как боится повампирившегося родителя; или: отомстить надумал судьям, сказнившим его отца; или: подался в разбойники, как Деспот в молодости, перед тем как переселиться сюда из далекого – день и ночь верхового пути – села Бижанцы. В то время никому и не снилось, что будет. Я предсказывал себе и про себя. Человек и тень три столетия, я рожден в лето шесть тысяч шестьсот семидесятое, в день третий после третьего круга луны и солнца, лет за двадцать до падения Андроника Комнина Византийского, когда бездорожьем и по виа Игнация нахлынули норманны и подрезали корень его царства [2]. Может, я чуть моложе или чуть старше, теперь мне уже не вспомнить. Все прошлое столетие изжито мною и десятки лет до того, когда умирали венценосцы Филипп Швабский, Вацлав Чешский, Иоанн Безземельный, Альфонс Кастильский, Балдуин Фландрский, Калоян Болгарский. Я бражничал и бился до крови в пору рождения, владычества или смерти Фердинанда Кастильского, Генриха из Сицилии, Стефана Уроша, Ивана Асена, Теодора Ласкариса, Александра Невского, Михаила Палеолога. Я пережил Чингисхана и царство его от берегов Желтого моря до Каспия, и крестоносца Фридриха II, проклятого папой Григорием и освобожденного от святых угроз после победы креста в Иерусалиме. [3] В тот год, когда крепкие жилистые монголы одолели на Калке православие и его князей [4], по нашим пределам наступал конец богомильскому непокорству [5] перед силою живой и мертвой, и в городке неподалеку от Кукулина крохотная церквушка Богородицы Троеручицы стала прибежищем для убогих с их богохвальными псалмами. В то самое время здешний вельможа Растимир заколол брата своего двуродного Лота – покарал за ученолюбие грамотея и звездочета, геометра, алхимика, ритора, травщика и знахаря. Я тогда был и жив и молод. Это теперь я вечный старец и вечный покойник, злоокий призрак, веститель бед, поражений, болезней, напастей, а может, провидец, распевающий псалмы победителю – здешнему человеку, из-под горного чернолесья. Никто не предчувствовал. И все же случилось. Дни, пепельные и обгорелые, каменели на пути в неведомое, среди лесов залегло серое марево. Села по эту сторону Вардара словно повисли в дыму, на соломенных и плиточных кровлях каменели голуби. И звук становился камнем. Листья орешника утратили цвет, серые под серым небом. Ни восхода, ни солнечного заката. Ни полдня. Время без знамений, умом не растолковать. Обессиленность жизни, затаившейся над землей: не ночь и не день, млечная лиловатость. Гляжу и молчу. Обучен грамоте, записываю на высушенной и просоленной овечьей шкуре. В лето шесть тысяч восемьсот шестнадцатое писание мое – мой голос. Я – Борчило, странник из столетья в столетье, живые меня считают за мертвого и потому разбегаются, мертвые тоже не принимают. Одни грозятся колом, другие прячутся. Вампир? Не знаю. Ни дома, ни могилы. В своей коже мне слишком студено, согреться бы в земле. А земля, как камень под пеплом, злобствует, не отворяется. На западе, над порушенной и запустелой крепостью, где я умираю без смерти, большое серое облако стало походить на дохлую суку с обвислыми и высохшими сосцами. Дождь – далекое воспоминание. И без огня обратятся в пепел хлеба. Под пустыми колосьями продырявленная лисья шкурка. Ночью я выпил кровь из зверька, оглодал, и вот теперь в морде его ищет пристанища моль. Казалось, пределы эти, не богомильские уже, но и не царские, попали в рабство к чуме, желтозубому чудищу с челюстями, размалывающими кость и камень. Пророки предсказывают – только сбудется ли, а я, грешный, предсказываю без огреха. Мое имя может быть – Предсказание. В горной пещере зарождалась смерть. Точнее, она распрямлялась на камне, когда поспешением божьим вылуплялись из водяного плодника дождевой червь и человек, а до того клен и улитка. Теперь возникало ее второе обличье. Без запоздалого близнеца смерть не имела сил на грядущую великую жатву. Время, как от подскока, двинулось вспять, подобно потоку, истребляющему собственное течение: выпьет его до дна и оставит за собой пустоту, сухой песок. И явилась тогда клубом свернутая, раскаленная и узловатая, шелестящая, страхоносная, искристая, горьковато-обжигающая на вкус и на ощупь, синюшная, проклятая, нежданная, горбатая и пузатая, похожая на искушение, а пуще всего угрожающая, злая и подвижная молния. Пала с ясного высока и, как разбухшая, но проворная гусеница, пронеслась по обильным полям и по убогим полоскам. Осушила ручей. Ударила в ветхие стены крепости, раз и другой. Оставила запах горелого лишая и эхо своего рева, а еще – скорбь опламененного овна. Посеяла тени по задымленным комьям и сгинула, призрачная и прозрачная, расплылась, став корчью в корче разодранной утробы, привидение или бестия неземная, живописцам не сыскать ей ни имени, ни подобия, и обличье ее не помянется в писаниях после меня. Только единожды в молодости, во времена Первого Стефана, владетеля над людьми и горами [6] – а он пребывает в скелетах уже более ста лет, – видывал я такое. Клубок змеевидных молний прокатился тогда тут и исчез за пастбищами. В то лето появились козлята с четырьмя и шестью рожками, посинело молоко у рожениц, лютые полевые старухи с саранчу ростом выжрали весь ячмень, семеро потеряли слух и зрение, тронулись друг за другом к болотному богу – и там среди водяниц с бородами, увитыми водорослями и головастиками, оставили гнить свои кости. Земля расселась. В черные трещины можно было видеть кости мертвецов из неисчислимых столетий. Можно. Но видевший их превращался в пень – ревел от боли, когда топор попадал в сучок. И следующее лето было злым. Из семян вместо ржи и пшеницы поднимались травы, гибкие и живучие, словно рогатые змеи. От их касания по-змеиному скидывалась кожа. Маялись болью великой псы и скотина. Морды каменели, не принимали жвачку. И снова семеро пошли в объятия к водяницам с грудями, увязанными петлей в ожидании утопленников. В третье лето после чуда сего я сделался прозорливцем. Перед сбором винограда предсказал, что на Богоявление выйдут из утробы четыре младенца мужеска пола. Так и сталось. Четыре горстки живой плоти утопили, точно щенят, в нижнем конце ручья, и с той поры на Богоявление ночами слышится оттуда волчий вой. Не можно было безумье остановить: хоть и младенцы, хоть и без ясных ликов, но от герани-травы повелись, за то и кара. А ныне земля от удара молнии собралась морщинами. В морщинах тех угадывались столетья. Спалив вместе с кладбищенским терном и вязами кости усопших, молния воротилась к небесной суке, или нырнула в колодец, или покатилась к Городу – сеять трупы людей и животных. Оставшиеся – воины, продавцы зелья и магии, тати, травщики, грамотеи либо мошенники – всякого наплетут через мгновение ли, через годы, а назавтра все обратится в прах, все станут прахом и забвением после последнего вздоха. Без сомнения, ни звездочеты, ни травоверы не знали – то ли время ринулось к исконным своим чародействам, то ли заспешило к будущим, определенным судьбой для грядущих столетий. Многих словно вынули из-под гнета: кожа горит, глаза лезут из обруча кровавых век – превращаются в головешки, в пепел. Это они. А я предчувствую: полыхнут плоды, и здешние и те, из заморских стран добытые Филипповым Александром [7]. Не осталось в деревьях ни гусениц, ни тени. Бык. Шерсть синевой искрится. Во лбу прозвездь из белых шерстин. Бурый. Взревел, натужно и дико, из копыт извлекая рев, из жил, из нутра, с неслыханной болью, и я вторил ему, ведь не бывало такого, чтоб без огня раскалилась скотина, чтоб улеглась, вытянув отверделые ноги, а перед тем выпустила в землю кровь – согреть корень крапивный и семя малины. Буйно разрастутся по весне фиалка с пузырником. Но не желтым цветом покроются, не лиловым – процветут кроваво. Рев громадного быка в небеса ударил рогами, в горы и в стены крепости. Долетел до бога. Побежали внуки.мои или правнуки – не видавшие меня, не слыхавшие – и нашли его мертвоглазого. Племенной бык превратился в горстку костей и спаленной кожи на сухой соломе – деяние бесплотного бога, себя принесшего в жертву во славу свою. Новым объятые страхом, позабыли люди повампирившихся Русе Кускуле и Деспота. Даль была темной и синей: темное серело, синее наливалось кровью. Горит и сгорает земля, горят небеса, вылижет их пламень, и нет от него спасения. Тает облако, и цедятся капли воска, летят прозрачные голуби с плачем в клювах. Под Синей Скалой, где ютятся призраки и отшельники, появляется из земли исполинская рука, персты ее – суковатые дубовые стебли. Крик – за дубравой, где Песье Распятие. Предупреждает. Но кого и о чем – не понять. В кануны священно действ неведомо, что творится в пределах, недоступных оку непрозорливых. Мне ведомо, но некому рассказать. Вещанье мое ни до кого не доходит. Беды и напасти безмерные собираются над Кукулином. Может, такое было в тот день, когда церковь Богородицы Троеручицы сподобилась изображения жути: жабья голова с рогом, в пасти вместо зубов орлиные клювы, руки десятипалые и на каждом пальце змеиная голова, негопырьи крылья и горб, а ноги – черные, в струпьях. Ныне это святилище стало пеплом и лишь один помнит его свидетель – я. Сижу в темноте и смеюсь, оскал мой похож на плач. Ежели я в живых, то уж слишком долго, не хочет расступиться земля, словно покойники придерживают ее изнутри за кожу, за травяные корни. Ежели в мертвых, странно, почему я не прах. Однажды, многие и многие десятилетья назад, вроде бы варили кутью на помин раба божьего Борчилы, любившего вино, битвы и женщин. Узнавшего теперь о рождении второй смерти в темных ризах. Смерть эта страшнее той перворожденной, за тысячи и тысячи и тысячи лет до моего писания. Вот, письмена оставляю на выбеленной овечьей коже. Прочтут потомки, и я им буду ровесник. А считают меня за мертвого. Хорошо. Был такой Борчило Грамматик. И есть. И будет. Мертвый? Живой'.' Все равно. Его писание – он сам, я, проклятое черное зерно в черной мельнице. Дочавкаю голыми деснами летучую мышь, напьюсь дождевой воды, оставшейся от тех дней, когда цвел миндаль, и дам себе роздых. Надежда, что некий милостивец забьет мне в ребра осиновый кол, потеряна. Живым заказано ступать в этот замок призраков, глухая его пустота звоном отдается лишь во мне, ибо я полый – букашка, высохшая и страшная, раздави – не останется мокрого места. Костяк с рассудком. Стервятники разбегаются с криком, почуявши мой тлен. А ведь и вправду сбудется – новая смерть кинет жизнь на червивую трапезу, разделает на куски, станет рвать, пожирать и огладывать, брюхо ее переварит и камень. Предрекаю – ответа нет, а наступает страшное – кровь обретает умысел. 2. Крысы Я таращусь со стен крепости, из которой разбежались вурдалаки, прислеживаю, слушаю дали. После долгого безмолвия, струями истекавшего из ниоткуда в никуда, кто-то запел. Потом, когда плотный голос умолк, собрались на важный сход все старички – сельские старейшины вокруг набольшего своего, Серафима. Давно уж позабылось про его шашни с козой, покаянный, исповеданный и причащенный, он теперь Серафим Блаженный, вкушающий коренья да пахту. Собрались и ждали, когда же первый старейшина вылезет из невидимой скорлупы не то вялого сна, не то пророческих размышлений. Подняли ему веко, он учуял, услышал, даже нечто узрел, о чем не хотел говорить. Облекая смыслом свою жизнь, если так можно назвать старческое дожитие, изрек: «Всему живому, от мала до велика, оставаться под кровлями, что-то будет». Я подслушивал его тайны в черепе, притягивал их, как лужа притягивает солнце, чтобы оказалось оно в двух местах, на небесах и в воде. И понял я, что не знает он о рождении новой смерти, злобной губительницы, устремившейся к Кукулину. Бессилен он разглядеть страшную жницу живой плоти. Перекрестился. Дважды. До и после молитвы Иже ecu на небесех. Потом призвал святителя своего Николу, да Никиту, да Никодима, всех троих разом, словно один святой мог обретаться в трех кожах и защищать на три стороны. Про четвертую, ту самую, откуда подступала смерть, он забыл. Прочие старички (самый старый моложе меня на семь десятилетий) прикладывались челом и устами к его деснице. Якобы прикладывались – лень было шевелиться, от мух даже отмахиваться перестали. Ничего в них не сохранилось от молодой ретивости, когда кусок обращается в силу, а глоток в неуемную дерзость. Но люди Кукулина верили им, выбрали их из множества своего править старшинство, блюсти порядок и справедливость, и они блюли. А перед тем за две ночи по обыкновению голыми под луной плясали родильницы, терлись бедром о бедро, чтобы пролился дождь и родила земля. Обнаженные женские тела, разогретые истовой пляской, исходили золотой испариной. Со звезд низвергалась на них растопленная руда, стекала меж белых и налитых грудей, выпивала женскую молодость с плеч и податливого чрева. Заметались среди колосьев старушонки с саранчу ростом, опьяненные запахом здоровой женской плоти, не чаяли живыми выбраться из потока. По прошествии сорока дней невинный отрок девяти годков зарезал освященным серпом черного щенка, опрыскал его полуночным молоком кобылицы. Отозвались на это невидимые лягушки, только дождь не пошел. Без пользы оказался и крестный ход с упованием на единого бога. Не получилось проку и из смеху достойного скакания по стерне босыми ступнями, как в киевской земле когда-то – известно из старинных деяний времен Ярослава Мудрого, господина сотни церквей, меж коими золотой богиней блистала Святая София, пресветлая матерь всех красот, покуда не разрушили ее неистовые монголы во время великой резни в лето семьдесят пятое от моего рождения. Я встречал одного из подданных названного Ярослава. Не помню, где и когда. Он носил крест, серебряной нитью пришитый к голому телу. Предупреждение надобно предвидеть, поучал он. Всякий народ однажды сталкивается со своей погибелью. Всякий народ, значит, и здешний, кукулинский. Только старейшины все еще верили, что дожди придут. Нет и нет. Зато пришел Петкан кривоногий в накидке из медвежьей шкуры, не молодой, но и не столь старый, чтобы стать споспешником старейшинам, и не в меру болтливый. Варил и выцеживал сливы, а не был пьян, хоть и бранился вовсю и проклинал смерть: угнездилась-де в нем и отравляет кровь, до ночи не даст дожить, оно бы пускай, он-то свое пожил, только эта смерть, эта проклятая смерть все и всех истребляет на своем пути, ни птенца, ни дите не щадит, кто и как с ней выйдет на бой? Опасливо показал им пятку с кровяной печатью. «Зубы хищника. Здоровенной крысы», – промолвил и заохал. Шмыгал носом, глаза подпухли. Исходил луком и потом, верхняя губа раздвоенная, синеватая сысподу и влажная. Старики загрозились кулаками. Обругали. Хилыми руками вытолкали его из каморки старейшин, даже палку у него отобрали. «Хлеба дыханием запалить можно, – возмущались они, – а он смеха ради про каких-то крыс, издевается над многоразумием пречестного Серафима». А скольких горстей муки и масла стоило ему вчиниться внуком славного и горделивого сокольника Богосава, служившего у воеводы Растимира, когда Кукулино равнялось силой со Скупи [8], а Византия и царство Никейское под Ласкаресом и под Ватецом [9] прославляли его воинственность? Петкан же ни с того ни с сего заявил, что ляжет вот здесь и подохнет и вернется к ним зубастым упырем. Уходя, оставил за собой несколько капель крови. «Беги давай! – кричали ему вслед. – А как зубастым вернешься, всадим в тебя осиновый кол». Нашел его на чужом току родной сын Парамон, кряжистый парень, составленный из жил и костей. Нагнулся и вскинул на руки, точно сноп. И понес, окоченелого и поскуливающего. Вышагивал медленно, медленней тех, что бежали куда-то и почему-то. Не спешил. Не от устали или спеси. Просто такие, как он, не бегают, им на роду написано двигаться по прямой, зверь и могила убираются с их пути. В каморку старейшин, сляпанную из соломы да глины, в прорезь, куда с трудом просовывалась голова, пробралась крыса. Дряхленькая, вылинявшая под бременем лет, похожая на самих старейшин. Сжалась за ларем с зерном. Следом явилась еще одна, побольше. Усохшие старички могли оказаться под кожухами и рубищем изо льна и шерсти и злолукавием, и смиренной скорбью. А были лишь тяжестью для своих костей. И – жили каким-то допотопным заветом, в мятеже повторений, с первого дня чудес: Да будет свет и Да будет сумрак, мрак, ночь. Почесывались неуклюже. От толики крови их сытно жилось вшам и блохам. В камне и в том больше оставалось предчувствий. Не единожды в жизни своей видывали их крысы и к ним вражды не питали. Один старейшина прихлебывал тюрю. Нити молока, свисавшие с губ, были не белей его бороды. Прочие, утешенные безмерно его ублаженностью, позабыли, зачем собрались. Вши отгоняли дрему. Дверь дубовую заложили засовом, никакой напасти сюда не прорваться, собой довольные, возлюбили смрад, не хотели его уступить миру, как и шелест своего дыхания. Ни за что. Никому ничем не обязаны, не станут никого оделять духом своим -и усыпительным потом. Ни в кои веки. Они разумные и бережные. Разумные? Сидят – круг полуживой плоти и трухлявых костей, мудрость им раскалила темя, покрыла постной бледностью лица. Руки дрожат от дряхлости, умаляются и чадят. Шевелятся зеленые и синие тени, посередке теплится огонек, возжегшийся сам собой. Припоминают чудеса апостольские и в союзе с ними, с апостолами, мнят себя сильными. Вдруг один отзывается то котом, то уткой. Маленький, похожий на отрока с прилепленной бородой. Серафим к нему оборачивается и покачивает головой. «Молись, брат Мирон, а я присоединюсь». Стелется по селу бледный млечный туман, предвещая зной, что до времени прячется под комьями по оврагам. Кружит над развалившимися башнями шестиугольной крепости воронье, разлетается, испещряя небо живыми пятнами. В желтую рябину заплетается ветер, клонит ее, оставляет пригнутой. Мешаются шумы. Под ветром шуршит тростник в болотине. Есть такое место – Песье Распятие. За ним реденькая дубрава. В прелых пнях кто только не обитает – муравьи, черви, ужи. Посредине – большой сгнивший крест на собачьих костях: звериный Иисус, неведомо когда свалившийся со своего распятия. Десятилетьями полыхают кости на солнце, упрямятся перед стужей, отпугивая волчьи стаи и лохматых собратьев. Селение не ведает своей судьбы и живет своей обычной жизнью, кто-то подтесывает соху, распевая во все горло. К нему подступает крыса. Наталкивается на камень и прячется. А с чернолесья уже катятся живые волосатые комья. Селянин оставил недоделанную соху, распрямился. Стоял в нерешительности: угроза опасности его царапнула, хотя и не глубоко проникла. Соломенная кровля над каморкой старейшин и без ветра ходила ходуном. Набегание шорохов словно возвращало старичкам сознание, снимало с глаз пелену. По обыкновению без усмеха ждали, когда набольший, Серафим-постник, отойдет от внутреннего омертвения. Корноухий, он казался разным – левым и правым. Ухо ему отгрызла свинья, еще в колыбели. Изувеченную сторону лица судьба украсила подкожным орехом омертвелого мяса, а веко оттянула до самого носа. Старцы сидели на можжевеловых треногах, опираясь ладонями на держаки сокрушительных когда-то боевых секир, воздыхания и кожухи делали их как бы единой животиной, не способной уже возвратиться к солнцу и жизни. Я их жалел. Даже для меня они были слишком дряхлые, словно гробы задышливые со старческим мраком внутри. Через трещины в потолке, сквозь прорезь в стене крысы норовили проникнуть в дома. Торопливо овладевали пространством, пытали возможность сделаться господами над людьми и над их скелетами. Из Города воротился брат Зафира Фице, пугало приволок Для отгона призраков: деревянного страхолюда в черном балахоне. Горе его упокоенному родителю Деспоту, горе живым. 3. Мор Одно мгновение – и вот он, мор. За проселочной дорогой, неровной и пыльной, гигантским ужом протянувшейся вдоль реки Давидицы, спал в тени ежевичника нищий музыкант Арам. Нищие подобное имя носят нередко, но этот был Арам Побожник: головастый человечек, коряво приросший к земле – от выпитого вина из него пустились побеги, сцепившиеся с сухими травами. Он вздрогнул от мохнатого касания и пробудился. На распахнутой его груди сидела крыса, с лукавой затаенностью терла лапами морду, освобождая глаза от пыли и утомления. Один ее глаз был кровавым, другой золотым. Страхом изгоняя из себя страх, паука, опутывающего живую душу, нищий взвизгнул, отбросил от себя мразь ударом. Вскочил и завертелся на месте, сухой и длинный, босой, оборванный и вшивый, в глазах – человечья скорбь. Нагнулся за камнем и увидел, что это не камень – крыса, и еще одна повисла на его голом плече. Запрыгал, взревел, неуклюже помчался к рядку хилых яблоневых дерев, а там на него посыпались с веток мохнатые, хвостатые, скулящие плоды с острыми резцами на колючих мордах. Бежал с трудом, все тяжелее и тяжелее, живая броня клонила его к земле. Упал ничком со вскрытой утробой, и старейшие из преследователей принялись упитываться теплой его мякотью. Их было двое в челне посреди болотины, в середине треугольника село – город – вода, в этом царстве пиявок и головастиков, рыб, цапель, тростников и не найденных под ряской утопленников, запаха гнили и жужжанья мошкары. Их было двое – изо всей силы ударявших веслами по кипящей воде и до боли в глотках вопивших от ужаса. Отец и сын, русоволосые, крепкие, бронзовые от солнца. Они отбивались в полную силу. Но смерть уже нельзя было отбить. Крысы подплывали густыми и быстрыми стаями и кидались на деревянный челн, жажда мяса и крови, жил и хрящей оплачивалась во имя природного равновесия тысячами их жизней, проплывая среди размозженных собратьев, они карабкались по бортам челна, набрасывались на людей. Живые гроздья на живых лозах. Под их натиском челн загрузал. Крики отца и сына слабели. Превратившись в сплошную кровавую рану с выставленными на солнце костями, они чувствовали, что сердца их долго не выдержат. Один бросился в воду, став кораблем и трапезой. Надумал занырнуть в теплую бочажину и дышать сквозь тростинку. Крысы вцепились в него, тащили. Он всплыл с оголенным черепом, свесившим кровавый язык. Оставшийся в челне отец обратился в месиво без души. В Кукулине сгущались запахи – звериная моча, кровь, припаленная шерсть, – отовсюду находили шумы и страхи, не восполняя друг друга, сплетались в перенапряжение желто-серого дня, выпускали щупальца и побеги, ужасали землю и небеса, втягивались и снова вздымались в корчах, и неведомо было, где вытье и лай, где плач и гневливый вскрик, а где гимн апокалипсического искушения. И старики и дети чувствовали под языком горьковатую желчь, прежде чем огложет их исчадие ада. До глубин, до самого корня жизни проникает страх. Иное нечто, под названием «конец», того глубже. Меж тем в продолжение вздоха все каменело – ни трепета, ни возглашения, исчез свет и исчезла тень, плоть не ощущает огня и укусов не ощущает, опреснела под языком кровь. Но жизнь не может стать вселенским осадком: после долгого смирения пугающе зашатались деревья – то бились о стволы обезумевшие козлы. Неохотно отрекаясь от любви к небесам, пало дерево. Из прогнившего корня вывернулась слепенькая змея и забилась под мраморную голову македонского или римского воина. С жадностью выпив из себя зелень, горный можжевельник съежился и опаленно темнел, обращаясь в собственный призрак. Трещинами пошла земля в великом сражении видов за жизненное пространство. Кого ты выбираешь себе, земля, – чадо-человека или чадо-зверя, с ревом вопрошал я из крепости, в ярости кусая себе пальцы, и не мог улечься и выпрямиться не мог. Такой же раб неизвестности, как и другие, но со свободным прошлым, трудным и недоступным ни для человека, ни для крысы. Я ревел надсадно, в пустоте громко трещали кости. Только я, один-одинешенек, слушаю собственный рев и корчусь от желания помочь, хотя бессилен, – я не знаю чар и в чары не верю. Затягиваюсь паутиной отчаяния и машу руками, суставы издают угрожающий скрип. Старость превратила меня в гору, прорезала проточину за проточиной, избороздила морщинами, и все равно я злость и бессилие, а не всемогущий волшебник и избавитель, способный испепелить крысиную нечисть, мохнатые и злозубые легионы, выславшие в Кукулино искусных лазутчиков, перед покорением мира, разобщенного поясами воды, кладбищенскими межами, тенью и светом. И злобой. Вдруг мне все показалось сном: подо мною село с кровлями из соломы и плит, теплый ветер доносит запах горячего хлеба. Я – спазм за крепостной бойницей, с закрытыми глазами считаю в себе мгновения, словно жду, когда пройдет страшный сон. Час или два, не знаю. И без молитвы – сон, постылый, короткий, кошмарный, проклятый сон, сопутник старости. Вампиру иначе не полагается, по ту сторону жизни не видится иных снов. Открываю глаза и высовываюсь в бойницу, единственное окно мое в жизнь и в мир. Я надумал себя обмануть, будто сплю, но судьбы селения не отменил, судьбы и страха людей, пропащего моего племени, испокон века подверженного разноликому злу и украшенного шишками, набиваемыми изнутри – под черепом. За безрядьем было не уследить, и прежде, до нашествия крысиного, случались невозможные вещи. Песенники, бородатые жнецы и драные виноделы, гончары, тележники, бондари, кожевники, рыбаки, оружейники и кузнецы, а с ними охотники, травщики, плуты, дезертиры, бездельники, грабители со шрамами по лицам и без оных, мечтатели, постники, маги словно остолбенели. Клубом свитая молния ослепила их. Внуки когда-то славных, а то коварных и алчных вельможьих щитоносцев, сокольников, стрелков, ткачей, поваров, конюхов, знахарей, блудников или пленников шарахались без ума и разума, сталкивались друг с другом и – диво дивное – пытались войти в дома сквозь стены, разбивали лбы, но, заарканенные собственными тенями, вновь принимались за свои безуспешные попытки. Крысы их караулили вдалеке. Точнее – главные силы. Лазутчики уже вцеплялись в лохмотья и в тела. В жутком вопле кто-то запел, выковыривая песнь из душевной мути. Другие, обезумев, призывали Невидимого. И в корчах бежали, падали с удолженными лицами в дикий овес. Поднимались и опять бежали, потные, похожие на веретена, увитые багровыми прядями. Иные перед смертью делались постой [10]. Крысы брали приступом третий дом. Сперва накинулись на молодку Борянку Йонову, недавно разродившуюся, из грудей ее брызнуло водянистое синее молоко. Белая и сильнорукая, с плечами, способными уместить двоих, она защищала цвет своей любви – колыбель. И муж ее, Андон, головней и криками отстаивал то, что принадлежало ему по праву, – потомство, достояние, жизнь. Псы покинули их, запертая скотина, одичав, дырявила себя рогами. Не знала, как защититься. Мычание, налетая на преграды, возвращалось, чтобы их укрыть и придушить боль, и еще было оно каким-никаким протестом против гибели и молитвой за упокоенных Йоновых – Борянку и мужа ее Андона, здоровых и молодых до сего проклятого дня. Укусы снимали с глаз чары клубчатой молнии. Возвращали людей в жизнь, дабы оглоданными предать смерти. Только имени ни у кого не было. Взметенные вихрем страха, желтые и окровавленные, русоволосые или русобородые, катались с визгом в пыли. Являли громождение узлов: человек и зверь, борода и лапы, овес колючий и женское горло, боль и огонь. Из пенистого и кровавого крутева выплетался серебряный след вытекших глаз, пиявиц, присосавшихся к свету, а избавления не возвещалось, и вскипал разум: отныне у земли новый будет хозяин, не человек, – когтистый, волосатый, зубастый, и мольбищем его станет череп, и домом – груда костей, и зори и цветения отойдут к нему, и воды, и облака, и тихие закаты осенние над каштанами и над скалами с горными куропатками. И завтрашняя девственность снега. Падет, без сомнения, падет дождь на пепел. А в жилах не будет влаги в отзью священнодейству. 4. И чары и крест и Страх. Вверху темное солнце, внизу темные люди и белые тени. Ни сном, ни явью не назовешь – хвост увяз в отошедшем мгновении, а щупальца, ногти, зубы пребывают в следующем, по имени «сейчас» и без ясного «завтра». Скорбь глядеть побелевшими глазами и открывать, что свет – всего лишь сгущение тьмы. Этот день, и если бы только этот, для меня такой, будто я заключен в гробницу, а целый мир превратился в склеп. А не так. Над землей я и тоскую по гробу, по плите, что прикроет мне кости, извещая, кем был я, кем мог быть когда-то, пять, шесть, восемь десятилетий или целое столетье назад, далекий от этого дня и черных его страхов. Не знаю, может статься, я тень праха, над чьей позабыто-стью натянута нить сознания, две нити, а на них очи бессмертия. Эти очи – мое наказание, проклятые и злые, а может, злы они от проклятья, определившего их в свидетели жути, навалившейся на горемычное становище Кукулино. Вздрагиваю. Выдираюсь из высохшей скорлупы. Все обман, рычу про себя, и делаюсь откликом своего рыка. Обман, обман, обман возвращает мне глубина моей боли и обманывает меня, закапывает в паутину новых обманов. Обманы переплетаются в узел, во множество узлов, увязавших жилы моей хилой плоти и нити сознания. Я и вправду вампир устрашенный, затаивший Ужас пред другими вампирами, не теми, что обитают в сельских сказаниях и изгоняются луком, крестом и низкой высушенных петушьих головок над дверью, а совсем иными, воистину погибельными и кошмарными. И впрямь… …И впрямь, нахлынули ураганом, лавиной, потопом. Еще страшнее. Крысиные лазутчики загрызли рыбарей – отца и сына, да пьяного бродягу со свирелью за поясом, да кое-кого из людей и скотины. Главная сила ждала. И дождалась, проклятая. Ибо только проклятие могло стать ей благословением. Не могу сейчас изъяснить, что-то мне застилает взор, но вдали, за болотиной, я увидел их властелина. Он стоял на своей распрямленной тени – ни человек, ни крыса, нечто смутное, наподобие сгущенного чада, словно призрак огромной гусеницы, без лица и многоголовый: извивается, то полый, то в облике огромной пасти, извергающей брань и повеления – голосом пекла. И знал я, что воевода сей, злобный и темный, имеет имя, и не иное какое, а – Адофонис, вокруг него никли и засыхали деревья моей юности, испарялась озерная вода и на дно уходили рыбьи пузыри, лопались пиявки и умирал тростниковый корень. Мне хотелось, раз уж я и впрямь прозорлив, разглядеть его лик, око, морщинку мельчайшую, чтоб продраться сквозь нее в глубь его умысла и намеренья – таит ли он что-то в себе и подсчитывает ли мертвецов, которых оставляет за собой и вокруг себя. Он был без брони, поколыхивался прозрачный. Но черное пятно его сердца отбивало время, миг за мигом, не слишком быстро и не слишком медленно, дабы поверилось, что близкий конец – часть боли и тяготы людей из грядущего, не этих, еще живых, возле крепости. Обличьем он походил на человека, только по стану его, мутноватому и неуловимому, отворялись как бы малые челюсти с тысячами зубов, острых и несломливых, способных глодать сплетения жил, корень и камень. Из крысиного воеводы испустился дым, метнулся, завихряясь, вернулся ожившей тенью и сотворил из себя крысу со страшным веприным горбом, на коем восседала нагая женщина. Бедра ее подрагивали, предвещая сладострастие, чреватое безумием и проклятьем. И вдруг, будто оборвался кошмарный сон, прозрачность крысы и женщины сгустилась в корявый пень, затянутый грибной слизью. А потом ничего, даже пня не стало. Только голая, потрескавшаяся земля без побегов и корней, без муравьиных лабиринтов, без дыханья крота или барсука. Небеса охнули и провисли мехами под тяжестью горя. Лопнули, выцеживая из себя зной. Тотчас из трещин земных, неведомо с какого или которого дна, после придушенных громыханий, с рассветом (или с сумерками, не важно когда, и время можно вывернуть, как кожух) прихлынули тени. Они ширились, собирались наплывом, разрывались и склеивались снова и двигались шелестящей шкурой, не сосчитать зубов, хвостов и – на каждую пядь по горбу. Мор. Погибель. Пред таким завоевателем никому будущего не ухранить. По земле, давно не тронутой ветром, проходила ожившая мгла с красными и зелеными искрами, двигалась крысиная рать. Чем ее остановишь – чарами или крестом? Колдовка из местных, кривошеяя Яглика, выбравшись из своих кожухов, направилась на гумно поворожить над клоком волос троекратной вдовицы. Запалила волосы в роге для волшбы, доставленном из-за моря, заголосила. Распевала пискляво и размахивала руками с неуклюжестью взлетающей цапли. Лицо бледное, сильные округлые скулы под большими глазами – видать, когда-то была красавицей. Впустую, хоть на себе волосы запали. Темное месиво, волокнистое, серое и пузырчатое, прошло сквозь нее, оставив один скелет с куском потрохов под ребрами. Появился человек с крестом, сухой и высокий, – Ангел. Шаг неверный. И молитвы его, и глаза – две ямы без жизни – выказывали безумца. «Вы были наши целители, – молвил он, – души наши освободили от скверны, истребили идолопоклонников и скотину паршивую и с ними прочую нечисть, а теперь возвращайтесь в свой мрак, оставайтесь в межах своей черной скинии [11], мы же вас воспрославим, первенца новорожденного вашим именем наречем». И молитель, изнутри подпекаемый пламенем своей, и только своей веры, умолк. В Кукулино вступали орды, племя, пред коим могила осыпалась в могилу. Одолевали силой и натиском, и неведомо было, пустошь остается за ними или – из моей бойницы не углядеть – оживает камень, обрастая зубами и шерстью. И все другое рядом с камнем: дернина и пень, даже тени, до того недвижимые. Кошки, грузные и хладноокие, иные с морских прибрежий, ленивые ловцы ящерок и мышей, устремились к Городу, к городу татей и богомольцев, славян, иудеев, латинян, что торговал с ромейскими городами и самой Рашкой [12], а еще пьянствовал, блудодействовал, маялся или пел, испарялся от мерзостей и молитв, сытый и голодный, бездельный и работящий, с укрытыми златницами и злодеяниями; он и во сне не видел, что ждет его, когда Кукулино станет могильником, катапультой, которая заметнет беду прямо в его содомскую душу, и разойдется она по всем царствам и покроет их язвами неисцелимыми, и не спасет от них ни снадобье девятитравное, ни прах. звездного камня, ни черепашья кровь. Ни магия далеких земель, населенных полудиким людом, ни крест из дерева от гроба Господня, из тех краев, где растут смоквы и библейская мандрагора. Ни щит, ни меч. Ничего, ничего, ничего. «Огнем, – надоумил кто-то. – Отобьемся огнем». Это сипел Парамон. И родитель его Петкан – трехлетний ребенок помочился ему на кровавую пятку, чтоб крысиный укус не оставил отравы, и он ожил. Их крики были слышны за горами. Отец и сын, два голоса в одном взреве, обещали избавление и надежду, что победа останется за человеком. Но голоса людей до старейшин не доходили. Малоумие старцев заставило меня дважды выблевать себя, всего – от костей до гроба. Старичье вопрошало, кто пропитывает монахов. И отвечало само себе: мы, преподобные отцы, вас пропитываем, наши нивы. «Позвать их, пусть распятием разгонят сброд», – бормотал Серафим одноухий. И тотчас вопросил, а кто же поит вампиров. «Кровь наших снох да сыновей, благородный старейшина», – напомнили ему. «Позвать их, – вскричал он, – не то завтра, без нас, они вдругорядь вчинятся мертвецами под плитами!» Умно покачивали головами, на самом же деле – полоумели, гнили, чернели. Крысы, очутившиеся в каморке с заложенной дубовой дверью, попрятались в тень, бессильные выбраться отсюда и пристать к ордам, к великой оргии. Слишком были стары, чтоб вскарабкаться по глинобитной стене и пролезть в трещинку под крышей. Тех, что рождались, Деспотом более не нарекали. Ни одна женщина не хотела кормить вампира. 5…И огонь Старейшины не спрашивали, как войти в сообщество с монахами и вампирами. Припомнилось одному, что то ли среди монахов, то ли среди вампиров есть у него родня, дядя по отцу – Макарий, или Монахий, или Манасий – имя он позабыл, и, может, не по отцу вовсе, а по матери, игумен. Теперь вот, в полночь, сидит он на груше-дереве и прикидывает на пальцах, как им помочь. Тут самый старый, Серафим, признался – надумал жениться, достаток есть, вот только колченогую не возьмет, он и сам хромой да без уха; а снилась ему такая грудастая, что соху грудями впору волочить по камню. На селе про старцев никто и не вспоминал. Бегали стремглав с топорами, рубили можжевельник и вязы, поджигали ежевичник и несжатые хлеба, целые запряжки бросали в пламя. Некоторые обгорали, зато помирали с выгодой – подсобрав тепла на вечный подземный холод. Меж тем верхний край кукулинский не устоял. По кочкам и по кустам живым потоком хлынули крысы, потеснили сельчан. Ударили неуемной силой на защитный огненный пояс. Кукулинцы сгустились в пламени. Самый сильный из всех, Тимофей, зубастый парень, внук не знаю какого моего внука, верховодил – головней поджигал вороха хвороста и сухие бревна. Пошатнулись крепостные стены, от чада потемнел день. Но заслоны из запаленных дерев, пней, дверей, зыбок, столов, бочек, двуколок, хомутов, сох, седел не удерживали напора крыс. Чумоносители бросались в огонь с писком, звериным и человечьим, принимали пламень на свои горбы, свертывались в клубок, обожженные и ощеренные, горели и обугливались, а по ним проходила вторая косматая волна и тоже кидалась на огненную окову, дабы обеспечить рати, идущей следом, проход к сердцу Кукулина и дальше, к Городу, к жилищам около Города, к морю, до самого Киттима [13], до неведомых земель. Где-то, в другом селе, ударили колокола. Сперва малый – голосом молодой борзой, причуявшей лисью норку, ему ржаво отозвался колокол побольше, вслед за ними самый больший, старый и строгий, не будоражащий, но смиряющий смуту. Звон мешался, возносился ввысь, ширился, напоминал о забытых праздниках и библейских мучениках. И в горах и на равнине почитались эти колокола. Верили, что в полой бронзе живут голоса прадедов, тех, что переселились сюда из Склавинии и покорялись сперва Перуну, а затем покорствовали Христу. Некогда живший Лот, Magister artium liberalium [14], частенько говаривал, что, как только им крест не в помогу, они делают заворот назад, к своим стареньким племенным богам. Меж тем колокола перестали молить. Теперь они лаяли по-собачьи. У двух больших звук на низах прерывался, а маленький с писком зарывался в самые небеса. Упорствовал. И треснул, смиряясь. Остался лишь хриплый лай двух других, а может, смутная воющая молитва за упокой душ и живых и мертвых, за упокой малого пса с языком заглохшим в бронзовой голодной утробе. А крысы набегали со всех сторон. Словно их притягивал адский дым и колеблющиеся завитки огня. Словно в пекле освобождались от подступавшего мужского семени и женской истомы. Не было у них ни семени, ни истомы, распложались и днем и ночью, с подвизгом заскакивали друг на друга, убывало семя, и набухали сосцы – яровитые, как никогда, воздвигали царство свое. Вокруг Кукулина – прислеживаю краешком глаза – трепещет зной, не отступая, но и не сливаясь с огнем. Живет себе село собственное житие, что не имеет ни начала, ни конца, ни середины, как кольцо, как звено цепи, затянувшийся писк с кончиком хвоста в челюстях, – вывернется, подобно змее, из кожи и снова в кольцо, сцепившись с омертвелым звеном. Вон оно, змеей свернутое кольцо, без голоса и дыхания, словно круг замкнулся кончиной мира, – земля и жизнь в объятиях смерти. Э-э-э, возносятся крики, у-у-у, отзываются небеса, о-о-о, стонет камень или судьбина под камнем. Растревоженные голоса – отходная жизни, вопль плоти, прощальный крик нерожденных. И снова, призрачно и пискляво, а-а-а – голос, где мешаются ужас и удивление, и-и-и – грозная и жутковатая свадебная песнь, умиранье привенчалось к мертвой надежде, что есть у жизни мерная поступь, что не оборвется она концом негаданным и внезапным. Э-а-у, и-о-э, о-у-а, бьют неясные вскрики в стены проклятой крепости, сотрясают ее, крушат. Но она не обрушится – мне отказано в быстрой смерти, в мертвой воле, в упокоении. А-э-у, у-и-о, гласные без смысла, мертвый язык неживых людей, исторгнутая молитва будущих мертвецов. Откликаются горы, возвращает голоса болото, бьется в корчах село. Отяжелевшие небеса опираются на столбы из чада, по ним к внеземному пеклу карабкается человечья мука и падает обратно в этот ад, что рядом со мной, на земле. Пламя перекинулось и за Давидицу – речку, по-летнему мелкую и с песчаным дном. На ее журчание наслаивался мшистый дым. Горел ивняк, горели тутовые деревья, горел камень. Все румянилось и чернело. Крысы с пламенеющими, как короны, спинами походили на стяги, обрамленные синевой, с проворством необычайным искали они избавления в копнах сена, забивались под соломенные кровли сараев. Все горело. Умирали в огне цикламены, их былая и будущая лиловость. Завтра выпрыснутся из пепла сморщенные грибы сморчки. Выжившие будут заливать их кизиловой ракией и медом. За грибами вылезут одуванчики, салат, лебеда, а по весне – красноголовый конский щавель. Но пока что мужчины и женщины слепли, становились незрячими от чада и искр. И все же узрели: из своей развалюхи выскочил знахарь Максим – ожерелье из волчьих зубов на тощей, не шире женской руки, шее, метлы в воздетых руках, в вывернутом кожухе. С сокровенными молитвами на устах заспешил к дьявольскому отродью – одна нога босая, длинные бабьи волосы, глаза как два сдвинутых ореха. Увидевшие его вознадеялись. Но остались без утешения. Знахарь полыхнул словно сам собою. Живым факелом. Подскочил раз или два. И только. Упал, поднялся, опять упал и опять поднялся, но реки не достиг. Лег, обугленный, и смирился. С ним умерла его магия. Погибли Кирилко, один из старейшин (чая спастись в колодце), и недоучка живописец Викентий (сгорел), и бондарь, и седельщик. И еще: Канон (в огне), жена его Фросия и сын Угрин (оглоданы), и Размо, дядя молодого Тимофея, и канатчик Владимир, и старуха Божьянка, и внучка ее Донка, да те двое рыбаков перед ними, да нищий, да колдов-ка и знахарь, да еще другие. Их смерть была быстрее моего Евангелия. А вот и я – упираюсь коленями в камень, без бога на челе, без могилы, – я, аскирит [15] смерти, пропади я пропадом. Деревянное пугало от вампиров стало пеплом. Фиде поклялся, что добудет другое. А Русе Кускуле и Деспот под землею испепелились. 6. Три неотпетых пришельца На устах человека проклятие, спасение в его руках. Но уста пусты и сухи – разверсты. Не требуют хлеба. Руки защищают право на жизнь. До скончания жизни и духа жизни, субстанции или материи, по сказанному в посланиях патриарха константинопольского Иоанна Златоуста [16] из Антиохии, в торжественные дни его боговенчания. Волны крыс, ослепленных чадом и искрами, гроздьями кидались в шелестящее пламя. Становились грудой угля и чуть погодя пеплом. С их шкурой, челюстями, глотками, потрохами сгорала чума. Но вновь и вновь взнимались они из песка и тени. И тут явился на них сакс, переселенец из Эрделии [17], великан в белых ресницах, Голиаф с душою Давида [18]. Тайна божия, как его занесло в Кукулино из кратиского [19] рудника. Очутился на коне средь крысиных роев, чтобы кидать на них свои чары и спастись от страха. Рослый и осанистый, на шее впору телка усыплять, волосы и борода до пупа, вспененный, как и конь его в пестрой узде, с зыком поднимал он в руке блистающий меч. Воинственная кровь прадедов возжаждала подвига. Под копытами неистового коня в тени мертвой акации сделалась мутная каша из крови и шерсти, она источала смрад, словно действо совершалось в чреве вселенского зверя. Сакс натянул поводья и издал клич на своем языке, но гнедой, ходивший кругами, слабел, все больше погружаясь в бесформенную трясину. В схватке с таким недругом неустрашимость – всего лишь лихорадка ума, а может, нечто иное – любовная игра безумия и смерти, блажной выплеск крови перед могилой. Сакс, кельт, угр, германец, далекий внук Одоакра, завоевателя старого Рима, кесаря Оттона, Фридриха Барбароссы – глуби мифа, человек-конь, кентавр, двуглавость, зверь и человек, тождество и единение со смертью. К нему уже мчался с головней человечек, Денисий Тончев, хотел ему стать со-ратником и со-смертником, братом-трупом, это живые особятся меж собой, а мертвые, будь то саксы или славяне, – трупы. Без лица и без числа своих лет, человечек не имел второй жизни. Было имя, хотя и его не стало. Обессилевший и ослепший от дыма, поддавшись отчаянью и перекинувшись на сторону смерти, он упал, свалился наземь, лицом в головню. Полыхнул, превращаясь в костер из своих волос, приподнялся, хотел сбежать от огня, взмахнул руками, словно жаркоголовый петух, но не взлетел – конь его на скаку стоптал передними ногами, упокоил в день, что дольше столетия, в миг, что дольше самого долгого дня. Неспешно и незаметно на круп коня взобралась крыса и, скрививши голову, отыскала зубами жилу. Лизнула извилистую нитку крови и порвала – не выткать из нее мертвецкого савана. Конь заржал, однако не перекрыл криков всадника. И все же словно бы их прикрыл, придушил в призрачном и кровавом плясе. Сакс поднял над головой меч, дабы все-таки, хоть и ложно, оказать себя победителем. Вздыбился потный конь, тщась стряхнуть крысу и всадника. Другая крыса, помельче, уже совала голову в конскую ноздрю. Искала мрака и крови, другие взбирались по ногам животного. Их не задерживала броня: грызли и рвали жилы, прокусывая меж ребер доступ к горячим мышцам и крови. Добирались до всадника. Сакс от ног до макушки покрылся крысами, хоть и рвал их с себя с клочьями собственной кожи и мяса. И словно канул в живую топь, в дьявольскую жижу, из которой не пробиться ни голоду, ни надежде; заплутавшийся средь балканской жути Зигфрид [20] ткнулся лбом в конскую гриву и таял, упадая в клокочущем зеве. Только раз вскинулась из взбаламученного месива рука, ухватила верезжащую тварь и раздавила могучим сдавом, а сам он сник в трясине – для грез о нибелунговом кладе, о сапфирах и аметистах, яшме, сардониксе, смарагдах, топазах, и еще о сельской красавице, в ночь перед крысиной напастью согревавшей ему своим телом ладони. Он не грезил. И та красавица тоже, Донка, Божьянкина внучка, – не праздновать ей рождения сакса-славянина, хотя чаялось ей выносить в чреве чадо – германского корня поросль, да со славянским сердцем – и наречь его именем пришельца: Людвиг. Нынче. Завтра. Никогда. Ни после Судного дня. А вокруг, пока Тимофей, на шаг опередив Парамона, на быстром скаку ухватил меч саксонца и столь же быстро, не дав крысе в себя вцепиться, вернулся к третьему огневому кольцу (два уже пробиты), темное отродье давилось в собственной крови и желчи и восставало из безобличия. Тут вознесся голос о послании божием на сей день. Молитву словно из бороды своей выпрядал скиталец Христов, добравшийся по бездорожью от высокогорной обители Полихрона до этих серых и суровых мест, набитых нечестивцами и дикими кабанами. Подбодрял себя Устиян Златоуст. Во имя спасения мира и креста. Палкой выпрямившись под рясой, ворочал он отяжелевшим языком, как хмельной… За ним на расстоянии, нужном для почитания и довольном для поучения, шумно подскакивал послушник с заушницей под конопляной повязкой, пропитанной оливковым маслом, медом и сосновой смолой. Являли собой чудо, разгоняющее чудеса, но крысы, если и признавали богов, покорялись только своим. Послушник же, чуть повыше ростом, но в поступи не столь твердый, как первый, хрипло молил святителя в драной рясе проклясть бестий и вкаменить их. Вера, выстраданная отреченьем и постом, таяла. Старший, в упорстве своем подобный саксу, сущий кряж из твердого мяса и бороды, грохотал, окруженный большими и малыми сивомордыми крысами, бил их тяжелым серебряным крестом, сдирал с рясы и с кожи, защищая от укусов плоть свою, жилистую и святую. Не дольше, чем сакс. Его настигали новые орды и одолевали. Крысиный бог был сильнее бога священника и послушника, двух мучеников с обезумевшими глазами. Выкрики старика звучали уже не по-славянски, может, то был вседержитель, распевающий псалмы на трех языках – славянском, латинском и иудейском, – потом все слилось в протяженные гласные – а-и-у-о, о-у-а-е, е-о-и-а, в честь каждой из двух голов Доброзлого. [21] Заметно стало, что земля словно всколебалась и сделалась крутой. Оба они, один слишком старый, чтобы сохранить и высловить случившееся, другой слишком мягкий и молодой, чтоб уразуметь великое зло – впрочем, концом конца и не уразумеешь, – как-то мирно, чуть ли не торжествующе покорились, плотью своей привлекая спешащие со всех сторон полчища. И в смерти, если то была смерть, отбивались, особенно старец. Их могил не осталось. И жил на шее и на руках. Двое или трое кричали им что-то с плоской крыши. Устиян Златоуст пребывал на месте, в вечности, смерть мостом перекинулась к другой жизни, но послушник с кровоточащими ушами и пальцами добрался, шатаясь, до осмоленной бочки, приподнял ее и залез внутрь – укрылся. «Господи! – вскричал он. – Не дай меня. Я твой покорный Андроник Ромей». Чуть только крысы подступили к бочке, Тимофей бросил в них головню. Бочку охватил огненный обруч, качнул ее, сдвинул и покатил, ноги Андроника выступали из нее, как из отверделой ризы. Шаг, подскок, шаг, еще подскок – и конец. Бочка не достигла реки, вильнула, задымленная, в сторону и покатилась по крысам к беспомощному Тимофею. Обгорелые ноги Андроника Ромея смирились. Гора крыс улеглась могильным курганом над монахом Устияном Златоустом и его послушником. Ушли, словно и не бывали. Пенится, покрывает останки их вал кошмара, стирает даже тени; не возносится ввысь молитва, утешение небес не доходит до них. Их нет. Никто, склонившись набожно над причастным вином, не помянет их, над могилой, которой нет, не разрастется герань. Какими были, с каким ликом, что за тайну крыли глаза их? Мне не удержать от них ничего, не ведавшие обо мне, расплываются в моем сознании, – забвенность, поглотившая Кукулино и крепость с живой тенью. Если и впрямь я живу по второму разу, стоило бы ухмыльнуться. С какой стати мне их оплакивать? Я был тем же, чем были они миг назад, а теперь они, и сакс и угодники божий, стали, как и я, упокойники. Встречусь с ними в магическом кругу невозможного. Как бы не так, и во сне не встречусь. Подымаю руки, скидываю паутину с ресниц. Ищу их. И впрямь ухмыляюсь. Борчило, проклятый прокаженник, расширь руки, пролети сквозь прорезь, сделанную для вельможьих стрельцов, грянься оземь, стань им оглоданным сотоварищем, не побрезгуют на крысиной трапезе и вампиром. Стою. Не ухмыляюсь. Коли решусь на такое, рот мой расползется лучами, останусь до корней зубов голым, изнутри посинелым, черным, разъятым, тлелым, грудой костей и червей, вот они, всползают уже на меня и в меня, располагаясь живыми созвездьями в адской вселенной моей скорлупы. Днем. А ночью… Малые, темные, ушастые и хохотливые твари, брюшко к брюшку спускались с серной части небес по веревке, выплетенной из волокон родителя их Сатанаила, и шастали по селу, протискивались в двери, переваливались через пороги, залезали к женщинам под одеяло: высасывали рожениц, а девицам вылизывали ступни, затыкали косматыми лапами ноздри старухам. И мужчинам чинили лихо: дыханием своим палили бороды, выцеживали семя у молодых, приманивая во сне белотелым теплом, сотворенным из теней; старикам подымали веки и терли солью глаза. И вот уже преставилась стужей упокоенная Василица Гошева, Серафимова сноха, богомолка, три года не встававшая с тюфяка. И побелели глаза у Галчо, старичка-старейшины, с рыбьей чешуей по лбу и рукам, похожего на огонек лампадный, что гаснет от дыхания младенца. И ринулись чада Сатанаиловы через ограды в загоны, от них разбегались псы, а овцы сбивались в кучу. И выслал к ним Сатанаил, их родитель, ангела своего с козьей мордой напитывать детищ своих комьями серы и напаивать отравной угриной кровью, дабы стали они еще неистовей, прославляя имя его скверностями неслыханными, от коих даже деревья застонут. И взобраться пытались на ветхие стены крепости, и унюхали мой полуторавековый дух, однако убоялись и убежали. И узнал я, что вампир не из их породы, хоть и неподвластен ангелу смерти. И чуть не околел со смеху – он ударил в стены каменного покоя и потрескал их. Я рычал, перешагивая из сна в явь и из яви в сон, засыпал, пробуждался и опять засыпал. 7. Клюв Я раздвоился: один мой глаз открыт, прислеживает из крепости за происходящим, другой спит и мыслит. Точнее – грезит. Прорастают в кругу созвездий подсолнухи, там восседают женщины с зыбками в руках. Мужчины четвертуют на граните огромную тень, в самом сердце ее, верезжа под ударами, издыхает чума. На голой земле, под солнцем и под месяцем сразу, назираю свою будущую могилу. Надо мною, упокоенным под плитой, запевают птицы, желтые и иных окрасов. Срастаются, превращаясь в огромный клюв. Некогда, в моей первой жизни, были такие старики-толкователи, были и отошли пять, или шесть, или семь десятилетий тому. Пробавлялись они сухим козьим мясом и разгадывали сны за горстку зерна и глоток молока. Теперь в толкователях – действия, сны становятся сбывчивыми. С высоты спустилось косо белое облако и звучно разорвалось поверх домов и людей, после страха, наведенного крысами, новый явился страх, а потом, если не тотчас же, с неба пала надежда. Волшба колдовки и знахаря, брань и проклятья рудокопа-сакса, послушниково отчаянье, а пуще того молитвы игумена, оставшегося костяком под пеплом, призвали отмщение. И вызвали его. Пробудили и покорили еще в живых: боги владеют помыслом, умирает помысл – умирают боги. Туча птиц с желтыми и карминовыми глазами, многоклювая, тяжкая, страшная в своем множестве, туча-громадина цапель, аистов и журавлей высылалась судьбой для расчета с непредвиденным и нежданным – с крысами: пришла смерть по смерть, явилась белая, серая, черная, клювастая. Выпрядут острые веретена кровавые нити, спустится тяжкотканый покров на мертвых, на спаленные нивы, на крыс, собранных в безмилостные легионы. Выпрядут пряжу живые клювы, разверстые от бесконечья до Кукулина, до права человека на жизнь, до крови ее. Целых сто лет призывал я смерть, если до того уже не был мертв. Даже больше. А теперь мечтал прожить хоть до сумерек, дабы стать свидетелем круговерти, приводящей сущее в равновесие, надбиблейского таинства, разворачивающегося и в длину и в ширь на тысячу локтей, врачующего боли и раны. Словно восставал над крысиным сонмищем Иезекииль из племени пророков [22]: И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу. Крысы вдруг прекратили напуск на людей и скот, на собак и прочую живность. Я исчислял жертвы тысячами по черепам – человечьим, скотьим, собачьим, скоро придется их один к одному. Защищаясь укусами от клевков, крысы увертывались и цеплялись за птичьи лапы и крылья, нащупывали под пером мясо и жилы. Трещали крысиные хребтины и вытекали глаза, и все равно оставались они легионом огромным с легионами за собой. В темном бурлении гибли, срываясь в гниль, птичьи стаи. И вдруг в мгновение ока надвинулась новая пернатая туча, низринулась, многокрылая, из круга замутненного солнца под дикие клекотные псалмы орлов и соколов, пустельг, бекасов, сорок, ворон, скворцов, удодов, сов и филинов и с ними долгоносых ибисов с Нила – я их видел сто лет назад в фараонском Египте, когда был беглецом пред ловцами вельможного Растимира, заколовшего великого Лота, выпестованного в колыбели Ромула и Рема, обученного на холме Святой Женевьевы в далеком городе [23]. За той накатила третья туча: сойки, коршуны, дрозды, галки, рябчики, дятлы, стрижи. Чтобы уцелеть в стихии уничтожения, стаи опускались с высоты окоченело, на словно бы омертвелых крыльях, и крутыми рывками. А под ними корчилось в собственной крови и помете крысиное племя, убегало от клюва, но оказывалось в огне, увертывалось от огня, чтобы налететь на клюв. Наконец, ослепленные и без надежды, крысы кинулись друг на друга, не узнавая своих. Не считались ни родством, ни племенем. Лот, доучившийся до магистра, оставивший книги в моей крепости, был бы удоволен: всякий вид, по его разумению, сам себя истребляет в безумии – и потомство и семя свое. Зло из себя выделяло зло в обличье крысиного Арнольда из Амальрика. [24] Засыпаю. Без сна. Дух мой бродит по полю брани. И возвращается. Его место здесь, в незримой скорлупе моей призрачности, никогда не ложившейся в могилу и никогда не встававшей из гроба. Борода мне покрывает колени. Сзади волосы волокутся тенью – моя постель и покров. А солнце меж тем на какой-то мертвый миг пропадало; убежав от чада, появилось на другой стороне, у городских боен. Ненадолго оставалось отмерять людям будущее. С верезжаньем и писком распадалось в призрачном лунном свете крысиное месиво, образуя петли и закручиваясь в узлы, забивало овражки, рядами или безрядьем вливалось в большие и малые потоки, растекавшиеся среди рощ и скал, уходя в песчаное забытье и тлен, отравляло травы зловонием разверстых, разодранных, насквозь проколотых крысиных утроб. Огни притаились от загадочных криков сов и упырей. В болоте, за тростником и водяными цветами, покачивался челн. На песке возле него лежал один и еще один скелет. Собачий вой и плач покусанных людей не давали ночи уснуть. Уцелевшие падали изнеможенно где придется. Не настолько мертво, чтобы не скорбеть о мертвых. Завывали. Раскладывали костры, в их свете походили на подвижные известковые изваяния, изможденные и без лиц, без шепота, без молитвы и брани. Что будет дальше, не ведали – пошатнулся разум: небеса покоятся на столбах, они не обрушатся, оставляя за собой юную голубую кожицу нового неба. Плач по мертвым напоминал умирание. Петкан просил у молодого Тимофея воды – «ты с мечом теперь, стало быть, в главарях». «Возьми, – подошел к нему Тимофей, – в мехе есть вино». Петкан, напившись, вздохнул: кабы меч саксонца захватил сынок его Парамон, походил бы на Растимира-князя, когда-то повелевавшего дедами. «Нету тут никакого Растимира, дядюшка Петкан. А у птиц свой князь. Вон они, на подходе». Крысы устилали сухую землю покровом, готовя мертвецкое ложе для новоявленной смерти. Были всякие – вспухшие и раздутые, покусанные и опаленные, поклеванные и изувеченные, словно бы выползшие из кошмарных видений. Когда-нибудь милосердое время разгонит их тени. А может, ветер, ярко-оранжевый ураган, ударивший вихрем в вихорь рваных шкур и развеянных перьев. Буря вдохнула в пожарище каплю жизни. Притаившиеся огоньки зарделись, превращаясь в раны ночи и дня. И тьма, и восход, и полдень исцеляли раны, зализывая их по-собачьи росным или сухим языком, а месяц и солнце накладывали на них серебряные и золотые мази. Потом буря воротилась в свою горную колыбель. На земле среди всяческого трупья остались мутные лужицы. Унялись и птицы, и крысы. Хлынул дождь, разбегаясь потоками. Небеса умывали землю, призывая ее дышать и грезить о хлебе. Порядок жизни, по Лоту, в его и в мое столетье таков: Ambitio – славолюбие. Diskardia – несогласие, Bellum – сражение, Caedes -резня, Mortis – смерть, всегда по тому же кругу и под тем же знаменем. И все-таки это была жизнь и надежда. Не приходит сон, и я спрашиваю себя, бывают ли сны у мертвых и что им видится под покровом из заклеванных крыс и разодранных птиц. Сельчане бродят среди домов и угрюмых деревьев, подбирают то одну, то другую птицу, которые поцелее. Вот старейшина склоняется и подбирает бекаса. Взвешивает на ладони, насытит ли его, сваренный да подсоленный. Илларион, алчный или оголодавший. Держит в руке окровавленного бекаса, другой роется в месиве и находит сойку. Не только он. Еще двое-трое поспешают домой, каждый со своей птицей. Знамение смерти или что? Птица и человек были товарищами по жизни. И вот теперь птица и человек собрались на пир, где под винцо, глядишь, кому-нибудь и запоется. Петкан, усевшись на камень, считает на пальцах. Семь или восемь дней во рту не держал мясного. Встал и пошел за своей птицей. Парамон со злостью за ним следит. Потом машет рукой, возвращается – проклятое старичье, перестает слушаться молодых. Серафим присел за сараем. Старейшина помоложе завязывает ему гашник и опоясывает. «Так и знал, – шепчет про себя, моргая глубокомысленно. – Не будет дождя, Давидица пересохнет. Слышишь, завтра будем вкушать камежник». Дооправив его, старейшина смерил глазами птиц в руках у Петкана. Зашелся злостью: «Прошлой неделей, как куры у нас от чумы поколели, Петкан пустомельный натрескался мяса. А нынче примется за мертвечину – почнет птиц раздирать на ножки да крылышки». «Да, – поддакивает Серафим собеседнику про себя. – Петок нынче, надобно бы поститься. Меня вот что мучит, Мирон. Неужто и князья пост держат так же, как чернородье?» Мирон насчет этого сведущ: сын повешенного Деспота, и имя его припомнил – Фиде, отличился в сражении, сам князем не стал, зато попал в первые люди к кому-то из городских князей, пост держит не как простые, а по вторникам да четвергам. «Фиде тот хромал, так ведь? – попытался Серафим что-то вспомнить. – Белый такой, иссохший». Мирон ухватил черепашку, норовя двумя пальцами вытащить ее голову из твердой брони. «Нет, Серафим. Хромала и хромает Фоя, жена моего кума Гргура. А Фиде не белый и не иссохший. Белых да иссохших князья в первые люди не берут». – «Помню, помню – синий, с большими зубами и кулаки здоровые, а под глазами оспой изрыт. А у кума Гргура – знаешь? – нос восковой. Оттого он к огню и не приближается». 8. Адофонис Глупость не покидала Кукулино. Вечером под звуки рога засновал по домам глашатай, оповещая всех, что первый старейшина после победы птиц, явившихся на зов его из святой земли, с одобрения старцев провозглашается князем Серафимом Терновенчанным и повелевает, дабы все, и мужчины и женщины, присягнули ему на верность. Сходились, не имея сил изумляться, бледноликие, потемнелые от дыма, у многих раны под льняными повязками, ждали, и ветру не удавалось отогнать сон с ресниц. Зазвенели бубенчики, отзывавшиеся ранее лишь на снежную масленицу. Из дома-каморки с распахнутым ставнем на крохотном оконце появился новооглашенный князь, и не в портах завшивевших, как дотоле, а в женском наряде с пестрыми рукавами – из платья только это оказалось сохранным, – и вознес руку. Невнятный шепот, затихая, сошел на нет – отступил перед короной, сплетенной из веток, не из терна. На стариковом челе словно бы светились капельки крови, а нос его казался в лунном свете посеребренным. И голос звучал серебряно, хотя неподалеку согбенные женщины голосили по мертвым. «Ныне, в день седьмый четвертого месяца, в лето шесть тысяч восемьсот и какое-то великим изволением судьбы я, Серафим, от отца Никифора и матери Мендуши урожденный, нарекаюсь князем над людьми и птицами и призываю всех покориться и ступить под мою защиту: на огненной кобылице с хвостом изукрашенным поведу вас завтра в святую землю. Ладаном покурите да принесите питья пьяного – ради празднества столь великого жалую барана и бочку вина». Ему заметили, что барана у него нет и питается он не вспоможением родичей, а мирскою милостью. Он и сам вспомнил, что барана нет. «Отныне все, что ваше, будет мое, и я из моего вас пожалую. Женюсь, не оставлю вас без наследника». Спросили, в замке ли он будет жить, как подобает князю. Вздрогнул. Глянул искоса на бойницу, где невидимо притаился я, и обмахнулся крестом. Серебро на носу потемнело. «Везде буду жить, пребуду и в вас, и на небе-си. Привиделись мне во сне птицы – и вот прилетели, привидится завтра, что крепость порушена, – и порушится она по сну моему». Он словно вздымался. Земля под его босыми стопами пропитывалась мочой. «Песню! Я князь ваш, Серафим Терновенчанный, и пусть пляшет предо мной нагая женщина, та, которую я возьму в жены. Быстрее, немедля, сей же миг, дорогие подданные». Свитские его, старейшины, засыпали стоя. Сон перекинулся и на остальных. Не успевши сделать следующего сообщения, новоиспеченный князь мягко осел на землю и, утянув к подбородку колени, заснул. Промчалась над ним и сгинула летучая мышь. Кое-кто, присоединясь к старику, улегся, прочие разбрелись по своим норам. У иных домов не осталось хозяев, а у иных остались пепелища вместо домов. Петкан забрался под чью-то бочку и опьянел. Перед ним встал Парамон. «Знаю я, батюшка, пошто ты старейшин подговорил напялить на придурка листвяную корону. Выведу-де в князья, упьюсь вволю. Заставлю-ка я тебя выкопать ямку да в нее улечься». И поглядел на погост. Там зарывали мертвых, мелко и поспешно, словно их могли отобрать. Не знал тогда ни он, ни Петкан да и никто другой, что позднее, в один из изнурительно знойных дней, зародится предание про оранжевый вихорь, что привеял женщину с облаком в руках. Излучала из себя серебро, затирая и следы крысиные, и их прах. Поначалу была одна, потом разродилась двойней, чтобы было кому на нее дивиться. Дело ясное, приметили ее только двое – Гргур с восковым носом да жена его Фоя. Меж тем во время пиршества смерти стена крепости, необитаемой по общему мнению, треснула. Под трещинами в тени не было теперь ни бранящихся, ни обнимающихся, ни бондарей, ни горшечников. Все, вплоть до месяца за горным утесом, было запечатано ужасом. Мгновение – и смерть мертва. А я? Один в крепости. Без достояния, без дат рождения и смерти. Могилы и той нет. Склоняюсь над старой книгой, которую переписывал Лот, страницы под пальцами распадаются. Я – грамотей. Устоявший в морской пучине и в бескрайних песках пустынь. Между Сциллой и Харибдой обучившийся языкам. И знаю – все лишь повторение. Размножатся крысы, не станут они, подобно Онану, грешившему с женою братовой, бросать свое семя попусту. Думаю об этом, а колени у меня подгнивают. Четыре раза на день молюсь, вернее, простираюсь ниц – гниль на гнили. Безбожный богопоклонник или еще хуже – набожный еретик. Грешу, соприкасаясь с живыми. Одиночество не знает греха. И вот – явилась. Какая-никакая живая душа явилась в крепость. Я стоял возле узенькой прорези для стрельцов, осмоленные волосы падали на глаза. И видел тени от спаленных домов, и слышал ночное журчанье воды и плач, звериный ли, человечий, – смутный голос со смутного расстояния. Почувствовал, что не один, и оглянулся. В углу покоя (в нем когда-то давно Растимир, властелин кукулинский и окольных сел, голым плясал перед гостями-латинянами) поднималась на задние ноги крыса. Подползала к старинному византийскому шлему, с усилием утягивая хвост под себя, чтобы сделать его короче и незаметнее, голова вжата во взъерошенную шерсть. Со дней моей грешной юности знал я колдовское уменье зверей сникать – белое в белом, темное в темном, – скрадывая движенья и голос, становиться комом снега и грязи. Крысе меня не обмануть. Я заковылял, поскрипывая суставами, нагнулся, чтобы убедиться в коварстве зверя – он сжался, пытаясь слиться с тенью шлема. И хоть глаза затянуты были пеленой усталости, можно было углядеть в них страх и злобу, вечных спутников поражения. Неслышно, подрагивая телом и пошевеливая передними лапами, зверек старался нащупать в камне под собой трещину, чтобы, забившись туда и набравшись крепости, дождаться своей Евы для нового, наиновейшего завета злоумышления, для возрождения и продолжения евангелия крысиного. У зверя не было сил бежать, он, впрочем, и не пытался. Я его прихватил за загривок и поднес к глазам. Зверь заскулил. Вытянув лапы, искал под собой опору. И вдруг, весьма для своей изможденности прытко, кусанул меня промеж глаз. Зажал в челюстях кожу. Острота его зубов не причинила мне боли. Разозлила. Вытащив из-за пояса нож, я пытался разжать ему челюсти. Острие коснулось мякоти за зубами, надо полагать языка. «Адофонис! – Я решился его заклясть. – Даже если ты зовешься иначе, отныне будешь носить это имя – Адофонис, понял?» На галере, где я плавал, укрываясь от чужого гнева, был один такой Адофонис; за неуемную ругань благочестивый араб с кольцами в ушах урезал ему кривым ножом язык. Араба на каком-то острове поглотил вихрь сражения, не дав напоследок повторить из пророка Мухаммеда: Я был скрытым богатством, но возжелал быть познанным и для того создал мир. Пал от меча крестоносца, не бранясь и не проклиная. Стиск крысиных зубов ослабел. Только с порога, из соседнего стылого покоя с гробницей, доносилось жалостное верезжанье. Я выпрямился и сильным махом запустил туда окровавленного самца. Поспешай, Адофонис, ждет тебя твоя Ева. И заковылял следом, уверенный, что не увижу его размозженным о камень. Я не ошибся. В покое пусто, только гробница под плитой, на камне имя – Борчило. Много лет назад выдолблены эти семь букв. Гроб там, я тут, и повсюду плесень. И вдруг, прозрев истину, я ужаснулся. Последняя крысиная пара восстановит крысиный род. Крысы примутся распложаться и отомстят за поражение. Бросился искать их, чтобы истребить. Тщетно. В крепости, со многими покоями, большими и малыми, с сенями, очагами, пекарнями и поварнями, караульными, кладовками и молельнями, стиснутыми камнем, и быка не сыщешь. Зашагал, тень без тени. Упал. Колени встретились с холодом истертого мрамора. Борчило, прорычал я из усохшей селезенки, из потрохов, из костей. Недостало тебе ума убить его: Адофонис завтра же явится в другой коже, в человечьей, ласковый и лукавый, еще лукавее будет его жена, придут вдвоем, и никто их не признает– только души у них будут крысиные. Да что там явятся, они уже здесь, в Кукулине, волосатость прикрыта магией, беленькие, суть их знает или угадывает лишь тот, кого избегает смерть, кто-нибудь из вампирского рода. Кто-нибудь? Я, Борчило. Лучина моя погасла с шипом, расстилая чад. Верезжащая угроза выползала из пустынного мрака. Растревожилась летучая мышь. Невинная тварь, несправедливо причисляемая к нежити, тоже уловила угрозу. Трижды пролетела надо мной и ринулась через бойницу к месяцу, к его мертвящему холодному свету. В крепости из-под мрака выпластывался другой мрак, душный и задымленный – осязаемый. Натянуть можно, как капюшон. Сморщенными ладонями стискиваю ребра, чтобы не развалиться. Ведь, даже обратившись в скелет, я не сделаюсь упокоенным – без боли и без предчувствий в черепе. Я понял твою угрозу, Адофонис! 9. Воспоминания, ловля Не поклевывай, подобно птенцу, а борись. Кто ее строил и для кого, не имеет значения, крепость лежит, окованная цепью теней, покорствуя времени. И умирает заодно с прошлым, умерла уже – гложут ее дожди и стужи, крошит ветер, время берет с нее дань. Во дни моей забытой почти юности, перед побегом из Кукулина в далекие-предалекие края, крепость была вельможьим гнездом, прибежищем для воинов и блудниц, стылой камерой для непослушных. Сам я не из благородных, оказался только в их приближении, надо мною и над остальными высился Растимир. Обличья мягкого, с осветленными волосами, целиком погруженный в свои и чужие блудни, он скрывал в себе неукротимую грубость. Умных и догадливых не любил. Ученость приводила его в бешенство. Некогда он, а может, тот, чье имя и славу он присвоил, ратоборствовал с еретиками и с чуждыми племенами, потом предался порокам. Волосатый и жиром заплывший, с глазками без ресниц, он выглядел бы как должно с хвостом, и кто-нибудь угадал бы, что его имя – Предупреждение. Зло меня разбирает и гнев при мысли, что и без хвоста он уже тогда походил на крысу. На родителя Адофониса, галерника, которому араб отмахнул язык, или этого вот, окровавленного, затевающего нынешней ночью свадьбу. Растимир, с накладной густой бородой из конской гривы и с выбеленным, словно у каменной римской богини, лицом, всячески избывал людей: раздирал на куски, привязавши к хвостам двух коней, либо, обмазавши медом, прикручивал голыми к столбу посреди муравейника. А то, накормив до отвала, заставлял бежать и ловил. В этих краях чернолесья лучшие погибали, не дождавшись собственной свадьбы. Я терзался ночами в снах о его могиле. Просыпался и понять не мог, где сон, а где явь: в одиночках за окованными дверями гнили цепями подвешенные к стенам узники. Не мошенники и душегубы, не грабители и святотатцы – истреблялся род моего рода. Растимирово свирепство подталкивало меня к адской пропасти, собственная же немощь доводила до безумия. Как помочь униженным, злобой и тиранством отринутым несчастливцам и страдальцам из моего края да еще ограбленным купцам из неизвестного города? Сейчас все равно, был ли я заводчиком сельской смуты против лютости Растимировой (он тогда, в подражание где-то увиденной иконе, носил белую бороду и белую накидку, обшитую синим и золотым) или только умышлял ее. В ту пору после семнадцати лет безвестного отсутствия воротился из неведомых земель Лот, привез на трех мулах всяких книг и молитвенников. От него слышал я о битвах разума с силой, учился языкам, врачеванию, письму, истинам. Прошла молва, что Лот наставляет меня против Растимирова гнета и в науке Христовой. Сельчане, относившиеся к Лоту с почитанием, стали уважать и меня. Из-за того, что я охотничье копье променял на книгу, меня возненавидел вельможа. Схватили меня внезапно, в осеннюю грозовую ночь, из постели, непроснувшегося и дрожащего от лихорадки, погнали ударами. Окровавленный, не готовый к защите ни мечом, ни словом, я угодил в оковы. Стал живым трупом в цепях под низким потолком, выцеживающим воду и страх, в подземелье без выхода, но со входом – в глубь земли на двенадцать ступеней. Сюда не достигало ни солнце, ни любовь жены. Позднее я узнал, что в одну из разгульных ночей пятеро женихов насильно справили ей новую свадьбу, рвали ее и кровавили впятером, обрачили ее вторично, отчего и пришелся мне Тимофей внуком от крови чужой. Предначертание судьбы: целую зиму пролежал я, окованный, в темноте, заработал ломоту в костях, однако и тогда смерть от меня бежала, не признавая своим. Весной, когда, всеми забытый, я почитал себя мертвым, явился вслед за ключником и в сопровождении стражника с факелом Растимир – запыхавшийся после одоления двенадцати ступеней в подземелье, как ни странно, с благостным ликом. Выпрямился под накидкой из багряного шелка, отделанной золотой шерстью, на ухе покачивался дубовый листок тоже из золота. Ни меча, ни ножа, только на поясе три побелевшие черепушки мелких зверьков – барсука ли, выдры или хорька. Приказал осветить мне лицо, вроде бы растужился над темничной моей изможденностью, а сам просто-напросто испугался. Спросил меня с изумлением, за что оковали. Слепой от многомесячной тьмы, я глядел на него. Молчал. Терпеливо, с участием, шуршащий и позвякивающий от кож, шелка и драгоценностей, он повторил свой вопрос. Ключник пнул меня ногой. Чтоб поднялся. Я попытался. Безуспешно. Сросся с соломой и калом. Растимир повелел на коленях просить у него прощения и поклясться в покорности. У меня же не было сил собрать слюну и плюнуть – чтоб, униженный, прекратил он мои муки петлей или секирой. «Сам знаешь, ты да господь, как я тебя любил, – покачал он головой. – И мертвого тебя буду любить. В покое наверху готовлю тебе мраморную гробницу». «Я еще не умер, – тело мое повело судорогой, – грызли меня скорпионы и глодали мыши, но я все равно живой». Он вздохнул. «Ты не будешь живой, коли не убежишь от моих людей. На тебя будет устроена ловля. Над этим потолком гроб, и он ждет тебя. На нем твое имя. Прощай же, ты – мертв». В тот же день за мной пришли лохматые воины и слуги. Не были грубыми, казалось, им любопытно взглянуть на меня после стольких дней. Я оперся на них всем своим поубавленным весом. Ослабевший от голода, с отверделыми суставами, я учился одолевать двенадцать ступеней среди тесных заплесневелых стен. Подвели меня к столу с мясом, молоком и вином. «Подкрепляйся, – отодвинулись от меня. – Через две недели, в самый день Воскресения, будет лов». И ушли. Обросший, словно хилый зверь на хилых ножках, я подковылял к столу и ухватил здоровый кус мяса. И тут до меня донеслась песня – веселились моей скорой погибели. И прежде чем зверски вгрызться в баранью лопатку, я сообразил: если кормежка не убьет меня сразу, я расхвораюсь от нее, сделаюсь неуклюжим и облегчу ловлю Растимировым людям. Я одолел голод. Привыкай, ешь полегоньку, уговаривал я себя, кусок за куском, чтобы выдержало сердце, кровь и каждая жилка. Приблизил кусок мяса к зубам. Жевал долго и осторожно. С того дня вышагивал от стены к стене, засыпая с мраком и просыпаясь перед зарей. Учился стоять на ногах, наращивал мускулы – поднимал дубовый стол, сперва с усилием и задыхаясь, а потом все легче. «Плохо ешь, Борчило», – печалились лицемеры, освобождая меня от бороды и волос. Тайком, а может, и с повеленья лечили мне струпья топленым заячьим салом и зверобоем, вместе с мясом приносили свежую и сушеную рыбу, творог, черепашью кровь, знакомые и незнакомые овощи, жареных куропаток, яйца, мед, кобылье молоко. Шестой день был на исходе, когда под двойной стражей повели меня купаться на речку. От студеной воды легкие мои словно открылись. Я пил солнце, растирал тело песком, хотя на возвратном пути горбился и обманно прихрамывал. Знал, что за мной тайком наблюдают из крепости, лакомо ухмыляясь в предвкушении ловли. Моя тень для них – продолженный труп. Им хотелось видеть меня ослабшим, таким я и представлялся. Спасение мое было в хитрости, в умении их обмануть. И тут я увидел его краешком глаза. Высокий, с лицом, удлиненным ровной бородкой, – мой духовный родитель Лот стоял перед крепостью и глядел сквозь меня в далекий, ему одному доступный мир. И сам он, вроде бы прощенный или забытый, был от смерти на волосок. «В обратную сторону от вчерашней, – промолвил он. – В обратную, иначе конец». Я не понял его, но разъяснения спросить не успел – он посторонился и уступил мне дорогу. Я не обернулся. В обратную от вчерашней, иначе конец! Господи, что еще за загадка? Проникну ли я в эту тайну за неделю, оставшуюся до часа, когда меня будут гонять и ловить, точно борова, откормленного для пущей потехи человека с оружием? Разумеется, в загадке Лотовой упрятан совет, только понапрасну я вырывался ночью из мутных снов, совсем понапрасну. Днем я про то не думал – бегал от стены к стене, старательно изнемогался, возвращая былую силу костям и мускулам. «Вставай, Борчило, – двери по истечении двух недель после Растимирова посещения открылись, – ты окреп, охотники ждут». Я встал и молча пошел перед копьями. Меня встретили солнечное утро, любовные крики прирученных павлинов и зеваки. Я не спешил. Прихрамывал, уверяя, что ловцам со мной хлопот не будет. Снаружи, в тени крепости, сидел за богатой трапезой Растимир (считался князем, и так к нему обращались), в новых по обыкновению волосах, лиловатых и кучерявых, с лицом неестественной белизны, наведенной с помощью ртути и трав. Рядом, в пестром левантийском шелку, тоскующе вздыхала Аксинья, жена Растимирова и ложа его наисквернейшая часть, желтая и белогубая, то ли купленная, то ли привезенная на седле из какого-то побежденного племени, лишенная морщин и души. По правую руку их восседали на добрых конях три загонщика. За ними стояли начальники стражи, экономы, сокольники, советники и двое перепуганных купцов, менявших маслины, соленую морскую рыбу, белила и шелк на золото, серебро и меха. Поблескивали в весеннем солнце хорошо отточенные секиры. Таким оружием да на ретивых конях не мудрено посечь и самую проворную лисицу. Один из ловцов был мне некогда другом, Лексей, однолеток мой и наветчик, с потухшими глазами – казалось, они от мертвеца пересажены на жесткое его лицо. У всех троих кувшины с вином, однако прикладываться не спешили, надеялись выпить за помин моей души – выше их был только господь, но они вознеслись и над ним. Позднее понял я, что в тот день усилил ненависть их к себе, свою же к ним нет – она и так была велика. Втайне, краешком ума, я знал – ненависть крепит меня, помогает не сдаться. И тут за слугами я углядел его, сухоликого Лота, с обширным челом, хоть лен на нем высевай. Между ним и мною все еще витала загадка: в обратную сторону от вчерашней, иначе конец! Мне не удалось разгадать шевеление старческих губ, подтолкнули в спину, и я, не медленно и не быстро, зашагал по земле, отверделой от конских копыт. Охотничий рог голосом глухим и хриплым оповестил, что дичь пущена. Ловцы выжидали мановения руки властелина и нового приглашения рога, я же, не оборачиваясь, осваивал простор пред собой и видел словно впервые ласковые подножья бесснежных поверху гор и ниву с молодой пшеницей, где не укрыться и лукавой рыси. Распростертый среди колосьев ничком, я стану похожим на утопленника в мелководье. Как обычно во время подобной ловли, даже более, чем всегда, Кукулино казалось пустым, вымершим, без вздоха и голоса, хотя сельчане, наверное, наблюдали тайком, как я ускоряю шаг и мчусь, но не к горе (в обратную сторону от вчерашней, иначе конец – вот он, ответ на загадку), где ловцы всегда посекали добычу. В обратную! Именно так, в обратную! Я устремился в открытую котловинку, что сходила к мелкой Давидице и, убегая от речного течения, зарывалась в дубовую рощу. Я был уже далеко, когда снова захрюкал рог, по-свинячьи, с сипом. В котловинке, среди деревьев, остановился. Из рощицы на все стороны расходились прогалины. Я обернулся: двое, залегши над конскими головами, лицами в летящие гривы, взяли вправо от меня, к горе. То ли ожидали, что я сверну в ту сторону, то ли из причин, только им известных, не больно домогались моей головы. А может, хотели, сделав круг, погнать меня прямо к Растимирову столу, чтобы на его глазах в куски изрубить тяжелыми боевыми секирами. Третий всадник, не разглядеть кто, гнал коня к дубняку. Я был частью Лексеевой жизни, он знал мои хитрости и уловки увертываться из беды. Он. Я разглядел его из-за ствола, к которому, задыхаясь, прижался. Алчущий, но не бесстрашный, он добрался до заметного следа и натянул поводья пегого коня, того самого, что отняли у меня вместе с прочим добром, когда забили в оковы. Застыл недвижимо, приподняв голову меж лошадиных ушей. На его месте я бы, честолюбие придержав, дождался остальных – от трех секир увернуться куда труднее. Посему я заспешил. «Лексей», – кликнул я. И подумал о наших ночных шептаниях, о поучениях и научениях богопокорников (ежели чувство умом овладеет, узришь бога в зерцале внутреннем) и еретиков-богомилов (свет божий – только энергия), а он меня обвинил в отпадении от веры. «Лексей, сюда!» – прокричал я. Он услышал меня и поднял руку с секирой, я же помнил, что честолюбие, хоть и вылупляется из яйца страха, бывает сильнее страха и обманутый только раз дается в обман, решающий и судьбоносный. «Где ты?» – слабо отозвался, в горле у него пересохло. «Скорей, – подзуживал я его, – опереди тех двоих, я здесь, ноги себе исколол». «Выдь, Борчило», -взмолился он, словно я смертью своей обязан был доказать наше дружество. Я в ответ изобразил немочь, заклинал его подарить мне избавление от поругания и мук. А сам его караулил, незримый. Он выпрямился в седле и глянул на сплетение горных тропок, за которыми скрылись загонщики. Хотел было их позвать, чтобы вместе погнать меня к пиршеству и на видном месте посечь, но, видимо, побоялся, что они окажутся более прыткими и управятся без него. «Я здесь, Борчило, – шептал он, желтея. – Иду. Несу тебе избавление от поругания и мук». Насторожив уши и подрагивая ноздрями от своего какого-то страха, пегий тонконогий конь зашагал среди дубовых стволов. Я был в укрытии. Мог настичь их несколькими шагами. И настиг – неслышными прыжками, босой, кинулся на Лексея сзади и стащил, без труда отобрав секиру. Он упал на бок в сухую траву, в глазах полопались жилки. Удивил его голос – спокойный. «Убьешь меня, неужели ты забыл наши ночи?» А руку медленно двигал к запоясному ножу – надеялся меня обмануть. Не давал мне возможности оставить его в живых: тогда завтра по повелению жестокого Растимира его самого гоняли бы, точно зверя. Я замахнулся тяжелой – в полмодия [25] весом – секирой. Треснул лоб, брызнул мозг и вместе с ним надежда, что это еще не конец. Я погнал пегача с диким криком. В дубняке остался лежать Лексей, в смертных корчах, я же уходил от его дружков по лову, которые уже выбирались из кустарника у подножья горы. Их попотчует смертью Растимир. Их, а за ними Лота – сельчане считали его вестником божиим, он мог их поднять на бунт. Дополнение. Ныне, когда тринадцать десятилетий минуло со смерти Мануила Комнина [26], коему Растимир оказал непокорство в младые лета, ему или наследнику его Андронику, обратился я к тому далекому прошлому со смирением и по изволению судьбы, дабы пережить мгновенное избавление от смерти, но не от грядущего, что проницает кожу мою и кровь – пустоту, где когда-то ходила кровь. Ночь сегодня – женщина в странствии. На одном ее бедре Кукулино, на другом – крепость, где ползаю я вокруг гроба, уготованного Растимиром, не сумевшим меня в него затолкать. На плечи ей мягким влажным плащом опустилось облако, на темени взблескивает серебряным яблоком месяц. Обволакивает меня поступью и волосами, укрывая тенью своей восток и запад. За ночью следует ночь. Солнце дважды упускает свой миг рождения. Больше, если меня не обманывает сон и одно из тех безумных видений, коими меня одаривает временами судьба. Надо мной – нетопырь, выпрядает мне из тьмы черный нимб и каноном [27] меня долбит – в девять писков. Я святой для него, он – мой бог. Налакаюсь крови его и воспряну, он во мне заживет своей плотью, станет частью моего сознания. Воистину, ночь – это женщина, я бросаю семя в нее, и она рождается и рождается, обновляя себя. Лот, Растимир… Жизнь разделяла вас, неужто сблизила смерть? Безмолвие. Тоска. Склоняюсь над своей гробницей. Вот он я, возлегаю на камне, скрестив руки на иссохших ребрах. Борчило, кол осиновый для тебя, вампир. В пупок. До новой кончины, до избавления. А снаружи подходили с криком. «Серафим, – орали, – старейшина, вознеси нас, княже, стань нам спасителем!» Я снова корчусь без сна.  Наум, пророк: И будет так, что всякий, увидевший тебя, побежит от тебя. [28] Я, Борчило: Живым меня воочью не узреть. ПЕСНЬ КРОВИ 1. Заблуждение плодится чудесами Назирая пустошение и морок, учиненные крысами, старейшина Серафим и думать забыл про корону из терний и про женитьбу. Растужился, что у Кукулина нет своего святилища – обильное гробами злосчастие уразумел как наказание божие за прегрешения дедов, богомильским обычаем хуливших бога, хотя, правду молвить, кукулинцы и знать не знали, кто такой Богомил. Со сладостью душевной толковал старик о строениях с вечными сводами и алтарями, с ликами святых по стенам, кои суть часть земли и часть неба, а при том ни то ни другое, а некий третий, особый мир. И все это, запивая молоком и заедая хлебом: церкви строятся и освящаются, дабы корень человеческий держался в родной земле, дабы заступали они от сил тьмы, дабы коленопреклоненные и смиренные обретали в них прощение и утешение. Старцы старейшины пошевеливали вялым разумом и пустыми словами. Надобно, мол, строителям дома божьего иметь старшого, кто им будет? Кто-нибудь, хоть кто. Правнука моего без моей крови, ребрастого Тимофея, не выбрали. Выставили своего избранника, некоего Русияна. Он поведет строительство церкви. Дали благословение и забыли. Остальные строители, и Тимофей в том числе, обещались слушаться новоиспеченного зодчего и вожака. И вот, в жаркое лето, когда крепла вера в то, что крест станет защитой от призраков, упырей и крыс, после долгой молитвы пришлого монаха с одним (другой прятался под повязкой) глазом, и для зверя великоватым, начали возводить церковь – четыре стены и алтарь. Не заготовили ни лесов, ни канатов, ни воротов для деяния, призванного восславить столетие. Величие оставалось в помыслах, за большой церковью не гнались. Перестали бочарничать и выжигать из глины горшки, в покосившейся кузне понавесилась паутина. Коз и скотину бросили на молодых, жать выходили бабы. Отыскали место, где легко добывался известняк, и на двуколках, запряженных мулами, подвозили этот пористый камень, днем и ночью, непрестанно, без передышки. По замыслу старого, невесть откуда взявшегося монаха строительство повели на высоком берегу Давидицы, вблизи древнего ореха без гнезд. В этот день, серый, скорее желтый, с желтым небом и без радужных дуг, повсюду деялись чудеса, которым не находили истолкования, только крестились ошалело. На Город ударил град и зашиб верблюда купца из Кавалы, потом обрушился ствол дерева с неведомым плодом, из-под коего показался череп величиной с кадушку. Утром, лишь только отозвались петухи, бородатые гусеницы оглодали в деревнях груши, а на южных холмах под обителью Пантелеймона на древесных ветвях повисли вздернутые собаки – оберег против зла – плод, волнами испускающий новую жуть. Олень носил на рогах ангела с потемнелыми крыльями; рыбы отыскивали чистый песок и зарывались в него; отродились со сросшимися бедрами близнецы; над мертвым городом Стоби [29], известным лишь понаслышке, небо разодралось, как высохшая кожа. В изумлении великом позабыли про пост. Мясом упитывались и по пятницам, жрали по полмодия на дом. Спешили резать скотину: у той деревенели задние ноги, вспухали шея и челюсти, все равно поколеет. После солнечных закатов перед самыми звездами дули малоазийские ветры, в хвостах принося песок. От них арбузы высыхали под коркой, козы маялись глазной хворью – выдирали шерсть друг у друга. Пошло пьянство. Пили каждую ночь, будто она последняя. «Не беситесь, – рычали Русиян с Тимофеем, – никакая ночь не последняя». Дела, однако, не покидали. Уподобившись летним муравьям, люди суетились на стройке под недреманным оком пришельца в рясе, мошенника или монаха по имени Данило, Арсений, Сидор – когда как. А звали его Апостол Умник. На берегу, где колышками был отмечен фасад, копали землю, словно исполины дорывались до самого ее сердца. Черноризец подскакивал и требовал копать еще глубже. Спрашивали, не ищет ли он костяк родителя своего на козьих ножках. Придурковато хихикали, пытаясь освободиться от тягостных дум и предчувствий. Над ними нависали Тимофей с Русияном, грозились, что оставят без медовины. Те скалились – упьются ночью и без ихнего изволения, как прибудет смена. И, словно упившись уже, запевали глухо и несогласно. Кто-то крикнул: нашел! Его окружили плотным кольцом. Человек держал на ладони сережку из золота. «На этом месте быть алтарю, – торжествующе воскликнул монах. – Копайте. А сережку я схороню в своем кошеле. Завтра купим на нее ладану и чашу для причастий». Нашедший клад возмутился. За этот кусок римского золотца он получит меру муки. А ежели хорошенько над своей находкой подумает, а думать-то он горазд, может, и богачку себе в жены добудет. Человек этот, живший неприметно, – я знал, он и помрет неприметно – так виделся с крепости: одна сторона лица желтая, другая зеленая, долговязый и на ногах нетвердый, с улыбкой блаженного барана, вспомнилось и имя его – Ипсисим, завтра кто-нибудь его помянет в молитве. Вдовствуя уже долгое время, мечтал он взять за себя богатую, хотя на него не льстились даже перестарки, без приданого и без огня в глазах. Баранья улыбка его растянулась по зеленой стороне лица: зеленое – цвет мечтания и радости, покров молодости и весны. Он расслабился, мечтательно вглядываясь в пустые дали. «Копай давай, – зыкнули на него. – Где нашлась одна, найдется вторая. На этом свете только старейшина Серафим одноухий». И щерились, показывали желтые зубы. Каждый надеялся сыскать вторую сережку и упрятать ее украдкой. Посему Апостол Умник пялился им в уста – кто не болбочет и не поет, нашел сережку с сапфиром и прячет под языком. Золотую сережку монах уместил под жеваной и штопаной-перештопаной рясой, а Ипсисим, уже без бараньей улыбки на устах, скрестив руки, возмущенно скреб себя под обеими мышками. «А другую ежели ископаю, тоже отымешь?» – спросил он. «Работай, – пристрожил его Апостол Умник. – Ископай сперва, а там поглядим». В полдень притащился облезлый пес и выгреб из копанины темную кость старинного воина. Его отгоняли с бранью. Без успеха. Пес унес кость и зарыл ее, блюдя свою песью веру, за ямой, в которой гасили известь. И побежал к тем, кто на двуколках подвозил сосновые стволы и камень. Люди казались псу незнакомыми – от усталости все словно ошалели. Поделенные на группы, на четверки и пятерки, по кругу передавали камень из одной кучи в другую, а затем сызнова перетаскивали в первую. Обмороченье, колдовство? Не ведомо. Готовили балки для рам и подпоры для стен, а другие жгли эти самые балки и жарили на огне мясо. Некое дно кукулинцев, некая их глубь, куда забился старенький славянский Перун, противилась церкви. Мертвые от усталости и малость хмельные, сытые или заспанные, они – костистые, жилистые, косые, возбужденные и оглохшие – падали друг за другом на сухую землю – отдышаться. К ним подходили, поднимали тычками и бранью. А потом и те, кто их поднимал, крутились волчком и тоже падали. Я был в отчаянии, видя, что никто не узнает никого. Проходят мимо друг друга, слоняются, забыв имя свое и род. С вытаращенными глазами, похожие в драной одежде своей на пугала, они странным образом умалялись, казалось, в сумерки совсем осядут на бедра, укороченные и со сплющенным теменем. Над стройкой закружила тень здоровенной птицы, орла-стервятника. Колдовство? Может быть. Не иначе знамение, опасное и зловещее, а ведь еще не смеркалось. Суета, доселе невиданная, лишенная цели и смысла, заводилась снова и снова, весь этот нескончаемый день. С солнечным закатом, с появлением первой летучей мыши строители, избавленные от теней и сами обращенные в единую тень, уразумели свое полоумие. Из последних сил заспешили возвести хотя бы часть стены, чтобы было чем распрощаться с уходящим днем. Но лишь появилась в небе подрагивающая звезда, та, что бьется серебряным сердцем, разошлись, без дома все же нельзя. Остался на соломе монах Апостол Умник – глядеть в синеву да слушать подземные гулы. Я спросил его немо и про себя, готов ли он выслушать мой совет. Он вскинулся растревоженно. Слышишь меня? – упорствовал я. Но он уже расслабел и перевернулся на спину. Без пользы к нему приставать с советами. Да и сам я почти спал. На заре, лишь запели первые петухи и застучали дятлы, явились строители и не нашли той части стены, что построили. Монах клялся: всю ночь глаз не сомкнул. Плакал своим единственным глазом. Ряса старее кожи. Не видел, чтоб кто рушил стену, зло не с этого света. Одни, и Тимофей среди них, заподозрили пугало под рясой и бородой, другие полагали, что на село пущены чары. Отрядили двоих отсыпаться под орехом, чтобы ночью караулить возле костра да с лютыми псами. Без пользы: на рассвете стены, возведенной вторично, как не бывало. Чудеса устрашали, леденили кровь. Иные отходили от церкви, могли потянуть за собой других. Русиян пообещал, что сам постережет стену, выстроенную по третьему разу. К нему присоединились Тимофей с Парамоном, развели костер. Монах ушел на ночевку в сенник. Новая стена ростом была выше их. «Батюшка мой Петкан предупреждал: коли имеете к богам уважение, выверните одежу – отведете чары». «Расскажи нам бывальщинку, Парамон. А потом и мы с Тимофеем вступимся. Долгая у нас будет ночка. Надобно ее без сна просидеть да не теряя мочи». «У деда твоего, Русиян, был на затылке маленький рог. Ей-ей, правда, слышал от моего Петкана. Расскажу вам бывальщинку, только не засыпайте. У Русиянова деда был на затылке рожек, а по ночам на нем разъезжала вила с большими грудями и после каждой девятой ли, десятой лунной мены приносила детишек с рожками и возвращалась обихаживать да откармливать молодца своего муравьиными яйцами на меду и поила его молоком от рыбьих самцов и… Однажды, на Великую среду, перед тем как тебе, Русиян, родиться, на этот самый дедов рог накинулись муравьи. Спасу нет твоему дедушке, до гроба быть ему муравейником. Он, бедолага, скидывает муравьев с себя, а они знай наваливают на него травяное семя да житные зерна. Картинка – тысяча дырок, и на каждую дырку по тысяче мурашей, иные с крылышками. В полночь с Великой субботы на Воскресение является к нему вила с оравой каких-то тварей одна пузатей другой и протягивает на ладони червя, вымоченного в меду…» «Будет тебе болтать. Стена-то порушена». Тотчас же, не успели еще коров подоить, тех, у которых не пропало молоко от крысиной напасти, сквозь трещины общего сумасходства просочился голос: все проклято – место, камень, сами они. Совет, что же делать, переползал с человека на человека: стену можно удержать, ежели закопать под нее бабу с отметиной – с шерстью на груди и вокруг пупа. Мужики, не доверяя друг другу, посокрыли жен: с бабой возишься по ночам, разберись поди, где у ней волосы, а где шерсть – на груди ли, возле пупка. Серафим поведал им свой последний сон. «Найдите велемощного мужа – одно око белое, другое лиловое. Он поможет. Такие сквозь стену видят по обету, данному матерью при крещении. А что касаемо жен, ищите некую с волосками на пятке». Не знали ни таких мужей, ни таких жен. Пришел монах Апостол Умник. Нос распух от укуса осы, из сивой бороды торчат соломинки. Стоял среди них, до костей пропитавшийся снами, пепел на бровях и морщинах, – загадочный. Ждали со стиснутым сердцем, прятали друг от друга глаза: неужто у чьей-то жены волоски на пятке? Ежились. Монах, потянувшись, расслабился. «Этакой жены нету, потому как на пятках волосы не растут. Дайте старейшине тюрю с перцем, пускай крепчает да видит сны. А я пойду за советом к живому святому. Строить будем, когда вернусь». Люди вздохнули с облегчением. «Петкан, – горько сетовал Парамон, – ты ведь помнишь бедолагу с рожком на затылке. Как же так – нету женщины с волосами на пятке? Ты родитель мне, отвечай». «Бывает и такое, сынок, что рожек проклевывается под темечком. И растет. На старейшину погляди. Я его в князья лажу, с короной, чтоб состоять при нем в первых людях, а он этакие несусветности во сне зрит. А у Русиянова деда не рожек был на затылке, а подо лбом бородавка. Рожек был у кочета дядьки моего Тимка. Так его и прозвали Висимуда. Куры Тим-ковы не неслись. Достань мне вина, и я тебе про того петуха расскажу. Поторопись, а то затомила жажда». «Пьешь да врешь, батюшка. Вырастет и у тебя бородавка под темечком. Ты сам почище бывальщинки, селезенкой вещаешь». 2. Библия пьяных Проходят дни, и проходят ночи, близится еще одна моя тьма – рассвет, являются новые чудеса. С высокого дерева упала безголовая белочка и окоченела возле колодца, со дна которого двое, жнец и гончар, вытащили нечто, что почли сгустком раскаленной молнии, и это самое нечто зарыли, будто грудного младенчика. На пальцах, жаловались они, волдыри вздулись. Тут пришла ведомая всем Велика (думали, она изводит детей), для смеху приказала им помолиться. «Вы ему оба родители, ваше то было семя». – «Почему это наше?» Оставили ее в платье, чистом и белом, зато с синяками. Сильно перепугались – врет, что выродилась раскаленность! Никому не проговорились. Русиян бы их изругал, Тимофей бы глядел сквозь них, завесив глаза ресницами, и не слушал, а Парамон сыт по горло отцовскими байками. Оставался Петкан, это – слушатель. Медвежья шкура впитывала в себя все. С тяжелыми головами отправились к Петкану пить и слушать, как в поле дятел стучит в лоб живому козлу, как из стога сена сами собой выставляются руки с прозрачными пальцами, как на берегу Давидицы подскакивает башмак, выдолбленный из дерева. Знали они Петкана, было время, и верили, что носит он под медвежьей накидкой тайны. Он своих тайн не скрывал, раздаривал. И про медвежью накидку – намотал на руку толстый конопляный жгут и через пасть вынул кишки из старой медведицы. Ободрал ее и завернулся. Теперь у теплины в запечье спит с той шкурой, будто с женой. Жаловался на блох и на привидения. Верили: в село по соседству, в Бразды или в Кучевища, прискакал головастый подсвинок и окаменел под деревянной звонницей, уличные псы разлакомились и поломали зубы. На тот камень-подсвинок присел путник, чуть ли не гонец крестоносцев, и обратился в камень. «Слышите? – вопрошал Петкан. – Это у меня в дому волынка раздулась и пищит человечьим голосом». «Не в твоем дому, – возразили робко. – Подальше. И не волынка вовсе, а дитенок». Растужился над ними, как над малоумками. «Мед горечью взялся, масло отвердело в горшках, – вещал Петкан. А они, жнец да гончар, глядели на него, разгораясь, наливались вином и сказками. – Могу, коли захотите, и на руках пройтись. Небо, ежели глядеть навыворот, желтое, облака зеленые. А еще я могу пить ушами вино. Раз позвали меня Македонские, Филипп с Александром Великим, родитель-кесарь и сын кесарствующий. В золотой одеже, а предо мной согнулись». Слушатели сомнительно поглядели в небо. «Когда ж эти двое жили?» – спросил жнец Кузман. «Столетья уж пролетели», – прикидывал горшечник Дамян. Петкан отмахнулся. «Да знаете ли, когда я рожден?» Не знали, он был из пришлых. «А кто здешних кур научил заклевывать змей?» – глянул на них с издевкой. «Случаются чудеса, – сдавался жнец. – Я вот корову видел, что пасла ежовую шкурку». «Да ну? – поперхнулся горшечник. – А мне баба снилась с ожерельем из пиявок. Глаза забиты смолой. Пупком на меня глядела». «Так, так, – поощрял их Петкан, подшепнув мимоходом, что родился он семь столетий назад. – Угодники вы мои,– обнимал он их чуть спустя. – Я вас научу. От этой моей пятки с крысиным укусом разлетаются мухи. Да что там, и мух-то уже не осталось. Сделались тем, чем были, – червями подкожными». – «А с Македонскими-то как было, Петкан, с Филиппом да Александром?» «Какие еще Филипп с Александром, – недоумевал он. – Я вам сказываю про лесок, что на богомолье ходил, деревья все как один потопали друг за дружкой в Иерусалим вымаливать избавление от гусениц. Вот послушайте, я вам про этот лесок спою, положу на мелодию». Он запел. И те двое тоже. Выбивался на уста разум. Были точно клепсидры, что не время меряют, день и ночь, а глупость. Внутреннее обличье засыпано золой слепоты. Не знали, что будет дальше, начиная с этого знойного вторника без облаков и без пожинателей жатвы в полях. В библии пророка в медвежьей шкуре псоглавые люди ратоборствовали с тенями и призраками, мчались с ревом потоки, от которых спасение было в винной бочке, распятия махали рукавами пустых риз. К троице присоединился четвертый с собственной библией. Богдан, открыватель волчьих следов, умеющий тропить рысей, выдр и куниц. Следы оленей и вепрей случалось находить и другим. Богдан – кость да кожа да мутное око, словно только что снят со креста. А видели, как он перегрыз волчью глотку. Потому он ото всех уважаем, попивает себе, не ковыряясь в земле. «Свихнутые вы, мои любезные, но выпью с вами и я. – Сел и выпил. – Однажды в треснутой тыкве с горлышком я целый край увидал – и церковь, и пастбища, и овец». «И людей?» – с почтением оглядели его. Он снова выпил, шумно, по-лошадиному. «И людей, любезные мои. Ратников с железными раменами. Чад великого Самуила». «Какого Самуила?» – выжидательно замолчали. «Такого, с крыльями. И ныне царство свое облетает». Пялились в пустые небеса, ждали. «Вам его не увидеть, – остудил он их. – Он с другой стороны земли появляется». И запел, голосом обманным и каким-то охальным. В краешках его глаз, как всегда, поигрывала усмешка, остальные трое то пили, то плакали, распечаленные всем на свете и собой тоже. Стойте, мог бы я возопить из крепости. Остановитесь, сынки. Вы не знаете завтрашних своих злоключений. И не знаете, вам того не дано, что уготовляется Кукулину. Кричи не кричи – не услышат. Вино, остатки из украденной бочки, служило броней, которую не пробьешь советом. Или угрозой. Им не дано предвидеть, в селении пророка не было. Сохнут в горах звериные водопои. И Давидицу полегоньку выпивает земля. Громыхает, а небо ясное, без ласточек и без облаков. Лист на деревьях вянет. Ухом приложись к кочке или камню и услышишь – в отчаянии, жаждущая и перегретая, предупреждает земля: все скорбь, все боль, все смерть. Под деревом с увялыми листьями спит Петкан, следопыт зевает, тоже уходит в сон, рои мух, мелких и прилипчивых, ему не мешают. Рядом сидит на корточках Велика, словно только что открывшая своего святого, отгоняет мух – следопыту нужны сон и спокойствие. Кузман и Дамян, перевитые паутиной взаимного уважения, пошатываются, им хочется петь и плакать, не жнец это и не горшечник, а два кесаря, новоявленные Филипп с Александром, кручина их разбирает, что в надстарейшинах у них человек с одним ухом да к тому же выживший из ума. Дивуются: чего это с молодыми сталось? Стаскивают дохлых крыс в кучу и поджигают. То-то, молодо-зелено, не растолковали им, что трупье сгнивает само собой. Вспоминают вдруг, что им ведомы чудеса, о каких Петкан с Богданом и не слыхивали. Только поздно уже, те спят. Спешат друг друга изумить былью-небылью. «Мир рассеивается и умирает, а на место его падает с неба плита без конца и без края, и вьются по ней реки расплавленного железа. А в реках тех, известное дело, двухголовые рыбы – одна голова пищит, другая хохочет». – «Реки те, Кузман, опоясаны мостами из злата. И все там, за что ни хватись, из золота. И горшечники с их горшками. Даже у баб – и у тех глаза золотые и зубы. Вот это да. Подохнуть, кабы и в Кукулине так». Знавал я еще одного такого вроде тебя, Дамян, из Бразды, -закачал головой Кузман. – Он тоже, братец ты мой, враль. По правде-то, на той здоровенной плите, за которую ты ухватился, нету ни рек, ни мостов. Держится, может, нива одна с окаменелыми колосками. Эдакие царства обходятся без жнецов. И без горшечников, запомни это. Ежели всему веру будешь давать, набедуешься». Теряются их голоса. И тени – каждая роет себе подпол под домом и забивается туда – плесневеть и открывать небывалые царства. 3. Месяц из зеленой бронзы Не покидаю крепости, но пребываю всюду, подчас и в людях этих, страдаю с ними, проникаюсь их упованьем, сердце мое кровоточит без меры. Даже поднявшись на ноги, вижу сны – ткутся из пряжи вчерашних дней, не имеют будущего. Я во тьме – нетопырь и волк, а вернее всего – труп с душой. С моей дороги убираются тени – в тень. Следом звери и облака. Не знают меня, не видят, только смутно угадывают: собаки завывают, а люди, даже те, что заснули с оберегом под головой, крестятся. И надо всем живым печалятся звезды. Спускаются на кусты, поят одуванчики росным серебром и вселенскими тайнами. Неубранные подсолнухи на миг даются в обман луне: высохшие и без семени, вскидывают к ней голову. Тщетна надежда смертных, царюет ночь, и завтрашнее солнце не вдохнет в них веры. Во мне и вокруг меня, со времени пробуждения подснежников до сбора каштанов после дождей, до ледяных оков и опять до нового сенокоса, все смешалось – сон, явь, события, голоса, все, и даже больше, чем все, я не мертв и не умираю, я призрак с сердцем и тоской на сердце, слышу, как неизвестность отдается болью и в дереве, и в скале. Иногда, ночами, отыскиваю грибы и сушу, или ополаскиваю глаза живой водой, пытаясь вылечить их от свинцовых снов. Лбом припадаю к камню, вырываю из него длинными ногтями дикий овес и терн. Чтобы не завыть, землей забиваю рот. И лежу – подо мною полевой мак и ячмень, надо мной созвездья и тайны. Ночной ветер навеял на меня соленый дух моря из моей юности. Десятки лет переживались мною подобные ночи – я не альфа и не омега, а знамение, знак того, что находится вне обычного и известного: спрутами расползлись по мне тени, засеяв лоб звездными крошками. Я капля тишины в тишине, плачу и не обретаю слез, чтобы омыть лицо. Поглядеть на меня – призрак, а нутро – плесень. И в молитвах моих соблазн. Господи, если ты есть, пускай не будет меня, я есть, но пускай не будет меня, Борчилы, внука деда Маркуши и бабы Мины, сына Стражимира и Лены, тайного мужа всяческих жен и прадеда Тимофея, лишенного моей крови, меня судил Растимир-боярин и пытался убить Лексей, друг и наветчик, ставший покойником сто и не знаю сколько еще лет назад. А я – ловлю свернувшегося ежа и окунаю в лужу. Как откроется, раздеру ногтями, начав с живота. Из малины себе добываю воду, хлеб – из корней и лесных клубней. Зимой тяжело. Перебиваюсь горстью уворованного зерна, плодом сушеным, мертвой птицей. Я и есть, и нет меня, наполовину труп, наполовину душа. Только разум мой не знает забвения. У меня есть дар помнить будущее – может, я оттуда пришел, – я помню то, что наступает подобно надежде и проклятию, как ночь из сердцевины ночи, из глубин, до каких даже призраку вроде меня не дотянуться ни ногой, ни оком. Ночи для меня не темны, а прозрачны. Потому я видел: бродят во мраке двое, он известно с какого света, косматый, тонкоустый и гологлазый, хромающий неприметно, она огневолосая, лоб белее скрытых зубов, обильная плотью, податливая, кровь (ох, кровь!) темная и горячая, – я видел такую кровь на клювах птиц, когда они защищали землю от крыс. В Кукулино ночные посетители не заходят, эти могли быть только злодеями. Я застонал. Здешний край перед новыми искушениями: под ухмылку мужчины женщина доведет до безумия голодных. Всех: Петкана, Богдана, Парамона, Русияна, Тимофея, Кузмана и Дамяна и даже надстарейшину Серафима, будут домогаться женской плоти, как домогались перед ними Растимир, Лексей, Лот и некий иной Борчило, а до того дед мой Маркуша и Маркушев сын Стражимир, и дядья мои по отцу и по матери Иван, Айгир, Стефан, Бойогор, и три брата мои – Еврем, Андон и Траян. Такие, как она, податливые да горячие, не упустят и лесного козла. Нет, не всех крыс поклевали птицы. Уцелела парочка – он в льняном одеянии, до ногтей укрывающем руки, и она, поводящая бедрами. Я окаменел. По спине поползли мурашки. Мужчина и женщина, на чей угодно взгляд безопасные, за собой имели словно бы тайные тени. Уж не хвосты ли? И вдруг ночные гости сгинули за грудой бочек, стали тем, чем были. Увидев это, я закричал, забился лбом о каменную стену покоя. По всем кельям и покоям крепости ползали горбатые тени, скрещивались, оставляя за собой исчадия мрака. Призраки предощущения. Предрекающие: добру быть жертвой на собственном алтаре. Никто иной, ни завтрашний, ни вчерашний, не смог бы заметить этого, глядел бы, оставаясь слепым кротом. Неучам оно и простительно. Я же только что при свете луны углядел в разложье женской груди блестящий месяц из зеленой бронзы с живым оком посередине – знак покровителя их Адофониса, это ему здесь, в этом покое, я оцарапал ножом язык, и он убежал, дабы вернуться в человечьем виде. И вот он – не один, с женой. Семенем своим зачнет легионы, способные покорить землю. Так. Попытка одолеть Кукулино была только пробой сил, завтра человек и журавль станут слишком слабы для отпора, черная их ожидает судьба. Месяц из зеленой бронзы предупреждал, чтобы… Чтобы – что? Я снова просунул голову сквозь бойницу и уверился в пустынной неподвижности мира без жизни и без обличья, но в тот же миг услышал шаги по стертому камню, что ступенями вьется к самому верху крепости. Как раз подошла пора для моей четвертой молитвы – она, если я и вправду не призрак, поможет мне распрощаться со своей скорлупой. Я щерился с отчаянием немощного пророка. Губы потрескались, но я не ощутил соленой влажности крови. Надвигалась апокалипсическая сумятица, скоро настанет погибель. Воистину, или я утратил разум, или становлюсь свидетелем мора. В моей жизни пустота, темнота между двумя жизнями – мрак, куда не доходит сознание. Лежал в гробу и восстал, так ли? И неужто я останусь единственным и последним на этом свете, ожидающим, когда из червя разовьется новое человечество, для которого писание мое станет поучением и предупреждением, что когда-то, не важно когда, явятся и по них новые черные легионы, и для будущего, имя которому Парамон, Русиян, Тимофей и тысячи разных иных имен, повторится все, что я видел и вспоминаю? Настанет, начнется погибель, все живое поляжет снопами, и младенцы тоже, вчерашние и завтрашние, вместе со своими крестными. Мрак в моих жилах съедает самого себя, обновляется новым тяжелым мраком. Я трясусь от озноба, а мрак застыл, морозит меня омертвелого, чтобы перестал я быть тем, чем себя считаю, – призраком, проклятым виденьем, вампиром страждущим, жизнью смерти. Успокойся, душа, придет погибель и возрадуется ад о пропадении человеческом, поначалу тут, в Кукулине, в Любанцах, в Бразде, в Побожье, а потом во всех неведомых селах и городах, от моря до моря, от царства к царству, дабы исподволь в мутное забвение уходило самое слово «жизнь» и имя «человек», и коварство и благость, и все – боль, искушение, греза, надежда. А потом умрет само время, и будущее сделается пустыней без плача и смеха, без живых и без призраков. Начнется. Есть начало и у конца. Может, уже началось. Если то был не сон, я видел кое-что с сомкнутыми глазами. Стояли на пороге между покоями, лицом повернутые ко мне, серый пушок на коже выдавал их. «Призрак, – шепнула женщина. – Неприкасаем». Мужчина скалился. Верил в свою силу. Но приблизиться не решился. Я вынул из-за пояса нож и показал ему. «На лезвии твоя кровь, – напомнил. – Подойди и лизни». Женщина схватила его за руку. Я к ним не пошел. И они отступили, повизгивая от страха, сползали по ступенькам в поисках логова подальше от меня и от своего конца. Я помянул своих братьев, помяну их еще, и да простится мне, что я сокрыл их в той части моего писания, где выгребал из праха памяти погоню Лексея и тех двоих, для меня безыменных. Растимир, прежде чем нас рассудил мой нож, три смерти мне подарил: Еврему, девятнадцати лет, накинули на шею удавку и вздернули на ореховой ветке, младшего двумя годами Андона в болото кинули с жерновом от ручной мельницы на ногах, меньшого Траяна связанного затолкали в свинарник к голодным свиньям. Вот они сидят напротив меня и молчат – за своего не признают. Еврем отекший, на шее висельный шрам, из Андоновых глазниц выбиваются, расползаясь змеями по лицу, болотные травы, у Траяна свиные покусы прикрыты землей и молодыми крапивными листьями. Когда умирали, проклинали меня, наверное, прощаясь с молодостью. Возьмите меня к себе, тяну я к ним руки. Сидят неприступные. Вижу: не вампиры они. А в сознании вампира чад да греховные пятна, и кипит оно, взбивает из пузырей пену под черепом. Я открыл глаза – никого нет. 4. Псы с железными мордами Преображение – мужчина и женщина оказались не тем, что я думал, не крысами. Но того же рода. Поселились внизу, в бывшей конюшне проклятого Растимира. Они – люди, а кем были раньше, знал только я один. Никто их не звал, никто не приветил с радушьем хозяина. Прошли, словно тени, через поляну, неся с собой колдовство, не иначе, не обойтись без него в такое время. Он объявил себя богомазом и после уединения написал икону в кроваво-темных тонах и в золоте, да так быстро, что поневоле думалось, будто он принес ее с собой под льняной рубахой. Может, в нем и вправду не было человечьей души, зато руки были умелые, пожалуй, даже слишком ловкие для бывших крысиных лап. На иконе, как показалось многим, был он сам, глаза золотые, держит на ладони крепость, протягивает ее женщине, а у той под распущенными волосами угадывается нагота и каждая жилка под кожей живая, сверху темное небо, а внизу земля кровавого цвета. Жнец Кузман и горшечник Дамян привели их к нашим старейшинам: прослышали, мол, что тут возводится церковь и надобен иконописец, он готов оживить Библию и в гладком ореховом дереве, и на стенах божьего дома. «У нас есть церковь?» – спросил Серафим. Его ветхие соратники не знали, есть ли. «Будет, любезные мои отцы преподобные», – вмешался Богдан, испаряя из себя винный дух. «Будет, будет, – подоспел откуда-то и Петкан. – Завтра я возьму на себя водительство. Чувствую благость в сердце. И глубже». Иконописец и женщина покорно стояли перед старцами, перед этим скоплением бород и костей, а в открытых дверях Серафимовой каморы небеса и впрямь были темными и кровавыми, только с одним облаком, похожим на расплывшуюся радугу. И в этой неясной дуге подрагивал вихрь. Я видел его глазами старейшины. Они же, он и она, стояли, ресницы, конечно же, смиренно опущены, а старцы между тем возжелали им заглянуть в глаза – в Кукулине они только у мертвецов закрытые. Увидели четыре желтых ока, никогда не виданных, не бывалых даже у утопленников восточной болотины, где обитает сто шесть видов птицы всякой, и местной и прилетной. Улыбнулась она, пояснила: «Йован Теориян был ему учителем. Изограф. Он Исайло, я – Рахила. Мы безродные, только и добра у нас – его дар». «Хочешь молока?» – попотчевали ее, чтоб не молчать. Она улыбнулась снова. Желтый лед ее глаз унижал и мучил заботливых старичков. Месяц из зеленой бронзы с синим камнем, загоравшимся по ночам живым оком, мутил их многолетнее разумение. Держались мертвыми руками за мертвые ребра, сложенные вместе, составляли воедино пять столетий – счетом их было восемь. Неведомо для чего, может, просто игра старческого слабоумия, Серафим тщился деревянной ложкой выковырять зуб. Чувствовал языком его оголенность, только зуб, хоть и оголенный, держался устойчиво на своем корне. Маленький даже для девятилетка, ноги в хлюпающих опорках утоньшаются под портами, жаждал прикоснуться губами к зеленой бронзе, зарыться носом в теплую грудь. Вопросил, откуда пришли. Женщина: «Из земли Моисеевой с садами из мандрагоры [30] – есть такое былие с человечьими ножками, начнешь вырывать – пищит. Я принесла сухой корень. В вине растворенный убивает все боли и в плоти, и в душах». Иконописец тоже шевелил губами. Пять столетий сморщенной кожи не могли разобрать сказанного. Будто язык его был порезан до крови. Потом он сидел между старцами и с усилием расспрашивал про церковь, какая будет и какому святителю посвящается. Она, Рахила, повторяла, что он говорил. Стояла за Исайлом, опираясь ладонями о его плечи, напоминала старцам камень с двумя желтыми холодными каплями подо лбом без морщин. Богдан: «Нынче утром, любезные мои, я шел по следу куницы и наткнулся на крысиный помет». Изумленные, все сперва таращились на него, потом озлились – ну и что? Женщина: «В земле Моисеевой слово „помет“ не произносится». Богдан: «И тогда, перед тем как явиться крысам, я нашел такой же помет». Полегоньку, прихватив глиняную кружку, медлительный, серый, Исайло короткими глотками прихлебывал вино. Рахила, указывая на иконописца: «У него была рана на языке, вылечился мандрагорой. – И склонялась к нему, втягивая губами винный дух. – Такие, как он, ваши милости…» Выпрямилась. Око на месяце из зеленой бронзы окоченело уставилось на старейшин, и те, поочередно отмахиваясь от желтого шершня, более робея, чем надеясь, вопросили: «Такие, как он, – что?» – «Такие, как он, – святые, благородные старейшины». Он, скорее Адофонис, а не Исайло, намеревался что-то изречь. Губы покрывались темной коркой. От ржавой крови, не от винного осадка. Шершень упал на грань его кружки. И никто, хотя всех заняла загадка, не доглядел, сгинул ли шершень под согнутым ногтем или свалился в вино. Исайло как ни в чем не бывало пил. «Крепость, – через силу вымолвил он, – станет мольбищем с моим ликом. Я и вправду кое-кому святитель». Старец Серафим помахивал головой, не понимая его речей. Запросил вина, сунули ему кружку с козьим молоком. Супился: «Позовите кривоногого Петкана. Достославных деяний ради обещался меня женить». Петкан посмеивался, стоя сзади, из-под верхней губы растягивалась еще одна. Парамон придвинулся к Богданову уху: «Не только помет. Нынче ночью верезжало что-то. Да так жутко». Снаружи каркает в пепельном мареве ворона, ведет счет зловещий моим годинам. Зной свернул и цветы и деревья, а голос вещуньи таит в себе зимнюю стужу и отчаяние. Будущее словно не обещало благолепных солнечных восходов. К чему? Краю здешнему красоты не суждены. Ворона, пролетев мимо моей бойницы, села на крепость. Каркнула еще раз, зловеще и коротко. Старейшин, казалось, охватил озноб. Он, с тайным именем Адофонис, поднялся с можжевеловой треноги, а оказавшись на ногах, сгорбился. Вышли оба. Следом собиралась толпа, провожая их пьяным шагом, равнодушно и безмолвно. Подальше от этого крестного хода держались женщины и собаки – и те и другие обладают даром предчувствия в отличие от мужчин. Псы, самые разные, пятнистые, белые, бурые, малые и большие, тощие, с повисшими хвостами, облезлые, с кровью волка или лисицы в себе, затаив дыхание и голод, стояли или лежали на сухой, утерявшей весеннюю плодородность земле. Казались памятниками устрашенному зверю – ни блохе, ни грому не вырвать их из оцепенения. «Лодырь этакий! – кричала кому-то Велика. – Теперь я плоха стала». Мужчины ее не слушали. Вышагивали сплоченно вслед за Исайлом и Рахилой. «Не теряй спокойствия, любезная моя, – посоветовал ей Богдан. Из-под оределых его волос заметно поблескивало темя. – Иди замуж достославных деяний ради, иди за князя Серафима Терновенчанного. Ступай в сенник, я тебе принесу приданое». – «Ты лучше муки мне принеси, а не приданое». Он смеялся: «Готовь сито. Принесу я тебе муки. И сухой рыбы. – Прокричал: -Эй, Петкан, сыщи-ка вина! Да позови любезных Кузмана с Дамяном. Расскажу вам, что я увидел в треснутой тыкве». Горное чернолесье испарялось пепельно, словно утомленная душа огромного ощетиненного и в смерти не укрощенного зверя. Задымленное трепетание поднималось ввысь, обретало обличье. Это встревожило женщину, она покачнулась. Исайло схватил ее за руку. «Что с тобой, Рахила? Это всего лишь облако». «Нет, – затряслась она. – Из такого облака явились однажды птицы. – Она всхлипнула. Я слышал в крепости все, только я, эти глупцы, жаждущие жаркой плоти, стали глухими. – Птицы укрылись в лесу, – горячилась она. – Повелю его сжечь, и птицы сгорят в можжевельнике и сосняке». Он: «Люди убьют нас, Рахила. Лес – их божество». Она даже на него не взглянула: «Они покорятся нам. В бочки с вином я всыпала ночью порошок мандрагоры. Мои желания для них – изволение свыше. Дуб им уже не бог». Они говорили без слов. Но я слышал их, я им расстегивал мысли. Рахила с раскрытой грудью обернулась к мужчинам. Око в середине месяца из зеленой бронзы ослепительно вспыхнуло. Миг для нее был решающим – порушившим внутренние преграды. Глаза у глупцов до дна заполнились ее податливой грудью. В толпе закипали кровь и разум, превращаясь в голод, жажду, блудный помысл. Не отступали, но и не смели приблизиться к женщине, к вызову ее плоти. До сознания молодого Тимофея слабой волной докатилось предупреждение: следом движется буря огромной силы, в общей сумятице обрушит она в мутные пропасти и утопленников, и надежды, все челны, все ладьи, какими плавает жизнь от берега к берегу изо дня в день. Волна впитывалась в горячий песок сладострастия, не оставляя ни капли предощущения, что зло именно таково – сперва приводит в блаженство, а через миг безмилостно истребляет. По лицу его словно таял воск, сливался тонкими бороздками потной влаги и мутного золота того, что было глазами. И Русиян такой же, тоже топится и качается, кренится на сторону, подобно свече из перегретого воска. Ни он, ни Тимофей вовсе не похожи на петухов, что за несколько дней перед тем, как задавит их ласка, становятся от злого предчувствия неуклюжими и, забывши кур, простаивают отсутствующе на одной ноге, свесив голову вбок. Толпа, как разбухшее тесто, растягивалась и сжималась с затаенным шумом, густела, превращалась в бесформенную глину с растворявшимися человеческими сердцами. Твердый круг почвы, который отметила она своим безумным топтаньем, оставался без пятен зелени, вечной затверделостью, годной лишь для поломки колеса и сохи. А вокруг, и без бури, со скрипом на корню раскачивались деревья. Из конского черепа на тропинке темными струями вытекали букашки. И сызнова возвращались в дыры оголившейся головы. Кишмя кишели. Подползла зеленая ящерица, забралась в новооткрытое логово – сквозь черепную дыру. Оставила за собой кончик хвоста. Подсолнухи на закраине поля отрекались от послушания благородному свету дня, горбились, замирали. Голос Рахилы заколдовывал все – человека, растение, камень. «Деревья ничтожны! – выкрикивала она. – Только огонь господин над ними. Пламенем исходят из него и ненависть, и любовь. Подожгите лес, и я стану вам святительницей и женой, словом ваших молитв». И глупцы превратились в большого многоголового зверя, двинулись к ней с вытянутыми руками, в каждом пальце – алчба. С утробным рыком. Она распоряжалась ими молча, чарами, покорявшими даже землю. В глотках собиралась горечь. Мандрагора – это же с визгом выходящее из земли растение, с человечьими ногами вместо корня, шептал я в темноте старой крепости. Возможно ли? И тут явился Апостол Умник, монах. Повязки на лице не было, с двумя глазами он был не похож на себя, к тому же взбудораженный и растрепанный, как отец всех ветров. На ремнях свиной кожи вел одного и еще одного пса, серых, с блестящей шерстью. Долгоногие, с острыми волчьими мордами, псы могли ударом лапы свалить человека. «Псы железномордые, – выкрикнул монах торжествующе, – бабы с волосками на пятке нет, зато от них разрушителям не уйти! Будьте покойны, построим церковь. Веду их из тайного места, падите». «Чего он морочит нас, любезные мои, этот пентюх голодраный?» «Хочет, чтоб указали ему дорожку в ад, Богдан. Вишь, и на тебя щерится». «Я – ваша святая. Хватайте его. Повелеваю всем, и тебе тоже, Богдан». «Мне, любезная моя, не повелевай. Я считаю за грех руку подымать на монаха». Зато остальные так не считали. Стискивали кулаки, сбивались теснее, готовые хоть на скалу идти. Монах сомкнул глаза, словно перед Страшным судом, перед неизбежной карой. Худой и бледный, силился через щелку протиснуться к своему раю – проклинал громко, во весь голос, чуть не с рычанием. Губы его перекрыло тенью вырванной темничной решетки. С раздробленными зубами, окровавленный, он кричал, пугая псов, рвавшихся у него из рук. Тесно сбитые, разъяренные, темные, вздымали кулаки кукулинцы. Будто скатываясь по крутизне, пронзительные, с неостановимостью эха, всей кровью своей и всей злобой принявшие Рахилино повеление, надвинулись, налетели на монаха и псов, придавили их своим дыханием. Монах не защищался. С мудростью, которая приходит к смертнику в конце последнего вздоха, как иногда приходит безумие, он охватил пальцами горло, чтоб не молить. Я знал больше, чем знали они, и вместе со мною узнавал он, монах: плита жизни тяжелее могильной. Для насильников ставший мертвым, лишь только закрыл глаза, для себя он оставался живым, способным усвоить истину и отойти навечно. Но не отошел. С первыми синяками на лице рухнул бессильно навзничь, скривился, плечом привалился к земле, одну руку вытянув к небу. Так думали они, а не я в своей темной загробной крепости. Псы вырвались из обруча потных рук и скрылись за подсолнухами конским скоком. Глупцы выли. «За что, проклятые?» – крикнул я. Большой кузнечик тер свои крылышки с монотонным звуком, удерживая духоту вокруг беспамятного монаха, а под рясой его, запустив туда обе руки, Ипсисим нашаривал сережку, что выкопал однажды на том месте, где строили и не достроили церковь. 5. Пир Перед сумерками полыхнуло. Сперва сгорела разрыв-трава. И тотчас же словно бы треснула кожа земли, и из трещин выбились живые огненные завитки, набирая силу и делаясь всемогущими, отыскивали себе простор для пляса. Из крепости мне было видно, как в этом полоумном танце взнимались боязливые язычки, будто намеревались погаснуть в самом начале, но вместо того затаенно, а в сущности коварно и безоглядно, юркнули, разгоняясь, через чащу огненными потоками, двигаясь извилистыми дорожками, соединялись, сливались в реку, в огневое море с шорохливыми, искрами постреливающими волнами, испускающими вместе с дымом запах смерти, от которого сохнут ноздри. С пира, от разнузданной прожорливости огня, не успели ускользнуть три лисенка-однолетка да несколько рябчиков застряли в гнездах, а еще ежи, и улитки, и пчелиные рои. Пластаясь по горизонтали, трепетные огненные языки шли друг за другом среди стволов и крон, пламенные волны поднимали бурю, в которой гибли шишки, желуди, семена – все то, что по весне проросло бы и назвалось побегом, листом и плодом, сенью, жизнью, надобностью. Силясь избавиться от пекла, деревья ширили свои руки-ветви и с гулом падали на легко воспламеняемые змеиные сплетения ежевичника и можжевельника. Огонь стал вселенной взвившихся хвостатых созвездий, вулканом разбушевавшихся бестий. Старейшее дерево, дуб с истлевшей грудью, долголетний исполин в листвяном шлеме, мучился дольше всех. С кроны его взмывали синицы, обратившись в искры, возвращались в огонь или делались дымом под раскаленным небом. В жилистых переплетениях корня пытался сыскать убежище вепрь. Хрюкал, рыл землю резцами и клыками, всей своей кабаньей пастью, от которой несдобровать ни медведю, ни человеку. Даже молодцу из моей породы. Хребтина вепря горела, подпаленные клыки на рыле ослепили и без того слабые глаза. Убежища он не нашел – дуб накрыл его своим раскаленным телом. Не горели, были неуничтожимыми только вампиры. На лбу венчики из живых маков. Дымились. Над ними ширилась огненная кровля – взойдет луна и пустит по ней блики. Упырей видел один Петкан. «Потому мы лесок и подожгли», – пояснял, тяжело дыша. А ночью упыри душили меня, как кошмар, ездили на мне, давили, норовили утащить с собой. Вепрь больше не хрюкал – бушует пламя, не оставляет углей. Кузман и Дамян пели, и Парамон с ними: вошел в возраст, одногодки отца Петкана стали ему ровесниками. Костями расслышал я то, что разъясняло тайну. Исайло и Рахила переговаривались. Она: «Горит. Теперь они под нашими чарами. Все – и стар и млад». Он: «Ты возвысишься, будешь царствовать от моря до моря». Она: «Псы монаха, ктитора церкви без стен и алтаря, прячутся. Ждут своего часа, чтоб отомстить». Он: «Теперь мы для здешних святые. А псов изловят и бросят в известковую яму». И опять она: «У них и вправду железные морды?» Он: «И железо, будь то нож или морда, плавится в огне». Этот ад, слишком малый для целого мира, для Кукулина, с отцами старейшинами, с глупцами и с убогими, был огромен: жизнь славилась непробойным кольцом. Ни гусеницы, ни змеи не могли выбраться из огня, ни дрозды, ни камышники. В вихрении разобрать было трудно, где пламень, а где тварь живая. Птица и барсук, повязанные одной судьбой, пускали дым через клюв и ноздри. В разные стороны разбегались тени. Стемнело. Лопались раны ночи, плавились в огне. Кости и пни обращались в пепел, в серость, в боль. И медведю спасения не нашлось, и всем владениям его – малиннику и кизиловым зарослям, родничкам и тайным тропинкам. Огневое действо походило на взбесившегося Голиафа: в неистовом плясе раздирает себя на части, возвещая юбилей, [31] новый и страшный, альфу и омегу проклятой жизни. Из яйца страха вылуплялось сомнение: эхом отдавался во мне голос Лота, его вечное поучение. Если возраст, стосорокалетний, а может, чуть побольше, меня не обманывает, придется мне челом коснуться теней Исайлы и Рахилы – прощения ради. Навряд ли будет иначе. Они – крысы, ничего человечьего нет под их оболочкой. Между тем, она: «Он нас караулит из крепости». Он: «Двуногое стадо изгонит его дымом из логова». Она: «И?» Он: «Станет пеплом»– Она (на груди сверкнул месяц из зеленой бронзы): «Тогда – смерть». Он (лицо его сделалось волосатым): «Смерть, Рахила. И жизнь. Для нас». Руками, сжатыми в единый кулак, я лупил себя по губам. На меня нашла немота, но я мог слышать чьи угодно мысли. И свои тоже. Хватит, Борчило, молил я об уходе в ничто. Лишь откроется для тебя дорога в небытие, сгинет с тобою и самый вместительный труп столетий. Я был-таки огромным оком со всеми зеницами мира, я многое видел и вижу: испаряется в глубине леса кровь листа, боярышника или каштана, лист морщится, кожа его темнеет, дырявится, лопаются частые жилки, он корежится и вспыхивает, пред тем как сделаться пеплом. Зеленая жизнь, темная смерть. Призрачное сказание: лист последним усилием пытается оторваться от ветки и, невесомый, поколыхиваясь от теплоты, тщетно тянется к звездам, ветка живет дольше его, ствол долговечнее ветки, их переживет только камень. Лист обращается в прах, а дерево оживает: однажды, когда расцветает, другой раз – когда горит. В цветении – жизнь весны, а в огне – жизнь смерти. «Русиян! – кричал кто-то. – Небо свидетель, я его не нашел, клянусь». «Кого не нашел? – На Русияновом лице, повернутом к месяцу из зеленой бронзы, поигрывает злой свет. – Никого я не ищу, чего болтаешь». «Ты же велел найти преподобного монаха Апостола Умника и зарыть его. Так ведь, Кузман?» «Дамян верно говорит. Я тоже искал преблаженного. Под камнем, поддеревом – ничего. Испарился». А он, преподобный отец, дотащился до входа в крепость, зарываясь в темноту поломанными костями, и только теперь почуял меня в верхних покоях. Захрипел: «Кто б ты ни был, человек или призрак, не мсти за меня во имя отца и сына, умираю неотпетым, но избави кровника моего от… от… от…» «От чего?» – крикнул я, прижав ухо к холодной плите. В ответ невразумительный хрип. Ладно. Я поднялся. Завидую тебе, святой мученик. Не стану переносить тебя к гробу с моим именем. Завтра они найдут тебя. Не стану тебя поминать в молитвах на Лазарев день, дабы, воскресший, порадовался ты солнцу и благодатной земле. Никогда. И новая жизнь будет тебе мучением. Отходи, завидую тебе. Апостол. Лес горел всю ночь, с верхней части до корня. Может, лишь Немного шишек да семян затаилось в потресканных скалах. Начнутся в волчью пору дожди, попадет горсть земли на шишки и семена, и, может, снегу удастся вытянуть из них корень и жизнь. «Так не нашли вы, что ли, монаха?» «Не нашли, Русиян, мы уже тебе говорили. Нет его. Сдается, он нам приснился. Зато мы нашли Велику. Прохлаждает ноги в Давидице, поджидаючи Богдана любезного». «Не нашли, значит. Так вот, пока не биты, сыщите мне его псов. Впредь наука. А любезный Богдан пусть поможет, возьмет след. Вы за ним идите шаг в шаг, слышите?» Она: «Псы, эти проклятые псы, их тайком выкормила грудью девственная игуменья». Он: «Не дрожи так. Их найдут и убьют». Она: «Если найдут». Он: «Не бойся. Все под нашими чарами». Внутренние голоса. Пробиваются ко мне сквозь взблески глаз. «О чем это толковали Кузман с Дамяном, Парамон? Кто их погнал искать монаха, у которого, помнишь, повязка была то на левом, то на правом глазу?» «Не ты. И не я. А вот и Тимофей. Может, он знает». «Знаю. Монах, будущий ктитор непостроенной церкви, упал, как и раньше случалось, с пеной на губах. Теперь-то он небось оклемался. А мы проклятые. Не нашлось никого из грязного сброда, чтоб помочь ему, водой лоб охладить. Да что с вами?» «Мы не успели. На пожар спешили. Вышло повеление от блаженных отцов-старейшин загасить». «Истинно. И дождь мы вымолили. Огонь сдает полегоньку». Вот как. Если верить им, монаху сделалось дурно, он потерял сознание, ударился головой о камень, а лес загорелся от пастушьих костров, они же вовсю старались пожар погасить. Печально, и препечально. Мешаются недоразумения и голоса, испускаемые грудой разогретого мяса, вокруг которой стягивается обруч колдовства и бессмыслия. Оплетенные тенями, люди изнемогают, собираются в группы, расходятся парами, всякий ищет собеседника по себе. Без лиц и без возраста, каждый каждому близнец и двойник. Выбивающая изнутри тьма уравнивает их с деревьями и кустами. Одно вливается в другое, становится плотной-преплотной тенью, коварно посмеиваясь, она пока что прикрыта безмолвием, но под этим безмолвием, под этой тенью – псалмы и брань. Осерчавшие жены отлучились от своих мужей – было время, перебиралась в сундуках свадебная справа, а ныне вытаскиваешь покров для очередного покойника. В Серафимовой каморе старцы уселись в круг и хлебают из уемистой миски тюрю. Жизнь и живущие шагом дальше их не касаются. Родили сыновей, дождались внуков, никто не может и не смеет взваливать на них новые бремена. Что такое крысы пред их вознесенностью? Ничего. Утопят их в моче да в плевках. Подпалят дыханием, пришибут проклятием. Вскорости им прибудет ума, старцы обновляются – завтра с ними будет заседать Петкан. У Серафима одно ухо, у Петкана зато губа двойная, как-никак равновесие, пуще того, ежели придут к согласью, даже и Ипсисим окажется среди них. Обоим подошла пора, к благу своему постарели и заслуживают почтения, из людей они, а старцам ведомы великие людские деяния, разбросанные по столетьям. Мученик Ферапонт глотнул змеиной слюны и обрел дар беседовать с черепахами да червями. Мученики Платон и Роман на дне морском в январе пекли рыбу на костре для голодных, кои им молились на берегу. Пророк Аввакум продырявил ветер и на нем свиристел. И Мемном творил чудеса – из дождевых нитей плел апостольские плащи. Петр Антонский пил песок. А у Давида-царя очи по царству летали, вымеряли реки и горы. И вот, после всех оповеданных чудес, ничей голос больше до меня не доходит, не знаю даже, хрипит ли еще монах, в молитве своей день этот я помянул как день Апостола Умника. Так и братья мои меньшие, упокоенные столетье и сколько-то лет назад, могли бы иметь день своего имени. Евремов день, день утопленника Андона, Траянов день. 6. Глубина мрака Псов не нашли, не сделались им хозяевами, а насчет монаха клялись, что костей ему не ломали: он, бедолага, сам сомлел, видно пришла ему пора перестать падать наземь с пеной У рта. Над свежей могилой, мелко вырытой по обыкновению последних дней, женщина с месяцем из зеленой бронзы, взяв пяток зерен вареной пшеницы, подшепнула, что это он, покойник, пустил пал по лесу. Кто-то припомнил – вроде бы, когда горел лес, монах лежал белый и с вытянутыми ногами. Возможно. Но возможно также, что, подобно букашке, он лишь прикинулся мертвым, а сам потихоньку ожил. И еще шепот: Сам лежит, а дух его палит лес. Ежели труп пожечь на костре, ясное дело, сгорит и дух. Но монаха закопали, и только черви могли до него доползти, чтоб достаться ему в добычу. Тяжко, и даже очень, я выпрямился на дрожащих ногах. Из моего дня, из темноты покоя доковылял до бойницы. С холодом в костях я походил на сбежавшего из могилы – рот словно землей забит. В глаза ударил солнечный луч. Он меня ослеплял. Глаз таки защищало вялое веко с ячменями – иногда мне приходилось приподнимать его пальцами. День для меня сделался ночью – я видел слабо. Встревожилась летучая мышь, повиснув вниз головой на сгнившей балке. Предупреждала, что солнце, солнце и день станут моей смертью. Которой – первой, второй? Да ведь смерть бежит от меня, крикнул я или только подумал, что крикнул. В сущности, я кричал про себя, с нетопырями я разговаривал только так и только так они меня понимали. Всматривался сквозь муть. Рахила стояла, повернувшись ко мне лицом, искала меня взглядом. Показала на крепость, на мою слишком удлиненную прорезь. Теперь и остальные, напустив морщины на лоб, уставились на меня. Богдан: «Может, и жил. А теперь, должно быть, обратился в прах, любезная». Рахила: «Никто его не закапывал, нет доказательств, что он мертв». Петкан: «Те, кто его закапывал, сами давно мертвы». Рахила: «И все же я его видела, и не во сне. Вчера он вместе с покойником вот из этой могилы поджигал лес». Богдан: «Лес подожгли здешние, Петкан да Кузман с Дамяном. Сдается, и Парамон был с ними». Парамон: «Глупости говоришь. Не нашим огнем лес поджегся». Богдан: «Вашим огнем, несчастные. Вас обморочили». Парамон: «Что он такое плетет, милый батюшка? Взгляни, не проклюнулся ли у него рог на затылке?» Петкан: «Ты что, увидел в треснутой тыкве, как мы пал пускали?» Рахила: «Тот, кто защищает призраков, завтра сам превратится в призрак». Кузман или Дамян: «Призраки? Ведь это же…» Богдан: «Давай дальше, любезный мой. Это сказки для тех, кто не может считаться мужчиной». Ипсисим: «Меня прислал преподобный отец Серафим. Разрешенье всего даст нам столетний постник Благун. Надо пойти к нему, в его скит под Синей Скалой. Он отшельник, ему все тайны открыты». Богдан: «Идите. А он вас проклянет. Я туда не ходок. Мы с Великой пойдем куницу тропить. А ты, Парамон, свой затылок пощупай. Может, у тебя проклюнулся рожек. И на старших не налетай, мой любезный. Пошли, Велика. Пошепчемся, как бывало». Я скорчился на полу. Слепая мышь надо мной успокоилась. Прижавшись затылком к старому шлему, я укрылся блошливой овечьей шкурой. Благун – отшельник и постник! Я тоже пойду к нему. Один. Если он узнает меня, догадается, кем я стал. Крепость покину ночью. Мрак – свет для меня, мрак – мой день. При луне я другой, легкий на ноги и без боли в костях. Была ночь, были обмороченные, и я был один. Я поднялся и опять выглянул. Она, Рахила, пройдя тенями лесного пожарища, направлялась дальше, к зарослям дрена, куда не дошел огонь. Из-под камня высунулась лисица, подняла голову по слабому ветру. Учуяв добычу, зверя слабей себя, сверкнула зубами. В оскале было отчаяние. Ее мучил голод, мучила тоска по потомству, по трем мордочкам, что совсем недавно растягивали ей сосцы. Хвост лисицы был на удивление белым, как известь. Вдруг, прежде чем углядеть женщину с месяцем из зеленой бронзы на груди, она покорно согнула голову. Припала челюстью к муравейнику. По ее хребту до корня хвоста пробежала быстрая волна мурашек сторожкого страха. Не выпрямляясь, волочась по землю брюхом, поспешила укрыться в первой же впадинке. Зверь бежал перед преображенным зверем. И ветер потянулся в свою нору среди суковатых стволов, спрятался в сухой балке. Женщина остановилась. Провела по бедру ладонью, словно согреваясь собственной теплотой. Не оборачивалась, лицом повернутая к горе. Сказала: «Это ты идешь за мной, Русиян? Забросил постройку церкви и топишься, словно воск». Русиян подтащился сзади, еще три шага – и повалит ее. Он: «Я учителя своего, Апостола Умника, не забыл. В тот день, как ушел я на жатву, ты его сгубить приказала». Она посмеивалась, на одно плечо упали тяжелые волосы, не светлые уже, а словно бы сероватые. «Ошибаешься, Русиян. И ты с ними был, а сейчас ты здесь и в моей власти». Он стоял позади нее, высокий, в расцвете мужественности, молодой. «Я его за отца считал, мне ли поднимать на него руку». Обернулась к нему, блудливо поигрывая глазами: «Меж мертвых нет отцов и сыновей, они мертвые». Око из зеленой бронзы в виде месяца слепило его. «Ты колдунья, навела на нас порчу. Вот мы и убили его, может, и я тоже». Она заметила его судорогу и за поясом кусок старого железа, быстрым движением высвободила грудь из-под льняной ткани. «Перед тем как повалиться на колени, бей, не раздумывай. Мое терпение бесконечно». Он приставил острие железа к ее гладкому животу. Ждал, что она его избавит от гнева, признав мужчиной и господином. Рука изготовлена для удара в теплую мякоть. Она оставалась неподвижной. Белизна зубов, лишенных остроты, странно освещала лицо. Усмешка была вызовом или обманом. «Я тебе подала совет, не раздумывай». Он глядел на нее задышливый и ослепший, посиневший, с набрякшими жилами на шее, с дрожью плоти между кожей и ребрами. Долго, коротко? Слишком коротко, чтобы замахнуться. Слишком долго для плоти, жаждущей плоти. «Чья ты?» Она: «Чья угодно, но не твоя». Он: «Моя, значит, не чья угодно». Опять она: «Слишком у тебя корявая кожа для моей белизны. Возвращайся к своему боголюбу, он тебя ожидает в могиле». Опять он: «Блудодейка, прощайся с жизнью». Сожженный лес вновь опалило дыхание пересохшего горла – из неведомого укрытия выполз слабенький ветерок, он силился вернуть жизнь затаившейся искре. Предупреждение -но кому? «Повтори. Мне понравилось твое слово». «Блудодейка, блудодейка, блудодейка…» И снова стихло все – ни голоса, ни ветра. Ненадолго. Вдалеке, за подсолнухами, завыли монаховы псы. «Шепчи, говори, кричи!» «Блудодейка…» Сперва острие железа, копье или что-то похожее, ударилось оземь, затем руки ее плющом обвились вокруг его шеи. Она выпивала его дыхание и предлагала свое для пущего опьянения. Судорожные, распаленные, отдаваясь сладостной боли, опускались они под ее укусы в угреватую бузину, на меже небольшого поля с хилым клевером. Сомнение вылуплялось вновь, несушка страха трудилась неустанно. Не был ли я им, Русияном, я давнишний, живший сотню и еще много лет назад, числя до лета текущего и многоразличного? И со мной было такое же – тело к телу, укусы, а ведь не всякая женщина – крысиной породы, сладострастие выражается в укусах, мужчина на женщине, плоть на плоти, семя к семени, как говаривал Лот. А теперь я стар, ужасающе стар, и уже не знаю, чему еще надлежит случиться. И не примерещились ли мне хвосты из-под Рахилиных и Исайловых одеяний? Бесполезный, тоской испитый, в расколе с собственной душой, я как разветвленная река или источник с двумя рукавами, по которому утекает ночь. Я пытался найти самого себя в себе, потому и недоглядел: в свете дня возвращалась Рахила. Повстречала двоих из тех, кто не убивал монаха, и указала им место, с какого пришла. «Помогите строителю Русияну. Он лежит на пожарище в ранах». И направилась к надстарейшине Серафиму. «Не позволяй им идти к постнику Благуну. Явится он, станет главарем в Кукулине, князем, ты же будешь ничем». Серафим ее слушал, не пытаясь понять. «Три женщины снились мне. Господи, на что ж мне решиться, какую взять под корону?» Два других старичка глядели на него с надеждой: «Три? Не забудь про нас, преблаженный. На Введение, если не раньше, мы сделаемся вдовцами». Серафим сидел на припеке. Тень вяза, возвышавшегося над его каморой, ушла. Он зевал и дрожал. Да так и остался с разинутым ртом – окоченел. Старички тоже ошалели от зноя. Не отгоняли мух. Шептались: «Мы, Илларион, вроде бы как вдовцы». – «Думаем одинаково и тем связаны, Гргур. Но я бы не стал Введения дожидаться». «Опять вам придется могилы копать! – крикнула им Рахила. – Русияну да первому старейшине Серафиму». Подошел Русиянов ровесник, меч за поясом. «На этом свете рождаются одни дураки. Особенно в Кукулине. Старейшина, отныне святой, умер от старости. А Русиян – вон он, идет». Старички перекрестились: «Проклятье. Земля нас глотает, а Введение на носу». Она: «Ты ведь Тимофей, что ставил огненные засеки от крыс?» И, не дождавшись ответа, пошла прочь, покачивая бедрами. Илларион: «Нас двое теперь. Слишком мало для трех жен. Разве что – а? – разве что и Мирон поженится с нами». Гргур: «Верное слово. А ты, сынок Тимофей, женатый ли?» Тимофей глянул на них налившимися кровью глазами: «Что у вас подо лбом, отцы преподобные? Известка наслоилась, песок?» Старший, Илларион, волосатый, точно седой паук, хихикал, прикрыв ладошкой уста, и помаргивал то одним, то другим глазом, а Гргур – на темени плетенный из лыка шлем – наматывал ус на указательный палец с изгрызенным ногтем и, сидя на корточках, провожал водянистым взглядом Тимофея. «Слышал его, Илларион? Уважает нас, назвал преподобными. Пойдем поищем преподобного Мирона, а? Обрадуется небось, как услышит, что мы его берем в женихи. А у тебя правда, что ли, есть позволенье от Угры по другому разу жениться? Она ведь еще живая, а?» Русиян, и впрямь покусанный, доплелся до них. С губ его цедились нити крови. Трясся, хотя в этом странного не было, людям, живущим возле болота, знакомы всякие отрясовицы. Но был он весь в поту, испитой и белый, прозрачный, словно кусок алебастра, повернутый к солнцу. И все же оставался заглядистым девятнадцатилетним парнем, по которому сохли деревенские девушки, во сне зарывавшие пальцы в его густые волосы. Попытался заговорить. Лишь захрипел. И упал. Собрались вокруг, не прикасаясь, уверенные, что в лес забрел бешеный волк. А может, псы железномордые мстят за монахову смерть. Илларион свое: «Свадьбы справим в один день. Я барана зарежу». Гргур следом: «Все село соберется. Я зажарю телушку. Жрите, сватушки, пришел мой денек». Похоже, в том никакого сомнения, на свет, особенно возле этой крепости, рождались одни малоумки. А у старичков Иллариона да Гргура умишки были что пузырь в луже после капли дождя. Из сарая вышел Богдан. Согнулся над онемелым Русияном. «Не волк, – оценил он. – Так мелко кусают крысы. Ничего, живой все-таки. Дайте ему отлежаться да позовите мать, мази пусть принесет. От этого не помирают». Стемнело. Люди превращались в клочья мрака, мрак сомнений забирался и внутрь. Оглядывались устрашенно, спешили двери за собой заложить засовом. Может, не врет этот Богдан: опять набежали крысы и круг черного кошмара сомкнётся в мгновение, долгое, словно вечность. Я нашел брошенную палку, опираясь на нее, дойду – в путь, Борчило, к пустыннику Благуну и его священной норе. Шаг за шагом, невидимый и неслышимый, я уходил от крепости. Вокруг, до неопределимых далей, до небес и выше, до моря и глубже его дна, жила ночь, царствующая и всемогущая. Сухим дыханием стирала мне морщины со лба, а было им полтора века. С двух сторон, с востока и из южной долины, перекликались две совы. Обе маялись одиночеством. Над мелкими водами Давидицы склонялись искривленные вербы, примериваясь к песку – пустить корень. На берегу, где пастухи поили скотину, лежала выкопанная из пашни мраморная женщина, властелинка либо богиня живших тут до нас староселов. С одной ее груди косо сливался свет луны. Женщина была словно бы подъедена крысами – половинчатая. А многим она снилась живой, из плоти. Я присел передохнуть, смирить шелест в ноздрях. Нечаянно, бесчувственной ладонью, коснулся округлости плеча каменной женщины. В пальцах ожило воспоминание молодости. Околдовывая меня, женщина словно бы потянулась с тайным вызовом – захотелось зарыться лицом в ее мраморную белизну. Я застонал. Поднялся, превозмогая себя. Мне мешали корявые корни деревьев. Но я не дался им, не позволил уложить себя лбом в пепел. Прозрачная, бледная, одинокая и безнадежная, луна давила мне на темя, мешала подняться. Я спал, думая, что иду, и шел, думая, что сплю. Пальцами ног по-орлиному цеплялся за землю. С каждым шагом выдирался из какой-то смолы, полегоньку, пядь за пядью, оставлял за собой пределы пожарища. Карабкался на кручи без тропок, спускался в котловины и снова взбирался на кручи. Ночь как любая другая. В бездорожье метнулась с моего пути тень. Лот, мощи святые, стань мне опорой, шепнул я. Вокруг меня сплошная бескрайняя тень. 7. Кости под синей скалой Кентавр. Не человек-животное, а нечто совсем иное. Наполовину в прошлом человек, другой половиной – сегодняшний призрак, вот что такое, и с голосом Лота в себе: сомнение не обновляется, оно растет и становится чудищем со многими щупальцами. Будучи молодым, я видел во сне свой мертвецкий одр, огражденный свечами, на каждой свече – трепетанье пламени, похожего на голубую бабочку. И ни от кого, кроме себя, я не просил ответа, снится ли мертвым, что они живые. «Лот! – воскликнул я. – Если холмиками, твоим и моим, мы принадлежим одному миру и одной земле, приди и растолкуй, что меня держит на ногах и почему я жив или ожил из мертвых, стал вампиром». Сова – прежним голосом, смутным, но уже без отзыва. Я опять занемел, шел и падал, оскользался на голых костях, с каждым шагом, тяжким и до боли мучительным, оставлял за собой капли крови – нет ее во мне, а все же цедится! Ночь тянулась, словно длинный хвост за сторожким зверем, щупальца передо мной, позади меня, во мне, я был как бы у зверя внутри: облизывает меня и давит, касается мягкой лапой лба. Если бы день поспешил, на месте, где я сейчас, остался бы пепел. А потом ветер и ничего, забвение, боль минувшего. И безвозвратность, вечный Лот. Безвозвратность, твоя и моя, Борчило, и все же твои сомнения воскрешают меня из скорби и боли. «Теологически?» – спросил я. «Сильнее, гораздо сильнее. Плоть истлевает, разум переходит от одного к другому». – «Но ведь разум, Лот, мышеловка». – «И баланс несовершенного духа», – послышалось в ответ. «Что же тогда совершенно, Лот?» – «Только опустевшая могила, Борчило. Глухая и слепая к несовершенству». Я придушил в себе крик – Лот делался духом моего духа. От ежевичных колючек, забившихся в кожу, я походил на старого запаршивевшего ежа, на некую зверюшку, только изнутри благодаря неизбывной боли остающуюся человеком, если я могу таковым считаться, если я был таковым и теперь, под Синей Скалой, в самом святилище отшельников, обитавших здесь в продолжение трех или четырех столетии, вплоть до последнего и нынешнего – Благуна, забытого родней и потомством. Я позвал его, уповая на встречу с мудростью. Подождал и снова позвал с неясной надеждой в себе. «Громче, – дошел до меня совет или насмешка. – Громче проси. – И затем: – Доподлинно, избавление плоти и костей от скорби в молитве, горе, когда вседержитель попускает нас сеять злодейства по питающей всех земле». Его украшением было философское сомнение, возможно прораставшее из времен Александрийского священника Ария [32] или кого-то другого, жившего раньше или позднее, конечно же раньше, во времена древних философов и во дни римских царей: [33] Ромула, Нумы Помпилия, Тулла Гостилия, Тарквиния Древнего, Анка Марция, Сервия Туллия и Тарквиния Гордого. Основателей городов (Ромул – Рим), богопоклонников (Нума Помпилий – воздвигатель храмов), завоевателей (Тулл Гостилий – железные легионы), тиранов и фанатиков (Тарквиний Древний – тройственность небес: Юпитер, Минерва, Юнона), приверженцев моря (Анк Марций – укрепления на пристани Остии), расценщиков человеческого достоинства (Сервий Туллий – неважные, важные и наиважнейшие в его царстве), лукавцев (Тарквиний Гордый – великий римский плебс, сжатый в кулак). Может, до этого мгновения во мне, словно в загадочной вселенной, мешались имена, дни и события, все то, что я пережил с отчаянием в замутненной крови, или выскреб из Лотовых книг, или услышал от самого Лота, теперь же я изнутри сам силился разглядеть этого Благуна, эти живые мощи под Синей Скалой, с которой ниспадающим лучом струилась лунная благость, разгоняя призраков, стремглав бежавших от меня, вечного вампира. Я выпрямился и увидел его, похожего на огромный пень, обрушенный зимней порой лавиной и оставленный сохнуть на ветру да устрашать звериные стаи. Лицо было окаменелым. И борода, слишком длинная для человеческой жизни, простиранная десятилетиями соленых дождей, походила на сталактитовый натек. Он молился, хотя губы его были стиснуты: «Истребление, доподлинно, над нашими головами, вот-вот опрокинет нас в страдания и боли, спалит часть по части, и имя наше будет значить не более, чем крупица праха». Над ним возвышалась знаменитая Синяя Скала, библейский приют отшельников – насилие и лицемерие лихолетий загоняли их в одиночество. По преданию, здесь с крутого утеса первое пришедшее сюда славянское племя бросало в пропасть бесполезных старцев, не способных уже ни сеять, ни воевать и поэтому становившихся бременем для покорителей плодородных земель, вод и вожделенных выходов к морю. Кости, валявшиеся повсюду, усохшие и желтые, накладывали на это предание печать истины. Сквозь эту истину проросло по обыкновению еще одно предание: обреченные старцы были прокляты и умирали с открытыми глазами – в обледенелых зрачках запечатлелось, как они срываются в бездну. Тяжелый даже в своей опустелости, с мыслью, что единственное мое пристанище крепость, я навалился на суковатую палку и преобразился в смирение. «Пришел за советом, отец Благун», – сказал я. И услышал, что алчность отворила человеку уста даже на темени, а такому, по истине говоря, совет не потребен. Он тоже, подобно своим ровесникам и подобно мне, был частью мрака и мраком. Перед костями в лохмотьях, что звались Благуном и постником, устрашилось бы даже пугало из конского черепа, вздетого на обтянутую рядном крестовину, – выдравшись из земли, скоком помчалось бы в преисподнюю. Обросший волосами, он цедил из скомканной своей души дух смолы, который разливался вокруг его тени. «В Кукулине и всюду, на каждом шагу прорастают зло и проклятье», – поспешил я сказать, а он: «Кто ты и как твое имя?» Мы переливали из пустого в порожнее. Я назвал ему свое имя. «Борчило!» – крикнул я, а он опять, не шевеля губами: «Помню тебя, и помню, что ты воистину мертв еще со дней моей младости. Ни из библейского кубка, ни из иудейской каменной чаши не напиться тебе вина – ты не воздаешь небесам любовью. Возвращайся в могилу, если есть она у тебя, дай мне досчитать, когда человек и зверь обратятся к покаянию и посту». Я силился не упасть – от огорчения, что понапрасну одолел такой путь. «Печально, но я жив, святитель. Прикоснись ко мне и уверься». Из пустого в порожнее. Продолжать ли? Я продолжил, чтоб придать смысл своему приходу: «Предчувствую новое нашествие крыс, отец Благун. Ратусов в легионах. Ныне, в губительном преображении, предводители их явились как мужчина и женщина – Исайло и Рахила». На миг в нем будто пробудилось что – из далеких лет: «Исайло, мой внук?» Я вздохнул: «Какой еще внук? На самом деле его зовут Адофонис, он крысиный святой». Процедил: «У меня нет совета, я не утешаю заблудших. В крови глупцов и вправду живут легионы, жаждущие серебряных динариев, статиров, дидрахм. И латинских златниц. А кто они, эти ратусы?» Я пояснил: «Крысы, серые и злые. Согласно Лоту, их другое название – ратусы. Вот его рассказ: Лопнут почки на древе жизни, и трапезы наши станут обильны золотыми яблоками, и в бокалы на наших ладонях станет цедиться с лозы причастный багрец, но придут крысы, а с ними искушение. Ты помнишь Лота, отче?» Я слушал его с закрытыми глазами: «Я одряхлел, а мироточного Лота доподлинно помню. Его закололи палачи, оголтелые, иного слова нет, за то что он взбунтовался против князя Растимира. Поругания ради его за ноги повесили заколотого на грушу, семь дней оставался без погребения. Я пощусь на этом вот камне – Лифостротоне, [34] доступном лишь избранникам божьим, а он стал эхом в пещерах Синей Скалы, давно, во времена тяжкие, не покорясь коварным наветам. Теперь уходи. И прощай». Можно было повернуться и пойти назад, а я стоял и исходил мукой. Зачем я здесь, какого совета жду от этого призрака и моего двойника? Окажись тут третий, свидетель невероятного, он бы нас почел встретившимися мертвецами, а сам зашатался бы и, треснувшись о камень, стал бы нам сотоварищем. «Благун, выслушай меня, – пытался я выдраться из глухой тишины. – Благун…» «Уходи же, мученик, – прохрипел он. – Возвращайся в свою могилу к злодейским снам. Мир не жалует тебе подобных. Слышишь грохот? Близится потоп, он унесет всех, и нас с тобой, мертвых для всего живого, избавленных от славолюбия и вековой боли, прощай, несчастный смутьян, я помолюсь за душу твою, загубленную в повадливости и злострастии». Тоска бросила меня на колени – чтоб не глядеть свысока на эту заросшую бородой немощь. Лунный свет сгущался и, спускаясь, превращался в зеленоватый покров для камня – Лифостротона, затвердевал, его можно было отколупнуть ногтем. Свет улегся щитом между нами, между его и моей потерянностью. Может, унижая собственное достоинство, я спросил у него, случаются ли возвращения из царства мертвых и придет ли новая Лазарева суббота. Он сидел и раскачивался взад-вперед, на коленях держал черепаху – символ отшельничества и смирения. Были у него свои истины: «Корень мертвого дерева живет и пускает отросток. И отравная смертоносная икра усача преображается в рыбу. И у угря отравная кровь, но угорь той кровью живет, и растет, и питает нас. Камень, даже раздробленный, сохраняет жилки под лишаем. Человеческое воскресение в его потомстве». Я коснулся стариковской руки челом – придя за чужой мудростью, я обрел свою: и у крыс бывает потомство. И снова из пустого в порожнее переливалось духовное наше касание. «Кто ты и как твое имя?» Снова: «Моя имя Борчило». Вздрогнул: «Помню тебя, и помню, что ты воистину мертв. Уходи». Я ушел, забился в ближайший распадок – подумать о нем и о себе. 8. Немощь веры С покривившегося дуба, в это лето, столь богатое желудями, что в окрестностях Кукулина прижилось стадо диких свиней, отозвался дрозд, за ним рябчик. Неслышно, немо надо мной пролетела сова и пропала в чаще. Ночь была, и не было ночи. На востоке начиналось солнечное рождение, чреватое зноем, зато утро обещало обильный свет, неведомо почему наполняющий душу печалью, конечно же не мою, – такое ощущение возникает после радости и доступно только живым. Укрытый камнем, похожим на магму, я видел, как к обиталищу отшельника Благуна подошли люди. Можно поклясться, что их из себя извергла гора – лица словно поросли лишаями: Петкан в медвежьей накидке, бездумный и беззлобный, как всякий пропойца, живущий сказаниями, в которых, словно ползучие стебли, переплелись столетья; сынок его Парамон, избежавший уборки подсолнухов, потерянно пялится на свои ладони, дивуясь, с какой стати его занесло в эти горы; Богдан (а говорил, не придет), задымленный факел из костей и души, ростом выше первого, пониже второго, с тайной мощью в себе – звери его пугались. Подошли и остановились, не приближаясь к постнику, поджидали задышливого Карпа Любанского, из соседнего села, в свою долю потрудившегося в битве с легионами святого Адофониса. Они явились, исполняя волю старцев, уже день как сиротствующих без старейшины Серафима, принесли горшок молока и ржаную лепешку. В себе, в малом шаре собственной вселенной, я загодя назирал то, чему надлежит случиться: станут перед утренней тенью Синей Скалы и позовут отшельника, и он, знать о них не желающий, откликнется из темной ямы, спросят его, и спросит он, и подождет, пока его снова спросят, а затем сдастся – и не будет уже святыми мощами на завтрашнем алтаре. За ними внезапно появилась она, Рахила, по такому случаю в блистающей белой одежде, волосы увязаны на затылке, скромная, с молитвенно сложенными руками. Если б пришли только мужчины, постник Благун отослал бы их назад, в Кукулино, он давно уж отмахнулся от этого мира, не исповедник он им, не утешитель. Мать его выплетала рогожки, кормила дитя перегретой грудью, от работы не отрываясь. Выкормила – давно. Теперь же он постящийся пень. Без сомнения, он предпочитал голоса, не желал, чтоб на него глядели, живые лица мешали ему. Весть о смерти первого старейшины его не тронула. Прохрипел: «Серафим, что ж, человек далекий и не Лотова ума, чтоб помнить долго. Чего надобно?» В этом краю дуб называли его именем – благун. Такому, как он, хоть и с повыщербленным стволом, пошли бы на имя и другие названья дуба – острогон, плоскач, крастун, белик, гожлак, сладун, клецер, горун, черник, стеж, платичак, крастун, доброцвет, и еще – баднилист, огнешник, ложник, котолист, дробник, цер, желадец, громоплодник. Вши под лохмотьями зарылись глубже в корни волос, привлеченные приливом крови. Он чувствовал, он не ошибся – под Синей Скалой стояла женщина. «Не подступишься, небось без памяти», – послышался Рахилин голос. Сдерживая волнение, сообщил: «Борчило принес мне известие об Адофонисе. Могу выслушать и тебя, преблаженная». В ответ, однако, раздался мужской голос: «Мы Борчилу не знаем, любезный мой. Пришли звать тебя в старшие, на постройку церкви». Другой, Петкан: «Начали, да не закончили, преподобный мученик. И правда ли, что лес подпалил монах?» Третий, Карп Любанский, опытный в возведении церквей, вызвавшийся помогать кукулинцам: «Отведи проклятье от чернолесья, спаси нас». Во всем этом словно было какое-то поругание для отшельника, словно некий многобожец расставлял ему ловушку. Долго выплетался из паутины старости, слишком долго. Забытье прихлопнуло его, он не понимал, чего от него ждут. Вылез из конуры, похожий на букашку, колдовством поднятую на задние ноги. Из полинявшей рясы, из льняной кожи, натянутой на кости, вытащил руку, безжизненную и словно чужую, протянул ее к далекому сну, лаская прозрачно-синей ладонью ему одному видимое видение. «Нестория, – неожиданно мягким голосом позвал он. – Нестория, я знал, ты вернешься ко мне». Рахилин голос тоже зазвучал мягко: «Не прельщайся, благочестивый. Меня зовут по-другому». Парамон: «Какая Нестория, что с ним?» Петкан: «Призывает небесную мученицу избавления нашего ради». Богдан: «Не похоже, что так, богоизбранная дружина. Поглядите на его глаза – он размечтался о живой». Карп Любанский: «И все равно он поможет нам. Под его благословением поднимем церковь». А Благун, сплошной хрепет костей и кожи: «Что ж ты, Нестория, дай мне руки, я муж твой». Отшельниково сладострастие перекинулось на других. Зашумела кровь. Стояли, прижатые друг к другу, восемь рук, как восемь лопастей мельничного колеса, жаждали женской плоти. Того гляди смелют не только оказавшееся рядом зерно, но и самого постника разотрут в прах, не оставят мокрого места, чтоб неповадно было старику пробуждаться и призывать лебедиц из юности. «Подождите, – солнце загляделось в месяц из зеленой бронзы. – Он видит во мне мученицу из своих молитв. Оставьте меня с ним. Я его уговорю». «Но он…» «Не надо мне ваших баек». «Он же вознамерился…» «Я тоже вознамерилась. Идите». «Он вознамерился попользоваться твоей молодостью». «Вас послали привести его в первые старейшины, с вами он не пойдет. Я беру ваше дело на себя». «Оглупели мы, мои любезные, стали рабами слабосильной веры да соблазнов. Чего ждем, кого? Пошли, я вам покажу в треснутой тыкве будущие наши деяния, вы увидите, что никуда от нас постник не денется. Умные ног по горам не ломают. Пьют да поют». Вдруг Парамон, вспыльчивый и простоватый, схватил за руку Рахилу и поволок ее за собой. Остальные, смущенно посмеиваясь и пряча глаза, ушли, а постник долго, до самых сумерек выл, покинутый и одинокий. Ушли с помутненными взорами, каждый в гневе на самого себя – изгнание процветает гневом. Отшельников вой звучал псалмом, и слышался в нем небывалый призвук. Выло словно бы само время, ходом столетий обращавшее порядок в безрядье, чтоб из этого безрядья взращивались возможности нового порядка и смысла: за уходившими в небытие людьми приходили другие с чем-то от предшественника в себе, излучающем далекие устремления, преображаемые в творения мыслителей и зодчих. Ничего странного: вой – это песнь человеческого состояния, эхо гнева и немочи, но ведь и восхищения и негаданного открытия также. Ничего странного: во мне освобождаются от забвения мысли старого Лота. Не набатом к бунту. Успокаивающе и предупреждающе: во всем, от лица до события, просматриваются глубины – истины человеческие и божеские обманы в нас, и только в нас. Выбравшись из покинутого волчьего логова, ищу в небе и не могу отыскать своей звезды. Предчувствую: Благуну не укрыться от кукулинцев за стеной забвения, знаю также, что и я буду поминать его имя не злобы ради, а с недоумением. Благун! Остался ли он тем человеком, какого я знал, и есть ли в этом краю еще кто, переваливший за сто лет? Вон он, выпрямился, вышагивает, не дает ногам каменеть. Высокий даже в согбенности своей, в Кукулине, может, только я чуть повыше его, на длину пальца. «Благун», – зову. Не откликается. Поворачиваюсь и тоже горблюсь. Мой дом и пустой гроб в том доме ждут меня, покинутость их наполняет тоской. Крепость и все, что в ней, похоже на каменный призрак, на котором столетья густо отложили свой страх и свою скорбь. На возвратном пути, проходя мимо Синей Скалы, я не перекрестился. Прощай, преподобный постник! Ты тот самый Благун, о котором я, обращаясь в далекие лета, могу рассказать многое – из юности твоей и своей, и да простится мне, что я уподобился рудокопу, усеивающему землю незатягивающимися ранами и тоской. …Еще до того, как крысы черными потоками нахлынули на Кукулино, колдовка Яглика (божились, что девица) дождалась, когда луна наполовину вынырнет из земли, и выдоила ее. Облегченную, с пустыми сосцами пустила ее наверх, а молоко в бронзовом сосуде снесла на погост и молоком тем промыла себе там глаза, чтобы узреть жизнь мертвых. И узрела. Ей многие верили: тысячи усопших кукулинцев сидят у подземной реки, растираются песком, скидывают с костей мох и могильную землю, готовятся к свадьбе, в свой день, в свой праздник – дело было на радуницу. Покойные Никифор и Мендуша вновь примут благословение как муж и жена, сыну своему Серафиму родят братца, не одноухого, а здоровенького и прямого, настоящего князя Терновенчанного, достойного и без упросов стать первым старейшиной на селе. Без лукавства, как уверяла всех Яглика, новенький Серафим перешагнет из одного мира в другой и, объятый сладострастием, найдет себе супругу. Никифор и Мендуша ожидают от него внука и дождутся, в один из поминальных дней внучек зажжет на их могиле свечу и оставит кувшин вина, чтоб мертвым было с чего запеть. И тоже поищет себе жену. Так оживали забытые предания о чуме, которой давала жизнь женщина, оплодотворенная семенем упыря. Как полагали самозваные близнецы Кузман и Дамян, следовало раскопать погост и всем преставленникам возле преисподней реки размозжить кости, вычищенные песком, особенно новоявленным молодоженам Никифору и Мендуше. Родят они еще одного Серафима, осеменит он свою жену, девицу или вдову, ахти тогда Кукулино: острозубая чума, по деду Никифорова, истребит все живое. Дотла. И Яглика не будет уже ведьмой на доброй славе, а, как все прочие, обратится в ничто, а то и в зловонный труп. Страшное отродье обдерет ей волосы черными зубами, высосет ее соки, залезет под кожу, и не поможет тут даже всесильный крест. Всех и все погубит чума. И травы, и скотину, и некому будет завтра подоить луну, которой старик Гргур пообещал одежу – студено по ночам между землей и небом… Небылицами проводили скудное лето и встретили засушливую осень. Гргур ткал рубаху Серафимовой снохе Василице Гошевой, отчасти из уважения, отчасти за обещанную половину барана. Согбенный, с отяжелевшими веками, он любопытствовал, правда ли, что у гордого Серафима ожидается братец возле подземной реки. Такая работа одежи не обещала. Василица Гошева, вся мучнистая из-за белесых волосков по коже, была схожа с разросшейся бабочкой без крыльев, которая медленно, но неизбежно возвращается к своему гусеничному обличью, сохраняя какое-никакое человечье лицо. Не дослушав Гргура, она неспешно, словно зачиная языческий пляс, принялась скидывать с себя лохмотья и всяческие амулеты – низку мелких улиток, орехи, дешевые медные монетки с ликом кривоносого кесаря – и устроилась голая на червивой треноге, клянясь, что останется тут сидеть до тех пор, покуда не получит рубаху, плевать, что Бадняк может ее так застать в чужом доме. Гргурова Фоя, даром что узколобая – недоставало морщин для определения годов – и слегка согнутая в пояснице, но по-мужичьи сильная, в пору камни ворочать, бросила несколько охапок сена корове, здесь же, в единственной горнице хозяев, жевавшей жвачку, и скинула свою рубаху. Прикрылась чужими лохмотьями, а ткачу пригрозила, что отгрызет ему нос. Длинные зубы ее были влажны и крепки: с восковым-то носом придется Гргуру ткать от огня подальше. Не важно, было это исполнено или оставалось угрозой. На рассвете, сонный и разобиженный, ежась от холода и проклиная спотыкливые кочки, Гргур переселился к своему куму, чтобы порасспросить у него, могут ли рожать мертвецы и вправду ли текут под землей реки, какая водится в них рыба и питаются ли покойники, Никифор и Мендуша и другие тоже, рыбьим мясом, икрой и еще чем из тех рек… Гргуров кум Шурко Дрен, по виду сущий гриф, клювастый и с гривой, мастерил одежу из кожи, а нрава был молчаливого, не желал знать более, чем узнал за свои четыре десятка лет. Щелкал зубами орехи и слушал, глаза оцепенелые – промчавшееся лето оставило в них пшеничные отсветы. Все знают, Яглика ему доводится теткой и он мог бы попросить у нее малость лунного молока. Промоют глаза и двинут вдвоем на кладбище поглядеть, что там творится под землей и как обстоит дело у молодоженов Никифора да Мендуши. В зеленоватой коже Шурко, покрытой как будто мхом, а не волосами, казалось, не было крови, а под кожей – костей. Склонив голову набок, он внимал деревенским петухам и словно бы набухал, словно перегревалась в нем какая-то пустота. Гргур мог, заострив сухой прутик, проткнуть кума и, отбежав к дверям, наблюдать медленное оседание и уменьшение его тела до кучки сморщенной кожи. Но сделать этого было нельзя: хозяйка Фидамена с аккуратно увязанными на затылке волосами, как постную похлебку, стоявшую на огне, караулила своего грифа. Она была молчаливее мужа и вроде даже не слушала, о чем говорят в доме. И снова, с торжественной строгостью, в свидетели взяв Иоанна Крестителя с иконы на белой стене, Шурко Дрен пообещал, что оба они промоют глаза лунным молоком. А Гргур вдруг стал слабеть и совсем сомлел. И словно бы сам превратился в перегретую пустоту и страх: с какой стати он, на селе столько народу, пусть себе молоком промывает глаза кто-нибудь не такой полезный, к примеру Петкан, от него-то покойникам несдобровать… Полоумный день перешел в сумасшедшую ночь, когда сокрушительному Петкану надоело отбиваться от блох – предоставил неблагодарным тепло медвежьей шкуры, они же покушаются на его кровь. Он бродил по селу, поворачиваясь спиной к холодному ветру, от которого попрятались даже собаки, и вдруг столкнулся воочию с дивом: на гумне Денисия Танчева русалки-болотницы в травяных накидках молотили сухую листву; шли одна за другой по кругу и грозили хозяину, что дом его, выстроенный этим летом, вскорости полыхнет. Нечистая сила не могла простить Денисию Танчеву, что он взглядом придвигал к себе треногу, обращал змею в камень и валил дерево, даже не сам он, а дядя его по матери. Не оборачиваясь, словно ничего такого и не было, Петкан припустил к Богдановой берлоге. До макушки ощетиненный и съежившийся под медвежьей шкурой, во все горло пел, орал, прикидывался, что ни чуточки не боится, отпугивая болотниц, мол, они для него без значения, он сильнее их и подобных им окаяшек. Из рук не выпуская суковатую палку, перешел с шага на бег, пока головой не трахнулся во входную дверь Богданова дома, криками поднял приятеля с тюфяка. Богдан спросонья поинтересовался, что с ним, уж не зашибло ли его дверью, а то, может, решил прилечь между ним и Смилькой. Онемевший Петкан лишь придерживал ладонями сердце, шепелявил и отдыхивался по-звериному. Из-под его ног, рядом с брошенной палкой, скрипом отзывалась рогожка. Смутная усмешка растягивала ему обе верхние губы. И Богдан усмехался тоже, догадываясь, в чем дело: выпить надо Петкану, видать истомился, а приложится к домашнему винцу, хлебнет хорошенько и засмеется во весь голос, с грохотом. Но Петкан требовал, чтобы следопыт заглянул в треснутую тыкву и установил, дано ли покойникам рожать. Уселись под огонек жировой плошки, мухи в прокисшем вине им не мешали. Искуснейший следопыт с затаенной мудростью в нижнем краешке левого ока согнулся над тыквой. И ошеломленно выдохнул – под землей такой свадьбы, о какой толкует Петкан, не будет: Никифорова Мендуша спуталась с другим, Серафим останется без братца, зато подземный братец или сестрица появится у Дамяновой жены Петры, ее покойный родитель и под землей остался козлом, каких поискать… Испощенная более, чем требовалось близкому Рождеству Христову, доброхотствующая собакам и нищим, Петра долгое время верила, что покойники ее караулят, подсчитывают на пальцах ее грехи – в наказание за какое-то девичье баловство. В ту ночь привиделся ей во сне родитель, Гоне Голопятник, свой сон через несколько недель она оповедала Кузмановой Звезде: покойник, тяжелый и бородатый, кожа тесна для здоровенных костей, шарахался по горнице, топотал, шарил по узлам и корзинам – это ж надо, выдраться из могильной плесени, чтоб сыскать жениховский значок для своей женитьбы. Пока она глядела свой сон, Дамян украдкой жевал сухое и пересоленное козье мясо и наливался водой, своей бочки с вином у него не было. А что такого? Днем он постится, а ночью грех не в грех, попробуй разгляди в потьме. Эта мудрость ему очень понравилась, жалел только, что нету рядом Кузмана, пощелкивал бы тоже языком и слушал, как он ловко удумал – днем благочестивый и скромный, ночью лукавый и мудрый… На самом деле, хоть это и без значения, не стал бы Кузман скоромиться ночью – в нем своя созревала мысль. Исполняя задуманное, в продолжение трех побелелых январских (монахи из монастыря Святого Никиты зовут этот месяц Богоявлением) дней он каждое утро повергался на колени перед тем самым священным дубом, что позднее, когда в Кукулине явились Исайло и Рахила, рухнул, спаленный полоумным пожаром. Посиневший от холода и мечтаний, просил у выщербленного ствола содействия – пусть возьмут его к себе старейшины. Зимняя мгла скрывала его от глаз односельчан, храня его тайну и покорство его перед дубом. Молился он на коленях, слезно, до жалости к самому себе. Не мог добиться от людей уважения, хотя подобало ему стать больше того, чем он был. Дуб угрожающе тянул к нему свои ветви, шуршал отверделыми резными листьями, собравшимися дожить до весеннего солнца: Уходи прочь, непутевый, твоим молитвам недостает божественного усердия! Отяжелевшим шагом, с инеем на ресницах, таявшим и мешавшимся со слезинкой, выбитой стужей и ветром, а может, и горьким чувством, что никогда ему не превзойти Серафима, нынешнего и будущего, уже небось полеживающего в зыбке возле подземной реки, возвращался он, сгорбленный, собственным следом назад, каждой жилкой своей сознавая, что карлик он никудышный: не пахал на баране, чтоб сравняться с соседом своим Ипсисимом, не катался верхом на борове, как когда-то давно Чако Чанак, и рыбьих пузырей не умел увязывать в гроздья, чтоб возвыситься хоть на пядь над хиленьким Мироном, сотворившим такое в молодости. У всех троих бороды и белые волосы. Ну и что? Он тоже седой, а бороду отпустить не трудно. Он, бедолага, даже брата не имел в первых старейшинах, а вот Даринко, хоть и калека, такого брата имел… И правда, мало что имел Кузман, но и другие имели не больше. Тот же Даринко, вопреки пожилым годам полагающий, что вчера только – у его дней было только «вчера» – он перескочил межу отрочества. Иногда он неприметно уходил на Песье Распятие, садился на пень в редкой дубраве, с каждым годом редеющей все больше. Синевато-сивые волосы торчали у него из ушей, отпугивали дроздов, однако он не замечал птиц – орлов, исчезающих в вышине, и едва слышных сорок и дятлов. Зажав сухие ладони в острых коленях, целыми днями просиживал он на своем пне, мечтая сделаться ратником в шлеме из золота, железа или из черепашьего панциря, из чего угодно, и мечта эта оставалась в нем затаенным желанием. Оттого и пошли у него нелады с братьями, родными и двуродными, и со снохами… Одна из снох, Урания, вся истянувшаяся в усилиях прокормить ребятишек и живность, с удлиненным, словно от вечного изумления, лицом, понесла Яглике горшок масла с просьбой поколдовать над замечтавшимся Даринко и привести его в разум. Но скоро забыла, зачем пришла, слушала с разинутым ртом про подземную свадьбу, после которой родится могучий и умный старейшина, он расширит Кукулино, растянет его, словно тесто, от моря до моря. Что такое море, она не знала, не знала и где находится. Ее мир тулился вместе с ней в глинобитных стенах, под низким провисшим потолком, в доме с одним оконцем, повернутым к яблоневому саду затаенного блудника Иллариона. Панда ее сколь раз упреждала, чтоб держалась подальше от старика, не попадалась ему на пути, больно уж дурен глаз у свекра, хотя знахарка Наумка уверяла, что дурной глаз имеет Илларионов сын Гулаб, известно всем, из-за него роженицы остаются без молока, и только она, искусная в знахарстве, за две серебряные монетки может скинуть с его глаз злую силу, она, а не Гора или Велика или Долгая Руса… И голодные, роженицы в Кукулине могли в то время выкормить хоть двойняшек. Посему Долгая Руса советовала Урании не якшаться с Пандой, за две монеты, да хоть бы и за медяшку, она глаза с ресницами вместе вырвет своему Гулабу. А не знает, что ее саму все боятся. Чако Чанак видел, как она сидела ночью на грушевой ветке, караулила, когда луна проклюнется из земли, чтоб ее подоить. Панда, не Яглика, шептал кое-кто, а кто именно, умному лучше не спрашивать. Ибо всякий, оказавшись чуть подальше от остальных, превращался в своего зловещего безликого двойника: Боян Крамола подковал козла по указке чокнутого богатея из Города; Кузманова дочь Лозана и Дамянова сноха Пара Босилкова поменялись тенями, чтоб дьявол их не распознал ночью, когда они ходят по воду; следопыт Богдан и Парамон, подученные Каноном, бондарем и седельником, спали у реки Давидицы с мраморной бабой, выкопанной из пахоты, и оттого-то Парамон не женился. А мог бы. На Гене или же на Борке. Затаскивал время от времени то одну, то другую в чужие сараи, отнимая у них то, что могли ему дать безответные сиротки, тоскующие по дому с хозяином. Сестры потом вышли замуж за братьев Захарию и Жупана, жили в доме, поделенном на две части, на самом краю села у чернолесья, у первой уже имеется сынок, шустрый и конопатый в отца, вторая, Борка, скоро родит; три женщины с единым прозванием Вейка – бабушка, дочь и внучка – Деспа, Войка и Фила – переселились к ней в ожидании родов и хозяина прихватили с собой, желто-зеленого Уроша, сына, отца и мужа, пускай тут и ест и пьет, на их глазах, где они, там и он. Урош этот, подстрекаемый глухим Цако, своим двуродным братом, пытался обженить Петканова Парамона на меньшой Вейке, Филе, но без успеха. Парамон обошелся без жены… Тогда, в те полумертвые дни и мертвые ночи, Кукулино жило под защитою небылиц и никто постника Благуна не поминал. А голод уже пытался выползти из своей ямы: у многих не хватало муки, нечем было кормить скотину. Боян Крамола по мягкосердию своему не смог, как другие, взять под нож корову и в одно мглистое утро нашел свою кормилицу окоченевшей, с заледенелыми ноздрями. Над ним сжалился старик, что не мог жевать хлебные корки, и принес их целую торбу, чтобы кузнец сготовил детишкам тюрю. Это было по-людски, и даже очень, и Богдан, превозмогая гордость и стыд, поблагодарил его. Сам он ел все меньше, оставлял свой кусок домашним, стараясь малость муки, полученной за топор или косу, дотянуть до следующей жатвы. Не застонал, только сжал кулаки, когда хоронил двухлетнего сына, и прямо с кладбища поспешил в Город искать работу. Все тогда ели два раза в три дня, люди оголодали пуще волков в чернолесье, остервенело накидывались даже на падаль. Дни делались все длиннее и все мучительней ночи. Сморщенные и одичалые, молодые худели, а старые ждали конца, призывая смерть. А она не спешила, знала, что в любой туман доберется. Все в Кукулине потонуло в серости, до того небывалой, – небо, дома, люди. И в людях самих, изнутри, все посерело: мысль и надежда, воспоминание о зелени и медном отблеске весенних и летних нив. И только погост обещал утешение и избавление. И все же многие выжили, дождались, когда вернется к ним постник Благун и даст им благословение. 9. Воспоминания, боль Любовь – необходимость, ненависть – неизбежность. Рождение его произошло на недоплетенной рогожке в шагу от болота: пуповина перерезана серпом ли, зубами ли и связана задубелыми пальцами, крещение принято в тростниковой тине, послед закопан в мягкий торф. Имя: Благун, дуб тогда буйствовал листвой и синицами. В первую же ночь явилась сучка и выкопала послед. Мужчины посмеивались, а женщины пророчили, что из него вырастет князь и имя его возвеличится в писаных книгах. А то и святитель получится – Благун Безгрешник. Родился в волосах, привыкал к жизни и рос, а на тринадцатом году влюбился. Звалась Нестория и была сперва моей женой, а потом, как сбежал я с Растимировой ловли, пошла замуж за некоего Романа, но и ему тоже пришлось бежать от долгов. Моложе меня на шестнадцать лет и старше Благуна на девятнадцать, да еще прикинуть сюда годок-другой – тогда ей перевалило за тридцать. Ее назвали Несторией, а могли бы назвать Нивой, Рыбой, Орешиной – волею судеб ей было предопределено размножаться, метать икру, давать приплод. Мальчишка и взрослая женщина, свадьба! Мужчинам на несколько лет хватило смеха. И как иначе: пятна по лицу, отяжелевшая поступь выдавали беременность – на подходе невесть чей ребенок (позднее он станет Тимофеевым дедом, помянутым в моем сочинении). А ведь не желательно, чтобы зналось. Зелен Благун, зелено его семя, можно так сказать. Насмешки прекратились, как только пополз шепоток, что Растимир, грозный вельможа, собирается одарить Несторию дубовой зыбкой – окована серебром и покрыта дорогими мехами да шелком. Значит, и он успел, уличали исподтишка. Позднее, когда я тайком воротился на одну ночь в Кукулино, она, жена моя и чужая, нашептала мне о том, как было. В лето шесть тысяч семьсот двадцатое, в первый месяц третьей осени после бегства моего от ловцов Растимирова гнева, Благун повенчанный стоял, лицом обернувшись к стене, голобородый и перепуганный, а Нестория, освещенная боязливо подрагивающим свечным пламенем, раздевалась. Перед тем она выносила шкуры на двор, чтобы блохи с них переползли на собак, вернула их обратно без блох, зато с клещами. Он глядел на нее тайком, краешком глаза. Может, напоминала ему удлиненную тень с позлащенными гранями, словно излитая в темноте из молока и малинового сока, голая и теплая, напитанная материнством – через пять месяцев кормить ей чужого Благуну сына. Протягивала руки. «Иди, – шептала она, – теперь ты мужчина». Он оставался неподвижным, блюдя достоинство зрелого и умного человека, безголосый и без желания в руках. Она же знала, что он растревожен, с кипящей кровью и жаром в костях, в пустоте которых диким криком нарастало желание. Выпрямилась, обнаженная, волосы распустила по спине. Через незримую щель пробрался луч месяца и лег на ее груди, увенчанные лиловатым цветом. «Я твоя, ты муж мне теперь», – тянула к нему руки. Он дрожал – в такое мгновение можно только тонуть все глубже и глубже в бездне нарастающей слабости. Она шагнула и притянула его к себе. Ее грудь матерински прижалась к его губам. Вырваться он не мог. Женские руки, по-змеиному ловкие, стискивали его раскаленным железом. Десять пальцев как десять обручей на затылке, в них кругами ходили молнии крови, женской, не вечной, но способной на обновление, переливающейся в новую плоть, выходящую из утробы. Тащила его, истаявшего и прыщавого, к вороху шкур на земляном полу и казалась еще обнаженнее, чем была: любопытные, подглядывавшие за ними, клялись, что сквозь молодую женскую кожу углядели нечто, невидимое глазу, не кровь и не жилы, а совсем иное – эмбриона, обличив будущего существа. А в стороне, за речкой Давидицей, называвшейся когда-то давно Скупицей, глубина ночи оглашалась ором. Распевшиеся сваты потеряли путь под ногами, вино завертело их по кругу. Ночь, прозрачная и голубая, с вызревшими каштанами, была как громадная раковина, составленная из земли и неба, приоткрывшаяся, чтоб в безвыходном ее пространстве ожили тени и выкрики и с ними вместе мягкий, хорошо знакомый ветерок, с осени ощутимый здесь каждой клеточкой кожи: ползает по траве, греет малых зайчишек, опахивая их ароматом фиалок, который выпускает лисица из своей железы, чтобы перекрыть звериный дух и обмануть добычу. Верхняя часть крепости держала на каменных своих плечах луну. И там, в покое за огромной трапезой, обитали сами по себе песнепойцы. Совсем другие, богатые и всемогущие. Их песнь доходила до горницы молодоженов. И гасла – Нестория уложила молоденького Благуна к себе на ложе из шкур. Ни этот ворох, предназначенный для любви, ни все другое в горенке не имело имени – в такие ночи не имеет имени и сама страсть. Может, он в ней тогда разглядел чудовище или ужаснулся, почуяв чудовище в себе, но не закричал, только голову откинул на спину. С молодой силой рвался из рук женщины, ему назначенной в жены, в прыжке ударился обо что-то, о стул либо посуду, и чуть не обрушил дверь. Она осталась сжатыми пальцами стискивать пустоту мрака, голая, с голыми глазами и с оголенными зубами, длинная и длинноволосая, и на устах – зов. Свадьба была, когда наливались яблоки, и он, Благун, сделался отцом чужого сына в ту пору, когда в Давидицу кидали серебряный крест – парни соревновались в его доставанье, в награду за то получая золотую монету. Среди голышей, молодых и как один неимущих, в ледяной воде оказался и он. И лишь только крест упал в воду, первым бросился в заходившие волны. Он не плыл. Волочился по песчаному дну, чувствуя, что летит под водой, но как бы и на облаках, он был недостижим, он будет недостижим, когда поднимется раньше всех с блистающим крестом в руках, подобно новоявленному крестителю. Поворачивался спиной к ледяному ветру, ворона сшибающему на лету, и людям, глядящим на него, казалось – сейчас он расплывется, станет водой в воде и, переходя из течения в течение, уплывет навсегда, чтобы когда-нибудь после, когда зрелой пшеницей покроются нивы, испариться синим из синей воды – так на заре отлетает сон от ресниц. Хоть краешком ума да предчувствовали они, что этот юноша, бросившийся за крестом, отличается чем-то и от своих сверстников, и от них самих. Ждали, затаив дыхание. Дышали, казалось, только кожей, стужа пробирала все глубже, а с ней и ветер из чернолесья. Благун схватил крест и поднялся нагой, к влажной коже лепились снежинки. Стал воителем веры – каждый дом его будет одаривать, дивиться или завидовать. С первыми подснежниками, не раньше, со свадьбы прошло шесть или семь месяцев, он стал мужем своей жены. Палками принудили братья и родичи. Да и он тоже, с пробившимся возле губ мужским пухом, не уступал родне ни статью, ни норовом -такие же цвета топленого воска волосы и такая же кожа в мелких прыщах. Годовалые ягнята догоняли шерсткой и мясом блекочущих маток, охромевших почти поголовно от какой-то хвори, когда ему объявили, что он станет отцом. Он же подкармливал тайком горного постника и выучивал жития мучеников из прошедших столетий. Натягивал на себя новую кожу. К жене не подходил. Ударила его ниже пояса сжеребанная кобыла, догадался кто-то – так и останется с двумя чадами, Богородом да Кристиной, вторая только его семени. А в его молодой плоти уже вызревал будущий отец Благун. Я прибыл тогда тайком, ввечеру, кажется, второй раз, со свадьбы уже прошло несколько лет, а еще больше с ловли, когда стрелки Растимировы гоняли меня вместо дичи. До того я где только не скрывался: по котловинам, над которыми ныне поднимается монастырь Святого Пантелеймона, по теснинам реки Трески, по селам возле озера Лихнидис [35], что, по преданью, принадлежало Ноеву сыну Яфету, и все рыбы в озере том: лососи, налимы, форель, сазаны, плотва, пескари, лещи, усачи, карпы – и птицы: лебеди, дикие гуси, утки, голуби, нырки, камышницы, цапли – и все берега и лодки. Нестория, теперь не моя жена, переспала со мной до полночи, затем помогла мне пробраться в крепость, взойти по каменным ступеням и одолеть сонного стражника перед опочивальней его господина. Я мог все и делал то, что хотел. Негодяя застал спящим на мягких пуховиках: белый, с выбеленным лицом, одрябшим от блудодейства и жажды насилия, мягкие руки с сапфирами на слабых пальцах, сало под шелком. Когда ему не спалось, сидел за чашей вина или же с факелом мотался по крепости, пересчитывая мертвых в своем владении. Сейчас он спал, я мог его резать, разнимать на части или же убить единым ударом, возвращаясь к анатомии, к которой я, с Лотовой помощью, подступался однажды не без страха. Почувствовал ли тогда я, всемогущий, бесцельность своих намерений и могли ли они быть правдой, хотя бы только моей? Мучился ли я предстоящим шагом, который преступника освободит от греха, а меня обременит страданием, а в старости неизбывным страхом пред тем, что ждет меня на том свете? Тяжко. Для меня существовал один только свет, этот. К тому же в беглецах я поднабрался суровости, стал добычей лютости превеликой. И мертвый, вдали от хаоса жизни, Лот мог бы мне подсказать, что не Растимиру я мщу, а себе, мог предупредить, что после властелиновой смерти я останусь пустым, без цели и без желаний. Но все это было лишь мигом, который отступил перед планетой Сатурн – влияние Сатурново на мою вспыльчивость предсказал еще некий возвышенный Алкибиад Лихнидисский. на самом деле его звали Эразм Снегар, рыбарь и святитель, с живой пиявкой под кожей на лбу. Проклятая планета, покоряюсь тебе, ты совсем мне помутила рассудок! Сын этого Растимира будет считаться Благуновым чадом, выкормленным моей женой, вскормившей до того моего сына. Князь и червь. Но червя мне раздавить тяжелее, куда тяжелее. Сатурн старался не для червя, он имел дело с людским расколом и нетерпением, с избавителями от зла, ретиво сеющими новое зло. Я коснулся ножом его горла, разбудил: «Хочешь помолиться, Растимир? – Он не мог вспомнить, кто я такой, трясся в тумане оборванных снов. – Та ловля, Растимир, была последней ловлей на человека». Узнал меня – ему тоже покровительствовал Сатурн, бог, жрущий своих детей: «Не убивай меня, Борчило. Я богат, все станет твоим». Я покрепче нажал на нож, под ним проступила кровь: «Сильно ты пограбил здешних мужиков, князь». Его глаза побелели. «Я все им верну, – унижался он, – а сам уйду в монастырь». Я спросил, чего он от меня ждет. «Избавления», -промолвил он. Я ему подарил избавление. Остался лежать с ножом в горле, на серебряной рукояти мое имя – Борчило. Украшения на пальцах я оставил ему, зато взял от изголовья меч – для него он слишком тяжел отныне. Наконец-то мы с ним поладили, как полагается умным, – нож за меч. Я ушел. Еще до снега дорога отвела меня к морским берегам, а затем по пенистым волнам – к земле скорпионов и фараонов, слишком далеко, чтобы я узнал: настала пора помолиться за душу Нестории, трижды венчанной. Мы с Благуном остались вдовцами, он отшельник, я волею мачехи-судьбы бездомник, хотя в Кукулине, вспоминая меня, полагали, что я давно лежу на кладбище широкого мира, где-нибудь на припеке или под липой, первой оборачивающей листья, напоминая живым, что уходит лето. Далеко и вдовец – Сатурн уже не приближается к луне но ночам, – я был один из многих мучеников в том столетье. Шаги воспоминаний отзванивают по исхоженным дорогам, теряясь в далях времени, в глухих глубинах, где сотни скелетов, с которыми я встречался и расходился. По поверхности краткой человеческой жизни плавает пена горечи: кипит сперва, потом становится знамением бренности. Трещины в стенах крепости возвращают эхо вчерашнего века и осыпаются полегоньку. Слышатся вздохи камня. Он умирает. Его призрак – пепел, под чьим наносом затаились теки, им дано пережить и дерево, и человека. Паутина. На ней повисли сухие скелеты, из пустых уст до меня доносится их тоскливый зов: Борчило, к нам приставай по велению своей судьбы. Моей судьбы? Какой судьбы? Не шутите, любезные мертвецы. Вместе с человеком умирает его судьба И не воскресает. У вампиров не бывает судьбы, и нет судьбы у моего сына Димитрия, светлоликого, златоокого мальчика, что пришел на свет с лихорадкой в костях и ушел в тринадцатый год после бегства моего к морским бурям и жарким пустыням, и я с ним даже не смог проститься. Дополнение. Продираюсь в тумане минувшего, сквозь пределы и время. И думаю о завтрашнем дне. Кто развяжет узлы? Взойдет черное солнце. Из-под него снопами – искушения и тщеты надежд, моих, а может, и тех в Кукулине, кто не поражен слабоумием, и еще: вызревает дикое просо, но не подлетают к нему ни дрозды, ни трясогузки. Предчувствую почему. И все же подожду. Когда понадобится, растолкую, ведь то, что назначено, случается только раз. Один в крепости, жду. Было и у меня потомство, теперь вместо него гроб забытый, припасенный не мною. Никто не приходит ко мне с утешением, не спрашивает, жив я или мертв, – обновляюсь силой подземной реки, не успевшей засохнуть.  Некий Бабун: С проклятьем в союзе всякий богосоздатель, бог – эго ты в своем деянии гордом Я, Борчило: У лишенного плоти нет ни бога, ни деяний. ПЕСНЬ ВЫСЕЙ 1. Ни бог, ни могила Ничего. И надежды нет. Воротившись от Синей Скалы, из святого убежища постника Благуна, Петкан и любой из остальных, Парамон, Богдан Карп Любанский, мог бы перекреститься: Идите и закопайте его. Преподобный постник преставился. Закапывать не пошли, еще не настало время. Минул день а может, два или три, и я, дождавшись луны, воротился в крепость. По Кукулину промчался ярко-желтый ветер, похожий на зыбкую прозрачную и мутную ткань с развихренными малыми рыбками – знать бы, – поднятыми ураганом с берегов мелкого моря на краю пустыни. Это будто развеселило кукулинцев Рыбы падали на крыши, на землю не столь густо, чтобы накормить голодных, но и не были из бесполезных преданий, их можно было потрогать руками и взять на зуб. Лишь только ветер понесся к Городу, не иначе содрать с него кровли, с болота на шли тучи и гром. Спасение от тяжкого зноя. Но словно бы и угроза. Все вокруг, от звука до очертания, от предощущения до страха, казалось прорывом новых таинств из кратера видимого спокойствия. Пока большинство, в первую голову ребятня, бились из-за сухоглазых рыбок, Кузман и Дамян, от превеликой близости схожие и в дури, и в мудрости, пялились на горы, а что можно было там углядеть, досмотрел только тот, кто постарше, Кузман: «Идет, мои глаза не лгут». Подошел Петкан, гнал перед собой овец и коз. «Осень?» – спросил он. Кузман помянул имя постника Благуна, и он закачал головой. «И я вроде бы преблаженного видел, во сне». И погнал свое стадо на чахлую травку, жалеючи самого себя – прошлогоднего вина нет до нового ждать да ждать. Кузман: «Он и вправду идет». Дамян: «Благун, да?» Кузман: «Подождем, чтоб он благословил нас. Подсолнух оберем после». Дамян: «Опять тебе дома будет выволочка. Третий день забираешь мула на уборку, а ворочаешься ни с чем». Кузман: «Закапало. Дождь да рыбки. Пошли, посидим под орехом. На кой они нам, подсолнухи, если он идет?» Он и вправду пришел с дождем, с неизбежностью дождя, оборванный, от волос тяжелый и, на диво всем, после стольких лет выкупанный в Давидице. Опирался на кизиловый сук и еще на какой-то предавши случай – черпал из далекой юности силу. Более того: он уверовал, что снова юн. Под частыми порывами ветра за спиной его трепыхался обрывок кожуха стягом воина, под чьими стопами простирается поприще побед и поражений, неизбежной доли судьбы. На лице его выписалась целая жизнь, особенно последние ночи с мечтаниями и ловушками снов о Нестории, его и моей жене, давно уже ставшей тленом, над которым ни ему, ни мне не молиться. И как будто нельзя иначе. Все случается с той стороны, где прорезана бойница для стрельцов, возле коей я пребываю, Благун словно и не шагает, а земля скользит из-под него, приближая село и людей. Сух и, несмотря на высокий рост, легок. Ветер в него не бьет, проносится мимо, стараясь не помешать игре, которую судьба спешит навязать Кукулину, заклятому моему селу. Утверждают, если всякому можно верить, под взглядом его расцветает сухое дерево, про одну такую вишню знали многие в Кукулине. Охваченные волнением, выскакивали из домов, тянулись с подсолнуховых полей. Благун не был богом, зато был вечен, навряд ли удастся кому-нибудь выкопать ему могилу. Собирались с обеих сторон на его пути, под дождем опускались в лужи, больше женщины, мужчины слишком были для этого неловки. Он над поклоняющимися не сгибался. Глаза спускал словно на паутинных нитях до женских лиц. «Нестория, где ж она?» – повторил дважды. Его не поняли. Думали – молит набожно, призывает явиться миропомазанную святую. Всхлипывали, тянули к нему руки. Десять лет назад от прикосновения рук его прозрел слепой. «Благослови нас, преподобный отче», – молили его и мольбой очищали души свои от взаимных злобств. Лбами падали в грязь, поднимались, глаза вытаращены неясным страхом или надеждой. С лиц цедилась вода: ливень, теперь без рыбок почти, не унимался. Он, доподлинно он принес дождь, а и такое было – творя чудо, без труда прошелся босыми ногами по углям на общее благо: козы тогда принесли двойнят. Тут он увидал ту, которую считал Несторией: стояла, выпрямившись, под косыми нитями дождя, прислонившись плечом к иконописцу. Оба серые в сером, готовые слиться с туманом, что завтра, без сомнения, выползет из горных впадин. Словно он для того и выбирался из отшельничьей ямы под Синей Скалой, пожаловались – все еще нету церкви. «Будет, – утешил он. – Начинайте строить». Боялись, как бы не отлетел. Кузман и Дамян подхватили его под мышки, вытянув шеи, что-то ему шептали. Вели его с набожным видом. Из луж поднимались женщины, сгорбившись уходили. И под дождем ухранили проникновенную набожность, находились словно посреди солнечного круга, а само солнце пребывало в круге из радуги, источающей мед и вино. И впрямь, на горные вершины водопадом хлынуло солнце, зелень сделалась прозрачной. «Старейшина! – раздались восхищенные крики. – Преблагой отец станет нашим первым старейшиной». Не поминали, но помнили о рождестве смерти, о нашествии крыс, верили, что старец послан им в избавление от будущих зол. И он, в этом бескорыстном кукулинском самообмане, оказывал себя как не надо лучше – пришел и привел с собой дождь. После дождя солнце словно набухло, превратилось в живое яйцо вселенского паука, принявшегося высасывать полегоньку и нивы, и разум. 2. Мир в капле дождя Между душой и чувствованием протянут хрустальный мост, по нему ходят и расходятся сомнения и истины, те, что нас окружают, и те, что сами мы сотворяем в трагическом неведенье повседневья. У таких мгновений нет ни свидетелей, ни судей. Просто в меру своей способности к созиданию мы из прошлого вытягиваем предпосылки для будущего. И только ли предпосылки? Если так, придется отказать во внутренней силе даровитым, что под каменистыми берегами отыскивают золотую жилу, ведущую к открытиям, нас обогащающим. Согнувшись перед своей бойницей, я держал на ладони каплю дождя. Ничего особенного, Приблизив ладонь к глазам, я узрел в капле некое завихрение, возникшее из туманного забытья, и словно какая-то магия утянула меня в события столетней и более чем столетней давности, во времена, когда крестоносцы подкапывали основы Византии, Македонии и Фессалии, дабы подпасть под власть Бонифация Монферратского. В прозрачной вселенной на ладони открывались мне пределы с реками и горами и с бунтами старожилов против возросших даней и против чуждой веры, что не хуже и не лучше своей. Я тогда был беглецом и знал очень мало о насилии, которому понапрасну пытался противиться первый Ласкарис Теодор со своей Никеей не мог об этом знать и маленький кукулинский деспот Растимир со своими поборами поверх византийских и латинских даней. Ограбленный народ голоруким бросался в схватку и, окровавленный, ' не желал признать, что попадает из одного рабства в другое. Во мне, в самой утробе моей, роптал некто, оставшийся от жившего некогда (столетье да еще осевшая в костях часть другого столетья) Борчилы Грамматика, обладавшего иной точкой обзора: не вселенная на ладони, а он на ладони подлинной вселенной творит в ширь земли порядок иных отношений между человеком и человеком, между зверем и человеком, между растением и зверем. Я чувствовал – я это действительно сотворил: все, что было до этого дня, станет сном, исчезающим безвозвратно, и тайна его покроется буйным житом, омываемым то дождем, то солнцем. Но я, Борчило доподлинный, желчью давлю в своей утробе обманщика, норовящего пролезть в идолы. Порядок, какой ни на есть, составляется из хаоса – лживый рай с туповато улыбчивыми толстенькими человечками, утерявшими все, что знаменует настоящую жизнь. Земля, своевольный рай и своевольный ад, возгнушается ими и иных породит людей, суровых, с ненавистью в крови к скользкому сладковатому обману. Вечный рай, с вечными плодами в садах (обман, покорство и власть над возможными возмутителями), все равно, какие бы головы его ни придумали, под коронами и под шлемами завоевателей или под камилавками, – этот рай недоступен, зато мечтание о нем смягчает толпы: покоритесь, и вас ждет утешение. Надо мной висели головой в отвес затаившиеся нетопыри. Их рай был другим, чем у голубей, омываемых солнцем и лазурью неба, даже днем украшенного луной, похожей в синеве на лепешку. Я придвинул вплотную к глазам ладонь с дождевой каплей: пределы окрасились кровью, заполнились трупами взбунтовавшихся бедняков, а поверх раздавленного, распадающегося месива лежит, развалившись, огромный Растимир, славянин-византиец-латинянин, а на самом деле ни одно, ни другое, ни третье, жует себе козье мясо, испеченное в пепле, и дивится собственному деянью: Лот, хоть и выученик латинский, поднял села под горным чернолесьем – и вот, в лето шесть тысяч семьсот девятнадцатое, заколот единым взмахом во время послеполуденного сна, а может, сожжен или повешен или… А с ним, без сомнения, и еще кое-кто; исподволь, в новых преображениях возвеличенный Растимир становится землею и камнем под вереницей могил, протянувшейся до сего дня, до выхода истинного постника Благуна из таинственной ямы под Синей Скалой, святого и грешного места, где обитают отшельники по соседству с костями стариков, ставших бременем для сыновей и внуков. Изо всех сил я старался увидеть грядущее. И? Узрел? Может быть: опять на Кукулино собираются легионы черного святителя Адофониса, серые и сильные крысы, преемники орд, вкусивших живого мяса и на время оставивших сражение с птицами и людьми. Я пытался увернуться от ожившей и страшной картины в капле дождя, но вместо того, вкамененный неведомым колдовством, изыскивал и сотворял новые видения. И думал – или я прозорлив, или безумье прогрызает мне чувство и разум: крысы и взгромождение трупов с голосом в окровавленных глотках, голосом, подобным крику моих полых костей – возьми заступ, зарой меня, – вот что наполнило каплю. Может быть, я не прозорлив, но и безумен навряд ли. Избыток счастья и праздного довольства превращает людей в размягченных слабаков, а покорность перед насилием создает смиренную обезличенность с ложной и скорбной верой в райские сады под благой защитой невиданных и, по Лоту, вымышленных божеств, предоставляющих деспотам возможность уверять нас, что голод – это сытость души, а почитание суровых божьих законов – набожность, за которые небеса, принимая нас в объятья, утешат всяческой благодатью. И тут я увидел в капле себя: живые мощи, а вокруг умирают, за умершими следуют новые рождения для новых смертей, все повторяется без конца и без края, и в этом кружении только я один без веры и без божественного обмана. И все-таки я молюсь – выдумал себе псалмы и молитвы, – проклинаю судьбу. Божества нет, и я призываю смерть зачислить меня такого вот, перевалившего за сто сорок лет, в список своих жертв. Сжав пальцы, я раздавил вчерашний и возможный завтрашний мир в капле дождя, а вместе с ним и все смены людского рабства и людского покорства насилию, одолимого только насилием, из которого всегда, будь то смерть жестокого Нерона, обман или самообман Цезаря, деяния нынешнего Андроника Второго Палеолога [36] или иного восточного, южного или северного властелина с золотым прахом на пальцах и черными солнцами над челом, где свирепость и похоть угасила мудрость, вырастает новое насилие. Я открыл ладонь и вгляделся. Линии кожи сделались реками, по которым плыли моноксилоны [37]. В каждом, а их десяток, сидят по двое, и каждый в уменьшенном виде Исайло. За ними наползают ощетинившиеся крысы, переваливают через ладонь, вплавь одолевают пустоту покоя, где нахожусь я, спускаются через бойницы, ищут путь к домам и селам вокруг крепости. За собой оставляют зной. Знаю, меня лихорадит. Перепонки разума раскалились. Бодрствующего, меня одолевают сны и сомнения. Предвижу – смерть поначалу замахивается: первое нашествие крыс было вступлением к кровавым завтрашним оргиям, я же буду за ними следить в бессилии, и уже сейчас я могу их живописать кановером [38] и углем. Остается только томиться и ждать со слабой, мертвой почти надеждой, что я обманулся. Когда, словно туча из тучи, опустилась ночь, в Кукулино въехал Фиде, волоча за конем на веревке пленника со связанными руками. Кроме меня, не было свидетелей тому, что случилось. Фиде соскочил с коня и приблизился к согнутой жертве – с лица его даже лунная благость не могла стереть гримасы ужаса. «Макарий, так ведь тебя зовут, а? – спросил Фиде. Съеженный и со страхом в глазах пленник что-то процедил тонкими губами. – Ты повесил моего родителя Деспота, а у него не спросил, может, он, убиваючи, защищался от проклятого Русе Кускуле». Пленник опять что-то пробормотал. Не кричал и не вырывался, когда вокруг шеи затягивалась удавка. Луну покрыло небольшое облако и ушло как раз в то мгновение, когда на дереве, где повесили Деспота, закачался его судья. Выпрямившись на коне, Фиде уехал туда, откуда прибыл. Назавтра, не зная, кто повешен и кем, Богдан с Парамоном закопали висельника подальше от кладбища и долго терли руки мелким песком и полоскали в Давидице. Мертв Русе Кускуле. Мертв Деспот, его убийца. И судья из Города, что его повесил, мертв. А меня с ними нет в земле. 3. Псы и песьи нравы Вся жизнь сводилась к нравоучению. Как только мужчины, загрузив в амбары малость ячменя и ржи и вспахав землицу под паром, полегоньку взялись за строительство, нивы и пастбища перешли к женщинам. Новый старейшина освятил фундамент Церкви, и она, стенка к стенке, поднялась до предполагаемой кровли, став иной, чем была, словно вырастала сама собой. Днем строили. Ночью при факелах и звездах двуименный Исайло-Адофонис черным, багряным, синим и желтым изнутри расписывал белые стены божьего дома житиями библейских святых. «Строил я в Волкове, Кучевище, Кучкове и над Любанцами и даже в Городе строил, – уверял всех Карп Любанский, пришелец столь благостного лика, что созерцание его вгоняло человека в сон. – Купол останется на весну». Тем временем церковь заполонили крестители, воскресшие и грешники. Адофонисово изгнание безбожников из библейского храма заняло северную стену, он сам – желтоглазый Иисус, проклятые – Тимофей, Парамон, Русиян, Богдан, Петкан, а с ними Кузман и Дамян убегают от молний, вкруг них лежат с окровавленными крыльями журавли. Я спускался из крепости ночью, глядел: сквозь одеяние Иисуса назиралась черная линия. Хвост? Кукулинцы принимали это за тень, а то и вовсе не замечали. В одну из ночей с двумя» лунами Рахила пошла на реку сполоснуть от краски горшки. Ступала неслышно. Еще неслышнее ступал я. Следил за ней, ждал, когда уснет село, чтобы взглянуть на роспись. И тут за Рахилой появился он, Тимофей, мой правнук без моей крови. Нагнулся, схватил ее за плечи, но не повалил, а выпрямил. Тяжело дышал, и она тоже, молчали. Вскипевшая, пузырчатая, шумная, кровь их шла к взаимному пониманию, прокладывая дорогу плоти, чтобы обоих затянуть в омут, узлом увязывая огненные нити страсти, я же, стискивая руками распаленную утробу, опасался, что парня покалечат укусы. И вдруг окаменел: к ним исподтишка устремлялась косо удлиненная тень. Одна и еще одна. Псы проклятого монаха! Она упала, Тимофей сверху, чтобы защитить, пес накинулся на него, другой с оскаленной пастью ожидал своей очереди. Живой клубок лап, челюстей, когтей, криков и брани, звериной вони и людского страха и похоти, черное месиво в пятнах лунного света, и в звериной пасти и на молодых зубах оставляющее горячий привкус крови и желчи. Внезапно, скрытый за вербой и слишком слабый, чтобы вырваться из оцепенения, я услышал скулеж звериной боли. Распоротый мечом, некогда принадлежавшим саксу, пес с вывалившимися липкими потрохами полз, не в силах подняться на ноги. Тимофей, зверее зверя, размахивая мечом, ждал, когда и другой подвернется ему под удар – рана и кровь, еще рана и черная кровь. У псов не было железных морд и брони тоже не было: один издыхал здесь же, другой убегал от смерти. Тимофей выпрямился, поднял Рахилу. И впотьмах сумел углядеть свидетеля – догадался, что тот сюда притащился не ради псов. Я услышал: «Спасенные остаются должниками своих спасителей. И женщины тоже». Тимофей: «Ясное дело. А ты что, Парамон, убиваешься по собаке?» Парамон: «У этой собаки была цель. И у той, что убежала, тоже». Тимофей: «Конечно, укаждого есть своя цель. И у тебя, раз ты оказался здесь». Парамон: «И у меня. А уж у тебя тем более, если ты кроешься в темноте». Тимофей: «Русиян потерял дар речи. Кабы мог, рассказал бы тебе, как его драли псы. Когда-нибудь ты тоже отведаешь». С меча в Тимофеевой руке капала песья кровь. Он и сам сейчас, да и Парамон тоже, походил повадкой на пса. «Иди своей дорогой, Парамон. Не то мы разойдемся по-другому, двое останутся без одного, пойми это, коли уж меня не уважаешь». Парамон: «Понял. Только мне помирать не к спеху». Вынул что-то из кожаного пояса, нож, косарь или коротенькое копье. У молодых кукулинцев острое железо – продолжение рук. И сами они нередко делаются частью безумья и зла, ведь в конечном счете зло не просто тень смерти, а сама вторгающаяся в жизнь смерть. Горели на раскаленных подошвах, оба жилистые, на головах шлемы из лунных нитей, прозрачная броня на плечах. Но это не защита от удара: железо обмана не признает. Смерть была с ними, жаждала навалиться ребрами на их ребра. Всего пара взмахов, удар и удар, миг – и двое без одного, и еще раз без одного, убитые рядом с подохшим псом. Не замахивались, примерялись, стиснув глаза и зубы, чада смерти, похожие на саму смерть, и я выкрикнул из глубин своего старчества: «Безумцы, вам еще рано гнить!» Мой крик вледенил их. Не знали меня, не знали моего голоса. Отодвинулись друг от друга, объятые страхом перед жутким, призрачным, небывалым. Не обернувшись, Тимофей ушел первым, словно волокла его упряжка издевки и страха, за ним Парамон, шаг за шагом, неспешно, быстрее, бегом. Не оборачивались, про Рахилу забыли, и напрасно она призывала их воротиться и сыскать меня, чтоб расправиться. Уходили в разные стороны, словно две стези, которым никогда не встретиться, а между ними от бескупольной церкви разматывалась невидимо третья, по которой двигался иконописец – ни светлое пятно, ни тень – серое мутное, неясное шевеление. Я увидел, что он старее, чем мне казалось. С трудом ворочая неуклюжим языком, неразборчиво подбадривал ее, мол, идет. Побежала к нему. «Он тут, этот призрак, – промолвила и зарыдала. – Я его слышала». Он пытался ее успокоить. «Мертвые всегда превращаются в прах, а не в призрак», – шептал он. «Он грозит нам, – она тряслась. – Знаю, в нем наша смерть». Взял ее за руку. «Успокойся, Рахила. Что с тобой? Он прах, и ничего более. Пойдем, не бойся. И запомни – прах, всего только прах». О, если б я был прахом. Я следил ослабевшим взором, как они удалялись, не две, а единая тень под сенью недостроенной церкви. По моему сознанию прошли горячие волны, вестники предощущения, но не было собеседника, чтобы ввести его в истину, – жестокость молодых кукулинцев осенью, которая близится, обернется непредвиденными злодействами. Я вышел из-за вербы. Возле мертвого пса что-то поблескивало. Я нагнулся. В свете месяца на моей ладони лежал еще один месяц, маленький, из позеленевшей бронзы. Стою и спрашиваю себя, какую волшбу скрывает этот кусок металла. Посередке синий камень, словно глаз со зрачком, окаменевший, а все равно живой. Мне кажется, он взблескивает угрожающе и вдруг начинает потрескивать, с коварной насмешливостью всемогущего божества. Металл горячий. Засовываю его в пояс, жар ширится по моей коже, захватывает утробу. Меня пронимает жажда. Нагибаюсь к Давидице и долго пью. Вода вялая и безвкусная, не гасит огонь внутри. Ложусь в воду, но, чувствую, лишь усиливаю ее теплоту. Вдали завывает пес. Теперь, с этой ночи, он будет походить на меня. Днями маяться во сне, по ночам пугать людей. Услышав его завыванье, люди примутся задвигать засовы, креститься, сны их сделаются жуткими и кошмарными. Будет походить на меня, а моим двойником не станет, песья жизнь коротка, в десять крат, если не больше, короче той, что прожил я до сей поры. Я поднимаюсь, ноги оставляю в воде. С меня стекают струи – луны, звезд, воды. На рассвете – я уже был в крепости стародавних византийских бояр – пес вернулся к мертвому своему собрату, чтобы взвыть до боли, от которой затаилась земля. Через неделю-другую, еще петухи не пропели, с гор, на диво всем, подала голос волчица, хотя до снега было еще далеко, зазывая одинокого пса в неприступные скалы по тайным тропам. Так и сталось. В берлоге у Синей Скалы уже выветрился многолетний дух отшельника Благуна, постника и святителя белоокого, принявшего чин надстарейшины. Его место заняли пес и волчица, не далек и день свадьбы, когда знамением их любви запестрят на снегу пятна овечьей крови, а то лошадиной или человечьей. Я увидел их вместе при первых слабых снежинках. Выживший пес, с железной мордой, как все полагали, следовал за волчицей прыжками. Зверел и с пенистой мордой бросался на всякого волка, пытавшегося включиться в свадебную игру, и снова, ловко избегая хитрых ловушек, прикрытых сухим листом, бежал по следу волчицы, проложенному в снегу. Но даже наверху, в чернолесье, снег долго не задержался. Был столь же недолговечным, как молоденький дикий козел, который, убегая от пса, налетел на тень и под зубами волчицы хрустнули его шейные жилы. Кровь сблизила диких любовников. Насытившись теплым мясом, обнюхивались, чтобы сызнова повести игру, ночью и при луне, и пропасть из виду с солнечными лучами. Снежинки я мог и выдумать, но пес с волчицей были доподлинными. Не только для меня: от них спасался бегством медведь и прятался в ежевичнике лис. Поедь, остававшаяся за ними, недоглоданная дичина, привлекала орлов, да и меня тоже – время от времени я выбирался из крепости и питался остатками их добычи. Может, они считали меня своим божком за то, что я, находя ловушки, закапывал их в землю? Возможно. Затаившись, они приветствовали меня воем, долгим и скорбным, словно оплакивали, не меня, когда-то бьющего и живого, а пришельца из могилы – ни человека, ни пса, а может, того и другого, потому-то и сам я завыл. Когда я опять отдался безмолвию и почувствовал прикосновение мглы, то решил, что меня предупреждает Лот словами, которые были во мне: собирайся, Борчило, земля зовет. «Зовет, меня? – спросил я с надеждой. – Меня ли зовет, Лот?» Сам себе отвечал -я – из себя самого: «Нет, Борчило. Ты станешь свидетелем нового пришествия крыс. Они уже недалеко. Придут, идут. Смерть далека лишь от тебя, она свое не берет дважды. Запомни это, Борчило». Я знал это и знал также, что пятнадцатилетнему парнишке по прозванию Черный Спипиле, молчаливому из-за сильного заикания, не верили, что он ночью слышит в крепости волчий вой. Случалось, я ловил себя на том, что зову его – пусть придет и закопает меня. Черный Спипиле по своей воле закапывал кости и косточки, которые находил в пахоте или в остывшем пепле кострищ. Выкатив на двухколесном стуле свою матушку, у которой отнялись ноги, он оставлял ее возле Давидицы, постирать, а сам отправлялся на кладбище, где выпрямлял покосившиеся деревянные кресты и, насколько возможно, устранял бурьян и колючки. Мертвым желалось, чтобы он был сними: как раз перед тем, как отправиться мне к Синей Скале, они выслали к нему змею – чтобы отблагодарила. Не пришлось бы ему больше костей зарывать, да помог Карп Любанский, спас от смерти: острым ножом вскрыл на ноге кожу, отмеченную точками змеиных укусов, и высосал отравную кровь. Потом долго лечил его отварами трав, что принес из Любанцев в Петканов дом. Когда напомнили парню, что на погосте он был с киркой и мог бы ту змею пришибить, Черный Спипиле без всякого заикания отчеканил, что никто ни у кого, даже у гада ползучего, не имеет права отнимать жизнь. Я молил, чтобы он пришел и закопал мои кости. Не пришел, в крепость живой не входит. И все же у этого парня было со мной что-то общее. Он обшаривал чернолесье и уничтожал ловушки, выкованные Бояном Крамолой. Пес с волчицей тоже его отблагодарили: задрали корову на горном ничейном, и, стало быть, общем, пастбище. «Подавался бы ты в святые, – злобно советовала ему родня. – Твое место у алтаря». Но он так и остался в Кукулине пахать свою ниву, а по праздничным дням собирал кости да косточки и закапывал их там, куда не заходит соха. 4. Зов крови Словно бы истекаешь сквозь невидимые трещины плоти, капля по капле, увертываешься от невидимой петли, спрашиваешь себя, кто ты и, если ты кто-то в этой пока что твоей коже, какая у тебя истина и какая будущность. Вот что происходило с двумя молодыми кукулинцами. И со мной, когда мне было, как и им, двадцать, случалось такое: отчуждаешься от себя и в себе, а вдвоем от всех прочих, гнев испивает лица, затягивает их морщинами и жилками злобы. Понедельник, седьмой день уже, как в село пришли три монахини – Матрона, Аксилина и Ефимиада – поклониться живому праведнику Благуну, две молодые, а первая, Матрона, старая, безгубая и со строгим взором. Старец обращался ко всем трем одинаково, называя Несториями. Протягивал руки, приглашая с ним возлечь. Аксилина и Ефимиада хихикали и приседали, а Матрона, конечно игуменья, укоряла их: «С живым мучеником и возлечь не грех». Потом две монахини удалились. Третья же, Ефимиада, с баловливо растянутыми губами и украшенная зобом, осталась с Ипсисимом и тотчас скинула монашеское одеяние, чтобы лезть на свой новый дом перекрывать кровлю. Вон она на кровле, поет и изводит соседок, тех самых, что нашептывают, будто она дьявола привела в Ипсисимов дом, кому-то уже и слышалось по ночам из дома козлиное блекотанье, а ведомо всем, что у новоиспеченного молодожена, бывшего до того вдовцом, ни козы, ни козла нету. Илларионова сноха Панда, развеселая бабенка, не устрашась дьявола, подхватила песню на своей кровле. Песня и солнце, старички слушают и пытают Пандиного свекра, есть ли у него жена. «Ты же не вдовый?» «Не вдовый. Жена Угра поутру была жива», – крестился Илларион. Его с укором осматривали, словно подсчитывали морщины. «Чего ж ты тогда болтаешь о завтрашней свадьбе?» На лоб его волной набежала скорбь: «Куда ж денешься? Всю плешь мне Угра проела – женись да женись». В понедельник, оказавшийся не бездельником по пословице, а злодельником, в день, которому не прибавлял величия даже трепет мелких цветиков по имени от-двух-братьев-кровь, зашагали, примериваясь друг к другу заспанными глазами, Тимофей и Парамон, снарядившиеся на последнюю косьбу, с отточенными косами на плечах, одинаково рослые и статные, с одинаковым не совсем проклюнувшимся коварством в себе – дикие петухи с орлиными когтями, глухие и слепые для жизни. Разойтись, не сшибившись друг с другом, они не могли. И все знали это, собирались неподалеку, чтобы доглядеть окончание опасной игры, от которой недолго и под могильную плиту угодить. Под крепостью шагах в десяти от них кузнец Боян Крамола разжег уголь, но отвернулся от бледной его раскаленности. Не стал молотом заострять железо для копий и докаливать его в яблоке, не стал плавить руду в глиняном толстом сосуде, а, привалившись спиной к сухому дереву, с усмешкою ждал. Он отправил вестника к тем, кто посмышленее, и они уже приближались – Русиян, слабый, хотя и с заросшими ранами, а с ним Богдан и Карп Любанский. Востроносый, бородка клином, словно только что вышедший из-под точила, Богдан попросил любезного кузнеца объяснить, с чего это на селе только и разговору что о копье, которое будто бы для него куется. Он, Богдан, не обещался сыскать уцелевшего пса покойного монаха: «Мое дело, Боян, открывать следы, я не убиваю». Кузнец врос спиною в сухое дерево. Махнул рукой, пробормотал что-то о почитании крови, голосом, словно бы выкрученным из дыма, хриплым, неясным, и замолчал – двое, Тимофей с Парамоном, двинулись друг к другу, тяжко отдирая ноги от земли, как от смолы или вязкой глины, неспешно, но неизбежно приближая лезвие к лезвию. В воздухе струился, расплывался, густел, перед тем как совсем растаять, непонятный запах. Будто от гнилого арбуза. Сладковатый гнилостный дух вдруг изменился. Теперь запахло паленой шкурой и горелым мясом, как в те дни и ночи, когда крыс палили огнем. Тогда руки Тимофея и того же Парамона продолжались можжевеловыми головешками, а землю покрывали раскаленные угли цвета предветренного заката. Жажда уничтожения снова ожила в них, только стала иной – какой-то крысиной. В один миг оба глянули на верхушку крепости. Не заметили меня в бойнице. И не могли заметить – глаза перекрыты тенью ненависти. Перед тем как скосить друг друга и пасть окровавленными на свои тени, вышагивали навстречу медлительно и осторожно – можно убить, а можно и стать убитым. Как знать, не с подобной ли осторожностью шестоного движется паук к угодившей в сеть бессильной букашке. Деревенские псы полегли в тень, а те, что поменьше, выискивали предосенний припек. Куропатки перекликались из тайных своих укрытий, словно звучно острили клювы о затверделый воздух. Чуть дальше паслась кобыла, хвостом отмахиваясь от шершневой страсти. Две крохотные голубые птички перескакивали в речке с камня на камень. С тупым звуком, похожим на удар кирки о твердую землю, упал с груши румяный желтый плод. Ничто из живущего, кроме человека, не было тронуто враждой к себе подобному. Золотыми глазами, сгрудившимися на удлиненной грозди, цветок дивины загляделся в небо, в невинность прозрачного облачка. В зарослях ежевики шуршали черепахи. Укрывались колючей ежевичной броней. Их ловили и выпивали кровь от утробных хворей. И улитки оредели, расползлись по норам. Их мясо тоже считалось укрепительным. Округлые холмы с желтой шерстистой травой походили на половинки волосатых яиц, солнце ощипало тени на их макушках. Луна с рассветом убрала свои отражения из колодцев, но над землей бледность ее еще витала. Воистину, лишь человек мог пригласить смерть на пир в столь благостное утро, только он. Вот и куропатки перестали перекликаться. Искали друг друга и нашли, залегли по незасеянным пашням и стерням. Кобыла казалась искусно вырезанной из дерева. Стояла опустив голову. Шершни сгинули. На грушах вызревал оставшийся плод. Запах паленой шкуры и горелого мяса вместе с черепашьим шуршаньем заполз в трещину, проделанную тишиной. Луна, дневная и слабенькая, растаяла, исчезли из реки две птички. Затишье пыталось хоть одним из своих щупальцев уловить неслышную поступь смерти. В Давидице выдрался из сна голавль, сверкнул белизной и с размаху снова бросился в воду. Это могло быть и вызовом – пора бы пускать в дело косы. Я не стал того дожидаться. Вытянул руку в отвор своего мертвого обиталища и, подобно сеятелю, кинул месяц из зеленой бронзы – он упал между ними. Ни Тимофей, ни Парамон не нагнулись за куском металла с похожим на глаз камешком посередке. В обоих затлелся огонек стыда. Под ресницами мраком копилась злоба, молодые глаза отсвечивали не звездным блеском, а похотливым голодом. Люди ждали, что они побросают оружие и нагнутся за бронзовым украшением, стукнутся лбами, упадут и, забывшись, заглядятся на Рахилу – усмехающаяся, она скромно остановилась поодаль, но Тимофей и Парамон остались недвижимы. Словно вытесанные из известняка богомильские изваяния. До сего дня Богдан, хоть и жил иначе, чем остальные, ничем особо не выделялся: работал в городской плавильне с металлом и с тугоплавким стеклом у сына беглеца из германского царства, где за корону бились тогда Фридрих и Отакар [39], потом сделался следопытом, пил да пел. Оттого и воззрились на него с удивлением, когда двинулся он к молодцам с хорошо наточенными косами, нет, не к ним, а к разделяющему их пространству. Нагнулся и выпрямился с украшением в пальцах. Стройный, хоть засовывай его в колчан вместо стрелы, заготовленный на решающий бой. «Проклятое мы племя, любезные мои, – вздохнул он. – Проклятое-распроклятое». Вернулся на свое место и швырнул безделицу из кованой бронзы в огонь. Задумчиво уставился в жар, подождал и снова пошел к тем двоим, ни к чему не приглядываясь и словно бы двигаясь ни к чему, хотя шел он по следу, весь составленный из острых углов – локтей, колен, носа, бороды, пальцев. Может, он мог и так: левым глазом глядеть в моего правнука без моей крови, в Тимофея, правым – примериваться к Парамоновым волосам. Становился страшнее их. Позади в огне раскалялся месяц из зеленой бронзы, огонь отдавал украшению самого себя. Петкан вроде бы понимал, что происходит. Стоял за кузнецом Бояном Крамолой и дивился следопыту Богдану. Русиян с отрешенностью молодого святого, обращенного душой к небесам, молчал, как и остальные. Говорил только Богдан: «Возьмите этот кусок бронзы, любезные мои. Голыми руками возьмите, изъявите доблесть». Тимофей и Парамон тупо на него глядели, спрашивая себя, какую ловушку готовит им Богдан. Лоб покрыли блестящие капли пота, словно ладони уже держали раскаленный металл. Волосы утеряли угрожающее свечение. Это можно было счесть и прикрытым лукавством. Богдан указал на огонь: «Пусть каждый прилепит на свой лоб по куску раскаленной бронзы. А потом Рахила выберет одного из вас». Они оставались недвижимыми, словно затверделое тесто. А он, Богдан, другой, не тот, которого все знали, шагнул к кузнечному очагу. Его опередил Русиян, сунул руку в горящие уголья и вынул раскаленную бронзу. Она пришкварилась ему в мясо. Он же будто не чувствовал боли, будто болью обожженной ладони одолевал иную некую боль в себе. На него глядели с напряжением, не у него, а у них судорогой взялись лица. «Вот, – заговорил он впервые после стольких дней. – Это – ваше. – И бросил раскаленный месяц на место, где тот раньше лежал. Повернулся к кузнецу Бонну Крамоле. – Для меня не копье, – показал изуродованную ладонь, – выкуй мне железную руку». О боль моя, свидетельница чудес. Не измерить моему племени глубин вселенной и не выцедиться светляком, дабы осветить людские дома. Слабы люди, сжаты обручем бледных мыслей и от чахлости их рано гаснут. Не успела Рахила нагнуться к остывшему бронзовому месяцу, зеленому, потом белому и черному, как бородатый кузнец, слишком мягкий для человека, одолевающего огонь и железо, тяжким молотом расплющил бронзу, лишая ее обличья. «Покажи им», – обратился Русиян к Карпу Любанскому. Тот вынул из-за пазухи дохлую крысу и, ухватив за хвост, поднял над головой. Из полуоткрытой пасти зверька капала кровь. Люди съежились: припомнились схватки с разъяренными тварями, перед такой угрозой свары их теряли значение. Рахила прикрывала ладонью белизну на груди, место, где мог бы сверкать, но не– сверкал месяц из зеленой бронзы с каменным оком посередине. Она побледнела, судьба вырвала живой кусок ее силы, знак магии – для малоумных и над малоумными. Услышали, как отозвалась куропатка, а кобыла гораздо живее принялась отмахиваться от шершней. Тимофей и Парамон разминулись, не глядя друг на друга. За Парамоном шел Петкан, убедиться хотел, как сынок управит косьбу на лугу – часть сена желательно было обменять на вино. Держа крысу за хвост, Карп Любанский раскачивал ее, точно заглохший колоколец, потом зашвырнул в огонь. Люди расходились. Русиян шел стиснув губы. «Пойми ты, – разводил руками Богдан, – Не заставишь их опоясать село можжевельником да чурбаками, чтобы защититься огнем, если те явятся снова». Русиян не слышит его. Смотрит вслед Рахиле, удаляющейся к церкви. Одна его бровь приподнята. Над ней морщина. Знаю, он пытается вспомнить что-то, и знаю что. Но не может. Время, когда его покусали, ушло в забытье. Так вот и разошлись, в несогласии каждый с каждым. Кузнец Боян Крамола остался один, потянулся и прилег у огня. Он умел долго обходиться без сна и умел, если оставался без дела, засыпать мгновенно. В Кукулине время от времени появляется Павле Сопка, сын старейшины Мирона. Ходит из села в село, из монастыря в монастырь, на спине таскает тяжелый деревянный крест. Встречных купцов и монахов просит, чтобы распяли. От него бегут. Вот он, согнувшись под крестом, спускается с чернолесья. «Люди, я ваш Иисус. Дайте я распрямлюсь на новой Голгофе». За ним следом стайка ребятишек. Близко не подбегают, боятся. Юродивый весь в поту, в коросте. Оставив крест возле кухни, укладывается в ногах спящего Бонна Крамолы. Потом сноха Илларионова маленькая Панда накормит его, напоит. А сама пойдет к своей соседке Ефимиаде – попеть вместе. 5. Коварная Венера Новому надстарейшине пала на плечо голубица счастья. Оболокли его в новую рубаху, волосы заложили за уши, усадили на ворохе мягких шкур. Подмолодили, и лицо его умягчилось от смутных мечтаний. Не желал в отличие от покойного Серафима вкушать пахту и молоко – укрепляли его орехами в меду, коровьим маслом, болотной рыбой. Сельчане, мужики и бабы, если не все, то большая часть, окружили его почитанием: с тех пор как распалось Растимирово владение, наистарейший старейшина, стоящий во главе старцев, становился в Кукулине верой и разумом. Никто поначалу и внимания не обратил: следопыт Богдан не разлучался со вчерашним постником. Люди свыклись с его распорядительностью – что и когда дать старцу на обед или ужин, когда уложить и когда поднять, кому вести его на Давидицу купать, мыть и оглаживать оределые волосы. И бороду, длинную и запущенную, старичку уладили, прямо хоть икону с него пиши. Богдан от Благунова имени созывал на сбор винограда, определял дни, в какие поднимать пар, указывал, из какого леса брать на зиму дрова. Кукулинцы, особенно молодые, понимали, что Благун – живой труп, стручок опустелый, без забот о будущности села. Его мозгом мог быть и был только Богдан, охваченный тайными умыслами. Многие полагали, что главная беда старика в забывчивости. Восседает себе в каморе облупленной, но вполне достаточной для того, чтобы в ней прорастали всякие мысли, даже невозможные: старости не мудрено грезить о плотских радостях, сама старость, утомленная, истощенная, выморочная, не все о себе знает. Новый старейшина с восторгом, приводившим в немоту, уверовал, что он прежний Благун, имеющий жену Несторию и двух чад, Богорода и Кристину. Богдан пытался рассеять соблазнительное наваждение, открыв истину – у любезного надстарейшины нет ни жены, ни чад, были когда-то, а теперь обратились в прах. Как это ни жены, ни чад? – поражался старец. Разве не ему доподлинно советовал Растимир не разлучаться с Несторией? Но Растимира никто не помнил. Это приводило старика в гнев: «Чтоб вам закопаться живыми! Прочь с моих глаз». И тотчас же отзывался Богдан мягким голосом: «Мы тут, чтобы слушать тебя, мой любезный, а не чтоб обманывать». На это старец: «Слушайте небеса, а мне служите покорности и уважения ради. Не обманывайте меня, приведите Несторию». Богдан доверился своему дружку в накидке из медвежьей шкуры: «Беспокоит он меня, Петкан. Обженю я его». Петкан изрек наставительно: «Поглядел бы раньше на одряхлевших петухов. Колеют, пропади они пропадом, не добравшись до курицы. Да и кто ж ему этакому даст невесту?» Богдан усмехнулся: «Я, мой любезный. А когда мы пристроим к нему эту пришлую, Тимофей и твой Парамон задираться бросят». Петкан: «У нее же муж есть, Исайло косноязычный». Богдан: «Еще неизвестно, муж ли он ей. Пошли, братец. Надстарейшина у нас один-одинешенек, давай ему станем сватами. А не то и все другие перегрызутся, К жене старейшины не очень-то руку потянешь. Такую руку отсекают ножом». Зашагали как будто вслепую к недостроенной церкви, принакрыли тенью животворителя святительских житий, недобрый свет в их глазах заставил его стушеваться над горшками с краской. Позднее они не скрывали, что и как говорили, особенно Петкан. По три раза на день повторял он, что было да как было, да еще себе самому рассказывал то же самое, когда не находилось слушателей. По правде говоря, за своего сына Парамона он вовсе не беспокоился, надеялся, тот сам вылезет из Рахилиных чар и со сверстниками поладит. Просто словно бы на амвон попал – вещал и вещал. Если б не зловещие предчувствия, временами накатывающие на человека, все это можно было бы почесть деревенской блажью: виноград собрали, а пока доходит вино, каждый волен передохнуть и подкрепить себя шуткой. Меня тоже затягивала эта игра, потому что… …Исайло вдруг перестал походить на Адофониса, может, он никогда и не был тем, кем я его посчитал. Глядел на пришедших с небывалой тоской, слушал: «Она, мой любезный, не жена тебе. Пригляделся я к ней, вижу – ищет мужа и будет его искать, перессорит нам весь молодняк». От глухой тишины, от решительных лиц мужиков разум его воспалился, он побледнел, словно покрылся известью. С клекотом отступил к своим библейским мученикам. Хоть предчувствие обещало ему зло, не сразу смог их понять. «Почему, почему, почему?» – «Потому что она станет женой нового надстарейшины». – «Но почему, с какой стати?»– Он и вправду, видать, не понимал их, надеясь на милость, отступал дрожащий. Охваченный страхом, заходился мукой. А сердца пришельцев покрылись корой суровости. «Рахила не жена тебе», – задышали жарко. В решимости оженить надстарейшину и тем избавить молодежь от ссор обретали согласие. Словно бы вырастали – святилище без крыши стало тесным, вот-вот треснет от их усердия. Пораженный в сердце, побелевший, затем зеленый, Исайло корчился, умоляюще тянул к ним руки, перепачканные краской. Богдан с Петканом казались ему Голиафовой ступней, явившейся из черной адовой бездны, чтоб безмилостно раздавить его, как червя. «Рахила, любезный мой, теперь божия и наша и потому принадлежать должна преподобному отцу Благуну». «Но я тоже ваш. – Он силился говорить, умилостивить их. – Я рожден в Кукулине, и матерью моей была Кристина, дочь Кристины Благуновой». «Не придумывай, – возражали они с угрозой. – Нам обманщики не по нраву». В этой затее, в глубинах ее, мутным осадком залегло византийское вероломство, от которого славянин, и не только он, терял жизнь или имя, а зависимость от вероломства порождала жестокость. Венера обреталась не столь высоко, чтоб не плести коварных петель и венков дурманных для людей, ползающих под ее небесами и медленно погружающихся в трясину порока и поругания. В отчаянии небывалом, от которого на меня накатила тревога, жуть, пробирающая до костей и крови, Исайло сунул руки в горшки с красками. Одна ладонь его стала кровавой, другая черной. Унял дрожь. «Этот пурпур – кровь моя, моя честь», – и коснулся одной стороны лица. Глядели, не понимая его, их сознание привыкло перекраивать мир по своей мере и своему закону. Мыслители с мутным разумом не вызывали у них восхищения. После нового прикосновения другая половина Исайлова лица стала черной. «А это станет моим поруганием, моей гибелью». Прыжком наскочил на них и, располовинивши их, вылетел из церкви и мира святителей, покуда не потребовали Богдан с Петканом привести Рахилу в подвенечном наряде. Тоска. В крысе бунтовался человек, или в человеке оживала крыса для защиты рода своего и племени, внешнее обличье не имело значения, имя тоже, Адофонис или Исайло, не плоть, не душа – кипела кровь, того гляди вырвется из ноздрей и ушей, ударит густыми потоками, заливая и круша все на своем пути. Когда схлынет, ночи и дни сделаются кровавыми с кровавыми звездами и солнцами. Я следил из крепости. Исайло шел покачиваясь, как бы уплывал, уносимый волнами невидимой муки и горечи. Продирался сквозь теплоту предвечерья, солнечные лучи с запада освещали небо – без птичьих стай и утешительных знаков. Исайло сдерживал крик или умягчал язык в горячей челюсти, вознамерившись поведать такое, от чего у псов дыбом поднимается шерсть. Его пурпурно-черное лицо испаряло серу, от запаха ее угорело падали мотыльки. Перескакивая через заросли иван-цвета и одуванчиков, всхлипывая горлом и кровью, Исайло скорбящий, а может, Адофонис, великий крысиный вождь, добрался, задыхаясь, до обиталища надстарейшины. Но лучше бы он пожаловался первому встречному камню. Позднее, в миг прояснения разума, Благун обо всем рассказал Богдану, а тот передал дружку своему Петкану. Исайло вроде бы исповедался: «Я сын Кристины и внук Кристины, рожденный тобой и Несторией, Рахиле довожусь отцом. Я твой правнук, преподобный дедушка, и Рахила от твоей лозы, а как минуло ей девять лет, потеряла разум от насилия, учиненного над ней городскими негодяями. Постник, неужто ты возьмешь в жены свою кровь?» На горе, за селянками, что спускались с охапками сушняка, последняя солнечная румяность запуталась в рогах одинокого оленя, напрасным рыком призывавшего самку. От надстарейшины тоже пошел серный дух, весь он точно затлелся серой – кожа его синевато поблескивала. Старик дымился и не спешил поверить, ждал, когда в нем созреет мысль об убийстве, он воистину мог бы убить, мог крикнуть, что Богород (Тимофеев прадед) не был его сыном, так почему б и Кристине не быть боярского семени? «Та, что доводится тебе дочерью, не моего семени, – вздымал он для проклятия руку. – Несторию я и вправду взял под венец тяжелую за несколько сребреников, ради коих и Иуда без соблазнения предал учителя своего Иисуса Назарянина». Все превращалось в запутанный узел липучих нитей, каждый каждому приходился сродником и никто никому никем: Карп Любанский оставил в селе жену, меньшую сестру Петкана, тот в свою очередь доводился кумом мужу Богдановой тетки и дядей девице, на какой хотели оженить бледного Русияна, внука Кузманова или Дамянова отчима, а тетка одного из них была матерью Велики, тайной любови следопыта Богдана, и свояченицей кузнеца Бояна Крамолы, он же приходился родней многим в Кукулине – отросток разветвленного рода покойного Серафима и еще кого-то. Пока Благун поднимался с теплых кож, дабы стряхнуть душевную кутерьму, бабы с охапками сушняка принялись вопить – за чернолесьем в горах они заметили крыс. Олень сгинул, может, он кричал от боли, а не призывал самку. Услышанное, разумеется добавив кое-что и от себя, Петкан доверил неразлучным Кузману с Дамяном: Тимофей, оказывается, отросток ствола Богородова, а Кристина, сестра того самого Богорода, приходилась Исайле бабкой и, стало быть, прабабкой Рахиле. Ежели прикидывать осторожно, Тимофей с Рахилой получаются одной крови, и не важно тут, были ли покойные Богород с Кристиной Благунова семени. «Послушайте, что я скажу, – разливался Петкан перед свояками, жнецом Кузманом да горшечником Дамяном, близнецами без общей крови. – Коли мой зять Любанский Карп не станет ему поперек дороги, а он на такое способен, Богдан преподобному отцу нашему старейшине приведет Рахилу да приследит, чтоб ротозеи вроде вас не подглядывали в горницу, готовую для брачного таинства». «Ты ведь сам, Петкан, говорил вчерась, что у дряхлых петухов нету силы», – упирались они. Он на них, побледневших, поглядывал свысока: «Не все же петухи прозываются Висимудой. Попомните, Благун окажет себя мужчиной». Павле Сопка, тот самый, что таскал на спине крест, приковылял откуда-то босой, в истлевшей рубахе. Водянистые глаза затянуты кровавыми жилками, мухи липнут к лицу. Не один год прошел, как не дали ему в жены Велику. В отчаянии он сбежал из дому и с тех пор в Кукулине появляется временами, никому не угрожая и не мстя. Остановился, вглядывается в Рахилу, по ту сторону Давидицы. «Велика, – шепчет. – Ты придешь ко мне на поклон, но я уже вознесусь на Голгофу и тебя прокляну с презрением». На поваленном стволе посиживают Илларион с Мироном. У обоих бороды и волосы тяжелее костей. Первый локтем подталкивает однолетка. «Не сынок ли это твой Павле, Мирон?» «Он самый, – вздыхает другой. – Но я его перестал жалеть. С тех пор как успокоился премудрый Серафим, вестник милосердия божьего, я совсем остарел. Может, Павле мне теперь заделался внуком. А вправду, Илларион, стану ли я великомучеником в царстве мучеников, где за трапезой восседает на почетном месте Серафим, благословляя новых старейшин нашего Кукулина?» ''И впрямь остарел ты, – соглашается Илларион. – Уж и не знаю, дотянешь ли до свадеб, свата Гргурова да моей». Между ложной славой и заблуждением тянется шаткий мост, по нему снуют зыблющиеся тени. Когда сознанию удается побороть обманы, находится сознание иное, готовое их принять. В ночь Исайлова плача я увидел во сне себя молодого. Я плыл на пентеконтере [40], прославляя Венерин свет, далеко отсюда, я бывал там когда-то, в водах Керакосора [41], плыл на веслах в сотню рук, ибо я был раздроблен на пятьдесят гребцов, и каждому было по три года, и у каждого мой теперешний лик. Вдруг пентеконтера превратилась в огромную крысу, наполовину пурпурную, наполовину под черными волосами, и я проснулся с огнем в желудке, со страхом утробным за завтрашний день Кукулина, моря пыльного с человекоподобными пеламидами и моллюсками, неизбывной боли моей мающейся души. Огонь в себе я загасил нетопырьей кровью. А где-то в сарае поскуливал малоумный Павле, Миронов сын, 6. Тени девяти предсказаний Карп Любанский в своем добродушии вовсе не был безоглядным, хотя давлению поддавался легко. Несмотря на упросы. если таковые были, он не пошел уговаривать Рахилу стать женой надстарейшины, дабы успокоились молодые петухи Тимофей и Парамон, а заодно с ними и Русиян: пожелать жену первого старейшины – то же самое, что пожелать во сне преблагую мать Иисусову. Сон является частью жизни, ибо родилась пресвятая и осталась девицей; страшный грех, даже во сне, коварно и похотливо посягнуть на бесплотность. От такого греха и потомкам не отмолиться. Невыспавшийся, с синевой под глазами и сердитостью на челе, умалившийся от отчаяния, что придется стать вершителем Богданова замысла, Карп Любанский перекрестился, покидая дом шурина Петкана. Его медлительность усугубляла колебания, и в неуклюжести своей он ощущал, как Парамоновы глаза прожигают ему затылок. Повстречалась Велика, прямо налетела на него, белая, румяная, плоть жаркая, веселая, но вроде бы и зловредная. Выскочила внезапно из полутени. На груди таилась невидимая змея, а глаза словно промыты лучами. «Шел бы ты себе домой, Карп. В Любанцах тебя небось спит да видит Петканова сестрица Косара. – Наступала, заставляя его уменьшаться. – Когда ж это вы, проклятущие, перестанете землю поливать дурью?» Он не понял ее и замер. «Что с тобой?» – спросил. Она же ладонями уперлась в крутые бедра, ноги словно из плечей вырастали, приблизила к нему лицо. «Оставь в покое Рахилу, слишком она молода для своего преподобного дряхленького прапрадедушки. Ты б за собой-то оглянулся, и не на тень свою. Мы, бабы, все видим, ежели что, живьем тебя, сквернавца, закопаем в землю». Он покорился. Сущая правда, карой могли стать ему восемь баб, с Великой девять, наказанием судьбы, Пифии [42] не Пифии, сущие ведьмы: сухопарая Долгая Руса, Тимофеева приемная мать, дочь пряхи, по слухам с третьим глазом либо ухом на темени, и еще читала она судьбу по звездам, а по отдаленным раскатам грома угадывала беду; Богданова Смилька, следопыт успел подарить ей трех птенцов, но в меха золотых куниц не одел – семь лет, со свадьбы, носит одну и ту же рубаху; Божана, вторая жена своего второго мужа Даринки, брата покойного надстарейшины Серафима; Наумка, мужеподобная вдова без потомства, травщица и ворожея – видели, как она пила кобылье молоко из собачьего черепа; Гора, Русиян у нее единственный сын, за то и считают ее бесплодной; Гена, с младенчиком на руках, – мужа сгубили крысы; Звезда и Петра, мужья их Кузман с Дамяном вон на ниве, не спешат на подмогу Карпу Любанскому. Вразвалочку подошли, взяли в кольцо, бабий круг собрался судить: сперва тяжкий и темный допыт, а там уж суд и расправа – деяние богоугодное. Карп Любанский подрагивал от неясной вины, подавленный и изумленный, вспотевший до корней хребтины. Бабы казались ему ненасытным драконом. И ведь не станут ногтями драть. Устрашат до вкоченения и, опалив жарким дыханием, сожрут. Вспомнил с горькой усмешкой жену свою Косару, сварливую и во время бодрствования, и во время сна, из-за нее-то и сбежал из Любанцев. Я видел ее, она заявлялась в Кукулино, повоевать со здешними бабами, а возвращаясь обратно, рассуждала сама с собой. «Некрасивые завсегда злые», – растягивал обе верхних губы Петкан и советовал зятю бросить пакостницу и насовсем переселиться к нему. А теперь вот целых восемь Косар, с Великой девять, напустились на него и осыпали бранью. Я слышал их разговор из крепости. С грустью, выжатой из очерствелости, принял сторону Карпа, хотя восхищался бабами – у каждой готово слететь с губ сказание. Первой начала вещать Долгая Руса: «Уж девять дней, и каждый раз перед светом, из столетней орешины, что за нашим хлевом, выхлестывает вода отравная, с головастиками. Да видели б вы с какими – пегие, а ноги твердые, как у кузнечиков. Худой знак – болотом заволочет наши нивы, плодные и неплодные. И воды той отравной нынче поутру напилась моя коза и сей же миг околела, рога у ней растопились и вылились на травушку горячей смолой. В таковой смоле все мы, и Карп Любанский тоже, погрузнем, ожидаючи, да только дождемся ли, дня воскресения из тьмы и плесени. Девять нас тут, согласливых да памятливых. И девять же лет прошло, как тут вот, неподалеку, померло в одночасье девятеро, а с ними муж мой и детки. И тогда тоже из орешины хлестали струи с головастиками, пятнистыми да волосатыми. Думали тогда, вот-вот мир провалится в огненные тартарары. Чисто побесились все, кто молился, кто блудодействовал». «И мне тоже явился знак, – поспешила встрять Богданова Смилька. – На зорьке, промеж первых и вторых петухов, из могилы монаха Апостола Умника, того, что привел псов с железными мордами, забил зеленый огонь, а наверху – огненный крот с человечьим голосом. Упредил меня, и меня ли одну, чтоб не отметались мы от преблагой Варвары и Богородицы Троеручицы. Подошла я к могиле, вижу цветок, как раз в маленькую ладонь, а на пальцах – птенчик росточком с росную каплю. Слышьте-ка, птенчик-то был в рясе. И одноглазый». «Не видали вы, не всякий сподобляется, чуда, – перекрестилась Божана. – Над землей пролетел раскаленный камень и пал под Песьим Распятием, позади того дубнячка, где живет медведь с головой орловьей. И как есть покрыл тот жаркий камень болотину и на девять сторон раскидал опаленных рыбок, пиявок, кости, черепа да ребра утопленников. Пошла я поглядеть, что там такое, и вижу – болота нет, только земля горит да горит. Доведется и нам в огне пожариться, и колодези-то наши с завтрева пересохнут». «И я тоже кой-чего сподобилась, только мне явилось другое, – вспыхнула Наумка. – Месяц ударил в месяц и ледяным жаром покрыл даль с той стороны Города. Диво дивное, мелкий камень на мелкий камень да пластается по домам и нивам, а над этой белой скаменелостью те два месяца, что после удара превратились в голову о двух ртах – один для покойников, не будет им воскресения, другой – для живых. Сущая голова, только что без ушей. Не услышит она завтрашний визг таких, как вот этот Карп». «Голову я не видела, потому как спала, – смиренно склонилась Гора. – И мучил меня в глотке сухой огонь, кабы можно, в колодец бы залезла. Приди, вода, напои меня, прошу я, а сама не просыпаюсь. И вода пришла, но эдакая горячая да сухая, хоть тки из нее покров для выходцев с того света, куда вскорости попадут все живые. Проснулась я, перед тем как совсем проснуться, и что же – лежу я, развалившись надвое. Та вода, горячая да сухая, располовинила меня на две Горы, и стало у Русияна две бесполезных матери. Долгая Руса не даст соврать, она своего Тимофея двухлетком усыновила, так вот тогда как раз от такой воды сгибли его родители». «А мне нынче ночью снился Карп Любанский, – прижимала младенчика к груди Гена. – Да как полезли из его ноздрей живые травы, да как кинулись на меня, а я немощная, двинуться не могу, чтоб оборониться. Открываю рот, крикнуть, – голоса нет. А травы те обернулись пиявками с волосатыми головами. Переплетались и на меня наползали, требовали молока. Я завизжала, выдралась из этакого страха и увидала взаправду, уж не во сне, кучу пиявиц, только они вдруг куда-то сгинули от моего глаза да пред силой небес, где не единожды видела я собственный лик». «Меня не спрашивайте, не найду речей, – дождалась своего мгновения Звезда. – И сама не разберу, что было. Ручка у моего серпа выпустила отросток. И какой бы вы думали? С невиданными колючками-липучками, цепляется, чего ни коснется, обвивается, гнет железо. А на отростке том тьма плодов, приложишься ухом – и едва на ногах стоишь: плоды те порожние и в них устрашенно воют полоненные ветры да ветерки, и не находится добродея на свете, чтоб помолиться за их тоскливые души». «Дело статочное, ветры – они твари живые, – отозвалась Петра. – А вот спросили б вы моего Дамяна, чего мы с ним нагляделись. Его тут нету, а я вам все открою по правде. Котище наш ходит на двух ногах и огладывает с ясеня ветки. И такой ли куражливый сделался, ощетинится и над нами хохочет. Вчерась, нет, третьего дня, стрескал кочан капусты да унес тишком два меха с вином, без возврату. Подступались мы его поучить палкой да веревкой смоченной – никакого проку. Битье ему нипочем, закаменел под шкурой». «Я про чудеса хоть до Судного дня вспоминать могу, – вымолвила и Велика. – Видела я бабок махоньких – пожирают зерна из колосьев, а волосы у самих зеленые, темя все как есть заросло мохом. По муравьиным следам и ячмень и овес находят. А еще видела я коня с беличьими лапами. Взобрался на верхушку осины и спит. Только все это мелкие чудеса, докучные. А не знаете вы того, что поделалось недавно ночью, и если есть у кого терпение, я вам сердце открою, расскажу про страшное диво». Терпение у всех нашлось, и Велика открыла сердце. «Две ночи назад из недостроенной церкви выскользнули неуглядимые тени и вереницей потянулись в другой мир, какой и во сне не видыван. Тени те оказались святыми с Исайловых картин. До солнца еще вхожу я в церковь. Тоска глядеть. Стены голым-голы, кое-где осталось по пятнышку». Одна из баб: «Стены изнутри?» Велика: «Голым-голы. Пошли со мной, и этого полоротого Карпа прихватим, и вам придется крест сотворить перед чудом. Побожиться могу, что Исайло, добрячок божий, только наполовину человек». Одна из баб: «Как это наполовину?» – «Потому как наполовину он мертвец, сущий покойник». Карп Любанский: «А Рахила?» Велика: «Сохнет, глаза ей соль разъедает». Одна из баб: «Отвязался бы ты от Рахилы, Карп. Сколь раз тебе говорить, отвяжись». Карп Любанский: «Отвяжусь, я с вами пойду поглядеть на чудо, на эти самые белые стены. Но и вы моих чудес послушайте, может, у вас мозги на место станут. Та вода соленая, что вытекла из твоей орешины, Долгая Руса, лжой отравила сердце земли. От соляной жилы, что продралась в могилы, у покойников запалились кости. Их колдовской огонь срывает камни да на сдвоенных месяцах оставляет меты, огонь тот высушил бы колодцы и реки, да робеет пиявиц, скинувшихся серпами, косами, из чьих ручек так и лезут побеги, и не побеги вовсе, а хвостищи собак да кошек и прочего зверя. Все они норовят дать деру от бабок, что глотают ячмень да овес, да рожь да пшеницу, да мясо живьем да песок, отчего за ними тянутся сжеванные ваши тени… Осточертело мне вас слушать. Продеретесь ли вы ото сна хоть раз в жизни?» Тишком, прикрытый десятилетиями, я разглядывал их из крепости, они и впрямь казались изжеванными тенями, сжимаются и растягиваются, покрывая траву и камень, неспособные изменить ничьего обличья, угрожают, а не обладают силой, вялые и незначительные, переливаются из пустого в порожнее, соединяясь же, образуют круг, чьей осью служит вечная их бес-конечность. И вправду, хотя солнце било им прямо в лоб, тени их откидывались вперед и увлекали в сторону церкви, – живые тени. Они ползли, оставляя за собой пустоту, на которой не прорасти даже чахлой травинке. Бабы бросили Карпа, словно и не стояли с ним, не позвали с собой, дескать, пойдем с нами, а он и не ждал, что позовут и признаются, мол, чудесам, про которые толковалось, еще предстоит случиться: они всего лишь заглянули в будущее. И он сам зашагал к ним, к этим теням, тоже превращаясь в тень, родом не из близкого села, как дотоле, а тутошний, кукулинский. Истинно стены церкви изнутри были голыми, Исайловы святые исчезли. Всех это ошеломило. Напрасно Карп Любанский уверял, что Исайло, будучи не в себе, замазал святых известкой. Женщины, у каждой на челе знамение скорби, его ровно не замечали. Словно перед воскресшим Лазарем [43], все как одна белые до сини, повалились ниц перед иконописцем. А у бедняги Исайлы вся левая сторона тела, от глаза до пальцев ног, как есть окаменела. Он что-то говорил больным языком вполовину рта. Не понимали его, так ведь святых понимать и не надобно, полагали они. И все же стали упрашивать, чтобы воротил он библейские таинства – отче наш, и отче наш, и отче наш, пока тот не упал с перекошенным взглядом. Здоровая нога оказалась слишком слабой, чтобы удержать перегретую голову. К нему склонился Карп Любанский. «Где Рахила?» Тщетно. Исайло неопределенно указал рукой на землю и потом на небо. И лег лицом в камень, словно уменьшившись. А под орехом нашли малоумного Павле Сопку, с разинутым ртом, без дыхания. Петкан и кузнец Боян обмыли его и, закопав в землю, трижды большими глотками выпили за помин души. Старец Мирон пережил своего сына. «Пожил бы, кабы дали ему в жены Велику, – припомнил Боян. – Жаль, правда?» «Не можно было дать ему в жены Велику, братец, – промолвил Петкан. – Так и быть, открою тебе. Велика и Павле родились от двух сестер. Ну и намучил же он нас, не земля, а камень. У него ведь свой крест был. Давай ему на могилу поставим?» «Подожди, – дернулся Боян. – Мирон будто говорит что-то». «Воды, – шептал Мирон. – Напоите сына. Отец Прохор из монастыря Святого Никиты даст вам святой воды. Может, он поднимется». «Так и сделаем, – успокоил его Петкан. – Только завтра. А сейчас живых замучила жажда, дядюшка Мирон. Иди к себе да выставляй на стол. Мы о твоем сыне поплачем». Глядел на них с недоверием. Ладно. Выкопали могилу и за душу покойного помолились. Попа не было. Петкан проговорил молитву. Но к чему тут вино? Святая водица и ихнюю плоть подмолодит. «Нету у меня вина, – заскулил он. – Хотите выпить, несите сами. А я наварю пшеницы и расскажу вам о житиях святительских с первого лета первого индикта [44], когда круг луны и круг солнца вместе осветили лик великого Константина, кесаря византийского». «Кесарь нас не станет поить, – не понял его Петкан. – Доставай нам вина и потчуй. Живее, покойников не обижают». Того не видел никто. Убегая от петли, завязанной то ли Богданом, то ли судьбой, Рахила укрылась в крепости, не в покое, где стоял со времен Растимировых мой гроб, а ниже, в помещении для стражников. Я не пытался звать ее и расспрашивать. Любопытство мое истаяло. Теперь мною владело предчувствие, будто во сне вижу я то, что начиналось въяве, – отовсюду спускались к Кукулину тени, простираясь ширью земли. Псы растревожились. И скотина. Только они и я, но вовсе не те, кто защитился пентаграммой [45] или чем другим. Летучие мыши над моей головой тоже чувствовали. Как тогда. Между людьми и тенями, этими сызнова нахлынувшими легионами, предстояла решительная и немилосердная, кровавая, грозная, судьбоносная 7. Схватка С воскресшей смертью, не той, что призываю я из ночи в ночь, и не с ее двойницей, через которую она обретала второе рождение, а с третьей уже – чтоб после многих схваток с крысами-людьми воротилась она в бездну небытия. Новую схватку непрозорливые посчитают частью предсказаний, где закабаливший сознание мрак эхом отзывается первому, раз и навсегда оторвавшемуся крику растопленного и безжизненного мозга костей. Стены крепости крошились в челюстях страха. Угра, старуха Иллариона, возжаждавшего молодой жены, окликала из своего двора бывшую монахиню Ефимиаду – ежели она и вправду привела в Ипсисимов дом дьявола, пускай спросит у него совета, как наставить человека на разум: этот петух ощипанный Илларион затеялся идти в монастырь за своей монахиней, а она тут его обихаживай. Сноха ее Панда оставила лохань и, приглаживая волосы мокрыми ладонями, приступила к ней. «Ты, матушка, чуток постирай, а я уж от Ефимиадиного дьявола добьюсь совета на нашу напасть». Ее муж, здоровяк Голуб, словно только и ждал, чтоб отшвырнуть чурбак, который ему не удавалось расколоть. «Господи, – простонал он. – Сейчас запоют. – Родителей он называл по имени. – Нельзя же так, Угра. Все над нами смеются. Придется мне связать нашего Иллариона, не то он и вправду отправится за молодой женой». Откуда-то притащился Мирон. «Снился мне преподобный Серафим. Указал, где зарыт горшок с золотом». В новом приступе отчаяния Голуб сжал кулаки. «Значит, тебе снился преподобный Серафим?» Старец попятился от него. «Ты мне, Голуб, не грози. Все равно не открою тебе места. Сам копать буду». Карп Любанский пропал. Из Любанцев за ним притащилась жена Косара, накидывалась на каждого, кто попадался на дороге. «Удачи тебе, сестрица, – осенял себя крестным знамением ее брат Петкан. – Муженек твой ушел к Синей Скале, дабы нас от грехов наших избавить. Поспеши туда, застанешь его. Да только хлеба ему не носи. Карп собирает ужей, варит их с крапивой и щавелем. Постникам голод нипочем, гляди, чтобы не переел». Она, показав ему спину, пошла прочь. А под дубнячком между Кукулином и болотиной без цапель и журавлей, без бекасов и диких селезней, без желтоклювых нырков и русалок мужики, поверившие, что крысы вернутся, мастерили под надзором Карпа Любанского некую штуковину, для непосвященных весьма мудреную: 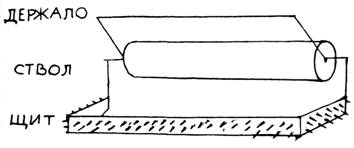 ствол, если прикинуть на глазок, толщиной в локоть и шириной в шесть, ореховый, очень тяжелый… держало железное, воткнутое с обеих сторон ствола, от толкания ствол движется и давит перед собой все… щит, высотою в две пяди, с внешней стороны три ряда острых клиньев – защищает идущих за подвижным стволом от возможного соприкосновения с живыми крысами. Сие невиданное доселе чудо нарекли Карповой давилкой, таких давилок смастерили уже четыре, каждую поведут двое: Русиян и Тимофей, Парамон и Богдан, Боян Крамола и Петкан, Кузман и Дамян. Четыре, на большее не было ни сил, ни людей, да и многие почитали их пустым баловством. Трудно, очень трудно каждому дому иметь такое, сетовали лицемерно, а про себя смеялись: держало, ствол, шит. Смех переходил в судорогу, судорога в страх. Крысы шли густыми ордами, занимали пространство уже в верховьях Давидицы. Избегали прогалин, крылись по низинкам, где вызревало дикое просо. До решительного удара не показывались, собирались грянуть разом. И тут я догадался. Птицы перестали клевать зерна бесполезного доселе растения, и оно, даже под инеем, не выкинуло семени для весеннего возобновления. На грани конца жизнь последних свидетелей призрачного действа стала кошмаром, а сами они живыми тенями. И с ними я. Пока крысы собирались в гущине дикого проса, легион за легионом, для первого, второго и третьего удара, семена начали осыпаться от малейшего трепета. Словно бы в поисках влаги забивались в оголенные крысиные глаза, и те закрывались пеленой, слепли от болезненного колотья. Наблюдая из своей крепостной бойницы, я уверовал, что растения, как и птичьи стаи, объединились с людьми – за жизнь. И еще я знал: крысам даже слезой не избыть липкого семени и боли слепоты. В своей немощи они сшибались, визгливо призывая богов на помощь, грызли друг друга. Накидывались на любое прикосновение, оскалив зубы. Серое месиво рвало само себя тысячью своих челюстей. Потерпев урон от невиданного доселе врага, бесполезной травы высотой в локоть, часть легионов все-таки одолела простор с диким просом. Ослепшие, с глазами, затянутыми пленкой, растянулись полчища, хлынув из чернолесья и со стороны Песьего Распятия на село, окруженное заслонами сушняка и легко воспламеняемых сосенок да можжевельника. Навстречу им бежали люди с головнями. Пламенем полыхнуло дикое просо. Синевато-румяные челюсти жара набросились на слепнущих крыс, и те, не прекращая взаимной грызни, отхлынули к прогалинам и Давидице. Оголтелые, продирались сквозь горящий сушняк, отыскивали в нем проходы, пытались добраться до людей, заскочить в село. И вдруг на ослепшие почти легионы со скрипом устремились Карповы давилки. Так же внезапно между крысами и давилками вынырнул из дыма Исайло, живая сторона лица искажена злобой, другая оставалась неподвижной – окаменелая собственность смерти, кусок с ее трапезы, сквозь которую проходит столетиями все сущее, с первого червяка до последнего нашего предка. Если я и сейчас не ошибаюсь, он пытался возглавить легионы и вести их на дома и людей. А может, я заблуждался. Видевшие его полагали, что он пытается преградить крысам дорогу своим полуживым телом. Если это был Адофонис, князь или царь бесчисленных челюстей, то крысиные орды с сатанинской злобой в черных сердцах своих провозгласили его презренным изменником: нашего рода, но будь ты проклят, тебе не выбраться из людского обличья! Крысы настигли его и зацепились за мертвую ногу, начали карабкаться к живому телу. Никто даже не пытался ему помочь – было невозможно. Женщины, Долгая Руса, Гора и старуха Угра, держали Рахилу, чтоб она в безумии не стала добычей крыс, явившихся из ниоткуда в новой попытке завоевать землю, кусок за куском, люто ненавидя все на этой земле – человека, растения, зверя. Исайло опамятовался, но слишком поздно. Здоровой рукой сдирал крыс с себя, со своей кровоточащей плоти, умирал остававшейся в живых частью. Упал, обессиленный, наземь и покатился, подобно давилке Карповой. Лежал ничком, зажатый челюстями и ощетиненными хребтами, шевелясь все слабей и слабей. Крысы рвали ему шейные жилы, залезали внутрь, и через миг от него остались лишь безымянные кости да оголенный череп. Дым с полыхающего дикого проса накрыл скелет. И крыс возле него. Вместе с дымом подходили новые зубастые отряды, вслепую спешили под Карповы давилки, чтобы превратиться в бесформенное месиво костей и мяса. Справа и слева от движущихся стволов бежали с головнями мужчины и женщины, били ослепшее зверье по хребтинам, поливали кипящим подсолнечным маслом. Женщина, не знали еще, что это Богданова Смилька, выбилась из ряда и угодила в темный верезжащий вихрь, закрутилась с головешками среди осатанелых бестий, вскрикнула от первого укуса. Под ветхой рубахой зазияла рана, над коленом или чуть повыше. Повернула назад, к тем, кто старался помочь ей смутным советом. Слишком поздно. На нее, одна через другую, кидались крысы, зловещие ратусы, как называл их Лот в дни моей забытой молодости. В долю мгновения покрыли ее шевелящейся, щетинистой и зубастой броней, подбирались к груди и горлу, она задыхалась от боли и от сознания гибели. Вот и она скелет, как Исайло, а раньше, в первом нашествии, двое рыбаков на болоте и сакс Людвиг из кратисского рудника, священник Устиян Златоуст, послушник его Андроник Ромей и еще многие из Кукулина и окрестных сел. К двум жертвам прибавилась третья: полусонный старец из старейшин, в молитвах помяну его как Мирона, промедлил на той стороне погоста – по лицу морщин на двоих, молитвенно сложил руки и поднял глаза к пустому небу без знамений и птичьих стай, да не успел помолиться. Был Мироном, стал грудой костей. Не жалея за одного чужого тысячу своих, а то и более, может три или пять, серая волна прокатилась по старцу и, минуя огненные заслоны, выплеснулась на село, на давилки Карпа. Под самой крепостью предводимые кривоногим Петканом и Долгой Русой люди катили впереди себя бочки, тоже давилки. Только плохо они защищали без острых клиньев. А давилка Кузмана и Дамяна подоспела на подмогу слишком поздно. Когда она подкатилась, Петкан был уже увешан черными гроздьями. Попытался обмануть судьбу, помчался к Давидице. С трудом перейдя реку, оказался в огне, который ширился и вперемешку с дымом и вонью горелого мяса поднимался к небу. Петкан в огне освободился от смертоносных гроздьев. Однако вспыхнула его накидка из линялой медвежьей шкуры. Парамон ринулся ему на помощь и споткнулся, упал лицом в живых и дохлых крыс. Нога его угодила в ствол движущейся давилки. И в это мгновение, в этот краткий отрезок страха, Тимофей, правнук мой и Благунов, без моей и без его крови, выпустил держало давилки. Подскочив к изувеченному Парамону, вырвал его из челюстей, оттащил за огонь. Сквозь напластования дыма я следил за огневыми волнами, за каждой догорающей подымалась новая, ширилась, наступала на людей. Огонь мягкими лапами ухватил Рахилу – она вырвалась от женщин, Велики и Горы, и вмиг стала головешкой, не успев добраться до опаленных костей своего родителя, если и вправду Исайло был ей родителем. Ни родителя нет, ни чада – в пепел обратились Исайло и Рахила. Были, были у них свои чаяния и свои тайны, свои откровения в жизни и своя судьба. На границе их жизни и смерти осталась дымная тень мраколюбия и мутных надежд. Теперь лишь земля могла им стать утешением. Отошли. То, что осталось от них, уже не они, и там, куда они попадут, если попадут, их не будут одолевать ни искушения, ни злоба, ни жестокость крови, ни жаждание плоти. Ни страх перед неизвестностью. Ни обман. Ни скорбь, ни боль, ни мечта. Были непонятными, Исайло и Рахила, Адофонис и Ратусия, и за собой не оставили песни. Стены церкви белы (они были и не были иконописцами, были и не были людским отродьем, были и не были крысами). Запечатаны седьмой печатью безмолвия: бежали от меня мертвого, были живыми, теперь не принимают меня живого, стали мертвыми. Отошли. Не запечалятся над поражением крысиным, не порадуются человечьей победе. Подойдет осень, пластами уляжется на их кости листва, оплачут их женщины и оплачут вороны, будет плакать вода по ним и по старику Мирону, но Петкану и по Богдановой Смильке и, может, еще по кому-то. Горько оплачут их Долгая Руса, Гора, Божана, Гена, Наумка, Большая Петра и Звезда. И мужчины тоже – Тимофей, Парамон, Русиян, Богдан, Карп Любанский, Боян Крамола, Кузман и Дамян. Оплачет, испаряясь, болото и небеса без дождя. Отошли. Коснись меня, господи, бесплотной рукой, научи, что есть человек, а что крыса. Не будь ты, не было бы и меня, нет тебя, я живой мертвец с бранью вместо молитвы на устах. Среди крысиных скелетов заведут свой пляс ветры и призраки. 8. Молитва на сон грядущим Сны, когда находились им толкователи, по мнению одних, предсказывали будущее земли и воды, стало быть, и человека, по мнению других, были предостережением перед вспышкой коварной болезни. Становились жизнью кажущейся смерти, двигаясь по кромке подлинного таинства, которому предстоит с неизбежностью наступить. Но сны были и будут загадочными властителями уснувшего – пробуждаясь в неурочное время, человек не может понять, что из пережитого было сном, а что частью яви. Для старых, хоть никто и никогда моих лет не достигнет, не существует снов: познанное ими, высказанное или невысказанное, полагают они пережитым, хотя самое пережитое представляет собой перепутанный ворох теней и существ, в основном человекоподобных, собранных в ходе подлинных и измышленных десятилетий, сгустивших временные расстояния в пирамиду единой ночи и с единым свидетелем – тем, кому все это приснилось. Заглядевшись в пределы, где обитают люди его мечты, и не в тумане самообмана, а озаренный недостижимым блаженством, этот свидетель вовсе не думает, что заблуждается. Труд напрасный избавлять его сознание от обманов и глаза его направлять на путь истины. Для него, пребывающего в блаженном состоянии обманчивой бестелесности, семь худых коров непременно сжуют и заглотят семь тучных [46]. И нет смысла думать иначе – прожорливость библейских коров сном считали одни грамотеи. Да и сам я в порушенной крепости не являюсь ли пленником снов и сказаний, перемешавших прошлое и настоящее? Гора, что высится над Кукулином с севера, подрагивает, монолит вытягивается в острозубую морду. Принимаюсь убеждать себя – из столетней затаенности пробуждается исполинская крыса. Рушатся деревья и каменные утесы, тяжелые лапы оставляют за собой кратеры, зверь с разверстою пастью подползает к крепости, подрывает когтями ее фундамент. Камень трещит, валятся на меня тяжкие обломы, залавливают, однако сознание мое остается неодолимым, возносится, дабы стать свидетелем чуда – превращения трупа в труп. Радуюсь своему концу, высоко надо мной, далеко от крепости, глаза мои следят за этим кошмаром. Прощай, Борчило, шепчу. Счастливая получилась смерть: нет меня, нет Кукулина, часть по части все становится прахом пред всеобъемлющим ратусом моего сна. А стоял я перед бойницей и дивился своему сну, то ли сегодняшнему, то ли столетней давности, моему ли, проросшему ли во мне или слышанному от кого-то в какой-то из дней пролетевшего столетья. Сны, не заботясь о своем источнике, прочерчивают извилистый ход неизбежного устремления в бездну. Увлекут тебя – перестанешь с открытыми глазами встречать рождение солнца. Не будет их – твои глаза закроются для ранних зорь и для румяных закатов. Сны – часть твоя, но избегай их, когда наполнятся мраком и страхом, не так ли, Лот? Прегради дорогу мраку и страху, как сделали кукулинцы, дав крысам бой: погосты расширились, могилы заступили в нивы, дымится ладан, не хватает ни слез, ни голоса для настоящего погребения, нет плакальщиц. Сплошное безмолвие. Вместо прощальной песни крови, расстающейся с обуглившимися и обглоданными костями. Их схоронили. Петканов гроб венком украшать не стали, не такое время, чтоб лицемерить, водрузили только кувшин с вином, а надстарейшина Благун, пока Велика набрасывала на крест Богдановой Смильки новую рубаху, молился за всех, от умерших из первых Смилькиных лет до погибших в этом сражении с крысами, и сам себе растолковывал сны живых и покойных. Даже озарился изнутри, под кожей, магией, доброй или недоброй. А я сам в себе перечитывал строки великого Лота. И многобожцы и христиане, соприкасаясь в продолжение столетий с разными культами, поощренные снами, преклонялись перед всяческим волшебством. И святые тоже, Петр в Иопnuu или Павел в Люстре, чудеса творили – оживляли мертвых, снимали порчу со слепых и увечных. Со временем чудотворения, сии благородные сны, облекались в мантию мрака, становились магией многоликого зла. К постели недужного вельможи подводили невинных отроков, дабы горло их, взрезанное ножом, приняло в себя его хворь, а то бросали на костер женщин, обвиняемых в ведовстве, – да сгорит вместе с ними душа предводительницы их, некой Мойры [47]. Случалось, убивали заглазно, сотворяли человечье подобие из воска: брошенный в огонь, воск топился, стало быть, сгорала и жертва, осужденная на смерть чародеями. А еще совершали помазание идола, маслом или кровью девственниц. Заодно с совой жаба и крыса делались знаком магии, голубь же был знамением снов… Я часто себя спрашивал в крепости, какой сон привидится уцелевшим в сражении с легионами святого Адофониса, мне же хотелось сна чистого и невинного: белых коней, скачущих по волнующемуся житу под обильными облаками, цветных вихрей и благочестивых песен перепелок. Я пытаюсь выкопать из своей потьмы молитву для сна и на сон грядущим, из алхимического единения человеческого во мне со мраком, одолеваемым милосердным светом, исходящим от Кукулина и обитающих в нем. Сладостные сны недоступны мне. Попытайся я их иметь, прикоснуться к ним духом и плотью, я бы не был Борчилой, томящимся в нескольких шагах от своего пустого гроба, где на плите Растимиров мастер выдолбил в виде креста слова:  и, как ни читай эту надпись, выходит всегда одно и то же: и стал вампиром, Борчило, раб божий, скорбью движима кровь по застывшим жилам, помилуй, боже всеблагий, смерть, мати черная, не берет. Сны мои глубоко. Ногтями начну рыть землю – докопаюсь до моря. До них, до этих снов, никогда. Собранные в большую кучу, политую смолой и маслом, горели дохлые крысы – вчерашний враг завтра мог обернуться призраком под названием болезнь. Дым от костра убегал прямо вверх, словно бы ветер остерегался его. Небеса отодвинулись. Звезды стали недостижимы для глаза. Явился ветер – залечить чернолесью раны. Где-то в балке за Синей Скалой выл забытый монахов пес, закопавшийся в мелкую яму, звериный сын звериной Каллиопы [48], не воскрешающий покойников, а провожающий их в темные недра. Вот и осень. Дождливая. Хмурый день, не спастись от влаги ни уснувшему дереву, ни домам – лезет сквозь невидимые трещины, забирается всюду, находит людей и в поле, и под одеялом, Тяжелые, не серые даже, а скорее черные, облака захватили простор над землей. Похожи на огромную ладонь, грозящую улечься на крепость и сплющить ее, чтобы в придавленности сравнялось все – нива и дорога, крутизна и падь, человек и зверь. Изо дня в день нарастает скорбь: человек одолел зло, но зло, подобно стоклювому ворону, все равно излетит из своего пепелища, и не ведомо никому, когда и в каком обличье. В неопределенной высоте надземный ураган колыхает знамя – летает по кругу ряса монаха – он был в Кукулине, сквозь него прошел и исчез. Из ткани точится чад, то исходят дымом воспоминания, ищут лежбища в облаках. Слышите ли меня вы, кому дарю я это свое писание? Доходят ли до вашей смятенности плач и песня тех, кто явится после великой битвы с Адофонисовыми легионами и все же задолго до вас? Тяжко. Вы и дедов своих не будете знать, как не будете знать, чьей лозы вы отростки – Тимофеевой, Парамоновой, Русияновой. Вам не заглянуть в прошлое, нутро Богдановой тыквы не откроется вашему взору, и не подпоет вам Петкан, и не появятся на стене вашего дома святые Кузман с Дамяном. Броню времени не пробить. Заживете в собственном мраке искушений и в собственном свете надежд. По-другому, не как жили вчерашние и сегодняшние кукулинцы. Летит ряса монаха, пустотой левого рукава защищается от буйного ветра и от проклятья. И проклинает. В правом – пустота обращена к вам, грядущим. Благословения ради? У меня нет ответа. Предвечерье глотает рясу, заря накинет ее на земные раны. Залечит землю и оставит вам. Если надобна вам – храните. Откажетесь от нее – не ищите ни могилы, ни плода. Брошенная земля – царство крыс. Ночь, день, ночь. Все нижется на нить прошлого. Осенний туман окутал и меня, только с угасшим сознанием можно убежать из него в промозглую яму, увенчанную крестом. Ночь, вечная ночь. 9. Воспоминания, скорбь Не сговаривайся со смертью. Ты до нее не дорос. Я не был безумцем и не считал, что дорос до судьбы. Или что постиг размеры ее справедливости и суровости, а тем паче насмешливости. Смерть подчинила себе жизнь, став ей черной и злобной мучительшей. Если я умер когда-то, в крепости живет только мой призрак, последняя мудрость или безумье истлевшей плоти. Я плавал на галерах, я странничал в песчаных пустынях. Мое имя Борчило. Ищу хлеба. Хлеб тебе даст это море. Ты убил? Мои руки еще в крови. Будешь бунтовать или ты покорный? Я не трус. Но старейшин слушаюсь, и на суше и на морях. Мы ведь грабим, ты это знаешь? И я буду грабить с вами. Без устали. Подымайся. Отныне галера твое отечество. Когда я увидал Растимирову кровь, ветер погнал меня на галеры к безымянникам, украшенным шрамами, к убийцам за горсть сребреников, звездочетам, мошенникам, грабителям, богослужителям без веры, там, на галерах, оседала муть с человечьим обличием – гребцы, сбежавшие из оков, колдуны, родоотступники, притирчивые плуты, сварливые смутьяны, продавцы лоскутов с одежды святых целителей Симеона, и Даниила, обитателей высоких столбов, подточенных, со столбами вместе, язвами, которых не залечить земле. Галера, гнездо сатанинское, одними именуемая Аспидоцефалис, другими же – Змееглавая, убегая в тумане от грабителя посильнее, врезалась в Ураган, вызванный магией раскаленной Бородатой звезды [49], проходившей тем часом над морем. Каждая впадина в волнах могла сделаться нам могилой, каждая волна – могильным холмом. Остроклювая, под броней из смолы и соли, галера наша под Ударами ветра перестала покоряться кормилу. Мачты с жалкими остатками парусов трещали и с грохотом валились на палубу, разрывая канаты и дробя кади с солониной и маслом, а за одно и кого-нибудь из гребцов. Какая разница: нам, не пришибленным мачтами, было еще страшнее. Некоторые сходили с ума. Без хозяина (кормчего поглотила пучина) кормило стало неуправляемым. Мы не могли к нему приблизиться и вырвать призрачную галеру из лап урагана. Деревянный остов трещал, под палубой позвякивали тяжелые цепи. Беда не приходит одна, хотя следующая напасть принесла нам некоторое облегчение: галера врезалась в невидимый коралловый остров, ребра ее разлетелись на части, а утробу с пленниками и добычей затопило. Великая паника распалила разум. Все вопили, словно безумные. Борясь за свою жизнь, мы накинулись на единственный челн, и на нем среди десяти счастливчиков оказался и я со вспоротым боком. В то время как мы удалялись от галеры – претерпевая новую кару, она полыхнула пламенем, – вокруг нас плыли трупы. Оставшиеся в живых и нашедшие спасение в челне веслами отбивались от настойчивых пловцов, тянувших в мольбе к нам руки. Из бурлящего моря выныривал ледяной призрак, знакомый по старинным сказаниям, закидывал нас сосульками, вызывал дрожь, отнимал силу и разум. Мы и предположить не могли, какие страхи нас еще ожидают, меня особенно, мы боролись за свои бедные жизни, хоть и были коварными и прожженными злодеями, попадавшими на галеры то пиратами, а то и гребцами в цепях. Нас набилось в челн слишком густо, двое оказались лишними. Сперва в море полетел изувеченный латинянин, без крика, с шепотом на устах – Ad absurdum! [50] – затем один из гребцов с кривым ножом устремился ко мне и, вглядываясь в меня, скорченного, с кровавой раной меж ребер, неосторожно нагнулся. Я напустил его на свой нож. Он, побелев, закачался, лицо исказилось, словно бы не от боли, словно он хотел засмеяться, но не стал, чтобы не вызвать смех у других, и лишь обрушился на колени. Не кричал и не вырывался, дал схватить себя и выбросить из челна. И тут нас подхватили ветры и стали заталкивать, казалось, в самый ад. В смертельном урагане, разыгравшемся при беззвездном небе, вздымались из морской пучины все проклятия мира. Спустя несколько дней обедом нам стало мясо негодяя нашего же разбора, а потом буря выбросила челн с уцелевшими, в том числе и меня, на песчаный берег без плодов и без пресной воды. Обезумевший, ковылял я по пеклу, оставляя за собой умирающих спутников, покуда не наткнулись на меня разбойники, промышлявшие здесь. Вместе с другими пленниками меня связанного отвезли на земляные работы возле фараоновых гробниц – искать змеиные гнезда, золотые посмертные маски и украшения. Ночью мы лежали под тоненькими одеялами прямо на песке, меж скорпионов и звезд, вокруг собирались пятнистые звери, невиданные собаки с горбами. Дождавшись, когда мы погребем мертвеца, они разрывали песок, и перед солнечным восходом от покойника оставалось лишь оглоданное костье. Наши хозяева охраняли копьями только живых, мертвые мы им не годились. Ночи и дни проходили в голоде и сводящей с ума жажде. Несколько раз меня возвращали как беглеца и избитого оставляли на африканском солнце, но умереть не давали, и не жалости ради, просто я выгоден был живым, мертвый я обогащал только пустыню – своими костями, жаждущими успокоения в глубинах раскаленного песка. Случались у наших хозяев, укутанных в белую ткань, большие праздники, и тогда мы могли передохнуть. Для души это были благостные мгновения: недвижимый, прикрыв глаза, я мысленно путешествовал по дубравам с прозрачными родниками, по зеленым лугам, по городам с реками и фонтанами. Время проходило быстро. После таких снов обманного счастья солнце усаживалось нам на затылок, и мы, придавленные зноем, переходили от одной фараонской гробницы к другой, подпекаемые до волдырей на коже, до кровавых ран. Минул не один год, и меня, не по возрасту младоликого, продали толстому купцу, торговцу шелком, любителю блудных игр: имя – Селим, обличье – распрямленная гусеница на коротких ножках, торчащих из-под длинной грязной рубахи, душа -черная и ненасытная. Улучив момент, я удавил его без всякого сожаления. Добро его поделил между слугами и пошел жить к погонщикам верблюдов. Даже поторговывать выучился, за что был ограблен однажды и вздернут на конопляной веревке. С виселицы сняли меня паломники под черными капюшонами и, по благосердию своему, повели на святительские могилы. Как-то раз на дороге повстречался нам человек с Аспидоцефалиса, или Змееглавой, стал скалиться на меня. Широкогрудый и опустившийся, с густой бородой, поблескивающей в отсветах костра, вокруг которого мы сидели, мерил меня глазами – так и вспыхивали в них клинковые лезвия. А во мне, в моем сознании и крови, под взглядом его топились все тайны, вытекали из невидимых ран, опустошая меня. Сидящие вокруг костра молчали. Он же, с головой спрута, достаточно поместительной и для мудрости и для безумия, что-то неразборчиво с клекотом бормотал, пытаясь поведать какой-то случай, и вдруг совершенно отчетливо произнес мое имя. Я тоже знал его имя, конечно ненастоящее, – Шандан, он мне открылся однажды, что происходит с латинского побережья, к пиратам пришел как Иеронимус, хотя мать его родом из какого-то славянского города, он, хоть и крещеный, от креста отрекся, сменивши меч на кривую саблю с лезвием, испещренным золотыми узорами арабских молитв. Теперь рассказ его зазвучал яснее: пока он молился в челне после гибели галеры Аспидоцефалис, я, дескать, обжирался. И громко пояснил – чем: человечиной. Потому как он был свидетелем, не прошло двух-трех недель, я бросил его, изнуренного, на песке, и напрасно он умолял меня о помощи. Нагнувшись над костром, я выхватил головешку и жестоким ударом направил ему в глаза. Накинулось на меня несколько человек с суковатыми палками, поломали ребра, нос и челюсти. Я лежал на песке – рот забит песком – и ждал, когда стервятники осмелеют и накинутся на меня, хотел ощутить, как рвется живое мясо, сгорал на солнце, прикидывая, не опередят ли голошеих орлов пятнистые псы, я и их призывал – в конце концов не все ли равно, как подохнуть. Бескрайняя пустыня, бесследная и безжизненная, показалась мне вдруг единственно возможным одром для костей, которым ветер станет набожным плакальщиком и могильщиком. Нашли меня какие-то всадники, вернули в жизненный омут, а потом на одной пристани меня взяли в кормчие на галеру с пряностями люди Эл-Идризи, высокого молодого человека с кудрявой бородкой, обходительного и благочестивого, служащего господам из Сицилии. Тогда в последний раз увидел я прыжки дельфиновых стай и летучих рыб. Неведомая хворь точила меня, разливая под кожей столетнюю желчь. Я был болен с головы до пят. Не злые, но и не особенно пекущиеся обо мне, люди Эл-Идризи, отпрыска лозы Авиценновой [51], оставили меня на берегу, вблизи Солуни. Я выкрал пегого коня и пытался сыскать дорогу на Кукулино, и тогда тоже, как в это лето, смутно связанного с туманным перстнем скорбного и зловещего, бесплодного, вероломного, одинокого Сатурна. Ехал я ночами. И хотя с восходом луны выпивал по девять капель воды Авиценновой, которую мне дал Эл-Идризи, не мог совладать с лихорадкой в теле. За мной, вросшим в хребет коня, из нор невидимого зверья, из каменных трещин ползли, растягиваясь до проклятия, пустые и темные вскрики и отзвуки моего смятения: Борчило, не торопись, тебе не избежать злобного поругания. Голос вымышленного привидения. Я отвечал кровавым рыком: Приди и забери меня из этой постылой жизни. Я умирал и вновь оживал, хотел стать безымянным скелетом в могиле, а все-таки дышал, напитывая свою желтую хворь. Одряхлевший и очерствевший, ставший не по зубам даже призракам и разбойникам, приближался я к Кукулину. После стольких промчавшихся лет, в промежуток между двумя небесными походами Бородатой звезды, я увидел крепость, опять был тут, среди родной красоты, убогой и дикой, только люди мне стали чужими: от моих ровесников, кроме Благуна-постника, обитавшего под Синей Скалой, не осталось даже могил, их заполняли кости покойников помоложе. Прихватили меня в овраге – я высасывал козу, стиснули живым злобным кругом. Хорошо, подумал я без всякого противления. Почему бы не погибнуть мне от своего племени? Пегий конь с окровавленными ноздрями лежал рядом. До орлов, а они не так уж высоко, заберут свою долю мухи – и те и другие нацелились на меня. И тут Серафим, не старейшина еще и не старый, на семьдесят лет моложе меня, отпрянул. Лицо его побледнело. «Этот человек мертв, – промолвил он. – Давайте помолимся». Так меня и оставили – бродить от села к селу, от страдьбы к страдьбе, и сам теперь не упомню, когда и как поселился я в этой крепости. О том, что следовало за этим, я уже поведал. Дополнение. Потянулся туман долинами, у всего, у куста и могилы, отнимая облик, сравнивая берега, затирая стежки, и человечьи и песьи. А я опять все в том же покое среди мертвых теней, собираюсь улечься в гроб с моим именем, выбитым на плите. В руке моей осиновый кол, на устах клятва, что свершу положенное и, выпросив прощение у живых и у мертвых, добуду успокоение, оно мне подобало давно, более сотни лет назад, после погони ловцов Растимировых. Зима, горные венцы побелели, в череп мой черви не заползут. Все равно, совсем все равно. Для червей на мне нету мяса. Кто-то где-то поет, вместе с дымом скорбь расходится из очагов кукулинцев. Петкан, может быть, из могилы: Из-под камня поднялся Борчило, возьми заступ, зарой его. Пора, бабочка-морозница начинает плодиться. Расплодятся и крысы, я знаю. Если вправду поет Петкан, песнь его не доходит до Черного Спипиле. Но он ищет и все еще находит кости. захоти он, из найденных костей можно было бы возвести храм отчаянья. ВОЗДЫХАНИЕ ТРУПА  Снег, девятый пласт за девять дней, одна, две, три и четыре лютых зимы миновало после сражения с крысами. Пусты гнезда на пустых ветках. По ночам слышны крики диких гусей и куликов, днем ледяное солнце вызывает блистанье кристалла. И снова – облака, ветер, снежинки. Земля, вседержительница огня, воздуха и воды, сердце вселенной, помещенное в сердце загадочности или в стручок иной непостижимой вселенной или надвселенной, встретила зимние праздники, тишиной возблагодарив небеса за недолговечность жутких чудес. С утра до ночи пределы под чернолесьем покрываются ржавчиной старости, ржавею и я в покое старой порушенной крепости, где стоит гроб, и имя на том гробу – Борчило. В девять строк толкую молитву или проклятье, выдолбленное на мраморной доске назад тому девяносто девять и еще девять лет и, может, еще трижды по девять месяцев. Подходит мое пятнадцатое десятилетье. Я жизнью своей прихватил три столетья, девять раз сталкивался со смертью, и вот опять – не то живой, не то призрак. Тоска разъедает меня. Хотел бы, а не могу сделаться прахом. Делаюсь обманом и скорбью. Опустошенный, без будущего, и в настоящем отсутствую. Сатанаил – порождение мрака и страха, но и боги тоже всего лишь тени скользких надежд. Искушение толкает меня согнуться над знаками Сефер Йециры [52], не без колебаний истолкованными стародавним Лотом: не выходя из души, путешествуй по звездным пространствам поверх девяти небес. Меж тем все, что могло считаться трепетом и движением, окоченело: птица на орешине и снежинка, дым над бревенчатыми и каменными строениями, человек, идущий к дому или из дома. Под бременем десятилетий и перед смертью от осинового кола, всаженного меж ребер, я стал свидетелем величавого света – тысячи размягченных солнц сотворили вокруг Кукулина кольцо. В золотом потопе заодно с тенями умирали обманные чары – их плодили страхи пролетевших столетий, теперь им конец. Над чернолесьем трепетал усыпительный звук надежды, словно благостное знамя победы человека над легионами подлинного или придуманного Адофониса. Я знал, что посеянное осенью семя пробуждается в теплых недрах земли, впитывая невинность снега, чтобы с первым весенним солнцем порадоваться ветерку, ласкающему всходы своим животворным дыханием, перед тем как в колосьях вызреет хлеб насущный, а вместе с ним и дикое просо и все, что имеет корень и жилы. У каждого мгновения своя вечность. Возле могилы Смильки под солнечным снопом, в который, как на диво, запархивают реденькие снежинки, выпрямившись стоит вечным мучеником следопыт Богдан, вдовец и молодожен. Задумчивый и недвижный, такими когда-то бывали пророки. Смилька была ему женой, была матерью и заботницей – лишенная собственной воли и женских желаний, тихо прошла она сквозь его жизнь и в битве с крысами очутилась, она, а не он, по ту сторону. Не увидеть больше Смильке зеленого огня на могиле монаха, и Богдан не откроет в треснутой тыкве диковинные края и события. На полпути между селом и погостом остановились Кузман и Дамян. Ждут, когда вернется Богдан и подаст знак рукой -выпить за помин души и попеть. Блюдут благочестие – недостроенная церковь будет построена. Крикнуть бы. Но не решаются. Любой голос ранит безмолвие. А Богдан вспоминает покойницу, доброту, с какой провожала его на ниву и в горы, и как встречала его ночами, пропахшего вином и медовиной. Одинок я, одинок, любезная моя, хотел он шепнуть могиле, снежному бугорку с крестом, но промолчал. Нет, он не одинок, мертвых нельзя обманывать. В его доме, к югу бревенчатом, а к северу из камня и глины, стоит у окна Велика, ждет его. Полыхающие дубовые поленья ширят из очага тепло, ее ладони на головенках двух Богдановых и Смилькиных сыновей, третий, отнятый от груди после материнской гибели, спит в старенькой колыбели, из которой вышагнул когда-то сам Богдан и сразу напал на барсучий след, а лютые псы погнали зверя из ямы на сетку из конопли. В теплой, хотя и убогой горнице сидят на треногах перед очагом Парамон и Тимофей, первый – сын покойного Петкана, ставшего человеком из сказки и для сказки, второй – пасынок Долгой Русы, пряхи, выкормленной пряхой же с третьим глазом или ухом на темени, а по правде сказать, подслеповатой и глухой: однажды ее укусила змея под Песьим Распятием. Молчат. Завтра вместе с другими пойдут к Синей Скале проверять капканы, что выковал Боян Крамола. На стене позади понурившегося Парамона висит меч саксонца. Плутал сакс от рудника к руднику. Доплутался. Его меч теперь принадлежит Парамону. Никто из них, хоть горе их изукрасило морщинами, а может, именно оттого, не поминает Рахилу. Парамонова нога, по которой проехалась тяжелая крысодавилка, зажила, молодость залечила треснувшую кость. У Тимофея рана в сердце – сохнет он, тайком выплевывает кровь из горла. Тени его ресниц на желтом лице сделались слишком длинными. Посягнул на Рахилу, правнучку Нестории, которой и сам он, если верить Исайле, приходится правнуком. Нет житья ему в Кукулине, хорошо бы замкнуться в монастырской келье. А я проклят – не хватает сил взять смерть за глотку, и она, как ни взывай, не хочет в меня запустить когти. Раздробить бы ее. Кости разбросать окрест. Или самому ослабеть в ее объятьях. Проклят я, уйдет раньше меня Тимофей – воистину проклят. Погоняя осла, груженного валежником, спускается с горы Русиян, единственный Горин сын. Топор, воткнутый за пояс, в крови. Таким, как он, впору небо держать на темени, тяжелое и холодное, сеющее белых бабочек. В порывах ветра осел с трудом пробирается по сугробам. Сверху, на валежнике, лежит серна, Русиян выдрал ее из волчьей пасти, одним ударом прекратив ее муки. Он женат, нынче вечером будет с кумовьями пирушка богаче свадебной, а в кумовьях у него Кузман с Дамяном. Трех дней не прошло, как они все вместе вернулись из монастыря, где пред алтарем врачующихся благословил старый игумен Прохор, лишь с помощью костылей держащийся на ногах. Ничего с них не взял, сам подарил им мех вина и пергамент с бесполезной молитвой о покорности перед божией всемогущей силой, перед судьбой и перед царями. Какой прок, читать они не умели. И вот капает в снег кровь зверя лесного, из Русияновых губ, из ноздрей осла выпрядаются мглистые пасмы, крохотные облачка, расплываясь, возвращаются в свое лоно, в острый и крепкий воздух, в дом, где за прялкой ждет мужа своего Русияна молодка, приведенная то ли из Любанцев, то ли из Побожья. С комом неодолимой горечи в горле и с обетом завершить по весне новую церковь, Карп Любанский воротился в свое село. Кукулинцы дали ему проводного – икону, оставшуюся от Исайлы, и взяли зарок – день крысиного одоления отныне да наречется Большой Просов день. В родных Любанцах он застал свежие могилы, помолился за души знакомцев, ощущая с горечью и печалью, что забыл свой дом и свое село, что силой какого-то волшебства предался Кукулину, во дни, в жуткие дни крысиных нашествий и смерти. А может, он просто сбежал тогда от Петкановой сестрицы, с которой слишком молодым обвенчался, от Косары, пребывающей в ссоре со всеми селами, в какие ступала. В своих домах, более похожих на дремотные могилы, чем на обиталища, старцы Илларион и Гргур с женами Угрой да Фоей вместо вожделенных невест из снов покойного Серафима каменеют пред очагами, подобно другим старейшинам, бесполезным для дела. Надстарейшины они лишились. Пытались его удержать, обещали и венец, и послушание, но не смогли. Благун воротился в каменную впадину под Синей Скалой. Вон он, лежит, открывши глаза, холодеет, к нему приближаются зверь и зверь, пес и волчица. Может статься, завтра кости его соберут дровосеки, закопают до того еще, как зацветет кизил и Давидица разольется вешними водами. Закопают отца преподобного. И именно любезный Богдан найдет его кости. На могиле Благуновой вырастет дуб, крепко станет держаться корнями за землю, как держался за нее сам постник. Вон он, еще не совсем остыл. Руку протягивает к псу и волчице, безгласно, под бровями ни благословения, ни проклятия. Почувствовал приближение ветров. Покорные его внутреннему зову, они появились между ним и звериной парой – люди нашли его нетронутым и закопали с молитвой. Излетел из себя. Легкий, направился к теплым высям, к единственной и праведной жизни. А лежал неподвижный и с открытым ртом – мертвый. Последний вздох его коснулся бодрствующей большеглазой сойки, и она, криком провожая исход из живого трупа искушений и мук, разнесла на все стороны весть: постник довершил свой столетний пост. Поют в Ипсисимовом доме бывшая монахиня Ефимиада и Илларионова сноха Панда, а муж ее Голуб пытается словить петуха для завтрашнего праздничного обеда. Угадывая или наблюдая все это из крепости с гробом в холодных стенах, я предощущал приход весны с первыми ласточками: ветки отяжелеют от цвета, спустятся голуби на кукулинские кровли, гора станет потягиваться на припеке. Недолго. Опять снег. И завывание ветра, удары его ледяных щупальцев, выбивающих из земли белый прах и заворачивающих на юг хрупкую, однако жилистую молодь. Холмы и горы как волны смерзшиеся, с неподвижной темно-зеленой пеной можжевельника и сосны, тут и уцелеть можно лишь в норе. В небе кружит серая тень, сама превращаясь в тень. Хотела бы охватить в оковы солнце, его вечную юность, да только солнца нет, дожидается дня воскресения. В этом великом чародействе природы, во всех чародействах, что я узнал или измыслил сознанием, расплавленным душевными муками, я утерял дар предвидеть и слышать внутренние голоса людей. Стал изнуренным старцем. Позади меня в глубинах мрака нет ни воспоминаний, ни грехов – ничего нет. Из дубравы переплетенных теней сбегает моя тень, оставляя за собой змеиную кожу без обличил и без имени. И все же под челом у меня яснеет: жизнь, какая она ни будь, достояние тех, кто приходит. Земля высосет мозг из моих гостей, напоит корни трав – более буйных, чем вчера. И услыхал я, что с Ефимиадой и Пандой поет кто-то еще. Из глубины. О, этот Петкан! Неужто и под землей хмелеет, почуяв близость следопыта Богдана и неразлучных Кузмана с Дамяном? И о чем поет в могиле кукулинский радетель? Обо всем, тепло ему под землей. На другом берегу Давидицы рядом с Песьим Распятием голод преобразился в кобылицу, дикую и изможденную, уместившую на скрипучей хребтине огневицу, лютую хворь: желтозубый коварный всадник снарядился на гостьбу в Кукулино – подкормиться людьми. Ветер оттолкнул кобылицу, подхватили ее воды. Забрав в свои мягкие, но могучие лапы, изнабивши ноздри льдом, Давидица прочь унесла ее вместе с коварным всадником. Голая верба пустила корень из-под земли и словно в пылком объятии, забрала ее шею в обруч. Потащила, помогла льду ее подковать и сковать. Издавна в такие вот дни вокруг села собирались вороны, в криках жаловались своим богам на судьбину. Сейчас их не было. Ни их, ни даже их призраков. Ни лисиц в можжевеловых зарослях у подножия горы. Их пугала пьяная песня Петкана, долетавшая из-под земли. Примечания Примечания С. Яневского; примечания, отмеченные знаком *, – Н. Смирновой. 1 Дата летоисчисления от «сотворения мира». Для перевода в современное летоисчисление используется постоянное число 5508: 6813 – 5508, т. е. 1305 год. 2 Андроник I Комнин (ок. 1123-1185) -византийский император с 1183 г. Проводил политику террора по отношению к аристократии. Организовав против него заговор, столичные и малоазийские аристократы призвали на помощь южно-итальянских норманнов – злейших врагов Византии. Во время восстания в Константинополе Андроник был растерзан толпой, а затем казнен*. 3 Фридрих II Гогенштауфен (1194-1250) – германский король с 1212 г., император Священной Римской империи с 1220 г., король Сицилии с 1197 г. Боролся с папством и североитальянскими городами, несколько раз отлучался от церкви. 4 На реке Калке произошло первое (31 мая 1223 г.) сражение русских и половецких войск с монголо-татарскими войсками, одержавшими победу. 5 Богомильство – антифеодальное движение X-XIV вв. на Балканах, принявшее форму религиозной ереси*. 6 Стефан Неманя (1113 или 1114-1200) – великий жупан, основатель Сербского государства и династии Неманичей. Добился признания независимости Сербского государства от Византии (1190) *. 7 Александр Македонский (356-323 до н. э.) – сын царя Филиппа II, воспитанник Аристотеля, царь Македонии с 336 г. Путем завоеваний образовал огромную монархию, которая распалась после его смерти. В средневековье об Александре Македонском ходило множество легенд (в книжной традиции – различные версии Александрии, восходящей к греческому роману об Александре Македонском Псевдо-Каллисфена), изобилующих сказочными подробностями*. 8 Скупи – старинное (античных времен) название Скопле. 9 Теодор I Ласкарис (1206 – 1222) – византийский император, основатель Никейской империи, объединившей под своей властью разрозненные силы феодалов после падения Византии (в результате IV крестового похода после захвата Константинополя на части территории возникло новое государство -Латинская империя, 1204 – 1261). Преемником первого никейского императора стал его зять Иоанн III Дука Ватац (1222 – 1254)*. 10 Поста – первая сжатая полоса, прославляемая молитвой для успеха дальнейшей жатвы. 11 Скиния (греч. шатер) – в Библии походный храм иудеев, в котором хранили ковчег Завета. 12 Ромейские города – византийские, Рашка – в средневековье юго-западная часть нынешней Сербии. 13 Киттим– библейское название о. Кипра. 14 В средние века звание Magisterartiumliberalium(M.A.L.) носил учитель так называемых свободных наук, впоследствии звание присваивалось как ученая степень на философском факультете. 15 Аскирит– писец в императорской канцелярии. 16 Иоанн Златоуст (347 – 407) – византийский церковный деятель, талантливый проповедник, с 398 г. – константинопольский патриарх, в 404 г. низложен за обличительный характер проповедей и отправлен в ссылку. Автор множества богословских трудов, проповедей и псалмов*. 17 Эрделия(Эрдель) – Трансильвания*. 18 По библейской легенде, юноша-пастух Давид, будущий царь Израильско-Иудейского царства (конец XI в. – ок. 950 г. до н. э.), победил в единоборстве великана-филистимлянина Голиафа и отсек ему голову*. 19 Кратисский – от «Кратис» – старое название македонского города Кратова*. 20 Зигфрид – герой эпоса германцев*. 21 Доброзлой – олицетворение дуалистических представлений о равноправности двух управляющих миром начал – доброго и злого. 22 Далее цитата из Библии, Книга Иезекииля, 38:22*. 23 Имеется в виду г. Париж, центр средневекового богословского обучения*. 24 Имеется в виду Арнольд Амальрик, папский легат во время крестового похода 1209 г. против альбигойцев. По преданию, он изрек фразу: «Убивайте всех, Господь своих узнает!», ставшую символом жестокости крестоносцев. 25 Модий – 8,76 кг. 26 Мануил I Комнин (11237-1180) – византийский император с 1143 г.* 27 Канон (греч. правило) – в христианском богослужении цикл песнопений, входящих в состав утрени; полные каноны состоят, как правило, из девяти песен. 28 Первый эпиграф взят из Библии – Книга Пророка Наума, 3:7*. 29 Стоби – античный город, остатки которого сохранились в верховьях реки Вардар. 30 В средние века мандрагора славилась волшебными свойствами: считалось, что она лечит от бесплодия, приносит богатство и т. д. Колдовская репутация мандрагоры отражена и в художественных произведениях (у Н. Макиавелли, А. фон Арнима, Ш. Нодье) *. 31 Юбилей (от др.-евр. рог овна: у древних иудеев в юбилейный год, раз в пятьдесят лет, трубили в бараний рог) – библейские название для каждого пятидесятилетия. 32 Арий (ум. в 336 г.) – священник из г. Александрии, зачинатель еретического течения в христианстве IV – VI вв. Согласно его учению, Христос как творение Бога-отца – существо, ниже его стоящее. Арианство осуждено как ересь церковными соборами 325 и 381 гг. 33 Далее перечисляются первые семь (86 до н. э. – 509/510 н. э.) римских царей (слово «цари» здесь применимо условно, это скорее выборные племенные вожди, одновременно являвшиеся военачальниками, верховными жрецами и судьями), сведения о которых носят преимущественно легендарный характер*. 34 Лифостротон – по евангельской легенде, судилище, каменный помост, на котором восседал Пилат, пославший осужденного на казнь Иисуса Христа на Голгофу; в апокрифах лифостротон нередко отождествляется с горой Голгофой. 35 Озеро Лихнидис – Охридское озеро (старинное наименование)*. 36 Андроник II Палеолог (1282 – 1328) – византийский император*. 37 Моноксилон– челн, выдолбленный из цельного дерева. 38 Кановер – красная краска для выписывания заглавных букв*. 39 Оттокар– Пржемысл Оттокар I (1197 – 1230), король чешский, добившийся от Фридриха II признания независимости Чехии*. 40 Пентеконтера– пятидесятивесельное судно. 41 Керакосор– город на реке Нил, ныне Ал-Аркас. 42 Пифия – в Древней Греции жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах. 43 Лазарь – евангельский персонаж; по евангельской легенде, воскрешен Иисусом Христом через четыре дня после смерти*. 44 Индикт – введенный в 312 г. византийским императором Константином Великим (ок. 285 – 337) цикл 15-летнего исчисления времени вместо олимпиад. 45 Пентаграмма – в средние века магический знак, изображавшийся на амулетах. 46 Имеется в виду библейский рассказ о снах фараона, истолкованных Иосифом (Бытие, гл. 41) *. 47 Мойры – в древнегреческой мифологии три дочери Зевса и Фемиды, богини судьбы (в древнеримской – парки). 48 Каллиопа – в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, покровительница эпической поэзии и науки, мать легендарных певцов Лина и Орфея. 49 Можно предположить, что имеется в виду комета Галлея, период обращения которой вокруг Солнечной системы составляет около 76 лет, видимо, речь идет о событиях 1208 г., имевших место за сто лет до нашествия крыс. 50 Абсурд! (лат.) 51 Авиценна (Ибн Сина, ок. 980 – 1037) – арабский ученый, философ, врач. Трактаты Ибн Сины были чрезвычайно популярны на Востоке и на Западе. 52 Сефер Йецира – Книга Творения, древнейший литературный каббалистический памятник; написан на классическом иврите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
|||||||||