 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Толстой Лев Николаевич :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Горький Максим :: Сименон Жорж :: Чехов Антон Павлович :: Желязны Роджер :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: Улики :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: Полет :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона :: Жонглер преступлениями :: Омен. Последняя битва. |
Личное счастьеModernLib.Net / Детская проза / Воронкова Любовь Федоровна / Личное счастье - Чтение (стр. 11)
– Никогда?! А как же мама? Но отец больше не хотел говорить об этом. – Оставим этот разговор, – сказал он. – Когда-нибудь после. Сейчас мне некогда. Надо съездить на седьмой участок! – А я? – А ты иди домой, приберись, осмотрись. И ложись спать. Отец свернул на грейдер. – Папа, подожди, – остановила его Тамара. – А что это такое «как ядром кормленная»? Как это – кормленная ядром? Каким ядром? – А это индюшек откармливают орехами, чтобы жирными были. Ты разве не знала об этом? – А… Тамара направилась к тихому, окруженному акацией домику директора. Она обиделась – значит, она похожа на индюшку, которую откормили орехами? Фу, какая же глупая эта баба, которая могла так сказать о Тамаре! Глупая и злая – вот и все! Нарядная, белокожая, синеглазая Тамара шла по дорожке упругой походкой. Ну как же это посмели сравнить ее с индюшкой! Слепые они, что ли? – Фу – деревенщина! А сердце невольно заныло от печальных предчувствий. Почему ей казалось, что она найдет здесь свое счастье? «А где же тогда, а где же?» – чуть не плача, возражала своему сердцу Тамара. Она вошла в тихие белые комнаты с красными геранями на окнах. Полки с книгами, лампа в изголовье отцовской кровати, голубое покрывало на узенькой тахте, приготовленной для Тамары… «Неужели ты думаешь, что здесь можно найти счастье?» – снова коварно спросило ее сердце. Тамара села на тахту и, ударяя кулаком по голубому покрывалу, залилась слезами. – Ну, а где же оно тогда? Ну, а где же? СТОЛКНОВЕНИЕ Тамара шла по зеленой опушке березовой рощицы. Справа – светлая зелень листвы и шелковистое сияние белых стволов. Слева – широкая, неоглядная даль и ровные, как туго натянутый зеленый шнурок, свекловичные рядки. Тамара шла и рассеянно срывала по пути головки ромашек и желтых купальниц, пускала по ветру их тонкие лепестки. Воспоминания о Москве куда-то отошли, стушевались. Тамара с тревогой и радостью ждала чего-то, каких-то необыкновенных встреч, каких-то счастливых событий. Просыпаясь, она с замирающим сердцем думала, что, может быть, «это» случится сегодня. Ложась вечером, она думала, что, если «это» не случилось сегодня – значит, случится завтра. Оно обязательно должно случиться: ведь не может же Тамара так и остаться на всю жизнь здесь в совхозе или в их унылой московской квартире! Что именно должно случиться, Тамара и сама не знала. Ну, может быть, вот сейчас, когда она идет здесь по зеленой опушке в своем белом платье и отблески солнца сияют в ее золотисто-каштановых кудрях, по дороге идет машина, и в ней сидит кинорежиссер. Он увидит Тамару и, пораженный ее красотой, остановит машину и скажет: «Вот такую девушку я искал для своей главной героини!» И тотчас предложит ей ехать в Москву, чтобы сниматься в кино. Разве так не бывает? Вот, например, одна киноактриса… Была просто студенткой, а увидел ее режиссер – и она стала актрисой. Самой настоящей. Так почему же с Тамарой не может случиться то же самое? Но по дороге проходили подводы, мчались грузовики, поднимая пыль, с тяжким рокотом прошел трактор… И никаких машин с режиссерами не появлялось. А может еще быть и так. Вот она идет сейчас по зеленой опушке, по желто-лиловой траве иван-да-марья, а где-то на бугорке под березой сидит художник и пишет картину. Но вот он увидел Тамару и, пораженный ее красотой, подходит к ней, низко кланяется и умоляет позволить написать ее портрет, Тамара снисходительно улыбается, пожимает плечами. Ну что ж? Пусть пишет, ей не жалко. А художник, оказывается, знаменитый и прославленный. Он пишет Тамарин портрет – вот она в белом платье, с искрами солнца в каштановых кудрях идет по желто-лиловой траве. И вся Москва, все, кто придут на выставку, будут спрашивать – чей это портрет? Какой замечательный портрет – кто же это? И потом прочтут: портрет Тамары Белокуровой!.. И все будут думать: кто же, кто же эта красавица, эта счастливица? Где она живет? Неужели в совхозе? Нет! Надо вызволить ее оттуда, надо… Тут мечты ее прервала песня. Пели девушки, которые шли по тропинке навстречу. Они шли вереницей, в светлых и пестрых платьях, в платочках, надвинутых от солнца на глаза, шли и пели, и голоса их, словно ручейки, сливались вместе и текли звонкой рекой: Сирень цветет, Не плачь – придет, Твой милый, подружка, вернется!.. Девушки быстро приближались. «Свернуть? Не свернуть? – торопливо решала Тамара. – Может, все-таки свернуть, их много, а я одна». Но, когда девушки уже появились перед ней, Тамара шла прямо на них: а зачем это она, директорова дочь, будет уступать дорогу работницам? Но девушки, ясноглазые, загорелые, такие же молоденькие, как Тамара, а некоторые чуть постарше, даже и не заметили ее надменного вида. Они окружили Тамару, приветливо улыбаясь: – Здравствуй, Тамара! – Добрый день, Тамара! – Здравствуйте, – не скрывая удивления, ответила Тамара. В чем дело? Почему они здороваются с ней, если она их не знает? Девушка, которая шла впереди и запевала песню, высокая, с густым румянцем на тугих щеках, с веселыми светлыми глазами и почти безбровая – так выгорели у нее брови на солнце, – дружелюбно сказала: – Скучно одной-то? – Нисколько, – отрезала Тамара. – Ну уж не говори! – сказала другая, черненькая, веселая, с ярко-красным ртом и веснушками на носу. – Человеку без людей всегда скучно. – Пойдем-ка с нами на свеклу! – подхватила и третья. – Блоху будем ловить! А чего одной-то бродить по лесу? Одичать можно! Тамара гордо посмотрела на эту маленькую, худенькую, живую, как пичужка, девчонку. – Я не умею ловить блох, – сказала она, – нас этому в школе не учили. – Не умеешь – так научим! – весело закричала эта «пичужка». – Нас тоже этому в школе не учили, а мы вот умеем же! Тамара сделала движение, желая показать, что хочет идти дальше. Но девушки будто не заметили этого. – Да ты не стесняйся, ты у нас не чужая! – Ты комсомолка? В нашу организацию будешь вступать? – А надолго приехала? На все лето? Или насовсем? – У нас разные кружки есть, весело! – Мы спектакли очень часто ставим… – Данте мне пройти! – холодно, с неподвижным лицом сказала Тамара. Девушки удивленно переглянулись. – Дайте ей пройти, – обратилась к подругам та, что шла впереди, и Тамара заметила, как мгновенно у нее пропала улыбка. Девушки молча расступились, и Тамара, не оглядываясь, ровным шагом пошла дальше. – Это, оказывается, барышня, – насмешливо протянула «пичужка», – а я думала – человек! Все дружно рассмеялись. Этот смех еще долго был слышен Тамаре, все в ней кипело. «Противные, грубые! – шептала она про себя дрожащими губами. – Как они смеют! От зависти всё, я знаю!» Настроение было испорчено. Солнце по-прежнему грело и озаряло землю, янтарные купальницы по-прежнему светились в высокой траве, березовые ветки по-прежнему ласково шелестели над головой… Но Тамара уже не видела во всем этом ни красоты, ни радости. Она вышла на грейдер и направилась домой. Вот она расскажет обо всем отцу, пускай он их накажет хорошенько. Тогда они узнают, человек она или не человек! В квартире было пусто и как-то особенно тихо. Над букетом полевых цветов жужжала залетевшая в открытое окно пчела. Где-то далеко звучал голос виолончели – верно, в клубе включено радио. Герани на окнах радовались солнцу. Тамару охватила отчаянная скука. – Ну что мне делать? Ну что мне делать? – со слезами сказала Тамара. – Ну что мне тут делать? Взяла книжку, улеглась на тахту. Через десять минут она отбросила ее – Тамара никогда особенно не любила читать, она не способна была увлечься вымыслом, как бы ни был он правдив и прекрасен, ее не могли взволновать судьбы людей, о которых рассказывает писатель. Все выдумки, все пустяки. «Войну и мир» она ни разу не раскрыла – ну ее, толстая какая, когда ее прочтешь? Шекспир тоже… Да и кто же читает пьесы? Их можно посмотреть в театре или в кино. Девчонки, се подруги, плакали над Оводом – непонятно, как это можно плакать над книгой? Ведь Овода выдумала Войнич, он же но живой человек, чтобы над ним плакать! Да и мало ли над чем плачут девчонки. Смотрели «Балладу о солдате» – плакали. «Летят журавли» – тоже плакали. А Зина Стрешнева – так та даже и на «Чапаеве» плакала; а что плакать, когда известно, что Чапаев умер давным-давно, а на экране вовсе и не Чапаев, а Бабочкин! И вот теперь взяла книгу с отцовской полки. Чехов. Отец читает Чехова! Но ведь он же давно прочел всего Чехова – и вот почему-то читает снова. Тамара вообще не могла понять, как можно читать Чехова. Такая скука! А вот отец не только читает, он перечитывает! Непонятный человек ее отец, старомодный какой-то. Тамара закинула руки за голову. Однако что же ей все-таки делать? Вспомнились веселые дни на даче у Олечки. Как интересно там было, сколько народу приезжало туда, как они там дурачились, играли, танцевали!.. И снова встал перед ней Ян Рогозин, красивый, любезный, с затаенной грустью в глазах. Гамлет! И тут же опять – пьяная фигура, косматые волосы, отвратительный, мерзкий хохот… О нет, нет! Не надо, не надо! Хоть бы поскорей пришел отец и они бы наконец поговорили. Тамара совсем не видит его: все занят, все занят, все занят! Занят, а, однако, успел собрать букет цветов и поставить в кринке на свой письменный стол. Желтые лютики и лиловые колокольчики светились под солнечным лучом. Желтое и лиловое – ишь ты, ее отец, оказывается, понимает, какие цвета идут друг к другу! И вдруг неожиданная догадка заставила Тамару нахмуриться. Да уж сам ли он собрал такой букет? Не женщина ли рвала для него эти цветы? Сероглазая «агрономша» с обветренным лицом и печально изогнутыми бровями. «Хороший, хороший человек, умница!..» Хоть бы раз в жизни он сказал так о ее матери! Соседка истопила плиту, приготовила обед. Надо бы накрыть на стол к приходу отца. Но как узнаешь, когда он придет? Тамаре лень было возиться с кастрюлями и тарелками. Притом же кастрюли горячие, только руки портить. Тамара встала с тахты. Расхаживая по комнате, она то и дело подходила к прелестному желто-лиловому букету. – Конечно, она, – твердила Тамара с нарастающей неприязнью. – Подумаешь, цветочки дарит! Травы какой-то набрала… Очень красиво – трава в кринке! Мало ей гераней! Тамара схватила кринку и выплеснула за окно воду вместе с лютиками и колокольчиками. Она никому не позволит хозяйничать в их доме! Отец пришел вечером. Свежесть полей, росы, теплоту вечерней зари, радость большого труда – все это принес он с собой в белые комнатки. – Дочка, есть хочу! – закричал он еще с порога. – Скорей накрывай на стол! Тамара сидела с вышиванием, которое привезла с собой. Она смущенно посмотрела на отца. – А что накрывать? Обед же холодный. Плита остыла. – Вот тебе раз! – засмеялся отец. – Обед холодный! – Да, холодный. Пришел бы раньше, так теплый был бы. Но хорошее настроение отца нельзя было испортить ни холодным обедом, ни холодным тоном, каким говорила с ним Тамара. – Раньше не мог, дочка. Так поставь же поскорей на керосинку наш холодный суп, а я пока умоюсь. Тамара, не отрываясь от вышивания, чуть пожала плечами. – Вот еще – с керосинкой возиться! У нас же всегда был газ, ты забыл, папа! Отец с любопытством посмотрел на нее, как на диковину. – Шестнадцать скоро – и тебе трудно зажечь керосинку? Или ты вообще не желаешь ничего делать? – Но, папа, она же керосином пахнет. Все руки… – Ах, руки! – вспылил отец. – Белые руки нельзя запачкать! Да для чего это ты их бережешь, интересно? Ее руки! Что же, ты собираешься всю жизнь дела чужими руками делать? – А почему же тебе агрономша не разогревает? – не глядя на отца, спросила Тамара. – Букеты дарит, а… Отец стукнул ладонью по столу: – Молчать! Тамара вскинула на него потемневшие глаза. Она хотела еще сказать что-нибудь пообиднее, но, увидев лицо отца, испугалась. Так он однажды, доведенный до ярости, закричал на ее мать, а потом молчал несколько дней, не в силах победить свое отвращение к ней. Неужели отец так же поступит и с Тамарой? Побледневший, с горящими черными глазами, он с минуту молча и как-то странно, словно не узнавая ее, глядел на Тамару. Потом, не сказав ни слова, надел свою серую выгоревшую кепку и ушел. – А что ж обедать? – крикнула ему вслед Тамара. Но дверь уже захлопнулась. Тамара подбежала к окну: – Папа! Обедать… – В столовой пообедаю, – ответил отец не обернувшись. Тамара вытащила из-под кровати чемодан и принялась кидать в него свои платья, шарфики, чулки… Домой! Лучше самой кричать на кого-то, чем будут кричать на тебя! …Поздно вечером, когда затихло село и только гармонь и песни бродили по улицам, Николай Сергеевич и Тамара сидели и разговаривали, мучительно стараясь понять друг друга. – Что ты думаешь делать дальше? – пытливо вглядываясь в красивое хмурое лицо Тамары, спросил отец. – А что мне делать? Учиться буду, – ответила Тамара, перебирая оборку на платье. – Ты хочешь получить специальность? А какую? Тамара высоко подняла брови: – Откуда я знаю – какую? Какой ты странный, папа! – А разве ты никогда не думала об этом? Ведь вы даже в школе писали сочинения: «Кем я хочу быть». Ну вот что же ты тогда написала? – Ну, я написала… балериной. – Почему?! – Ну, папа!.. Неужели ты сам не понимаешь? Потому что это красиво. И все любуются. Николай Сергеевич встал и нетерпеливо прошелся по комнате. – Я надеюсь, ты теперь-то понимаешь, что это детские мечты, – сказал он, снова садясь. – Но ты уже взрослая, и ты уже знаешь, что для этого надо много работать и талант нужен! – Тогда я не знала. – Но что же делать, Тамара? Ведь пора уже думать о своей будущей профессии, пора готовиться к ней. Ведь я же не буду тебя содержать всю жизнь – каждый человек должен работать. Может, тебе стоит поступить в техникум? – А кого же ты будешь содержать? Сказала и тут же съежилась, испугавшись, что отец опять хлопнет по столу. Но отец только нахмурился. – Антонину Андроновну придется мне содержать, – сказал он: – этот человек может жить только за счет чужого труда. Всю жизнь, до гроба. Но ты не можешь быть такою же. Не смеешь. Ты не имеешь права быть захребетником! Наступило молчание. Где-то пели нежную песню про милую тропинку, чьи-то согласные голоса спрашивали, куда она ведет и куда зовет… Светло-зеленые пушистые ветки акации, освещенные лампой, чуть шевелились у открытого окна. Тамара собралась с духом. – Ты не любишь маму? – спросила она. Она глядела на отца, предвидя, что он сейчас смутится и будет возражать. Но отец ответил просто и спокойно. – Да. У нас с ней нет ничего общего. Мы давно оказались чужими людьми. В нашей любви не было дружбы, а любовь без дружбы, без уважения – то же, что цветок без корня: она скоро увядает. – Значит, ты не вернешься домой? Никогда? – Никогда. – Значит, ты и тогда… знал, что не вернешься? – Нет. Тогда не знал. А теперь знаю. У Тамары задрожало сердце. – А как же… мама? – Мама будет жить, как живет. – А как же… ты? – А я буду жить здесь. – Ты женишься на агрономше, я знаю! Не думай, что я маленькая, что я ничего не понимаю! Я все понимаю! Я знаю, что ты хочешь сделать! К удивлению Тамары, отец и теперь не смутился. – Может быть, это и случится, – спокойно ответил он, – если согласится она. – Если – она! Значит, ты только потому и не разводишься и не женишься на ней, что она не соглашается? – Да. Только поэтому. – Я уеду! Я завтра же уеду! – Тамара зарыдала, закрыв лицо руками. – Ты изменник! Ты плохой человек! Вон Зинин отец – у него жена умерла, да и то он не женится, а ты!.. Отец грустно покачал головой: – Андрей Никанорыч не женится потому, что всем сердцем любил свою умершую жену. А я не люблю и не могу любить Антонину Андроновну. И что же, по-твоему, жить с нелюбимым человеком, лгать и притворяться, обманывать, страдать самому и заставлять страдать другого человека – это лучше? Честнее? Тамара плакала. – Зачем я нужен твоей матери? Лишь для того, чтобы она могла называться женой директора. И еще ей нужны мои деньги, ей нужна квартира, ей нужно безбедное существование, чтобы жить как хочется и не думать о завтрашнем дне. Вот для чего я ей нужен! А разве когда-нибудь в жизни спросила она меня – каково мне на работе? Не трудно ли, не устаю ли я сверх сил? Это ее никогда не интересовало. Работай, работай, хоть издыхай, но добивайся высокого положения и давай ей денег, давай денег, давай денег! Хорошо, я буду давать ей деньги. Хотя и не обязан. Но уж свою жизнь я отдавать ей больше не буду. И если ты захочешь понять, ты меня поймешь. А если нет – ну что ж, расстанемся. Можешь уложить свои вещи, и завтра я отвезу тебя на станцию. Тебе тоже нельзя привыкать ко лжи и жить у отца, которого ты считаешь подлецом. Он ушел в свою комнату и закрылся. Тамара погасила огонь, но спать не могла. Она сидела у окна, ночь глядела на нее своими теплыми звездами. Песни все еще бродили по улицам, и гармонь мягко и раздумчиво вторила им. Тамара думала, думала… Она знала, что отец прав, что он никогда не был счастлив в семье. Тамара понимала, что нельзя осуждать человека за то, что он хочет счастья, и за то, что он больше не желает лгать. Но как же ее мать? И как же она, Тамара? Каково им будет, когда люди будут говорить: «Их бросил отец!»? «Ну и что ж! – возражала Тамара самой себе. – Зато отец будет счастлив. И какая разница? Все равно он не живет с нами, а деньги все так же будет давать!» Но тут же и отвергала эти доводы. «Счастлив! Такой старый, ему уже сорок лет, а он еще счастья ищет! Стыдно, позорно, он не должен уходить из семьи! Нет, не должен. Чтобы нам все в глаза смеялись! Нет, я не дам, я не допущу! Мы с мамой тоже хотим быть счастливыми. Он наш – и все. И никому мы его не отдадим. Пускай не живет с нами, но зато никто не скажет, что он нас бросил!» И Тамара уснула с твердым решением никаким «агрономшам» не отдавать своего отца. Пускай он любит кого хочет, но они с матерью не отпустят его, никогда не отпустят! Как жернова, повиснут на нем, но никогда не отпустят! ЗВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА Хорошо в солнечный день гулять в тенистом парке, кататься на лодке по Москве-реке или сидеть под большим зонтом кафе и есть мороженое. Солнце тогда сияет так весело, так ласково, и жизнь становится веселой и праздничной. Но совсем по-другому солнце ведет себя, когда стоит оно в зените над совхозными огородами, над бесконечными грядками огурцов и моркови, заросшими сорняком. Тут солнце жестоко и беспощадно, оно палит голову, слепит глаза, поливает жаром плечи и спину и спрятаться от него некуда! Тамара давно уже отстала от полольщиц. Молодые девушки, женщины и даже старухи гнали грядки так быстро и проворно, что Тамара надивиться не могла. Тамара спешила изо всех сил, старалась так же быстро выдергивать пырей и мокрижник, но ничего не получалось; руки у нее онемели, пальцы ослабли, и она, еле-еле выдергивая по травинке, полола свою гряду. – Догоняй! Догоняй! – покрикивали ей полольщицы. – На вожжах, что ли, тебя тянуть! – Что, ай силы нету? – Наверно, не завтракала сегодня! Вот дай сходит пообедает, так всех нас обгонит! Они посмеивались и подшучивали, а Тамара злилась. Она, стиснув зубы, дергала траву и не отвечала на шутки. И зачем только она сунулась в огород? Зачем она пошла на это мучение? И все виноват отец. Она пожаловалась на девчонок, которые оскорбили ее: – Подумай только, они сказали, что я даже не человек! «Это барышня, а мы думали – человек!» Как они смеют?! Ты, папа, должен прогнать их из совхоза! Тамара считала, что отец возмутится. Как? Его дочь даже за человека не считают? И, конечно, сейчас же накажет этих нахальных девчонок. Но отец только усмехнулся: – А ты возьми и докажи им, что ты человек, а не барышня. – Как это? – Ну так. Докажи, что ты не хуже их. Вот они завтра идут огороды полоть – пойди и ты. Покажи им, что и ты отлично можешь сделать то, что они делают. – Подумаешь, дело – траву дергать из грядок! – Ну, тем более, если для тебя это даже и не дело! Я им скажу, они зайдут за тобой. Звание человека надо завоевывать! – Значит, кто ходит огород полоть – тот и человек? – Нет, не только. Но только тот и человек, кто трудится. Отступать было нельзя. Утром за ней забежала маленькая Райка, та самая «пичужка», которая ее так обидела. Райка дружелюбно болтала всю дорогу, а Тамара еле отвечала. Ее коробило, что какая-то деревенская девчонка считает себя ровней ей, Тамаре. – А гордый же у тебя характер! – сочувственно сказала ей Райка. – Нелегко тебе с таким-то характером! Бригадиром оказалась та самая высокая румяная девушка, что шла тогда по тропочке впереди всех. Она распределила грядки полольщицам, дала грядку и Тамаре. – Если что не заладится, зови меня, – сказала она Тамаре. – Меня зовут Лида. Лида Черемина. Ты огурцы-то отличишь от травы? Тамара покраснела, ей хотелось осадить эту Лиду Черемину – подумаешь, бригадир! Но она молчала, потому что и в самом деле не знала, где тут огурцы, а где трава. – Вот эти шершавые, с зубчиками листья – это огурцы, – объяснила Лида, – остальное сорняк. Работа не мудрая. – Да уж мудрости не вижу, – ответила Тамара. Сначала она небрежно дергала траву. Потом, видя, что отстает, начала спешить. Но и это не помогло, она отставала катастрофически. И вот они все уже далеко, они идут ходом, будто и труда это им не доставляет, они шутят, болтают, поют. А грядки за ними остаются чистенькие, умытые, с зелененькой дорожкой вырезной и шершавой огуречной ботвы. Особенно мучил Тамару пырей. Его корни разветвлялись в земле так глубоко, что сразу ни за что не выдернешь. И еще осот – от него руки почернели, и потом он такой колючий, что и не схватишься за него никак. Были и еще какие-то вредные травы с крепчайшими корнями – выдираешь, выдираешь их… Вдруг Тамару осенило. А зачем выдирать с корнями, мучиться? И она принялась рвать сорняки, оставляя в земле корни. Работа пошла быстрее. День тянулся бесконечно. Солнце, взобравшись на середину неба, словно и забыло, что пора идти под уклон. Оно светило и жгло изо всех сил, и Тамаре казалось, что еще немного – и волосы у нее на голове вспыхнут огнем, а сама она упадет в борозду и больше не поднимется. А девчонки все пели и чему-то смеялись на своих грядках. Они ушли далеко, они уже приближаются к речке, где кончается огород. Что они – железные, что ли? Тамара не слышала, как к ней подошла Лида. Она вздрогнула, когда Лида окликнула ее: – Налаживается дело? – А почему же нет? – ответила Тамара и разогнула нестерпимо болевшую спину. – Молодец, – сказала Лида, улыбнувшись, – нелегко в первый-то раз, а гонишь шибко! – А что ж такого? Подумаешь, огурцы полоть! Это ведь не алгебра и не английский. – Конечно, – согласилась Лида, – только немножко терпения… Вдруг она замолчала, и Тамара, покраснев, увидела, что Лида с удивлением вытаскивает из ее грядки корень пырея. – Ах, вот как ты работаешь?! – Серые глаза Лиды сердито глядели на Тамару. – А ну-ка, убирайся с поля долой! Тамара вскочила, выпрямилась: – Ну и уйду! Нужны мне ваши огурцы! – Они тебе нужны будут, когда тебе их на стол подадут. Вредитель ты – вот кто! Тамара готова была ударить Лиду. – Как ты смеешь?! – А вот и смею. Всю гряду испортила. Легко, что ли, теперь после тебя корни вырывать? Ступай, ступай отсюда! – Я папе скажу! – И я твоему папе скажу. Убирайся! Тамара сверкнула на нее злыми глазами и, круто повернувшись, пошла с огорода. – Ненавижу, ненавижу!.. – повторяла она сквозь слезы. – И грядки ваши ненавижу. Да, вот и подадите мне свои огурцы на стол готовенькие. Да, вы будете их полоть да поливать, а я буду их есть! Да! Вот и буду их есть! Только руки все испортила об этот всякий молочайник ваш! 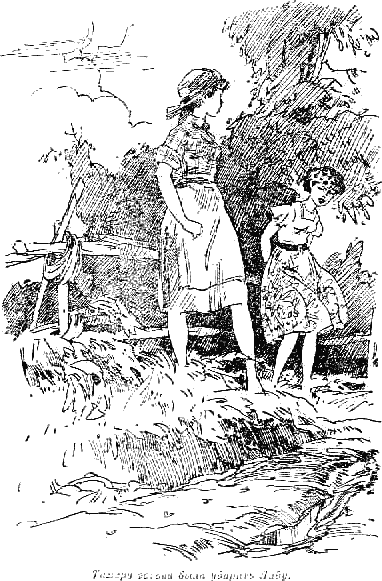 Она глядела на свои нежные руки, на ладони, почерневшие от травы, на заусенцы, которые появились около розовых ногтей, и слезы текли у нее по щекам. – Только мучат меня все! Только мучат! Дома она бросилась было к умывальнику, чтобы мылом и щеткой отмыть руки, но вдруг раздумала. Она села у окна и стала ждать отца. Ладони у нее горели от порезов острыми краями жесткого пырея, от сока молочайника, от грубой, засохшей земли. Но она не будет их мыть, пока не придет отец. Пусть он посмотрит, во что превратились ее руки! В беленых комнатах было прохладно, знакомо пахло какими-то цветами. Тамара понемногу пришла в себя. Огород, грядки, сорняки, полыхающее над головой солнце – все это миновало, как тяжкий сон. Никто больше не заставит ее пойти на эту муку. Никто, и даже отец. Тамара отдыхала, наслаждалась прохладой комнат. Но постепенно знакомый запах цветочной свежести привлек ее внимание. Она вскочила, прошла в отцов кабинет. Так и есть! Снова золотые лютики и лиловые колокольчики стоят в кринке на его столе! Тамара решительно подошла к столу и снова тем же самым резким движением выплеснула цветы вместе с водой за окно. – И всегда так будет, – жестко сказала она. Отвернувшись от окна, с кринкой в руках она замерла на месте. В дверях стоял отец. Они с минуту молча смотрели друг на друга, не спуская глаз. В эту минуту они многое сказали друг другу. – Почему ты не вымыла руки? – спросил отец, будто ничего не случилось, хотя на щеках его загорелись два красных пятна. Тамара знала эти пятна, она знала, что отца душит гнев и он сейчас обязательно расстегнет ворот. Отец действительно расстегнул ворот, и Тамара заметила, что рука его дрожит. «Дрожи, дрожи, – подумала Тамара, – а я все-таки буду так делать, именно так!» – Почему ты не моешь руки, я спрашиваю? – Я не мыла… Я хотела, чтобы ты убедился, что я не сидела дома. Видишь – работала! – Я знаю, как ты работала, – холодно возразил отец. – Ступай мой руки и собирай обедать. – Ты погляди, ты погляди только… – У Тамары от жалости к себе задрожал голос. – Погляди, во что мои руки превратились! – Я вижу только одно: что это руки бездельницы, – ответил отец и, перестав замечать Тамару, сел за свой письменный стол и стал внимательно рассматривать какой-то график. Тамара, вздернув подбородок, удалилась в кухню. Намыливая руки, она услышала, как хлопнула дверь. Отец ушел. Тамара покосилась на кастрюлю с супом, покрытую полотенцем, на миску вишневого киселя, на тарелки, приготовленные к обеду. Все приготовила соседка, ведь Тамара с утра ушла на работу. Но для кого все это приготовлено? Отец не обедает, ну и она не будет. Заболеет от голода, пусть он тогда поплачет! Так, в горестном раздумье, Тамара попробовала киселя – ложку, другую… И сама не заметила, как съела весь кисель. Забравшись с ногами на свою тахту, она принялась раздумывать. Что же будет дальше? Отец тоже не понимает ее. Когда она рассказала ему о своей трагедии с Яном Рогозиным, отец ничуть не расстроился, а только сказал: – Вот и хорошо, что вовремя увидела, что это за фрукт. Забудь эту историю, и все. Мало ли хороших людей на свете! Надо лишь самой быть хорошим человеком. А хороший человек, по мнению отца, должен непременно трудиться. Вот она попробовала сегодня трудиться, но что из этого вышло? Нет, Тамара не пойдет больше в огород, ни за что не пойдет! Хотя бы даже из-за того не пойдет, что там ее оскорбили. И вот – отец. Ну что же он сделал, когда его собственную дочь так обидели? На Лиду он не рассердился, а рассердился опять-таки на нее, на Тамару. «Руки бездельницы»! Может, ей все-таки собраться да уехать обратно?.. ЯШКА ОБЪЯВЛЯЕТСЯ Антон одним духом взбежал по лестнице. Зина, заслышав его шаги, открыла дверь. – Ой, что скажу! Ой, что скажу! – повторял он задыхаясь, и Зина увидела, что в его широко раскрытых глазах застыл испуг. Зина встревожилась, но, стараясь сохранить внешнее спокойствие, улыбнулась: – Ну скажи, скажи. Только отдышись сначала! Что там такое – заводская труба упала? – Нет, что ты! Не труба. – Так что же? Слон ходит по улице? – Какой слон? Что ты! Не слон, Яшка вернулся, его милиционер привел! Я гляжу, а это Яшка. А он на меня как цыкнет: «Чего, говорит, глядишь? Вот как дам!» И опять на меня: «Уа, уа»! И кулак потихоньку показал! Зина перестала улыбаться: – С милиционером? – Ага, с милиционером. А Яшка идет, руки в карманы, будто он один идет, а милиционер – так просто. – А ты что же, опять боишься его? Антон потупился: – А он же драться будет… Зина положила ему руку на голову, пригладила белесый чубик. – А я? – спросила она. – Что же я-то – не заступлюсь, что ли? А ребята, твои товарищи, – не заступятся? Нас много, а он один. И мы будем его бояться? Антон прислонился к Зине и сразу повеселел. А Зина задумалась. Она не знала – радоваться ей тому, что Яшка вернулся, или досадовать из-за того, что ей снова придется возиться с ним, уговаривать, воспитывать, искать какие-то способы, чтобы приручить его, говорить ему ласковые слова, подавляя свое раздражение, негодование, свою нелюбовь к нему. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
|||||||