 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Чапек Карел :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Лондон Джек :: Толстой Лев Николаевич Популярные книги:: Рагнарёк :: Скандальная леди :: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Бегущая по волнам :: Неучтивый церемониймейстер Котсуке-но-Суке :: Отречение :: Ассистенты :: Опаловый кулон :: Авитаминоз |
ГрабежModernLib.Net / Криминальные детективы / Шевцов Иван / Грабеж - Чтение (Весь текст)
Иван Михайлович Шевцов Грабеж Сотрудникам подмосковной милиции посвящаю. Автор ГЛАВА ПЕРВАЯ 1 В дверь постучали три раза негромко, и подполковник милиции Добросклонцев знал, что это Антонина Миронова. Только она так стучит. Обычно сослуживцы заходят к нему без стука. Знал он и о том, что Антонина неравнодушна к нему, но именно этого неравнодушия Добросклонцев и побаивался. Миронова была интересная женщина, не то чтобы красивая, но обаятельная, привлекающая не внешностью, а какой-то внутренней ненавязчивой, даже скрытой сердечностью и чистотой. Два года тому назад муж ее, майор Миронов, погиб в схватке с бандитом. Детей у Мироновых не было, и Антонина жила теперь одна. — Я тебе не помешала? — Тихая мягкая улыбка светилась в ее серых доверчивых глазах. — Прежде всего здравствуй, — ответил Добросклонцев, вставая из-за письменного стола, заваленного папками и разными бумагами. — Если мне не изменяет память, мы с тобой сегодня не виделись. — Разве? — Удивление отразилось на вспыхнувшем легким румянцем лице Мироновой. — Это, во-первых. А во-вторых, Антонина Николаевна, должен сказать, что штатский костюм тебе больше к лицу. В штатском ты какая-то… весенняя, что ли. — Естественно, Юрий Иванович, на дворе весна, мартовская капель… А погоны, прямо скажем, не украшают женщину, даже если они и генеральские. Ты не согласен? — Не представляю тебя в генеральских погонах. Добросклонцев обратил внимание на новое платье Мироновой из плотного материала шоколадного цвета с поясом и нагрудными карманами. Платье это как бы подчеркивало скромную простоту его хозяйки, придавало ее миниатюрной фигуре элегантную строгость. Добросклонцев хотел было сделать на этот счет комплимент, но Миронова упредила его: — Зато я тебя зримо представляю: Юрий Добросклонцев — е-не-рал! Черные, всегда ухоженные волосы, плотная, но не рыхлая фигура, черные глаза, то суровые, то дружески улыбающиеся, крепкая, упитанная шея и начальнический баритон, снисходительно-усталый, отеческий. — Нет, Тонечка, и не мечтаю. Хотя мечтать никому не противопоказано. Мне один знакомый полковник признался как-то: красные лампасы, говорит, во сне вижу. — Ну и как, он до сих пор полковник? — Представь себе — уже генерал. — Догадываюсь. Что ж, он заслужил. — Надеюсь, ты зашла ко мне не для разговора о генеральских лампасах? — Добросклонцев решил переменить тему разговора. — Угадал. Из Дядина звонил Станислав Беляев. Спрашивал насчет владельца часов. Как, мол, нашли его? — Часы — вот они. Симпатичные часики. А владельца жду. — Он кто? — поинтересовалась Миронова, взяла со стола наручные часы, довольно увесистые, с тремя циферблатами и множеством стрелок и цифр. — Ого, не часы, а целый комбайн. Японские. — Вслух прочитала надпись на золотой крышке: — «Илье Марковичу Норкину в день его 50-летия от друга». Выходит, Норкину за пятьдесят. Кто же он? — повторила вопрос. — Понятия не имею, — пожал круглыми плечами Добросклонцев и подошел к единственному в его крохотном кабинете окну, выходящему на улицу Белинского. Падала серебристая капель с крыши массивного серого здания Зоологического музея, и прохожие сворачивали с тротуара на середину улицы, тесной от служебных автомашин, прижавшихся двумя рядами к обочине. — Что сказать Станиславу Петровичу, если позвонит? — спросила Миронова. — Я сам ему позвоню, — глухо отозвался Добросклонцев, наблюдая за водителем, который никак не мог вырулить на проезжую часть улицы. Когда он повернулся, Мироновой уже не было в кабинете. Подумал о начальнике Дядинского горотдела милиции: что ему не терпится? Часы с монограммой изъяты дядинской милицией у некоего Конькова, задержанного за мелкое хулиганство. На часы с монограммой обратил внимание подполковник Беляев, спросил задержанного: — Вы давно знакомы с Норкиным Ильей Марковичем? Коньков растерялся: — Норкин? Первый раз слышу. — И никогда не встречались? — Никогда, — твердо ответил Коньков. — Тогда объясните, как попали к вам эти часы? Коньков смутился и еще больше растерялся. Начал говорить, что часы эти он купил случайно у одного незнакомого пьянчужки. — Давно? — Ну в позапрошлом или в прошлом году, точно не помню, — нетвердо ответил Коньков. Поведение задержанного было весьма подозрительным. Позавчера Добросклонцев был в Дядине, и Беляев рассказал ему историю с часами. Конькова пришлось отпустить, а часы под расписку начальник милиции временно задержал. Нужно было установить, кто такой Норкин. В Дядине среди ста тысяч жителей человека с такой фамилией не нашлось. Решили попытать счастья в Москве. Делом этим и занялся сам начальник отдела Главного управления внутренних дел Московской области подполковник Добросклонцев. Возвратясь из Дядина в столицу, Юрий Иванович быстро и легко навел справки: в Москве Норкиных оказалось несколько, среди них и Илья Маркович. Добросклонцеву сообщили его адрес и телефон, и, не откладывая дела в долгий ящик, Юрий Иванович позвонил владельцу часов, представился, извинился за беспокойство и очень любезно пригласил Илью Марковича зайти на улицу Белинского в Главное управление. По какому вопросу, Добросклонцев не сообщил. — Хорошо, я приду. Можно сейчас? — Милости прошу. Я вас жду, заказываю пропуск. Не забудьте паспорт. И вот он ждет — Норкин должен появиться с минуты на минуту. Кто он и что — подполковник не знает. «Ему за пятьдесят, как верно заметила Тоня», — подумал Добросклонцев, следя за бегом секундной стрелки на японских часах. Он вспомнил Конькова, которого тоже не видел и знает о нем со слов Станислава Беляева, своего давнего друга. Коньков последнее время работал в ремонтно-строительном управлении. До этого сменил несколько организаций, увольнялся, как правило, «по собственному желанию». Дважды судим: за квартирную кражу и за убийство. Состоит на учете в психдиспансере. Добросклонцев догадывался, что именно судимость Конькова и натолкнула Беляева на мысль заняться часами с монограммой. Внимательно всматриваясь в фотографию Конькова, сделанную в дядинской милиции, Добросклонцев хотел понять: что из себя представляет на самом деле Коньков — закоренелый преступник крупного калибра или потерявший почву под ногами заблудившийся неудачник? С фотографии на Добросклонцева смотрели безразличные отрешенные глаза, узко посаженные на вытянутом грушевидном лице. Широкий лоб и впалые щеки четко подчеркивали эту грушевидность. Что-то безвольное виделось Добросклонцеву в характере Конькова. «По фотографии трудно судить о человеке», — решил Юрий Иванович и спрятал карточку в ящик письменного стола. Туда же положил и часы. В дверь постучали, и в кабинет вошел человек в темно-сером строгого покроя плаще и синем берете и с порога как-то поспешно представился: — Здравствуйте, я — Норкин. — Добросклонцев, — вставая, ответил Юрий Иванович, жестом предложил садиться. Примерно таким он и представлял себе Норкина — с аккуратной седеющей бородкой, в очках золоченой оправы, сквозь которые настороженно смотрели круглые карие глаза. Только в его представлении Норкин должен быть плотней, солидней, степенней и выше ростом. Этот же, настоящий Норкин, был ниже среднего роста, подтянут, подвижен. Руки прятал в карманы: они предательски выдавали волнение. Норкин ждал первого вопроса напряженно, с нетерпением, — Добросклонцев его понимал и спросил сразу весело и дружески, чтобы расположить и успокоить: — Вы давно в Москве живете? — Всю жизнь, как себя помню, — стремительно выпалил Норкин, вглядываясь в собеседника пугливыми бегающими глазками. — Москвич, значит, — заключил Добросклонцев. — Скажите, Илья Маркович, вы знакомы с Коньковым? Вам ничего не говорит эта фамилия? Глазки Норкина встревоженно засуетились, холеное лицо вытянулось. Но с ответом он не медлил, сказал убежденно: — Ровным счетом ничего. И знаете ли — никогда такой фамилии не слыхал. Даже ничего похожего. Добросклонцев не спеша достал из ящика письменного стола часы и протянул их Норкину: — Не узнаете? — Мои часы?! — воскликнул Норкин, и в глазах его вспыхнула неподдельная радость. — Как они к вам попали?.. Вы их поймали? — Вы имеете в виду часы? — Да нет же, конечно, бандитов, грабителей. — В таком случае, Илья Маркович, давайте начнем по порядку. Сначала расскажите, как вы лишились своих прекрасных часов? И еще — извините за вопрос, не относящийся к делу: где вы работаете? — Я работаю в торговле. Директор магазина мехов. — Алые губы Норкина растянулись в невинной улыбке, отчего аккуратно постриженные усы ощетинились. Добросклонцев легким кивком головы дал понять, что он удовлетворен ответом и готов слушать рассказ о главном. — Да, так, значит, часы. — Норкин сделал выразительную паузу. — Видите ли, какая история вышла. Мы с женой и с одним моим приятелем, вернее, нашим знакомым, на его машине поехали в город Дядино. Это в сорока километрах от Москвы — вы знаете и, надо полагать, бывали там. Добросклонцев кивнул. Он обратил внимание на паузы, которые делает Норкин, обдумывая каждую фразу, точно опасается обронить лишнее слово. «Он, конечно, уверен, что наша беседа записывается на магнитную ленту, — подумал Добросклонцев. — Так считают многие, насмотревшись телефильмов о „Знатоках“. — В Дядино мы поехали к знакомому нашего знакомого, о котором я говорил, по частному делу. — Извините, Илья Маркович, — с улыбкой перебил Добросклонцев. — Мы с вами так можем запутаться: «знакомый знакомого». Давайте будем называть их фамилии, имена, должности и более конкретно цель вашей поездки в Дядино? — Да, конечно, я понимаю, это необходимо, — согласился Норкин. — Наш знакомый — это известный искусствовед — коллекционер антиквариата Ипполит Исаевич Пришелец. Знаете, был писатель Антон Пришелец. Так Ипполит Исаевич не имеет к нему совершенно никакого отношения. Ипполита Исаевича заинтересовала одна довольно ценная вещица. Она досталась нам от покойной бабушки, даже от прабабушки. В общем, старинная вещь — семейная реликвия. Ипполиту она понравилась, а мы сейчас испытываем некоторые материальные затруднения. Ну не так чтобы… Словом, собирались купить кооперативную квартиру. У нас дочь невеста, а вы сами знаете, что в наше время молодожены предпочитают жить отдельно от родителей. А приличная квартира, да плюс обстановка, все это стоит немалых денег. Жизнь дорожает. Да если откровенно сказать, то вещь эта лежит без дела — лежит мертвым грузом. От нее никому ни жарко, ни холодно. — Простите, что за вещь? — перебил Добросклонцев. Ему показалось, что Норкину не хочется назвать этой драгоценной семейной реликвии и он не знает, как это сделать. А назвать все равно придется. — Это кулон. Обыкновенный кулон, предмет женского украшения, так сказать, роскоши. — И за него можно купить квартиру с обстановкой? — Голос Добросклонцева тихий, спокойный, на полном смуглом лице и в темных глазах ни тени удивления. Обычное добродушное любопытство. — Даже две, — тихо, приглушенно и с гордостью ответил Норкин. — На крышке кулона большой бриллиант. — И товарищ Пришелец хотел у вас купить эту вещицу? — В общем он заинтересовался и хотел проконсультироваться у ювелира. Сами понимаете — кулон дорогой: тут семь раз примерь… — А почему именно в Дядино? — Там у него знакомый ювелир. Можно сказать — приятель. — Как фамилия ювелира? — Фамилия?.. Не знаю. Просто ни к чему мне была его фамилия. А имя и отчество… сейчас, минуточку, нужно вспомнить… Да, точно — Арсений Львович. Он уже в годах, на пенсии. Такой интеллигентный старичок. Он назначил нам время: от пяти до шести часов. Мы приехали где-то в начале шестого. Поднялись на третий этаж, позвонили. Дверь нам открыл мужчина, не знакомый Ипполиту — это уже выяснилось потом, — и пригласил нас, мол, проходите. Сам стал у двери, закрыл ее на ключ, а ключ положил себе в карман. Но это потом, когда мы разделись. Первым прошел в комнату Ипполит, и тут его встретили двое в милицейской форме. Один капитан, другой лейтенант, отвели его на кухню, а затем втолкнули в ванную комнату и заперли. В это самое время, как потом оказалось, сам хозяин квартиры уже был заперт в туалете. Таким образом мы попали в ловушку. Нас, то есть меня и жену мою, тут же обыскали, и все драгоценности, какие были при нас, и деньги забрали. Все подчистую. В том числе и эти часы. — И кулон тоже? — Да. Представляете наше положение? Мы, конечно, поняли, что милицейская форма — это камуфляж, что попали в ловушку грабителей. — Вы думаете, они ждали именно вас? — Трудно сказать. Арсений Львович ждал нас, и, когда в дверь позвонили, он открыл спокойно, он был уверен, что это мы. Они, то есть грабители, вошли, заперли его в туалете, а сами начали искать ценные вещи. Взломали секретер и, по словам Арсения Львовича, ограбили основательно. Но брали — обратите внимание, — брали только ювелирные ценности и деньги. Никаких тряпок, хрусталя и прочего не трогали. Даже меха их не интересовали. Брали то, что могли вместить в портфель. — У них был портфель? — Штатский был с «кейсом». А те двое — так, без всего. Дело принимало интересный оборот, и Добросклонцев догадывался, что грабители шли именно за бриллиантовым кулоном. Но это было лишь первоначальное предположение, против которого сам же Юрий Иванович выставлял не менее веские возражения. Например: если преступники хотели во что бы то ни стало заполучить кулон, они могли проникнуть в квартиру Норкина — в отсутствие хозяев или даже в их присутствии ворваться под видом той же милиции. Зачем им было вовлекать в это дело ювелира и Пришельца и создавать лишние сложности, чреватые разными неожиданностями, которые заранее немыслимо предусмотреть. Вполне возможно, что преступники решили ограбить ювелира, а появление Норкиных для них было неожиданным, случайным. В голове роились вопросы, они набегали с разных сторон, им, казалось, нет конца, потому что ответ на один вопрос порождал новый вопрос. — Кто-нибудь из ваших знакомых знал, что вы идете к ювелиру? — Нет. Разве что Белла. Дочь моя. Она оставалась дома, когда мы уходили, слышала наш разговор, видела, как мы брали кулон… Но нет, это исключено: она не знала, что мы едем именно в Дядино, и об Арсении Львовиче, как и мы с женой, понятия не имела. — А скажите, Пришельца они тоже обыскивали, прежде чем запереть его в ванной? — Да, он говорил, что обыскали, но при нем ничего не было. — Совсем ничего? А деньги, документы, наконец ключи от автомашины и квартиры? — Не знаю. Не могу сказать. Ключи, конечно, были. Но зачем им ключи? — Да, действительно — зачем ключи? Адреса Пришельца они не знали, и что именно его машина стоит внизу, тоже не знали, — как бы вслух размышлял Добросклонцев. И затем неожиданный для Норкина вопрос: — А ваша квартира, Илья Маркович, надежно охраняется? В том смысле, что не могли охотники за кулоном проникнуть туда днем, когда вас нет, или ночью, когда вы дома? Норкин внимательно следил за ходом мыслей Добросклонцева, за интонацией его голоса, за выражением лица, за жестами, при этом все тщательно взвешивал и оценивал, ничего не принимая на веру. Прежде всего ему не терпелось знать, как, каким образом попали его часы к следователю? Задержаны ли преступники? Но Добросклонцев об этом не говорил, и Норкин не решался задавать лишних вопросов. Он давно жил по принципу: все лишнее вредно, лишним словом можно накликать беду. Ведь он уже спросил о часах: «Как они к вам попали? Вы их поймали?» Он имел в виду грабителей, но Добросклонцев уклонился от ответа. Значит, он хитрит, и не такой уж простой, добродушный и ласковый, как кажется на вид, этот подполковник. Глаза темные, цыганские, с веселыми огоньками. Они располагают к откровенности, к интимной доверительной беседе. Но не такой простак Илья Маркович, он не склонен ни с кем откровенничать и тем более доверять. За многие годы лишь однажды доверился Ипполиту — и вот чем кончилось это доверие. Кончилось ли? Зачем следователю знать, как охраняется его квартира? Но вот же интересуется, и надо объяснять, — Вы можете не отвечать на этот вопрос, — сказал Добросклонцев, видя замешательство Норкина. — Нет, почему же. Тут никакого секрета, — словно опомнившись, с готовностью заговорил Илья Маркович. — Как у многих сейчас, квартира моя на пульте охраны. О другой охране — четвероногом стороже — Норкин умолчал. А пес был более надежен, считал хозяин, нежели сигнализация на пульте милиции. У Норкиных был здоровый хищный ротвейлер. Эта порода собак отличается не только большой физической силой, но прежде всего агрессивностью и недоверчивостью к посторонним. Вступать с ротвейлером в поединок в квартире дело весьма рискованное: тут и нож и пистолет не всегда помогут. — Некоторые еще собак держат, — безразлично заметил Добросклонцев. — Есть и у меня. Ротвейлер, — виновато признался Норкин. — Надежный сторож, — похвалил Добросклонцев. Завмага почему-то насторожил разговор об охране квартиры, он не мог понять, в какой связи подполковника интересует этот вопрос. И вообще ход беседы несколько озадачивал Илью Марковича. Он не чувствовал за собой никакой вины. Разве что сказал одну маленькую неправду, и неправда эта заключалась в том, что на самом деле бриллиантовый кулон в настоящее время хранился в квартире Норкина. Зачем он соврал? Вероятно, на всякий случай, потому что и Пришельцу и ювелиру он тогда же в квартире Арсения Львовича сказал, что кулон отняли. А между тем предусмотрительная супруга Норкина принесла кулон к ювелиру не в сумочке, а в зонтике. Грабителям и в голову не пришло осмотреть ее зонтик. Мысль Норкина работала стремительно. Если грабители задержаны, что вполне вероятно, то они, конечно, все будут отрицать. А кто им поверит? Верить должны пострадавшим, и Норкин решил твердо придерживаться своей версии. Это не ложь, убеждал он себя, а всегда лишь «маленькая неправда». И вот новый вопрос Добросклонцева, вопрос, который он давно ждал, приготовил на него ответ, но самому ему ответ этот казался неубедительным. — Вы заявляли в милицию о нападении? — Нет. — Лицо Норкина сделалось хмурым и печальным. Он знал, что сейчас последует самый неприятный вопрос. — Почему? — недоуменно спросил Добросклонцев. — Мы, то есть я и супруга, испугались. Бандиты предупредили нас: если заявим, поплатимся жизнью. Мы так рассудили: утерянное не вернешь, а жить потом в постоянном страхе, извините, удовольствие ниже среднего. Впервые Норкин заметил на лице Добросклонцева подобие иронической ухмылки. Ее можно было понять и как иронию и недоверие, и как осуждение поступка потерпевшего. — Вы говорите, утерянное не вернешь, — после некоторого раздумья отозвался Добросклонцев и взял в руки часы. — Вот вам конкретное опровержение. Не так ли? Юрий Иванович пытливо смотрел Норкину в глаза. Илье Марковичу подумалось, что, может быть, в ящике письменного стола подполковника хранятся и бирюзовые серьги, и кольца, и часы его жены. — Да, конечно, вы правы, нужно было заявить, — легко согласился он и с сожалением вздохнул. — Но, откровенно говоря, первое время мы растерялись и пребывали в состоянии шока. Все это было так неожиданно, дико. И конечно же, был страх. А потом, когда пришли в себя, решили, что поздно обращаться. И просто не верилось, что преступники могут быть пойманы. — А ювелир и Пришелец тоже не заявляли? — спросил Добросклонцев. Это обстоятельство для него казалось важным: за ним скрывалось нечто значительное, что могло пролить свет на все дело. — Пришелец не заявлял, потому что он, в сущности, ничего не потерял. Так сказать, материального урона не понес. А что касается Арсения Львовича, то я просто не знаю. Он был очень расстроен: когда увидел вскрытый секретер, схватился за голову, даже зарыдал. Вы представляете. Старый человек — мужчина — рыдает. — Пришелец и Арсений Львович были заперты: один в туалете, другой в ванной, — продолжал Добросклонцев. — Кто их выпустил? — Мы, то есть я. — Как вел себя Пришелец, выйдя из ванной? — Бросился к телефону. Но, увы, грабители оборвали шнур: телефон не работал. — Куда хотел звонить Пришелец? — Очевидно, в милицию. — Вы в этом уверены? — А куда же еще? — В застывшем взгляде Норкина Добросклонцев прочитал недоумение. Видно, вопрос озадачил его. Чтоб успокоить посетителя, Добросклонцев сказал: — Да, конечно, он хотел звонить в милицию. — Потом он достал из письменного стола несколько фотографий и разложил их перед Норкиным. — Посмотрите, нет ли среди них знакомых вам? Илья Маркович рассматривал снимки не спеша, глаза его то вспыхивали, то гасли, руки чуть подрагивали, но губы были плотно сжаты, словно он делал над собой усилие, чтоб не сорвалось преждевременное слово. Наконец, взял фотографию Конькова и сказал твердо, с убеждением, точно вынес приговор: — Он, вот этот. — Он был вооружен? — Не знаю. Я не видел оружия. — А те, в милицейской форме? — И у них не видел оружия. Добросклонцев спросил у Норкина номер телефона Пришельца. Он обратил внимание на то, что Илья Маркович без особой охоты отозвался на его просьбу, заметив, что до Ипполита Исаевича дозвониться трудно, почти невозможно, поскольку он человек холостой, дома бывает редко и даже ночует где-то у своей знакомой или невесты. Видя нежелание Норкина дать номер телефона, Добросклонцев не стал настаивать: в конце концов он узнает через справочное бюро. Прощаясь с Норкиным, Добросклонцев попросил об их сегодняшней встрече в интересах следствия пока никому не говорить. — И в ваших интересах, — прибавил Юрий Иванович, пожимая руку Норкина. — Да, да. Я понимаю, — с тихой покорностью согласился Илья Маркович. После ухода Ильи Марковича Добросклонцев позвонил в Дядино начальнику милиции: — Станислав Петрович, дело с часами принимает серьезный оборот. Я сейчас буду докладывать начальству. Только что встречался с хозяином часов. Ограбление в квартире. У вас проживает ювелир-пенсионер Арсений Львович, фамилии не знаю. По Первомайской улице. Дом, квартира — не знаю. Установишь. Нужны его показания. Он, как и владелец часов, тоже потерпевший. Трое грабителей вошли в его квартиру, в их числе и Коньков, которого ты отпустил. С ним были двое в нашей форме. Нужно немедленно у Конькова произвести обыск. Обратите внимание на ювелирные драгоценности: кольца, серьги и особенно кулон. Ты знаешь, что такое кулон? Именно. Так вот — бриллиантовый кулон, очень дорогой. Ты меня понял?.. Завтра я постараюсь подъехать к вам, если начальство не будет возражать. Действуй, Станислав! До встречи. Положив телефонную трубку, Добросклонцев встал из-за стола и подошел к окну. Он смотрел на угол здания Зоологического музея, где стояла будка телефона-автомата, думал: любопытно, сдержит слово Норкин или все же позвонит Пришельцу и расскажет о нашей встрече? В его интересах помогать следствию. Разве он не хочет, чтоб мы нашли преступников и вернули ему драгоценности? Есть что-то странное, нелогичное в его поведении: грабители отнимают ценные украшения, часы, а он и не думает заявлять в милицию. Как это понять? Испугался угроз? Едва ли, во всяком случае, причина мало убедительная. В квартире здоровенный пес — страж вполне надежный. И еще один, возможно, самый главный вопрос занимал Добросклонцева: случайно ли Норкины и Пришелец оказались у ювелира в момент, когда там уже были грабители, или ювелир, решив завладеть кулоном, устроил им западню? Размышления его прервал телефонный звонок. Звонила секретарь генерала Константинова. — Юрий Иванович, Василий Кириллович просит вас срочно зайти к нему. А когда Добросклонцев появился в приемной генерала, она же по-приятельски шепнула: — Имейте в виду: приехал из обкома — не в духе, сердитый. — У меня в кармане громоотвод: весь заряд в землю уйдет, — пошутил Добросклонцев и вошел в кабинет генерала. Константинов и в самом деле был чем-то расстроен. Обычно приветливое лицо его было серым, глаза хмурились, на лоб, прорезанный глубокой морщиной, мрачной тенью упала прядь темно-каштановых волос. На приветствие Добросклонцева Константинов кивком пригласил садиться. Добросклонцев сел. Генерал некоторое время молча читал какой-то документ, потом захлопнул папку и резко поднял взгляд на подполковника. Складка на лбу его разгладилась, повеселевшие с голубинкой глаза смотрели неожиданно доброжелательно. — Юрий Иванович, в каком у нас состоянии дело с пожаром на складе в Знаменском? Ты ведешь его? — Заканчиваем, Василий Кириллович. Но там появились новые обстоятельства, и поэтому мы несколько затянули. Добросклонцев подробно доложил генералу о неожиданно открывшемся деле с ограблением на квартире ювелира и попросил разрешения выехать завтра в Дядино. Генерал внимательно выслушал и, когда Добросклонцев закончил, спросил: — Пришелец, говоришь? Знакомая фамилия. Не он ли проходил у нас года три тому назад по делу об ограблении церквей и спекуляции иконами? Тогда осудили его подручных, а он сумел улизнуть. Если я не ошибаюсь, дело это вела Миронова. Ты поинтересуйся у Тони. 2 Добросклонцев, пригласив Миронову к себе, достал показания Норкина и без слов подал ей. Она подошла к окну и, не садясь, углубилась в чтение. А закончив чтение, положила протокол на стол перед Добросклонцевым, прошлась по кабинету. — Что ж, Юра, поздравлять тебя не решаюсь. Вижу — помучаешься. Пришелец этот действительно мой старый знакомый, Ипполит Исаевич. — Расскажи о нем? И присядь, — попросил Добросклонцев. Миронова не села. Она продолжала медленно ходить по тесной комнате, вспоминая дело трехлетней давности. — Тогда была арестована шайка воров, занимавшаяся кражей икон и культовой утвари из церквей. В ходе следствия выяснилось, что самые древние иконы, представляющие особую ценность, сбывались «искусствоведу и коллекционеру», как он себя величал, Ипполиту Исаевичу Пришельцу. Через посредников, разумеется. Сами воры Пришельца не знали. Подступиться к нему было невозможно. Ворованные иконы и картины он тут же менял у других коллекционеров. Когда же устраивали им очную ставку, категорически отрицал обмен. У него был документ — купчая. Коллекцию из таких-то икон он за такую-то сумму купил у гражданина такого-то. Мы к этому гражданину, а он, оказывается, отбыл в Израиль. — Ловко… — «Ловко» — не то слово. Его четырехкомнатная кооперативная квартира — сущий музей. Вернее, склад антиквариата. — И что же представляет из себя твой знакомый? — Пришелец — жулик высокого класса. Персона. Внешне элегантен, светские манеры… Хитер, изворотлив, напорист. И вот что важно: самоуверен, чувство неуязвимости не случайно: у него много покровителей, занимающих видное положение и обладающих властью. — Может, рисуется, пену пускает? Я знал такого: пришли с обыском, а у него на стене в рамочке фотография: наш министр стоит с генеральным прокурором. На фотографии надпись: «Дорогому племяннику с пожеланием удач». И подпись генерального прокурора. Оказалось, заурядная фальшивка. Самоделка. — Пришелец, конечно, артист, но артист высокого класса. До такой дешевки он не опустится. А поддержка у него есть, и внушительная. Круг знакомств и связей необыкновенный — от известных ученых до юристов, министров и дипломатов. — Образован? — Окончил Московский институт инженеров транспорта. — МИИТ. Знакомо, — с горькой улыбкой произнес Добросклонцев. — Так кто ж он — инженер или искусствовед? Где работает? — Тогда он нигде не работал. Искусствовед липовый. И такой же инженер. Но зато юрист первоклассный. Из него мог выйти золотой адвокат, гений и маг. Не имея юридического образования, он знает кодексы и законодательство так, будто сам их разрабатывал и сам утверждал. — Не работал, значит, тунеядец. — В этом отношении у него все предусмотрено, не придерешься: член творческого коллектива. Есть у них какой-то групком литераторов. — Он что — пишет? Сочиняет? — Печатных трудов у него нет, но там это, говорят, необязательно. — Странно как-то получается, — засомневался Добросклонцев. Он в раздумье побарабанил пальцами по столу. — А что, если я сегодня заявлюсь к нему нежданным гостем? Без предупреждения. Побеседовать со свидетелем? Он где живет — не помнишь? — Точный адрес я тебе найду, где-то у меня был, а вообще-то он живет на моей улице в доме напротив. Хороший кооперативный дом, четырехкомнатная квартира. Но ты можешь его не застать. — Соседи, значит. Может, вместе нагрянем? Он и не думал идти к Пришельцу вдвоем с Тоней, понимал, что ей там нежелательно появляться, но вот же почему-то сказал «вместе», как-то само, произвольно, сказалось. Тоня привычно поправила пышную воздушную прическу: — Нет, мне туда нельзя. Мое появление все дело испортит. — Да, конечно, — быстро согласился Добросклонцев. Он пойдет один. Но ведь это же рядом с ее домом. Он не был в ее квартире с тех пор, как погиб Миронов. Тоня не приглашала, и у него не было желания. Но сегодня… Сегодня он словно заново увидел ее — одинокую и, наверно, страдающую от своего одиночества. Но, словно угадав его мысли, Тоня спросила, как отдыхает Екатерина Вячеславовна. Жена Добросклонцева уехала в Кисловодск. — Пишет, что там весна. Ходят без пальто, — ответил Добросклонцев, не очень довольный тем, что ему напомнили о жене. — С домашними делами управляешься? Может, помощь нужна? Ты скажи, не стесняйся. — Голос Тони звучал ровно, без интонаций. Предложение было неожиданным. Он хотел понять: было ли это не случайно или просто — предложение товарища по работе. — Да нет, спасибо. Мы с Евгением вполне управляемся. Он пылесосит квартиру, ходит в магазин. И даже обед может приготовить. Парень самостоятельный. — Как учится? — Четверки. Кроме математики. С этим беда. Весь класс на двойках едет. Да что класс — вся школа. Сами учителя не могут разобраться в учебнике математики для средней школы. Представляешь? Так все запутано, усложнено, сам черт голову сломает. — Наука двинулась вперед, сделала скачок… — Да при чем тут наука с ее скачками? Создается впечатление, что кто-то заинтересован, чтобы наши ребята отставали в математике: так считает доктор математических наук, с которым мне пришлось разговаривать. Так думают в институте математики Академии наук известные ученые. Добросклонцев как-то вдруг преобразился, напрягся и побледнел, будто задели его самую чувствительную струну. Тоне было знакомо его бурное негодование: когда дело касалось злоупотреблений, всевозможных нарушений и безобразий, Добросклонцев всегда реагировал резко, горячо, с душевной болью. Она не могла понять, почему он, имеющий по долгу службы своей повседневно, ежечасно дело со злом, не может к этому привыкнуть. Его постоянная непримиримость, излишняя горячность казались ей слишком дорогим, неоправданным расточительством жизненных сил. Он, конечно, изо всех сил старался сдерживать себя, внешне не показывать, что творится в душе, но это ему стоило немалых усилий. Чтобы как-то успокоиться, Добросклонцев взял телефонную трубку и набрал номер своей квартиры: — Женя, ты уже дома? Давно пришел? Занимаетесь? Ты не один? Оля и Таня… Никак не получается. Мм-да… И у Тани не получается?.. Но она же отличница… Сынок, я сегодня поздно приду, так что ты сходи в магазин, молока, кефиру купи. И хлеба, конечно. Ну не знаю, как освобожусь. Лады, сынок, занимайтесь. Тоня слушала телефонный разговор отца с сыном, бесстрастно разглядывая в окне серую громаду Зоологического музея. Казалось, здание затаилось, и прислушивается к звонкой капели на улице, и думает о чем-то своем, вековом и каменно-величественном. В ГУВД Мособлисполкома Тоня пришла сразу после института. С работой освоилась быстро и легко. Здесь ей все нравилось — и сама работа и, пожалуй, главное — здоровая, доброжелательная атмосфера в коллективе, который виделся ей как дружная семья, спаянная общими заботами и делами. На первых порах службы ей очень помог Юрий Добросклонцев. Она его хотя и в шутку, но ласково называла своим крестным отцом, и Юрию Ивановичу, который был старше Тони на целых десять лет, это льстило, — ему нравилось покровительствовать. — Послушай, дитя, сколько же лет прошло? — неожиданно спросил Добросклонцев. — С каких пор? — не поняла она. — Как я увидел тебя впервые? — Много. А что? — Ты не меняешься, а если и меняешься, то в лучшую сторону. — В жизни все меняется, только мы часто этого не замечаем в служебной суете, — вздохнула Тоня. Она легко поднялась, машинально поправила волосы. И, уже открывая дверь в коридор, обернулась: — Телефон и адрес Пришельца я тебе найду. — После встречи с ним я зайду к тебе домой, если можно? Чайком угостишь. Не возражаешь? — с напускным нахальством, будто в шутку, спросил Добросклонцев. — Заходи. — Тоня смутилась, отвернувшись, чтобы он не заметил этого ее какого-то детского смущения, быстро вышла из кабинета. 3 То, что операция «Кулон» сорвалась, Ипполита Исаевича Пришельца не очень раздосадовало. Он рассчитывал заполучить «семейную реликвию» Норкиных стоимостью в пятьдесят тысяч. О кулоне ему стало известно от Изабеллы — единственной дочери Ильи Марковича и, естественно, наследницы бриллианта, — студентки второго курса по случайному совпадению того самого МИИТа, дипломом которого обладал Ипполит Исаевич. Конечно же, было обидно, что тщательно разработанная операция оказалась безрезультатной, эти бестии Норкины, осторожные и предусмотрительные, перехитрили его. Пришелец принадлежал к тем целеустремленным натурам, охотничий пыл которых неудачи не охлаждают, а еще пуще разжигают. Он сказал себе: кулон будет мой, непременно, во что бы то ни стало. Он не верил Норкину, что кулон у него якобы отняли налетчики, потому что налетчиками были его люди, а они бы не посмели говорить своему шефу неправду, потому что в их мире подобная ложь карается жестоко и беспощадно. Пришелец уже готовил новую операцию «Кулон», сделав Изабеллу на этот раз своей прямой соучастницей. Изабелла не вышла ни лицом, ни статью. А пресыщенный, набалованный успехом у женщин Пришелец уделил внимание «очаровательной Норочке», как он иронически называл Изабеллу, позволяя ей время от времени навещать его холостяцкую обитель. Там Изабелла и проболталась, что кулон цел и хранится у них дома. Пришелец принял этот факт к сведению и решил не уличать Илью Марковича в обмане. Телефонный звонок Ильи Марковича и сообщение, что его вызывали к следователю и что один из грабителей якобы задержан, встревожили Пришельца. Ипполит Исаевич пригласил Норкина сейчас же приехать к нему и подробно рассказать о беседе на улице Белинского. Илья Маркович охотно согласился: он рассчитывал, что опытный в юридических вопросах Ипполит сумеет ему кое-что прояснить. Норкина Ипполит принимал в столовой — большой комнате, посреди которой этаким массивным дредноутом громоздился резной обеденный стол из мореного дуба, окруженный дюжиной таких же резных стульев с высокими спинками. По свидетельству самого хозяина, этому столовому гарнитуру перевалило за двести лет и принадлежал он какому-то знатному боярину. Правда, стулья были реставрированы уже Пришельцем: жесткие дубовые сиденья заменены мягкими, дубовые спинки удалены, и вместо них вставлены иконы: Николая Мерликийского, Серафима Саровского, Георгия Победоносца, Марии с младенцем и еще каких-то святых, чтимых в православии. На стенах висело пять икон, из которых три выделялись броскими золочеными окладами, украшенными драгоценными камнями. Две другие иконы — черные доски без окладов. У стены прочной скалой горбился черный буфет, украшенный искусной резьбой. Его утроба была заполнена старинным фарфором и серебром. В последнее время Пришелец воспылал страстью к серебру. Скупал серебряные изделия, особенно посуду, не очень заботясь о ее художественных достоинствах. Ему нужен был вес, так сказать, масса. Началось у него это со случайной встречи. В доме своего старинного друга, директора меховой фабрики, он познакомился с геологом, Героем Социалистического Труда Ященко Антоном Фомичом. Ященко в разговоре обмолвился, что недра матушки-земли почти освободились от серебряного бремени, запасы серебра исчерпаны и что оно скоро в цене превзойдет золото. У противоположной от окна стены лицом к свету стояла изящная — тоже из мореного дуба — горка, сверкающая толстым зеркальным стеклом и своим ценным содержимым — хрусталем. Чего там только не было, глаза разбегались от искристых играющих граней: рюмки, фужеры, вазы, конфетницы, одна лучше другой. И среди этого хрустального блеска — малиново-звонкая баккара. Нет, что ни говорите, а у Ипполита есть вкус к изящному. Да и сам он всегда одевался по последней моде. И в день встречи с Норкиным на нем была замшевая куртка, черная водолазка, темно-зеленые вельветовые брюки и цвета запекшейся крови ботинки на толстой подошве. Видно было, что он собирался куда-то уходить, но звонок Ильи Марковича заставил его задержаться. Высокий, гибкий в талии, в свои сорок три года Ипполит Пришелец производил впечатление человека, познавшего жизнь во всех ее проявлениях, испытавшего все ее прелести и муки и пришедшего к заключению, что «все суета сует». На его лице лежала, как любят говорить сентиментальные литераторы, печать усталости и равнодушия. Озабоченный, рассеянно осмотрев столовую, Илья Маркович остановил свой взгляд на спинках стульев. Пришелец не удивился: так было со всеми, кто впервые входил в его столовую — иконы в стульях неизменно привлекали внимание. И Норкин тоже не стал исключением. Он беззвучно ахнул, приоткрыл рот, но, точно опомнившись, смолчал, спрятав в кулачок свою аккуратно подстриженную бородку. Потом, блеснув на хозяина дымчатыми стеклами очков, сквозь которые суетливо смотрели хорьковые глазки, обронил: — Оригинально. — И снова быстрый взгляд на спинки стульев. — Но это же денег стоит. И, надо думать, немалых. — Норкин не принадлежал к модному племени икономанов, именующих себя коллекционерами древней живописи, в иконах не разбирался, лишь понаслышке знал, что это капитал. — Это ничего не стоит. Разве что на растопку камина, — небрежно ответил Пришелец и, подняв тяжелые веки на иконы, висевшие на стене, прибавил: — Вот те кое-что стоят: две — начала восемнадцатого века, а возможно, конец семнадцатого. В окладах — более поздние. Вы садитесь, пожалуйста, — элегантный жест в сторону Николая-угодника. Норкин почему-то предпочел Георгия Победоносца. Перед ним на столе появились бутылки виски, лимонада и коньяка, затем нарезанный лимон с сахарной пудрой и набор шоколадных конфет. — Коньяк, виски? — спросил хозяин дома. — Мне ведь еще на работу, — нетвердо засопротивлялся Норкин… и отдал предпочтение коньяку. Себе Ипполит небрежно плеснул в бокал виски и разбавил лимонадом. — За все хорошее, — сказал он и приподнял свой фужер на уровень глаз, точно хотел рассмотреть собеседника сквозь стекло. Норкин выпил до дна и, морщась, пожевал лимон. — Вас можно поздравить, — приступил Пришелец к делу. Он не любил попусту тратить время, тем более сейчас, когда нужно было действовать не мешкая. — Если я вас правильно понял, с кулоном все в порядке. — Да что вы, откуда? — насторожился Норкин. — А разве преступники не задержаны? — Я не знаю, мне об этом ничего не известно. Видите ли, подполковник почему-то уклонился от ответа на мой вопрос. Часы нашлись у одного из грабителей, того, что был в штатском, вроде бы Коньков его фамилия… — Ну, значит, этот Коньков арестован, так надо полагать? Норкин развел руками. Пришелец тем временем налил ему еще коньяку и попросил поточнее со всеми подробностями передать беседу с подполковником. — Они могут вас надуть с кулоном, — пояснил он. — Кто именно? — не понял Норкин. — Очаровавший вас подполковник. — В голосе Пришельца слышалась легкая ирония. — Каким образом? Что вы имеете в виду? — настоярожился Илья Маркович. — Присвоят кулон, а вам скажут, что не нашли. — Ипполиту хотелось побыстрей выпроводить своего гостя. Кое-какую полезную информацию он уже получил и понимал, что из осторожного Норкина больше ничего путного не выудить.  — Но, как я полагаю, будет следствие, наконец суд. — И на следствии н на суде бандиты покажут, что никакого кулона и в помине не было, они понятия о нем не имеют. — А свидетели? — Похоже, что Норкин увлекся игрой и уже позабыл, что кулон-то действительно целехонек, лежит у него дома. — Какие? Кого вы имеете в виду? — Арсений Львович, наконец — вы? Игра Норкина начала забавлять Пришельца. — Дорогой мой, я не могу ручаться за Арсения Львовича, но, зная его как человека безупречной репутации, не думаю, чтобы он согласился дать заведомо ложные показания, поверив вам на слово. Кулона он не видел — это же факт? Что же касается меня как свидетеля, то не хочу обнадеживать вас: я честный человек и при всем к вам уважении и нашей дружбе не могу поступиться своей репутацией. Дача ложных показаний, заведомо ложных, связана с известным риском: легко запутаться. — Ну хорошо, допустим Арсений Львович не видел кулона, хотя и знал. Но вы-то видели? — Что значит видел? — равнодушно спросил Пришелец, желая поскорей закончить ставшую уже бессмысленной игру. — Я видел его у вас дома. Но я не знаю, взяли вы его с собой или, может… забыли дома по рассеянности. — Это как же так — взял ли? А зачем мы ехали в это Дядино? Я отказываюсь вас понимать, Ипполит Исаевич. — Норкин был раздражен, он слишком вошел в свою роль, увлекся версией, которую сам же сочинил и готов был поверить в нее, и эта столь откровенная фальшь выводила Пришельца из равновесия. Сам отменный лицемер и циник, он из ревности, что ли, терпеть не мог себе подобных. Он считал фарисейство своей привилегией и не желал ее ни с кем делить. — Я вполне верю вам, Илья Маркович, верю, что кулон у вас отняли грабители, и не думаю, что потребуются какие-то свидетели. — Но вы же сами сказали, что кулон могут не вернуть, — нахально перебил Норкин. «Наглец ты из наглецов, я-то знаю, что кулон у тебя и никто у тебя его не отнимал!» — хотелось взорваться Пришельцу, но он сделал над собой усилие, перевел разговор в более спокойное русло: — Да будет вам, Илья Маркович. Если возникнет такая ситуация, я скажу, что видел, как вы взяли кулон и положили… Куда положили? Давайте условимся, чтоб нам не завраться. — Губы Пришельца скривились иронически, в глазах забегали смешинки. — В карман положил, вот сюда — во внутренний карман пиджака, — поспешно ответил Норкин. — В правый, в левый? — точно издеваясь, уточнил Пришелец. — Какое это имеет значение? — с раздражением отозвался Илья Маркович. — Но все-таки: следователи любят точность, обычно на таких мелочах ловят. — Хотел сказать «нашего брата», да вовремя удержался. — Ну хорошо — в правый карман положил, — смирился Норкин, решив, что с Пришельцем нужно сохранить хорошие отношения. Предусмотрительность его всегда брала верх над эмоциями. Он даже сконфузился, вдруг сообразив, что кулон-то действительно никто не отнимал, и Пришелец действительно не знал, взял он его с собой или нет. Может, забыл; может, потерял. Да мало ли что? — Отругал меня подполковник, — уже миролюбиво заговорил Норкин. — Надо было сразу заявить. А теперь подозрение: почему не заявили? А не кроется ли за этим что-то такое… Понимаете — у них все на подозрении… — Боялись мести, потому и не заявляли, — поспешил вмешаться Пришелец, хотя сам так не думал. Для себя он еще не решил, где подлинная причина, что ни Норкин, ни Бертулин не заявили в милицию об ограблении. И уже, противореча самому себе, прибавил: — А вообще-то вы сваляли дурака, что не заявили сразу в тот же день. Боялись… Все это ерунда, чушь. Кого бояться? Надо было, конечно, заявить. Зазвонил телефон, но не красный аппарат, стоящий в столовой, где они сидели, а другой, — в кабинете. В квартире Пришельца было два телефона. Один, официальный, и номер его можно было отыскать в телефонной книге. Другой ни в каких справочниках не значился, и номер его знал лишь узкий круг близких к Ипполиту людей. Ипполит извинился перед Норкиным и прошел в кабинет. Звонила Изабелла, она весело щебетала, что соскучилась, что ждет не дождется, когда они встретятся. — Да, да… — рассеянно отвечал Ипполит, чуть не назвал ее Норочкой, но вовремя спохватился: вдруг услышит Илья Маркович. И сказал после паузы: — Крошка! Хорошо, что позвонила. Нам надо бы увидеться… Сегодня? Золотко мое, сегодня никак невозможно. Совершенно. Ни малейшей возможности. Случилось что-нибудь? Просто соскучилась. Ну, потерпи, прелесть моя. Разлука обостряет чувства. Позвони завтра. Целую и жду. — И он торопливо положил трубку. Встречаться с Изабеллой ему совсем не хотелось — она ему изрядно надоела, и вообще, как он говорил, это «типичное не то». Но и рвать отношения теперь, когда он сделал на нее главную ставку в большой игре, связанной с охотой за кулоном, было бы просто глупо. Вернувшись в столовую, Ипполит озабоченно посмотрел на часы. Норкин правильно понял этот жест и поднялся. Но уходить не спешил и как бы между прочим сообщил: — Фельдманы получили разрешение на выезд. На Ипполита эта весть не произвела никакого впечатления. Он лишь нехотя пробурчал: — Значит, у них там есть солидная база. — Что вы имеете в виду? — Поверх очков посмотрел на него Норкин. — Металл, камешки и эти, — Ипполит сделал выразительное движение пальцами, словно подсчитывал купюры. — Вы думаете? — Норкин любил все подвергать сомнению, чтобы нащупать истину. Осторожный и практичный, он придерживался принципа «семь раз отмерь». — Это всем известно, — внушительно сказал Ипполит. — Без базы едут идеалисты и дураки. И те и другие потом слезно раскаиваются. Вы разве не видели по телевизору или не читали в газетах? — Да, но… — Норкин неопределенно пожал плечами. На этом «да, но» они и расстались. Проводив гостя, Пришелец закрыл входную дверь на крепкие запоры и прошел в гостиную, где был электрический камин и стены которой вместо обоев покрывал шелк золотисто-черного оттенка. Ипполит остановился посреди гостиной, скрестив по-наполеоновски руки на груди и в решительном раздумье глядя на большой, во весь пол текинский ковер. Следствие ведет незнакомый Пришельцу подполковник Добросклонцев. Нужно выяснить, кто он и что из себя представляет. Это сделает Зубров. Но все это потом. А сейчас ему нужен Анатоль, нужен срочно и немедленно. Он, то есть Анатолий Павлов, студент МИИТа, должен был позвонить. Но, кроме Изабеллы, сегодня никто не звонил. Да будь при нем сейчас Анатоль, все завертелось бы в порядке логической и разумной очередности, а именно: позвонить Конькову и, если его еще не арестовали, предложить ему немедленно ложиться в психлечебницу, где он уже дважды «отдыхал». Коньков состоял на учете в психдиспансере, там у него был знакомый врач, который — «услуга за услугу» — всегда готов был оказать помощь страдающему шизофренией. Звонить Конькову должен Павлов из уличного автомата, конечно. Но прежде, чем лечь в больницу, Коньков должен связаться с двумя другими налетчиками, теми, что были в милицейской форме, и передать им приказ немедленно покинуть Москву на несколько месяцев. Благо весна, и можно до конца курортного сезона обосноваться где-нибудь на юге. Ни Коньков, ни те двое никогда в глаза не видели своего «хозяина», не знают ни имени его, ни адреса. Связь с ними поддерживается через Анатолия Павлова. Лишь Коньков знает его в лицо, но не знает ни фамилии, ни подлинного имени. Для Конькова Павлов — просто Саша, сотрудник одного министерства. Какого? Это не важно. Но почему же Павлов не звонит? Пришелец сел в глубокое кресло возле журнального столика с телефоном и позвонил в Дядино Арсению Львовичу. Услыхав частые гудки, Ипполит досадливо поморщился, мысленно помянув Бертулина недобрым словом, и, немного повременив, снова набрал номер дядинского ювелира. Все еще занят, чтоб тебе околеть! С кем он может так долго разговаривать? Да мало ли с кем — клиентуры-то у него, дай бог. И вдруг зазвонил «официальный» телефон. Один звонок, второй, третий, Ипполит не двигается с места и не спешит брать трубку. Он возьмет ее только после седьмого звонка, а может, и вообще не возьмет — еще не решил. Звонки настойчивы: четвертый, пятый, шестой, — Ипполит поднял руку, но телефон неожиданно умолк. Значит, кто-то чужой. Кто? Может, тот же подполковник Добросклонцев хочет пригласить его на беседу? Рановато давать свидетельские показания, нужно детально выяснить обстановку. Наконец он дозвонился до Бертулина. — Как жизнь, старина? — весело спросил Пришелец. — Живу, — ответил Бертулин, и по одному его голосу опытный Пришелец почувствовал что-то неладное. Решил не очень дипломатничать. — Этим не все сказано — американские индейцы и юаровские негры тоже живут… в резервациях. Так-то, любезный Арсений Львович. — Каждому свое, — неопределенно произнес Бертулин, и в голосе его звучали явное отчуждение и подозрительность. «Хитрит», — решил Пришелец и спросил напрямую: — У вас есть новости? — Он сделал сильное ударение на последнем слове, так что вопрос прозвучал утвердительно. — А какие новости вас интересуют? — сухо, без обычной своей любезности вопросом на вопрос ответил Бертулин. Он не был ни другом, ни близким приятелем Пришельца, связывали их чисто деловые отношения. Ипполит был одним из клиентов ювелирных дел мастера, правда, клиент солидный, с деловым размахом и финансовыми возможностями, с хищной хваткой акулы. Вот это-то, последнее, и настораживало не расположенного к авантюрам Бертулина. Сегодня у Бертулина состоялся довольно неприятный разговор с начальником дядинской милиции Беляевым. Казалось, ничего необычного не было в этой встрече, и все же она оставила нехороший осадок в душе Арсения Львовича. Прежде всего подполковник с явным упреком и подозрением спросил: «Странное дело, в вашей квартире совершен наглый грабеж, а пострадавший никому об этом не заявил, словно ничего такого не произошло, обычная семейная свара: поругались, подрались и полюбовно разошлись. Как прикажете все это понимать?» — «Я вполне разделяю ваше недоумение, — ответил Бертулин, взвешивая каждое слово. — Но на самом деле все гораздо проще. Дело в том, что эти бандюги строго-настрого приказали молчать, а кому хочется умирать от бандитского ножа? Думаю, что желающих не найдется. И я решил молчать. Тем более, что убыток они мне нанесли небольшой, так, кой-какие мелочишки, что оказались на виду. И вообще надо сказать, они торопились». — «А может, у них и не было такой цели — грабить вас? — вдруг спросил Беляев. — Может, они ждали Норкиных с их богатой добычей?» — «Ждали? В моей квартире?» Пораженный столь неожиданным поворотом дела, Арсений Львович первые минуты не знал, что и сказать. Смысл вопроса подполковника до него дошел сразу: в его квартире кто-то преднамеренно устроил западню, чтобы отнять бриллиантовый кулон. «Тогда кто это подстроил? Пришелец?» — «Кто, кроме вас, знал о том, что вы ждете гостей, я имею в виду Пришельца и Норкиных? И кто такой Пришелец, давно вы с ним знакомы?» Вопросы подполковника загнали Бертулина в тупик. Он начинал понимать, что и его подозревают в соучастии, хотя и на самом деле был чист и никак непричастен к ограблению. Но ведь не случайно был задан вопрос: кто такой Пришелец? Да, именно, что из себя представляет Ипполит Исаевич? Случайно ли появились грабители в его квартире за полчаса до прихода Норкиных с Пришельцем или это было заранее подстроено? Этот вопрос задавали себе и Беляев, и Добросклонцев, и Бертулин, потому что ответ на него и был ключом к раскрытию дерзкого преступления. Потому-то и был сдержан Бертулин в разговоре с позвонившим ему Пришельцем. — Что-нибудь слышно по поводу инцидента в вашей квартире? — Наконец сдался Ипполит, не желая терять времени. — И это вы называете инцидентом? Наглый бандитский налет по-вашему всего-навсего инцидент? Тон Бертулина не понравился Пришельцу, и он сразу перестроился: смягчился, переходя на беспечно-веселый тон. — Слово это, дорогой Арсений Львович, резиновое. На границе идет перестрелка, льется кровь, а по официальным сообщениям всего-навсего инцидент. Ну да дело не в терминологии — в сути. Кажется, налетчики арестованы? — Да? — недоверчиво переспросил Бертулин. О задержании преступников подполковник Беляев ему ничего не говорил, но из беседы с начальником милиции можно было догадаться, что преступники еще на свободе, хотя следы их обнаружены. Пришелец в эти минуты отчаянно бился над вопросом: вызывали Бертулина к следователю или нет? Знает ли он, что один из налетчиков попался, или ему еще ничего неизвестно? Решил: знает. А коль так, то нужно без лишних слов сообщить ему, как новость: — Сегодня вызывали к следователю беднягу Илью Марковича и сообщили ему, что, по крайней мере, один из налетчиков задержан. Как видите, уголовный розыск работает на совесть. И самое удивительное, что Норкин не обращался в милицию. Сверхусердно работают товарищи. Надо полагать, что и остальные вещи будут найдены и возвращены владельцам. За исключением, пожалуй, злополучного кулона. — А почему вы исключаете кулон? — Преступники, надо полагать, не такие простофили, чтоб возвращать вещь, которой нет цены. Они могут просто отрицать: не было кулона, не брали. Что взяли, то взяли, а кулона в глаза не видели За это им не прибавят и не убавят. Норкину следователь сделал упрек — почему, мол, не заявил в милицию? Ну ясно почему — боялся мести, преступники пригрозили, приказали молчать. Бертулин вспомнил: такой вопрос задавал ему и Беляев. Бертулин решил не говорить Пришельцу о своей беседе с подполковником. И поспешил закончить этот телефонный разговор. — Да, да, боялся, дело ясное, — торопливо произнес ювелир, неожиданно для абонента закончил: — Вы извините: у меня клиент. Всего вам хорошего. — И, не дождавшись последних слов Пришельца, положил трубку. «Вот так гусь, — мысленно обругал Ипполит Бертулина, теперь уже твердо веря, что того вызывали к следователю. — Чистюля. В штаны наложил. А у самого рыло в пуху, потому и молчал, хорек, не заявлял. Впрочем, и заявлять не стоило: ничего у него ценного не взяли: ребята были проинструктированы». Пришелец уже пожалел, что дал указание Анатолию предупредить налетчиков не наносить убытка хозяину квартиры. Так, пошуровать в мелочишках для вида. А дай он команду — и его «мальчики» потрудились бы всерьез и до тайника, в котором хранились настоящие ценности, добрались бы. Пришелец прошелся по ковру: спокойствие и хладнокровие прежде всего. Таков был его девиз. Да он и не видел серьезных причин для тревоги: ничего необычного не произошло. По крайней мере, лично ему опасность не грозила. Коньков, по словам Павлова, тертый калач, его голыми руками не возьмешь. А засыпался на мелочи, что ж, как правило, все попадаются на мелочах. Утешение не велико, но и Коньков ведь еще не засыпался. Ипполит бродил из угла в угол, обдумывая, как должен вести себя на допросе Коньков. Отпираться бессмысленно: есть свидетели, Норкин, Бертулин и он сам, которые подтвердят, что Коньков один из тех, кто совершил налет на квартиру ювелира. Нужно придумать для Конькова убедительную версию, если он сам ее еще не придумал. Итак, версия… Пришелец остановился у мраморной феи, которую, как он считал, изваял сам Роден, провел ладонью по обнаженному плечу, с которого стыдливо упала бретелька воздушно-прозрачной сорочки, задумался. Версия. Коньков случайно проходил возле дома ювелира. К нему подошли два офицера милиции и попросили быть понятым. На ходу объяснили суть дела: нужно взять у жуликов не принадлежащие им драгоценности. Коньков согласился. Он просто присутствовал, как свидетель, как понятой. Все делали работники милиции. Он же был уверен, что участвует в законной операции. На прощание ему за услугу подарили часы. Если сделать скидку на шизофрению Конькова, то все получается довольно правдоподобно. Версия Ипполиту понравилась. Но ее нужно сообщить Конькову. Это должен сделать Павлов. А он не звонит. Пришелец опять начинал терять терпение. «Недоносок, подонок, ублюдок». Это о Павлове. Пришельцу нравится унижать людей. Ему по душе безропотные лакеи. Анатоль Павлов — один из них. Родители его живут в Крыму: мать и младшая сестренка. Отец от них ушел, у него где-то в Сибири другая семья. Анатолий парень одаренный. У него математический склад ума, способности к изобретательству. Кроме того, рисует, делает гравюры, занимается чеканкой. «Самородок», — говорит о нем Ипполит в кругу своих близких. Он ценит его, как серебряную ладью или хрустальную вазу, ценит не как личность, а как полезную вещь. Мелкими подачками Ипполит создал себе ореол отца-благодетеля, без которого будущий транспортник обречен на жалкое прозябание. Павлов предан шефу-покровителю и готов оказать ему любую услугу. Ему кажется, что Ипполит всемогущ и неуязвим, с академиками и министрами на «ты». Размышления Ипполита прервал звонок, но не телефонный, которого он ждал, а дверной, нежданный. Ипполит затаился, пытаясь решить: кто это может быть. К нему не заходят без предварительной договоренности по телефону. Звонок повторился. Ипполит снял ботинки, в носках на цыпочках осторожно подошел к двери и заглянул в глазок. Первое, что он увидел, был офицерский погон с двумя просветами и двумя звездочками. Потом, через несколько секунд, обратив внимание на фуражку, Ипполит понял, что за дверью стоит подполковник милиции. Ипполит затаил дыхание. В голове стучал вопрос: один или с группой? Молнией сверкнула неприятная мысль: Коньков и его соучастники арестованы, и Павлов тоже, потому и не звонит. Павлов «раскололся»! Теперь пришли за ним! Вариант на этот случай у него заготовлен: он будет все отрицать, прямых улик нет, он будет валить на Павлова: он знал, что иду к ювелиру, он и организовал засаду. Ипполит представил себе картину обыска, потом наручники, допросы. До суда дело не дойдет, успокаивал себя, но все решилось неожиданно просто: подполковник позвонил еще раз, потом круто повернулся и ушел. Он был один. «Возможно, Добросклонцев», — с облегчением подумал Пришелец, вспомнив фамилию следователя. Он задержался у двери еще на несколько секунд для большей уверенности, что подполковник был один, и тут требовательно зазвонил телефон. Ипполит прошел в свой кабинет, взял телефонную трубку. Звонил Павлов. Ипполиту стоило немалых усилий, чтобы удержаться от оскорблений. — Немедленно приезжай! — закричал он и, не желая выслушивать какие-либо возражения, бросил трубку. ГЛАВА ВТОРАЯ 1 У Добросклонцева мало было шансов застать Пришельца дома. Уходя из управления после работы, он уже хотел отменить свое прежнее решение, но вспомнил, что пообещал зайти к Тоне. Он решил идти пешком до Бронной, благо, тут рукой подать. Запахи ранней весны витали над предвечерней Москвой. На углу Белинского и Герцена он остановился, с наслаждением вдыхая какой-то неожиданно новый, бодрящий воздух. Сегодня для него все казалось новым — и Тоня, и предвечерний воздух, и Кремль, освещенный закатом и как бы помолодевший, и, главное, сам он казался себе преображенным. С минуту постояв, он повернул направо и не спеша пошел вверх по улице Герцена. Слегка покрытый тонкой пленкой льда асфальт сверкал отражением сиреневого заката, звонко струящегося в стороне Никитских ворот. Там, вдали, на фоне заката, четко рисовался зеленый купол и вонзенный в него крест: то была церковь, знаменитая тем, что в ней венчался Пушкин с Натальей Гончаровой. Возле консерватории у бронзового Чайковского толпились любители музыки, желающие попасть на авторский концерт композитора и дирижера Вячеслава Овчинникова. У прохожих спрашивали, нет ли свободного билетика, и Юрий Иванович почему-то подумал: пойти бы сейчас не к Пришельцу, а в Большой зал консерватории вместе с Тоней. Ему вдруг вспомнился ее муж, его друг — майор Миронов, который пошел один на трех вооруженных бандитов и погиб. Вспоминались похороны, речь начальника ГУВД… «Он вечно будет жить в наших сердцах…» Видимо, это не просто слова, это закон жизни. «Мы не посрамим своей чести перед его памятью…» Тоня… Добросклонцев почувствовал вдруг, что не может, даже не хочет в этот вечер видеть ее, будто эта их встреча перечеркнет и нежность его по отношению к ней, и… весну. Юрий Иванович не страдал телефономанией — болезнью трудноизлечимой, распространенной среди бездельников, домохозяек и мелких канцелярских чиновников. Но в сером телефонном аппарате автомата он вдруг увидел нечто спасительное, что может избавить его от неприятных мыслей и волнений. Он пошарил в кармане, нашел гривенник, набрал номер своей квартиры. — Как дела, Женя? — спросил сына. И ответ был машинальный, впрочем, как и вопрос: — Нормально. Ты скоро придешь? — И тут же, словно вспомнив, сын порывисто сообщил: — Да, звонила мама. У нее все нормально. Там уже весна. Ходят без пальто. — Хорошо. Я скоро приду. Ты уроки сделал? — Да. — Чем занимаешься? Телевизор смотришь? — Нет, читаю. Добросклонцев знал: сын, как и многие мальчики, увлекается детективами и приключенческой литературой и, как немногие мальчишки, равнодушен, если не сказать, безразличен к телевидению. Он думал о жене, которая сегодня впервые позвонила из санатория. И надо же — именно тогда, когда он собирался к Тоне. Казалось бы, ничего особенного, но Юрий Иванович расценил это по-своему: женское чутье, биотоки. Она, Катя, сердцем почуяла опасность и напомнила о себе. А ведь никакой опасности нет, ничто не угрожает благополучию их семейного очага. С Катей они прожили пятнадцать лет ровно, гладко, можно сказать, душа в душу, без серьезных ссор и обид. Когда поженились, Кате шел двадцатый год, ему двадцать девятый. Они были счастливы. Катя не была красавицей, внешностью своей ничем не выделялась: круглолицая, со здоровым румянцем на щеках, что называется, «кровь с молоком», невысокого роста, склонная к полноте, спокойная, рассудительная, она отличалась душевностью, добротой и преданностью семье. Работала экономистом на небольшом предприятии, работой своей была довольна, в коллективе пользовалась уважением. К работе мужа первое время относилась с непониманием и огорчением. Ей не нравилось, что Юрию часто приходилось задерживаться допоздна на службе, работать в выходные дни. Она видела, что муж устает, недосыпает, в то же время понимала, что он увлечен своей службой, что в ней он нашел свое призвание, может, смысл жизни. И она смирилась. И не просто смирилась, а старалась как-то помочь ему, создать здоровый семейный климат, освободить его от мелких домашних забот. В этом отношении хорошим помощником оказался Женя. Он охотно, без принуждения и уговоров, помогал матери по дому. Добросклонцев был уверен, что Катя назначена ему самой судьбой. Он находил много общего с ней и в характере и во взглядах на жизнь. Нет, Катя, конечно, хорошая женщина, прекрасная жена, мысленно убеждал он себя, пытаясь забыть о Тоне. Тоня… И опять вернулось то, о чем он запретил себе думать. Вспомнились первые дни ее работы в управлении, когда еще жив был Миронов. Ее называли тогда «куколкой»: мягкие пшеничные, слегка вьющиеся волосы, пухленькие губы, застенчивая улыбка, сопровождаемая непременным румянцем на бледных щеках. Помнится, генерал Константинов сказал тогда, что Миронова больше подходит для работы в детской комнате, какой, мол, из нее следователь. Но он ошибся: из Тони вышел отличный следователь. Ее мягкий, негромкий голос, искренность и доброжелательность располагали подследственных к откровенности. Даже закоренелые рецидивисты, к которым, казалось, ни с какой стороны не подступиться, вдруг раскрывались перед этой хрупкой, похожей на школьницу молодой женщиной. Сослуживцы говорили: под Тониным взглядом словно воск тает любая броня, которой закрылся преступник. Так неожиданно в размышлениях он переключился на службу, к тому, чем ему предстоит заняться вплотную с завтрашнего дня и на что уйдет не день и не неделя, а возможно, и не один месяц. На лифте он поднялся на седьмой этаж, тихо, стараясь не шуметь, открыл ключами дверь своей квартиры. Из комнаты сына приглушенно лилась музыка — многоголосая и полнозвучная, сверкающая радугой ритмов и мелодий — «Испанская хота» Глинки. Женя лежал на диване, укрывшись одеялом. Глаза его были закрыты. Слабый свет настольной лампы матово освещал мягкие русые волосы и бледное лицо. Он спал. Магнитофонная лента заканчивалась. Юрий Иванович сначала постепенно приглушил звук, а затем, чтоб не щелкать выключателем и не разбудить сына, выдернул вилку электрошнура из розетки. Не открывая глаз и не шевелясь, Женя сонно спросил: — Это ты, папа? — Спи, сынок, — ласково отозвался Юрий Иванович и выключил настольную лампу. 2 Анатолий Павлов явился к Пришельцу спустя час после их разговора по телефону. Вид у него был такой, словно он весь этот час бежал. — Почему так долго? — недовольно спросил Пришелец в ответ на павловское «здравствуйте, Ипполит Исаевич». Руки Анатолию он не подал, такой чести Пришелец удостаивал своего подручного очень редко. Павлов положил на вешалку рыжую ондатровую шапку и хотел было снять куртку, но Пришелец остановил его жестом: — Погоди раздеваться, — и кивком головы приказал следовать за собой в кабинет. — Где тебя черти носят? Почему долго не звонил? — Да я, Ипполит Исаевич… — пытался оправдываться Павлов. — Не надо, — грубо перебил Пришелец, прикрыв глаза. — Ты мне кого подсунул?.. Кто такой Коньков? Не знаешь? Так знай — это шваль, мелкая шпана, такой же недоносок, как и ты. И он тебя посадит… на долгие-долгие годы, на вечные времена. Понял? И никто тебе не поможет. — Но ведь вы сами… — Что я сам?! — в ярости процедил Пришелец. — Я в глаза его не видел, а ты за него поручался… Предупреждал, учил тебя не связываться с подонками и всякой мелкой шпаной. Имей дело с порядочными надежными людьми. Он вдруг умолк и заходил по кабинету. Павлов стоял молча, опасливо посматривая на своего повелителя. Он понимал, что случилось серьезное. — Коньков засветился, можно сказать, влип. У него нашли часы Норкина, и Норкин его опознал. Ты понял, что все это значит? — Пришелец сел, откинулся на спинку стула. — Он арестован? — несмело спросил Анатолий. — Это ты должен выяснить. Сейчас же, немедленно. Если еще не арестован, что мало вероятно, пусть немедля сдается в психичку. А его приятелям надо смываться. И чем дальше, тем лучше. — Они уже в теплых краях, Ипполит Исаевич. — Ты уверен? — Абсолютно. — Как в Конькове? — мрачно и зло уколол Пришелец и, сменив гнев на милость, перешел на деловой тон, дал инструкции для Конькова, как тому вести себя у следователя. Затем достал из ящика письменного стола двадцатипятирублевую купюру, небрежно бросил ее Павлову: — Поезжай на такси. Да смотри, чтоб тебе на хвост не сели. И вообще будь осторожен: Коньков, возможно, обложен — не попади в капкан. Об этом Анатолий Павлов никогда не забывал. Он стоял перед Пришельцем с двадцатипятирублевой купюрой в руках, намеренно не пряча ее в карман. На лице его было ожидание чего-то. — Что еще? — нетерпеливо спросил Ипполит. — Это на такси, — Павлов похрустел купюрой. — А психам? Задаром не положат. — В прошлый раз они достаточно получили. — Не положат. Рвачи, — твердил свое Павлов. Когда было нужно, он умел проявлять завидную настойчивость. — У меня что — банк? Что, я обязан субсидировать взяточников и всякий сброд?! — возмутился Пришелец. — Как знаете, — сокрушенно вздохнул Павлов и, небрежно сунув деньги в карман куртки, повернулся к выходу. — Постой. — Ипполит достал из ящика письменного стола пачку денег и подал Павлову две сотенных. Павлов взял деньги, иронически ухмыляясь. — Что? Мало?! — Это заведующему. А врачу? Пришелец бросил еще сторублевку: — А теперь прочь с моих глаз… И сразу позвони мне. Держи в курсе и не пропадай. На другой день утром Добросклонцев позвонил в Дядино. Разговор с Беляевым не обрадовал его: Коньков, который в последнее время устроился рабочим на кладбище, находится в больнице — острый приступ шизофрении. Обыск на его квартире произведен. Изъят нагрудный крест. На вопрос, как попал к ним этот предмет, жена Конькова ответила: «Понятия не имею и вижу-то его в первый раз». Пришлось обратиться к настоятелю местного собора протоиерею Сергееву Петру Николаевичу. Тот, ничуть не сомневаясь, сказал, что это крест архимандрита Иринея (в миру Гаврила Жеребцов). По словам протоиерея Сергеева, архимандрит Ириней сдавал этот крест ювелирных дел мастеру, проживающему в Дядине. С этим крестом подполковник Беляев ездил к Бертулину. Арсений Львович подтвердил, что крест этот действительно давал ему поп по фамилии Жеребцов для ремонта: нужно было вставить и закрепить выпавшие из гнезд камешки рубина, что он, Бертулин, и сделал как раз накануне того бандитского налета. Значит, Коньков, кроме часов, прихватил еще и крест архимандрита. Беляев спросил Бертулина, сообщил ли тот архимандриту Иринею о том, что его крест похищен? Да, ответил Арсений Львович, сообщил, рассказал ему все, что произошло в тот злополучный вечер. Архимандрит был очень огорчен, но никаких материальных претензий к ювелиру не предъявлял. Он даже выразил ему свое сочувствие. — А вы связывались с гражданином Жеребцовым? — спросил Добросклонцев Беляева. — Да, я сам беседовал с архимандритом Иринеем, — ответил Станислав Петрович. — Он подтвердил показания Бертулина. — Крест у тебя? Он нам сегодня потребуется. Попытаемся навестить Конькова. Думаю, нам разрешат. Ты как считаешь? — Должны бы в интересах дела. — Ты не знаком с главврачом? — Не было повода. Зато Конькова знаю. — Что ж, навестим больного. Думаю, что он не очень обрадуется нашему визиту. Положив телефонную трубку, Юрий Иванович задумался. В деле появились новые плюсы и минусы. Плюсом был крест как еще одна вещественная улика против Конькова. Факт его участия в налете на квартиру Бертулина был неоспорим. Но то, что Коньков психически ненормален и что он успел до ареста лечь в больницу, осложняло следствие. Перед тем как ехать в Дядино, Добросклонцев зашел к начальнику следственного управления. Полковник выслушал Добросклонцева молча, согласился с его решением встретиться с Коньковым. В вагоне электрички Добросклонцев расположился у окна и начал просматривать свежие газеты, которые купил в метро: «Правду», «Красную звезду», «Советскую Россию». Быстро пробежав международную информацию, он отложил газеты к стенке и уставился в окно, за которым в мелькании городского и пригородного пейзажа бойко и многоголосо клокотала весна. За его спиной какой-то неугомонный густой бас громко разговаривает со своими соседями. — Сейчас что происходит в жизни? Большие перемены происходят, скажу я вам, — вещает бас. — Общество другим стало, интересы сместились в сторону потребительства, вкусы не те. Прежде, ну, скажем, до войны и в первые послевоенные годы, люди искали духовной пищи, и это несмотря на то, что хлебушка насущного не ели вдосыть. Считалось за честь быть знакомым с каким-нибудь известным артистом, художником. Ведь бывало как: скажет кто-нибудь: «У меня композитор знакомый», и к нему тут же друзья: познакомь, мол. А теперь похвались, что у тебя поэт или там скульптор приятель, — никто и глазом не моргнет. А вот если ты скажешь, что твой друг продавцом работает, не важно где — в ЦУМе, ГУМе, или в «Рыба — мясо», как тут же тебя атакуют: «Познакомь, мол, сделай одолжение». — Я с вами не согласен, — возразил ему сосед. Добросклонцев не видел разговаривающих, поскольку сидел к ним спиной. Но, судя по голосу, возразивший был помоложе. — Тяга к духовной пище и сейчас есть. Возьмите книги, художественную литературу. Попробуйте свободно купить. Дефицит. — Ну и что с того? — ответил бас. — Это не показатель. А известно ли вам, что многие покупают книги и ставят их в застекленный шкаф непрочитанными, как оформление интерьера, вроде фарфора и хрусталя. А один деятель, я где-то читал, умудрился имитировать корешки книг из дерева. Представляете себе — деревянные Пушкин, Толстой, Бальзак. Ловко? Мол, глядите, дорогие гости, какой я образованный, сколько книг у меня — вся мировая классика. — Но ведь эта имитация тоже денег стоила, — заметил сосед. — Искусство резьбы по дереву. — Да ничего ему не стоило: в столярке своего завода приказал умельцам, и они ему сработали. А что касается духовной пищи, то она разная: есть доброкачественная и есть подпорченная, с душком. И самое интересное, что есть любители подпорченной пищи, чтоб непременно с запахом, с дурным душком. На Западе там как? Есть культура и антикультура. И у нас тоже появилась антикультура. А куда денешься? Мы не изолированы, и западные ветры несут к нам всякое. — Что вы имеете в виду под антикультурой? — Антипоэзию, антиживопись, антимузыку, антиартиста, который поет хриплым-сиплым антиголосом. Да вы знаете — песенки его крутят на магнитофонах, друг у друга переписывают. — Значит, нравится. — А как же. Я ж сказал — у нас уже образовалось общество или племя — назовите, как хотите — любителей пищи с душком, потребителей антикультуры. — Но я знаю людей образованных, с положением и даже министров, которым это нравится. — Ну и что? Если нравится министру, это вовсе не значит, что должно нравиться его заместителям. Министру может нравиться Пугачева, а мне Зыкина. Добросклонцев недавно прочитал эпопею «Преображение России». Манера разговаривать вслух в общественном транспорте его всегда раздражала. В этих громких и общительных собеседниках было что-то эгоистичное, бесцеремонное, даже нахальное. Они не считались с окружающими их людьми, не думали, что их болтовня беспокоит других, как визг магнитофона, выставленного на балконе. Сидящие напротив Добросклонцева двое молодых людей разгадывали кроссворд. Один вполголоса читал: — Люди, заботящиеся только о себе в ущерб интересам других. Первая буква — «э». — Элита, — неожиданно выпалил бас и повернулся к юношам. Добросклонцев увидел его лицо. Это был мужчина лет шестидесяти, голубоглазый и белобровый, с доброй и мягкой улыбкой, совсем не соответствующей его голосу и резкому решительному тону, каким он разговаривал. — Не подходит. Последняя буква «т», — отозвался юноша, не поднимая глаз. — Эгоист, — сказал его приятель. — Подошло, — объявил юноша. — Да, это точней, — согласился бас. — Элита — штука посерьезней. Элита — это воровская шайка власть имущих, связанная родством и круговой порукой. Добросклонцев, пряча легкую улыбку, отвернулся к окну. Весенняя приподнятость в его душе улетучилась нечаянно и незаметно под напором разговорчивого белобрового баса. Теперь задумчивый, озабоченный взгляд его скользил по хорошо знакомым местам вдоль железной дороги. В недавние времена, когда, не имея квартиры в Москве, он жил здесь в доме своего тестя, приходилось ежедневно ездить на работу в управление. Через две остановки будет платформа, от которой до дома тестя ровно девятнадцать минут ходьбы. Пожалуй, на обратном пути надо бы заехать навестить стариков. Но все будет зависеть от главного, что сейчас занимало Юрия Ивановича. Именно к этому, главному, и возвращались его думы. Коньков. Преступник с опытом и стажем. Но почему он вел себя так глупо, неосторожно, зачем оставил у себя часы с монограммой и крест? Что это — самонадеянность или беспечность? И какова его роль в налете на квартиру Бертулина? Поспешил лечь в больницу, как только засыпался с часами. Сам сообразил или кто-то рангом повыше посоветовал, а быть может, и приказал. Совершенно очевидно, что кулон предназначался не для Конькова — ему достаточно часов и креста с рубинами. Тогда кто дирижировал всей этой дерзкой операцией? Кто такие те двое в милицейской форме — соучастники ограбления? На эти вопросы может дать ответ Коньков. Может, но даст ли? Как он себя поведет, какой путь самозащиты выберет? Скорее всего все возьмет на себя: у него есть щит — его болезнь. Но так ли уж он болен на самом деле? Размышления отвлекли, и Добросклонцев проглядел асфальтированную дорожку, которая вела от платформы к бревенчатому дому его тестя Вячеслава Александровича Ермолова. Станислав Беляев ждал Добросклонцева у себя в кабинете. Он был настроен более оптимистично, чем Добросклонцев, ему казалось, что Коньков легко и быстро «расколется», то есть расскажет все, как было, и выдаст своих соучастников. Беляев — практик и на все смотрит с позиции опыта. Опыт он считает надежной основой при решении самых трудных вопросов и сложных, запутанных дел, когда все концы так ловко запрятаны, что решительно не за что уцепиться, чтоб размотать весь клубок. Заведующий отделением больницы, человек с подчеркнуто светскими манерами, о болезни Конькова распространяться не стал, заметил лишь, что тот страдает манией преследования и что встреча с сотрудниками милиции может отрицательно подействовать на больного. Добросклонцев в свою очередь сообщил, что их пациент подозревается в тяжком преступлении и что встреча и беседа с ним именно сейчас очень важна для следствия. Завотделением понимающе кивнул головой и разрешил встречу и беседу с Коньковым в присутствии лечащего врача. В отличие от своего начальника лечащий врач, седой хмурый человек, уже приближающийся к пенсионной черте, встретил Добросклонцева и Беляева настороженно и недружелюбно, — пожимая круглыми массивными плечами и глядя сквозь стекла больших очков себе под ноги, пробурчал: — Не понимаю, что вам даст разговор с сумасшедшим? — Но ведь его уже посещали, — напористо возразил Беляев. Психиатр перевел взгляд на Добросклонцева и несколько смягчился: — Одно дело родственники и друзья, другое — вы. Вы для него — враги, преследователи. — Ну это напрасно: лично у меня с Коньковым самые добрые отношения, — добродушно заулыбался Беляев. — Кто из родственников или друзей навещал Конькова? — спросил Добросклонцев. Юрий Иванович не исключал возможности «дружеских» отношений если не самого Конькова, то тех, кто стоит за его спиной, с кем-нибудь из персонала больницы. Эта мысль зародилась сразу же, как только узнал, что Коньков поспешно лег в больницу. Он внимательно наблюдал за психиатром. Тот пробурчал вяло и нехотя: — Заходил какой-то, родственником назвался. — Фамилия? — поинтересовался Беляев. — Не помните? У вас записана? — Мы не спрашивали. У нас больница общего режима. И Коньков для нас не преступник, а обыкновенный больной. Поговорите с ним, он вам сам расскажет, кто его навещал. Человек он общительный. Подождите здесь, я сейчас за ним схожу. — И врач поспешил удалиться. — Как тебе нравится? — вполголоса спросил Добросклонцев Беляева, кивнув на дверь, за которой скрылся врач. — Нелюдим. Похоже, что ему все осточертело. Постоянное общение с такими больными, наверное, откладывает отпечаток на характер, — пожал плечами Беляев. В поведении психиатра он не находил ничего необычного. 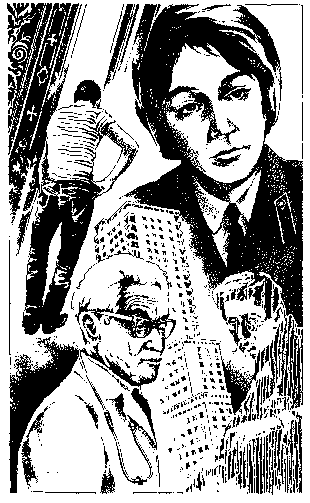 Сопровождаемый врачом с широкой улыбкой на круглом скуластом лице, вошел Коньков, с порога объявил, скаля крупные крепкие зубы: — А вот и мы, приветик. Чем могу быть полезен? С кем имею честь? — И без приглашения сел на белый деревянный стул. Конькову на вид было под сорок. Русая прядь волос падала на широкий лоб до самых бровей, густых и таких же русых, и это придавало выражению его лица суровый вид, совершенно не соответствующий веселому и развязному тону. В светлых до блеклости глазах, подвижных и беспокойных, бегали тревожные искорки. Это беспокойство чувствовалось и во всей фигуре Конькова — плотной, основательной, с крутым крепким затылком, постриженным высоко, под «бокс». Обе руки откинуты назад, за узкую спинку стула, точно он их прятал. Обращаясь к Конькову, врач сказал: — Николай Демьянович, товарищи из милиции хотят с вами поговорить. — Три дня лежу в больнице я, и вот пришла милиция, — пропел Коньков и протянул Беляеву руку: — Мое почтение, товарищ начальник. Беляев кивнул на Добросклонцева, представил: — Это мой коллега из Главного управления. — Калека, калека, согрей человека. Коли не согреешь, сам околеешь. Водку пили? Вот, купили! — Коньков расхохотался деланно идиотским хохотом. — Вы — поэт, Коньков, — добродушно улыбнулся Добросклонцев. — Во! Понимающие люди оценили, а доктор считает меня шизиком. А что думает товарищ начальник? — вопрос относится к Беляеву. — И не шизик и не поэт, — отозвался Станислав Петрович. — Ты хитер, начальник, все знаешь. — Почти все, — улыбнулся лукаво Станислав Петрович. — Но кое-какие детали хотелось бы выяснить, уточнить. — А о том, что я тебя обманул, тоже знаешь? — Знаю. Только не понимаю, зачем ты это сделал? — Испугался. Ты б меня арестовал. — За что? — За часы. — А ты только часы взял или еще что-то? — Больше ничего. Не веришь? Вот те крест. — И Коньков неумело перекрестился. — Крест действительно «вот те». — Беляев достал из кармана плаща крест архимандрита Иринея. — Узнаешь? И Добросклонцев и Беляев ожидали, что Коньков стушуется, растеряется. Но ничего подобного — махнул небрежно рукой: — Это так, бесполезная игрушка. Часы — другое дело, часы — штука стоящая. — Тогда зачем же вы взяли ненужную вам вещь? — спросил Добросклонцев. Все это время он внимательно наблюдал за Коньковым, стараясь разгадать линию его поведения. О том, что Коньков играет, у Юрия Ивановича не было сомнений, играет довольно искусно, не переигрывая. Важно было другое: даст ли Коньков правдивые показания под давлением улик, назовет ли своих сообщников? — Я, что ли, брал? — хмыкнул Коньков. — На кой леший мне нужен крест, что, я поп какой-нибудь? Мне его сунули в карман вместе с часами. — Кто сунул? — снова включился в разговор Беляев. — Прежде вы говорили, что купили часы? — Говорил. Ну и что? Тогда говорил неправду. Испугался я. Страх у меня. Я боюсь, зоны боюсь. Кошмары по ночам. Вот и врал. А теперь буду правду говорить. Вид у Конькова серьезный и речь психически нормального человека. Это уже был не тот Коньков, что вошел в этот кабинет с развязными прибаутками. Добросклонцев и Беляев нетерпеливо переглянулись. Врач многозначительно вздохнул, и вздох его показался Добросклонцеву осуждающим или даже предупреждающим Конькова. — Итак, Николай Демьянович, будем говорить правду и начнем с самого начала, — дружелюбно предложил Добросклонцев. — Кто, когда, где и почему вам сунул в карман крест и часы? Коньков задумался. Пауза получилась напряженной и затяжной. Но его не торопили. Лишь врач кашлянул в кулак и опять громко вздохнул. И Коньков, как он сам выразился, сделал «чистосердечное признание». Собственно, он почти слово в слово изложил сочиненную Пришельцем и переданную ему накануне Павловым версию: он, Коньков, проходил возле дома, в котором жил ювелир, к нему подошли двое в милицейской форме, спросили, местный ли он, и, получив утвердительный ответ, категорично предложили быть понятым при обыске в квартире ювелира. Как проходил обыск, Коньков рассказал со всеми деталями и подробностями, ничего не тая, все, как было на самом деле. Врать ему не было смысла, он же прекрасно понимал, что все эти детали хорошо известны следствию из показаний потерпевших. Коньков закончил свой рассказ словами, произнесенными так искренне, что Беляев готов был поверить ему: — Вот все, товарищи начальники, вся правда, как на духу, и весь я перед вами виноватый и честный. Что хотите со мной делайте, а я весь тут как есть. Взгляд его погас. Он положил руки на колени и склонился точно под тяжестью непосильного груза. Добросклонцев спросил: — Но вы понимали, что люди, переодетые в форму милиции, — грабители? Не отрывая рук от коленей, Коньков чуть приподнял голову, с маниакальной подозрительностью посмотрел на Юрия Ивановича и тотчас же опустил голову. Он не торопился с ответом. Сказал негромко, вполголоса, глядя в пол: — Понимал. Только не сразу. В конце, когда дело было сделано. Испугался очень, когда понял. Я думал, они меня прихлопнут, потому как свидетель. — А почему потом не сообщил в милицию? — спросил Беляев. Коньков выпрямился. Вид у него был настороженный, словно он опасался подвоха. С недоверием посмотрел на Беляева, скорбно покачал головой и произнес устало: — Потому как боялся. Говорю вам — наказали они, чтоб рот на замок, иначе крышка… Ну те, которые… — Он не закончил фразу и опять погрузился в себя, замкнулся. — Ты мог нам рассказать это в прошлый раз, когда у тебя изъяли часы, рассказать, как сейчас, — как бы размышляя вслух, произнес Беляев. Коньков никак не прореагировал на его слова; он сидел отрешенный и безучастный. И снова напряженная пауза, которую нарушил Добросклонцев: — Николай Демьянович, а кто вас вчера навестил? Вопрос был неожиданным. Коньков вздрогнул, но, подавив волнение, заговорил с вымученной непринужденностью, избегая взглядов своих собеседников. — Тут ходят всякие, везде ходят. Через забор лезут, во все щели прут. Я жену жду. А чего ждать? Может, и придет. А не придет, и так будет ладно. Мне все равно — что жена, что соседка. Соседка, может, и лучше жены. — Он нервно рассмеялся. — Но все-таки, Николай Демьянович, кто лично тебя вчера навещал? — повторил вопрос Добросклонцева Станислав Петрович. — Лично, отлично, столично… Водка такая была — «Столичная», — балагурил Коньков, уклоняясь от ответа. Добросклонцев вопросительно посмотрел на врача, тот кивнул головой и тихо сказал: «Довольно». Потом положил Конькову руку на плечо и уже громко произнес: — Устал, Николай Демьянович, надо отдохнуть. Так закончилась беседа Добросклонцева и Беляева с подозреваемым Коньковым. Потом в кабинете начальника горотдела милиции они подвели итоги. Юрий Иванович считал, что Коньков сам сочинил версию о своем якобы невольном участии в ограблении, что на самом деле он был активным соучастником, что шизофрению он симулирует, чтоб таким образом уйти от ответственности. У Беляева же на этот счет были сомнения: он допускал правдивость версии Конькова, да и в симуляцию шизофрении не очень верил, полагаясь на авторитет врачей. По мнению Станислава Петровича, дело с кулоном зашло в тупик, и, пока не будут задержаны двое скрывшихся псевдомилиционеров, невозможно дать этому делу логический ход. Даже если Коньков и соучастник, он будет держаться своей версии, правдивых показаний не даст и не поможет розыску найти «приятелей». А без них трудно будет суду доказать преднамеренное участие Конькова в ограблении. — Коньков «расколется», — твердил Добросклонцев. — Ты обратил внимание, как он вздрогнул, когда я спросил о посетителе? — А какой смысл ему колоться? — возражал Беляев. — Его версия тщательно продумана, и если мы не задержим тех двоих, он практически неуязвим. Он играет под дурачка, на самом же деле — хитрая бестия. Я думаю, что и вздрогнул-то он преднамеренно, чтоб разыграть заключительную сцену. Артист! — Не думаю: вздрогнул он естественно, а сцену разыграл, чтоб скрыть свое волнение и вообще прекратить разговор. Накануне у него кто-то был и, возможно, с инструкцией. И если нам удалось бы выяснить, кто, я думаю, это и была бы та ниточка, при помощи которой можно размотать весь клубок. Надо проследить, кто навещает Конькова. Добросклонцев понимал, что за «делом о кулоне» скрывается нечто более серьезное, чем обычный налет с целью ограбления. На такую мысль наводило его несколько странное поведение Норкина и Бертулина. Он ничего не ответил на предложение Беляева, лишь спросил: — Что ты скажешь о врачах?.. — Разные они, не похожие друг на друга, — не задумываясь, сказал Беляев. — А ты что имеешь в виду? — Они могут помочь следствию? — спросил Добросклонцев, хотя думал о другом: не соучастники ли они. И добавил: — Или наоборот? Беляев не ответил: он не исключал, что Коньков симулирует и врачи вольно или невольно — это еще надо выяснить — поддерживают его. Но выяснение этого потребует больших усилий. А сотрудники и так перегружены, работают с напряжением, часто без выходных. — За Коньковым надо установить наблюдение, — продолжал Добросклонцев. — Нужно во что бы то ни стало выяснить, кто его навещал. Понимаешь? Это та ниточка, уцепившись за которую мы можем размотать весь клубок. Беляев понимал, что как бы не было трудно, а кулоном придется заниматься не только Главному управлению, но и ему, то есть сотрудникам Дядинского отдела милиции, на территории которого совершено преступление, да и основная ниточка к его раскрытию находится здесь, в Дядине. — Что молчишь, Станислав Петрович! Думаешь, я не понимаю, что придется попотеть? Всем нам, и тебе в том числе. Когда Коньков выйдет из больницы, ты мне сразу дашь знать. Я подъеду и сам им займусь или подключу Антонину Миронову. Но это потом. А сейчас — дело за тобой. — И неожиданно предложил; — А не пойти ли нам пообедать? — Можно, — кивнул Станислав Петрович. ГЛАВА ТРЕТЬЯ 1 Антонина Миронова возвращалась в Москву под вечер, и, хотя до конца рабочего дня оставалось каких-нибудь час-два, она прямо с вокзала поехала на улицу Белинского, зная, что Добросклонцев ждет ее. С ним она разговаривала по телефону перед отъездом из Дядина, и Юрий Иванович понял, что ничего обнадеживающего она не везет. Прошел уже месяц, а дело с кулоном так и не продвинулось ни на шаг. В Дядине Тоня допрашивала вышедшего из больницы Конькова. С согласия Добросклонцева взяла с собой свою подругу врача-психиатра Раису Ивановну. Добросклонцева продолжал мучить вопрос: в самом деле Коньков страдает психическим отклонением или ловко симулирует? Ответ имел для следствия если не первостепенное, то весьма и весьма важное значение. Раиса Ивановна в данном случае никаких официальных полномочий не имела. Она присутствовала на допросе, наблюдала и слушала молча, не произнеся ни единого слова. Для Юрия Ивановича было важно мнение специалиста. Он не исключал необходимости психиатрической экспертизы, но для этого надо было иметь какие-то веские основания. Кроме того, посылая Миронову произвести допрос Конькова, Добросклонцев рассчитывал на ее опыт, на умение расположить к себе подследственного, войти к нему в доверие. На этот раз расчет Юрия Ивановича не оправдался: Антонина Миронова не смогла выудить из Конькова ни одной сколько-нибудь существенной детали, которая помогла бы дальнейшему следствию. Дав подписку о невыезде, Коньков, как и на беседе с Добросклонцевым и Беляевым, упрямо повторял свою версию и не очень искусно «заговаривался», демонстрируя умственные «завихрения». Юрий Иванович посмотрел на часы: сегодня он хотел прийти домой пораньше, собирались всей семьей сходить в кино на новый французский фильм. Тоня вошла в кабинет без стука, румяная, возбужденная, и с порога пояснила: — Очень спешила, боялась, что не застану. А на дворе — теплынь. Настоящая весна. Она села на один из четырех стульев, прижавшихся к стенке напротив письменного стола, расстегнула блестящие крючки-застежки элегантного плаща и поправила прическу. — Рассказывай, — негромко попросил Юрий Иванович. — Рассказывать, собственно, нечего. Как я тебе уже говорила по телефону, никаких сенсаций. Как улитка закрылся в ракушке. Осторожничает, а стоит только наступить ему на хвост, как тут же разыгрывает из себя придурка, на что имеет официальный документ. Ну а насколько эта бумажка справедлива, мы не знаем, и проверять ее на данном этапе, по-моему, нецелесообразно. Слушая ее, Добросклонцев молча кивал головой и, когда Тоня сделала паузу, спросил: — А что думает Раиса Ивановна? — Рая считает, что Коньков больше симулянт, чем придурок. — Получается — и симулянт, и шизик?.. — Симулянт стопроцентный, а что касается шизика, то, по мнению Раи, это у него может быть в легкой форме. Как принято говорить в таких случаях: иногда на него находит. — Ну хорошо, допустим. А если потребовать экспертизу? Если будет установлено, что Коньков обыкновенный симулянт, а лечащие его врачи по доброте своей или по профессиональной некомпетентности, или в корыстных целях ошибались, то мы с тобой с полной уверенностью можем считать, что гражданин Коньков равноправный соучастник шайки налетчиков и версия его обыкновенный блеф. — В этом я не сомневаюсь, — уверенно подтвердила Тоня. — Но требовать экспертизы сейчас преждевременно. Коньков должен выйти на связь. Надо дать ему время. Успокоится, обвыкнется. — Конькова держать на прицеле… Логично, — вслух рассуждал Добросклонцев. — И только? — А что еще придумать? — Тоня пожала плечами. — Мне не дает покоя твой старый знакомый — Ипполит Исаевич. Хотелось бы с ним встретиться еще раз. Просто невзначай зайти на чашку чая и уточнить некоторые детали, любезно попросить помочь следствию. — Попробуй. В успех я не верю. Во-первых, он тебе не откроет или ничего нового не скажет. Пришелец — матерый волк, у него особое чутье: за километр чувствует капканы. — И в конце концов, обойдя все капканы, проваливается в западню. Ладно, посмотрим. У меня есть план, точнее, некоторые соображения. — На всякий случай предупреди меня, когда пойдешь к Пришельцу. — Непременно. Более того: позвоню тебе от него. 2 Пришелец подробно знал о содержании беседы Добросклонцева и Беляева с Коньковым и был вполне удовлетворен поведением своего исполнителя. Пока что события развивались по сценарию, сочиненному Ипполитом Исаевичем, и опасности для себя он не ждал, хотя всегда был готов к неожиданностям. Провал операции «Кулон» вызвал в нем ярость — он возненавидел Норкина, который так ловко провел его. Но эта ненависть и порождала в нем азарт игрока. Пришелец готовил новую операцию «Кулон» и как артист упивался своим замыслом, который считал красивым и дерзким. После провала первой операции Пришелец поступил на службу. В одном из подмосковных городов начались работы по реставрации древнего храма, и, узнав, что там будут работать золотых дел мастера, Ипполит Исаевич, используя своих влиятельных знакомых, в которых он никогда не испытывал недостатка, устроился на ни к чему не обязывающую и в сущности безответственную должность консультанта: он слыл знатоком древнерусской иконописи. Но золото золотом, а брильянт брильянтом, и откладывать вторую операцию «Кулон» не было смысла, тем более, что план был, как считал Пришелец, гениальным в своей простоте. В свой замысел Ипполит Исаевич посвятил Павлова, поскольку ему отводилась главная роль. Пришелец любил баню, и не сауну, которую он называл мини-Сахарой, а русскую баню с березовым и дубовым вениками. И не Сандуны, не Центральные бани, у него была своя, районная, в которой к услугам такого солидного клиента всегда был готов отдельный номер с парилкой, с небольшим бассейном и довольно просторной раздевалкой, рассчитанной на пять персон. Вдоль стен вытянутой в длину комнаты стояли мягкие кресла, посередине прямоугольный стол, за которым могли уместиться не пять, а все десять человек; на отдельном столике — электрический самовар. На полу — ковровая дорожка. И, конечно же, вешалки и весы. Обслуживали номера два банщика — Гриша Хоменко и Леша Соколов. Хотя обоим им перевалило за сорок и оба имели институтские дипломы, а Соколов даже степень кандидата технических наук, для Ипполита Исаевича и для Анатоля они были Гришей и Лешей. Они не обижались. Пришельца в глаза величали по имени-отчеству, за глаза — боссом. Они хорошо знали свою службу, создали для клиентов настоящий сервис; имели свою постоянную клиентуру с тугими кошельками и купеческими замашками. И не задаром: ежедневно уносили домой в среднем по четвертному чаевых, что составляло среднемесячный заработок 500 — 600 рублей. Конечно же, приходилось делиться с директором бани, тут ничего не поделаешь, так заведено: что в бане, что в ресторане, да мало ли где еще? Нельзя сказать, чтоб Гриша и Леша делали что-то противозаконное, они знали запросы своей клиентуры и старались удовлетворить их с лихвой. Если находились обожатели воблы, снетка или еще какой-нибудь сухой и копченой рыбешки, — а кто ее не любит под свежее пиво, — у Гриши и Леши всегда был припас. Гриша водил дружбу с проводником поезда Москва — Калининград, Леша с проводником Москва — Мурманск. Водили они ну если и не дружбу, то знакомство с администратором магазина «Океан», страстным поклонником березового веника и легкого пара. Словом, рыба была всегда. А уж, как водится, платить за нее приходилось гораздо больше, чем втридорога. Опять-таки это же рынок: не хочешь — не бери, довольствуйся солеными сушками или брикетиком с этикеткой «Сыр к пиву». И венички у Гриши и Леши всегда свеженькие, аккуратненькие, веточка к веточке, хоть дубовые, и даже с можжевельничком и веткой черной смородины. По желанию любителей ароматного духа в парной появлялся терпкий запах эвкалипта, черной смородины. Григорий Хоменко когда-то окончил самый престижный вуз — Институт международных отношений и какое-то время работал за рубежом. Там у него случилась неприятность по семейной части: влюбился в машинистку, у той родился ребенок, пришлось расторгать один брак и заключать другой, а заодно и оставить дипломатическую карьеру. Второй брак оказался неудачным, что-то не клеилось в семейной жизни, Хоменко запил и вскоре потерял работу вообще. Кто знает, чем бы все это кончилось, если б Григорий не познакомился, притом совершенно случайно, с директором районной бани. И тот предложил ему не пыльную, но денежную работу. Директор был человек добрый, но чуточку тщеславный. Ему льстило иметь в подчинении дипломата, Хоменко недолго раздумывал: кошелек к тому времени был пуст. И не пожалел. Алексей Соколов пришел в баню позже. Своей новой и такой неожиданной должностью он обязан уже Григорию, с которым познакомился тоже случайно. Однажды в выходной день Хоменко сидел на скамейке на Рождественском бульваре, не обращая ни на что внимания. И не заметил, как рядом с ним на скамейке оказался мужчина таких же лет, как и Хоменко, одетый более чем скромно: далеко не новый плащ «болонья», предохраняющий от дождя, поношенный костюм и давно не чищенные ботинки. Небрежно завязанный темно-вишневый галстук вызывающе торчал из-под плаща. Густые русые волосы дыбились неприбранной копной, видно, хозяин давно не обращал на них внимания. В светлых выцветших глазах наблюдательный Хоменко прочитал горечь и безысходную тоску. Должно быть, в незнакомце Григорий уловил нечто такое, что так или иначе соприкасалось с его теперешними думами и настроением. Григорий Хоменко умел располагать к себе людей, а у Соколова было такое состояние, что он с доверчивой готовностью открывал свою душу любому. Алексей Соколов считал себя типичным неудачником и, вконец отчаявшись, перестал бороться за достойное место в этом сложном, противоречивом мире. Судьба над ним насмехалась, а пожалуй, даже издевалась. Отличник в школе, он преуспевал и в ПТУ редкой специальности — гранильщика алмазов. Руки имел поистине золотые, и после окончания училища два года эти руки заставляли алмаз сверкать искристыми гранями. А потом вдруг бросил работу и поступил в институт цветных металлов и золота. Блестяще защитил диплом. Перед ним открывалось заманчивое будущее. Но будущее порой и безжалостно обманчиво, особенно для талантливых, но доверчивых открытых сердец, талантом и доверчивостью которых ловко пользуются бездари и посредственности, природой наделенные наглостью, цинизмом и жестокостью. С такими людьми столкнулся и Алексей Соколов, начав свою служебную карьеру в должности младшего научного сотрудника НИИ. Начальство быстро оценило его талант искателя и, щедро потчуя молодого специалиста радужными обещаниями, без зазрения совести пользовалось его услугами. Соколов медленно работал над своей кандидатской диссертацией: не хватало времени, потому что попутно помогал писать докторскую директору института. Потом, когда директор стал доктором, а Соколов, наконец, кандидатом и старшим научным сотрудником, на него обратил внимание его непосредственный начальник, заведующий лабораторией. Обласкал, хвалил, прочил будущее и свою помощь, намекая при этом, что отнюдь не бескорыстную. И Соколов принялся за работу над докторской диссертацией для заведующего лабораторией. Для своих дел времени почти не оставалось. Понимал ли Соколов, что дельцы его эксплуатируют? Безусловно, понимал. Но терпел, потому что директор института и заведующий лабораторией давали ему понять, что без их помощи и содействия он ничего особенного для института и науки не представляет. Алексей взбунтовался, с большим запозданием проявил характер. Началась война между ним и начальством. Силы сторон были не равны, и старший научный сотрудник потерпел сокрушительное поражение. Оставаться в институте он не мог и был изгнан «по собственному желанию». Григорий Хоменко с сочувствием выслушал рассказ Алексея Соколова. — От же, собаки, что вытворяют, — повторял он. — И нет же на них никакой управы. И ты, выходит, без работы? — Да дело не в работе. Работу я найду. На худой конец могу и не по специальности. Обидно другое: что такое возможно в наше время. Вот от чего больно. — Как не обидно! Еще бы. Только что им от нашей обиды. А работать, оно, конечно, это ты верно говоришь: можно и не по специальности. Иной раз оно так еще и лучше. Вот взять меня: лучший в стране институт кончал — МГИМО. Слыхал такой? За границей работал в советском торгпредстве, дипломатический паспорт — и все такое прочее. Контракты заключал с иностранными фирмами, с капиталистами, миллионами ворочал, короче говоря — торговал. Но недолго проработал, два года с небольшим. Пришлось уйти. Обстоятельства так сложились, — признался Хоменко в порыве сочувствия. — И не жалею. Нашел работу не по своей специальности и доволен. Я тебе скажу, ни один посол не имеет такого заработка, какой у меня. В жизни никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, жизнь, она — потемки. Вот был бы ты в своем институте доктором, заведовал бы лабораторией. Сколько бы получал? Рублей пятьсот, а то и меньше? — Примерно, — ответил Соколов, присматриваясь к человеку, который зарабатывает больше посла. — А у меня иной месяц и шестьсот получается, — похвалился разоткровенничавшийся Хоменко. Соколов отметил про себя, что бывший дипломат одет с иголочки. Во всем его облике — в жестах, в голосе — была уверенность в прочности своего положения, а в покровительственном тоне проскальзывали снисходительные нотки. — Выпиваешь? — неожиданно спросил Хоменко. — Не на что. — А кабы было? — Не знаю. В принципе я не любитель. — А я пил. Вот когда пришлось уйти из Внешторга, запил. Да так, что думал — все, крышка тебе, Григорий Тарасович. А как на работу устроился — враз завязал. И ничем ты меня не соблазнишь. Слово себе дал железное. Бывает, но по праздникам или по особому случаю. Да и то в меру. — Он вдруг положил свою руку на плечо Соколова и без всякого перехода предложил: — Послушай, добрая душа, нравишься ты мне. Хочешь работать у нас в такой же должности, что и я? Плюнь на свои диссертации. Будешь сыт, одет, обут — и в доме достаток. А?.. — Я не знаю, что за работа и справлюсь ли, — насторожился Соколов. — Справишься. Работа не тяжелая, только делать ее надо с душой, со старанием, я бы сказал, со страстью. Как тебя зовут? — Алексей. — Так вот, Алексей, ты не пугайся и не смущайся, когда я назову тебе наше учреждение и свою должность. «Должно быть, официант в ресторане», — почему-то подумал Соколов, но когда Хоменко объяснил, он растерялся и не мог скрыть своего смущения. Хоменко хорошо его понимал, сказал дружески: — Ты сейчас не говори мне ни «да», ни «нет». Договоримся так: приходи завтра в баню, в номера. В двенадцать часов сможешь? Посмотришь, прикинешь. Потолкуем на месте, и тогда решишь. Идет? Так Алексей Соколов поступил на новую работу. В бане Хоменко познакомил его с постоянным клиентом, начальником какого-то главка, Ипполитом Исаевичем и его помощником Анатолем. — Птица, видать, важная, денег не жалеет. По-моему, занимает крупный пост в оборонной промышленности, — предположил Хоменко и добавил: — А может, и торгаш. Нас это не касается, кто он, мы анкеты не заполняем. Делай свое дело и помалкивай. Пришелец появлялся в бане чаще всего с Анатолем, иногда с компанией, редко — один. Обычно накануне в баню звонил Анатоль и заказывал номер на такой-то час. Позвонил и теперь. Было это в конце апреля, когда на московских бульварах появились первые листочки. Пришелец приехал в назначенный час, минута в минуту. Как все деловые люди, он отличался пунктуальностью. Приехал один и на немой вопрос Соколова лениво буркнул: — Анатоль заедет за мной позже. Необычная судьба Соколова, о которой Пришелец узнал от Павлова, заинтересовала Ипполита Исаевича. «Этот может пригодиться», — отметил он для себя. Вообще, Пришелец смотрел на людей с сугубо практичной утилитарной точки зрения: что можно от этого человека получить, где его использовать. Таким образом людей он делил на нужных и ненужных. Среди нужных были ответственные работники министерств и ведомств, ученые, директора предприятий, магазинов и ресторанов, уголовники, увенчанные лауреатскими медалями и Золотыми Звездами писатели, кинематографисты. Круг знакомств Ипполита Исаевича был необозрим, как просторы сибирской тайги, и разнообразен, как меню ресторана «Славянский базар». И совсем не случайно Пришелец решил поговорить с Соколовым один на один. К его приходу все было готово. В раздевалке, которую можно было назвать и предбанником и салоном, все сияло свежестью, чистотой и располагало к неге. На столе красовались свежие помидоры и огурцы, лоснящийся жирными боками ростовский рыбец. Водка, коньяк, пиво и вино хранились в холодильнике и по первому требованию Ипполита Исаевича могли дополнить натюрморт. В небольшой мыльной на мраморном лежаке в шайке, наполненной водой, томились два веника: березовый и дубовый. Зеленоватая вода в бассейне пахла хвоей. В парилке витал сухой дух, термометр показывал семьдесят градусов: более высокой температуры Пришелец не признавал, берег сердце. Главное, считал он, не температура пара, а фитонциды березового и дубового листа. На верхней полке у изголовья стояла шайка с холодной водой. Все шло однажды установившимся чередом: пройдя в мыльную, где в ожидании стоял Соколов, Ипполит Исаевич толкнул дверь парной, полез на полок. За ним с двумя вениками в руках вошел Соколов и, остановившись внизу на ступеньках лестницы, заботливо спросил: — Как самочувствие, Ипполит Исаевич? — В здоровом теле — здоровый дух, — ответил Пришелец не без гордости. Да и грешно ему было жаловаться на тело. В свои сорок три года он выглядел если не спортсменом, то по крайней мере спортивным тренером, сохранившим былую форму. Пришелец опустил лицо в шайку с холодной водой, довольно фырча, брызнул на грудь, лег на живот и подал команду: — Начнем, Алеша, (не «Алексей — божий человек», как обычно, а «Алеша».) Соколову понравилось такое обращение. Он поднялся наверх и одновременно двумя вениками начал колдовать над распаренным телом клиента. Сначала потряхивал, помахивал, обдавая паром, но, не касаясь тела листом, все сильнее и все ближе, ближе, и вот, наконец, оба веника мягко, осторожно, словно пробуя, коснулись плеч, спины, поясницы и, подпрыгивая, прошлись по вытянутым ногам. Это была проба, своего рода разведка, потому и спросил Алексей заботливо: — Терпимо, Ипполит Исаевич? — Благодать, Алеша, давай, работай. У тебя прирожденный талант. Народный, самобытный, — кряхтя, приговаривал Пришелец. Он поворачивался, ложился на спину, подставляя грудь и живот, потом вошел в бассейн. После бассейна снова в парную, на полок, под веники. И так несколько раз. Потом в мыльной улегся на мраморную плиту, и Соколов, вооружившись мочалкой, окутал его густым облаком мыльной пены, приговаривая: — Теперь можете говорить, Ипполит Исаевич: «Чист как стеклышко». Все грехи смыли. — А ты думаешь, за мной водятся грехи? — В голосе Пришельца Соколов уловил нотки недовольства. — Водились, Ипполит Исаевич, а теперь нет, смыли. А кто из нас безгрешен? Я таких не встречал. Как не существует в натуральной природе дистиллированной воды, так и безгрешных людей, исключая младенцев, нет. Да и жить, наверное, скучно было б с праведниками. — Разумная твоя философия, Алексей, — похвалил Пришелец, как всегда вяло, с пренебрежительной ленцой в голосе. Это была его манера: говорит — словно делает одолжение. — Грех — понятие теоретическое и сугубо субъективное. Что одному кажется грехом, то другому оборачивается благом. Даже Маркс говорил о себе: ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал основоположник. Запомни! Из прочитанного Пришелец помнил только это высказывание Карла Маркса, понимая его по-своему. После всех положенных процедур Ипполит Исаевич, завернутый в простыню, нежился в мягком кресле, приказав Соколову подать коньяк и две рюмки, а также стаканы для минеральной. Он впервые пригласил банщика сесть за стол. Такой неожиданный жест удивил и даже смутил Алексея. — Благодарю, Ипполит Исаевич, но мне никак нельзя: я ведь на работе, а у нас строго запрещено. — Глупость, Алеша. Одному мне никак не с руки. Я не алкаш. Ты когда-нибудь выпивал в одиночку? Нет? Тогда запомни — в одиночку пьют только алкаши. «В самом деле, пить одному — последнее дело», — подумал Соколов и сдался, отпив всего несколько глотков, чтобы не обидеть доброго человека, поддержать компанию. Звучно хрустя свежим огурцом, Пришелец поинтересовался в порядке консультации, знает ли кандидат технических наук, что такое жидкое золото. — Дело в том, — сразу же пояснил Ипполит Исаевич, — что одному моему приятелю подарили флакон жидкого золота, и он не знает, что с ним делать. — Позолотить что-нибудь, скажем, раму картины или фарфоровую вазу, — ответил Соколов и в свою очередь поинтересовался: — А какой процент золота, не знаете? — Кажется, двадцать пять. А что, оно разное бывает? — Бывает и двенадцать, и десять. Смотря для какой цели. — Так что ж, выходит: чем выше процент, тем лучше блестит? — Как раз наоборот. Если блеск матовый, значит, высокий процент. А если ярко сверкает как на фарфоровых чашках — значит жиденькое, десятипроцентное. — Интересно. А можно его разбавить? Из двадцатипятипроцентного сделать десяти? — Запросто. — И в твердое превратить можно? — Проще простого: вылейте в сковородку, добавьте туда бензина и поджаривайте при высокой температуре паяльной лампой, скажем. Раствор испарится, и останется чистое золото. — Только и всего? — преувеличенно удивился Пришелец и выпил вторую рюмку. — А то как же. Из литра жидкого золота можно получить грамм двести твердого. Пришелец в глубине души торжествовал. Все оказалось проще простого. Из десяти флаконов двадцатипятипроцентного пять флаконов можно превратить в двенадцатипроцентное и пустить в дело, а пять флаконов превратить в твердое золото и прикарманить. Анатолий Павлов появился в условленное время: минута в минуту — к этому его приучил пунктуальный хозяин. Соколов в тот же миг удалился к себе. Наскоро отстегав себя веником и окунувшись в бассейне, Анатоль предстал перед Пришельцем, готовый выполнить любое поручение. Он легко угадывал настроение своего хозяина и сразу понял, что тот в хорошем расположении духа. — Можешь сегодня себе позволить, — Ипполит Исаевич кивнул на бутылку. «Будет о чем-то просить», — отметил про себя Анатоль и налил себе коньяку. Каждая просьба или поручение Пришельца для Павлова означала приказ, ослушаться которого он не мог, по опыту зная, что шеф все равно настоит на своем. И каждая просьба требовала немалых усилий, иногда связанных с риском. Анатоль привык рисковать, но не безрассудно. Он только внешне казался этаким сорвиголовой. На самом же деле его изворотливый ум любое действие, прежде чем его совершить, подвергал точному расчету, при котором всегда имелись в виду возможности последствия. Небрежно чокнувшись с Павловым и отпив несколько глотков, Пришелец, нежась, лениво развалился в кресле: — Я вот о чем думаю: пора тебе иметь прочную базу — квартиру, дачу, машину. — Думы и грезы, Ипполит Исаевич, — заметил Анатоль. — Грезы потому, что много сложностей. И главная — у тебя нет постоянной московской прописки. А посему кооперативный вариант отпадает. — Пришелец сделал паузу. — В такой ситуации есть единственный вариант — женитьба. — Он не сводил взгляда с Анатоля, точно ожидал, какое впечатление на того произведут его слова. — На квартире? — Как-то беспечно выпалил Павлов, и в его вопросе прозвучала веселая ирония, которую Пришелец решил поддержать. — Со всеми удобствами, с дачей впридачу, но главное с солидным капиталом. — А жена? Она тоже впридачу? — Павлов уже уловил, куда клонит его шеф. — Вдова покойного академика или генерала? — Кретин! — недовольно проворчал Пришелец. — Девушка, дочь состоятельных родителей. Единственная дочь, следовательно, наследница. Четырехкомнатная квартира, дача в Абрамцеве, «Волга» — последняя модель, золотишко и прочие камешки, не считая сберкнижек на предъявителя. Понял, дубина? Теперь прикинь, взвесь, подсчитай. Четвертая часть всего принадлежит тебе. — Так, четвертая часть. Подсчитаем, прикинем, взвесим, — шутливо продолжал Анатоль. — Одна комната, одно колесо от «Волги»… — Прекрати ерничать! — Тяжелый хмурый взгляд Пришельца остановился на лице Павлова. — Пора стать серьезным. С женой ты можешь не жить, для этого есть институт любовниц. В конце концов разведешься. Твоя доля имущества достанется тебе. А не хочешь — черт с тобой. Ты всегда был неблагодарной скотиной. О тебе забочусь. Мне, что ли, нужна квартира?  Пришелец насупился, давая понять, что разговор окончен и он не только огорчен, но и возмущен поведением Павлова — этого легкомысленного щенка. Налил себе рюмку коньяка и одним махом опрокинул ее в рот. Запил боржоми и, достав двадцатипятирублевую купюру, небрежно бросил на стол, — это для Соколова. Павлов смутился, заискивающе глядя на шефа, сказал: — Извините, Ипполит Исаевич, я думал, что шутите, разыгрываете меня. А если всерьез, тогда другое дело. Кто она, невеста и будущая жена? — Так бы с самого начала, — оживился Пришелец. — А то выпендривается… Главное, что она в тебя влюблена как кошка. Она тебе заменит и жену и любовницу, это дьявол в юбке, огонь и пламень, всемирный пожар, если хочешь знать. — Но хотя бы имя моей избранницы? — Есть отличный сорт винограда. Из него делают прекрасное вино. Имя этого винограда носит твоя будущая жена, — благодушно сообщил Ипполит. — Неужто Изабелла Норкина?! — Павлов насторожился, соображая: «Решил отделаться. Надоела или ребенка ждет?» Последнее его не устраивало. — Ты угадал, Анатоль, она. — А как же вы, Ипполит Исаевич? — Мне она дала отставку, я для нее бесперспективен. Семьей обзаводиться не собираюсь, и она это знает. Павлов уже понял замысел шефа. Конечно же, не о его семейном благополучии заботится Пришелец. У него есть свой интерес, своя цель. Кулон! Как маленькую награду за свои хлопоты и участие, он потребует от Анатоля именно эту «безделушку», «камешек». Да, хитер Ипполит Исаевич и к тому же упрям. Уж если что надумал — не отступит. Хотя чем он рискует? Ничем. Все делает чужими руками. Ну что ж… — Надо подумать, Ипполит Исаевич. — Думай, думай только головой. Изабелла, конечно, не красавица. А когда у тебя будет своя хата и еще кое-что в кармане, тогда и красавицы найдутся. По вкусу. Сам будешь выбирать. А пока — тебя выбрали. «Вот именно — выбрали. Ты выбрал», — с горечью подумал Павлов. Он понимал, что от задуманной Пришельцем женитьбы ему не отвертеться. Павлов знал силу и возможности своего шефа, на себе их испытал. Два года тому назад Анатоль влип в грязную историю, из которой путь для него лежал прямо в тюрьму. Никаких надежд на спасение не было. И вдруг, как по мановению волшебной палочки следователь выносит постановление освободить за отсутствием улик. Ипполит Исаевич в то время активно промышлял возле вузов, проталкивая бестолковых абитуриентов в студенты, за которых Павлов сдавал экзамены. До суда дело не дошло и огласки не получило. Спасая Павлова, Пришелец спасал и себя, хотя Анатолий об этом и не догадывался. Он просто поверил в неограниченные возможности своего шефа, которому служил сначала за совесть, а потом за страх. Однажды он попытался ослушаться. Тогда разъяренный Ипполит процедил сквозь зубы: «Советую тебе раз и навсегда запомнить слова Тараса Бульбы: я тебя породил, я тебя и убью». Павлов запомнил. Про себя он считал, что Пришелец главарь какой-то шайки, коль у него такие связи среди должностных лиц и коль он располагает крупными суммами денег. …Пришелец посмотрел на часы и засобирался. Павлов довез его до дому и простился у подъезда: в квартиру шеф его не пригласил, через полчаса должна была прийти Белла. И она пришла без опозданий в точно назначенный час. Когда сели за стол, он налил гостье вина, себе напитка «Байкал», сказав, что он в бане изрядно подзаправился коньяком и с него на сегодня достаточно. А заодно, как бы между прочим, поинтересовался, как относится девушка к замужеству. Выпив вино и лукаво поглядывая на Пришельца, Белла произнесла своим мягким ласкающим голосом: — О замужестве заговорил, очень-очень любопытно. Сам решил на мне жениться или есть жених на примете? — Есть. Отличная партия. — Ах, вот оно что: ты о моей судьбе печешься! — Да, твоя судьба волнует меня, — резко перебил Ипполит Исаевич. — Совесть, понимаешь, девочка, совесть мучает, кричит во мне: так больше нельзя. С моей стороны было бы подло продолжать наши отношения, обнадеживать тебя. Ты должна знать, что я не могу на тебе жениться. — И не надо, мне и так хорошо! Разве я требую?.. — Ты заблуждаешься, ты ослеплена и не даешь себе отчета. А тебе нужен муж, семья, дети. Ты молода, я старик. — Положим, я-то лучше знаю, какой ты старик. — В глазах Беллы промелькнули лукавые искорки. — А ты вперед смотри, в завтра, каким я буду через пять-семь лет, — не скрывая раздражения, продолжал Пришелец. Руки его не находили места, он начинал терять самообладание — два неприятных разговора — с Павловым, а теперь с Беллой — в один день: не много ли? Вместо «Байкала» он налил себе «Токая» и выпил одним махом. — Скажи прямо: ты не любишь меня? — умоляюще смотрела на него Белла. — Скажу больше: и никогда не любил. И это меня мучает, давит на совесть. Я не могу, не способен вообще любить — ни тебя, никого. Не знаю, почему, возможно, я так устроен, возможно, потому, что я слишком люблю себя. Да, да, я эгоист, отъявленный, неисправимый, стопроцентный эгоист. Я давно должен был об этом тебе сказать, хотел и не мог, не решался, потому что эгоист, о себе думал. А сегодня Анатоль признался, что ты ему нравишься. Я и раньше подозревал, что он неравнодушен к тебе и даже — представь себе банальность — ревновал. Но я не должен стоять между вами. Белла внимательно слушала его и наблюдала. Ее интересовали не сами слова, а то, как они произносились; не оболочка слов, а их существо, подлинный смысл. Ипполит умолк, театрально обхватил голову ладонями и, глубокомысленно уставившись в стол, после долгой паузы заговорил полушепотом: — Да, виноват… подло, но что делать… глядеть правде в глаза, трезво… думать о будущем. У тебя все впереди — жизнь, счастье, любовь. Все кончено… Она прервала бессвязное бормотанье, взяла его руку и поднесла к своей щеке, к губам. — Не надо, дорогой, все будет так, как ты хочешь. Я выйду замуж. Неважно, кто будет мой муж — Анатоль или кто-то другой. Но ты позволишь мне хотя бы изредка видеться с тобой? Позволишь? Умоляющий взгляд ее был кроток и жалок, преданные глаза блестели от слез. — Если это будет Анатоль — он нам все позволит, Я буду другом дома, — прошептал Ипполит Исаевич и поцеловал ее. — Только родители твои не должны мать, что я знаком с, Павловым. Имей это в виду. Так будет лучше для нас обоих. 3 Деньги к деньгам, удача к удаче — так говорят, в народе. Пришельцу сопутствовали удачи, все шло по его расчетам и задумкам: с женитьбой Павлова дело решилось без осложнений. Жених и невеста съездили на дачу в Абрамцево, вдвоем провели там субботу и возвратились в Москву в воскресенье вечером. Свою загородную прогулку они в шутку назвали помолвкой, и оба были довольны. Когда по телефону Ипполит Исаевич спросил Павлова, как прошла дачная прогулка, тот ответил одним словом: — О'кэй! Значит, все в порядке, полдела сделано. Остался доволен Пришелец и встречей с бригадиром золотых дел мастеров. Встреча эта состоялась на квартире Ипполита Исаевича, обставил он ее должным образом, показав гостю размах и широту, с каким живет консультант по русской древности, а заодно рассказал, как из двадцатипятипроцентного жидкого золота можно делать десятипроцентное и как образовавшиеся излишки жидкого золота превращать в твердое. Они быстро поняли друг друга, что называется, нашли общий язык. Гость остался доволен встречей, радостный хозяин проводил его до самого лифта. И тут произошло событие, испортившее Пришельцу настроение. Более того, будучи человеком немного суеверным, он усмотрел в этом событии дурной признак, недоброе предзнаменование. А случилось вот что: подойдя к лифту, Ипполит Исаевич нажал кнопку, ожидая прихода кабины на его этаж. Через минуту кабина остановилась перед прощающимися Пришельцем и его гостем и из нее вышел… Добросклонцев. Вышел и сказал несколько стушевавшемуся искусствоведу с дружеской улыбкой: — Здравствуйте, Ипполит Исаевич. Как хорошо, что я вас застал. Шел мимо и думаю, дай загляну, авось дома. И вот… мне повезло. По смущенному лицу Пришельца Юрий Иванович понял, что застигнутый врасплох Ипполит Исаевич не рад незваному гостю, хотя и ответил, преодолевая неловкость: — Проходите, пожалуйста. — И уже в прихожей спросил сухо, официально: — Чем обязан? — Вы меня простите, я не надолго. Просто нужно выяснить некоторые мелкие детали, но мне не хотелось вас беспокоить приглашением на улицу Белинского. Пришелец провел Добросклонцева не в гостиную, где еще не был убран стол после встречи с бригадиром золотых дел мастеров, а в кабинет. Внезапный приход подполковника насторожил его: тут можно ожидать подвоха. Прежде всего Ипполит Исаевич вспомнил, что он слегка под хмельком, поэтому приказал себе быть немногословным н осмотрительным. Сели в мягкие кресла у круглого журнального столика. Гость, сложив обе руки на столе, доверительно посматривая на Пришельца, заговорил мягко, почти смущенно: — Ипполит Исаевич, мы, то есть милиция, нуждаемся в вашей помощи, и поэтому буду с вами откровенен: дело с кулоном продвигается плохо, а вернее, совсем не продвинулось. Нам не удалось напасть на след налетчика. Мы задержали одного из участников, Конькова, того, что был в штатском, вы его помните, но он скорее невольная жертва, человек случайный и попал в эту историю по причине своего психического недуга. Помощь его следствию в сущности равна нулю. Вы вправе меня спросить: почему обратились именно к вам? Отвечу: вы человек проницательный, наблюдательный, у вас острый глаз. — Имеется в виду мое прошлое — судимость и так далее? — уточнил Пришелец и горько усмехнулся. — Грехи молодости, маленькое пятнышко в биографии, которое легло на меня, как позорная татуировка, которую невозможно вытравить. — Совсем нет, Ипполит Исаевич, я не об этом, — мягко возразил Добросклонцев. — Вы специалист по искусству, а эта профессия, как я понимаю, требует особого глаза, проницательности, глубокого анализа. Ведь вы, исследователи, проникаете в сущность вещей, видите то, что обыкновенному человеку, не специалисту, не видно. «Складно поешь, отрепетированно, — недоверчиво думал Пришелец, слушая Добросклонцева. — А вот зачем ты пришел на самом деле, с какой целью — этого не скажешь. Этот ребус надо разгадать. Что ж, поединок? Давай поединок!» — В чем конкретно должна выражаться моя помощь? — напрямую спросил он. — Вы видели тот злополучный кулон, — продолжал Добросклонцев по-прежнему доверительно и спокойно. — Скажите, пожалуйста, что он из себя представляет, и вообще, натуральный это бриллиант или, может быть, искусственный, которые сейчас получают в лабораториях? — Вы имеете в виду фианиты? — Пришелец, подперев подбородок рукой, задумался. После некоторой паузы заговорил, не глядя на Добросклонцева, не спеша, взвешивая каждое слово: — Дело в том, что я не специалист по алмазам и не смог бы отличить настоящий бриллиант от фианита или тем более от белого сапфира, который гранят бриллиантовой гранью и затем выдают за натуральный бриллиант. Проба напильником ничего не дает. Напильник его не берет. Есть какие-то другие способы определить. Надо быть специалистом. Именно поэтому я и решил проконсультироваться у Бертулина. Арсений Львович мой старый знакомый, опытный ювелир. Ему я верю. — Вы хотели купить кулон? Вопрос Добросклонцева неприятно задел Пришельца. «Кончилась присказка, а теперь, похоже, начинается сказка, — подумал он. — Спокойно, Ипполит, гляди в оба!» Ответил уклончиво: — Такая мысль была, если бы сошлись в цене, — и вдруг предложил: — Хотите кофе? Я быстро сделаю. Не дав Добросклонцеву ответить, он поспешно удалился на кухню и вернулся через некоторое время с серебряным подносом, на котором стояли две голубые кофейные чашечки из тончайшего, прозрачного китайского фарфора, такая же сахарница, банка растворимого кофе, две коньячные хрустальные рюмочки, несколько брикетиков печенья, бутылка отборного молдавского коньяку и хрустальный графинчик с водкой. — Кофе и сахар по вкусу. Я лично предпочитаю густой и без сахара, но с водкой. Чайная ложка водки в кофе усиливает и обостряет аромат. — И когда Добросклонцев взял свою чашку, высыпал в нее ложечку кофе, Пришелец предложил: — По рюмке коньяку? — Благодарю, но мне еще на работу нужно. — Тридцать граммов работе не помешают. Юрий Иванович махнул рукой, улыбнулся дружески: — Ну да ладно — за знакомство грешно отказываться. Только разрешите, я позвоню в управление. Пришелец кивнул, и Добросклонцев набрал телефон Мироновой. Не называя ее, он сразу спросил: — Как там у нас дела? Меня никто не спрашивал?.. Да я неважно себя почувствовал. Что-то с желудком. Да, да, иду в поликлинику. Я позвоню, из дому позвоню. Тоня поняла, что Добросклонцев находится у Пришельца. А тем временем Ипполит Исаевич налил в рюмки коньяк: — Ваше здоровье, Юрий Иванович. За вашу третью звезду. — Да уж где там, Ипполит Исаевич, нам звезды не часто светят. Приходится думать не о третьей, а как бы эти сохранить. Если не найдем кулон, можем потерять звезду, — перейдя на шутливый тон, заговорил Добросклонцев и уже всерьез закончил: — Я пью за вашу помощь. — Я все-таки не совсем представляю, чем могу быть вам полезен, — сказал Пришелец, поставив на стол пустую рюмку и отхлебнув кофе. Добросклонцев подумал: «Разговор о покупке кулона ему не понравился. А мы возобновим». — Да, мы немного отвлеклись. Какая по-вашему цена этому кулону? — На такие вещи, как вы знаете, цены бывают разные, с невероятной вилкой. Государственная цена одна, на черном рынке другая. — Дороже или дешевле? На черном рынке? — Как кто сумеет сторговаться. Чаще дороже. Но бывает и дешевле. Например, ворованная вещь. — Значит, похитители кулона могут продать его подешевле. Ну а за какую цену вам предлагал Норкин? — О цене речь не шла, надо было проконсультироваться у специалиста. Подлинную цену мог определить Арсений Львович. — Норкин говорит, что цена кулону семьдесят тысяч. — Запрашивать он мог и дороже, а кто ему даст? — Да, найти покупателя на такую вещь, как я понимаю, не так-то просто. И потом — зачем он, этот кулон? Практически вещь бесполезная. Надеть на шею семьдесят тысяч, целое состояние — это же безумство! — Таких безумцев нет, чтоб носить на шее, зато капитал надежный от всяких инфляции. Деньги падают в цене, а камешки и презренный металл год от года дорожают. Он снова наполнил рюмки коньяком. Добросклонцева подмывало спросить: смог бы он, Пришелец, купить кулон, выложить семьдесят или пятьдесят тысяч? Но он сообразил, что вопрос этот только насторожит и испортит дело. Коль торговал, значит, и купить мог. И все-таки было любопытно, что ответил бы Пришелец. — Ипполит Исаевич, нас, следствие, волнует вопрос, ответ на который мог бы стать ключом для раскрытия преступления. Собственно, это главная; цель нашей сегодняшней встречи. Вы видели в лицо всех троих налетчиков, были главным свидетелем. Как вы считаете: грабители шли именно за кулоном, то есть заранее знали, что вы придете с Норкиным, или это было случайное совпадение, если они просто хотели ограбить ювелира?.. Сложный вопрос задал Добросклонцев, неожиданный, с подвохом. Ипполит Исаевич соображал и взвешивал, глядя мимо Добросклонцева, и понимал, что любой определенный ответ не выгоден для него. Он вообще предпочитал в официальных разговорах неопределенную форму и ответил уклончиво: — Представьте себе, Юрий Иванович, этот же вопрос возникал и у меня, и я не могу дать на него твердого ответа. О том, что те двое в милицейской форме уголовники, я понял сразу, — грубость в обращении, совершенно нехарактерная для работников милиции, да и соответствующие физиономии: что-то хищное, звериное в глазах, в жестах, во всем облике. Этого не скроешь никакой униформой. Ваш вопрос мне понятен: одно дело, если преступники заранее знали, что здесь живет ювелир, и шли, чтобы ограбить его, и совсем другой сюжет, если они шли конкретно за бриллиантом. В таком разе они знали время нашего прихода к Арсению Львовичу. Возникает логический вопрос: от кого? Кто дал им информацию? Сами Норкины — их трое: муж, жена и дочь: или Арсений Львович и я — ваш покорный слуга. Получается, что кто-то из нас. Теперь посмотрим персонально. Норкины могли дать такую информацию только через третье лицо — кому-нибудь проговорились. Процент вероятности незначительный. Следующий — Бертулин. Но ведь у него тоже кое-что взяли. Стоило ли шило на мыло менять?! Потом, насколько я знаю Арсения Львовича, он не способен на подобную авантюру, он человек глубоко порядочный. Да и смысла нет ему лезть в уголовную историю на закате жизни. Человек он обеспеченный, на его век хватит и того, что имеет. Как видите, процент вероятности равен почти нулю. — Но все же полпроцента вы допускаете? — вставил Добросклонцев, внимательно следя за Пришельцем. — Теоретически. В таких случаях нельзя исключать даже самое невероятное, — ответил Ипполит Исаевич и сделал небольшую, но мучительную паузу. — И, наконец, Пришелец. Тут процент вероятности самый большой. Во-первых, я в некоем роде антиквар, коллекционер; во-вторых, как я уже говорил вам, с татуировкой прошлого. В-третьих, в отличие от Норкина и Бертулина я в этой операции ничего не теряю, а только выигрываю. Допустим, я даю грабителям по две-три тысячи наличными, а они взамен этот камешек, безделушку, цена которой, если это натуральный бриллиант, а не белый сапфир, пятьдесят тысяч. Есть смысл? Несомненно. Правда, в таком случае грабители должны быть законченными болванами, и поручить им такую операцию мог только неопытный чурбан. Что из себя представляют налетчики, я не знаю. С одним из них вам приходилось беседовать. Ипполит Исаевич замолчал, взял бутылку коньяка, но Добросклонцев прикрыл свою рюмку ладонью: — Пожалуй, с меня достаточно. — Дело хозяйское, — негромко сказал Пришелец и, поставив бутылку на место, продолжал: — Итак, мы разобрали один сюжет. Что же касается второго, то, по-моему, там все ясно. — И какому же сюжету вы отдаете предпочтение? — Из логики моих рассуждений, если вы не считаете меня болваном, — полные губы Ипполита Исаевича изобразили улыбку, — можно сделать вывод, что предпочтение я отдаю второму варианту, хотя не исключаю и первый. — Ну что ж, я думаю, из вас получился бы хороший следователь. — Так думает и мой друг Зубров Михаил Михайлович, — ввернул Пришелец. — Он работает помощником министра. — Какого именно министерства, Пришелец предусмотрительно умолчал: мол, думай, что хочешь — министерство легкой промышленности, или министерство юстиции, или министерство соцобеспечения. Да мало ли у нас министерств. — Я понял, — сказал Добросклонцев, и Ипполит Исаевич с досадой спохватился: «Не следовало называть Зуброва. Ах, какая оплошность, какой идиотизм». — Именно поэтому я и обратился к вам с просьбой о содействии. Ведь если, предположим, бриллиант попал в руки, как вы выразились, болванов, то можно ожидать появления его на черном рынке. Вы антиквар, и, возможно, до вас дойдут какие-то сведения или даже слухи, сообщите, пожалуйста, нам, если вас это не затруднит. Добросклонцев встал. Поднялся и Пришелец. — Мне пора, — сказал Юрий Иванович. — Простите меня за неожиданное вторжение и за отнятое у вас время. Ипполит Исаевич развел руками, и жест этот говорил: да что там — раз надо, так надо. Он проводил гостя не до лифта, а лишь до двери и пожелал удачи. Расставшись, оба подводили итоги встречи, и, как ни странно, оба пришли к заключению, что встреча была полезной. Добросклонцев, опасаясь, что Пришелец может за ним следить, в управление не пошел, а направился пешком до Пушкинской площади, сел там на третий троллейбус и через час уже был у себя дома. В пути анализировал разговор с Пришельцем. Зачем Ипполит Исаевич, отвечая на его главный вопрос, вслух разбирал два возможных варианта нападения и при этом ставил себя в невыгодное положение? Конечно же, чтобы убедить в своей искренности. Впрочем, в искренность они играли оба, и оба не верили друг другу. Ставя себя в положение возможного наводчика, Пришелец тут же перечеркивал версию: он не такой чурбан, чтобы воспользоваться услугами заурядных уголовников, а в том, что они именно такие, болваны, Пришелец осторожно, без нажима, пытался убедить Добросклонцева. Юрий Иванович отдавал должное собеседнику: он тонко и, главное, уверенно вел партию. Все казалось естественно и логично. Разве что с Зубровым перебор получился, — хвастнуть решил и предупредить, смотрите, мол, какие у меня друзья, а потому и подозревать меня нелепо. Впрочем, кто такой Зубров, надо выяснить. Может, в природе такого не существует, или, нежели и есть такой, может, он о Пришельце никогда и не слыхал. Проверить не трудно. И что ж получается? Слишком упрямо, хотя и не грубо, Ипполит Исаевич отводит от себя подозрение. И чем настойчивей он это делает, тем больше на него падает подозрений. Но подозрения к делу не подошьешь, нужны неопровержимые факты, а их, пока нет. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 1 После ухода Добросклонцева Ипполит Исаевич почувствовал смертельную усталость, и не столько физическую, сколько духовную. К этой усталости примешивалось чувство настороженности и подозрительности, переходящее в тревогу. Он не верил ни одному слову Добросклонцева и считал, что его сегодняшний визит был не что иное, как своеобразная разведка. Ни в каком содействии Пришельца милиция не нуждалась, да и не могла рассчитывать на его помощь. Ипполит Исаевич допускал, что его подозревают в причастности к ограблению ювелира, но только подозревают: никаких фактов у следствия нет и быть не может. Стоило только так подумать, как в памяти всплывал Коньков. Где гарантия, что он не проболтается, не заговорит и не выведет следствие на Павлова? Анатоль — орешек твердый, на него можно положиться, но лучше бы этого не случилось. Ипполит Исаевич наполнил ванну теплой водой, сыпанул в нее хвойного порошка. Он вспоминал весь свой разговор с Добросклонцевым и мысленно похвалил себя за сдержанность и немногословие. Конечно, с Зубровым получилось нехорошо. Зачем было называть это имя? — упрекнул себя с досадой. Досада эта усиливала тревогу. Ипполит Исаевич разделся и вошел в ванну. Он лег на спину, подложив под голову поролоновую подушку. Расслабил мышцы и смежил веки, стараясь ни о чем не думать. Вообще не думать невозможно: он хоронился от неприятных мыслей. Никак не мог понять причины неожиданно нахлынувшей тревоги. Казалось, нет серьезной опасности. Никто не докажет, что он, Ипполит Пришелец, организовал налет на квартиру Бертулина. А Коньков? С Коньковым они незнакомы. Но… Коньков знает Павлова и еще — Коньков знает, зачем шли к, ювелиру, не за часами же. Павлову надо прекратить всякую связь с Коньковым, исчезнуть. А может, лучше исчезнуть Конькову? Исчезнуть навсегда. А это значит — «мокрое дело». Благословить на такое Пришелец мог только в крайнем случае. До сего времени крайнего случая не было. Да есть ли он и сейчас — Ипполит Исаевич не был уверен. Но отчего же такая тревога на душе? Он вышел из ванной, не испытав, как обычно, наслаждения и даже не почувствовал облегчения. На мокрое тело надел голубой, отороченный мехом махровый халат и лег на диван. Нужен срочно Анатоль. А он не звонит. И так всегда: когда не нужно, он мозолит глаза, а когда нужен, его днем с огнем не сыщешь. К тревоге добавилось чувство одиночества и неустроенности. В последнее время это чувство все чаще навещало его и в самое неподходящее время. Приходило оно обычно по вечерам, когда он один оставался дома в большой квартире, на вид такой обжитой, благоустроенной. Но в те часы казавшейся ему пустой, ненужной и чужой, словно он в ней временный жилец. Родители Пришельца умерли уже в послевоенные годы. Единственный брат его Михаил тогда же уехал в Венгрию и сейчас работает там в научно-исследовательском институте. У него семья: жена, двое детей. Иногда Михаил приезжает в Москву по служебным делам, и тогда братья встречаются на квартире Ипполита. Два раза побывал в Венгрии Ипполит Исаевич. Михаилу не нравится, что брат до сих пор не обзавелся семьей, живет бобылем и не имеет определенного занятия. Ипполит отшучивался: еще не встретил в жизни суженую. «Ты слишком разборчив», — говорил Михаил. «Не то слово, не разборчив, а требователен, — отвечал Ипполит. — Жена должна соответствовать высшим критериям. — Каким конкретно, он не уточнял, но тут же добавлял: — И вообще, семья ко многому обязывает, лишает свободы, а я люблю свободу и не желаю никому быть обязанным. „Нет счастья без свободы!“ — сказал какой-то классик, и я с ним вполне согласен». В этом была доля правды: Пришелец боялся, что семья свяжет его по рукам и ногам. У него было много знакомых, приятелей, но не было друзей. Не испытывал он недостатка и в женском обществе, по его собственному выражению «контингент был обширен и разнообразен», — от студенток-первокурсниц до сорокалетних замужних дам. Но среди этого множества и разнообразия не было той, которая растопила бы его черствую душу, зажгла в сердце тот огонек, если уж не огонь, который люди называют сладостным и нежным словом «любовь». Впрочем, возможно это не совсем так: Ипполит Исаевич считает, что первая любовь все же не прошла мимо него: она озарила его сердце двадцать лет тому назад, нашла молодого, только что получившего диплом инженера путей сообщения. В результате у красавицы Ольги появилась внебрачная дочь Альбина, ее первый — но увы! — не последний ребенок. Родилась Альбина за несколько недель до того, как отец ее сел на скамью подсудимых. Ольга рассудила трезво: такой отец не нужен ее ребенку, как и ей самой не нужен муж-уголовник. Молодая, красивая, обладающая незаурядным умом и прирожденной смекалкой, она поспешила выйти замуж за генерала, который только что отпраздновал свое пятидесятилетие. Генерал удочерил Альбину, а вскоре у них родился сын. Но судьба за что-то мстила молодой женщине: через год после рождения сына инфаркт оборвал жизнь ее мужа. Молодая вдова, не теряя времени, начала настойчиво и целеустремленно искать нового мужа на этот раз в Академии наук. И, как поется в популярной песне, кто ищет, тот всегда найдет. Новым избранником Ольги Николаевны оказался академик, но не от науки, а от изящных искусств. Одаренный живописец, еще не достигший пенсионного возраста, то есть шестидесяти лет, написав портрет Ольги Николаевны и получив за него золотую медаль лауреата, решит, что с его стороны было бы неразумно уступать такую модель кому бы то ни было. «Будешь навсегда моей», — сказал он натурщице во время сеанса в своей мастерской, и Ольга Николаевна ответила согласием, хотя и без особого восторга: художественный талант академика живописи намного превосходил его мужские достоинства. Тем не менее у Альбины появилась сестренка, а потом еще два брата, не похожих ни на Ольгу Николаевну, ни на академика живописи. Ипполит Исаевич встретился с Ольгой Николаевной совершенно случайно, на улице. К тому времени он уже отбыл назначенный срок в местах отдаленных, но еще не сумел упрочить свое положение в обществе. Встрече со своей первой любовью обрадовался, возможно, потому, что перед этим видел в журнале цветную репродукцию с ее портрета. Похоже было, что и Ольга Николаевна разделила его радость, предложив посидеть в ресторане, тем более, что муж ее в это время наслаждался искусством римлян в Италии. Из ресторана Ольга Николаевна позвонила к себе на дачу, отдала матери и домработнице необходимые распоряжения, сказала, что ночевать будет в Москве, и пригласила Ипполита Исаевича к себе домой на чашку кофе. Как это ни странно, ни в ресторане, ни на квартире художника, где Пришелец остался ночевать, не было разговора о детях вообще и об Альбине, в частности. Ипполит Исаевич не спросил о дочери, Ольга Николаевна тоже промолчала. Утром они обменялись телефонами, выпили по чашке кофе и расстались сухо и прохладно, будто и не было безумной ночи. Ольга Николаевна уехала к себе на дачу, Ипполит Исаевич — домой. Бумажку, на которой она записала свой телефон, он выбросил в мусорный ящик, дав себе слово больше никогда не встречаться со своей первой любовью. И слово это он держал крепко. Да и Ольга Николаевна с тех пор ни разу не напомнила о себе. Размышления его прервал телефонный звонок. Ипполит Исаевич поспешил взять трубку. Слава всевышнему — звонил Павлов. Не задавая обычного вопроса «ты где?», Ипполит Исаевич начальнически приказал: — Жду немедленно. Павлов появился минут через десять: он звонил из автомата от Пушкинской площади. Как всегда слегка возбужденный от быстрой ходьбы, в легкой куртке и без головного убора, подтянутый, с преданной готовностью во взгляде. На этот раз Пришелец ни в чем не упрекнул парня, сразу прошел в кабинет, сопровождаемый Анатолем, и опустился в кресло. Несколько минут Павлов стоял перед ним молча. Угрюмое молчание шефа и его озабоченно-подавленный вид красноречиво говорили, что случилось неприятное. Пришелец глянул на Павлова и взглядом пригласил садиться. — Дело принимает серьезный оборот, и если мы не примем срочных решительных мер, может кончиться популярной песней: едем мы, друзья, в дальние края, — угрюмо проговорил Пришелец. — Коньков — шваль, мусор. — Он сделал долгую паузу и стал рассматривать свои руки. Павлов знал эту манеру Пришельца: значит, всерьез встревожен. Не поднимая взгляда, Ипполит Исаевич произнес как приговор: — Он должен исчезнуть… Навсегда. Как — это твое дело. Он старался не смотреть на Павлова, который без труда догадывался, что от него хотят, и быстро соображал. Никакая самая совершенная электронно-вычислительная машина не могла тягаться с Анатолем в быстроте реакции. Этот природный дар Пришелец выше всего ценил в своем подручном. Он ждал от Павлова решения и знал, что оно не будет поспешным и потому скороспелым. — Я пошлю его в Одессу подышать морским воздухом, успокоить нервы и вообще, — сказал Павлов, как бы размышляя вслух и ожидая при этом мнения своего хозяина. Но тот молчал. Не желая испытывать его терпение, он продолжал: — Там его встретят ребята. Им я сообщу, что Коньков их предал, засыпался с часами и вообще… Дело повиснет на одесской милиции. — А ты уверен, что дело повиснет? — спросил Пришелец, сделав ударение на последнем слове. На обычном языке «повиснувшее дело» означало нераскрытое преступление, в данном случае убийство Конькова. — Каждый дорожит своей шкурой. Для одесских мастеров шкура Конькова дешевле коробки спичек. Они без сантиментов. — По алым губам Анатоля скользнула сухая ироническая улыбка. — Каким образом ты им сообщишь? — Письмом. К вам, мол, собирается Демьян. Учтите — это падла из подлюк, чтоб он подох или утонул в Черном море. Бойтесь его пуще врага заклятого… — Бред, собачий бред, — резко перебил Пришелец. И, поднявшись из кресла, взволнованно зашагал по комнате. — Письмо — документ, его можно подшить к делу. Соображаешь? — Павлов молча соображал, глядя в угол. А Пришелец продолжал уже твердо, уверенно: — Коньков поедет на юг поездом, а ты в тот же день вылетишь самолетом. И лично, лично предупредишь. Должна быть полная гарантия. Понял?.. — Голос его звучал жестко, повелительно. Это был приказ. — И как можно быстрей. Каждый лишний час задержки может привести к непоправимому. Сказав это, он ушел в спальню и возвратился с пачкой десятирублевых купюр. Протянул их Павлову: — Тут четверть. Полторы сотни отдашь ему на лечение. Сотня твоя. В Одессе с ним не встречайся. Возвращайся немедленно. Твое отсутствие в Москве не должно быть замечено. Вопросы есть? Павлов не успел ответить: помешал звонок в дверь. Оба настороженно посмотрели друг на друга. Они стояли затаив дыхание. Звонок повторился. Ипполит Исаевич снял тапочки, босиком подошел к двери и заглянул в глазок. За дверью стояла незнакомая девушка. Рядом с ней никого не было. Если б за дверью стоял незнакомый мужчина или даже пожилая женщина, Ипполит Исаевич не подал бы голоса, — до того были напряжены нервы только что состоявшимся разговором. Но вид молодой привлекательной девушки напрочь обезоружил его, разжигал любопытство, и Пришелец не устоял. — Одну минуту! — крикнул он в дверь и вернулся за тапочками. Девушка вошла в квартиру с какой-то деланной, заранее продуманной легкостью, радостная и возбужденная. Не снимая светлого распахнутого плаща, она бросилась к Пришельцу с распростертыми объятиями: — Здравствуй, папочка. — Звонким журчащим голоском щебетнула девушка и прильнула горячими губами к колючей щеке. И, покосившись на Павлова, доверительно спросила: — А это мой братец? Я не ошиблась? — Ты ошиблась, прелестное создание, — не сурово, а даже со снисходительной иронией ответил быстро оправившийся Ипполит Исаевич и подбородком указал Павлову на дверь. Анатоль исчез, и когда за ним бесшумно затворилась дверь, Ипполит Исаевич продолжал молча рассматривать нежданную гостью. Лицо ее казалось очень знакомым, хотя — он был абсолютно уверен, что видит девушку впервые. Она кого-то напоминала, вызывала в памяти что-то прежнее, давнишнее, позабытое. — Меня зовут Аля, Альбина, — виновато сказала девушка. — Разве мама тебе не говорила? Мама моя, Ольга Николаевна? Ольга Николаевна, Оля. Да, теперь все стало на свое место, прояснилось, вспомнилось, вызвав сложные чувства досады, неудовольствия, любопытства и даже сдержанной радости. Перед ним стояла не Альбина, которую он никогда не видел и не вспоминал, а Оля, далекая, пришедшая из юности, беззаботной, радужной, счастливой, сверкнувшей короткой вспышкой, после которой наступила черная ночь. Ипполит Исаевич почти машинально протянул руку, чтобы помочь девушке снять плащ. Повесив плащ, Ипполит Исаевич пригласил дочь в гостиную. Аля, переступив порог, остановилась у двери изумленная. Пришелец понимал состояние дочери: он читал его в ее восторженных глазах и сам испытывал удовольствие от ее восторга и удивления. Неожиданная встреча сняла усталость и напряжение необычно тяжелого для Ипполита Исаевича дня. — Проходи, — сказал он стоящей в нерешительности дочери, — я сейчас. Он ушел в спальню. Надо было переодеться, но это заняло бы какое-то время, а Ипполит Исаевич имел привычку не оставлять в квартире посторонних без присмотра. И он снова предстал перед дочерью в своем, как говорила Белла, сногсшибательном халате и отделанных мехом тапочках на босу ногу. Аля, стоя у стола, рассматривала дубовые стулья с высокими спинками из икон. — Ты извини меня за ультрадомашний вид, — усталым голосом заговорил Ипполит Исаевич, входя в комнату. — День сегодня чертовски тяжелый, устал, голова свинцом налита. Принял душ, собрался было отдохнуть. — А я помешала. Прошу прощения, но так вышло. Конечно, нежданный гость… — смущенно прощебетала Аля. — Неожиданный, нежданный — не в этом суть, — перебил Пришелец. — Важно, какой он: добрый или злой? С какими вестями приходит гость — вот в чем суть. — Из слов его Альбина поняла, что отец не испытывает ни восторга, ни радости от ее появления. — Да ты садись, садись. — Впервые вижу такие стулья с картинками. Как на иконах. — Они и есть самые натуральные иконы. — Пришелец отодвинул подальше от стола стул с иконой Серафима Саровского и солгал для пущей важности: — Семнадцатый век. Но слова отца не произвели на дочь никакого впечатления, ей было все равно, семнадцатый или двадцатый век. Она села на подвинутый стул основательно, глубоко и положила на стол обнаженные по локоть тонкие руки с ярким маникюром на беспокойных пальцах. — Сидеть на них неудобно: жестко, — с натянутой улыбкой сказала Аля. Ипполит Исаевич молча повел густой бровью, устроился напротив и, тоже положив на стол волосатые руки, постучал пальцами по столешнице мореного дуба. Он смотрел на девушку внимательно, цепко, и взгляд его, властный, самоуверенный, спрашивал: откуда ты взялась и зачем, с какой целью, что тебе нужно от меня? Ему хотелось знать: по своему желанию она пришла или кто-то подослал? «Ольга, копия Ольги», — думал Пришелец, рассматривая тонкую высокую шею, темные, с сизым отливом волосы, маленькие красивые уши, не обремененные сережками, и руки, гибкие, нежные. Аля интуитивно почувствовала его настороженность и подозрительность и, не зная, как быть, заговорила, с детской непосредственностью, глядя на отца смущенно и взволнованно: — Папа, ты не думай ничего такого, мне ничего не надо. Я взрослая, и у меня все есть. Мне только хотелось знать, кто мой отец, ну, понимаешь, просто хотелось посмотреть на тебя, какой ты. Я просила маму много раз, ну, словом, долго упрашивала. Она не хотела, а я была настойчивой, и она уступила. Такой у меня характер: если я что решила, то обязательно добьюсь. Мама говорит, что у меня твой характер. И улыбнулась доверчивой и немножко застенчивой улыбкой, как бы просящей прощения за откровенность и прямоту. То ли искренние слова ее, то ли внешний вид девушки — не дочери, а просто юной и такой красивой девушки, — смягчили Пришельца, сломали в нем барьер подозрительности. Глаза его потеплели. — Ничего, ничего, детка, это даже хорошо, что ты пришла. Я рад. Я сам тоже хотел встретиться с тобой, но твоя мама, увы… — Он лгал убедительно, привычно, прихлопнув своей ладонью, как птичку, ее маленькую, дрожащую от волнения, горячую руку. Он не спросил Алю о матери: зачем тратить время на пустые разговоры, а просто предложил: — Давай мы с тобой сварганим ужин. Ты умеешь готовить? Проверим твои кулинарные способности. Посмотрим, какая ты хозяйка. — И увлек дочь на кухню. Он шел сзади, слегка касаясь ее обнаженных локтей своими руками. Кухня просторная, с холодильником фирмы «Розенлев», с импортной мебелью и дорогой посудой, служила одновременно и столовой. Рядом с холодильником стоял телевизор. Не цветной, черно-белый, малогабаритный — «Юность». Цветной телевизор занимал почетное место в гостиной. Стены кухни в моющихся обоях с рисунком под красный кирпич. Под потолком старинный фонарь из разноцветного рельефного стекла — вещь дорогая, антикварная. И вообще, здесь все поражало воображение Альбины богатством, оригинальностью и вкусом. Пришельцу нравился откровенный восторг дочери. Когда стол был сервирован, Ипполит Исаевич сказал, что по такому чрезвычайному случаю не мешало бы распить бутылку шампанского, но, к сожалению, последняя была выпита вчера, а потому он предложил своей гостье не менее благородный напиток — «Русский сувенир». — Ты знаешь, что это такое? Когда-нибудь пила? Нет; Бедное дитя. Это чудо, эликсир-бальзам, мечта аристократок и кинозвезд. Он извлек из кухонного стола поллитровую бутылку и водрузил ее на стол. Альбине хотелось хоть час побыть в роли аристократки и кинозвезды. Напиток ей понравился: сладкая, густоватая влага, казалось, растекается по всему телу благостным теплом. После первой рюмки, которую пили за встречу и за знакомство, Пришелец попросил дочь рассказать о себе: чем занимается, где живет — и все такое. Она рассказывала охотно: работает стюардессой авиалайнера на международных трассах. Правда, стаж совсем маленький — всего один год. Но она довольна, даже очень. Интересно мир посмотреть. И вообще; в этой профессии есть что-то романтичное и неземное. Как. говорил штурман лайнера, полжизни проводишь под облаками. А потом — разные города, страны, континенты. Профессия дочери вызвала живой и далеко не бескорыстный интерес Пришельца. Он не навязчиво, а как бы между прочим полюбопытствовал об условиях быта экипажа в зарубежных аэропортах, режим, возможность общения с «туземцами», что можно купить и главное — провезти через таможенный кордон. Альбина отвечала живо, воодушевляясь от каждого глотка ароматного напитка. Щеки ее пылали ярким свежим румянцем, темные вишневые глаза радужно и восхищенно искрились. — Мама знает, что ты у меня? — Нет, я сказала, что поехала к подруге. — Она не будет волноваться, если ты останешься здесь. Нам о многом надо поговорить. — Нет, конечно. Я позвоню ей. — Только не говори, что ты у меня, Лучше потом, при встрече. Скажи, что ты у подруги ночуешь, — посоветовал Пришелец, наполняя рюмки. — А я вообще могу не звонить, — решила Аля. — Я человек взрослый: и вполне самостоятельный. У мамы есть хорошая черта — она не опекает нас, дает полную свободу. Она вполне современная женщина. — И правильно: опека — это цепи рабства, насилие над личностью, — одобрительно отозвался Пришелец. — Папа, а ты как живешь? Ты о себе ничего не рассказал, — осторожно спросила Альбина. — Будет время, наговоримся, — уклончиво ответил отец и снова потянулся к «Русскому сувениру», наполнил сначала ее рюмку, затем налил себе коньяку. Но до рюмки не дотронулся и продолжал неторопливо, с торжественными нотками в голосе: — В знак нашей встречи, нашего знакомства я хочу преподнести тебе не просто сувенир, а ценный подарок, точнее — драгоценный. — С этими словами он встал из-за стола и величественно ушел в кабинет. Аля ждала с нетерпеливым любопытством. Отец долго не возвращался. Она решила, что он переодевается: не совсем прилично при взрослой девушке, хотя она и дочь, сидеть в халате. Ей захотелось пройтись по квартире, осмотреть отцовские хоромы, но вставать было лень. Возбуждение сменилось тихим блаженством и умиротворенностью. Пришелец вернулся все в том же халате и тапочках на босу ногу. На ладони вытянутой руки лежала зеленая бархатная коробочка. Открыв коробочку, Аля ахнула: на золотом колечке сверкнул игристым огоньком бриллиант. Она надела на тонкий палец колечко и с детской непосредственностью спросила: — Настоящий? В ответ он молча кивнул, хотя прекрасно знал, что алмаз был искусственный, созданный в лабораторных условиях и обладающий почти всеми качествами природного алмаза, и только специалисты могут отличить натуральный алмаз от фианита. — Спасибо, папочка, можно тебя поцеловать? — Ее глаза светились восторгом. «Конечно же, не только можно, но и нужно», — мысленно произнес он и приблизился к ней. Аля встала, обхватила его рукой за шею и хотела поцеловать в щеку, но он подставил губы и сам поцеловал ее, и совсем не по-родственному, а так, как целовал своих сожительниц. Его поцелуй несколько смутил Алю, и он почувствовал ее смущение и, чтоб как-то сгладить его, щедро пообещал: — К этому колечку нужны такие же сережки. Комплект-гарнитур. Ты довольна? Будешь умницей, раздобудем и сережки. Он смотрел на Алю пристально, изучающе, хотелось отыскать в ней свои черты, ну хотя бы черточка во внешности, в характере. Тонкие брови ее, точно росчерк пером, касались черных упругих волос, падающих жесткой челкой на узкий лоб. Глаза темные, блестящие, восторженно-смеющиеся. «Это не от Ольги и не от меня, — подумал Пришелец. — Ольга в ее годы была посерьезней. А эта дурочка или играет дурочку? И что все-таки она взяла от меня? Пожалуй, ничего. А может, и в самом деле она не моя дочь? Да мало ли… У Ольги были поклонники и до замужества и после». — Ты одинок, папа, а? Совсем одинок? — Слова дочери были тягуче расслабленные, как и мысли. Он понимал нехитрый смысл вопроса, но ответил уклончиво: — Чувство одиночества мне еще не знакомо. Оно — удел стариков. А я к ним не принадлежу. Я из породы тех, о ком говорят: мужчина в расцвете лет. — Папа, дорогой, я о тебе ничего не знаю. Кто твои родители, откуда наш род? Мне это надо знать. Ну понимаешь, мне не для анкеты, для себя. — Родословная твоя знаменитая. Мой отец, а твой дед был известным адвокатом. Мой дед по матери — генерал-майор, другой дед, по отцу — пермский соборный протоиерей. Да и другие предки не подкачали. Экспромтом сочиненная родословная была воспринята Алей с восторгом и гордостью. — А тот юноша? Ну, который был у тебя сейчас, твой сын? Вопрос этот вызвал у Пришельца снисходительную улыбку. — Мой секретарь. У меня есть дочь, единственная моя наследница, прекрасная Аля. За ее здоровье мы сейчас и выпьем. — Папа, я уже пьяна. Может, хватит? — Надо: за наследницу — и до дна. Ну как не уважить такого отца? Наследницей объявил, наследницей такого богатства, всего вот этого, что мельком успела увидеть Аля, но уже догадывалась, какие сокровища собраны в этих апартаментах. И она лихо, по-мужски, выпила до дна. В народе говорят: опасна последняя рюмка, пьянит она, сшибает с ног, лишает памяти — эта коварнейшая последняя рюмка. Не пить бы ее, и все было бы хорошо. Но как узнаешь, какая она последняя, как отличить ее от предпоследней, особенно когда тебе двадцать лет и ты только начинаешь познавать мир, в котором тебе все кажется разумным, добрым и вечным? А эти рюмки, узенькие, высокие, сверкающие гранями звонкого хрусталя, да они сами зовут и манят. И Аля пила и уже не понимала, что она пьяна, — ей все казалось погруженным в розовый туман, сквозь который бриллиантовыми блестками сверкал и струился хрустальный луч, да звучали весомые, полные глубокого смысла слова отца. Впрочем, в смысл его слов она не вникала, достаточно было голоса и тона, уверенного и твердого, чтобы дать волю хмельному воображению. Пришелец смотрел на дочь. Темные хмельные глаза его светились хищными огоньками. В них не было и тени сомнения, был неукротимый азарт рыси, затаившейся на дереве и готовой к решающему неотразимому прыжку на свою жертву. Он считал себя высшим существом на этом свете, которому все дозволено. Он не мог, да и не хотел сдерживать свои инстинкты. «Хорошо» и «плохо» он понимал исключительно в личном плане: все хорошо, что доставляло ему радость и удовольствие, а все, что доставляло ему неудобства, что было противно ему, это относилось к категории плохого. Аля выпила последнюю рюмку, когда в поллитровой бутылке оставалось совсем ничего, каких-нибудь сто граммов напитка. …Ей снились кошмары: она падала в бездну, зажатую холодными скользкими скалами, на острых выступах которых сидели гигантские чудовища, похожие на жаб и крокодилов. Они издавали странные гортанные звуки, похожие на карканье ворон, и это карканье переходило в злорадный хохот, надрывное, дребезжащее эхо от которого раздавалось в темной глубине пропасти. То ли от ужаса, то ли от этого жестяного карканья Аля проснулась, однако не ощутила того внезапного: облегчения, которое обыкновенно наступает после пробуждения от кошмарных сновидений. Неприятные звуки продолжались и наяву, здесь, где-то совсем рядом с ней. Только теперь это был храп, резкий, глубокий, с завыванием и присвистом. Первое мгновение она не могла сообразить, где она находится. Ей хотелось закричать, но не было силы это сделать: состояние беспомощности и беззащитности сковало ее, лишив даже голоса. Не открывая глаз, инстинктивно натянула одеяло на голову и в ту же секунду поняла, что она совершенно нагая, и ощутила неизвестную ей ранее тяжесть своего тела, словно оно принадлежало не ей, а кому-то другому. Налитая свинцом голова, казалось, наглухо прикована к подушке. Во рту пересохло, и было ощущение чего-то отвратительного, мерзкого. И потом этот храп, чужой, непонятный, заставил ее, затаив дыхание, сжаться в комочек, не шевелиться. Страх парализовал ее. Мысль лихорадочно металась в поисках ответа на единственный и главный вопрос: где она и как здесь оказалась? Память выхватывала отрывочные бесформенные эпизоды, вернее, оборванные части эпизодов, Аля торопливо силилась как-то связать их, склеить в цельную картину, но жуткий храп мешал сосредоточиться, пугал и подавлял волю. Тупая, ноющая боль ощущалась во всем теле, беспомощном, чужом. Природный инстинкт стыдливости заставил ее дотронуться до своей груди, и вдруг она почувствовала прикосновение чего-то постороннего. «Кольцо!» — мелькнуло в сознании. И опять провал в памяти. Ей было плохо, да, ее тошнило, она была в ванной, судорожно держалась за края раковины и думала, что умирает. Первый раз в жизни ее тошнило, можно сказать, все нутро выворачивало. Потом ей стало легче, ее уложили в постель, помогли раздеться. Кто был тот добродетель? Ив ответ на ее мысленный вопрос она слышит дребезжащее «Хррр-си…». Он, отец!? Аля решительно сдернула с лица одеяло. Слабый свет ночника колко ударил в глаза. Пришелец лежал на спине, заложив за голову обе руки. Взгляд ее остановился на мраморной скульптуре полуобнаженной девушки. Ей показалось, что девушка эта вырвалась из лап двуногого животного и, полураздетая, убегает из мерзкого дома, пропитанного отвратительным запахом тления. «Это я, это было со мной!» — пронзила страшная мысль, к горлу подступил комок. Закрыв ладонями лицо, Аля зарыдала, забилась в истерике. Стон ее разбудил лежащего рядом на широкой постели Пришельца. Он протер глаза, натягивая на себя одеяло, с деланным участием и недоумением спросил: — Что с тобой, детка? Что случилось? Ты уж извини… Тебе не надо было пить… моя вина: я должен, был сказать «стоп!». Я не сказал, тоже был пьян, увлекся на радостях. Голова трещит. — Он театрально схватился обеими руками за голову и закрыл глаза. Потом мельком взглянул на Алю и продолжал: — Я понимаю, тебе было плохо. Это пройдет. Сейчас выпьем крепкого кофе, и все пройдет. Все будет хорошо. Ничего страшного. В жизни всякое случается… Его невозмутимый тон почему-то вызвал у нее страх. — Уйди! — закричала девушка. И в слове этом Пришелец услышал ненависть и презрение. Он встал с постели и, прихватив шерстяной спортивный костюм, ушел в ванную. Пока он умывался, ; обдумывая, как вести себя дальше, пока облачался в спортивный костюм, Аля оделась, и Пришелец только услышал, как щелкнул замок и хлопнула входная дверь. — Ушла, — выйдя из ванной, облегченно вздохнул он. Не было у него ни сожаления, ни угрызений совести, лишь холодная пустота там, где сердце, да неприятная горечь, решил — от коньяка. И вспомнил о бриллиантах, о тайнике, где они хранились и который ему вчера пришлось вскрывать, чтобы извлечь кольцо для дочери. Он зашел в спальню убедиться, оставила Аля его подарок или взяла с собой. Ни на туалетном столике, ни на тумбочке возле кровати кольца не было. «Ну и пусть, — без особого сожаления подумал он и тут же прикинул в уме: — Хотя семьсот двадцать пять рублей на дороге не валяются». 2 Весь день Пришелец не мог избавиться от смешанного чувства досады и беспокойства. Это чувство ему было хорошо знакомо, он испытывал его всякий раз, когда, слишком увлекшись и потеряв над собой контроль, допускал промах, который мог впоследствии закончиться серьезными неприятностями. Такое на него находило довольно часто, иногда он даже не мог докопаться до причины. На этот раз был страх. Его беспокоило подаренное дочери кольцо с фианитовым бриллиантом, то, что именно это, а не какое другое кольцо, оказалось у дочери. А вдруг она сдаст его в комиссионный магазин, и тогда оно может оказаться той ниточкой, по которой следствие «неизбежно выйдет на него». При этой неприятной мысли Пришелец вспомнил своего приятеля Зуброва Михаила Михайловича, с которым судьба повязала их одной веревочкой. С Зубровым они познакомились во время антикварной деятельности Ипполита Исаевича. Зубров коллекционировал иконы и вообще предметы старины. Смекалистый Пришелец быстро сообразил, что такой человек, как Михаил Михайлович, может при случае пригодиться, и для начала оказал ему кое-какие услуги. Это был своеобразный аванс с дальним прицелом. Зубров как-то в шутку назвал Пришельца промысловиком и при встрече обычно спрашивал улыбаясь: — Так чем теперь промышляет наш промысловик? — Наш промысловик ведет скромный образ жизни представителя творческой интеллигенции, — в тон ему отвечал Ипполит Исаевич. Давно прошло то время, когда Пришелец промышлял иконами и разного рода антиквариатом, самолично присвоив себе титул искусствоведа. Тот промысел помог ему сколотить твердый капитал, своего рода финансовую базу, на которой можно было с широким размахом заняться более солидным бизнесом. И Пришелец занимался с вдохновением и. азартом, во всю силу таланта предпринимателя. После икон и антиквариата, занятия которыми едва не довели Ипполита Исаевича до скамьи подсудимых во второй раз, пришлось срочно переквалифицироваться на меха. Дело это оказалось весьма выгодным, меха с каждым годом набирали в цене, и Пришелец, занимаясь посредничеством между продавцом и покупателем, в течение года прибавил к своему антикварному капиталу еще кругленькую сумму. (Тогда-то он и познакомился с Ильей Марковичем Норкиным.) Продавцами были не только знакомые директора меховых магазинов и ателье, но и заурядные алчные браконьеры. Последние и отпугнули Ипполита Исаевича от мехового промысла. Лишенные чувства осторожности, зарвавшиеся бесшабашные хищники, они вскоре попали в поле зрения следственных органов и потянули за собой Пришельца. Для новоявленного меховых дел мастера все могло кончиться весьма печально, не приди на выручку Зубров. Благодарный Ипполит Исаевич не остался в долгу: четыре собольих шкурки самого высшего сорта он вручил своему спасителю, сказав при этом: — Надеюсь, супруга ваша будет довольна. Супруге Зуброва не довелось увидеть и оценить этих действительно отменных соболей: их хозяйкой в тот же день стала Наталья Максимовна — жена доктора технических наук, профессора Антона Фомича Ященко. Надо сказать, что Михаил Михайлович особой щедростью не отличался, и Наталье Максимовне пришлось расплачиваться за соболей искусственными алмазами, к которым, используя свое служебное положение, имел доступ ее предприимчивый супруг. Фианиты Зубров принял от своей возлюбленной без особого восторга: он не представлял, каким образом их можно пустить в дело, и вообще не видел ценности в этих необработанных минералах — продукте технического прогресса. Однажды как бы случайно он заговорил о них с Пришельцем. Ипполит Исаевич выслушал своего приятеля с вниманием, но особого интереса не проявил. Впрочем, попросил один «камешек», чтобы проконсультироваться со специалистами. Он, конечно же, имел в виду знакомого ювелира Бертулина. Арсений Львович, мельком взглянув на алмаз, с деланным равнодушием сказал: — Сырье. Пока что это полуфабрикат. — А если его обработать? — поинтересовался Пришелец. — Может сойти за бриллиант. — И после паузы многозначительно прибавил: — Если повезет. Арсений Львович рассказал своему приятелю, что есть один банщик в Москве по имени Алексей Соколов, который когда-то занимался гранильным ремеслом. Попытайтесь, мол, с ним связаться, авось тряхнет стариной. И когда Бертулин назвал баню, в которой Пришелец был завсегдатаем, Ипполит Исаевич готов был плясать от радости. Но сдержал себя, ни словом, ни даже видом не дал знать, что он хорошо знаком с Алексеем Соколовым; напротив, сделал равнодушное лицо и тот час же перевел разговор на другое. Блеск бриллиантов всегда приводил Пришельца в состояние безумного восторга, в котором почти зоологическая алчность и патологические грезы сливались в нечто общее, болезненное и жестокое. Иногда он часами мог рассматривать в витринах ювелирных магазинов бриллиантовые кольца, серьги, броши, Но не изящество вещи, не искусство ювелира, а цена мутила разум Ипполита Исаевича. Вот ведь махонькая вещица, с булавочную головку, а по стоимости равна автомашине, рассуждал он, и тогда в его памяти почему-то возникали сокровища Ризницы в Троице-Сергиевой лавре. В память его врезалась одна митра, расшитая жемчугом и унизанная бриллиантами. Ему хотелось знать цену этой митры, он спрашивая экскурсоводов, но те почему-то уклонялись от ответа, и тогда один из посетителей Ризницы, мужчина солидный и, видно, бывший здесь не в первый раз, авторитетно и доверительно сказал ему вполголоса: — Одиннадцать миллионов. Не считая художественной ценности. Просто если извлечь бриллианты и жемчуг, то они потянут на такую сумму. — Не может быть! — воскликнул изумленный Пришелец. — Это достоверно? — Если я говорю, значит, знаю, — с видом собственного достоинства ответил мужчина, и, обиженно отвернувшись, отошел в сторону. С Алексеем Соколовым они договорились легко. Первый ограненный Соколовым алмаз привел вообще-то сдержанного на похвалы Пришельца в восторг. Он мечтал о большом алмазном бизнесе, видел себя этаким Оппенгеймером, бриллиантовым королем, перед которым все двери открываются, стоит только ему появиться у порога. Правда, его неудержимая фантазия преувеличивала алмазные ресурсы Зуброва, но волчьим чутьем догадывался, что полковник имеет солидный запасец полуфабрикатов, и алмаз, который Алексей Соколов так мастерски облагородил, был не единственным. И он не ошибся. Заурядная внешность Натальи Максимовны Ященко с лихвой компенсировалась неукротимой самоуверенностью, энергией и страстным, увлекающимся сердцем. Она принадлежала к типу тех женщин, которые вопреки истине внушали себе мысль, что они неотразимы. И что удивительно, умеют и других заставить поверить в свою неотразимость. Особым умом Наталья Максимовна не блистала, но зато решительность, настойчивость и апломб вполне заменяли ей ум и эрудицию. В свои тридцать лет она сохранила стройную, хотя и расположенную к полноте фигуру, обзавелась легкой проседью, которая даже украшала ее пышную копну каштановых волос. Муж ее, Антон Фомич Ященко, был старше своей супруги на двадцать три года, впрочем, эта разница в летах до последнего времени, не бросалась, в глаза. Антон Фомич когда-то, лет двадцать тому. назад, с геологами бродил по якутской тайге в поисках алмазных месторождений, и не безуспешно, о чем свидетельствовала золотая медаль лауреата. В последние десять лет, несколько изменив профиль своей специальности, он работал в области выращивания искусственных алмазов и, надо полагать, тоже преуспел, поскольку кандидатуру его выдвинули для баллотировки в членкоры, и теперь Ященко с нетерпением ждал очередного общего собрания академии и был уверен, что его непременно, изберут. Он уже наперед догадывался, кто из академиков проголосует за и кто против. Антон Фомич боготворил свою супругу, как говорится, души в ней не чаял, считал для себя счастьем исполнять все ее желания и прихоти. Он с гордостью называл ее «моя королева», верил и доверял ей как самому себе и стыдился чувства ревности, которое нет-нет, да и вспыхивало в нем, когда Наталья Максимовна откровенно кокетничала с мужчинами моложе и поинтересней его. Ему все в ней нравилось, все казалось необычным, оригинальным, свойственным только ей: характер, жесты, голос, зубы со щербинкой, ямочка на круглом подбородке, родинка на правой лопатке и даже плохо скрываемый холодок в глазах, когда она возвращалась со свиданий с Зубровым, впрочем, о свиданиях этих Антон Фомич мало что знал. Наталья Максимовна когда-то мечтала о театральных подмостках, но ее вокальные данные не позволили подняться выше областной филармонии, где ее и нашел профессор Ященко, только что расторгнувший брак со своей первой женой. Наталья Максимовна рассталась с филармонией сразу после замужества, но продолжала, считать себя актрисою и с удовольствием пела на пирушках в компании друзей и сослуживцев мужа, доставляя радость Антону Фомичу, который обычно шептал кому-нибудь из своих знакомых: «Попросите Наташу спеть». Наталья Максимовна любила комфорт, дорогие и Модные наряды были ее страстью, и, как сказал однажды Антон Фомич Зуброву: «Красивая жена — дорогая жена». Михаил Михайлович с недавних пор стал другом их дома. Самонадеянный и властолюбивый, Зубров обращал на себя внимание импозантной внешностью и пользовался неизменным успехом у женщин. Рослый, подтянутый, мускулистый, с резкими, но правильными чертами лица, голубоглазый брюнет, он покорил страстную и самоотверженную в любви Наталью Максимовну. Наталья Максимовна как-то сказала Михаилу Михайловичу, что их связывает родство душ. Зубров не возражал. Он тоже умел показать себя с лучшей стороны, изображая воплощение безупречности. Как и Наталье Максимовне, ему были присущи самоуверенность, надменность, властность и развязность. И если привыкшая повелевать Наталья Максимовна командовала только своим мужем, то власть Зуброва ощущал на себе довольно широкий круг людей. В их число входила, между прочим, и властолюбивая, своевольная Наталья Максимовна, покорившаяся более властному и более себялюбивому Зуброву. Это было скорее родство характеров, чем душ. Она полюбила Зуброва не за характер, а скорее за его возраст, за расцвет жизненных сил, за то, чем уже не мог похвастаться Антон Фомич, которого она, по ее искреннему убеждению, тоже по-своему любила и продолжала любить. Любовь, она ведь разная — на весах ее не взвесишь, метром не измеришь, на вкус не испробуешь. Она разнолика как природа. Ведь и Зубров тоже любил свою Наточку, любил эгоистично, за алмазы, хотя себя убеждал, что это искреннее чувство. Пользуясь своим служебным положением, предприимчивый Ященко сумел создать довольно солидный запасец как натуральных, так и искусственных алмазов, но, будучи человеком осторожным, даже трусоватым, он не спешил обращать эти камешки в капитал, и до знакомства с Зубровым через своего шурина Семена Фесенко, проживавшего в Кишиневе, сбыл всего два небольших алмаза, получив за них далеко не ту сумму, на которую рассчитывал. Вообще он долго и осторожно выбирал компаньона-посредника, через которого можно было бы превратить алмазы в деньги. Честный, порядочный для такого дела, естественно, не годился. Нужен был жулик, но свой, доверенный. Шурин был из таких. Война застала Семена на границе, и в первые же часы войны он угодил в лапы гитлеровцев, но в тот же день ему удалось бежать из плена. Потом, уже спустя много лет после войны, решив, что из его однополчан никого не осталось в живых, Семен Фесенко сочинил целую легенду о своих мнимых подвигах, поведал ее доверчивому журналисту, и легенда эта вскоре превратилась в печатное слово, к которому люди питают, непогрешимое доверие. Надо сказать, что придуманная Семеном Фесенко легенда была построена на подлинной документальной основе: то есть в ней присутствовала доля правды. Ложь состояла в том, что подвиги других Фесенко приписал себе. Вскоре появились участники и свидетели тех баталий, которые описывал самозваный герой, пошли возмущенные письма в редакцию и музей, куда Семен уже успел передать свои «воспоминания». Антон Фомич об этом узнал случайно, однако умолчал, решил не ставить шурина в смешное положение до поры до времени. А когда Фесенко «надул» и его с алмазами, то есть выплатил ему немыслимо малую сумму, Ященко решил не иметь с ним больше дела. И вскоре у Антона Фомича появился новый знакомый — Яков Николаевич Земцев, человек его круга, занимающий солидную должность и весомое общественное положение. Внешне они были совсем не похожие друг на друга люди. Огромный, тучный, угрюмый, с мясистым скуластым лицом и густой копной седеющих голос, Антон Фомич Ященко выглядел внушительно, монументально и даже благородно. Земцев же напротив: невысокого роста, бритоголовый, поджарый, со смуглым треугольным лицом, которому бесстрастно сомкнутые тонкие губы придавали черты деловитости, одетый всегда безукоризненно и со вкусом, он умел внушить к себе уважение. В отличие от Ященко Земцев был сдержан, с подчиненными высокомерен и покровительственно грубоват, с равными приветлив и любезен. Работал в сфере внешней торговли, в служебной деятельности преуспевал, слыл активистом-общественником. По долгу службы он часто выезжал за границу, закупал у различных фирм новейшее медицинское оборудование и приборы. Не сразу Антон Фомич завел с ним разговор об имеющихся у него камешках, с которыми он якобы не знал, что делать. Заговорил вроде бы посоветоваться. Мол, и выбрасывать жалко, и предложить официальным органам рискованно: начнутся неприятные вопросы: где взял? Земцев выслушал его внимательно, легко догадался, к чему этот разговор, однако личной заинтересованности ни словом, ни видом не проявил, лишь понимающе посочувствовал. Но немного погодя сказал довольно равнодушным тоном, что есть у него один знакомый, который как-то интересовался алмазами. Если, мол, желаете, могу с ним переговорить. К сожалению, человек этот на встречу и на знакомство не пойдет в силу разных обстоятельств, но он, Земцев, может показать ему эти «камешки». Ященко согласился и дал своему новому приятелю два небольших алмаза при этом Яков Николаевич поинтересовался, какую цену назначает Антон Фомич. Ященко понял, что никакого знакомого, интересующегося алмазами, у Земцева нет, что он сам хочет их купить, да к тому же по дешевке. Он назвал не очень дорогую сумму, что называется, без запроса. Через несколько дней Земцев передал Антону Фомичу деньги и спросил, нет ли у него еще «камешков». Ященко неопределенно ответил, что лично у него нет, но у жены, возможно, что-то есть. Спустя какое-то время Ященко сообщил Земцеву, что у Наташи действительно нашлось три «камешка», но она за них хотела бы получить в два раза дороже, чем получил он, Антон Фомич. Для вида Земцев заколебался, но в конце концов договорились о цене, приемлемой для обеих сторон. Фианиты Земцева не интересовали. Незадолго до того, как последние натуральные алмазы были вручены Земцеву, Ященко познакомились с Зубровым, который с первой встречи произвел неотразимое впечатление на Наталью Максимовну. Наталья Максимовна вообще принадлежала к широким натурам, во всяком случае, прижимистой ее никак нельзя было назвать. А для Зуброва она ничего не жалела, и будь у нее горсть алмазов, она осыпала бы ими своего возлюбленного. Но естественными алмазами успел завладеть Земцев, и Зуброву пришлось довольствоваться фианитами, которые он затем продавал Пришельцу. Ипполит Исаевич с помощью банщика Соколова превращал искусственные алмазы в бриллианты. Так складывалась цепочка, главным звеном в которой был Ипполит Исаевич. Став компаньоном Зуброва, Пришелец задался вопросом: откуда у того фианиты? Ответ пришел как-то неожиданно: однажды он встретил в ресторане «Прага» Зуброва с Натальей Максимовной и Антоном Фомичом. Михаил Михайлович отрекомендовал своим друзьям известного искусствоведа, антиквара и вообще безупречного ценителя всего изящного. — Представляешь, Антон Фомич, его квартира — сокровищница. Филиал Третьяковки и Оружейной палаты, — говорил Зубров. — Есть даже скульптура обнаженной девушки — настоящий Роден! Это была непростительная оплошность Зуброва, потому что Наталья Максимовна, сверкая игривой улыбкой, тут же спросила: — А можно ли простому смертному попасть к вам, чтобы хоть одним глазком посмотреть на бесценные сокровища? — Простому смертному нельзя, но для вас, для друзей моего друга, в порядке большого исключения мой храм всегда открыт, — подчеркнутая любезность прозвучала в сладком голосе Пришельца. Он протянул Наталье Максимовне свою визитную карточку. Ященки не замедлили воспользоваться любезностью Ипполита Исаевича и в ближайшие дни посетили его «Музей-квартиру». Так Пришелец узнал о профессии Антона Фомича и без особого труда нашел ответ на свой вопрос: откуда у Зуброва фианиты. Он понял, что его друг выступает в роли посредника между ним и Ященками и имеет на таком посредничестве немалый куш. «Это несправедливо, — сказал себе Пришелец. — Зубров мне друг, но денежки у каждого свои. К черту посредников!» Таким образом у четы Ященко появился еще один клиент на фианиты. Оплошность, допущенная Зубровым в ресторане «Прага», обернулась для него потерей «акций»: теперь Пришелец покупал у него фианиты по той же цене, что и у Антона Фомича. Благодаря старанию и усердию Алексея Соколова, которого интересовали не столько деньги, сколько работа гранильщика, Пришелец стал обладателем доброй горсти бриллиантов. Они и радовали его и в то же время повергали в уныние, когда он, наклонясь над витриной ювелирного магазина, рассматривал изделия из натуральных алмазов и фианита. Он видел разницу, и не столько в переливчатом сверкании граней, сколько в цене. Колечко с фианитом стоило от шестисот до тысячи рублей, в то время как с натуральным бриллиантом — от двух до пяти тысяч. Именно там, у ювелирной витрины, Ипполита Исаевича осенила дерзкая идея. Он присмотрел очень изящное колечко с натуральным алмазом, приблизительно такой же величины, как его собственные фианиты, обработанные Соколовым. Кольцо стоило немалых денег, но решительный и одержимый в своей страсти Пришелец не поскупился — купил. Он отдавал себе отчет в том, что идет на большой риск, но ничто уже не могло остановить его, удержать от сомнительного шага — слишком заманчивой казалась перспектива. С этим кольцом он и направился в Дядино к Арсению Львовичу, заранее предвидя, что разговор с ювелиром будет трудным и, возможно, безрезультатным. Бертулин встретил Пришельца холодно и настороженно, как, собственно, и ожидал Ипполит Исаевич. Чтобы смягчить отчужденность ювелира, Пришелец прибегнул к испытанному приему: выложил несколько сенсационных фактов, известных лишь узкому кругу избранных, затем, когда Бертулин и в самом деле внутренне расслабился, между прочим сообщил, что один из налетчиков, а именно Коньков, исчез. А так как не было заявлений от потерпевших, милиция решила дело это закрыть, рассказал он, подчеркивая в разговоре свою дружбу с Зубровым и даже с людьми рангом повыше. Он и прежде при встречах с Бертулиным — а они были всегда деловыми — козырял именами влиятельных и почтенных особ. На этот раз ему важно было убедить Арсения Львовича, что он, Пришелец, не имел никакого отношения к тому дерзкому нападению на квартиру ювелира, а оказался, как и ее хозяин, жертвой. Поведал Ипполит Исаевич как другу, разумеется, и о своих слабостях. Признался: — Люблю красивых женщин. Грешен. Удовольствие, как вы понимаете, дорогое. Недаром же мы говорим им «Дорогая моя». А красивая — она всегда дорогая. Сувенирчик желает иметь от дорогого — колечко, сережки, да что б с камешком, чтоб поизящней да драгоценней. После такого признания Ипполит Исаевич достал восемь сверкающих фианитов, три золотые царские монеты десятирублевого достоинства и небольшой слиток золота и спросил, сможет ли дорогой Арсений Львович сделать восемь бриллиантовых колечек. Слитка для восьми колец с лихвой хватит. А что касается монет, то их щедрый клиент просто дарит искусному мастеру в знак признательности и глубокого уважения. Бертулин знал цену десятирублевок с портретом Николая второго: на черном рынке в Москве пятьдесят-семьдесят рублей за штуку, за хребтом Кавказа — по сто рублей. Он положил на ладонь все три монеты, опуская руку вниз-вверх, точно взвешивал их. Потом надел лупу и стал внимательно рассматривать одну монету, словно определяя, не фальшивые ли. Нет, в их подлинности он не сомневался, только почему-то заметил походя и просто, без намека: — Новенькие. Впечатление такое, будто только что с Монетного двора. — У попа на икону выменял, — убежденно солгал Пришелец. Врал он отчаянно и вдохновенно. Монеты эти и в самом деле были новенькими, только что из-под пресса, и делали их из жидкого ворованного золота, превращенного ловкими махинаторами в твердое. Делали искусно, соблюдая пробу и вес. Чувствуя сомнение ювелира, прибавил: — За работу я уплачу все, как полагается, честь по чести. — Форма оправы? — кратко спросил Бертулин, и это прозвучало как согласие. — Вот такая. — Пришелец достал из кармана бриллиантовое кольцо, купленное в магазине, где директором работал его не то чтобы приятель, но вполне надежный человек, вроде того прораба из реставрационных мастерских, вместе с которым они переводили «излишки» жидкого золота в твердое. Впоследствии лишь одно из восьми колечек, наготовленных Бертулиным, Пришелец подарил представительнице прекрасного пола — своей дочери Але, да и то сгоряча, к тому же под сильным влиянием спиртного. Он был не настолько щедр, чтобы разбрасываться подобными подарками. 3 День девятого мая выдался солнечным и теплым, будто сама природа хотела угодить людям в их светлый праздник. Добросклонцевы решили провести День Победы за городом, у тестя Юрия Ивановича — Вячеслава Александровича Ермолова, пенсионера, кавалера ордена Отечественной войны первой степени, трех орденов Славы и многих медалей. Вячеслав Александрович прошагал дорогами войны, что называется, от звонка до звонка, то есть с июня сорок первого по май сорок пятого, три года тому назад ушел на пенсию и жил в собственном деревянном домишке в дачном поселке, расположенном на полпути от Москвы до Дядина. Добросклонцев пригласил и Станислава Беляева с женой к Ермолову, чтобы вместе отметить свой самый любимый праздник. Екатерина Вячеславовна вместе с сыном уехала к своим родителям еще накануне в воскресенье, а Юрий Иванович дежурит по управлению и освободился только утром девятого, в понедельник. Электрички, как всегда в это время, были переполнены спешащими на весенний простор москвичами, и Добросклонцеву, прибывшему на вокзал минут за пять до отправления поезда, пришлось весь путь стоять в проходе. На нем был светло-серый костюм, темно-коричневый плащ и трикотажная серого цвета водолазка. Плащ взял на всякий случай: синоптики ожидали к концу дня кратковременный дождь. У Добросклонцева было превосходное настроение. Выйдя из вагона, глубоко вдохнул свежий загородный воздух, напоенный запахом молодой, только что распустившейся листвы, снял плащ и зашагал от платформы по асфальтированной дорожке в сторону дома Ермоловых. Откуда-то звучала веселая музыка, то ли из открытого окна, то ли кто-то шел с включенным транзистором или магнитофоном. Вдруг музыку сменил истерический голос модной певицы, и в уши Добросклонцева ударили слова, и которых при их слиянии слышалось что-то вызывающе неприличное: «С ручейком играю в прятки…» Настроение у Добросклонцева сразу испортилось. «Черт бы вас побрал с вашим „чайком“, — мысленно выругался Юрий Иванович. Но тут зазвучала другая песня и совершенно другой женский голос, раздольный, задорно-удалой, чистый и звонкий, разлился по праздничному поселку, заполнил берега улиц, украшенных алыми флагами. Пела Лидия Русланова. Песня была старинная, Добросклонцев не знал ее слов, помнил лишь одну только фразу, которую нельзя было не запомнить, потому что в простых словах лично для Юрия Ивановича содержался особый глубокий смысл: «В такую дурную погоду нельзя доверяться волнам». Сына Добросклонцев увидел издалека, в глаза бросилась его яркая светло-розовая рубаха. Длинный и костлявый Женя, слегка сутулясь, бодро шагал навстречу отцу. Утреннее солнце озаряло его улыбающееся лицо. «Что-то веселое несет», — подумал Юрий Иванович и невольно тоже улыбнулся, подходя к сыну. — Привет, папа. С праздником тебя. — И тебя, сынок. Как там дела? — Ух, дела! Ты знаешь, что дед отмочил? — Отмочил? Это как — в пруду или в речке отмачивал или в лужу угодил? — Ну, папа, не придирайся. — А ты следи за своей речью. — Говорят же так, — оправдывался Женя, слегка смутившись. — Говорят и не так, еще хуже говорят. Например, говорят: «Он взял большую половину». Правильно это? Разве может быть половина большая или меньшая? Половины равные. — А как надо? — Взял большую часть. Ну хорошо, так что дед отчудил? Он у нас по части чудачества большой мастак. — Куда большой — больше некуда. Ты знаешь, папа, что он сделал? Вывесил, как положено по праздникам, красный флаг, а рядом три портрета. Прямо на фронтоне. — Портреты? Что ж, по праздникам положены и портреты. Никакого чудачества не вижу. — Да чьи портреты, папа? Сталина, Жукова и свой! Понимаешь, его портрет, где он сфотографирован при всех орденах. Который в журнале был напечатан! Сегодня, говорит, День Победы, и, говорит, я имею полное право вывесить портреты главных героев войны. Он что — и себя считает главным героем? — Не главный, конечно, а все же герой. Чтоб получить три ордена Славы, сынок, надо было трижды со смертью поцеловаться. — Юрий Иванович сокрушенно вздохнул и после паузы прибавил: — Он, конечно, чудак, наш дед. В словах отца Женя не уловил осуждения, лишь в глазах его увидел блеснувшую лукавинку. — А знаешь из-за чего он? — продолжал весело Женя. — Из принципа. Оказывается, он на первомайскую демонстрацию в Дядино ходил. И там в колонне свой портрет пронес перед трибуной. Представляешь зрелище? Все решили, что он чокнутый. — Да-а, чудачит старик, — решил Юрий Иванович. На улице у калитки дома Ермоловых стояли трое: сам Вячеслав Александрович, его сосед — уже немолодой художник-фронтовик, поселившийся здесь после войны, и председатель жилищного кооператива Смирнов. С ними Юрий Иванович был знаком. Сосед Ермолова ему правился не только мастерством живописца, но и мягким покладистым характером. Тихий, доброжелательный, благообразный, несколько замкнутый, он никогда ни с кем не ссорился, избегал всевозможных распрей и склок, старался не вмешиваться в дела, особенно конфликтные, которые лично его не касались. С ним Вячеслав Александрович поддерживал самые что ни на есть добрососедские отношения. Иное дело председатель жилищного кооператива Смирнов. С ним ершистый Ермолов не ладил, считал его прохвостом, взяточником и склочником. Вячеслав Александрович, уйдя на пенсию, разводил нутрий, за что и был в анонимке назван «частнособственником-спекулянтом». Ермолов догадывался — писал анонимку Смирнов: больше некому. Вячеслав Александрович был при всех орденах и медалях. Невысокого роста, с живым подвижным лицом и быстрыми глазами, тесть производил впечатление человека задиристого и колючего. Он принадлежал к категории людей, которых в народе называют непоседами, не знающими покоя и часто доставляющими своей неиссякаемой энергией беспокойство другим. По возбужденным лицам Смирнова и Ермолова Добросклонцев определил, что здесь происходит острый, совсем не праздничный диалог. Юрий Иванович дружески поздоровался со всеми за руку, поздравил с Днем Победы и надеялся, что с его приходом конфликт угаснет. Но не тут-то было. Довольно взвинченный и уже принявший с утра по случаю праздника, Смирнов, высокий как жердь, болезненно-худой, попытался найти поддержку Добросклонцева и, еще пуще распалясь, заговорил, показывая длинной костлявой рукой на портреты: — Полюбуйтесь, Юрий Иванович, на своего тестя. Что это, как не политическое хулиганство? Такое может позволить себе только человек, у которого… это самое, — он выразительно повертел пальцами у своего виска, — мозги набекрень. — А ты не пугайся и других не пугай, — задиристо парировал Ермолов. — Набекрень не страшно. Худо, когда вместо мозгов куриный помет, тогда и начинает мерещиться политическое хулиганство и разные прочие ужасы. — Э-эх, товарищи, и не совестно вам в такой день? — укоризненно спросил Добросклонцев. Но слова его не возымели ожидаемого действия, а последняя фраза Ермолова еще пуще подстегнула Смирнова, и он процедил скрипучим голосом: — Нет, вы только подумайте: на первомайскую демонстрацию со своим портретом пошел и теперь вот опять себя выставил на всеобщее обозрение. Это, я вам доложу, форменный культ личности. — Ты, Смирнов, плохо в культах разбираешься, — язвил Ермолов. — Мне культ ни к чему, потому как я личность. А личность, она и без культа личность. Культ тебе нужен, потому как стержня в тебе нет. А из «нет» личности не создашь. А и создашь — все равно не поверят. Ты где воевал, на каком фронте? — Ты, Ермолов, своими фронтовыми заслугами не прикрывайся, — попытался уклониться от неприятного вопроса Смирнов. В годы войны он работал на Дальнем Востоке. — То было давно. А теперь ты во что превратился? Перерожденец, вот ты кто. Крыс наплодил — ферму завел, натуральный американец. Ге-рой… А на поверку — фермер. Ермоловские нутрии, или, по Смирнову, «крысы», были объектом зависти председателя дачного кооператива, и это больше всего не нравилось Вячеславу Александровичу. Он принадлежал к тем людям, которые предпочитают оставлять последнее слово за собой. — А ты, Смирнов, чужую фамилию носишь, — вдруг заявил Ермолов. — Это почему ж чужую? Я фамилию не менял! — с недоумением спросил Смирнов. — Обманчивая она, и совсем не подходит тебе. Фамилию носишь смирную, а сам злой. — Злые бывают собаки, а я, Ермолов, человек. На всякий случай поимей ввиду. — Глаза Смирнова обиженно поблескивали из-под отяжелевших век. — Да ведь люди, как и собаки, разные — добрые и злые, добрые и мерзкие пакостники. — Вячеслав Александрович, не заводись, не порти погожий день, — попытался прекратить перепалку Добросклонцев, беря Ермолова под руку и подталкивая к калитке. И шутливо прибавил уже вполголоса: — Это даже негостеприимно по отношению к зятю. Я к тебе в гости приехал с хорошим настроением, а ты меня встречаешь какой-то ненужной сварой. Ермолов и сам уже понял, что хватил лишку. — Да ну его, — махнул рукой так, что звякнули медали, и послушно пошел вслед за внуком, подталкиваемый зятем. Но угомониться не мог, видно, крепко допек его председатель кооператива. — Я вот иногда думаю: кто мы — русские люди? Мы особое племя самоедов. Поедом едим друг друга, как наши далекие предки — князья, пока их Дмитрий Донской не собрал на Куликовом поле. — Он остановился, не доходя до крыльца, и придержал зятя за локоть. — Я недавно в Москве в рыбном магазине в очереди стоял. Живого карпа продавали. Очередь медленно двигается, и вот там один такой же, как и я, говорливый мужичонка, только, видно, ученый, подкованный, рассказывал, что один русский царь — кто именно, я не расслышал, — хвастался перед чужестранным королем, приятелем своим: мне, говорит, мой народ кормить не надо, поскольку мои подданные с большой охотой едят друг друга, тем и сыты бывают. — А ты назовешь мне царя, который бы кормил свой народ? Такого история не знает. Наоборот, народ всегда кормил своих царей и их придворную челядь. — Да я ж не об этом, — огорченно возразил Ермолов. — Я к тому говорю, что самоеды мы, вроде нашего Смирнова, и это у нас наследственное. — Да брось ты, тоже мне — нашел самоеда… Твой Смирнов просто дурак. Из дома вышла Екатерина Вячеславовна, и разговор тестя с зятем оборвался. — Поспать не пришлось? — участливо спросила жена. — Может, приляжешь на часок? Я постелила наверху. Юрий Иванович ответить не успел, хлопнула калитка, и раздался бодрый голос Станислава Беляева: — Здорово, москвичи! С великим праздником вас! В темно-сером костюме, белой сорочке при галстуке он выглядел франтовато. Рядом с ним стояла жена, Нина Алексеевна, — белокурая, с застенчивой улыбкой на порозовевшем лице и с круглой коробкой — тортом в руках. Направляясь навстречу гостям, Ермолов спросил в ответ на приветствие Станислава: — Ну как, ты все воюешь? — Воюю, Вячеслав Александрович. Наше дело такое — очищать общество от разной нечисти. А она, к сожалению, не убывает. Во всяком случае, на наш век хватит. — Да уж куда там: убывает. Как бы не прибывала, — охотно согласился Ермолов. — По зятю сужу: ни сна, ни покоя… — Он хотел еще что-то добавить, но к ним подошел вразвалку Женя, стал, скрестив на груди руки, и иронически сказал: — Дед, а там, между прочим, вас заждались. 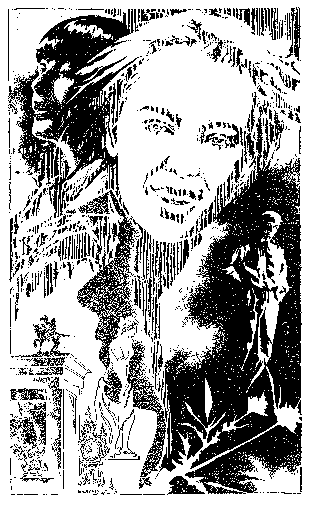 — Где там? — повернулся к нему Ермолов. — Бабушка и мама. Помогать надо. — А что отец, а ты? Вот так, Стас, без деда не могут обойтись. Дед всем нужен. Ладно, иду. Извини-прости. Ты уж располагайся, как дома. — Мне с Юрой надо потолковать, — мягко заметил Станислав и пошел к Добросклонцеву, который, присев на корточки, разжигал костер для шашлыка. Добросклонцеву тоже нужно было поговорить с Беляевым о деле. Когда тот подошел, он, не вставая и не отвлекаясь от своего занятия, как бы между делом спросил: — Ну что Коньков? Не объявлялся? — К сожалению, пока глухо — как сквозь землю провалился. Правда, удалось установить личность парня, с которым он встречался на другой день после бегства из психиатрички. Некто Анатолий Павлов, студент МИИТа. — С ним говорили? — поинтересовался Юрий Иванович. — Со студентом? — Я считаю преждевременно. Надо понаблюдать. Позавчера я разговаривал с Мироновой и передал ей данные. Она не докладывала тебе? Добросклонцев не ответил, и Беляев понял, что о Павлове он слышит впервые. Тоня и в самом деле еще не успела доложить Добросклонцеву и проинформировать Беляева о вчерашней ее встрече с Павловым. Разговор был кратким, но обнадеживающим. Когда Тоня спросила Анатолия, давно ли он знаком с Коньковым, тот так искренне недоуменно повел плечами, что в первый миг можно было подумать о каком-то недоразумении, ошибке со стороны сотрудников милиции. — Но вы же были у него на квартире третьего дня, встречались с ним! — Дядя Коля, вот кого вы, наверное, имеете в виду. — Павлов добродушно улыбнулся и рассказал, как познакомился с «дядей Колей» возле комиссионного магазина и тот пообещал продать по дешевке японский магнитофон, попросил взаймы десятку и дал свой адрес. Так что он заходил по поводу магнитофона. — И чем же кончилась ваша встреча с Коньковым? Вы купили магнитофон? — Какое там, — Павлов небрежно поморщился. — Половину аванса получил: пятерку. Он оказался банальным алкашом. — Значит, надул на пятерку. А в психлечебницу вы к нему зачем приходили? — спросила Тоня на всякий случай, авось клюнет. Павлов «клюнул», ответил с вежливым равнодушием: — Все за тем же. — За пятеркой? — Надеялся на магнитофон. — Японский магнитофон, надо полагать, немалых денег стоит? А вы человек небогатый, насколько мне известно, родители вам не помогают. — Тоня со слов студента-однокурсника Павлова знала, что Анатолий подрабатывает личным шофером у какой-то важной особы. Фраза «насколько мне известно», произнесенная с ударением, заставила Павлова насторожиться. Виноватая, застенчивая улыбка тенью скользнула по его румяному лицу. Он догадался, что эта симпатичная женщина-следователь навела о нем справки, и решил играть наивную откровенность, но игру вести не поспешную. — Приходится подрабатывать. — Чем? — в упор спросила Тоня. — По-разному, как придется: тому подсобишь… — Он запнулся, не стал дальше распространяться. — У вас есть водительские права? — опять забросила удочку. Павлов догадался, куда клонит следователь. — Да, я помогаю одному товарищу по шоферской части. Когда он возвращается из гостей, сами понимаете, под градусом за баранку не сядешь, тогда я в роли персонального шофера. — И опять тихая непринужденная улыбка заблестела в его глазах. — Кстати, вот вы говорите, что навещали Конькова в психиатрической лечебнице. А откуда вы узнали, что он там? — неожиданно спросила Тоня. Но Павлов и глазом не моргнул, не растерялся. Он был готов к такому вопросу. — Я пришел к нему на квартиру. Никого не застал. Спросил во дворе какого-то парня. Он мне и сказал, что дядя Коля в психичке. И адрес назвал. — Голос Павлова ровный, спокойный. Все кажется логично и естественно, но опыт подсказывал Мироновой, что логика и спокойствие Павлова обманчивы. Интуитивно она ждала от этой беседы чего-то важного, за что можно будет ухватиться в дальнейшем расследовании, и потому не спешила с вопросом, к которому их разговор подошел вплотную. Она не верила ни в магнитофон, ни в пятерку, как не верила наивным глазам студента. Уж больно он невозмутим. Пришла пора спросить о главном. — Так кто же ваш благодетель или работодатель, словом, товарищ, у которого вы служите шофером? На этот счет Павлов имел строгий наказ шефа: не афишировать их знакомство, тем паче дружбу. И теперь терялся в догадках, известно ли следователю имя человека, у которого он «работает шофером». Скрывать в данной ситуации было бы неразумно, и он назвал Ипполита Исаевича Пришельца. Не очень охотно, сдержанно и неопределенно отвечал он на последующие вопросы: чем тот занимается, где живет, бывал ли у него в квартире, сколько, наконец, «хозяин» платит своему «личному-персональному»? Павлов приготовился к долгому разговору, но Миронова вдруг поставила точку и, попросив Павлова сообщить в милицию, если ему станет известно местонахождение дяди Коли, простилась. Беляев и Добросклонцев о беседе Мироновой с Павловым в этот день еще не знали. Юрий Иванович считал, что через Конькова можно размотать уже довольно запутанный клубок следствия, и если его не найдут, продвигаться вперед будет очень трудно. Сухие дрова, зажатые с двух сторон поставленными на ребро кирпичами, пылали весело и жарко, и не прошло и часа, как они превратились в горячие угли, и сверху на кирпичи легли шампуры, унизанные сочной бараниной. Беляев сидел рядом с костром на низеньком стульчике и наблюдал, как Добросклонцев переворачивает шампуры, подставляя на угли то одну, то другую сторону, как вспыхивает вдруг пламя от капнувшего на угли жира, и Женя гасит огонь брызгами холодной воды. А неугомонный Вячеслав Александрович, звеня медалями, возбужденно сновал от костра к террасе, где женщины сооружали праздничный стол, давал советы и делал замечания, а больше всего изливал Добросклонцеву и Беляеву, по которым соскучился и был искренне рад встрече с ними, свои мнения и предложения, как всегда категоричные и безапелляционные. Возмущался болельщиками, которые пачкают стены зданий и заборы эмблемами спортивных клубов. И попутно ругал милицию, которая не принимает мер против этих пачкунов. — Мальчишки. Подрастут — опомнятся, — пытался было возразить Станислав, но его реплика еще пуще раззадорила Ермолова. — Коли так дело пойдет и дальше, то у этих мальчишек к тридцати-сорока годам хвосты отрастут, и пойдут они по деревьям лазить. — Не выйдет, — молвил Добросклонцев, продолжая ворочать шампуры. — Что не выйдет? — насторожился Ермолов. — Не смогут по деревьям лазить. Деревьев к тому времени не будет. — Разве что, — согласился Ермолов и опять к слову, как бы между прочим: — У нас новый лесничий. — Ну и как он? — Пока трудно сказать, на дурака не похож, а умного не сразу раскусишь. — А ты как, Вячеслав Александрович, дураков узнаешь, по каким признакам? — лукаво усмехаясь, спросил Беляев. — Дураков-то? Их с первого дня видно. Они перво-наперво обстановку в кабинете меняют. И секретарш новых берут. — А умный? Он не меняет секретарш? — без особого интереса спросил Добросклонцев. — Нет. Он замов меняет, это верно. И то не всех и не сразу. Сначала присмотрится, а потом — кого оставит, кого выдвинет или задвинет. — А кого больше — умных или дураков? — поинтересовался Беляев. Разговор с Ермоловым его забавлял. — Так это с какой стороны посмотреть. Дурак — понятие относительное. Есть еще и полудурки и полоумные. Все познаются в сравнении. Без дурака и умного не разглядишь, — ответил Ермолов уже на ходу и удалился в дом; через минуту донесся его призывно-восторженный клич: — Мужики, хозяйка просит к столу! За шашлыком Женя присмотрит! — Как, справишься с поручением деда? — спросил Юрий Иванович у сына. — Подумаешь, хитрость какая, чего там справляться, — по-мальчишески легко ответил Женя и прибавил улыбнувшись: — Поворачивай с боку на бок — и вся техника. Добросклонцев и Беляев направились к дому, где уже был накрыт праздничный стол. За столом Юрий Иванович пробовал шутить, но наблюдательный Станислав легко разгадал, что шутки его нарочитые, ими он пытается скрыть озабоченность, вызванную разговорами о Конькове, напасть на след которого пока не удалось. Станислава занимал вопрос: есть ли связь между исчезнувшим и студентом Павловым, и почему Антонина Миронова не поставила Добросклонцева в известность о Павлове? Она обязана была это сделать. — Мы, пожалуй, долго не будем у тебя задерживаться, — решил он. Но совершенно неожиданно, когда Беляевы собрались уходить, появилась сама Тоня. Появилась с букетом алых гвоздик. По-праздничному нарядная, Тоня казалась немного утомленной. Ее усадили за стол рядом с Беляевым. Добросклонцев сидел напротив, наискосок. Для Екатерины Вячеславовны появление Тони было неожиданным, но в этой неожиданности она не находила ничего предосудительного: такова милицейская служба. Каким-то чисто женским чутьем она догадывалась, что муж ее неравнодушен к этой женщине. Нет, она не ревновала, да и повода для ревности у нее не было. Наблюдая за Тоней, Екатерина Вячеславовна обратила внимание, что та избегает смотреть на Добросклонцева. Добросклонцев не мог не видеть, как пристально наблюдает его жена за Тоней; он испытывал неприятное чувство досады и огорчения. Он понимал, что неожиданное появление Тони совсем не связано со служебными делами — Коньков и Павлов всего лишь благовидный предлог. Как-то он сказал Мироновой, что самый любимый его праздник День Победы, потому что не будь его, не было бы не только Советской власти, не было бы России как государства вообще, и народ наш, по крайней мере его славянская часть, превратился бы в дым газовых камер, а представители других национальностей были бы отданы в рабство. Тогда Тоня ответила ему: представь себе, точно так же думала и я. Девятого мая и для меня самый дорогой праздник Юрий Иванович тогда подытожил разговор: следовательно, нам с тобой надо встретить как-нибудь этот праздник вместе. Сказал и забыл, а Тоня помнила, хотела напомнить и ему в эти майские дни, да не решилась: не позволило самолюбие. Долго боролась сама с собой, пыталась подавить в себе неумолимые желания. И не смогла, приехала. Нет, она не хотела, чтоб он догадался о подлинной причине ее сегодняшнего появления здесь незваной гостьей. И вообще, убеждала самое себя, что ей от него совсем-совсем ничего не нужно. Просто встретить вместе любимый праздник. Пусть это будет ее каприз, и пусть он впредь не бросает на ветер несерьезных обещаний. Украдкой наблюдая за Тоней, разговаривающей вполголоса с Беляевым, Добросклонцев замечал, что взгляд у нее рассеянный, хотя она и пытается изобразить преувеличенное внимание. Между тем Тоня как раз сообщала Беляеву, что есть интересные новости, которые могут дать им в руки ключ к делу о кулоне. Станислав бросил на Добросклонцева нетерпеливый взгляд и тихо постучал ногтем по стеклу своих наручных часов, сказав: — Не выйти ли нам на воздух. Юрий Иванович встал из-за стола. Поднялась и Тоня. Втроем они вышли на крыльцо и направились в сад. Тоня рассказала о своей встрече и беседе с Анатолием Павловым и под конец сообщила последнюю новость: вчера вечером Павлов с девицей выехали из Москвы в Абрамцево. Остановились на даче Ильи Марковича Норкина, где и заночевали. Личность девицы не установлена, но можно предположить, что это дочь Норкина. Это уже было «что-то». Нет, пожалуй, больше — вырисовывалась неожиданно замкнутая цепочка: Коньков — Норкин — Пришелец — Павлов — Бертулин. И «разомкнуть» ее обязаны они — сотрудники милиции — Юрий Добросклонцев, Станислав Беляев и Антонина Миронова. ГЛАВА ПЯТАЯ 1 С Ипполитом Исаевичем случилось что-то такое, чего он и сам не мог бы объяснить, спроси кто его об этом. Но случилось определенно в его психике и, как следствие, в состоянии и поведении. Еще совсем недавно этот человек невозмутимо спокойный, уверенный в том, что почва у него под ногами как никогда тверда, а он, преуспевающий бизнесмен, неуязвим для любых землетрясений, ураганов и бурь, почувствовал не то что страх, тревогу, а какую-то странную зыбь, смутное душевное состояние, когда не находишь себе места. Сам Пришелец готов был признать это состояние обычной усталостью, которая приходит после активной напряженной умственной работы, но действительно какое-то время перед этим он находился в состоянии деятельного азарта, окончившегося победным опьянением. Последний год ему чертовски везло, и любое задуманное им дело шло гладко, как и должно идти там, где предварительно тщательно все продумано, взвешено и рассчитано. На жидком золоте он заработал неплохо, и главное — без малейшего риска, по крайней мере он сам так считал. Он не был лицом, материально ответственным, и формально к золоту не имел никакого отношения. Он всего-навсего внештатный консультант-искусствовед, с него взятки гладки. И никто не докажет, что именно он «консультировал» бригадира реставраторов, как из двадцатипятипроцентного золота получить десятипроцентное и как потом жидкое золото превратить в твердое. Никто не докажет, что именно он «подал идею» чеканить николаевские монеты и подсказал, как изготовить форму монеты и довольно примитивный станок. Кто конкретно смастерил это приспособление и сделал форму — он даже не знал и не хотел знать, поскольку предпочитал иметь дело лишь с одним человеком — бригадиром, лишних свидетелей он всегда сторонился. Но самое главное, венчающее его успех, конечно же, — операция с «камешками». Несколько дней тому назад он стал обладателем настоящих бриллиантовых колец, которые получил взамен фианитовых. Они были спрятаны здесь, в квартире, в тайнике, который он считал достаточно надежным — под плиткой паркета, на которой поверх ковра стояла ножка тяжелого буфета. Он хорошо «отблагодарил» Соколова — ведь тот брал отпуск, работал, по его словам, денно и нощно до рези в глазах и мозолей на руках. Но сработал чисто, мастеровито, потрафив требовательному заказчику, понимающему толк в алмазах. Разумеется, довольно прозрачным намеком Соколов был предупрежден не распространяться о выполненной работе, держать язык за зубами. Ипполит Исаевич, расслабившись, сидел в кресле и тупо смотрел на резную из мореного дуба ножку шкафа, изображающую лапу хищного зверя, и подсознательно чувствовал душевное беспокойство. Дубовая лапа хранила тайну и стерегла сокровища, не подверженные никаким девальвациям. Есть ли стопроцентная гарантия в надежности тайника? Вопрос этот возник только сегодня, сейчас, после того, как закрылась дверь за Зубровым. На обеденном столе еще стояла неубранная посуда, и Пришелец не собирался убирать ее до прихода Павлова, а тот должен появиться с минуты на минуту. Вот он и уберет стол. Зубров. Сегодняшний его визит несколько озадачил Ипполита Исаевича, и вместе с тем, выражаясь дипломатическим языком, он мог бы назвать их встречу конструктивной и полезной. Предложение исходило от Зуброва. Он позвонил Пришельцу в полдень и сказал, что, мол, давненько не виделись и хотелось бы пообщаться, на что Ипполит Исаевич с готовностью ответил: он рад встретиться в любое время. «Прекрасно! Тогда я сейчас еду», — заявил вдруг Зубров, и Пришелец с огорчением пожалел о необдуманной фразе «в любое время». Он не любил неожиданных визитеров. В конце концов можно было встретиться где-нибудь на нейтральной почве. О встрече с Зубровым Пришелец и сам подумывал после того, как Павлов сообщил ему о своей беседе с Мироновой. Беседа эта насторожила Пришельца, именно она и вывела его из душевного равновесия. Ему не нравилось, что в следственных органах его имя встало рядом с именем Конькова, и еще то, что следствие установило связь Конькова с Павловым. Пока что ничего конкретного, изобличающего в преступных действиях у следствия, по-видимому, нет. Но начнут копать. И всякое может случиться, чего нельзя ни предвидеть, ни предугадать. Похоже, что малость увлекся, нарушил свою первую заповедь, признался себе Ипполит Исаевич и тут же нашел оправдание: в азарте это неизбежно. Зато какой куш отхватил! Ради этого можно простить и маленькую беспечность. Совсем пустяковую. «Куш…» — Он криво ухмыльнулся своим мыслям. Вон Зубров рассказывал, как иные миллионами ворочают, наживают на тех же камешках, на платине, на антиквариате и даже — трудно поверить — на фруктах-овощах. Встревоженный взгляд Пришельца снова остановился на дубовой ножке буфета. И вдруг его пронзила неприятная мысль: а ведь начнут тормошить ювелиров, поинтересуются и у Бертулина. Как он поведет себя? Устоит ли? Человек опытный, тертый калач. Но кто знает — возраст! Хотя признаваться ему нет никакого смысла. Лучше молчать. Молчание всегда считалось золотом. Нет, неспокойно было на душе Ипполита Исаевича. Еще ожидая Зуброва, Пришелец рылся в догадках и предположениях, чем вызван этот визит. Но все оказалось банальностью: Зубров признался ему в своей связи с Натальей Максимовной, да вот беда: нет у них, как он выразился, «крыши» для интимных свиданий. Под «крышей» надо понимать уютное жилище. У Зуброва да и у Ященко есть дачи, но сейчас, в летний сезон, они ненадежны, тем более, что мадам Зуброва, очевидно, хорошо зная характер своего мужа, проявляет повышенную бдительность, держит его «под колпаком». Зубров обратился к Пришельцу за помощью, нет ли у него чего-нибудь на примете? А для начала попросил об одолжении: разрешить ему завтра встретиться с Натальей Максимовной здесь, у Ипполита Исаевича, разумеется, в отсутствие хозяина. Бесцеремонность Зуброва возмутила Ипполита Исаевича. Но положение было безвыходным. Отказать нельзя ни под каким предлогом, хотя бы уже потому, что Зубров считает Пришельца близким другом (перед тем, как изложить свою интимную просьбу, Михаил Михайлович пригласил Ипполита Исаевича на свое сорокалетие, которому быть через неделю). Кроме того, Зубров может быть полезен, особенно в трудные минуты, которые всегда надо иметь в виду. Пришелец не однажды убеждался в этом на собственном опыте, потому и широк круг его знакомств, состоящих из нужных людей. К таким «нужным» он отнес и Зуброва уже через несколько дней их знакомства. Просьба Зуброва поставила Пришельца в щекотливое положение. Оставить в этой сокровищнице кого бы то ни было! — такого допустить он не мог, это было бы безумство, вселенская глупость, равносильно пустить козла в огород. Понятий честность и порядочность для Пришельца не существовало. В каждом человеке, считал Ипполит Исаевич, живет хищник, только в одном он уже рыщет, в другом дремлет, в третьем спит глубоким сном. Где гарантия, что Зубров со своей Наталкой — эти алчные хищники — не произведут здесь тщательный обыск и не прикарманят самое драгоценное. Хорошо, что он предусмотрительно не сказал Зуброву твердого «да», обещал позвонить, уточнив лишь, в какое время им потребуется квартира. Теперь вся надежда на Павлова. Он должен срочно найти для Зуброва «крышу». На этот раз Пришелец решил посвятить Михаил Михалыча в историю с кулоном, и не без дальнего прицела он это сделал. Он изложил ему версию, прикидывая, чем располагает Добросклонцев. При этом выразил недовольство работниками милиции. «Странно ведут себя подполковник Добросклонцев и капитан Миронова, — негодовал Пришелец. — Потерпевшие в милицию не заявляли, никаких претензий к милиции не предъявляют, а те почему-то усердствуют на голом месте. Делать им, что ли, нечего?! Беспокоят людей, нервируют и хозяина кулона — почтенного человека, директора магазина „Меха“, и пожилого пенсионера из Дядина. Мне самому дважды пришлось разговаривать с этим Добросклонцевым, довольно примитивным, ограниченным товарищем. Я так и не понял, чего он хочет. Боюсь, что и сам он не понимает. Скорее всего не знает, как ему закрыть пустое дело. Просил меня помочь милиции поймать преступников. Вы представляете?! Хочет из меня какого-то дружинника сделать. Смех, цирк! А эта Миронова — говорят, она его любовница — судя по всему, вообще случайный человек в милиции. Моего шофера, студента, просто замучила. Я уж хотел кому-то пожаловаться, чтоб оставили нас в покое. Не буду я помогать милиции искать преступников, не желаю. Пусть сами своим делом занимаются, именно делом, и не чепухой, вроде какого-то кулона, которого, возможно, и не было. Да и свидетель Коньков утверждает, что не было кулона. Потому Норкин и не заявлял. Чепуха какая-то». Разгневанный монолог Пришельца Зубров выслушал молча с видом серьезным и сосредоточенным. Затем извлек из кармана записную книжку в палехском переплете, попросил повторить фамилии. Записав, обронил: «Хорошо, я поинтересуюсь». — «Пусть оставят нас в покое», — повторил Пришелец. — Что ж, ком грязи брошен с целью замутить воду, теперь слово за тобой, Зубров, действуй, покажи свое дружеское расположение. — Ипполит Исаевич мысленно улыбнулся. — Ну а насчет твоей деликатной просьбы мы постараемся. Павлов, где Павлов? Как всегда опаздывает! Но Анатоль не опаздывал: он позвонил в дверь вовремя, минута в минуту, запыхавшийся, возбужденный и веселый, в желтой канареечной тенниске с черным воротником, в светлых брюках и новых бежевых штиблетах. Он был весь новый, праздничный, улыбчивый, как и положено молодому супругу. Скороспелую свадьбу сыграли вчера в банкетном зале ресторана «Будапешт». Гостей было человек сорок, что называется, узкий круг, главным образом молодежь — друзья-приятели жениха и невесты. Родственники Норкиных соберутся завтра на даче в Абрамцеве, познакомятся с женихом, о котором уже наслышались, как о талантливом мальчике с большим будущим. Конечно, он провинциал, ему не хватает внешнего лоска, но это наживное, главное — помочь ему хорошо устроиться после окончания института, сделать карьеру. Природная хватка, по первым впечатлениям Норкиных, у зятя есть, а насчет карьеры Илья Маркович и его друзья позаботятся. Все дело в связях, а они у Норкина обширные и разнообразные. Словом, Анатолий Павлов попал в надежные руки, а Беллочке, можно сказать, крупно повезло. Но заблуждались Норкины: судьбой Павлова распоряжался Ипполит Исаевич. Павлов был его собственностью, как буфет и запрятанные под ним бриллианты. Пришелец на свадьбе не был: для Норкиных-родителей он с Павловым не знаком. На этот раз он не набросился на Анатолия с упреками и не выказал своего неудовольствия. Напротив, встретил ленивой улыбкой, загоревшейся и тут же погасшей. — Поздравляю с законным браком. Ну как свадьба? — Все путем, Ипполит Исаевич, — крепко пожимая вялую руку шефа, ответил Павлов. — А ты знаешь происхождение слова «свадьба»? — Никак нет, Ипполит Исаевич. — Слово это из двух корней, как и «спасибо», что значит «спаси бог». Так и «свадьба». «Сва» — значит «своя». Раньше по чужим бабам бегал, а теперь у тебя своя. Знать надо. — А вы лингвист, Ипполит Исаевич, — улыбнулся Павлов. — Как всякий истинный интеллигент. А интеллигент — значит интеллектуал, эрудит. Эрудиция — привилегия избранных. Так распорядилась мать-природа. В тебе вот нет интеллигентности. И никогда не будет, потому что она от бога, она в крови, по наследству передается. Самоуверенность шефа и высокомерие задели Анатолия за живое. — Извини, нескромный вопрос. Надеюсь, невеста, а теперь уже жена, то, что надо? Можно смело ставить Знак качества? — Его цинизм всегда граничил с пошлостью, но «истинный интеллигент» считал это нормой, особенно в отношениях с теми, кто от рождения «лишен интеллигентности». Прежде Павлов не находил в словах Пришельца ничего для себя оскорбительного, унижающего его человеческое достоинство. Он даже видел в этом особое к себе расположение и доверие, что-то дружеское, интимное. Но сейчас слова шефа задели его. На явную гнусность ответил в тоне самого Пришельца: — Прекрасна, как ангел небесный, как демон коварна и зла. — Насчет коварства — сомнительно, но демоническое в ней что-то есть. — Вам лучше знать, — резко ответил Павлов, давая понять, что разговор ему не нравится. Они сидели в кабинете в глубоких креслах друг против друга у журнального столика. Анатолий — положив ногу на ногу, как бы демонстрируя ярко-оранжевые носки; Ипполит Исаевич, по своему обыкновению, водрузив ноги в тапочках на стол. В позе Пришельца, в подошвах тапочек, направленных в лицо Павлову, было все то же откровенное пренебрежение, что и в словах, в голосе, в тоне, в жестах и поступках. Он постоянно внушал Павлову свое превосходство, всячески подчеркивал, что между ними лежит непроходимая пропасть. Павлов был для Пришельца низшим существом, впрочем, как и Зубров, с той только разницей, что перед Зубровым он не демонстрировал своего превосходства, не унижал его, потому что обстоятельства не позволяли этого. Для него и Павлов и Зубров, впрочем, как и супруги Ященко со своими фианитами, как и банщик Соколов, были всего лишь орудиями производства, при помощи которых можно делать прибыль. Как люди со своими мыслями, думами, вкусами и взглядами, они его не интересовали, хотя он отлично знал их характеры, их человеческие слабости, чувствительные струны, на которых можно играть опять же в свою пользу. Его вовсе не интересовало, что думает о нем Павлов, — пусть думает что угодно, лишь бы он прилежно и безропотно делал то, что нужно ему, Ипполиту Исаевичу. Ему было совершенно безразлично, как прошла у Анатолия свадьба, и заговорил о невесте он лишь затем, чтобы еще раз уязвить это низшее существо, ужалить. В нем действовал инстинкт скорпиона. Ужалил, утолил свою прихоть и переходи к делу, незачем терять время на пустую болтовню. И он сразу же, без всякого перехода спросил: — А как с приданым? Ты поинтересовался? — Он имел в виду кулон. — Спросил, — Павлов с ухмылкой отвел глаза в сторону. — Как? Так прямо, в лоб? — Обыкновенно, — сонным капризным голосом ответил Павлов. — Спросил, что за история была с ювелиром, мол, я слышал краем уха. Сказал, что вас в милицию вызывали. Она рассказала. — Дельно, — одобрил Пришелец. — А потом, дальше? — Я спросил, что это за штука такая — кулон? Мол, никогда в жизни не видел и представления не имею. Обещала показать. — Грубовато, — промычал Пришелец, тупо уставившись в стол. — Надо потоньше, поосторожней. И не волынь: время деньги. А без денег… ты — ничто. И помни, когда приданое исчезнет, подозрение ляжет на тебя. Надо иметь алиби. В квартиру должны проникнуть опытные умельцы, обезвредить собаку и взять кое-что из вещичек, но самое ценное, в том числе и кулон. Но так, чтобы все вместилось в кейс. О деталях сам позаботишься, заставь свой котелок поработать. Алиби должно быть веское: тебя в это время не было в Москве, ты уезжал в Крым к матери. И билет случайно сохранил — туда и обратно. — А как обратный заполучить? Пришелец посмотрел на него с недоумением. Постепенно взгляд его становился скорбным, пухлые губы дрогнули, изобразив отвращение, и он произнес с деланной грустью: — Что-то с головой у тебя стало. Плохо, совсем плохо соображает. Женитьба, что ли, подействовала? Пойди к симферопольскому поезду и попроси билет у любого приехавшего в Москву пассажира. Павлов с досадой хлопнул себя по лбу. — Ну ладно, дошло. С похмелья бывает. Ослаб. Кстати, забываю тебя спросить: не удалось поближе сойтись с тем студентом, Комаровым, или как там его? — Малярчиком, — вяло подсказал Павлов. — Бывал у него дома и на даче. Отец его какой-то хмырь в прокуратуре. На даче зашли в сарай, и там, представляете, — целый склад консервов: свиная, говяжья тушенка, ветчина импортная в банках, сгущенное молоко. Черт-те что. Эрик рассказывал: соседские мальчишки однажды туда забрались и несколько банок реквизанули. Так отец пожаловался в районную милицию. Сгоряча, конечно, чтобы власть показать. А когда мальчишек милиция нашла — простил, приказал не заводить дела. — Боялся обнародовать свой продовольственный склад, только и всего. Ну что ж, деталька весьма и весьма… В ней, как в капле воды, весь Малярчик. То, что нам надо, с таким легче договориться. — Ипполит Исаевич прикрыл глаза рукой, сделав ладонь козырьком. — Постарайся узнать, что из себя представляет Денис и кто его отец. Иди на сближение и контакт. Пригласи в ресторан, пусти пыль в глаза, но не переборщи: элита не любит, чтоб над ней возвышались. Прояви услужливость и преданность. Пригласи к себе на дачу, с девчонками, разумеется. — У них свои дачи, — напомнил Анатолий. Он с первого слова понимал, к чему клонит шеф. — Свои — да не свои. Там родители. При предках не очень разгуляешься. — У меня тоже предки, Ипполит Исаевич. — Норкины не должны появляться. Скажи жене, что это нужно, это важно для твоего, для вашего будущего. Илья Маркович не дурак, поймет. А как с Добросклонцевым и Мироновой? Что еще удалось узнать? — О Мироновой ничего нового. Добросклонцев живет на улице Добролюбова, недалеко от нашего общежития. Сын — школьник, четверочник. Пассивный, замкнутый. С мальчишками не контачит, дружит с девчонками… — Стоп! — оборвал его Пришелец и снял ноги со стола. Утомленные глаза его оживились. — Девчонки, девчонки. Так. Узнай все подробно — что за девчонки. В каких отношениях, где встречаются, с кем у него любовь, кто ее родители. Понял? Это нужно, очень важно. Ты меня понял? Идею постиг? — Понял, Ипполит Исаевич. — А раз понял, то перейдем к следующему вопросу. — Пришелец прошелся по комнате, возвратился к столу и, закусив нижнюю губу, прищурясь, уставился на Павлова: — Дело срочное, важное. На завтра нужна квартира, на худой конец — комната. Меблированная. Пока что на один день. Нужна как воздух! Думай, шевели мозгами. Нелегкую задачу поставил он перед Павловым: не было на примете ничего подходящего. Анатолий жил в общежитии института, вернее, там только числился, а большую часть времени проводил у своей знакомой, которую он называл «моя подруга». От следователя районной прокуратуры Маркиной два года назад ушел муж, ушел к другой женщине с одним чемоданом личных вещей, оставив ей двухкомнатную квартиру со всем домашним скарбом. Одиночество Маркиной длилось всего несколько месяцев, пока на ее пути случайно не встретился симпатичный, веселый и находчивый юноша из МИИТа. Познакомились они при довольно обычных для Москвы обстоятельствах: она возвращалась домой от своей подруги воскресным вечером, слегка усталая, слегка хмельная, искала такси или хотя бы попутную машину: не хотелось добираться на городском транспорте с несколькими пересадками от Чертанова до Марьиной Рощи. Но такси с пассажирами проходили мимо. И вдруг к ее радости остановился «Жигуленок», за рулем которого сидел Анатолий Павлов. Дорога длинная, считай, через всю Москву с южной окраины до северной, юноша оказался на редкость разговорчивым, располагающим к себе. За приятной беседой Маркина и не заметила, как оказалась возле своего дома. И когда она открыла сумочку, чтобы расплатиться за услугу, Анатолий очень естественно смутился и как-то задушевно сказал: — Да что вы, Валерия Иосифовна… Это я вас должен поблагодарить за приятную компанию и пожелать вам самого светлого в жизни. (В пути она рассказала ему о своей семейной драме.) И тогда Маркина пригласила Павлова на чашку кофе. Анатолий не отказался. Не отказался и от рюмки коньяку, совсем забыв, что за рулем. Вспомнили об этом оба лишь тогда, когда настал час расставания. — Пожелайте мне не нарваться на ГАИ и избежать неприятностей, — сказал Павлов, задержав ее руку в своей и глядя на нее чистыми и нежными глазами, которые говорили: «А мне так не хочется уезжать». Она поняла его взгляд. — Не надо рисковать. Оставайся до утра, — сказала она проникновенно. И он остался. О женитьбе Павлова Маркина узнала за неделю до свадьбы. Он сам ей сказал об этом по телефону: опасался истеричных сцен, упреков. Но ничего подобного не произошло. Она сказала ему, сохраняя спокойствие: — Что ж, это прекрасно. Поздравляю. Ты вполне созрел для семейной жизни. Зашел бы, рассказал. Твое счастье — моя радость. Поверь, это от чистого сердца. Накануне свадьбы он забежал к ней на несколько минут, чтоб вернуть ключи от квартиры. Ключи она не взяла, сказав с грустной улыбкой: — Пусть будут у тебя. Может, когда-нибудь появится желание забежать на часок, устав от семейной жизни. Этот жест растрогал Павлова, он искренне жалел Маркину, к которой тоже привязался. В тот предсвадебный день он задержался у Маркиной не десять минут, как рассчитывал, а целых два часа, заполненных страстными поцелуями, слезами и ласками. Он сумбурно объяснял, что брак его случаен и нелеп, что не пройдет и года, как он разлетится в пух и прах, но обстоятельства сложились так, что сейчас он не в силах что-либо изменить. Со временем он все объяснит. И она не настаивала. О связи Павлова с Маркиной никто из друзей и знакомых не знал, это была их сокровенная тайна, в которой больше всего был заинтересован Анатолий. И даже Пришелец, который считал, что Павлов с ним открыт и откровенен, как на исповеди, ничего не знал о существовании Валерии Иосифовны, а уж она-то, хотя бы как лицо должностное, не могла не представлять для Ипполита Исаевича интереса в качестве экспоната его коллекции «нужных людей». И когда Пришелец дал задание найти на завтра «крышу», Павлов растерялся. Его возможности и в самом деле не были безграничными, а требования и задания шефа с каждым днем становились все сложней и порой просто невыполнимы. Анатолия это не только повергало в уныние, но и пробуждало давно подавленное чувство гордости, ему хотелось послать шефа к черту, раз и навсегда порвать с ним. Но внутренний голос подсказывал, что это невозможно, совсем нереально, что судьба его крепкой веревочкой привязала к Пришельцу. Его останавливало не то, что, порвав с Ипполитом Исаевичем, он лишится привычных материальных благ. Он боялся мести и жестокой расправы. Он знал злобный, коварный прав своего «благодетеля». Павлов стоял перед Пришельцем удрученный и растерянный. Ипполит Исаевич понимал, что задание дал нелегкое. Но отказать Зуброву не мог, а предоставить полковнику и Наталье Максимовне свою квартиру никак не решался. — Очень нужно. И прежде всего в твоих интересах, — произнес Пришелец после долгой паузы тоном, в котором уже звучала скорее просьба, нежели приказ. — Понимаю, что «крыша» нужна не для вас, — негромко отозвался Павлов. — Я попробую один вариант. Но хотелось бы знать, для кого? Это не праздное любопытство, меня это не касается. Но я должен быть абсолютно уверен, что в квартире все останется на своем месте. Не в том смысле, что пропадет, а даже не будет переставлено или сдвинуто хотя бы на один сантиметр. Ипполит Исаевич догадался, что речь идет о квартире близких Павлову людей и что эти люди не должны знать о посещении квартиры посторонними в их отсутствие. — Правильно соображаешь: «крыша» нужна моему близкому другу. Ключи передашь мне и, естественно, скажешь адрес. Насчет сохранности можешь не волноваться: гарантия стопроцентная. Если я правильно понял тебя, с «крышей» дело улажено? Ключи принесешь завтра утром. Идет? — Я должен поговорить. — Телефон к твоим услугам. — Нет, я должен лично встретиться. — В таком случае не теряй времени, встречайся. Гуд бай! 2 Ключи от квартиры Маркиной Зубров привез Пришельцу на другой день поздно вечером, возвратясь из загородного ресторана «Сказка», что на Ярославском шоссе. Сначала он отвез домой Наталью Максимовну, с которой в ресторане, а затем в подмосковном парке «выяснял отношения», подпорченные вчерашней встречей на квартире Валерии Иосифовны. А все началось с того, что, войдя в незнакомую квартиру, которую Зубров открыл ключом, Наталья Максимовна с чисто женским любопытством стала осматривать то, что называют предметами домашнего уюта, не проявляя при этом особой деликатности к самим предметам и тем самым нарушив условия Павлова и Пришельца «ничего не трогать». Зубров пытался было отвлечь ее и деликатно предупредил оставить безделушки в покое, но его замечание задело своевольный нрав Натальи Максимовны, она небрежно швырнула на тахту африканскую статуэтку из черного дерева и, презрительно поджав пухлые губки, спросила: — Чья это квартира? — Одних моих знакомых, — торопливо и не очень убедительно соврал Зубров, вызвав тем самым новый вопрос. — Кто она, чем занимается эта твоя знакомая? В голосе Натальи Максимовны прозвучало ревнивое пренебрежение. — Да, собственно, я не знаю, кто хозяева этой хижины, и какое это имеет значение, — совсем запутался Зубров и, чтоб как-то исправить положение, прибавил: — Главное, что мы здесь одни, и нам с тобой хорошо. Верно, дружок? — Он попытался обнять Наталью Максимовну и поцеловать, но она решительно воспротивилась, увернулась от поцелуя, прикрыв его губы ладонью. — Ты ошибаешься, мне совсем не хорошо. Привел и сам не знает куда, в какой-то мещанский притон. Любовница твоя здесь обитает или, может, патентованная бандерша? Здесь мне делать нечего. Я ухожу. — Ну, знаешь ли… — обиделся Зубров. Но его опечаленный взгляд не смягчил Наталью Максимовну. Пришлось уступить женскому капризу: не стоило заходить слишком далеко. Притворясь раскаявшимся грешником, он нежно коснулся губами ее щеки и сдался на милость победителя. Победительница великодушно простила его, но тут же спросила, почему он изменяет своей жене, и вообще, что из себя представляет его Любовь Викторовна? В ее вопросе он увидел смесь лицемерия, глупости и эгоизма. В конце концов точно такой же вопрос мог бы задать и он, но с его стороны это выглядело бы не очень учтиво: ведь он-то знал разницу в годах супругов Ященко. В ответ Зубров пробормотал что-то банальное и неубедительное, вроде того, что его Любовь Викторовна очаровательная, даже красивая, но внутренне пустая, без огня и страсти, холодная кукла. Своим неуместным вопросом Ященко бессознательно причинила ему боль. — Я хочу с ней познакомиться, — настойчиво и капризно попросила Наталья Максимовна. — Нет проблемы. Если ты не забыла, в пятницу мне исполняется сорок лет, а в субботу я приглашаю тебя и Антона Фомича на юбилейный обед к себе на дачу, соберемся в узком кругу. Будут только самые близкие. — После некоторой вынужденной паузы он, как бы испытывая затруднение, продолжал: — Я хотел бы пригласить Якова Николаевича, но не знаю, как это сделать, правильно ли он поймет. Дело в том, что мы с ним не настолько близки — просто знакомы. Но поверишь, симпатичен мне этот человек. — Земцев? — Наталья Максимовна загадочно прищурилась. — Сфинкс, задача с тремя неизвестными. Зачем он тебе? Ищешь покровителей? Он осторожен и необщителен. — Просто интересный человек. Общение с умными людьми не только приятно, но и полезно. Может, через Антона Фомича? Они ведь дружат? — Повторяю: у Земцева нет друзей. Впрочем, возможно, и есть, только мы их не знаем. Но если тебе очень хочется видеть его у себя на даче, я постараюсь устроить — заранее переговорю, а ты потом пригласишь. Наталья Максимовна давно хотела разгадать сфинкса Земцева, но увлечение Зубровым помешало ей сблизиться с Яковом Николаевичем. Теперь же, понемногу разочаровываясь в Зуброве, она решила, что самое время заняться Земцевым. О хозяевах квартиры Наталья Максимовна больше не спрашивала, но зато попросила Зуброва свозить ее завтра же в загородный ресторан: ей так хотелось побыть на природе. Для Зуброва такая поездка создавала некоторые сложности и неудобства, он терял половину рабочего дня, но ради закрепления их отношений, которые нежданно-негаданно дали трещину, пришлось пойти на уступку. Надежды Зуброва на поездку в «Сказку» не оправдались: в ресторане Наталья Максимовна опять заговорила не столько о квартире, сколько о ее хозяйке, в постели которой они провели почти весь день. В ней снова зашевелилась разбуженная ревность. А Зубров и в самом деле не знал, кому принадлежит эта квартира, в чем клятвенно убеждал Наталью Максимовну. Она не поверила ему. Поэтому, явившись к Пришельцу с ключами, он первым делом поинтересовался, кто хозяева квартиры. Пришелец развел руками. — Понятия не имею. — Ему не хотелось распространяться на эту тему. — Похоже, что там живет женщина-юрист, — высказал предположение Зубров. — Кстати, о юристах. Вы не знаете Малярчика? — умело сменил тему Пришелец. — Петра Михайловича? — Да кто ж его не знает! Яркая фигура на тусклом небосклоне. Между прочим, лет семь тому назад мы с ним за хребтом Кавказа одно грандиозное дело провернули, за что и были отмечены высшими инстанциями, — сказал Зубров с веселой улыбкой, но в бодром голосе его играли иронические нотки. Кто знает, что на самом деле за ними скрывалось. Возможно, глубокая тайна Михаила Михайловича. Ведь именно с той закавказской операции и началась зажиточная жизнь Зуброва. Взяточники средней руки получили длительные сроки, а что касается акул, то они, как говорится, отделались легким испугом и потерей крупных сумм нетрудовых доходов, львиная доля которых застряла в карманах Зуброва и Малярчика, что, однако, не сблизило их, по крайней мере они не стали друзьями. Знакомство, а возможно, и приятельские отношения Зуброва с Малярчиком, Ипполит Исаевич принял к сведению как факт положительный. Наблюдая за Зубровым, Пришелец пришел к заключению, что тот сегодня не в духе. Спросил не очень деликатно, но зато с искренним участием: — У тебя неприятности?.. Вид утомленный. — Да, я устал. Служба у нас такая — ни дня, ни ночи покоя, — пожаловался Зубров. Они стояли друг перед другом в столовой, стройный, подтянутый Зубров, облаченный в легкий из черной кожи пиджак, темно-зеленые брюки и коричневые на тонкой подошве полуботинки, и слегка сутулый в домашнем халате и тапочках на босу ногу Пришелец. — Рюмка коньяку, виски, «Посольской», — предложил хозяин и жестом указал на стул с изображением Серафима Саровского. — А пива не найдется? — Зуброва мучила жажда. — Сейчас проверю. — Если нет, тогда какой-нибудь воды, — бросил Зубров вслед удалившемуся на кухню Пришельцу. Ипполит Исаевич возвратился через минуту с серебряным подносом, на котором громоздились хрустальный графинчик с коньяком, две серебряные рюмки, пивной бокал, две банки шведского пива и хрустальная вазочка соленых орехов. Спросил: — Пойдет? Или чего-нибудь покалорийней? — Нет-нет, я только пива. — А я пиво — пас, у меня от него изжога. Организм пока что приемлет коньяк, — сообщил Пришелец, садясь за стол. — Всякому овощу свое время, а также и напитку, — подытожил Зубров и открыл металлическую банку. — Да, служба у вас нелегкая, не позавидуешь, — посочувствовал Ипполит Исаевич и, подняв рюмочку с коньяком на уровень глаз, прибавил: — За твои успехи. Зубров одним махом осушил бокал пива, довольно крякнул и, посерьезнев, заговорил: — В Москве из ювелирного магазина похищена партия дорогих бриллиантовых колец. — Голос его звучал бесстрастно, ровно и обыденно. Сделав паузу, он сунул себе в рот щепотку орехов и, хрустя ими, продолжал, уставившись на молчавшего Пришельца цепким взглядом: — Сработано чисто и оригинально: не просто взяли лоток с кольцами, а подменили. Кольца из натурального алмаза заменили фианитовыми точно такой же формы. И что характерно, наши ювелирные фабрики не выпускали таких фианитовых колец. Значит, сработано частным ювелиром. И довольно искусно. Потому и не сразу обнаружилась подмена. — Участие в этом деле кого-то из работников магазина — факт бесспорный? — не то спросил, не то утвердительно сказал Пришелец, внимательно наблюдая за Зубровым. Его мучил тревожный вопрос: случайно или не случайно зашел этот разговор. Если не случайно, значит, его подозревают и предупреждают: в конце концов фианитами они оба повязаны. — Бесспорный, конечно, но кто именно — поди, узнай. Не так просто. Действовал опытный лис. — В конце концов узнают. Рано или поздно — найдут, — убежденно сказал Пришелец, и в голосе его звучала непреклонная вера в талант работников милиции. — Как только одно из похищенных колец объявится на свет божий в комиссионном магазине, а скорее всего на черном рынке, преступник будет найден, — сказал весомо и авторитетно Зубров, и в этих словах его Пришельцу снова послышалось дружеское предостережение. И тогда он вспомнил колечко, подаренное дочери. Фианитовое, а по форме точно такое, как похищенные бриллиантовые. Где гарантия, что оно не появится в комиссионном магазине или на черном рынке. Эта зловещая мысль вызвала мелкую дрожь в пальцах Ипполита Исаевича, и чтоб скрыть ее, он поставил рюмку и опустил руки под стол. Сердце сжалось тревожной тоской. Ему показалось, что он побледнел, и Зубров заметил это и не хочет показать, что заметил, потому и перевел разговор совсем в другое русло: — В пятницу мне стукнет сорок, вот так-то, дорогой Ипполит Исаевич. По этому поводу в субботу у меня на даче соберутся самые близкие друзья: Ященки, Земцев, хотелось бы видеть и тебя. У Пришельца потеплело на душе: «дорогой», приглашает, как самого близкого друга. Если бы над головой этого друга нависла угроза, не стал бы Зубров приглашать его на свой юбилей. Это уж точно. Значит, с бриллиантами всего лишь предостерегал… Видно, и сам побаивается. Земцева пригласил — это хорошо, — Пришелец давно пытается установить с Яковом Николаевичем дружеские отношения, да все никак не получается. Осторожничает Земцев. — А Малярчик — он тоже будет в числе приглашенных? — спросил Пришелец. Зубров посмотрел на него с нескрываемым удивлением. Спросил в упор: — Ты знаком с Петром Михайловичем? — Нет, но хотел бы познакомиться. — В открытом взгляде Пришельца Зубров прочитал просьбу. Зубров поморщился, давая понять, что такое приглашение не входит в его планы, явно ожидал, что Ипполит Исаевич тут же «даст отбой», но Пришелец молчал. И Зубров помягчел, снисходительно улыбнулся, понимая, зачем Пришельцу нужен Малярчик. — Ну что ж, можно и его, хотя человек он скучный и вообще мелковат. Там всем правит его супруга, которую он горделиво величает «мой политкомиссар». — Она кто у него? — Жена. Просто жена. Но женщина та еще… Государственный ум и власть некоронованного монарха. — Тогда это не женщина, а функционер. Я бы на такой ни за какие блага не женился. — Что ж тебе мешает найти свой идеал жены? — спросил Зубров, предлагая новую тему для разговора. Он еще не остыл от недавней размолвки с Натальей Максимовной и в душе продолжал с ней спорить. Теперь он нуждался в оппоненте и мысленно приглашал на эту роль Пришельца. И Пришелец отозвался: — Других в природе не бывает. По крайней мере в наше время. Современная женщина сверх меры эмансипирована. Она жаждет возвышаться над мужчиной вопреки природе и здравому смыслу. Хочет командовать, Требует поклонения и преклонения. — Что здесь противоестественного? Не вижу и не нахожу. — Зубров преднамеренно возражал, вызывая Пришельца на спор. Шведское пиво смягчило напряжение, глаза слипались, клонило ко сну. Вместе с тем в голове его копошились мысли, которые он хотел, но не решился высказать Наталье Максимовне, теперь от них надо было освободиться. — Если хочешь завоевать расположение женщины, пойдешь и на преклонение, на известные издержки, моральные и материальные. Женщины любят, когда их носят на руках. Одни предпочитают вещественные знаки внимания — сувенирчик, подарочек, другие — ласку, заботу, приятное слово, третьи — то и другое. А то как же? Женщины любят, чтоб говорили им приятное, разные там комплименты. — Ну да, всякую чушь, — мрачно процедил Пришелец. — О, Белла, как ты прекрасна! И жабоподобное двуногое тает, как маргарин на солнце, и мнит из себя этакую Афродиту. Да ведь комплимент — это разновидность лести и лжи. Комплимент развращает женщину. Возводя женщину в культ, мы портим ее. А я ненавижу все виды культа — в политике, в искусстве, в науке, в любви! — Любовь — особая статья, — возразил Зубров и причмокнул сочно языком, — Одно дело мимолетное увлечение, легкий флирт, что-то случайное и несерьезное, не глубокое. Другое дело — любовь. А когда мы любим, мы теряем чувство реальности по отношению к любимой. Мы идеализируем ее и делаем это искренне. Сами верим в то, что говорим, в те добродетели, которыми так щедро одариваем любимую. И раскормленная толстуха нам кажется сказочной феей из «Лебединого озера», и в пустой легкомысленной девчонке вы видим кладезь ума, таланта и души, хищную эгоистку считаем воплощением доброты. Наделив ее всеми лучшими, какие только существуют в мире, качествами, мы внушаем ей со слезами умиления, что она самая прекрасная, самая-пресамая на всей планете, ангел во плоти. Из поколения в поколение, из века в век одними и теми же словами влюбленные пели гимны своим любимым. Украинцы ласкательно говорят: рыбонька моя, русские называют зоренькой, радугой, реченькой и как только не величают. Пели и будут петь, пока существует род людской. Миллионы женщин миллион раз задавали любимым один и тот же вопрос: «За что ты меня любишь?» И получали стандартный ответ: «Ты самая прекрасная в мире, самая умная и самая добрая», ну, в общем — «самая». — Но это же ложь, — нетерпеливо перебил Пришелец. — Ложь, которая оборачивается большими неприятностями. Обожествлять ничтожество, лгать, притворяться из-за поцелуя и тому подобного — глупо. Это разновидность язычества, когда создают из дубового полена истукана, обожествляют его, молятся и поклоняются ему. Сами создают добровольно и верят в свою же выдумку. Когда этот идол деревянный — там куда ни шло — молись, приноси ему жертвы и дары. А наши идолы живые, они тоже верят в сказки, которые мы им рассказываем, в добродетели, которыми мы их наделяем, Верят! И уже свысока смотрят на сочинителей этих сказок и думают: коль я такая необыкновенная, так зачем ты мне нужен, обыкновенный?! Поищу-ка я себе равного. Они неблагодарны. Вашей жертвы не оценят. Считают, что так и должно быть, что не они, а вы должны быть им благодарны за ваше же внимание и доброту. И знаете, к какому выводу я пришел на основе личного опыта? Женщине нельзя давать больше, чем она стоит, переплачивать нельзя. Ни в коем случае. Лучше недооценить, чем переоценить. Уверяю вас. Испытал на собственной шкуре. Ошибался и учился на ошибках. Если вы дадите ей больше, чем она заслужила, считайте, что ваша песенка спета. Она возомнит о себе и сядет вам на шею, она перестанет уважать вас как раба, не то что любить. От прежней любви к вам, или по крайней мере видимости, подобия любви и следа не останется. Она будет требовать от вас все больше и больше, а взамен вы не получите ровным счетом ничего. Даже доброго слова, искренней ласки не дождетесь. Ипполит Исаевич говорил вдохновенно, даже самозабвенно, словно с профессорской кафедры возвещал непререкаемые истины, которые открыл и первым поведал миру. Зубров слушал его с неожиданным интересом, не перебивал и не возражал. Ему казалось, что этот матерый специалист по женской психологии высказывает и его собственные мысли, что и он, Михаил Михайлович, совершенно согласен и готов подписаться под каждым словом Пришельца. Ему было приятно, что не один он так думает, что у него есть авторитетные единомышленники. Слушая Пришельца, он вспоминал Наталью Максимовну, ее капризы, вдруг вспыхнувшие вчера и особенно сегодня, в размолвке, когда они, выйдя из «Сказки», выехали на лесную поляну, и он в машине пытался обнять ее и получил такой неожиданно резкий отпор, что даже смутился, — перед ним была гордая и самонадеянная женщина, ни капельки не похожая на его прежнюю Наточку, удовлетворявшую все его желания. Он пытался найти причину такой перемены и, не найдя ничего другого, решил, что это результат вчерашнего выяснения отношений между супругами Ященко, о чем говорила в ресторане Наталья Максимовна. Антон Фомич, оказывается, вчера весь день был дома, поджидая свою супругу, ушедшую неизвестно куда и зачем, а потом под вечер видел, как она выходила из машины, за рулем которой сидел Зубров. Съедаемый ревностью и обидой, на этот раз Антон Фомич изменил своему прежнему многолетнему терпению, не выдержал и хоть негромко, без грубых слов, тактично напомнил жене, что своим поведением она компрометирует его, человека если нелюбимого своей супругой, то вполне уважаемого в порядочном обществе. При этом тихий, упавший голос Антона Фомича дрожал, прерывался, переходя на шепот отчаяния и безысходной тоски. И может, впервые в душе Натальи Максимовны слабым, едва мерцающим огоньком просветлело чувство жалости и стыда, пожалуй, даже не стыда, а неловкости и смущения. Тем более, что в ней неприятный осадок оставила квартира, несомненно, принадлежавшая одинокой женщине и, возможно, бывшей любовнице Зуброва. Тогда ей подумалось, что со временем и она может стать вот так же «бывшей». Так стоит ли долго ждать того времени, а не покончить ли сейчас? Побаловались — и хватит: лучше самой первой уйти, чем ждать, когда тебя бросят. Роль отвергнутой любовницы больно задевала ее самолюбие. И Наталья Максимовна на этот раз не перешла в контратаку, как это раньше бывало, а выслушала мужа с видом кротким, полным если не раскаяния, то сожаления. А потом, как всегда, говорила неправду: встретила его случайно, полчаса тому назад, он ехал к ним, чтобы пригласить на свой день рождения, что симпатизирует Зубров вовсе не ей, а Антону Фомичу. В дом не зашел потому, что спешил еще к кому-то с той же миссией, с какой ехал к нам, что как мужчина Зубров ей вовсе не нравится, что он груб, самонадеян и туп, а поддерживает она с ним только деловые отношения, и Антон Фомич знает, какие. 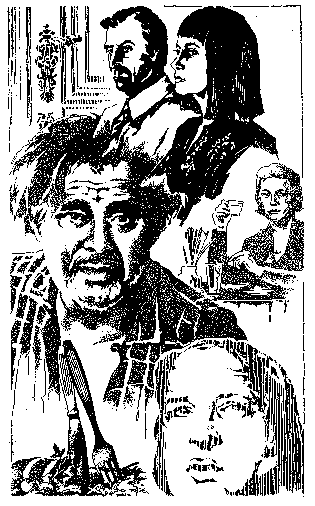 Вспышка ревности окончательно была погашена нежностью и лаской, по которым Антон Фомич давно тосковал. Монолог Пришельца Зубров мысленно примерил к Наталье Максимовне и находил, что он ей подходит тютелька в тютельку. Что она вовсе и не красавица, и никакого очарования в ней нет, и далеко не умна, пустая холодная эгоистка, злая, самонадеянная и, наверное, мстительная. Этот старый дурак Ященко набаловал ее вниманием, развратил неземными комплиментами и дорогими подарками, вознес до небес, А ее надобно спустить на землю, указать ей подлинную цену, дать понять, что она ничто, всего-навсего заурядная бабенка. И он, Зубров, это сделает и не позже, чем в следующую субботу. Вспомнилось ему, как во время последней встречи он нежно назвал ее ласточкой, а она вдруг возмутилась: — Как грубо, какие-то птичьи клички. — Да, я понимаю, тебя твой Антон рыбонькой называет… — А ты откуда знаешь? — удивилась она. — Все украинцы женщин рыбоньками называют. «Я ж тебя, рыбонька, я ж тебя милая, тай на руках понесу», — неумело пропел он и потом добавил с иронией: — Только не уточняют, что за рыба — селедка, щука, треска или нототения… под маринадом. Представляю: «Милая севрюжка», или «Кохана камбалка». Вяленая, жареная, копченая, сушеная… Наталья Максимовна невольно улыбнулась и сказала, уже смягчившись: — По-твоему, птичьи ласки благозвучней: «Любимая совушка», «Дорогая ворона»… Когда Зубров уехал, Ипполит Исаевич по своему обыкновению после встречи с кем бы то ни было мысленно подводил итоги, анализировал и делал выводы. Последняя встреча с Зубровым дала ему пищу для серьезных размышлений. Во-первых, нужно готовить подарок имениннику: дата кругленькая, и какой-нибудь символической безделушкой не отделаешься. Но не это главное. Главное — бриллиантовые кольца. В памяти застряли слова Зуброва: «Как только одно из похищенных колец объявится на свет божий — в комиссионном магазине или на черном рынке, преступник будет найден». Ищут, конечно, не только бриллиантовые кольца, но и фианитовые аналоги. Аля, дочь. А что если она решит избавиться от подаренного кольца и снесет его в комиссионный? Тогда все — суши сухари. Этого допустить нельзя. Надо во что бы то ни стало вернуть кольцо. Любой ценой. И сделает это Павлов. Адрес и телефон бывшей жены он узнает через справочное бюро — это не проблема. Важно, чтобы Павлов сумел: купить, обменять на другое, равноценное, есть у него с бирюзой, с сапфиром, с яхонтом, рубином. Пусть скажет, что алмаз не натуральный, пусть сочинит легенду, что якобы кольцо это его, Павлова, невесты, и Пришелец не имел права распоряжаться им, что сделал он это в состоянии крайнего опьянения. Есть еще один не менее опасный источник угрозы: Арсений Львович Бертулин. Пришелец не без оснований полагал, что органы розыска опросят всех ювелиров, это, пожалуй, первое, с чего они начнут. Ясно, что фианитовые кольца сделаны частником-ювелиром по специальному заказу. Как поведет себя Бертулин? На этот вопрос у Ипполита Исаевича не было твердого ответа. Старик — орешек твердый, воробей стреляный и не клюнет на мякину. Это с виду он мягонький, чистенький, девственный интеллигентик. В его положении лучше молчать. Признаться — значит и себя выдать как соучастника. Но кто знает: нервы могут не выдержать, история с кулоном, несомненно, нанесла ему душевную травму. Старик, при всей его осторожности, сдержанной щепетильности, стал пугливым, а страх плохой помощник, он в самую критическую минуту создает помеху выдержке и хладнокровию. Надо съездить в Дядино, поговорить откровенно, начистоту и что-то придумать. Посоветовать ему на время уехать подальше от Москвы: к родственникам, в санаторий, в туристическое путешествие, да куда угодно, только бы избежать встречи с милицией. Пришелец может достать ему путевку в Дом творчества писателей, композиторов. Для него это раз плюнуть при его-то связях! Да, решено — завтра же ехать в Дядино, немедленно, с утра. И Павлову дать задание насчет Али тоже завтра. Сразу после того, как Павлов рассказал о встрече с капитаном милиции Мироновой, о ее колючих вопросах, Ипполит Исаевич интуитивно почувствовал, что над ним сгущаются тучи, но разумом не желал их принимать всерьез, по крайней мере не придавал им значения, поскольку не видел в них реальной опасности. Он даже не хотел сознаться самому себе, что в пылу самоуверенной неуязвимости где-то допустил оплошность, пренебрег осторожностью. В том числе и с опрометчивым подарком Але. Он понимал, что в его положении надобно на время замереть, прекратить всяческие операции, вроде аферы с жидким золотом и бриллиантовыми кольцами. Понимал разумом, но инстинкт хищника всегда оказывался сильнее здравого рассудка. Элементарная логика подсказывала, что новую попытку завладеть бриллиантовым кулоном Норкиных нужно отменить или по крайней мере перенести на более позднее время. Так нет же! Таков уж был характер Пришельца — на крупную наживу он шел с яростью и напором хищного зверя. Он считал, что время работает на него. Он располагал информацией о фактах крупномасштабных хищений, исчисляемых миллионами, фактах, которые даже не попадали на страницы печати, и это его вдохновляло. Мол, другие вон как орудуют и выходят сухими из воды. Не всегда, правда, — попадаются н получают длительные сроки, но попадаются дураки и зарвавшиеся дилетанты. Туда им и дорога. Он, Ипполит Исаевич, не из таких, — он понимает, что когда есть шанс упасть, надо заранее позаботиться о соломе, И он позаботился. Тот же Зубров — неужели не придет на помощь, как уже однажды приходил? Или Земцев. Хотя Яков Николаевич ему нужен для другой роли. Об этом человеке Пришельцу с большим трудом удалось навести кое-какие справки. Земцев, конечно, сила, авторитет, влияние его бесспорно: он имеет связи, пользуется доверием, слывет талантливым организатором, крупным специалистом в сфере международных экономических связей. Его знают за границей многие торгующие с нами фирмы. Но и у него, как стало достоверно известно Ипполиту Исаевичу, рыльце в пуху. Это он закупил у одной зарубежной фирмы медицинское оборудование по чересчур завышенной цене в ущерб государству и к бесспорной выгоде хозяина фирмы, якобы симпатизирующего СССР. Конечно же, на таких условиях можно не только симпатизировать, но и объявить себя другом «этих наивных русских». Фирма отблагодарила Якова Николаевича: на его счет в швейцарском банке поступила определенная сумма. Конечно же, это осталось тайной, неведомой не только Пришельцу, но и лицам более компетентным. Прирожденное чутье и житейский опыт подсказывали Пришельцу, что Земцев имеет за рубежом солидную «материальную базу». Для Якова Николаевича поездки за границу были явлением самым обычным, как для какого-нибудь столичного репортера командировка в Рязань, Ростов или Ригу. Ипполит Исаевич, как человек практичного ума, никогда прежде не мечтал о жизни за границей. Он был чужд наивных иллюзий и считал, что в том мире благополучие человека в большей степени зависит от фортуны. А в нее он не верил. Брату своему, который в прошлом году из Венгрии перебрался в Австралию, не завидовал. Ипполит Исаевич считал, что для его способностей и его характера СССР — самая идеальная, можно сказать, «страна обетованная». Здесь он процветал без особых усилий и риска. Там он не видел простора для своей деятельности «свободного предпринимателя», как он в шутку величал сам себя, — там и в мафии свирепствуют жестокие законы. Здесь же практически никакой конкуренции — простор, целина. Суд и непродолжительное пребывание в зоне не отпугнули его и кое-чему научили в профессиональном смысле. Он пробовал себя в самых различных сферах деятельности, которая в уголовном кодексе именуется преступной, и везде у него получалось! Он не относил это на счет слепого везения, а верил в свой талант, способности: ум, смекалку, хитрость, расчет, знание людской психологии, умение воспользоваться человеческими слабостями. Но в последнее время он стал думать, что хорошо бы иметь на случай «материальную базу» за границей. Основа для такой базы есть: в тайниках — и в московской квартире, и в Сокольническом парке — хранились драгоценные камешки, платина и золото, доллары и фунты. Не хватало лишь бриллиантового кулона. Да и он будет — в этом Ипполит Исаевич ни капельки не сомневался. Но как все эти сокровища, или хотя бы часть, переправить за границу, в ту же Австралию? Вопрос не простой, проблема из проблем. И разрешить ее можно только с помощью Земцева. Само собой разумеется, это потребует немалых расходов. Надо попытаться в субботу на даче Зуброва сойтись с ним поближе. Зубров — поддержка верная, но без достаточной гарантии. Он может помочь на первом этапе. А если дело дойдет до суда? Вот тут-то и будет полезен Петр Михайлович Малярчик. В суде у Пришельца есть надежный человек — Вероника Георгиевна Забродова — дама решительная и главное — алчная. Давно он не виделся с Забродовой, надо бы найти повод пообщаться. Сводить ее в ресторан или пригласить к себе домой — противно: уж больно она непривлекательна, ну просто каракатица. Но что-то нужно придумать. Ипполит Исаевич взглянул на часы: было без четверти двенадцать. И вдруг он ощутил смертельную усталость во всем теле, как будто весь день занимался тяжелой физической работой. Приказал себе: «Спать. Утро вечера мудренее», — и направился в спальню. 3 Дача у Зуброва по Дмитровскому шоссе — рубленая, с просторной мансардой под ломаной, крытой оцинкованным железом крышей. Михаил Михайлович купил ее в позапрошлом году у вдовы генерал-полковника, подремонтировал, все четыре комнаты внизу и две комнаты мансарды обшил вагонкой, добротно пропитанной олифой, отливающей мягким золотистым сиянием. Поставил новый забор из штакетника, покрасил под цвет дома густо-голубой краской; для контраста столбы, оконные рамы, а также балкон — белилами. Дача получилась веселая, внушительная. В пятницу чуть свет нежданно-негаданно для Михаила Михайловича приехал из Белоруссии его старший брат, Егор. Егор работал в колхозе комбайнером, а так как уборочная страда еще не началась, он не в ущерб делу позволил себе отлучиться на несколько деньков, чтобы от всей семьи Зубровых и вообще от земляков поздравить брата с сорокалетием. Привез он общий от всех Зубровых подарок — дорогую хрустальную вазу (специально в Минск за ней ездили) и портфель из натуральной кожи, импортный, внушительный, с золочеными застежками. И конечно же, деревенские гостинцы: увесистый кусок сала, сдобренного тмином, два кольца домашней колбасы, необыкновенно вкусной, неповторимой — какую могут делать только в Белоруссии. Неурочное появление нежданного гостя в первые минуты смутило Зуброва до такой степени, что он даже не смог скрыть своего неудовольствия фальшиво прозвучавшими словами: «Рад тебя видеть, Егор, совсем кстати приехал». Егор без труда угадал, что мысли и чувства брата совсем не соответствуют его радушным словам. Он явно был нежеланным гостем и никак не «вписывался» в компанию приглашенных. Егор был старше Михаила четырьмя годами и, по мнению младшего брата, особой скромностью не отличался; заядлый спорщик и говорун, он любил порассуждать по общественно-политическим и иным вопросам, хотя и имел всего-навсего среднее образование. «Да он может нам всю обедню испортить», — с досадой подумал Зубров-младший, приглашая Егора в большую квадратную комнату, называемую гостиной. А когда Егор разложил подарки, растерянные глаза Михаила потеплели, и голос звучал уже мягче и ласковей: — Я ведь, Егор, не собираюсь устраивать торжества. Дата не юбилейная, хотя и круглая. Сорок лет в наше время не возраст. Я человек скромный. Как это раньше говаривали — скромность украшает большевика. — Так это ж большевика, то давно было. А теперь где они большевики? — не совсем к месту ввернул Егор, но брат не обратил внимания на его реплику и продолжал говорить, главное, о чем он спешил заранее предупредить незапланированного гостя: — Возможно, завтра на дачу подъедут ко мне самые близкие друзья, два-три человека — хотят поздравить. Известные, высокие посты занимают люди, герои, лауреаты, депутаты. Ну, понимаешь, один крупный ученый, другой дипломат — по заграницам разъезжает, так ты уж постарайся не ударить лицом в грязь. Не вступай в дискуссии. Сиди и слушай. Умных людей я лично предпочитаю слушать молча. — И улыбнулся с дружеским покровительством. В голосе и в глазах брата Егор прочитал не только совет, но и просьбу, за которую тот смущенно извинялся. Именно это и не понравилось Егору, что-то обидное для себя уловил он в словах и в поведении брата. Да что теперь поделаешь — не возвращаться же. Раз уж попал на чужой пир незваным гостем, то сиди, помалкивай. Просьбу брата Егор выслушал молча, ничего не сказал. За завтраком отведали белорусского сала, колбасы. Любовь Викторовна и Михаил Михайлович ели с удовольствием, нахваливали, такого продукта в Москве и на рынке не найдешь! От рюмки водки Егор категорически отказался, сказал, что с утра он не употребляет и вообще ограничивает себя в спиртном. — Что так? — только для вида, чтобы поддержать разговор, полюбопытствовала Любовь Викторовна. — Раньше, мне помнится, ты выпивал. — Выпивал, — согласился Егор. — Но особенно не увлекался. А теперь так, по случаю когда. — Ограничитель поставил, — пошутил младший брат. — Организм воспротивился, — улыбка затерялась в подсмоленных табачным дымом рыжих усах Егора. Усы эти, густые, внушительные, с острыми концами, опущенными вниз, как-то не соответствовали внешнему облику хозяина — невысокого, остролицего, щуплого и подвижного. Егор совсем не был похож на Михаила, и трудно было поверить, что они родные братья. В семье Зубровых было четверо детей — две сестры и два брата, Михаил — самый младший и разительно непохожий ни на отца, ни на мать. Не только внешностью, но и характером. Хитрый, напористый эгоист — любимчик матери — он ловко создал для себя особое положение в семье, проявив недюжинные способности — сообразительность, смекалку и непреклонность в достижении цели. В семье Зубровых знали, если Мишка что задумал, то правдами и неправдами своего добьется. Он рано и без сожаления расстался с родной деревней: сразу после окончания школы уехал в город. Сны детства его не одолевали, о рябине под окном отчего дома он не вспоминал и за все время лишь дважды навестил родные края: первый раз появился в новеньких погонах лейтенанта, когда еще был жив отец, и в последний раз уже в звании майора приехал по зову больной, умирающей матери. С ее смертью зыбкая связь Михаила Зуброва с родной деревней практически совсем оборвалась. На редкие письма сестер и брата он отвечал коротко, да и то не всегда. Своими заботами, радостями и печалями не делился, жизнь брата и сестер его не интересовала. В последнем письме Егор писал брату, что сын его Александр решил поступить в Саратовское училище МВД имени Дзержинского и спрашивал мнение на сей счет: правильный ли выбор сделал Александр. В ответном письме Михаил похвалил племянника и сам уже не помнит, зачем и с какой стати сообщил, что время незаметно подвело его к ответственной жизненной черте, к сорокалетию. И для пущей, что ли, убедительности, сообщил дату рождения, о чем теперь горестно сожалел. Разговор за завтраком протекал как-то сумбурно, торопливо, Михаил спрашивал брата для вида, чтоб не молчать, ответы слушал рассеянно, они его нисколько не интересовали. О своем житье-бытье ничего не говорил. После завтрака Михаил поспешил на службу, а Егор отправился на ВДНХ и вообще побродить по Москве, благо погода стояла солнечная, теплая. Условились встретиться в пять часов, чтоб всем вместе ехать на дачу. В отличие от мужа Любовь Викторовна была довольна приездом Егора: он с утра начал приводить в порядок дачу, вымыл в доме полы, убрал двор, помог приготовить и накрыть праздничный стол. В конце концов и Михаил успокоился. Гостей ждали к двенадцати часам, но уже в одиннадцать с небольшим овальный стол на большой террасе, накрытый на десять персон, был готов к торжеству. С помощью Егора Любовь Викторовна все успела сделать досрочно. Оделась, как было задумано, очень скромно: белая кофточка и голубая с большими карманами юбка. Первыми приехали Малярчики — дородная, с глазами навыкате Виктория Лазаревна, одетая в длинное парчовое трубообразное платье без талии, напоминающее и серебристым цветом и формой межконтинентальную ракету; и вертлявый, непоседливый, с беспокойными бегающими глазками Петр Михайлович, в светлом, легкого спортивного покроя костюме. Торжественно водрузив на стул картонную коробку с электрическим мангалом, он сказал шутливым, почти дружеским тоном: — На память о кавказских шашлыках. В холодных глазах Малярчика Зубров увидел скрытую насмешку. Подумал: «Ты, жлоб, не раскошелишься. Небось самому кто-то подарил?» Ответил, однако, дружелюбно, как и полагается хозяину: — Теперь остановка за бараниной. — Думаю, что для тебя это не проблема: дай знать Тофику — и через три часа будешь иметь живого барана и ящик отборного коньяка, не разбавленного в Мытищах, — шутливо подсказал Петр Михайлович Малярчик. Их диалог прервал легкий шум мотора. У калитки остановилась светлая «Волга», приехали Ященки и с ними Земцев, один, без жены. За рулем сидел не пьющий Антон Фомич. Наталья Максимовна, нарядная, в платье декольте, шла к даче под руку с Яковом Николаевичем. Позади них двигалась тучная, монументальная фигура Антона Фомича, держащего как грудного ребенка полуметровую керамическую вазу. Вся нелепость этой вещи состояла в том, что не знаешь, куда ее поставить: на стол — она слишком громоздка, на пол — недостаточно высока… «Сплавили ненужную вещь», — зло подумал Михаил Михайлович, целуя руку Натальи Максимовны. Земцев подарил японскую шариковую ручку с электронными часами, показывающими время, число и месяц. Этот подарок тоже не привел в восторг именинника, а Малярчик язвительно заметил, что в этой ручке не хватает термометра, барометра и телевизора. — Со временем будет, к пятидесятилетию Зуброва японцы изобретут и такое. — Улыбка чуть оживила холодное лицо Земцева. Можно было садиться за стол, стрелки часов перевалили за двенадцать, и Любовь Викторовна вполголоса спросила мужа: — Кого ждем? — Одну крысу, — раздраженно ответил Зубров, злясь на Пришельца. Пришелец расчетливо приехал последним: он хотел, чтобы все видели его подарок имениннику: японский стереофонический магнитофон с вмонтированными в корпус двумя очень чувствительными микрофонами. Ипполит Исаевич по-братски обнял и облобызал именинника, вручил его супруге букет алых роз, дружески поздоровался с Земцевым и Ященками и отвесил почтительный поклон Малярчикам, которым он был представлен самим хозяином, из чего заключил, что магнитофон пришелся по душе. Старшего брата своего Михаил Зубров представил гостям сразу, как только они расселись за столом, сказав, что Егор бывший партизан Великой Отечественной, ныне — колхозный механизатор, пока еще не герой и не лауреат, но ударник, награжденный орденом Трудового Красного Знамени. Слова брата смутили Егора, он даже покраснел под перекрестными взглядами гостей, но вскоре о нем забыли и перестали обращать внимание. Он наблюдал за «высокопоставленными» друзьями брата, прислушивался к их застольным речам и пытался составить о каждом свое мнение. Прежде всего его заинтересовал Ипполит Исаевич, судя по подарку, самому дорогому из всех, заключил Егор, этот человек либо богатый и щедрый, либо подчиненный Михаила. В отличие от других гостей он вел себя скромно. За столом Пришелец сидел между Викторией Лазаревной и бритоголовым, тонкогубым дипломатом — так решил Егор — Земцевым, немногословным, сдержанным и вообще человеком «себе на уме». Вскоре Егор увидел, что скромность Ипполита Исаевича поддельна, что под личиной тихони кроется, старающийся беззастенчивой лестью и угодничеством понравиться Виктории Лазаревне хитрован. Хотя Ипполит Исаевич не забывал и о другом своем соседе, к которому все, исключая, пожалуй, Малярчиков, относились с подчеркнутым подобострастием. И что поразило и даже обидело Егора, так это отношение гостей к имениннику. Было в этом отношении нечто снисходительное, даже скрытно-ироническое, словно все забыли, по какому поводу собрались. В центре внимания оказался Яков Николаевич Земцев, хотя Виктория Лазаревна никак не хотела уступить ему пальму первенства. Она говорила громко, бесцеремонно перебивала других грубым низким голосом, в котором неизменно звучали поучительные нотки человека, совершенно уверенного в своем превосходстве. Когда Антон Фомич, которого Егор принял за министра, сообщил, что вчера он вычитал в газете, как одна пенсионерка-колхозница из Закарпатья внесла в Фонд мира пять тысяч рублей, Виктория Лазаревна, не моргнув глазом, осадила его резким окриком: — Чушь! Выдумка газетчиков. Ященки, которые не были раньше знакомы с Малярчиками, недоуменно переглянулись, Антон Фомич недовольно фыркнул, а Наталья Максимовна, найдя реплику Виктории Лазаревны грубой и оскорбительной, заметила: — Вы не доверяете нашим газетам? — Я не верю глупым сказкам падких на сенсацию газетчиков, — раздраженно ответила Малярчик. — Тогда, может, вы объясните цель подобных сказок? — насупился Антон Фомич. Виктория Лазаревна не сразу нашлась с ответом, на выручку ей мгновенно пришел Пришелец: — Это нечто вроде рекламы. Приглашение последовать примеру колхозницы-патриотки. Сдавайте лишние деньги в Фонд мира, не держите их в кубышках. Говорят, в деревне скопились огромные суммы денег, которые лежат мертвым балластом. — Лишних денег в природе не существует, — сказала Наталья Максимовна. — У вас они есть, Ипполит Исаевич? — Я говорил не о себе и не о вас, я говорил о деревне. — Вот представитель деревни, — продолжала Наталья Максимовна, глядя на Зуброва-старшего: — Как вы считаете, Егор Михайлович, бывают лишние деньги? — Может, и бывают, если они нетрудовые, — смущенно пожав плечами, ответил Егор. — А заработанные честным трудом, как же они могут быть лишними хоть в деревне, хоть в городе. Слова его вызвали лишь иронические ухмылки. — Мы говорим о разных вещах, дорогая Наталья Максимовна, — поспешил опять вмешаться Пришелец. — Колхозница-пенсионерка живет где-то в закарпатской глуши. Ее интересы и потребности нельзя сравнивать с вашими. Современные наряды ей не нужны, в ресторане она никогда не была, о Сочах и Ялтах не имеет представления, на самолете не летала. Ей не на что тратить деньги. Она заработала их на рынке, торговала продовольственным дефицитом, а это и есть натуральная спекуляция. В каждом слове Пришельца Егору слышалось высокомерное презрение. Вспыльчивый от природы, горячий и откровенный, он легко «заводился» в споре и иногда терял самообладание. С трудом преодолевая волнение, забыв о просьбе брата молчать, он резко оборвал Ипполита Исаевича: — Да, да, разумеется, конечно, зачем ей деньги?! И вообще, зачем ей жить?! Только небо коптить! В театре не была, в Третьяковке тоже. За границу туристом не ездила, по Парижам и Лондонам не хаживала, Толстого не читала. — Голос его дрожал от волнения и срывался. — Но она человек, она знает то, чего не знают… некоторые другие, и видела то, чего другие не видели: и как цветет лен, как восходит и заходит солнце, слышала курлыканье журавлей, звоночек жаворонка в небе и флейту иволги, она знает запах свежего сена, спелой ржи и парного молока. Вы правильно сказали, она не летала на самолете. Но и вы не летали на автомобиле, на котором будут летать по воздуху наши внуки или правнуки, вы, к примеру, не были на луне… — А мне там нечего делать, — перебил Пришелец. Наталья Максимовна по кислому выражению лица Зуброва поняла, что он недоволен братом, осуждает его и стыдится, потому и заняла сторону Егора. Ее последняя встреча с Михаилом Михайловичем в ресторане «Сказка» внесла в их отношения что-то непоправимое. Она вдруг поняла, что Зубров далек от ее идеала, что как человек он мало чем отличается от ее мужа. Антон Фомич труслив, лжив, своекорыстен, завистлив и честолюбив, жаден до денег и ради своего служебного и материального благополучия пойдет на все. Прежде она закрывала на это глаза: мол, он для нее старается, и если делает противозаконные дела, то только для своей любимой жены, так он ей внушал, оправдывая свои поступки. В первые годы замужества она закрывала на это глаза, потом увлеклась Зубровым. В нем она видела мужчину сильного характера, целеустремленного, напористого и находчивого, одаренного острым умом и смекалкой. Она видела то, что хотела видеть, и не замечала того, что было на самом деле. Увлечение Зубровым оказалось недолгим, отрезвление произошло как-то вдруг, внезапно. Таков был характер Натальи Максимовны: все ее действия и решения происходили «вдруг». — Сейчас, конечно, сейчас на луне вам нечего делать. Я говорю о будущем, через полсотни лет ваши внуки… — продолжал Егор. — У меня нет внуков. А через полсотни лет, уважаемый, и меня не будет, — возразил Пришелец. Но Егор продолжал горячиться: — Ну и что из того, что вас не будет?! А люди будут! — Браво, Егор Михайлович! — воскликнула Наталья Максимовна и захлопала в ладоши. Она поднялась из-за стола, подошла к Егору, обвила руками его шею и сочно поцеловала. Это был вызов и Зуброву, и Пришельцу, и самонадеянной Малярчик, затеявшей дурацкий спор о лишних деньгах. Виктория Лазаревна не понравилась ей с первой минуты, когда Малярчик осмотрела ее высокомерным и ревнивым взглядом. Наталья Максимовна считала себя неотразимой и сегодня хотела быть первой дамой бала, и имела на это все основания. И вдруг на первенство заявила свои права какая-то самозванка, неизвестно каким образом здесь оказавшаяся. Уверенная в своем превосходстве, Наталья Максимовна такого стерпеть не могла и готова была на любую выходку, призвав к себе в союзницы Любовь Викторовну. Жена Зуброва ей понравилась: она оказалась совсем не такой, какой рисовал ее муж. Она привлекала непринужденностью в общении. В ее светлой, теплой улыбке, в мягком говоре светилась веселая доброта. И то, что Зубров незаслуженно дурно отзывался о своей жене, вызывало у нее лишь чувство неприязни к бывшему любовнику. И это все она демонстрировала Зуброву. Слишком самонадеянный, занятый самим собой и совершенно не знавший другую Наточку — Наталью Максимовну — гордую и дерзкую, Михаил Михайлович не придал значения ее выходке. И в этом был его просчет. Наблюдательный Земцев лучше Зуброва понимал Наталью Максимовну. Они были знакомы более пяти лет, и хоть не часто, может, раз в год, встречались в домашней обстановке, главным образом на квартире Ященки или у общих друзей. К себе Земцев не приглашал и в гостях всегда появлялся один, без жены, каждый раз сочиняя какую-нибудь причину ее отсутствия — легкое недомогание и тому подобное. Наталья Максимовна чисто женским чутьем догадывалась, что дело тут не в недомоганиях, а в чем-то другом, а в чем именно, она не могла определенно сказать, и это разжигало ее женское любопытство». Оно обострялось еще тем, что сам Яков Николаевич со своей холодной вежливостью и сдержанной недоступностью тоже был загадкой. Наталья Максимовна не любила неразгаданных тайн и предпочитала во все вносить ясность. Она знала, что ее муж связан с Земцевым чисто деловыми отношениями, и отношения эти выходят за рамки законности. И вот однажды Ященки случайно встретили в Большом театре Якова Николаевича с женой — маленькой, высохшей старушкой — и вначале не могли определить, кем она ему доводится — женой или матерью. Наконец, в перерыве в фойе Земцевы и Ященки столкнулись лоб в лоб, и Яков Николаевич, подавляя в себе легкое смущение, познакомил их с супругой, которая была намного старше его. Таким образом одна загадка была разгадана, оставалась другая: сам Яков Николаевич. Но в это время Наталья Максимовна познакомилась с Зубровым, и Земцев, как говорится, отошел на второй план. О более чем близких отношениях Натальи Максимовны и Зуброва Земцев догадывался, однако он не знал, что эти отношения дали глубокую трещину, поэтому не совсем понял ее женский порыв в поддержку Егора. Он посчитал это вызовом Виктории Лазаревне и ее переусердствовавшему опекуну и знал, что экстравагантную Наталью Максимовну трудно будет остановить, и в этом случае не избежать скандала, в который будут втянуты все присутствующие. Перегрызутся и разделятся на два враждебных лагеря. А зачем, во имя чего, спрашивается, такое удовольствие? Нельзя этого допустить, сказал сам себе Яков Николаевич, тем более, что и он не прочь был заслужить расположение Виктории Лазаревны, а точнее ее мужа, беспрекословно исполнявшего все пожелания своей властной супруги. И Яков Николаевич решил перевести разговор в мирное русло. Он торопливо искал сюжет разговора, такой, который мог бы привлечь всеобщее внимание. Он не был мастаком на анекдоты и не держал в уме про запас, на всякий случай, пикантную быль, не коллекционировал курьезы для веселой компании, но предпочитал слушать других. И, не найдя ничего подходящего, он решил рассказать случай, который произошел вчера и глубоко его задел. Он заговорил, как бы обращаясь только к Виктории Лазаревне и Пришельцу: — Есть у меня подчиненный с неприличной фамилией: Гумно. И представьте себе, гордится своей фамилией. Афанасий Гумно. Участник войны, пенсионного возраста детина. В общем, соответствует… фамилии. Вчера я пригласил его, чтобы предложить пенсию. Не желает. Ощетинился, в бутылку полез: мол, другие вон какие посты занимают, а и после семидесяти не собираются на пенсию. А вы меня насильно в шестьдесят гоните. Я посмотрел на него и говорю: «Послушайте, Афанасий Андреевич, а почему б вам не поменять фамилию?» — «А это зачем?» — удивляется. «Неблагозвучная она», — говорю я. «Неблагозвучная, зато моя, собственная. Отец, — говорит, — с этой фамилией Перекоп вместе с Фрунзе штурмовал, а я Прагу от фашистов освобождал. Так что менять мне ее ни к чему». — «Да не совсем она приличная», — говорю. «А что в ней неприличного? Гумном, — говорит, — на Смоленщине называют помещение, где хлеб молотят. Фамилии, они со смыслом, значит, предки мои хлеборобами были». Земцев замолчал, не досказав продолжение своего разговора с подчиненным. А сказал ему Афанасий Андреевич Гумно вот что: «Ваша фамилия, Яков Николаевич, тоже со смыслом и значением». И было тогда в его взгляде столько ядовитого презрения, что Земцев внутренне вздрогнул и без колебаний решил для себя: на пенсию этого Гумно, и немедленно. — В наше время сделать новую фамилию все равно, что носовой платок купить. Даже отчество можно запросто менять, — весело заметил Зубров. — У нас сотрудник Вшивцев поменял фамилию на Айсберг, представьте себе со значением: служил на Северном флоте срочную службу, плавал в северных широтах, и однажды их подводная лодка якобы чуть не столкнулась с айсбергом. Но его слова не удостоили вниманием. И после какой-то неловкой паузы Виктория Лазаревна как бы заключила то, о чем говорил Земцев: — Не хотят уходить на заслуженный покой, не желают. Вон и шеф Петра Михайловича, уже совсем в маразме, старый гриб, ему уже за семьдесят пять перевалило, на работе спит, на совещаниях — дремлет, а на пенсию не желает. — Ну это ты напрасно, — недовольно поморщился Малярчик: жена выбалтывала служебную тайну. — На совещаниях иногда и молодые спят. — Да ведь я к тому говорю, — продолжал свою мысль Земцев, — что кивают на пожилых руководителей. Но это в корне неправильно, попросту — глупо. Умному человеку и не нужно уходить на пенсию в шестьдесят. Умный может и до ста лет работать, если, конечно, он работоспособен. А если ты, простите, гумно, то нечего тебе место занимать и бравировать своим происхождением и заслугами предков. Наталья Максимовна сразу разгадала Земцева: решил увести разговор в сторону этот «ликвидатор конфликтных ситуаций», как назвал его однажды Антон Фомич. Она посмотрела на Егора. Он не сводил глаз с Земцева. Во взгляде его Наталья Максимовна уловила что-то болезненное, точно своим рассказом об Афанасии Гумно Яков Николаевич хотел унизить и его, Зуброва Егора Михайловича. Она видела, как бросает полные презрения взгляды на Егора мадам Малярчик. И спросила себя: а кто же она такая, эта толстуха, что всегда независимый Пришелец лебезит перед ней, и даже всесильный, гордый и загадочный Земцев угодничает? И вполголоса спросила Зуброву, кивнув в сторону Малярчика: — Кто он, этот тип? Откуда? — Из прокуратуры, — кратко ответила Любовь Викторовна и прибавила шепотом: — Они с Мишей работали на Кавказе. — Он противный, — сквозь стиснутые зубы обронила Наталья Максимовна. Перед чаем все разбрелись по участку, кто с кем. Наталья Максимовна предложила хозяйке свои услуги — убрать стол, приготовить чай и кофе, которые решено было пить в саду под широкой кроной дуба-великана. Михаил Михайлович, изрядно принявший спиртного и не в меру восторженно-возбужденный, старался каждому из гостей в отдельности сказать что-то приятное. Пришельцу он сообщил о своей встрече с одним влиятельным товарищем, генералом из МВД и что тот пообещал… Все это было липой — ни с кем Зубров о Пришельце не говорил и никто ничего не обещал. Просто это был очередной трюк Михаила Михайловича, к которому он часто прибегал, чтобы показать свою силу и возможности. Сообщение Зуброва об этом разговоре Ипполит Исаевич выслушал без особого воодушевления: сейчас для него важнее было расположить к себе Малярчика, и он поспешил к Виктории Лазаревне, которая сразу же спросила, кто эта дама с густо накрашенными плотоядными губами и зазывающими глазками? «Какой точный словесный портрет», — с удивлением подумал Пришелец и ответил без излишних подробностей: — Жена Антона Фомича, известного ученого, профессора, доктора наук. — Каких наук? — Крупный спец по алмазам. — А-а-а, я так и думала. — Почему? — полюбопытствовал Пришелец. — Жена его из алмазов сделана: в ушах тысячи на три, да на пальцах тысяч на пять; дорогая жена, — с ревнивой неприязнью пробубнила Виктория Лазаревна. «А ты, пожалуй, подороже будешь», — подумал Пришелец, глядя на ее толстые пальцы, унизанные кольцами, сработанными, видимо, искусным ювелирных дел мастером. — Я, уважаемая Виктория Лазаревна, смотрю на эти вещи глазами профессионала. Может драгоценный камень быть вставлен в грубую оправу, сделанную бездарным мастером, ремесленником. Меня такая вещь не интересует. Как в предметах антиквариата, так и в ювелирных изделиях я прежде всего ищу поэзию. Ваши кольца, простите за нескромность, уникальны, ничего подобного я не встречал. Они созданы вдохновением художника, в них изящество, гармония. — Льстивые глаза Ипполита Исаевича прищурились, по пухлым губам пробежала легкая улыбка. — У вас вкус художника. Могу себе представить вашу коллекцию. — Буду рад видеть вас у себя, — пригласил Ипполит Исаевич. — Вместе с Петром Михайловичем приезжайте. Вот мой телефон. — И протянул свою визитную карточку. Виктория Лазаревна спрятала карточку в черную прямоугольную сумочку и величественно кивнула. — Благодарю, Ипполит Исаевич, мы непременно заглянем к вам, а теперь, извините, должна вас покинуть. И она важно направилась к мужу, который, стоя у клумбы, разговаривал с Земцевым. Заочно они знали друг друга, и знали довольно хорошо, потому что у них были общие друзья. Поэтому между ними сразу установились доверительные отношения. Правда, в отличие от Земцева Малярчик, давнишний поклонник бахуса, был изрядно навеселе; язык уже начал заплетаться, это несколько шокировало Земцева. Он не любил пьяного бахвальства. Увидя медленно и величаво подплывающую Викторию Лазаревну, Петр Михайлович фамильярно взял под локоть собеседника: — Это моя жена… Деятель, талант. Необыкновенного ума женщина. Ее любят и уважают самые высокие люди, Викочка, это Яков Николаевич. Помнишь, Георгий Аркадьевич нам о нем говорил. Он самый — Внешторг! Он может тебе доставить из Аргентины… — Замолчи! — грубо одернула мужа Виктория Лазаревна. И по круглому розовому лицу юриста распласталась виноватая улыбка. — Вы извините, Яков Николаевич, Петр иногда позволяет себе расслабиться в кругу своих и тогда не думает, что плетет. Георгий Аркадьевич наш друг, и от него мы много доброго слышали о вас. Тонкие губы Земцева приветливо шевельнулись, но так и не разомкнулись. Вежливый кивок головы, полузакрытые глаза. Виктория Лазаревна, перейдя на доверительный полушепот, проговорила: — Мне ничего не надо ни из Аргентины, ни из Франции… Мне бы наоборот… Она смотрела на Земцева так, словно пыталась проникнуть ему в душу, выведать его тайну и поведать свою. И взгляд ее, пронзительный и тяжелый, говорил: я все про тебя знаю, и мы нужны друг другу; хоть ты и важен и считаешь себя неуязвимым, но в жизни всякое может случиться, никто из нас не застрахован, и тебе может понадобиться моя услуга. Так услужи и ты мне, сделай одолжение: я запомню. Глядя на него, она думала: понял или нет смысл ее слова «наоборот». И решила: понял. Значит, можно быть откровенной. Она уже знала, что Земцев имеет возможность беспрепятственно провозить через пограничные кордоны то, что запрещено законом. Да, Земцев понял ее, но спросил: — Что вы имеете в виду? — Моя близкая подруга сдуру выехала на Запад. Хлебнула там лиха, одумалась, хотела вернуться. А назад дорога закрыта. Одинокая, беспомощная. Бедствует. Я хочу помочь, это мой долг. — Я вас понимаю, — мягко сказал Земцев. — Давайте вернемся к этому вопросу в другой раз, в другой обстановке. — Ну конечно же, конечно, — поспешно согласилась Виктория Лазаревна, недовольно глядя на приближающегося к ним Пришельца. — Я понимаю, дело не простое, как и вообще все у нас сложно. Сплошные сложности. Сами себе создаем и сами же маемся. Она притворно вздохнула, взяла мужа под руку и увела в дом, Пришельцу это и нужно было: он хотел поговорить с Земцевым о своих делах, разумеется, наедине. Все его надежды сводились к Земцеву. Он видел, что сегодня Яков Николаевич в хорошем расположении духа, даже слабая, скромная улыбка иногда светилась в его глазах, чего прежде Ипполит Исаевич не замечал. И он решился открыться Земцеву, пойти напрямую. Начал с краткого предисловия: — Симпатичные люди Малярчики, не правда ли? Вы ведь тоже с ними раньше не были знакомы? — Да, — лаконично ответил Земцев. — Яков Николаевич, я хочу с вами посоветоваться по жизненно важному для меня вопросу, — продолжал заискивающе Пришелец. Земцев вежливо кивнул. — С вами я хочу быть откровенным. Мой старший брат живет в Австралии. После войны он уехал из Союза в Венгрию, а затем не так давно перебрался в Южное полушарие. У меня здесь нет ни родных, ни близких родственников. Короче говоря, брат зовет меня к себе. Устроился он там недурно, имеет свое дело с приличным доходом. И я решил уехать. Хочется поменять климат. По своему характеру я человек бизнеса, и мне больше по душе общество свободных предпринимателей. — Он дружески улыбнулся и сделал паузу. Земцев непроницаемо молчал: ни один мускул не дрогнул на его бесстрастном лице. И Пришельцу ничего не оставалось, как продолжить: — Я знаю вас как человека мудрого, с жизненным опытом, потому и позволил себе обратиться к вам. Вы слышали о моей коллекции живописи, антиквариата и так далее. Все это придется реализовать на приемлемых условиях. Хотелось бы передать эти ценности в надежные руки. Я надеюсь, что среди ваших друзей и знакомых найдутся люди, у которых есть интерес к подобным вещам. Как вы понимаете, оплата предпочтительно не рублями. Земцев отлично понимал его, уже с первых слов догадывался, к чему весь этот разговор. Понял и то, что здесь можно сорвать неплохой куш, но решил кое-что уточнить. — Ну хорошо, допустим, вы получите валюту. — Можно и желтый металл, — торопливо уточнил Пришелец. — А дальше? Вы же не сможете взять это с собой, вам никто не разрешит. — Официально, конечно. А если не официально, по другим каналам? — Они у вас есть, эти каналы? — У меня их нет. Поэтому я и дерзнул обратиться к вам за содействием, — с отчаянной откровенностью признался Пришелец, рассчитывая на податливость Земцева. В их разговоре возникла пауза. Пришелец напряженно ждал, что скажет Земцев. А тот думал о просьбах (почти одновременных и одинаковых — какое совпадение!) Виктории Лазаревны и Пришельца, сговорились они, что ли? Едва ли. И решил уклониться от прямого ответа на главный вопрос, сказал неопределенно: — У меня есть знакомый, который интересуется антиквариатом, разумеется, имеющим историческую и художественную ценность. Но он человек прижимистый, предпочитает хорошую вещь приобрести за полцены. — Тонкие губы Земцева вытянулись в линию, изобразив подобие улыбки. — Он может и валютой? — Думаю, что да. Более того, у него, возможно, я не могу сказать с уверенностью, возможно, есть то, что вы назвали «другими каналами». «Это мне и нужно», — с надеждой и радостью подумал Пришелец и попросил связать его с этим человеком. Земцев замялся, недовольная гримаса исказила его лицо. Ответил на просьбу медленно, словно с трудом выталкивая сухие слова: — Вы склонны все упрощать, а вопрос, который вас интересует, чрезвычайно сложен. Товарищ, которого я имею в виду, в силу своего общественного положения избегает непосредственных контактов с мало знакомыми людьми. Заранее я ничего не могу вам сказать, должен сперва встретиться с ним и переговорить. Но до этого, очевидно, мне надо ознакомиться с вашей коллекцией, чтобы рассказать ему. Возможно, он потом сам пожелает с вами встретиться… Хотя, я повторяю, он категорически избегает контактов… Товарищ солидный, известный. Так что давайте начнем со знакомства с вашей коллекцией. Я мог бы подъехать к вам на будущей неделе. Если я правильно понял, вам желательно не тянуть время. А у меня намечается через полмесяца продолжительная командировка за рубеж. — Я согласен, — покорно согласился Пришелец. — Буду ждать вашего звонка. Ипполит Исаевич любые слова, кто б их ни говорил, не принимал на веру, он все подвергал анализу, видя в каждой фразе скрытый смысл. Давно известно, что лживые, нечестные люди решительно всех подозревают в нечестности и обмане. Происходит у них это инстинктивно, помимо воли и желания даже там, где нет причин для недоверия и сомнения. Не поверил Пришелец и в солидного товарища, который избегает непосредственных контактов с малознакомыми людьми. Он без колебаний решил, что товарищ этот и есть сам Яков Николаевич. И не ошибался. Пока Пришелец и Виктория Лазаревна устраивали свои дела, общаясь с Земцевым, Антон Фомич расспрашивал Егора о жизни белорусской деревни, о ее проблемах и нуждах и одновременно ревниво посматривал туда, где супруги Зубровы и Наталья Максимовна готовили кофе и чай. Из своего наблюдения он сделал совершенно неожиданный для себя вывод, который его удивил и обрадовал. В то время, как Михаил Михайлович с преувеличенным вниманием увивался вокруг своей жены, изображая влюбленного нежного супруга, — а делал он это расчетливо, назло Наталье Максимовне, о чем Антон Фомич не догадывался, — в это время сама Наталья Максимовна демонстрировала полное равнодушие к Зуброву. Она подошла к мужу, когда возле него никого не было, и вполголоса спросила: — Кто он, этот Малярчик? — Гангстер, — как-то походя обронил Антон Фомич. — А это что значит? — не поняла Наталья Максимовна. — Такой же, как и Яков Николаевич, — ответил Ященко и, махнув рукой, направился к столу, не желая дальше распространяться и объяснять. Антон Фомич с ревностью и досадой следил, как Зубров, Пришелец лебезят перед Малярчиками. Это неспроста, за этим что-то кроется. Почуяли опасность, встревожены? Рассчитывают, если грянет гром, выйти сухими из воды? А ему ни слова, молчат. Его бросят как ненужный использованный хлам. Отдадут в руки правосудия. Сами могут и за рубеж бежать. А куда деваться Антону Ященко? Разве что на Колыму. Впрочем, Пришелец как-то проболтался, есть люди, которые за десять тысяч могут запросто переправить через границу с гарантией. Ященко хорошо знал свою жену и был уверен, что ее равнодушие к Зуброву совсем не показное, что это не игра, рассчитанная ввести в заблуждение легковерных и наивных. Может, Зубров и притворяется, думал Антон Фомич, но Наташа — нет. Значит, увлечение прошло, кризис миновал, и слава богу. Недавняя их размолвка и объяснение дали свои добрые плоды. И аллаху — слава. Мысли эти умиротворяли и обнадеживали, что восстановится семейный лад. Впрочем, Антон Фомич малость заблуждался, надежды на покой в семье Ященко были очень зыбкими, даже иллюзорными, ибо, пренебрегая Зубровым, Наталья Максимовна и не думала отказываться от поисков настоящего мужчины. На этот раз в ее объективе оказался не разгаданный Яков Николаевич Земцев, душа которого, как и прежде, для нее была застегнута надежными застежками: он казался ей непроницаемо-загадочным. Внешностью своей такие мужчины, как Земцев, никак не могут обратить на себя внимание женщины, даже при всей элегантности их одежды, при вежливо-сдержанных манерах. Надо присмотреться, чтобы сказать себе: «А в нем что-то есть». Но что именно — остается загадкой со многими неизвестными. Зубров-младший наконец заметил ее холодность по отношению к себе. Он то притворялся опечаленным, то раздражался по самому незначительному поводу. Распрощались они тоже необычно: с Любовью Викторовной Наталья Максимовна тепло по-приятельски расцеловалась, а ее мужа удостоила лишь холодного кивка. Недовольство Зуброва-младшего Натальей Максимовной распространилось и на всех гостей, не оказавших ему достойного почтения. Особую неприязнь он питал к Малярчикам, которые высокомерным поведением демонстрировали свое превосходство над ним. Любовь Викторовна еще до отъезда гостей заметила, что муж чем-то недоволен, и попыталась отвлечь его разговором. — А эти Ященко — симпатичные люди, — заметила она, наливая горячую воду в большой таз с грязными тарелками. — Особенно Наталья Максимовна. — Зазнавшаяся кобра, сова, возомнившая себя жар-птицей, — с раздражением процедил Михаил. — Ты совсем не разбираешься в людях. — Налитые кровью осоловелые глаза его уставились на жену. Егору не понравился этот взгляд, он показался ему оскорбительным для Любови Викторовны. Он решил вмешаться, мягко заметив: — А мне они тоже показались приятными. Особенно Антон Фомич. А вот Яков Николаевич не понравился. Глаз у него дурной, на колдуна похож либо на преступника. — Антон — приятный?! — С вызовом воскликнул Михаил. — Ха! Психолог объявился, физиономист! Когда кажется, надо перекреститься. Вор твой Фомич, вор! — Мой? Почему мой? Он твой. Если мне память не изменяет, вчера ты мне сказал, что соберутся у тебя самые близкие друзья, — задетый за живое криком брата, спокойно ответил Егор и язвительно прибавил: — Скажи мне, кто твои друзья… — Ну договаривай, договаривай, чего ж остановился, — прошипел Михаил осевшим голосом. — А что договаривать, и так все ясно: если Фомич вор, то остальные и подавно — жулье и казнокрады, — принял вызов Егор. — Не надо быть психологом, чтобы раскусить твоих приятелей. — Не тебе их судить, — покраснев, угрюмо проговорил Михаил. — Кто ты по сравнению с ними? Комар перед тигром. Тебе б помалкивать надо, а ты полез в дискуссию: нетрудовые доходы, видите ли. Фи-ло-соф из бульбошиного царства. Михаил понял, что сказал глупость, понял по лицу брата, вдруг побледневшему, по ставшим вдруг колючими глазам. Попытался поспешной вымученной улыбкой исправить глупость. Но было поздно: Егор «заводился» с полуоборота. — Бульбошиное царство, говоришь? Да, Белоруссия наша богата бульбой. И еще много чем богата. Наша бульба выручала нас в годы гитлеровской, оккупации, Без бульбы мы, может, и не выжили бы. Оно правда — няма у нас черной и красной икры, не растет яна в бульбовым краю. Только насчет комара ты, братец, крепко ошибаешься. Не комары мы, хоть и умеем кусать разную погань. Ты называешь наш край бульбошиным царством. Ну, спасибо, что не забыл, вспомнил батьковщину. Хоть бульбой попрекнул — и то ладно. — Брось демогогию, Егор, — перебил Зубров и поморщился. — Я свою родину никогда не забывал. — А тебе нечего и забывать было, у тебе яе няма — батьковщины. И у нашей сямье ты чужий. Помнишь, як у детстве тебе звали? Не помнишь? Дык я напомню: выродком. Любовь Викторовна в ужасе закрыла уши руками и выбежала из кухни. Взгляд Михаила застыл, одеревенел. Он смотрел на брата немигающими глазами, приоткрыв рот, словно намереваясь что-то сказать. Но не было голоса, язык не поворачивался. И он тяжело опустился на стул. В последний миг Егор сообразил, что в ярости сказал то, чего не следовало бы говорить, но продолжал приглушенным, каким-то не своим, срывающимся голосом: — И фамилию нашу ты позоришь, тебе б не Зубровым, а Волковым называться надо, ты ж другой породы, як и яны, твае знатные приятели — тигры. — Замолчи, бешеный, — прошипел Зубров. — Ты и родную мать готов оклеветать. — Ты на маму не кивай, яна не виновата, что ты такой. Ты и яе не любил. Ты только себя любишь. Недаром народ говорыть: у сямье не без урода. И у Белоруси нашей тожа были и есть не одны партизаны и герои. Прохвосты и подлецы тожа были и есть, разной пароды выродки. Выговорившись, Егор схватил свой пиджак и зашагал к калитке. Поздно вечером на Белорусском вокзале он сел в поезд Москва — Минск. Уже в пути вспомнил, что дорожный чемоданчик его остался на квартире брата и что не сделаны в Москве покупки, о которых просили жена и дочь. Вспомнил без досады и сожаления. Он думал о младшем брате и его «самых близких друзьях» и про себя называл их сомнительными людьми. Пусто было внутри, неприятный осадок лежал на душе, и Егор пытался ни о чем не думать, уснуть, чтоб отделаться от горьких воспоминаний. И он уснул скорым и крепким сном человека, привыкшего вставать до восхода солнца. Ему снились какие-то отвратительные хари, с диким хохотом преследующие его и указывающие на него грязными пальцами. «Сомнительные люди», — сказал он во сне, разбуженный проводником. — Вставайте, на следующей вам выходить. ГЛАВА ШЕСТАЯ 1 Анатолий Павлов жил теперь у Норкиных. Илья Маркович достал молодоженам путевки в Дом творчества кинематографистов, и в начале августа Белла и Анатолий собирались выехать в Пицунду фирменным поездом в вагоне «СВ»: Белла плохо переносила самолет. А что может быть лучше двухместного купе для путешествующей четы? Путевки уже были на руках, а достать билеты в «СВ» для Ильи Марковича при его-то связях даже в пик курортного сезона не представляло проблемы. Сам Илья Маркович с супругой по давно заведенному обычаю отпуск свой проводил осенью, и не на морском берегу, а на минеральных водах Кавказа. Летом Норкины жили на даче, впрочем, сам Илья Маркович на даче бывал только в субботу и воскресенье, а Белла предпочитала проводить выходные дни в Москве. Такой порядок диктовался и соображениями охраны квартиры. С недавних пор Илья Маркович поставил свою московскую квартиру на милицейский пульт охраны. Прежде чем принять такое решение, он долго колебался, советовался со знатоками, консультировался, взвешивал. Его смущал порядок, согласно которому вторые ключи от квартиры должны храниться в милиции. Недоверчивый и подозрительный ко всем и каждому, он опасался, как бы кто-нибудь из сотрудников милиции не сделал дубликаты. Поэтому на время летнего сезона все ценности, в том числе и кулон, Норкины вывозили на дачу. Где хранились эти вещи, Павлов узнал от своей молодой супруги. В пятницу погожим утром Павлов с тещей на «Волге» выехали в Москву, оставив на даче Беллу. К вечеру они должны были вернуться втроем вместе с Ильей Марковичем. Теща сразу пошла по магазинам, чтобы закупить для дачи продуктов, а зять, как-никак студент, устроившись за письменным столом, продолжил работу над давно начатой курсовой. Часа через три теща пришла из магазина и застала Анатоля в расстроенных чувствах. Опечаленный и озабоченный, он держал в руках только что полученную телеграмму из Крыма, в которой сообщалось о тяжелом состоянии его матери. Павлов решил ближайшим рейсом лететь в Крым. В то же время, будучи любящим мужем, он считал своим долгом перед тем, как выехать в аэропорт, повидаться с Беллой. Теща поняла и сыновью тревогу, и желание зятя повидаться с молодой женой перед дальней дорогой, и сочла своим долгом предупредить, чтобы ехал по шоссе осторожно, не превышая установленной скорости. Спустя час Анатоль был уже в Абрамцеве, и Белла стала собирать мужа в дорогу. Вид у Анатоля был рассеянный и подавленный, он как неприкаянный слонялся по комнатам и по участку, не находя себе места. Белла понимала его состояние, сочувствовала и старалась утешить, как могла. — Не надо, милый, принимать близко к сердцу. Может, все обойдется. Ну хочешь, я с тобой поеду? — До аэропорта, — согласился Анатоль. — Нам надо поторапливаться: каждый час дорог, — и пошел к машине. Минут через пять, закрыв дачу на множество замков и спустив с цепи волкодава Чона, за калитку вышла Белла, и они с Анатолем сели в машину. Надо было ехать. Но где же ключи зажигания? Анатоль пошарил по карманам: руки его дрожали. В карманах ключей не оказалось. — Ты оставлял их в машине? — спросила Белла. — Кажется, нет, я всегда держу их при себе, — машинально произнес Анатоль. — Да! Вспомнил! Посиди, я сейчас… — Он торопливо вышел из машины и побежал во двор дачи, отгороженной от улицы тесовым, крашенным в голубой цвет забором. Вернулся буквально через три минуты, позвякивая ключами. — Где они были? — полюбопытствовала Белла. — Возле туалета. Я обронил их, — виновато улыбнулся он. Когда выехали на Ярославское шоссе, Анатоль вдруг сказал: — Ты напрасно со мной поехала. — Почему? Ты не хочешь, чтобы я тебя проводила? — Не в этом дело. Родители будут недовольны: оставили дачу без присмотра. — Ерунда. А Чон на что? За каких-нибудь четыре-пять часов ничего не случится. Папа в пятницу всегда раньше приходит. — Оно, конечно, но знаешь, старики — у них свои понятия. Анатоль оказался прав: Норкина не одобрила приезд дочери. И с немым укором посмотрела на зятя. Павлов поспешил отвести от себя вину: — Я говорил ей — останься, но она меня совсем не слушается. — Мамочка, да не волнуйся ты. Ничего не случится. Скоро приедет папа, и мы уедем. — Ты дом хорошо закрыла, электричество отключила? Газ перекрыла? Сейчас участились пожары. Горят дачи, — тревожилась Норкина. Павлов спешил в аэропорт. Заказывать такси по телефону было некогда, он поймал машину на улице и впопыхах, чмокнув холодными губами Беллу, уехал. Но путь Анатолия Павлова лежал не в аэропорт, а на улицу Бронную. Пришелец ждал Павлова с нетерпеливым волнением, которое испытывают азартные игроки, предвкушая солидный куш. Они не виделись около месяца. За это время не только в реках много воды утекло, много вещей «утекло» из квартиры Пришельца, на что Павлов сразу обратил внимание. Но на недоуменный взгляд его Ипполит Исаевич не спешил с ответом. Они стояли в столовой, где не было уже мебели из мореного дуба, а голые стены, где когда-то сверкали окладами иконы и золочеными рамами картины старых мастеров, придавали когда-то богатой комнате нежилой, заброшенный вид. И это запустение усиливала одинокая и пустая горка, за выпуклым хрустальным стеклом которой не было прежнего, привычного глазу Павлова фарфора и серебра. — Ну? — кратко спросил Пришелец. — Порядок, — ответил Павлов, небрежно, словно пуговицу или коробку спичек, вынул из кармана бриллиантовый кулон и протянул его Пришельцу. Ипполит Исаевич искоса метнул холодный взгляд на Анатоля, отошел к окну, держа на ладони сверкающий радужными гранями алмаз. Потом, положив в нагрудный карман замшевой куртки кулон, он обернулся к Павлову, ожидавшему благодарности. Но вместо этого тот услышал лишь: — Рассчитаемся в Гамбурге или Париже. Анатоль насторожился: в тоне Пришельца не было обычной для шефа холодной шутливости. — Ты удивлен пустотой квартиры? Да, случилось непредвиденное. Я должен покинуть страну в ближайшие дни. Уезжаю по доброй воле, по собственному желанию. Я давно подал эмиграционные документы, но не предполагал, что все так быстро решится. А недавно получил официальное разрешение… — Шеф умолк, склонив голову, и сделал несколько шагов по комнате. Потом, приблизившись к Павлову вплотную, резко вскинул голову. — Я позаботился и о тебе. За добро я привык платить добром, ты это знаешь. Так вот, выслушай меня внимательно. Над тобой нависла серьезная опасность, гораздо серьезней, чем ты можешь думать. Я боюсь этого слова, но хочу быть с тобой откровенным, возможно, смертельная. Я располагаю точными сведениями: на днях тебя должны арестовать. Ты на крючке. Понимаешь? Павлов подавленно молчал. И Пришелец, не давая ему опомниться, продолжал приказным тоном: — Завтра ты вылетишь с группой туристов в ФРГ. В Бонне к тебе подойдет Миша Герц, помнишь, он тут у нас в героях дня ходил? — Павлов молча кивнул: помню. — Сам не ищи его, он найдет тебя в момент, когда сам сочтет нужным. Будешь жить у него до моего приезда. А потом мы развернем такое дело, что тебе и не снилось. Ты будешь хозяином отеля, войдешь в правление фирмы. При твоей-то смекалке, при уме в три года сколотишь капиталец. К твоим услугам будут все земные блага и наслаждения. Вот так, Анатолинька. Здесь медлить и раздумывать некогда. Пан или пропал. А сейчас я тебя познакомлю с руководителем группы, с которой ты завтра полетишь в ФРГ. — Он шагнул к приоткрытой двери и позвал: — Арвид! В столовую вошел атлетического сложения блондин. Лет сорока, стройный, с энергичным круглым подбородком и решительным самоуверенным взглядом, он мог бы сойти за тренера спортклуба. — Познакомься, Арвид. Вот тот юноша, который полетит с тобой в Бонн. Он и есть Анатолий Павлов. Арвид скупо улыбнулся, обнажив гнилые зубы, и протянул Анатолю руку. Павлов, ошеломленный и подавленный, растерянно пожал ее. Арвид достал из кармана заграничный паспорт и молча протянул его Павлову. Анатоль машинально открыл документ и увидел свою фотографию, свою фамилию, имя, отчество, год рождения. Все было верно, все в точности. — Целлофан сними, — сказал Пришелец, указывая на паспорт. Павлов снял с обложки целлофан, и тотчас же целлофан этот оказался в кармане Арвида. Затем Арвид достал пачку денег, перетянутую белой бумажкой, и протянул Анатолю. — Здесь две тысячи марок, — пояснил Пришелец. — На первый случай. Потом Миша выдаст тебе еще. Бумажку сними и отдай Арвиду. «Прячет отпечатки пальцев», — догадался Павлов, он казался себе слабым и беззащитным. Он мог предположить что угодно в своей бесшабашной рискованной судьбе: суд, суровый приговор, даже высшую меру наказания, например, за соучастие в «устранении» Конькова, но только не бегство за границу. Такое и в голову ему не приходило. События обрушились на него внезапно, словно глыба снега, парализовали его волю, раздавили и опрокинули. Еще час тому назад ему казалось, что он уже вышел из-под власти своего всемогущего грозного и жестокого шефа, что он получил свободу н сам распоряжается своей судьбой. Теперь же он понимал, что жизнь и судьба его по-прежнему в руках Пришельца, который и не подумал даже спросить согласия самого Павлова, он просто решил, и решение это следовало исполнять беспрекословно и точно. Пришелец даже не дал Павлову ни минуты на размышление. С ехидным добродушием он отдавал последний приказ: — Ночевать сегодня в Москве тебе нельзя, опасно. Сейчас ты поедешь с Арвидом к нему на дачу, там переночуешь. Утром за вами придет машина и отвезет в аэропорт. А теперь поторопитесь. — И не поинтересовавшись, все ли понятно, может, есть вопросы, Пришелец широким жестом обнял Павлова, слегка коснулся его горячей щеки холодными губами и, сказав, «до встречи в Гамбурге или Париже», подтолкнул их с Арвидом к двери. На улице Арвид сказал, что дача, куда они едут, находится по дороге в Дядино, и само название этого районного центра повергло Павлова в уныние. С этим подмосковным городом были связаны неприятные воспоминания: психлечебница, квартира Бертулина, Коньков. До вокзала они доехали на такси. Всю дорогу молчали: так велел Арвид. Теперь Павловым командовал он. В поезде, как было условлено, ехали в одном вагоне, но в разных отсеках. Жуликоватые глаза Арвида наблюдали за Павловым с профессиональным недоверием. Анатоль изредка озабоченно посматривал на спутника, который не понравился ему с той самой минуты, как неожиданно по зову Пришельца появился в столовой. Прислонившись к окну, Павлов попытался собраться с мыслями, сосредоточиться и подумать над тем, что случилось. Но это ему не удавалось: страх, сомнения, отчаяние терзали его, мешали ему все взвесить холодным рассудком и проанализировать. Фраза, сказанная Пришельцем, «смертельная опасность» напомнила ему о смерти Конькова в Одессе. Это было самое тяжкое преступление, в котором Павлов принимал косвенное участие — передал налетчикам на квартиру Бертулина приказ Пришельца убрать Конькова, что они и сделали. Выходит, кто-то из убийц, а может, и оба, арестованы. Причастность Пришельца к этому «мокрому» делу не докажешь, даже если он, Павлов, на следствии стал бы «топить» своего шефа. Но он этого не сделает. Анатоль начал перебирать в памяти все факты их отношений с Пришельцем и не нашел ни одного случая, чтобы Ипполит Исаевич обманул его или не выполнил своего обещания, и это обстоятельство не давало оснований с недоверием отнестись к последней «туристической» операции, разработанной Пришельцем. Павлов фанатично верил в удачливость Ипполита Исаевича, в его точный безошибочный расчет, но свою жизнь в эмиграции он не представлял. Хозяин гостиницы! Забавно и смешно. В это он не верил. Он не был настолько наивен, понимал, что таких, как он, там тысячи. Он видел по телевидению демонстрации безработной молодежи. Почему ж они не стали хозяевами гостиниц, банков, заводов? Сделать бизнес с двумя тысячами марок в кармане, да к тому же без знания языка — нет уж, эти сказки не для него. Иное дело Ипполит Исаевич, он наверняка переправил туда солидный капиталец. Поэтому самое большое, на что Павлов мог рассчитывать, это по-прежнему быть послушным и преданным подручным у своего шефа там, за рубежом. Надо решать. Сомнения мучили его, но Павлов не принял никакого решения, не сделал выбора, хотя и не из чего было выбрать, — он плыл по течению: куда-нибудь да вынесет. И все же ему не было безразлично, куда именно вынесет. Они вышли из электрички на платформе за два перегона до Дядина. Как и условились. Арвид шел впереди, Павлов за ним на значительном удалении, чтобы создать видимость, что они не знакомы. Вечерело. После полудня небо начало хмуриться и начал накрапывать мелкий теплый дождь. У продовольственного магазина толпились собутыльники, среди которых мелькнула, как показалось Павлову, знакомая фигура. Человек быстро затерялся в толпе, как только взгляд его встретился со взглядом Павлова. Их разделяло расстояние метров в двадцать, а может, и более, и Павлов не был твердо уверен, что это один из участников засады в квартире Бертулина, один из тех, кому в Одессу Павлов отвозил приказ Пришельца о Конькове. Возможно, и не он, обознаться было проще простого, и все же неприятно кольнуло сердце. Не уготовлена ли и ему, Павлову, участь Конькова? Может быть, его заманивают в заранее приготовленную западню? Паспорт и марки — всего лишь для достоверности? Надо быть начеку. А может, сейчас же и бежать? Но куда? Впереди Арвид, сзади у магазина другой, такой же, по кличке Пират. Настоящего его имени Павлов не знал. Возможно, и гнилозубый совсем не Арвид. От них не так просто скрыться. Арвид свернул на безлюдную тропинку, ведущую к садовым участкам, на которых стояли маленькие, похожие на скворечни домики, утопающие в зелени садов и кустарников. Тропинка шла вдоль опушки леса, который высокой и плотной стеной ограждал садоводческий поселок от северных ветров. В лесу сгущались сумерки, из кустов как-то чересполосицей тянуло то теплом, то прохладой. Арвид замедлил шаг, и Павлов сделал то же самое. Тогда Арвид остановился, поджидая Анатоля. И когда их разделяло каких-нибудь пять-шесть шагов, Арвид свернул влево и подошел к ближайшему от опушки домику. Собственно, это был даже не домик, а выкрашенный в темно-зеленый цвет сарай, сколоченный из щитов какого-то контейнера. Со стороны двери, на которой висел замок с набором четырех цифр, было небольшое окно, Арвид беглым, но цепким взглядом окинул окрестные домики. То же самое сделал и Анатоль, убедившись, что поселок не безлюден: возле одного домика разговаривали мужчина и женщина, от другого доносилась музыка. Это несколько успокоило Павлова. Арвид набрал нужные цифры, снял замок и, открыв дверь, кивком велел Павлову входить первым. Анатоль осторожно вошел в густой полумрак. Сквозь маленькое окно слабый свет падал на железную койку, возле которой стоял небрежно сколоченный из щитов стол, на котором горбилась газета, прикрывавшая закуску. Бутылка коньяка и два граненых стакана выжидательно стояли на уголке стола. Когда глаза привыкли к темноте, Павлов разглядел все помещение, состоящее из одной комнаты. Арвид, словно читая его мысли, глухим, но резким голосом сказал: — Сарай-времянка. Вернусь из Германии — поставлю стандартный домишко. Уже договорился и даже деньги уплатил. Дело за фундаментом… Садись, чего стоять, — он кивнул на койку, а сам устроился на неустойчивой шаткой скамейке возле стола, смахнул газету. В глубоких суповых тарелках лежали нарезанная ломтями ветчина; сервелат, черный хлеб. Рядом — не открытая баночка красной икры, две вилки и консервный нож с деревянной рукояткой. — Соседка приготовила, — пояснил Арвид и, подмигнув, добавил: — Подруга. Я ведь холост, вернее, разведен. Давай поужинаем да спать. Машина завтра придет к девяти часам. Время есть. Павлов быстро соображал: тут может быть все отравлено — рюмка, закуска и даже коньяк. Много ли надо цианистого? — Не хочется, — изображая смертельную усталость, сказал он. — Я попозже, перед сном. — Да брось ты тянуть резину. — Арвид распечатал бутылку и, наполнив стаканы, поднял ближний к себе: — Ну давай — за благополучие! — Потом, дай немного отдышаться, — отрицательно замотал головой Анатоль. — От чего? Километр прошел — и уже одышка? — Не в том дело. Все как-то сразу — неожиданно. — Трусишь?.. Не доверяешь? Слова эти можно было истолковать двояко. Но. Павлов нашелся, спросил в свою очередь: — А разве есть стопроцентная гарантия, что завтра в аэропорту меня не разоблачат? — Двести процентов, — решительно сказал Арвид, и в глазах сверкнул злобный огонек. Наблюдательность Павлова была обострена. Арвид отпил полстакана, взял кусочек хлеба, наколол вилкой ломтик ветчины, аппетитно закусил. — Ну ладно: давай попозже. Ты меня жди. Я на часок отлучусь к своей ненаглядной, поблагодарю ее за угощение и скажу, что приду к ней ночевать. Арвид как-то настороженно осмотрелся и вышел из домика, прикрыв за собой дверь. Обостренный глаз Павлова все замечал, а напряженный слух улавливал малейший посторонний звук. Ему послышался за дверью едва уловимый лязг металла о металл. Мелькнула тревожная мысль: «кажется, запер дверь», и в тот же миг взгляд устремился на окошко: «Пожалуй, пролезу». Но он даже не пошевелился, замер. Почти не дыша просидел минут пять. За дверью не слышалось никаких движений, ни шорохов. Павлов поднялся, осторожно нажал на дверь. Она была заперта. Он подошел к окну и, увидев на раме шпингалет, обрадовался. Окно открывалось вовнутрь. Он тянул шарик шпингалета медленно, бесшумно. Открыл и, осененный неожиданной мыслью, вернулся к столу, взял свой стакан, наполненный коньяком и выплеснул в окно. Потом бросил под койку два куска хлеба, кусок сервелата и почти всю ветчину. Создал видимость, что пил и закусывал. На всякий случай. В окошко он пролез с трудом, — пришлось снять кожаную куртку и сначала выбросить ее. Оказавшись на свободе, Анатоль осмотрелся. Да, на двери висел тот же номерной замок. Павлов понимал, что медлить нельзя. Пригнувшись, он нырнул в кусты смородины и крыжовника. Пугливо оглядываясь по сторонам, как обложенный волк, подстегиваемый животным страхом, он устремился к темному омуту леса, в котором видел свое спасение. Только бы нырнуть в него, окунуться с головой и затеряться. Добежав до опушки, на какой-то миг остановился и, прежде чем пересечь тропу, по которой шел с Арвидом, осмотрелся, вслушиваясь в тишину июльского вечера. Убедившись, что опасность не грозит, перебежал тропу и начал осторожно пробираться по лесу вдоль тропинки в сторону железнодорожной платформы. Не пройдя и сотни метров, он услышал негромкие мужские голоса. Павлов укрылся за невысокой елочкой. Разговаривали двое отрывистыми короткими фразами. Слышались их торопливые шаги. «Ждет», — сказал Арвид. Павлов сразу узнал его голос. «Не догадывается?» — спросил кто-то чужой. «Возможно, это Пират», — неуверенно подумал Павлов. Арвид не ответил, а незнакомый голос добавил: «Он — хитрая…» Последнего слова Павлов не расслышал. Теперь он уже не сомневался, что ему была приготовлена здесь ловушка. Ждала судьба Конькова. Его колотил озноб. Несмотря на это, мысль работала четко, быстро, по-павловски, как поощрительно сказал однажды Пришелец. Мгновенная реакция на неожиданную смену обстоятельств — это было в его характере. Павлов представил себе, как будут действовать Арвид и его соучастник, войдя в пустой сарай. Погоня, поиск. Куда они бросятся прежде всего? Не иначе как на железнодорожную платформу. Выходит, на электричку ему путь заказан. Надо как можно быстрей выйти на шоссе, попытаться остановить любую машину, идущую в Москву. На чем угодно, хоть на бульдозере, только бы скорее. Он уже решил заявиться к Маркиной и все рассказать как на духу. Ну не совсем все, кое-что можно утаить. Валерия Иосифовна — женщина умная, опытная, поймет, посоветует, подскажет. Быстрее, быстрее. Шоссе шло параллельно железной дороге, их разделяла лесистая полоса шириной метров в триста. Шансов остановить машину было немного, и это повергло Павлова в отчаяние: тем более, что ощущение погони и страха не покидало его: из лесу на дорогу мог выйти тот же Арвид или его сообщник, поэтому Павлов решил не стоять на одном месте, он шел в сторону Москвы, то и дело оглядываясь назад, чтобы не упустить попутную машину и вовремя поднять руку. Вся надежда была на грузовик. И он не ошибся: к его радости, затормозил и потом остановился самосвал. В кабине сидел только водитель. Павлов подбежал, запыхавшийся, вскочил на подножку: — Послушай, друг, подбрось до Москвы, очень нужно. Я заплачу. — И второпях вынул из кармана пачку западногерманских марок. Смутившись, сунул ее обратно в карман, пошарив еще, вытащил двадцатипятирублевую купюру и протянул ее водителю. Тот денег не взял. Сделал вид, что и марки не заметил. Подал Павлову руку, помог влезть в кабину. — Садись. А деньги спрячь, пригодятся. — И дал газ. — За тобой гнались? — Да, еле ушел, — машинально, как-то само собой сорвалось у Павлова. Чтобы отвести подозрение, он прибавил: — Понимаешь, двое на одного. Пристали: сначала дай закурить, а я не курю. Тогда один: «Нет курева — давай деньгами…» Я рванулся, они за мной… Шофер, уже немолодой человек, угрюмо молчал, навалившись на руль, и сосредоточенно смотрел на дорогу. Не доезжая поста ГАИ, он перевел свой самосвал на левую половину полотна. Правда, встречных машин не было видно. Но все равно от будки на дорогу выскочил милиционер, и, взмахнув жезлом, приказал остановиться. Самосвал круто свернул вправо и резко затормозил. Водитель торопливо соскочил на асфальт: — Я умышленно нарушил. Проверьте моего пассажира! Инспектор ГАИ, оценив обстановку, зачем-то поправил кобуру пистолета и предложил Павлову выйти. Павлов смущенно пожал плечами, но без лишних разговоров покорно пошел в будку поста, где в это время находились капитан и сержант милиции. Приказав сержанту наблюдать за Павловым, инспектор, старший лейтенант, позвал капитана и попросил водителя самосвала объяснить суть дела. Тот, волнуясь, рассказал, что молодого человека, попросившего довести его до Москвы, кто-то преследовал, но главное, он видел у него пачку иностранных денег. Водителя попросили задержаться. Капитан и старший лейтенант вернулись в будку и попросили Павлова предъявить документы. Анатолий понял, что «влип». Он достал из кармана паспорт, не заграничный, а настоящий, подлинный. Полистав документ, капитан спросил: — У вас есть валюта? — Павлов медлил с ответом, и офицер уточнил: — Иностранные деньги… «Все равно обыщут», — обреченно подумал Павлов и негромко ответил: — Есть. Немецкие марки. — Много? — Две тысячи. — Он уже догадался, каков будет следующий вопрос, и приготовил ответ. — Откуда они у вас? — На этот вопрос я отвечу в другом месте. — Понятно, — сказал капитан и по телефону связался с дежурным Дядинского отдела внутренних дел. Через двадцать минут на пост ГАИ прибыла оперативная группа во главе с начальником уголовного розыска, а спустя полчаса Анатолий Павлов сидел в кабинете подполковника Беляева. На письменном столе Станислава Петровича лежали две тысячи марок, оба паспорта Павлова, студенческий билет, сберегательная книжка на 1125 рублей — все, что было изъято при личном обыске. Книголюб и эрудит Станислав Петрович Беляев имел привычку перед сном читать. Он был в курсе всех книжных новинок, имел многотомную библиотеку, при этом никогда не ставил новую книгу на полку, предварительно не прочитав ее. В тот день, под вечер, он с упоением читал только что вышедший новый роман Ивана Акулова «Касьян остудный». Соглашаясь с женой, что название романа явно неудачное, непонятное читателю, он восторгался словесной вязью, в которой понимал толк, и объемными, зримыми характерами персонажей. В полночь ему позвонил дежуривший в отделе его зам по оперативной части. Услышав о Павлове, да еще к тому же с валютой и загранпаспортом, Беляев торопливо сказал в трубку телефона только два слова: «Высылай машину». Дело в том, что перед этим ему звонил начальник Загорского райотдела внутренних дел и рассказал несколько странный, хотя на первый взгляд и банальный случай. В поселке Абрамцево злоумышленник днем, когда хозяева были в Москве, забрался на дачу гражданина Норкина, отравил собаку, открыл окно, вошел в дом, но ничего не взял. Норкины, сам хозяин, его жена и дочь, возвратясь из Москвы на дачу, заявили об этом начальнику милиции. В Загорск на своей машине приехал сам Норкин Илья Маркович и в беседе с начальником горотдела спросил, можно ли связаться с Москвой, с подполковником Добросклонцевым и сообщить ему об этом. Естественно, загорцы поинтересовались, почему именно Добросклонцеву? И Норкин не совсем внятно и не очень охотно признался, что знаком с Добросклонцевым в связи с налетом на квартиру ювелира Бертулина. На вопрос, кого Норкин может подозревать, Илья Маркович замялся, но затем, правда неуверенно, сказал: — Есть один человек, но он сегодня должен был улететь в Крым. Мой зять — Анатолий Павлов. На вопрос: «Какие у вас есть основания для подозрений?» — Норкин ответил: — Собака. Она у нас была злая, можно сказать, агрессивная и пищи ни от кого из посторонних не брала. Значит, яд мог дать ей только Павлов. В этом могла быть своя логика, если бы не другие безответные вопросы, например: зачем Павлову надо было умерщвлять собаку, проникать в дом, где он жил, через окно, когда он мог просто совершить кражу обычным путем, то есть взять любую понравившуюся ему вещь втайне от хозяев? И почему он все же ничего не взял? На эти вопросы Норкин лишь пожимал плечами и уклончиво отвечал: — Мы еще не знаем, все ли вещи на месте, дачу только бегло, поверхностно осмотрели. А может, потом окажется что-нибудь пропавшим. Заявление Норкин писать отказался: все-таки зять, молодая семья, да, возможно, и не он. Одним словом, узнав, что Добросклонцева в Москве нет — уехал погостить к матери, — он даже пожалел, что решил заявить о случившемся. Беляев выслушал сообщение загорского коллеги с большим вниманием, поблагодарив за информацию, сказал, что, если Загорск не возражает, то он немедленно вышлет в Абрамцево своих сотрудников. Загорск не возражал. Беляева удивило хладнокровие и спокойствие Павлова. Ни дерзкой самоуверенности, ни трусливого замешательства не нашел он в облике этого внешне симпатичного юноши, ни в его открытом, пожалуй, даже добродушном взгляде, ни в мягком голосе. За непродолжительное время в пути от поста ГАИ до Дядина Павлов отработал линию своего поведения. Он предполагал, что Пришелец уже предупрежден о его бегстве от Арвида, и, хорошо зная крутой нрав своего бывшего шефа, его связи, не сомневался, что сейчас милицейский изолятор служит для него более надежным убежищем, нежели, как он планировал, квартира Маркиной. По новому сценарию, который он намеревался теперь разыгрывать, Пришелец должен оставаться в тени. Павлов был уверен, что Ипполит Исаевич — с его-то связями — непременно будет знаком с протоколами допроса своего бывшего подручного. Он считал бесполезным рассказывать следствию о преступных действиях Пришельца, потому что, кроме вреда, из этого ничего не могло получиться. Ипполит Исаевич все равно выйдет сухим из воды. Да и немного знал Павлов о преступных действиях Пришельца, а то, что и знал, например, «устранение» Конькова, на Ипполита Исаевича трудно, просто невозможно «навесить». Никаких улик. — Удивлен, Павлов, видя вас здесь: по нашим сведениям, вы сейчас должны находиться в Крыму возле умирающей матушки, — сказал Беляев, добродушно улыбаясь. — Опоздал на самолет, — смущенно ответил Анатолий. — И потому решили вместо Крыма махнуть в ФРГ? — Я ничего не решал. — Павлов сокрушенно вздохнул. — Решали другие. За меня решали. — И денег вам на дорогу выдали. Кто ж эти добрые и щедрые благодетели? Расскажите, пожалуйста, о них! Подробно, не спеша. — Беляев поудобнее устроился за столом. — На эти вопросы я буду отвечать в другом месте. — Павлов искоса глянул на Беляева и отвернулся. — Где именно, если не секрет? — В Москве, на улице Белинского, Мироновой Антонине Николаевне. И только ей. — Любопытно, — как бы про себя обронил Беляев. — Очевидно, вы хотите помочь следствию? Не так ли? — Возможно, — кивнул Павлов, и в мягком голосе его просквозила вежливая уступчивость, и Станислав Петрович не замедлил этим воспользоваться. — Как вы сообщили водителю самосвала, за вами гнались, и вы, спасаясь от своих преследователей, направлялись в Москву. Это похоже на правду. Возможно, вы спешили на улицу Белинского, чтоб сделать важное сообщение Мироновой. Но для нас, чтобы обезвредить преступника, все решает время: минуты и даже секунды. Поэтому, если вы искренне хотите нам помочь, то в ваших интересах сообщить нам некоторые обстоятельства, которые требуют от нас немедленных действий: задержать тех, кто вас преследовал. Возможно, и тех, кто, по вашим словам, решил за вас вопрос о выезде за границу. Решайте, время не терпит. Павлов медлил с ответом. Конечно, было бы неплохо задержать сейчас Арвида и его сообщника, но тогда может полететь вверх тормашками легенда, которую он уже успел сочинить для Мироновой. И Павлов сделал над собой усилие, скорбно молвил: — Я уже сказал: показания буду давать Мироновой. — Ну что ж, не смею настаивать, — пожал плечами Станислав Петрович и откинулся на спинку кресла. Павлов решил, что на этом разговор закончен. Беляев смотрел на него добрым взглядом, в котором, казалось, смешались сожаление и сочувствие. — Хорошо, — сказал он после продолжительной паузы и положил на стол свои сильные руки рабочего. — Завтра вы будете разговаривать с Антониной Николаевной, к которой питаете доверие. Она человек справедливый, внимательный и особенно чуткий к чужой беде. Наверно, вам это известно. Оставим это дело — паспорт, валюту до встречи с Мироновой. Но все же ответьте мне на простой вопрос: зачем вам понадобился спектакль с поездкой в Крым, с собакой, с растворенным окном? Какой во всем этом смысл? — А почему вы решили, что я причастен к какому-то спектаклю с Крымом, собакой и окном? — пожав недоуменно плечами, спокойно ответил Павлов, но спокойствие, как заметил Беляев, стоило ему немалых усилий. — Анатолий! — Станислав Петрович с укором развел руками. — Вы же умный парень, так не считайте и своих оппонентов несмышленышами. Фраза эта вызвала кривую усмешку на губах Анатолия. Он, как бы извиняясь, проговорил: — Разрешите мне и на этот вопрос ответить Мироновой. — И затем прибавил: — Дело в том, что с ответа на ваш последний вопрос и начнется наш разговор с Антониной Николаевной. — Ну что ж, пусть будет так, — Беляев встал. Поднялся и Павлов. — Я хочу надеяться на ваше благоразумие. Случай помог нам сегодня встретиться с вами. А не подвернись этот случай, все равно мы собирались с вами увидеться в самое ближайшее время. Так что, как видите, вы опередили события. Возможно, это к лучшему и для вас, и для нас. На этом они расстались. Павлова увели в изолятор, где никто не мешал ему собраться с мыслями, спокойно все обдумать и взвесить. Надо было серьезно подготовиться к разговору с Мироновой. ГЛАВА СЕДЬМАЯ 1 Ипполит Исаевич называл свою жизнь полосатой, поскольку удачи чередовались с неудачами. К такой своеобразной цикличности он привык и к переменам цикла всегда был готов. При этом невезение — явление относительное, если иметь в виду, что самую пустяковую неудачу Ипполит Исаевич уже заносил в графу с минусом, в то время как плюсовал только крупные удачи. Сейчас ему везло по большому счету. Решение бежать на Запад он принял твердо. В его домашнем сейфе лежали три вызова из-за рубежа: из Австралии, Израиля и Уругвая. Их он получил по неофициальным каналам через своих знакомых, выезжающих в служебные командировки и избавленных от неприятной процедуры таможенного досмотра. Но он пока что не решался воспользоваться этими вызовами: держал их в резерве, как второй вариант на тот случай, если с первым выйдет неудача. Надежнее всего, считал он, уехать за рубеж туристом и там, в зависимости от обстоятельств, либо попросить политического убежища, объявив себя инакомыслящим, либо остаться в роли безвестного невозвращенца. Все свое имущество, все сокровища своей коллекции он распродал по цене несколько ниже комиссионной и потому убыточной, но это была вынужденная и оправданная жертва, поскольку в сложившихся обстоятельствах иного выхода не было. Самые ценные из его сокровищ приобрел Земцев. Остальные поделили между собой Малярчик и Зубров. Что же касается кооперативной квартиры, то ее Пришелец сумел оформить на имя своего приятеля адвоката, прописанного в Москве на жилплощади своей бывшей жены, с которой тот не жил, но юридически брак не расторгал. Квартиру свою Пришелец уступил также себе в убыток, более того, вместо денег наличными взял от приятеля расписку. В этом таился дальний прицел Ипполита Исаевича, о котором ловкий пройдоха-адвокат легко догадывался. Словом, Пришелец был абсолютно уверен, что еще в этом году он пересечет Государственную границу СССР и начнет новую жизнь свободного предпринимателя. Отправиться в туристическую поездку для него — при его-то связях! — не представляло никакого труда. Ну а если уж по каким-то непредвиденным обстоятельствам не удастся выехать туристом, тогда он пустит в ход второй вариант — эмиграция по вызову для соединения с единственным родственником — братом, проживающим в Австралии. На этом пути он не видел никаких препятствий, так как не был связан с предприятиями и учреждениями, чья деятельность имеет отношение к военной либо государственной тайне. Туристское турне устроил ему Малярчик. Свою судьбу, вернее судьбу своих капиталов, Пришелец доверил Земцеву. Он согласился переправить за рубеж всю валюту и ценности, что Ипполит Исаевич сумел скупить. Каким способом, Пришельца не интересовало. Услуга, конечно же, огромная, но и плата за нее тоже дай бог: бриллиантовый кулон Норкиных, который добыл Анатолий Павлов. Туристическая поездка во Францию намечалась на первую половину августа. Сегодня, сразу после получения кулона, Пришелец разговаривал с Земцевым, и они условились на завтра встретиться у Якова Николаевича, куда Ипполит Исаевич привезет все свои сокровища и, само собой разумеется, кулон. Пришелец представлял, как поведут себя Норкины, когда обнаружат исчезновение кулона: несомненно, подозрение падает на Павлова, Илья Маркович заявит в милицию, и если Павлова арестуют, то как бы он себя ни повел, — а как поведет себя Анатоль на следствии, Ипполит Исаевич с определенной уверенностью сказать не мог, — след приведет к нему, и тогда прощайте мечты и надежды «частного предпринимателя», прощайте Париж, Сидней и кенгуру. И вообще это может стать концом карьеры Пришельца навсегда, с чем не мог согласиться «великий эгоист», как называл себя Ипполит Исаевич. И он без колебаний и малейших угрызений совести решил принести в жертву своего верного слугу, преданного подручного. «Мокрое дело» поручил Арвиду, разрешив ему для полного успеха и надежности привлечь себе в помощники одного из участников нападения на квартиру Бертулина и убийства Конькова. Арвид сказал своему помощнику, что Павлов «висит на крючке» в угрозыске, что его на днях арестуют именно по делу Конькова, и что он «расколется». Время приближалось к полуночи. Пришелец с книгой в руках лежал на постели. Это был томик статей об искусстве и литературе Луи Арагона, изданный в 1957 году. Решив эмигрировать, Ипполит Исаевич начал интересоваться литературой о Франции. Арагона предложили ему в букинистическом магазине, и он, впрочем, без особой охоты, купил. Теперь, ожидая телефонного звонка Арвида, который должен был сообщить, как прошла операция с Павловым, он рассеянно перелистывал книгу, останавливаясь лишь на некоторых абзацах. С Арвидом условились так: если операция прошла благополучно, то есть если Павлов мертв, Арвид, услышав в телефонной трубке голос Пришельца, должен сказать: «Попросите, пожалуйста, Ивана Ивановича», на что, как положено, Ипполит Исаевич должен ответить: «Вы ошиблись номером». Если же, не дай бог, получилась осечка, Арвид должен спросить ответившего на телефонный звонок Пришельца: «Это квартира Захаровых?» И опять же в ответ: «Вы ошиблись номером». Одновременно это означало, что сейчас заявится Арвид собственной персоной и все объяснит. Пришелец с беспокойством посмотрел на электронные часы — «00-04». «Начало первого, а от Арвида никаких вестей», — с беспокойством подумал Ипполит Исаевич и положил книгу на столик. Быстро сменялись зеленые цифры на электронных часах, и с каждой минутой нарастала тревога в душе Ипполита Исаевича. Он строил различные предположения, ища причину задержки с телефонным звонком. При этом и мысли не допускал, что может произойти что-то совсем непредвиденное, и Павлов останется жить. Живой Павлов представлял для Пришельца смертельную опасность. Когда на электронных часах появились цифры «00-43» и нервы Пришельца превратились в натянутые струны, раздался телефонный звонок. Спокойствие и выдержка изменили Ипполиту Исаевичу: он схватил трубку и взволнованно сказал: «Я слушаю». — Это квартира Захаровых? — Нет, вы ошиблись, — упавшим голосом ответил Пришелец и осторожно положил трубку. В этот миг он ощутил какой-то странный звон в ушах, похожий на далекое жужжание шмеля. Минуту он лежал в постели как одеревенелый. Нестерпимо долго тянулась эта минута умственного и телесного оцепенения. А когда она закончилась, первое, что пришло в голову, была горькая полынная мысль: вот она, полосатая цикличность удач и неудач. Но он не пал духом, не потерял надежды: сознание своей силы, вера в себя вернули ему сатанинскую энергию и готовность к борьбе. Когда через полчаса в дверь позвонили, он определенно знал, что это Арвид. Открыв дверь, жестом пригласил его в кабинет и ледяными застывшими глазами приказал садиться. Теперь он был внутренне собран, холоден, невозмутим. Арвид, волнуясь, рассказывал. Руки его дрожали, голос сипел. Но Пришелец не перебивал вопросами и уточнениями, выслушал Арвида молча и, когда тот кончил, резко поднялся. Вскочил и Арвид, вытянувшись в струнку. — Ищите, — прошипел Ипполит Исаевич. — Ищите днем и ночью, всю Москву переворошите. И чтобы живым или мертвым… Лучше мертвым… Идите. Поспешно выпроводив Арвида, Пришелец расслабился и дал выход своим эмоциям. Он метался по кабинету, скрестив на груди руки, и вслух ронял злые похабные слова по адресу и Павлова, и Арвида, и его подручного. Успокоившись, он ушел в спальню, лег в постель и стал анализировать случившееся и возможные для себя последствия. Он планировал, что нужно будет сделать завтра, какие экстренные меры предпринять. Прежде всего, как и условились, вечером побывать у Земцева и передать ему драгоценности. С утра увидеться с Зубровым и сказать, что Павлов — его шофер, кажется, попал в какую-то историю и находится в милиции. Пусть уточнит: где, в чем обвиняется, кто ведет дело. (А вдруг Павлов действительно в милиции?) И еще — встретиться с приятелем адвокатом, сказать, что, весьма вероятно, ему придется защищать Павлова, а возможно, впоследствии и его самого — Ипполита Исаевича. При этом надо тут же обещать ему вернуть расписку, где тот обязуется уплатить пять тысяч рублей — за кооперативную квартиру. Это в счет гонорара. Он достал кулон. На какую-то минуту Ипполит Исаевич отключился от тревожных дум и с хищным восторгом и упоением наблюдал за сверкающим блеском бриллианта. Этот холодный блеск на какое-то мгновение осветил взбаламученную неожиданной неудачей душу Пришельца, осветил и тут же погас. А на смену горькой радости явилась печальная мысль: «Этот камешек может накликать, если уже не накликал, беду. Может, в нем самом, как в легендарном Лунном камне, таится рок». Ему вспомнилась вся семья Норкиных, и он живо представил себе, что творится сейчас на их даче. В Абрамцеве после первого переполоха, после того, как Илья Маркович возвратился из Загорска от начальника милиции, которому сообщил об отравленной собаке и открытом окне, шла острая дискуссия по поводу странного ограбления. Забравшийся в дом вор ничего из ценных вещей не взял, кроме бриллиантового кулона. Дискуссия, впрочем, больше походила на семейную ссору. Илья Маркович утверждал с абсолютной уверенностью, что это дело рук Анатоля, жулика и проходимца, неизвестно откуда и как появившегося в их доме. От природы подозрительный и недоверчивый, он зятя невзлюбил с первого дня, как тот вошел в их дом. — Папа, ты говоришь глупость, потому что ты не любишь Анатоля! — кричала Белла. — Анатоль не мог, не мог никак, даже если бы и хотел. Мы вместе с ним выезжали с дачи. Потом он спешил в аэропорт. — А если он не поехал в аэропорт, а вернулся на дачу? — парировал Илья Маркович. — Все равно не успел бы. Мы же следом за ним выехали. Вспомни: ты пришел с работы через четверть часа после того, как Анатоль уехал, и мы сразу же выехали на дачу. Не мог он, не мог, — истерично взвизгивала Белла. — Через четверть часа, какая точность, — иронизировал Илья Маркович. — Ты даже время засекла, на всякий случай. Так? Да? — упорствовал Илья Маркович. — Ты не справедлив, Ильюша, и в самом деле, ты пришел с работы через полчаса после отъезда Анатоля, — пыталась примирить две крайности мадам Норкина — женщина спокойная, рассудительная, относящаяся к зятю более терпимо, чем ее супруг. — Ага, уже полчаса. Расхождение в два раза, — ехидничал Илья Маркович. — Больную мать придумал, сочинил. Может, у него никакой матери вообще нет, откуда мы знаем? Может, он подкидыш, детдомовец? А? Почему его мать на свадьбу не приехала? — Попытки дочери защитить мужа, доказать его невинность приводили Норкина в бешенство. — Господи, да это же кошмар какой-то! — причитала Белла. — Больная женщина, мать. Я сама читала телеграмму… — Правда, Ильюша, и я читала телеграмму. Нет, кто угодно, но только не Анатоль… Почему же он ничего другого не взял. Там и серьги и сберкнижки на предъявителя были. Все цело. Странно, очень странно. Совсем непонятно. Никакой логики. Сплошная мистика. Да, да, очень похоже. Какой-то рок. Кто-то охотился за кулоном. Я нахожу связь между засадой в Дядине и сегодняшним. Разве не так, Илья? Ты только подумай. Илья Маркович думал, по крайней мере, он соглашался с женой хотя бы в том, что в поступках вора нет логики. И это обстоятельство поколебало его, и он уже готов был признаться — пока что самому себе — в том, что, возможно, погорячился и возвел на зятя напраслину. Но не мог Чон принять пищу от чужого! А если мог? «В порядке исключения»… Павлов, конечно, мошенник, предприимчивый, изворотливый, но все же мошенник, н в этом никто не сможет разубедить Илью Марковича, который, впрочем, и себя не считал непогрешимым. Вскоре вспышка отчаяния сменилась ощущением несостоятельности своих доводов против Павлова. Связь между засадой на квартире ювелира — приятеля Пришельца — Бертулина и сегодняшним хищением кулона, после того, как о ней напомнила жена, теперь и ему, Илье Марковичу, показалась вполне возможной. Нет, в мистику он не верил, но тот факт, что кто-то охотится за кулоном, теперь для него был бесспорным. А если логически продолжать эту мысль, то получается, что «охотник» знает кулон, видел его. «Пришелец! — мелькнуло в сознании, — только он мог быть таким „охотником“. И раньше, как только обнаружили часы у Конькова, червячок подозрения на Пришельца зашевелился в голове Ильи Марковича. Он усилился после беседы с Добросклонцевым. Юрий Иванович произвел тогда на Норкина положительное впечатление. С ним можно иметь дело и быть до каких-то границ откровенным. Вот почему он, явившись в Загорский отдел милиции, спросил о Добросклонцеве. Только ему он мог признаться, что в тот раз сказал неправду, признаться и раскаяться. Кулон тогда на квартире Бертулина не был взят грабителями. До сегодняшнего дня эта семейная реликвия хранилась у своих законных хозяев. Конечно, пришлось бы выдержать унизительные минуты стыда, ссылаться на проявление слабости, что-то сочинять. Но делать нечего: Добросклонцев в отъезде, о кулоне и на этот раз он умолчал. Кулон исчез и, как считал Норкин, навсегда. 2 Коньков не объявлялся, исчез бесследно. Впрочем, почему бесследно, такого в природе не бывает, это вам скажет любой юрист, следователь. Но не все можно обнаружить. Тут многое зависит от профессионального искусства, того, кто ищет след, и изворотливости того, кто этот след прячет. В народе говорят: напакостил — и концы в воду. Мол, таких концов уже и днем с огнем не отыщешь. С Коньковым его бывшие «подельники» так и поступили, опустив труп в воды Черного моря. И все же Антонина Миронова не теряла надежды. Она доверяла своей интуиции, которая подсказывала ей, что Анатолий Павлов владеет разгадкой этой тайны. В то же время она знала, что юристы отрицают само понятие «интуиция» как не вещественное, которое к делу не подошьешь. Как бы то ни было, а дело с кулоном застопорилось, и сдвинуть его с места не удавалось. Впрочем, были в нем и маленькие удачи. Такой удачей Тоня считала «выход» на банщиков Алексея Соколова и Григория Хоменко, которых она «раскопала», изучая знакомства и связи Павлова. Собственно, ничего определенного, конкретного банщики не сказали. Да, среди их многочисленных клиентов бывал солидный (определение Соколова), респектабельный (определение Хоменко) Ипполит Исаевич со своим водителем. Кто такой Ипполит Исаевич? Надо полагать, ответственный товарищ, из руководящих, персона важная. Широкая, щедрая натура. Любит сервис и понимает в нем толк. На чаевые не скупится. А как Анатолий? Да никак — обыкновенный адъютант, услужливый, разбитной парень, веселый, остроумный. Не пьет, поскольку за рулем. Часто ли посещали сие заведение? Да как сказать — по погоде: зимой чаще, летом реже. Да вот с мая не появлялись. — А их что?.. — Это сорвалось у Соколова, само собой, помимо его воли; он даже смутился, не закончил фразу. Но всем троим, в том числе и Тоне, было понятно, что он хотел сказать. Мысленно Тоня ответила: «Пока еще нет», — но смолчала, пытливо посматривая на друзей-приятелей. И оба совершенно по-разному вели себя под ее испытующим взглядом — Тоня это отметила. В глазах Соколова она прочитала смущение, тревогу и страх, лицо Хоменко выражало вопросительное удивление. Выдержав паузу, Тоня сказала: — Мне б не хотелось, чтоб о нашей с вами сегодняшней беседе стало известно Ипполиту Исаевичу и Анатолию. — Простите за нескромность, Антонина Николаевна, а что из себя представляет Ипполит Исаевич? Он очень большой начальник? — нерешительно спросил Хоменко. — Он вообще не начальник, совсем не тот, за кого вы его принимаете. — Понятно, — раздумчиво произнес Хоменко. Соколов промолчал, и молчание его Тоня сочла небезосновательным, потому и добавила на прощанье: — Если у вас появится необходимость и желание продолжить наш сегодняшний разговор об интересующих меня лицах, пожалуйста — вот вам мой телефон, звоните. Лицо Соколова потемнело. На этом они и расстались. Ох как хотелось Тоне знать, о чем говорили между собой банщики после ее ухода. Если Хоменко перед ее уходом был в возбужденном недоумении, то Соколов имел подавленный, растерянный вид. Действительно, Хоменко подозревал, что его напарник оказывал какие-то услуги Ипполиту Исаевичу, но какие именно, раньше он не знал, да и не хотел знать, Теперь же в нем зародился червь любопытства. — Видал! — воскликнул он, проводив Тоню. — Как тебе нравится такой оборот? Оказывается, наш барин совсем и не барин. А тогда кто, я вас спрашиваю? Личность, которой интересуется милиция. И не кто-нибудь, а старший следователь, хотя по внешности и не подумаешь: такая миленькая, очаровашка. Голосок, как у ласточки, щебечет, а сама глазками: зырк, зырк! В самое нутро норовит. Ты обратил внимание на ее глаза? Рентген, а не глаза. Будто и нас в чем-то подозревает, будто и мы с этим Ипполитом за одно… Ну что ты молчишь? Может, ты что-то знаешь, а от меня таишь? — Да отстань ты, — недовольно поморщившись, отмахнулся Соколов. — Да ты чего, что ты? Размахался! Дело, видно, серьезное. Могут так махнуть… Ого, сколько угодно. Может, он вор. Барин. Никакой не начальник. А деньги откуда? Я вас спрашиваю, откуда столько денег у вас, господин Ипполит Исаевич? — А нам какое дело до его денег? Мы что — нанимались следить за ним? Наше дело — веники. Остальное нас не касается. Клиент доволен, и порядок… Тоже мне — следователь, ласточка. Ей бы в ресторане щебетать, пьянь очаровывать. — Соколов попытался увести разговор в сторону, хоть как-то скрыть свое волнение. Но это у него получалось очень уж неуклюже, да и Хоменко было не просто провести. — Скажи на милость, — проговорил насмешливо. — Не понравилась следователь, в официантки разжаловал. А чем же она не понравилась? Тем, что барином интересуется? Значит, есть причины интересоваться. Может, его по всей стране уголовный розыск ищет. В последний раз когда был? Перед Днем Победы. И заметь — один, без адъютанта. Адъютанта небось раньше посадили, а теперь и до самого дошел черед. Что? Вот тебе и ласточка. Как бы эта ласточка беды не начирикала, вот что я тебе скажу. — Беду и накаркать можно, — осуждающе огрызнулся Соколов и ушел убирать парную, оставив Хоменко размышлять в одиночестве. А когда вернулся, Хоменко, возлежа на диванчике, продолжил свои размышления вслух: — Телефончик оставила. А зачем? Неспроста. Если вы, братцы-кролики, и за собой грешки какие имеете, то в ваших же интересах лучше добровольно с повинной явиться, чем ждать, когда за тобой придут. «Не за вами, а за тобой», — отметил про себя Соколов. Ему хотелось крикнуть: «Да прекрати же ты!», убежать, уединиться, все взвесить и обдумать. Он вспомнил фианиты, которые превращал в бриллианты по заказу Пришельца. Еще тогда у него были кое-какие подозрения, теперь же он был уверен, что именно эти фианиты и привели сюда старшего следователя Миронову. И, пожалуй, Хоменко прав, говоря, что лучше с повинной явиться, чем ждать. А бумажка с номером телефона следователя у Хоменко, значит, надо просить у него. И какой черт дернул его связаться с этим барином. На что польстился? На длинный рубль. На «Жигули» записался. Скоро получать: обещали в сентябре. Может случиться и так, что не видать тебе, Алексей Соколов, собственной машины: на казенной с железной решеткой увезут. А за что? Какое преступление совершил? Заставил искусственный минерал засверкать гранями, облагородил. Не воровал же эти камешки Алексей Соколов. Для него это был просто побочный заработок, как для слесаря-водопроводчика, для столяра-краснодеревщика или художника-оформителя. Так он рассуждал, когда принимал заказ от Пришельца. Ничего преступного в этом не видел. А если говорить откровенно, то не хотел видеть, закрыл глаза и шел вслепую, не задумываясь и не рассуждая, к конечной цели — к своему «Жигуленку». Шел, да не дошел, не думал не гадал, что на пути вдруг окажется ласточка-певунья из управления внутренних дел. Насчет официантки он, конечно, зря, сгоряча выпалил. Она и в самом деле симпатичная женщина, молодая, обаятельная. Можно, конечно, и встретиться с ней, рассказать о фианитах Ипполита Исаевича. Кстати, кто порекомендовал барину обратиться к Соколову? Да, вспомнил: ювелир из Дядина Арсений Львович. Не хотелось бы впутывать этого благообразного обходительного мастера. А ведь придется. Обязательно спросят, почему Ипполит обратился к тебе, Алексей Соколов? Ипполита тоже спросят. Придется отвечать, говорить правду и только правду. Она уснула, когда в открытое балконное окно неотвратимо врывался алый свет зари. Ей снились цветные сны, и было так обидно, когда приятные сновидения оборвал резкий звонок телефона. Звонил Станислав Беляев и, не поздоровавшись, заговорил стихами: «Прости, небесное созданье, что я нарушил твой покой». — Стас, это жестоко с твоей стороны, это нечестно, — заспанным капризным голосом недовольно отозвалась Тоня. — Претензии будешь предъявлять своему другу Анатолию Павлову, который сидит у меня в изоляторе и жаждет разговаривать только с тобой. Желательно бы тебе поспешить в Дядино, поскольку загранпаспорт оного Павлова и инвалюта лежат передо мной. — Стас, я ничего не понимаю. Ты решил меня разыграть? — Нет, Антонина, тут не до шуток. Дело, кажется, принимает серьезный оборот, настолько серьезный, что мы, пожалуй, и не подозреваем о его глубине. — Тогда я немедленно выезжаю. Приготовь черный кофе и бутерброд с сыром. — Жду. 3 В первые минуты Павлов показался Тоне спокойным, расслабленным и даже слегка беспечным. На бледном усталом лице его сверкнула смущенная улыбка, покрасневшие от бессонницы глаза виновато заморгали, губы чуть дрогнули, и он негромко, но приветливо сказал: — Очень хорошо, что вы приехали. Так говорят врачу, приехавшему к тяжелобольному. И Тоня, поддерживая предложенный Павловым тон, ответила доброжелательно: — Ну что ж, Анатолий, в таком случае я надеюсь на полное взаимопонимание. Рассказывайте. Они сидели вдвоем в тесноватом кабинете замполита. У Павлова было достаточно времени, чтобы хорошо обдумать предстоящий разговор со следователем. Версия, которую он сочинил, ему казалась убедительной и неуязвимой. По крайней мере усилием воли, своего рода самовнушением, он заставил себя поверить в это. Все строилось исходя из необходимости во что бы то ни стало выгородить Пришельца, отвести от него малейшие подозрения. Павлов боялся мести своего всемогущего повелителя. Он был абсолютно уверен, что шеф неуязвим, что даже если он, Павлов, и даст самые достоверные показания против Пришельца, все равно из этого ничего путного не получится. Ипполит Исаевич выйдет сухим из воды при его-то связях! Но тогда заранее считай себя покойником. Это во-первых. Во-вторых, Павлов все еще надеялся, что Пришелец оценит его молчание и поможет ему облегчить участь, смягчить приговор. — Итак, я слушаю? — сказала Тоня. Павлов растерянно улыбнулся, в нем говорили осторожность и нерешительность. — Никак не соображу, с чего начать. Все началось с моей женитьбы. Оттуда вся моя жизнь пошла кувырком. Женился я, можно сказать, на квартире. Беллу я не любил. Вначале думал, что все уладится, привыкну. В принципе она женщина неплохая и ко мне относилась хорошо. Пожалуй, любила. Но родители ее с первого дня на меня косо смотрели, как на чужака. Я вошел в их семью против их воли, они желали зятя своего круга. В общем, семейная жизнь не получилась. Пошли скандалы, подозрения, упреки. Было бы у меня жилье, может быть, я и не женился бы, во всяком случае, на Белле. Однажды в пивном баре на Пушкинской улице, может, знаете: есть там такой подвальчик напротив Столешникова, туда всегда очередь; так вот там за кружкой пива я познакомился с одним типом по имени Арвид. Нет, тогда он мне не показался типом: остроумный, приятный, вежливый, общительный. Умеет расположить к себе, внимательный. Я как-то проникся к нему доверием, рассказал свою судьбу. Он выслушал меня с сочувствием и как бы между прочим поинтересовался, какими ценностями располагает мой тесть: золото, платина, ювелирные изделия. Я сказал ему, что насчет металла не знаю, а камешек драгоценный есть: кулон стоимостью тысяч на пятьдесят. Это мне Белла назвала такую сумму. Поговорили и расстались. Потом дней через пять случайно встретились опять там же в баре. Он обрадовался, увидав меня. Пили пиво под рыбец и креветки. На этот раз он вдруг сказал мне: послушай, Толя, а почему бы тебе не поставить крест на теперешней жизни и не начать совсем новую где-нибудь в Париже или Гамбурге? Я удивился — что за шуточки? А он говорит: я и не шучу, на полном серьезе. Могу посодействовать, ты мне нравишься, парень, будешь моим помощником. И он сообщил мне доверительно, что едет туристом во Францию, где решил попросить убежища. Там у него уже есть дело, есть капитал, кто-то из богатых родственников умер, оставил солидное наследство. Он обещал оформить мне заграничный паспорт, включить в группу туристов, которой руководит. Но за это я должен отдать ему бриллиантовый кулон. Настроение у меня было такое, что я не стал раздумывать и согласился. Был зол на Норкина, хотелось насолить ему. Я представил, как он взбесится, когда обнаружит пропажу кулона. Из бара мы вышли вместе с Арвидом, прошлись по улице. На фоне светлого здания он сфотографировал меня для паспорта. Я оставил ему домашний телефон Норкиных, он обещал позвонить в среду. И точно в среду позвонил, днем, когда я был один в квартире. Сказал, что паспорт готов и что в субботу мы вылетаем в Париж, поэтому в пятницу я с вещами и, конечно, с кулоном должен ждать его у памятника Юрию Долгорукому. Ночуем у него на даче, а утром в аэропорт. В пятницу я взял кулон — он хранился на даче, сложил свои вещички в чемоданчик и поехал к Моссовету. Арвид меня ждал у памятника, как и договорились. Я показал ему кулон, он мне паспорт. Потом мы добрались до вокзала, сели в электричку и поехали, как сказал Арвид, на дачу его приятеля. Он объяснил мне, что так надо в целях предосторожности: Норкины обнаружат пропажу, поднимут шум, поэтому ночь перед вылетом лучше провести в безопасном месте. — И у вас не было никаких подозрений в отношении Арвида? — спросила до сих пор молчавшая Тоня. Она не хотела перебивать вопросами: пусть выскажется; хотя многое в рассказе Павлова ей казалось нелогичным и неправдоподобным. — В том-то и дело, что не было. Я был в состоянии какого-то гипноза и делал все, что предлагал Арвид. Делал не задумываясь, машинально и равнодушно. Мне было все равно — в Париж или в Калугу. — Или в Крым? — вставила Тоня, внимательно наблюдая за поведением Павлова. — Ах, да, Крым, — Павлов судорожно сжал пальцы. Сегодня он лгал больше обычного, но находчивость и сообразительность не покидали его. — Вы уже и об этом знаете. Тем лучше. — Он уставился на Тоню беспомощным, доверчивым взглядом и, чтобы не терять нити разговора, продолжал рассказывать дальше, как они с Арвидом сели в электричку, как потом от дачной платформы шли к садовым участкам на значительном удалении друг от друга. Здесь кончилась легенда и начиналась правда, Павлов рассказывал все, как было на самом деле — и как он через окно бежал из сарая, заподозрив западню, как ловил машину на шоссе. И Тоня поверила, что он говорит правду. Когда она попросила его набросать словесный портрет Арвида, он сделал это с увлечением и со всеми подробностями, вовсе не заботясь о том, что того могут задержать, и тогда вся его легенда разлетится в прах. Потом допрос продолжался в кабинете Станислава Петровича и при его участии. Вопросы задавал Беляев, а Тоня молча внимательно наблюдала за Павловым, стараясь определить степень его искренности и правдивости. — С Пришельцем вы поддерживаете сотрудничество? — спросил Станислав Петрович. — Мы с ним разошлись, — негромко ответил Павлов. — Давно? — С момента свадьбы. — Почему? — Не было нужды, у меня появилась крыша над головой. — У вас она и раньше была. — Общежитие? Это не то. А вообще я давно хотел с ним порвать из-за его хамства. Характер у него дурной. Он может ни за что оскорбить, унизить. — Пришелец знал о кулоне? — Не думаю. — Когда вы убежали от Арвида, что собирались дальше делать? — Я хотел сразу бежать на улицу Белинского и все рассказать Антонине Николаевне. — Ночью? — У меня не было другого выхода. Я боялся Арвида. Я знал, что он и его люди будут меня искать. — А кто эти люди, кого вы имеете в виду? — По-моему, Арвид главарь какой-то мафии. Если не самый главный, то один из главарей. — Почему вы так думаете? — Если у него есть возможность запросто делать заграничные паспорта и валюту… — Он не докончил фразу. — Похоже, что вы правы, Павлов, — вставила Тоня. — Но почему вы не хотите помочь нам раскрыть эту, как вы говорите, мафию? — Я хочу, только не знаю, где они, — сдержанно ответил Анатолий. — Хотите, но не договариваете, — холодно заметил Беляев. — Вы что-то скрываете, чувствую, блефуете, Павлов. — Что вы, зачем мне скрывать? Это не в моих интересах. — Именно не в ваших, — заметила Тоня. — У вас впереди вся жизнь. Только надо начать ее сначала и не в Парижах и Брюсселях, а здесь, на Родине. Запутался, попал в ловко расставленные сети, мы искренне хотим помочь вам распутаться… — Зачем вы, Павлов, устроили спектакль на даче Норкина? — спросил Беляев. Павлов ждал этого вопроса и без запинки ответил: — Чтобы отвести от себя подозрение. Алиби никому еще не мешало. — Но вы же уезжали за границу и вам было все равно. — Я не был уверен, то есть у меня были сомнения: а вдруг все сорвется, мало ли как дело повернется… — резонно пояснил Анатолий. — Телеграмму давали вы? — Да. — И собаку отравили вы? — Да. — И вам не жалко было? — спросила Тоня. — Собаку? Нисколько. Она не лучше хозяина. Меня не хотела признавать и дважды покушалась… Из-за нее я редко бывал на даче, — искренне посетовал Павлов. — Когда вы виделись в последний раз с Коньковым? — остановил его излияния Беляев. — Вы знаете — тогда, в психичке. А он где? В вопросе Павлова просквозило фальшивое недоумение: слишком нарочито прозвучало «а он где?». — Об этом я хочу вас спросить. — А что я могу, когда вы не верите, — поник головой Анатолий. — Что я должен сделать, чтоб вы доверяли. — Совсем немного — сказать, где Коньков, рассказать правду о паспорте, валюте и Арвиде. «О паспорте и Арвиде напрасно, Станислав; похоже, что он сказал правду», — подумала Тоня, мысленно возражая Беляеву. — Я сказал все, что знаю. Придумывать не могу. — Влажные глаза Павлова остановились на Тоне. Ей хотелось верить Павлову, и в то же время не оставляли сомнения. Она искренне сочувствовала Павлову, потому что твердо верила: он марионетка в чьих-то очень цепких и ловких руках. Но чьих? Станислав, конечно, прав: Павлов чего-то недоговаривает. — Да, Павлов, — вздохнула она сочувствующе. — Так дело не пойдет. У вас есть шанс облегчить свою участь, но вы не хотите им воспользоваться. И я знаю, почему: боитесь. Да, да, Анатолий, боитесь. Павлов чувствовал, что Миронова искренна с ним. И от того, что она угадала правду, ему стало не по себе. Он смотрел на них испуганными, растерянными глазами, похожий на пойманного с поличным шкодливого мальчишку. Да, он боялся. За эту бессонную ночь в изоляторе многое передумал. Он понимал, что жизнь его в опасности, знал, что если ему, Павлову, и удастся избежать приговора, люди Пришельца все равно найдут его. Тем более в местах заключения. Ему казалось, что люди Пришельца, жестокие и неумолимые, вездесущи и нет такого уголка, куда бы ни заглядывало их всевидящее око. Беляев и Миронова переглянулись: на сегодня разговор с Павловым окончен. Вошел милиционер. Павлов встал, опустив голову. Как сквозь сон услышал напутствие Беляева: — Подумайте и не упустите время. Когда за ним закрылась дверь, Станислав Петрович облегченно вздохнул. Взгляд его слегка смягчился. Он смотрел на Тоню вопросительно, ожидая от нее каких-то итоговых слов. Тоня молча стояла у окна. Вошел дежурный с готовым анализом взятой в сарае ветчины. Цианистый калий. Да, Павлов не ошибся, — его ожидала смерть. — А мне его жаль, — печально произнесла Тоня с чувством странного облегчения. — Чего жалеть, когда он сам себя не жалеет, — фыркнул Беляев. — Его можно понять: сейчас он весь во власти животного страха. Ему вынесен смертный приговор, и он это знает. — И знает, кто и за что вынес этот приговор, — резко проговорил Беляев. — Знает, а сказать не хочет. — Все естественно и логично, Станислав Петрович. Я думаю, надо сегодня же сообщить Павлову результаты анализа. Это поможет ему сделать решительный шаг. Ты не находишь? — Возможно, ты права. А теперь давай подобьем бабки. Итак, Павлов связан с какой-то преступной шайкой, о деятельности которой он много знает и потому от него решили избавиться, как от опасного свидетеля. И надо согласиться с Павловым: шайка, видно, серьезная. Из этой шайки мы знаем — условно, разумеется, — некоего Арвида. Имя, я думаю, не настоящее. Ему было поручено убрать Павлова. Значит, это действующее лицо второстепенной роли. А кто главные действующие лица? Я убежден: Павлов их знает. — Я не уверена, может и не знать, — возразила Тоня, медленно расхаживая по кабинету. — Что же касается главного действующего лица, то им я считаю бриллиантовый кулон. Все вертится вокруг него. Как бы я хотела на него посмотреть, что это за штука, ради которой люди идут на преступления, рискуют жизнью. — Да, именно вокруг кулона, — согласился Беляев. — Но ты обратила внимание на странные вещи: Норкин утверждал, что в квартире Бертулина налетчики отобрали у него кулон. Коньков отрицал: никакого кулона не было. Значит, Коньков говорил правду, а Норкин врал. Спрашивается — зачем? И продолжает врать сейчас — он сказал, что ничего на даче злоумышленники у него не взяли. А между тем Павлов похитил все тот же кулон. — Ничего удивительного — хочет казаться последовательным. — А что он скажет, ознакомившись с показаниями Павлова? Как он будет выкручиваться? — Это не так важно. Норкин в любом случае — потерпевшее лицо, — сказала Тоня. — Я вижу другое: а не принимал ли Павлов участия в деле с кулоном в тот раз, на квартире ювелира? И случайна ли его связь с Коньковым и так ли уж безобидна, как он утверждает?.. Мне искренне жаль его, но он, мне кажется, по уши завяз в трясине. Короче говоря, Стас, в понедельник я должна встретиться с Норкиным и его дочерью — женой Павлова. Они могут кое-что прояснить. — Мне остается только пожелать тебе удачи. — Нам, Стас, нам всем, — поправила Тоня и прибавила: — Жаль, что нет Юрия Ивановича. 4 В то субботнее утро, когда Антонина Миронова ехала на электричке в Дядино, Ипполит Исаевич, крепко вцепившись в баранку автомашины, мчался на дачу полковника Зуброва. Перед тем, как ехать, он позвонил ему на квартиру, — телефон молчал. «Все ясно, — решил Пришелец, — кому охота по доброй воле в такой жаркий летний день сидеть в городе!» У Зуброва на даче не было телефона, и Пришелец выехал с утра пораньше, чтоб застать своего приятеля дома. Сегодня же вечером, как условились еще вчера, он должен доставить Земцеву бриллиантовый кулон и другие ценности. Стрелка спидометра иногда заходила за цифру 100, что было непривычно для Пришельца: вообще он, сидя за рулем, придерживался поговорки «тише едешь — дальше будешь». Но сегодня случай особый, каких в жизни Ипполита Исаевича было мало. Проведя почти бессонную ночь, Ипполит Исаевич чувствовал себя утомленным и в какой-то степени растерянным. В голове все смешалось — тупая боль, бешеная ненависть к Павлову и Арвиду, дурное предчувствие неотвратимой беды. Он не находил объяснения факту, который казался невероятным: как мог Павлов, приняв такую дозу цианистого калия, положенного в пищу, остаться в живых, выбраться через окно и бесследно исчезнуть? Кто он — второй Григорий Распутин? А может, яд оказался неполноценным, подпорченным? Как бы то ни было, а Павлова надо обезвредить. Пришелец не допускал мысли, что Анатолий может добровольно пойти в милицию, скорее всего, где-то прячется. Но где? Возможно, у Валерии Иосифовны? И тут Ипполита Исаевича больно уколола коварная мыслишка: а ведь эта Валерия Иосифовна Маркина — юрист, и ей, как своему старому другу, Павлов может во всем сознаться, попросить совета и помощи. Итак, после встречи с Зубровым он едет к Маркиной, затем к Земцеву. В выходные дни на даче Зубров по утрам не спешил покидать постель, пока жена не позовет к завтраку. На этот раз нежиться не пришлось: еще не сбросив остаток сна, он услышал урчание автомобильного двигателя, стихшее у самой калитки, потом брякнула дверца машины. И Зубров сообразил: «Ко мне. Но кто и зачем в такую рань?» Михаил Михайлович набросил на плечи халат, сунул босые ноги в мягкие тапочки и, протирая глаза, толкнул локтем дверь на террасу. Как вдруг сверху, с лестницы, ведущей на второй этаж, на него что-то упало. Он инстинктивно посторонился, и это «что-то» пролетело мимо в сантиметре от его головы и шмякнулось на пол. И не успел Зубров сообразить, что за предмет и откуда, как предмет этот издал душераздирающий крик, словно его пилили тупой пилой. Это был их кот, серый, пушистый, сибирской породы кот Ферапонт. который исчез из дома в прошлую субботу и не появлялся целую неделю. Его исчезновение было не случайным. В позапрошлую пятницу Михаил Михайлович у себя на работе купил полкилограмма осетрины горячего копчения и, приехав на дачу, вместо того, чтобы сразу положить в холодильник, оставил на столе. Оставил и забыл. На следующее утро на том же столе Зубров обнаружил лишь просаленную оберточную бумагу. От осетрины не осталось даже крошек. Зато Ферапонт лежал на своем коврике и, вполне довольный жизнью, облизывался. Все понял Михаил Михайлович. Он украдкой воровски взял щетку и со всей силы хрякнул ею по коту поперек хребта. Кот сбежал. И вот появился. 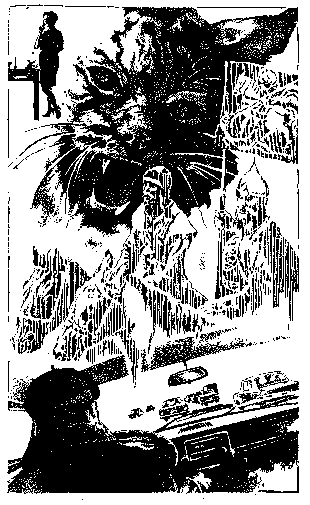 Зубров стоял остолбенев, растерянный, глядя на припаянного к полу дико орущего Ферапонта. Из шокового состояния Зуброва вывел поднявшийся на террасу Пришелец. — Что здесь происходит? Голос Ипполита Исаевича заставил Зуброва вздрогнуть, он недоуменно уставился на нежданного гостя, приходя в себя от страха, потом кивнул на Ферапонта. — Да вон — кот врезался сдуру в пол. — На бледном лице его проступили розовые пятна. Чтобы скрыть дрожь в пальцах, он засунул руки в карманы халата. И словно оправдываясь, прибавил: — Я вчера поздно уснул… Пойдем в сад? — Лучше бы в доме: дело у меня серьезное. — Пришелец покосился на кота. — Как это его угораздило? За мышью бросился, что ли? — Да, да, на мышь, и промахнулся. — Силища-то какая. Зверь, — заключил Пришелец и первым сделал шаг в открытую дверь. — Страшный, чудовищный зверь. А если б вот так на голову? Представляешь? Домашняя рысь. — Поддакнул Зубров и, приоткрыв дверь кухни, крикнул: — Люба, у нас гость! Ипполит Исаевич! Завтракать будем через полчаса. Прошу, — он указал жестом на кресло. Сам сел на диван. — Извини за мой туалет: только проснулся. — Я разбудил тебя, прошу прощения. Но дело серьезное и срочное. — Ипполит Исаевич скорбно потупился. — Что-нибудь стряслось, Ипполит Исаевич? — Да, неприятная история. Павлов Анатолий оказался подонком. Обворовал тестя и скрылся. Если его задержит милиция, возникнет «дело», в котором может появиться мое имя. Павлов на меня зол и покатит бочку. Фантазия у него неистощимая. — Я не вижу оснований для тревоги, дорогой Ипполит Исаевич, — самонадеянно возразил Зубров. — Фантазия — не факт, к делу не приобщишь. — Михаил Михайлович, я смотрю на вещи трезво и хочу разговаривать с тобой, как мужчина с мужчиной, тем более, что если дело коснется меня, то оно заденет и тебя и других наших знакомых и друзей. Святых людей, дистиллированных, в природе не существует. На совести каждого можно найти родимое пятнышко, которое с точки зрения ортодоксальных моралистов считается позорным и подлежит осуждению. Как сказал великий американский поэт Уолт Уитмен: «Ведь и во мне уживается добро и зло, как во всей моей нации, и я утверждаю, что зло относительно». Все зависит от того, кто судьи. Я имею в виду это слово в самом широком смысле. И ты лучше меня знаешь, что по одному и тому же делу один судья может вынести оправдательный приговор, а другой отправить в зону на длительный срок. Я прошу тебя отнестись к этому очень серьезно: дело может принять трагический оборот как для меня, так и для других. Включая и тебя. Зубров, еще не успев оправиться от потрясения, связанного с Ферапонтом, медленно погружался в трясину новых неприятностей. Он не перебивал Пришельца и не протестовал, когда тот без всяких намеков напрямую ставил и его, Зуброва, в один ряд с каким-то подонком и вором Павловым, которого он в глаза не видел. Он понимал, как тщательно подбирает выражения Пришелец, как целенаправленна и недвусмысленна его словесная вязь, какой категоричный, угрожающе-требовательный тон. До его сознания доходило, что случилась беда, в которой он, Зубров, и Пришелец повязаны одной веревочкой. Он слушал Пришельца, глядя на угол стола, и в душе его зарождалась тревога. Он резко поднял глаза на Ипполита Исаевича, негромко, деловито спросил: — Что я должен предпринять? — Тебе видней. Использовать все свои связи, знакомства. Что этот приятель — генерал МВД — не может? Или трусит? Или ждет «на лапу»? Пусть не беспокоится: ты же знаешь — за мной не пропадет. Пообещай. Зубров понимал, что дела их плохи, и нет у него приятеля, который мог бы хоть чем-то помочь, повлиять, но продолжал играть роль человека влиятельного и со связями. Сказал успокаивающе: — Товарищи действуют. Дело тонкое, тут надо делать все наверняка, с гарантией. Требуется точный расчет. У Пришельца возникли сомнения, он не очень верил Зуброву. — Может, ты познакомишь меня со своим другом из министерства? — сказал он. — Напрямую проще договориться. — Нет, нет, сейчас рано, — решительно возразил Зубров — К Петру Михайловичу, возможно, придется обращаться, если дело примет неприятное для нас направление. Опять же тебе придется с ним говорить. А еще лучше с его супругой. Там ее слово решающее. В голосе Пришельца звучал металл, не допускающий возражений. Приказной тон и властный решительный вид коробили Зуброва, в то же время они подавляли его волю, подчиняли и нагоняли страх. Зубров догадывался. что Пришелец замешан в каком-то крупном преступлении, о котором известно Павлову, и, спасая свою шкуру, он пойдет на все, что сегодняшний разговор — пока еще только шантаж, но если Пришельцу наступят на хвост, он не остановится ни перед чем, по крайней мере его-то, Зуброва, не пощадит. — Ты зря горячишься, Ипполит Исаевич. — Зубров встал с дивана и сделал несколько шагов по комнате. В нем все взбунтовалось, правая щека подергивалась. В данный момент Пришельцу было невыгодно идти на обострение и, мгновенно сменив тон, он заметил: — А не лучше ли сделать так, чтобы и вы имели гарантии? Вошла жена Зуброва и позвала к завтраку. Михаил Михайлович был доволен, что таким образом неприятный для него разговор пришлось прервать. Продолжать его после завтрака он не собирался. Да и Пришелец считал, что вопрос исчерпан, Зубров должен действовать, и он будет действовать, в этом Ипполит Исаевич не сомневался. Яков Николаевич Земцев готовился в заграничную командировку и потому в субботу был дома, тем более, что на этот день он назначил две деловые встречи. Жена, дочь и теща жили на даче, так что встречам никто не мог помешать. Командировка предстояла в одну из западноевропейских стран продолжительностью на две недели, в эту страну Земцев ехал впервые, близких друзей из числа соотечественников, которые могли бы оказать ему радушный прием и познакомить если не со страной, то хотя бы со столицей, там не было. Впрочем, в советском торгпредстве работал сотрудником муж Ниночки Жамалдиновой (это была ее девичья фамилия), к которой в студенческие годы тогдашний доцент Земцев питал особые симпатии. Благодаря его вниманию Ниночка отлично защитила диплом, и они остались друзьями. Тогда же Яков Николаевич познакомился и с братом Нины — Асхатом Жамалдиновым — издательским редактором, эрудитом, умницей и вообще обаятельным человеком. Неделю тому назад Земцев позвонил Асхату, сообщил, что он едет в загранкомандировку и любезно осведомился, не желает ли брат передать что-либо Нине Файзурахмановне? Тронутый таким неожиданным вниманием, Асхат поблагодарил за любезность и обещал сегодня привезти икру и письмо. Он приехал после полудня. Крупноголовый, с огромнейшей темно-каштановой шевелюрой не поддающихся уходу волос, широкоплечий, кряжистый, со смуглым полным лицом, помеченным густой кистью усов, он чем-то напоминал героев латиноамериканских фильмов. Земцев принимал Асхата в гостиной — просторной, увенчанной двумя хрустальными люстрами. Поставив перед гостем на журнальный столик вазу с фруктами и графинчик с коньяком, хозяин, прежде чем наполнить рюмки, решил удивить гостя входящей в моду зарубежной новинкой — видеомагнитофоном. Он включил экран цветного телевизора, а затем положил перед Асхатом шесть кассет с кинофильмами. В каждой кассете два полуторачасовых фильма. Выбирай любой: тут и наши, отечественные, и зарубежные на любой вкус — голливудские боевики, откровенная порнография — все, что душе угодно. Но Асхат не выразил особого удивления, словно для него это была с детства знакомая игрушка. А между тем Земцеву нужно было чем-то заполнить время до прихода Ипполита Исаевича: он хотел их как бы случайно познакомить. Потом он скажет Пришельцу, что этот Асхат Файзурахманович — родной брат женщины, у которой он, Ипполит Исаевич, уже оказавшись за рубежом, может получите необходимые сведения о своих драгоценностях. Пришелец встретится с Ниной, передаст ей привет от брата, и Нина назовет ему имя человека и адрес, по которому он должен обратиться. Зачем именно, Нина знать не будет, ее роль совсем проста и невинна. В стране, куда собирался в командировку Земцев, в самой столице жил процветающий бизнесмен по фамилии Цвик, фирма которого поддерживала деловые связи с советскими внешторговскими учреждениями. С этим бизнесменом Яков Николаевич познакомился в Москве, принимал его у себя дома, и теперь предстоял ответный визит. Предки Цвика были выходцами из России, точнее из Белоруссии, и потому Цвик считал Земцева своим земляком. Гость, откровенно скучая, успел просмотреть только один весьма пикантный фильм, как появился Пришелец, и Яков Николаевич познакомил его с редактором довольно солидного издательства — Асхатом Файзурахмановичем. — Я недавно купил роскошно изданный том Уолта Уитмена, — сообщил, покосившись на экран телевизора, Ипполит Исаевич. — Это был поистине великий певец любви, знал в ней толк. «О, отдаться тебе, кто бы ни была ты, а ты чтобы мне отдалась наперекор всей вселенной». А? Звучит? Это он сказал: «Я воспеваю друзей и тех, кто спит друг у друга в объятьях. Я тот, кто провозглашает любовь». Он был предельно откровенен, что в наше время считается цинизмом. Он всему человечеству заявлял: «Совокупление для меня столь же священно, как смерть». Ипполит Исаевич торжествующе поднял вверх указательный палец. Он был возбужден и веселостью пытался скрыть состояние тревоги и волнения. Присутствие в доме Земцева незнакомого ему человека настораживало и смущало: ведь он пришел сюда по делу сугубо интимному. Тем более, что человек этот показался ему подозрительным и несимпатичным. Особенно своим ехидным замечанием по поводу Уолта Уитмена: — Я думаю, что не эротика — главное в творчестве великого американца. Это замечание Асхата задело Ипполита Исаевича. — Тогда что же? — с вызовом спросил он и, опережая собеседника, заявил категорично: — Остальное — лозунги, сумбур, плоские агитки, набор громких фраз. Впрочем, извините, возможно, я не прав и рассуждаю как дилетант. Вы профессионал, и мне с вами трудно спорить. Лучше скажите, чем порадует нас ваше издательство в ближайшее время? Такой неожиданно резкий поворот вызвал на полных губах Асхата легкую улыбку, которая тут же исчезла в усах. — Готовим кое-что к шестисотлетию Куликовской битвы. — А это что, будет отмечаться как событие? — с удивлением спросил Земцев. — Конечно. По крайней мере такое настроение у общественности. — Но ведь это же восьмидесятый год — год Олимпиады. В Москву, как на праздник, приедут тысячи иностранцев, — заговорил Земцев тоном, в котором звучало сдержанное раздражение, и прибавил горестно: — Не понимаю — зачем? — Олимпиада в июле, а шестисотлетие в сентябре. Одно другому не помеха, — пояснил Асхат, искренне не понимая недовольства Земцева. — А вы считаете, что не нужно отмечать победу Дмитрия Донского над нашествием Орды? — А вы, Асхат Файзурахманович, — Земцев сделал резкое ударение на имени и отчестве гостя и пытливо уставился на Жамалдинова, — не считаете? — Но ведь это было действительно величайшее событие в истории нашей Родины. Россия показала, что она не потерпит больше чужеземного ига, что она способна изгнать интервентов со своей земли, — с горячей убежденностью ответил Асхат. — Ну, во-первых, интервентов она терпела еще сотню лет после Куликовской битвы, — небрежно бросил Земцев и зашагал по ковру. Холодное аскетическое лицо его вдруг стало злым. — Во-вторых, — он резко вскинул голову и, остановившись перед Асхатом: — С точки зрения национальной политики отмечать такое событие я считаю неразумным. — Почему же, я вас не совсем понимаю? — удивился Асхат, безмятежно глядя на Земцева. На самом деле он уже понял, куда тот клонит. — А это не задевает ваши, лично ваши — татарина — национальные чувства? — неожиданно пронзительным голосом выпалил Яков Николаевич. — Нисколько. И вот почему, — спокойно ответил Асхат. — Прежде всего вы допускаете путаницу в этом вопросе. Татары, как нация, в плане этнографическом не имели никакого отношения к тому сборищу кочевых племен, которое называли тогда татарской ордой. Это первое. А теперь позвольте мне задать вам вопрос. — Пожалуйста, — кивнул Земцев. — А как вы, Яков Николаевич, думаете насчет Девятого мая? Нужно ли нам, советским людям, отмечать День Победы над немецко-фашистскими интервентами? Не задевает ли это национальные чувства немцев? Вопрос был неожиданный, так что даже искушенный Земцев не сразу нашелся, лишь пожал плечами, и в этом движении было что-то высокомерное. После непродолжительной паузы негромко и не очень уверенно он ответил: — Может, через шестьсот лет и эта дата не будет отмечаться, если, конечно, к тому времени наша планета не сгорит в термоядерном пекле. — В душе он пожалел, что затеял разговор на скользкую тему, и, чтобы увести разговор в сторону, со вздохом прибавил: — Угроза атомной войны, дорогой Асхат, трагическая реальность, факт, не считаться с которым человечество не может. Но будем надеяться на благоразумие заокеанских властелинов и их европейских вассалов, которые в случае судного дня сгорят вместе с нами. Впрочем, для нас это утешение не ахти какое. Асхат разгадал его уловку и не стал возвращаться к вызвавшей небольшой конфликт теме. Он видел, что новый гость Земцева нервничает, что ему, очевидно, необходимо о чем-то важном и неотложном переговорить с хозяином наедине, и потому решил уйти и поспешно начал собираться. Яков Николаевич, задержав крепкую руку Асхата в своей узкой мягкой руке, с холодной любезностью спросил на прощание: — Что на словах передать Нине Файзурахмановне? — Привет, ну, и что у нас все в порядке. В сентябре ждем их в отпуск. Проводив Асхата, Земцев с не присущей ему горячностью спросил, глядя на Пришельца: — Видали, во что превратился потомок Чингисхана? Русский па-три-от… — У меня недавно произошел подобный разговор с одним интеллигентным киргизом. — Пришелец опустился в глубокое с золотистой бархатной обивкой кресло. — Участник войны, доктор каких-то наук и плюс переводчик. Перевел на киргизский какую-то русскую летопись о нашествии Мамая на Русь. Я говорю ему: «Абдулхай, зачем вам, потомкам великих завоевателей, переводить эту ветошь?» Так он вообще взбесился: представляете, обвинил меня в попытке посеять национальную вражду, подорвать дружбу народов. Хвастался своим советским патриотизмом, в чем, естественно, отказывал мне. — Пришелец зло хлопнул ладонью по подлокотнику. — Ну да ладно, оставим историю и займемся современностью, — примирительно промолвил Земцев. — Прежде всего дело. У вас все в порядке? Пришелец неправильно понял его вопрос, и это замешательство не осталось незамеченным Земцевым. Он понял, почему его гость задержался с ответом, и уточнил: — Вы все принесли? — Ах, да, это… Конечно, конечно, — с облегчением ответил Ипполит Исаевич. — Принес все, как условились. — И зачем-то неуверенно попытался объяснить свое замешательство: — Меня удивил и, знаете, возмутил этот аллигатор. — Вам придется иметь дело с его сестрой и говорить об Асхате совсем не то, что о нем сейчас думаете. Говорить приятное. — Земцев наполнил рюмки коньяком и, осанисто выпрямившись, провозгласил тост. — За наши успехи. За общее дело и доверие. Пришелец почтительно улыбнулся, выпил, вздохнул с облегчением, взял свой «кейс», положил его на край стола и озабоченно посмотрел на Земцева. Ему стало грустно от неизвестности: где гарантия, что содержимое этого «кейса», исключая кулон, он в целости получит уже за рубежом. Такой уверенности не было. Да и кулона жаль, слишком дорогая плата за услугу. Он дивился своей решимости пойти на такой риск, но, помня, что, как и Зубров, Земцев плывет с ним в одной лодке, а потому не посмеет надуть, отмел все сомнения и открыл чемоданчик. Ценности были упакованы в шелковые мешочки, поверх которых надеты целлофановые. Золото — в одном мешочке; кольца, монеты, пластины, платина — в другом, алмазы — в третьем, жемчуг — в четвертом. Валюту он оставил дома: решил переправить ее через границу другим каналом. Он поочередно развязывал мешочки, высыпал содержимое на дно «кейса», вслух считал, ставил галочку в описи, отпечатанной на машинке, и снова прятал в мешочек. Земцев стоял рядом, замкнутый и строгий, молча следил за руками доверителя. Выложив на стол все мешочки, Пришелец взял один экземпляр описи, положил его на дно опустевшего «кейса», щелкнул замочками и устало посмотрел на Якова Николаевича. Потом, не говоря ни слова, достал из кармана брюк бордовую бархатную коробочку, дрожащей рукой открыл крышку. Переливчатый игристый блеск бриллианта отразился в глазах Якова Николаевича. На лице его возникло подобие улыбки, оно сразу как-то разгладилось, оживилось и потеплело. Ипполит Исаевич торжественно протянул ему открытую коробочку. Яков Николаевич, не прикасаясь к футляру, двумя тонкими подрагивающими пальцами извлек кулон и, держа его на весу, стал внимательно рассматривать. Кулон медленно поворачивался в его руке, трепеща искрометными гранями. — Красавец. Цены ему нет, — глухо выдохнул Пришелец, облизал сухие губы и прибавил почти шепотом: — Его место в Алмазном фонде Кремля. Целое состояние. — Не преувеличивайте. Какое это состояние? — Земцев криво усмехнулся и спрятал кулон в футляр. — Вы были в Загорске в Троице-Сергиевой лавре? — Конечно. — И в Ризнице? — Разумеется. — Обратили внимание на митру Мстиславских? — Миллионы, — только и молвил Пришелец, считая, что этим словом сказано все. — Вот эту вещь можно считать состоянием. А лежит, между прочим, открыто, под прозрачным колпаком, как говорится, у всех прохожих на виду. Присаживайтесь, — Земцев снова наполнил рюмки и продолжил: — И охраняют такие сокровища сиделки-старушки, не считая постового милиционера, который, как я заметил, всегда стоит в первом зале. На Западе при такой охране. давно бы исчезли и бесценные митры, и другие вещи из жемчуга и золота. «К чему он все это говорит, — думал Пришелец, — словно подает идею? Нет уж, покорнейше благодарю, достопочтенный Яков Николаевич. С меня довольно. Вы уж сами при ваших-то масштабах и аппетитах». Но чтобы поддержать разговор, начатый хозяином, заметил: — Между прочим, в последнем зале есть еще одна митра, сплошь из жемчуга. Но обе они подключены к сигнализации. — Для опытных умельцев сигнализации не помеха. Средь бела дня на десять минут в Лавре отключается ток. Не во всем городе, а только в Лавре. И ни старушки, ни милиция даже внимания не обратят, что сигнализация не действует. Всего десять минут. Больше и не нужно. — Такое возможно в Штатах или Италии. У нас пока исключено. Нет специалистов, — будто бы даже с досадой заметил Пришелец, сделав ударение на слове «пока». — И слава богу, — мгновенно подхватил Земцев. — Наше счастье, что мы не боимся вечером выходить на улицу, гулять в парках, выезжать за город, не врезаем в двери квартир десятки хитроумных запоров, что нас не раздевают в подъездах. Вы говорите — «пока». Думаю, что вы не правы: организованный гангстеризм, мафия сюда не придет. Неожиданно Пришелец расхохотался, чем удивил Земцева. — Придет! Уверяю вас, придет, как пришли твисты и рок-н-роллы, длинные прически и короткие юбки, абстракционистская мазня и музыка, рвущая барабанные перепонки. Поверьте — в этом я ни на миллиграмм не заблуждаюсь. Мода не знает государственных границ. А мафия — тоже мода. И я не удивлюсь, если под прозрачным колпаком в Ризнице будет лежать не подлинная митра Мстиславских с ее бесценными бриллиантами, а ловко сделанный дубликат, где и жемчуг, и бриллианты, и изумруды будут фальшивыми. А подлинная спокойно пересечет государственную границу. Но меня сейчас беспокоит другое: чтобы государственную границу благополучно пересекло содержимое этих вот мешочков. Это мое скромное состояние, которое, надеюсь, даст мне возможность начать новую жизнь в новом, свободном мире. Этот монолог вызвал на лице Земцева сдержанно-язвительную улыбку. — Что касается свободного мира, то вы не очень обольщайтесь. Там идет жестокая схватка за выживание. Выживают ловкие, энергичные, умеющие с толком распоряжаться капиталом. И, конечно, многое решают везение, фортуна. Будем надеяться, что вам повезет… Ну да вернемся к делу. Яков Николаевич, как деловой человек, не любил праздных разговоров, пустой болтовни: умел ценить время и свое и чужое. Он понимал тревогу и беспокойство Ипполита Исаевича. Но надувать его и не собирался — все будет сделано как обещал. Конечно же, он не сказал, каким путем сокровища Пришельца уйдут за границу, да Ипполит Исаевич его об этом и не спрашивал, понимая, что это составляет глубокую тайну. Пришельцу важно было знать, где и когда он сможет забрать свои драгоценности, оказавшись за рубежом, и на этот вопрос он получил подробный и обстоятельный ответ. И был доволен. По крайней мере из дома Земцева он уходил если не умиротворенным, то успокоенным. ГЛАВА ВОСЬМАЯ 1 Над полем Куликовым высокое небо — синий окоем без конца и края в маревой дымке, да знойная дрема лебяжьих облаков, неподвижных в жарких лучах июльского солнца. На поле Куликовом несметное буйство красок, от которых рябит в глазах и захватывает дух. Пора безудержного цветения. Любит Юрий Добросклонцев пору, когда воздух полон аромата согретых солнцем и умытых дождями и росами трав и цветочной пыльцы, когда восторженное лето звенит птичьими голосами и пчелиным гудом, любит больше других времен года. И не где-нибудь, а именно здесь, в широком просторе Куликова поля. Да и как не любить край своего детства… Юрий Добросклонцев родился и рос здесь, вблизи знаменитого русского поля. И где бы он ни был, где бы ни протекала его служба, душа всегда тянулась в отчие края, к материнскому порогу, и раз в два-три года в отпускное время он хоть на несколько деньков наведывался в родное село навестить мать Марфу Захаровну, которая жила вместе с замужней его сестрой Полиной. И обязательно сходить на сельское кладбище, постоять у могилы отца — Ивана Георгиевича Добросклонцева — солдата Великой Отечественной. «Жигуленок», взятый напрокат у тестя, летел по шоссе. А думы его были о сыне, который уехал к бабушке месяц тому назад. Женя ехал в деревню всегда с охотой и радостью. Там у него были друзья, и самый первый — двоюродный брат Сережа, ну и, конечно же, Сережины приятели. Сыну нравилось сельское приволье, природа, которую он воспринимал еще бессознательно, стихийно, небольшая речушка, где в заводи можно было выкупаться в знойный полдень, наловить рыбы, прокатиться на лошади, посидеть с ребятами у костра, встречать возвращающихся вечером коров, срывать еще неспелые кислые яблоки и спать на сеновале. Было около четырех часов пополудни, когда Добросклонцев подкатил к воротам отчего дома. Марфа Захаровна в белом платочке и новом в белую горошину по коричневому полю ситцевом платьице сидела на лавочке под молодым, но тенистым дубом. Юрий Иванович вспомнил: дубок этот посадил отец в годы своего возвращения с войны. О дне приезда Добросклонцев сообщил заранее, и Марфа Захаровна почитай с самого утра начала волноваться, поджидая сына. Ей и в голову не пришло, что путь от Москвы до их села неблизок. — А я совсем заждалась, — сказала Марфа Захаровна, расцеловавшись с сыном. Руки ее дрожали от волнения. — Только услышу — загудит машина за околицей, я и бегу за ворота. А машин теперь развелось больше, чем собак. Вон и Матушка на той неделе купил себе «Ниву». — Голос у Марфы Захаровны мягкий, тихий, говорит не спеша, а глаза блестят счастливой слезой. — Что за Матушка? — весело полюбопытствовал Юрий Иванович, открывая багажник с городскими гостинцами. — Так у нас Колю Галкина зовут. Ты ж его знаешь, вместе в школе учились. Ай не помнишь?.. Юрий Иванович хорошо знал Николая Галкина, вспомнил, что у того была привычка в разговоре постоянно вставлять: «Матушка моя». Вспомнил и тихо улыбнулся. — А вчера Варвара схоронили, — продолжала Марфа Захаровна. Эта новость для их села была важной: старик прожил девяносто шесть лет. — Не хворал, до последнего дня на пасеке пропадал. Там и помер. А машину-то во двор загоняй, — суетилась Марфа Захаровна. — Я сейчас ворота отворю, погоди. Да и Женя куда-то подевался. Все говорил: папа раньше вечера не приедет. А вот и приехал, а его нет. — И засеменила в сторону ворот. — Погоди, мама, я сам, — сказал Добросклонцев. — А что ж Катерина не приехала? — спросила Марфа Захаровна. — Да с работы не отпустили. Ну как здесь Женя? — С утра уйдет, так до самого обеда возле лошадей и пробегает. А их-то, лошадей, всего четыре и осталось на весь колхоз. Все машины. И приусадебные огороды лошадьми пашем. А Женя — лошадник. Это у него от деда Ивана. Тот любил лошадей, ой, как любил. Я говорила ему: тебе б не учителем, а конюхом быть. А он смеется: выгонят из школы за самовольное толкование истории — пойду в конюхи. А после обеда — музыка, — продолжала Марфа Захаровна без перехода опять о внуке. — Пойдет в сад, ляжет под яблоней на раскладушку и заводит магнитофон. Да не на все село, как другие, а тихо-тихо, только для себя. И так до самого вечера может слушать один. Ребята приходят, на речку зовут — нет, не идет. Лошади и музыка — его страсть. Юрий Иванович это знал. Слушая мать, он неторопливо прошел в дом. В доме никаких особых изменений не случилось. Все было, как и два года тому назад, знакомо до последней герани на подоконнике. А вот мать заметно постарела, двигалась с усилием, медленно и тяжело. Во взгляде появились скорбь и усталость. Только глаза светились тихой осенней грустью и теплом. Да и то сказать — через год пойдет семидесятый. Хотя по-теперешнему в таком возрасте многие продолжают работать. В доме было прохладно и сухо. Пахло мятой, жасмином и чисто вымытым полом. Белые глазки жасмина, пригретые жарким солнцем, в легкой истоме прижимались к оконному стеклу, точно просились впустить их в дом. Юрий Иванович отодвинул занавеску и открыл створки. — Мухи налетят, — предупредила Марфа Захаровна. — Ничего, выгоним… — успокоил мать Юрий Иванович. — А вот и я, — запыхавшись появился в дверях Женя. — Привет, папа. А я с сенокоса. На клеверах мы были. Я видел, как ты ехал, сразу узнал. Все это он выпалил одним залпом, веселый, возбужденный, сияющий. — Ну, докладывай, бабушка, как он себя вел? — шутливо спросил Юрий Иванович. — По-разному, — ответила Марфа Захаровна и подмигнула внуку. — А ты в его возрасте всегда слушался? — Понятно. Значит, бывало, и не слушался. — Бабушка, это не педагогично: нельзя критиковать родителей в присутствии детей, — озорно ввернул Женя. — Уж ты все знаешь-то: что можно и что нельзя, — ласково сказала Марфа Захаровна и спохватилась: — Да что ж это я: с дороги, Юра, умыться надо, да покушать. Обед у меня стынет. Юрий Иванович вышел в сад. Под антоновкой, которую отец посадил той осенью, когда Юра пошел в первый класс, стояла раскладушка — убежище Жени. На антоновке многие ветви были спилены и места срезов аккуратно замазаны масляной краской. Яблок на ней было негусто. «Деревья тоже стареют», — с грустью подумал Добросклонцев. Мысли его спугнул Женя, подошедший тихо: — Папа, а на Куликово поле поедем? — Непременно. — Когда? — В голосе сына звучало нетерпение. — Да хоть завтра. — Хорошо бы. А то погода может испортиться, дожди пойдут, — вздохнул Женя. И после паузы, вспомнив, зачем пришел, добавил: — Бабушка зовет кушать. После щедрого сельского угощения Юрий Иванович вдруг почувствовал усталость: сказывалось напряжение долгого пути. И к тому же мать посоветовала: отдохнул бы с дороги под своей яблоней. Марфа Захаровна вынесла подушку и одеяло, постелила на раскладушке и приказала Жене не включать музыку, пусть, мол, отец отдохнет. Нагретый воздух, насыщенный свежестью листвы и трав, клонил к приятной дреме, и Добросклонцев, сам того не желая, медленно и благостно погрузился в глубокий сон, такой глубокий, что даже надоедливые мухи не могли его разбудить. Проснулся он от резкого оглушительного шума и треска: казалось, небо упало на землю и разверзлась земная твердь. Он открыл глаза и, поддавшись инстинкту элементарной осторожности, не вставая с раскладушки, коснулся ногами земли. Земля была невредимой, и небо над головой спокойным и невозмутимым. Просто по улице промчался мотоцикл. Запыленное усталое солнце висело над горизонтом, и казалось, тепло исходило не от него, а от нагретых им за день воздуха и земли. — Разбудили тебя тарахтельщики, — сокрушенно сказала Марфа Захаровна: она полола грядки в огороде тут же рядом с садом. — Носятся как ошалелые, покоя от них нет. Может, перекусишь? Зеленого лука нарву — и со сметаной. Ты же раньше любил. — Спасибо, мама, потом. Сейчас хочу просто пройтись, сон сбросить. Огородами Юрий Иванович вышел за околицу по знакомой исхоженной тропинке, которая вела к речке, когда-то в пору его детства не то что многоводной, но вполне оправдывающей свое название, Голубица. Вода в ней была голубая и прохладная, — должно быть, питали ее родники. Она не пересыхала даже в сухое лето. Сейчас же, к его грусти и огорчению, речка настолько обмелела, что, не намочив ног, он свободно перешел на другой берег по сухому песку. Вспомнил: речка ему часто снится и теперь, но не эта, пересохшая, а та, давнишняя, из довоенного детства, глубоководная, бурная в пору весеннего ледохода и половодья. Он шел медленно, неторопливо вдоль берега, поросшего редким чахлым кустарником. У темного омута задержался. Над омутом росли старые плакучие ивы. Их длинные зеленые пряди касались воды. Легкая томная тишина предвечерья, когда солнце в багряной вуали падает на горизонт, и все вокруг — деревья, строения, поля — все замерло, и ни один листок не шелохнется, когда дивная прелесть природы с ее неповторимыми, медленно угасающими красками, как поздняя любовь, навевает негу и грусть, высекает в памяти сердца лирически-нежные, трепетно-волнующие картины детства, задевает самые чувствительные струны души. Думы Добросклонцева оборвал характерный, хотя и давно позабытый, топот копыт за спиной, заставил его, повинуясь инстинкту, оглянуться, и в ту же минуту мимо него на полном галопе, едва не задев, проскакали четыре всадника. Один из них на гнедом с лоснящейся шерстью пышногривом коне застопорил метрах в двадцати впереди от Добросклонцева, повернул лошадь и уже шагом пошел навстречу. В лихом всаднике Юрий Иванович узнал своего сына, довольного, разгоряченного, как и конь, с широкой улыбкой на лице. Лошадь была без седла, гладкая, упитанная от безделья; длинные и тонкие ноги Жени, обутые в кеды, нескладно болтались; в правой руке он держал кожаный самодельный кнут, левая рука по-кавалерийски сжимала поводья. Женя явно хотел обратить на себя внимание отца. — Далеко, папа, собрался? — Хочу сходить на кладбище, на могилу дедушки. Думал, вместе с тобой. — А мы недавно с бабушкой ходили, — отмахнулся Женя. Видно, он не испытывал той потребности, которую испытывал отец. Дедушку Ваню он едва помнил: когда тот умер, Жене шел третий год. — Лошадей вы зачем гоняете? — спросил Добросклонцев. — Нам разрешили, — быстро ответил Женя, должно быть, предвидя такой вопрос. — Им моцион полезен, вроде физзарядки. И, стеганув коня хлыстом, помчался догонять своих приятелей. Юрий Иванович с умилением смотрел вслед ускакавшему сыну и думал о нем, о его судьбе, его будущем. Да, мама, пожалуй, права, рассуждал он. Женя похож на своего деда не только внешностью, но главным образом характером. И дело вовсе не в пристрастии к лошадям, хотя и за этим кроется одна из черт характера: лошадь — самое, пожалуй, прекрасное животное, грациозное, умное. В ней воплощение гармонии — высшего творения природы. Женя одарен чувством прекрасного, живым воображением. Были в характере сына черты, которые беспокоили Юрия Ивановича, хотя черты эти сами по себе прекрасны: он был честен и правдив, доверчив и предан в дружбе, не умел хитрить и лукавить. Беспокоила готовность Жени из ложного чувства товарищества брать на себя вину других. Ему не хватало дерзости, твердости и настойчивости. Он умел анализировать события и явления, болезненно переживал несоответствие слов и дел, лицемерие и демагогию. И в то же время оставался неискушенным, порой до наивности, перед человеческой нечистоплотностью и подлостью. Открытая и чистая душа его не хотела верить, что мир, общество состоят не из одних добрых людей, что есть и зло. Юрий Иванович надеялся на исцелительное время, жизнь, мол, научит: подставит ножку, толкнет под руку, исцарапает, преподаст урок. В то же время он понимал, что легкоранимые души слишком болезненно воспринимают подножки и царапины, которые порой на всю жизнь превращаются в незаживаемые раны. Нравственные травмы, как известно, опаснее физических, душевные раны заживают гораздо медленней, мучительней телесных. Ранить же открытую, незащищенную доверчивую душу легко и просто. Юрий Иванович это знал. Одна рана уже была у Жени — одновременно физическая и нравственная — нанесла ее учительница музыки Швед-Полтавская. И если физическая зажила — пальцы левой руки почти что сгибались, то психологическая травма осталась: Женя не притрагивался к музыкальным инструментам, а к роялю и пианино даже близко не подходил. Их звук воскрешал в его памяти ужас нестерпимой боли. Теперь он уже был убежден, что крышка пианино упала не случайно, а имя Марты Швед-Полтавской стало для мальчишки самым ненавистным. Беспокоила Юрия Ивановича и общественная пассивность сына. Ребят-активистов, организаторов и затейников он считал выскочками и карьеристами. С думами о сыне Добросклонцев дошел до сельского кладбища — большой квадрат, огороженный старыми березами и липами. Кладбищенский покой тревожил вороний грай, хотя здесь он казался естественным, неотъемлемым, необходимой частью самого погоста. На стеле из серого гранита — в бронзовом овале фотография Ивана Георгиевича. «Надо было цветов нарвать в палисаднике», — с досадой подумал Добросклонцев, глядя на куст цветущего жасмина, прильнувший к гранитной глыбе с тыльной необработанной стороны. Жасмин и сирень — любимые в семье Добросклонцевых. По другую сторону могилы — молодой ветвистый клен. Его посадил Юрий Иванович в годовщину смерти отца. За эти годы клен разросся, окреп, пышная крона его нависла зеленым зонтом, создавая прохладу. Нравилось это дерево Юрию Ивановичу больше всех других, даже русской березе предпочитал он его, особенно в пору золотой осени. Любил, может, еще и потому, что он, то багряный, то златокудрый, то изумрудный, не давал покоя горячо любимому им поэту Сергею Есенину. Почему-то возникали в памяти есенинские строки: «Стережет голубую Русь старый клен на одной ноге…» — «От того, что тот старый клен на меня головой похож…» — «Где-то на поляне клен танцует пьяный…» Рядом с могилой отца в железной оградке два низких холмика, поросших травой — могилы бабушки и деда — священника местного прихода отца Георгия. Юрий Иванович хорошо помнил деда, крепкого, обстоятельного. С ним в годы комсомольской юности Юрий Добросклонцев вел горячие дискуссии. Впрочем, горячился только внук, часто не находя убедительных аргументов против хитро расставленных вопросиков деда. В таких случаях каждый оставался при своем мнении. Когда в их село вошли гитлеровские оккупанты, отец Георгий в церкви спрятал раненых красноармейцев, а в проповедях своих проклинал пришествие антихриста и призывал к борьбе прихожан. Но нашелся иуда, донес фашистам. Протоиерея Георгия Добросклонцева фашисты застрелили в алтаре. Юрий Иванович присел на деревянную скамеечку, сделанную им же еще в позапрошлый приезд. Кладбищенская грусть погружала в воспоминания. Отца призвали в армию в августе сорок первого. В июне сорок третьего Марфа Захаровна получила похоронку. Юре исполнилось тогда тринадцать лет. Хорошо помнит, как успокаивал рыдающую мать. А потом поклялся отомстить фашистам за отца и, оставив матери записку, чтоб не волновалась, убежал на фронт. Его неоднократно задерживали, он сочинил себе сиротскую биографию, якобы он из-под Минска, родители его погибли. Ему сочувствовали, его жалели, отправляли на восток, но он всякий раз убегал, пользуясь детскими хитростями и смекалкой, достойными приключенческой повести, и целеустремленно шел на запад, пока его не приютили летчики бомбардировочного полка. В начале сорок пятого он уже имел несколько боевых вылетов в качестве стрелка-радиста. День Победы встретил в Кенигсберге, а в конце мая возвратился в родное село, сверкая серебряной медалью «За боевые заслуги». В это время Марфа Захаровна получила уже несколько писем от «воскресшего» мужа. Похоронка, к счастью, оказалась ошибочной. Иван Георгиевич был тяжело ранен, по выздоровлении снова возвращался на передовую, а в июне сорок пятого вслед за сыном пришел домой и уже с первого сентября снова стал преподавать историю в старших классах. Воспоминания не плыли плавно и последовательно, а возникали отдельными эпизодами, без всякой связи и порядка. Думы об отце переплетались с думами о матери и сыне. Мать стара, тяжело ей одной. Сколько раз Юрий Иванович предлагал ей переехать к нему в Москву. Так нет же, и слушать не хочет. «А что мне там делать? Тут у меня все свое, привычное, и люди свои, знакомые, всегда пособят. И огород и сад. Ни тебе шума, ни гама городского, ни толкучки, как на праздничном базаре. Нет уж, тут я родилась, тут и помирать буду. Вот я и Марии говорила, и тебе теперь скажу: не кладите на мою могилку никакую плиту. Пусть просто земля будет. И оградку не ставьте — не надо меня в клетку запирать». Большое грязноватое солнце уже едва касалось горизонта, когда Добросклонцев покинул кладбище и медленно побрел в село уже другой дорогой, которая вела на противоположный их дому конец улицы. Хотелось пройтись по селу в этот вечерний час, когда, поднимая уличную пыль, возвращается с поля скот, пряно пахнет парным молоком и укропом, и все голоса и звуки слышатся чисто и звонко. На улице сгущались сумерки. Западный горизонт затягивала плотная туча, где-то далеко сверкала молния и слабо, словно спросонья, ворчал гром. «Если будет дождь, то завтрашнюю поездку на Куликово придется отменить», — решил Добросклонцев и торопливо зашагал по улице. ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 1 Добросклонцев возвращался в Москву, оставив сына у матери — пусть парень, выросший среди асфальта и бетона, побегает по траве, узнает, что такое русское приволье, сердцем услышит песенность родной земли. За время недолгого своего пребывания на родине Юрий Иванович успел свозить сына на Куликово поле и там, возле священных каждому русскому человеку святынь, ему, как бы «вынырнувшему» из омута суетливой городской жизни, жизни, полной грохота электронной музыки, гула улиц с их авто — и человеко-потоками, вдруг подумалось, что только в рациональной бестолковщине сгустков камня и стекла, бетона и стали еще могут существовать пришельцы, коньковы и им подобные… В чистом поле бой с ними был бы выигран. Будет ли этот бой победным там, в городе? Будет ли? Сын обращался к нему с вопросами, что-то просил пояснить, а Юрий Иванович стоял, пораженный своей мыслью, и не мог сам себе твердо ответить: да, будут, поскольку по опыту знал: пришельцы пускают глубокие корни, их мораль сильнее Мамаева оружия. Добросклонцев приехал в Москву под вечер. Кати дома не было, и по отключенному холодильнику он догадался, что жена на даче у отца и домой заглядывает редко: на полированной мебели лежал тонкий слой пыли. Юрий Иванович настежь распахнул окно, затем вошел в ванную, чтобы принять душ. Он любил воду, прохладная или горячая — смотря по погоде, — она всегда снимала усталость. А сегодня он изрядно устал — все-таки несколько часов за рулем. Выйдя из ванной, он позвонил Мироновой. …Антонина, устроившись поудобнее в кресле, читала книгу. «Русский народ не любит гоняться за внешностью: он больше всего ценит дух, мысль, суть дела». Прочитала, вздохнула и подумала: постепенно утрачивает наш народ это качество под влиянием… Чего или кого, она не знала и прочла дальше: «А уж выше позора, как служить искусству для искусства, в наше время не существует». Решила: хорошо бы так и в наше время. «Сила не нуждается в ругательствах». Прочла и улыбнулась, вспомнив одного начальника отдела. Выписать бы эту фразу и на дверь его кабинета повесить. Она читала дальше: «…все неудачи русского общества, вся бесхарактерность некоторых слоев русской народности происходит именно от разлагающего, ленивого и апатичного нашего космополитизма, доведшего нашу разобщенность с почвой до равнодушия к ней…» — «Только общечеловечность может жить полной жизнью. Но общечеловечность не иначе достигается, как упором в свои национальности каждого народа». Это Достоевский. Она вздрогнула от телефонного звонка. Отложила книгу и взяла трубку. — Тоня, прости, что звоню поздно, Добросклонцев… — Ты где? — даже не поздоровавшись, спросила Миронова. — В Москве, — ответил он. — Только что приехал. — Ты очень здесь нужен. Происходит такое… Ну, словом, если можешь, то приезжай немедленно. — Угостишь большой рыбой, которая попала в твои сети? — шутливо спросил он. — А то я голоден как волк. Катерина, по всей видимости, на даче. — В наши сети. Ты даже не представляешь, какая ценная рыба. Ну так как? — Еду. Готовь чай, — после некоторой паузы ответил он и положил трубку. Звонок в двери раздался, когда Тоня заканчивала собирать на стол. Но Добросклонцев, покосившись на еду, лишь с сожалением покачал головой, налил себе стакан минеральной и отошел в угол к журнальному столику, опустился в низкое кресло. — Давай сначала о деле. Тоня села напротив и начала свой рассказ о Павлове, о похищенном им кулоне, о том, как его хотели убить, о заграничном паспорте и марках, которые, между прочим, как позже выяснилось, оказались фальшивыми, о том, что Павлов чего-то явно недоговаривает. Рассказала о добровольном признании Алексея Соколова, который гранил фианиты Пришельца, а рекомендовал Соколова Ипполиту Исаевичу Бертулин. — И что показал уважаемый Арсений Львович? — С Бертулиным, к сожалению, поговорить не удалось: на днях скоропостижно скончался на лестничной площадке возле своей квартиры. Вскрытие показало: паралич сердца. — Совпадение или?… — Совпадение подозрительное. В день смерти Бертулина возле его дома соседи видели человека, по описанию похожего на Арвида, того, что намеревался отравить Павлова. Станислав считает, что Бертулина убили. При осмотре трупа на голени обнаружено маленькое, еле заметное пятнышко, похожее на след укола. Мне кажется, главное действующее лицо в этом спектакле Пришелец. Кстати, он исчез. Делом Павлова интересуется некто Зубров Михаил Михайлович. Импозантный мужчина, из центрального аппарата МВД. Даже удостоверение предъявил, хотя я и не спрашивала. Сказал, что хорошо знает Анатолия как человека чрезвычайно одаренного, с большим будущим, но неорганизованного, увлекающегося, слишком эмоционального и доверчивого. И, мол, эта доверчивость губит парня. — И что же хочет этот Зубров? — Взывает к моей человечности, гуманности, просит пожалеть заблудшего юношу, не губить талант, которому суждено большое будущее. — Только и всего? — В голосе Добросклонцева прозвучала легкая ирония. — Считает, что судьба несмышленыша Павлова зависит исключительно от меня. — И как ты расцениваешь этот ход? — Не очень умный, с немалой дозой нахальства. Я думаю, не судьба Павлова его интересует. Скорее всего он печется о Пришельце. — Нужно установить связи Пришельца. И немедленно. Что Павлов? — спросил Добросклонцев. — Павлов уклоняется, ускользает, как угорь, стоит только произнести имя Пришельца. Из знакомых Ипполита назвал лишь адвоката Шуба и его, супругу Анастасию Ивановну, или, как ее зовут в своем кругу, Асю Полушубок. — Что ж, наступила пора подводить черту в этом деле. Завтра я выхожу на службу и встречаюсь с Павловым. Тебе же нужно будет заняться связями Пришельца и Зуброва. Но дело это деликатное, нужно все хорошо продумать и взвесить. — Должна тебе доложить: Михаил Михайлович Зубров был со мной до неприличия любезен и мил, говорил топорные комплименты и предлагал встретиться на нейтральной почве, где-нибудь в театре, на стадионе или в ресторане, по моему выбору. — Это уже интересно. И как ты? — Отклонила. — Зубров, Зубров… — попытался вспомнить, кому принадлежит эта знакомая фамилия Добросклонцев. — Любопытно. — По поводу Зуброва у меня есть идея. Но это потом, завтра. А сейчас будем ужинать. 2 Зубров был в панике. Он понимал, что дело Павлова — Пришельца, если его вовремя не погасить, выльется в грандиозный скандал и многим поломает карьеру, в том числе и ему. После посещения Мироновой он связался с Пришельцем по телефону и пригласил его к себе домой на московскую квартиру. Пришелец пришел, как и условились, точно в назначенный срок — девятнадцать ноль-ноль. В синем вельветовом костюме и светло-серой рубахе при галстуке он имел осанистый вид и совсем не был похож на преступника, преследуемого законом. В спокойном твердом взгляде его чувствовалась уверенность. Сунув в прихожей Зуброву горячую потную руку, он тихо буркнул: — Один? — Люба на даче, — сообщил Зубров и провел гостя в кабинет. Взглянув мимоходом на книжные полки, сверкающие новенькими корешками непрочитанных книг, Ипполит Исаевич, не садясь в предложенное кресло, спросил буднично: — Как дела? Беспечный тон гостя покоробил Зуброва. — Хуже некуда, — ответил он также кратко, сел на стул у письменного стола и пояснил: — Рассчитывать на Миронову бессмысленно. — А если продолжить деловой контакт? — Пытался. Не получилось. — Что значит не получилось? — поморщился Пришелец. — Неподкупных людей в природе не бывает. Время бессребреников прошло. Сейчас все хотят красиво жить. Просто нужно больше предложить: в рублях, а валюте, в металле или камешках. Пообещать повышение по службе, квартиру, машину, норковое манто. Циничная прямота коробила Зуброва, хотелось указать обнаглевшему гостю на дверь, но страх за свое будущее удерживал от опрометчивого шага, и он почел за лучшее промолчать. В отличие от Пришельца Зубров прекрасно понимал: ни за какие блага Антонина Миронова не пойдет на служебное преступление и не сделает того, что нужно Ипполиту Исаевичу. Видел он и другое: растерянность Пришельца, которую тот пытался скрыть за внешней бравадой. Никаких козырей у него нет, и Зубров попробовал подсказать: — Валюта, квартира, машина — все это пустое, потому как несерьезно, нереально. Надо смотреть на вещи трезво. Помочь нам может только один человек — Малярчик. — Петр Михайлович отпадает: Малярчики неделю тому назад уехали в Карловы Вары. Не в Крым или на Кавказ, а в Чехословакию, за границу, — с ходу отмел предложение Зуброва Пришелец. Обидно: в Крым или на Кавказ можно было бы слетать, попросить. А за границу… Да, Малярчик, к сожалению, исключается, размышлял Михаил Михайлович и не очень уверенно поправился: — Тогда, может, Земцев? Ипполит Исаевич раздраженно покачал головой и поморщился. Он понимал: главная опасность для него — Арсений Львович Бертулин. В памяти возникла фигура Арвида, человека с обросшим шерстью сердцем. Арвид его должник, он не разделался с Павловым, а потому только по его вине дело с такой головокружительной быстротой начало принимать катастрофический характер. Сейчас дорога каждая минута. Выиграть время, не упустить. Он понял, что дальнейший разговор с Зубровым — бессмысленная трата драгоценного времени. На всякий случай сказал поникшим голосом: — А все же попробуй предложить Мироновой или ее начальнику солидный куш. Зубров уже не мог скрыть своего раздражения, а в душе уже давно проклинал тот день и час, когда так легкомысленно связался с Пришельцем. Расстались они холодно, но вежливо. Пришелец не стал больше делать хорошую мину при плохой игре и не скрывал своего уныния, тревоги и скорби. Он чувствовал: Зубров попытается замести следы, дрожа за свою шкуру, и не сделает рискованного поступка, который может дать лишнюю улику против него. Договорились связь поддерживать по телефону, причем звонить из автомата будет Пришелец, и не домой к Зуброву, а в министерство. На прощанье Михаил Михайлович посоветовал Ипполиту Исаевичу подыскать себе на время новую квартиру, а может, даже уехать из Москвы. Пришелец нашел совет разумным и сразу же отправился на квартиру своего адвоката Шуба. Анастасия Ивановна, она же Полушубок, знала о «неприятностях» Ипполита Исаевича, искренне сочувствовала ему и, как женщина энергичная, обладающая деятельным и бесцеремонным нравом, предложила свою помощь и содействие. — Мной ты можешь располагать, как самим собой, — клятвенно обещала Анастасия Ивановна, и Пришелец знал, что на нее можно положиться. То, что не решится сделать не очень-то щепетильный, но трусоватый Зубров, без зазрения совести сделает Полушубок, 3 Мятущиеся пугливые мысли терзали Павлова. Он пытался взять себя в руки, спокойно и хладнокровно разобраться во всем, что произошло. Времени на размышления было достаточно, он многое передумал, сидя в камере, где, кроме него, находились еще шесть подследственных, догадывался, что Миронова, к которой он относился с симпатией и доверием, пытается выяснить в разговорах с ним, какова роль Пришельца во всем этом деле. Павлов понимал, что судьба Пришельца сейчас в его руках, и чувство ненависти к человеку, фактически подписавшему ему смертный приговор, звало к отмщению. Павлова вызвали к следователю, он надеялся увидеть Миронову. Но вместо нее за столом сидел подполковник милиции, крутолобый, с темными сердитыми глазами. Кивком головы он предложил Павлову сесть. — Как чувствуете себя? — спросил Добросклонцев. В ответ Павлов лишь пожал плечами и улыбнулся вымученной улыбкой. — Понимаю. Но утешьтесь хоть тем, что могло быть хуже: ваш приятель Арвид действительно имел приказ убрать вас как нежелательного, опасного свидетеля. — Этой фразой Добросклонцев намеренно дал понять Павлову, что его несостоявшийся убийца задержан и дает показания, хотя на самом деле Арвид разгуливал на свободе. — Тот, кто отдавал приказ убить вас, пока еще не арестован и предпринимает отчаянные шаги, чтобы выгородить себя, уйти от возмездия. Матерый волк, он надеется на покровительство своих влиятельных дружков и на молчание своих трусливых пешек-лакеев, которых он презирает и уничтожает, когда они становятся для него ненужными. Но скамья подсудимых ждет его, и, возможно, вам, Павлов, придется выступать в качестве свидетеля на суде над ним. Добросклонцев замолчал, давая Павлову время обдумать услышанное, достал из стола чистые бланки протоколов и взял авторучку: — Итак, кто такой Пришелец Ипполит Исаевич? Что он, по вашему мнению, из себя представляет, кто он вам — друг или враг? — Он сделал ударение на последней фразе. «Друг или враг?» — мысленно повторил Павлов. Он усиленно раздумывал над ответом, пауза затягивалась, и Анатоль понимал, что следователь заметил его смятение. — Не знаю, друг или враг мне Ипполит Исаевич, — он печально посмотрел на Добросклонцева, — сам не могу понять, что он такое. Сложный человек, темный. — Вы не искренни, Павлов, и мне за вас обидно. Кто-кто, а слуги лучше всех знают своих господ. По крайней мере, вы должны лучше знать Пришельца, чем знает его, скажем, тот же Зубров. Приманка была несколько примитивна, и Павлов не клюнул, смолчал. Но Добросклонцев решил быть настойчивым. — Они давно знакомы? — Не знаю, — вполне искренне ответил Павлов. — А вы давно знаете Зуброва? — Я видел его один раз, — сорвалось у Анатолия, он смутился и прикусил язык. — Когда встречались и где? — С полгода тому назад. В прихожей квартиры Ипполита Исаевича. Я уходил, а он пришел. — А еще кого вы встречали у Пришельца? Павлов пожал плечами, нерешительно сказал: — Пожалуй, никого. Разве что дочь однажды. Встреча с дочерью Пришельца Алей пришла ему на ум только потому, что он встретился с ней так же, как и с Зубровым, накоротке в прихожей квартиры Пришельца. — Чья дочь? — спросил Добросклонцев. — Ипполита Исаевича. Об Але и тем более о ее матери Павлов, в сущности, ничего не знал, и Добросклонцев верил ему. Это доверие заставило Павлова сказать больше, чем ему хотелось: увлекшись описанием внешности Али и сказав, что она работает стюардессой на международной трассе, он обронил фразу, что должен был встретиться с ней по поручению Ипполита Исаевича. Добросклонцев заинтересовался этим фактом, впоследствии оказавшимся для следствия чрезвычайно существенным. Короче говоря, это была ниточка, уцепившись за которую следствие начало разматывать весь клубок. — Итак, какое поручение давал вам Пришелец, предложив встретиться со своей дочерью? — Ипполит Исаевич вручил мне сережки, колечко с изумрудом и пятьсот рублей, — пожал плечами Павлов. — Велел под любым предлогом в обмен на изумрудный комплект и деньги заполучить у нее кольцо, которое подарил ей. — И что же дальше? Обмен состоялся? — Нет. Я не смог встретиться с Алей: она дома почти не бывает. Такова жизнь стюардесс международных линий. — И вы вернули Пришельцу изумруды и деньги? — Конечно. — А как вы думаете, зачем Пришельцу понадобился такой обмен? — Ипполит Исаевич сказал, что изумрудный гарнитур больше ей к лицу и что изумруд — ее камень. Да и стоит он дороже бриллиантового кольца, потому как там алмаз ненатуральный, искусственный. — Откуда вам это известно? — Со слов Ипполита Исаевича. Он просил и Але так объяснить. — А почему же Пришелец поручил вам совершить этот обмен, почему же сам не встретился с дочерью? — Понятия не имею. В душе Добросклонцева поднималось смутное ощущение большой удачи, нечто похожее на то, которое испытывает охотник в минуту, когда зверь уже видится через прорезь прицела и остается лишь чуть-чуть подправить мушку и нажать спусковой крючок. Фианиты, граненные Алексеем Соколовым для Пришельца, кольцо, которое Пришелец хочет любой ценой вернуть от дочери. Зачем? Боится, что оно может стать вещественным доказательством? Есть зацепка, сегодня разговор с Павловым надо кончать. (Догадывается ли он, какие ценные показания против Пришельца дал походя, между прочим?) Нужно немедленно отыскать дочь Пришельца Альбину и допросить. Сегодня же. И поручить это Тоне. Когда Павлов подписал протокол допроса, Добросклонцев спрятал бумаги в кожаную папку и поднялся из-за стола. Встал и Павлов. Глядя на него, на его осунувшееся бледное лицо, тускло освещенное большими скорбно поблекшими глазами, на худые руки с мелкой дрожью пальцев, Юрий Иванович почему-то вспомнил своего сына Женю и, ощутив колкий холодок между лопаток, подумал: «А вдруг какой-нибудь Пришелец и его…» И чтоб оправиться от неприятного состояния, он, не заметив, как перешел на «ты», сказал: — Вот. что, Анатолий, мы с тобой еще встретимся. Но я прошу поверить мне: Пришелец твой враг. Он изуродовал твою юность, сделал тебя своим рабом, подлым и порочным. А ведь ты, как нам сказали в институте, умен, даже талантлив. Много у тебя отнял мерзавец, много потеряно. Но не все. Ты молод. У тебя впереди есть шанс стать человеком честным и порядочным. Подумай обо всем, взвесь и помоги суду установить истину. И суд учтет это, решая твою судьбу. Анатоль молчал. Он стоял ссутулившись, словно какой-то невидимый груз придавил его узкие плечи, и, казалось, он уже не в состоянии выдержать эту тяжесть. Добросклонцев вызвал конвоира и, когда Павлова увели, поспешил в управление. Он находился в состоянии лихорадочного возбуждения, вызванного допросом Павлова. Нужно было быстро и точно распорядиться полученными сведениями, тщательно проанализировать их и дать им верный ход. Не заходя к себе в кабинет, Юрий Иванович заглянул в комнату следователей. Мироновой не было. Генерал Константинов встретил с некоторым удивлением: — Что, кончился отпуск? Пришлось объяснить, что дела потребовали его присутствия на службе. — Правильно поступил, что вернулся, — одобрил Василий Кириллович. — Все равно пришлось бы мне тебя вызывать. — Предложив Добросклонцеву садиться, он по своему обыкновению сразу перешел к делу: — Тебе известно такое имя: Пришелец Ипполит Исаевич — искусствовед-коллекционер? — Да, Не знаю, какой он искусствовед, а вот коллекционер-ворюга дипломированный. Мы заводим на него уголовное дело. Притом дело обещает быть громким, связано с бриллиантами. — Даже с бриллиантами? — Константинов удивленно повел бровью: — Есть факты, доказательства? — Есть и еще будут. — Стран-н-оо, — раздумчиво протянул Константинов, постучав пальцами по столу. — Меня приглашали в обком. Просили обратить внимание на эту личность, к которой якобы наши сотрудники проявляют безосновательно повышенный интерес. Человека травят. — Вот даже как! — Сообщение поразило Добросклонцева. — Боюсь, нам придется объявлять всесоюзный розыск, чтобы встретиться с этим затравленным волком. Завтра мы думаем произвести обыск на его квартире. — Даже? Тогда давай выкладывай все по порядку. Дело в том, что мне звонил сейчас Сергей Иванович. Так он тоже советовал… в общем, положительно характеризовал этого человека. — Так, может, и в обком звонил Сергей Иванович? — Нет, другой человек. Константинов не стал уточнять. Секретарь МК сказал Константинову, что на приеме в посольстве к нему подошел Борис Николаевич, заговорил о том, о сем и между прочим, к слову сказал о Пришельце, просил отнестись к нему с должным пониманием и оградить от неуместных подозрений. Добросклонцев докладывал обстоятельно, неторопливо, и лишь когда назвал имя Анатолия Павлова, о деле которого генерал был информирован, Константинов перебил: — Ты считаешь, что Пришелец повязан в этом деле — с валютой и загранпаспортом, взятыми у Павлова? — Павлов — только видимая часть айсберга, главная подводная, самая опасная — Пришелец, — уверенно ответил Добросклонцев, — и иже с ним: Зубров и другие. — А какова, по-твоему, роль Зуброва? — Это нам предстоит выяснить. В общих чертах она та же, что и Сергея Ивановича: попытка оградить. Только один действует осторожно, соблюдая минимум такта, а другой идет напролом, возможно, чувствуя за своей спиной серьезную опору. И Добросклонцев изложил генералу свою версию личности Пришельца. Намеченный Добросклонцевым план мероприятий по делу Константинов одобрил, но посоветовал действовать осторожно, строго в пределах закона, зная по опыту, что малейшее нарушение буквы закона даст в руки разного рода благодетельным сергеям ивановичам неотразимый козырь, и, казалось, уже попавший в сети правосудия преступник ускользнет. Добросклонцев и сам это понимал. — Держи меня в курсе. О появлении новых материалов по этому делу докладывай, — сказал Константинов и отпустил Добросклонцева. В приемной генерала секретарша сказала Юрию Ивановичу, что заглядывала Миронова, просила передать, что она у себя. Так бывает в природе: постепенно, капля за каплей, незаметно накапливается вода у случайно образовавшейся запруды, и вдруг прорвет, и сразу в одночасье хлынет могучий поток и разметет — размоет преграду, снесет весь мусор, и снова потечет чистая и светлая вода. В практике Юрия Добросклонцева такое бывало и прежде: попадались сложные хитросплетенные дела, где опытный преступник постарался спрятать все концы, и не за что было уцепиться, чтоб размотать клубок следствия. По крупице, терпеливо работники УГРО собирали материал, иной раз приходя в отчаяние и теряя надежду на успех. Как вдруг дернули за какую-то ниточку, даже, может быть, случайно кто-то из свидетелей или преступников обронил словечко, и сразу все завертелось-закружилось, начало разматываться-раскручиваться. Так было и сейчас: хлынул поток новых материалов. Миронова была не одна в узком прямоугольном кабинете: напротив нее стоял стол капитана Николая Ушанова — улыбчивого весельчака, общительного, приветливого, этакого простачка, умеющего завоевать доверие даже искушенных жуликов. Прежде чем Тоня успела доложить Добросклонцеву о новой «сенсации», Ушанов, весело сверкая небесного цвета глазами, опередил: — Юрий Иванович, Антонина запустила руку в осиное гнездо и начала ворошить… — Если в перчатках, то это не так страшно, — в тон ему ответил Добросклонцев. — Рассказывай, Тоня. — Он присел на угол стола. — Я сделала рискованный шаг: встретилась с женой Зуброва на их квартире. Довольно милая женщина. Я сказала, что нас интересует Пришелец Ипполит Исаевич, и попросила ее сообщить все, что она о нем знает, давно ли знакомы. Люба — так зовут супругу Зуброва — как мне показалось, поначалу растерялась, но рассказывала вполне искренне. Встречалась она с Пришельцем всего два раза, и оба на даче. Первый раз в день рождения Зуброва, а второй совсем недавно. Пришелец приезжал к Михаилу Михайловичу по какому-то делу. Мне удалось узнать, кто был приглашен на день рождения. Оказывается, отмечали в узком кругу. И знаете, кто там был? Сам товарищ Малярчик с супругой. — Петр Михайлович? — оживился Добросклонцев. — Представь себе — он самый. Потом некто Земцев Яков Николаевич то ли из Внешторга, то ли из другого какого-то ведомства, связанного с заграничными командировками. По словам мадам Зубровой, этот Земцев занимает высокое положение. И еще супружеская чета Ященко. Антон Фомич — членкор и лауреат. Ну и среди них — Пришелец. — И это все? Такой узкий круг? — Был еще один гость, брат юбиляра, колхозник из Белоруссии. — Однако… — неопределенно проговорил Добросклонцев, ненадолго задумался, потом встряхнулся: — Итак, подытожим: приглашен был узкий круг самых близких друзей. Так надо понимать? Так, выходит, Пришелец лучший друг Зуброва? Наша с тобой догадка подтвердилась. Но по законам элементарной логики получается, что и остальные гости, то есть Малярчик, Земцев и Ященко, суть друзья Пришельца. Следовательно, если Малярчик, Зубров и так далее — суть порядочные люди, значит, и Пришелец безупречен. — А если Пришелец жулик и вор, — продолжала Тоня, — то Малярчик, Зубров и другие тоже… — Молодец, Тонечка! — Добросклонцев встал. — Конечно же, о твоем визите уже знает Зубров, жена непременно известила его. Сейчас он должен что-то предпринять. И сгоряча может наделать глупостей, которые обернутся против него. — Едва ли, он человек осмотрительный, — возразила Тоня. — Ну не скажи: осмотрительный не стал бы лезть напролом. А он полез. — Полез потому, что Малярчик его друг, — сказала Тоня. — Да, Малярчик может осложнить ситуацию, — согласился Добросклонцев. — Как ты, Коля, считаешь, осложнит? — Запросто. Затребует дело — и привет, — ответил Ушанов. — Вот поэтому и нужно спешить, — решил Добросклонцев. — Надо прежде всего узнать, что за люди Земцев и Ященко, что связывает их с Зубровым и какие у них отношения с Пришельцем. Это раз. Этим я сам займусь. Для тебя же, Антонина Николаевна, есть задание особой важности. Во что бы то ни стало разыскать дочь Пришельца Альбину, встретиться с ней и изъять бриллиантовое кольцо, которое ей подарил отец, то есть Ипполит Исаевич. — У Пришельца есть дочь? — удивилась Тоня. Юрий Иванович в ответ лишь кивнул. — Зайдем ко мне, ознакомишься с показаниями Павлова. Полагаю, что это кольцо с фианитом, одним из тех, что гранил Соколов. Пока она читала показания Павлова, он исподволь наблюдал за ней, двигая ящиками стола и бесцельно перебирая какие-то бумаги. Прочитав, Тоня положила протокол на стол. — Я займусь сейчас же. — Да, это очень важно. Пока не вмешался Малярчик. А если приплюсовать сюда Земцева и Ященко, то действительно мы с тобой начали ворошить осиное гнездо. — Не обижай ос. Скорее гадюшник. Ну я пошла. Постараюсь сегодня связаться с Альбиной. 4 …Утром телефон Пришельца не отвечал. Как и было запланировано, в девять утра в присутствии понятых и представителя домоуправления оперативная группа вскрыла квартиру Ипполита Исаевича. Каково же было удивление: пол без ковров, голые стены, пустой сервант, за зеркальными стеклами которого некогда сверкали хрусталь и фарфор, никаких бра, даже вместо люстры с потолка печально свисала электрическая лампочка, подчеркивающая пустоту квартиры. Не было и знаменитого старинного гарнитура из мореного дуба, и стульев со спинками из икон. Вообще столовая имела нежилой вид. Печально выглядел и кабинет с пустым книжным шкафом и зловеще торчащими в стенах железными костылями, на которых раньше висели картины. Пустой холодильник был открыт и отключен от электросети. Из спальни исчезли скульптура обнаженной девушки и мраморный амур с хрустальным светильником в руке, а также гобелен с купальщицами и шкура белого медведя. Лишь в стенном шкафу висели костюмы, плащи и пальто, а широкая кровать была накрыта покрывалом. То, что Пришелец освободился от ценных вещей, наводило на многие серьезные размышления, выдвигало вопросы, на которые надо было немедля искать ответ. Из показаний соседей выяснилось, что на неделе Ипполит Исаевич вывозил на грузовой крытой машине старинную мебель, картины, скульптуры. На вопрос любопытной лифтерши сказал, что решил обновить мебель, а потому освободиться от ненужного хлама. После грузовой машины в тот же день Ипполит Исаевич дважды приезжал на «Волге»-пикап, грузил более мелкие вещи — свертки и чемоданы. — Не обратили внимания — грузовая и легковая машины были такси? — поинтересовался Ушанов, на что лифтерша ответила: — Легковая не такси, серая «Волга». Это точно. А вот насчет грузовой не могу сказать. Ни к чему мне было. Обыск квартиры, по сути дела, ничего не дал для следствия, за исключением «пустячка»: в письменном столе лежали два вызова из-за рубежа на имя Ипполита Исаевича Пришельца: из Израиля от двоюродного брата и из Уругвая — от дяди. Может быть, Ипполит Исаевич решил эмигрировать? Но почему же в таком случае он не подал заявление в ОВИР, к которому нужно приложить вызов от родственников? А может, был еще и третий вызов и выезд уже оформляют? Все это нужно выяснять, и немедленно. Словом, как считал Юрий Иванович, рабочий день начинался удачно. После обыска, не заезжая в управление, Добросклонцев направился в следственный изолятор к Павлову, а Тоня, как и условились, должна была связаться с дочерью Пришельца Альбиной. Вопреки ожиданиям Юрия Ивановича Павлов на этот раз был менее разговорчив, нежели при первой встрече. Взгляд холодный, ответы односложны, уклончивы. По поводу Пришельца ничего нового не сказал. По всему чувствовалось, что он опасается говорить лишнее. Добросклонцев снова попытался завоевать его доверие, сообщив, что час тому назад на квартире Пришельца произвели обыск и что квартира оказалась пустой: все ценные вещи Ипполит Исаевич позавчера вывез. Куда, в ближайшие день-два прояснится. Наблюдая за Павловым, он заметил, что сообщение о пустой квартире Пришельца как-то оживило Анатолия, что-то в нем встрепенулось, и решил этим воспользоваться. — Вы, конечно, догадываетесь, почему Пришелец вывез ценные вещи? — спросил доверительно. — А чего тут догадываться, когда я точно знаю, — сорвалось у Павлова. — На днях он уезжает за границу и там останется. — Анатоль, пытливо посмотрев на Добросклонцева, прибавил: — Если уже не уехал. — И в какую же страну? — поинтересовался Добросклонцев, с трудом сохранив спокойствие: не хотел показывать Павлову, что ошарашен его сообщением. — Может, в Гамбург, может, в Париж, а возможно, к брату в Австралию, — вяло ответил Павлов, пожалев о сказанном: пойдут новые вопросы, настойчивые, выматывающие душу. — И вы вместе с ним должны были уехать в Париж? Бледное лицо Павлова исказила мучительная гримаса. Мысленно он выругал себя и угрюмо ответил: — Никуда я не должен. Что там делать, в Париже? — Как что делать? В качестве слуги сопровождать своего барина. Пришельцы без слуг не могут. Павлов молчал, и Добросклонцев понял, что на этот раз он не скажет больше того, что уже сказал. А за сказанное готов был обнять Павлова. Пришелец собрался бежать за границу. «Если уже не уехал». И Добросклонцев, отправив Павлова в камеру, умчался на улицу Белинского. 5 Аля ждала Миронову дома, так они договорились по телефону. Это устраивало и Миронову и свидетеля, коим теперь именовалась Альбина. Поджидая Миронову, Аля перебирала в памяти последние годы недолгой своей жизни, пытаясь найти какое-нибудь темное пятнышко, которое могло бы заинтересовать милицию. Никакой вины за собой она не чувствовала. На работе ее ценили, за короткий срок службы в Аэрофлоте она имела три благодарности. Вспомнила своих близких друзей и знакомых, у которых могли быть конфликты с законом. Нет, ничего предосудительного не находила. И все же с напряженным волнением ждала капитана милиции. Тоня была в милицейской форме, придававшей ей строго официальный вид. Они уединились в комнате отчима, которая служила ему и мастерской, и чтобы не испытывать терпение девушки, Тоня решила сразу же, без лишних вопросов, переходить к делу. — Вы часто встречаетесь со своим отцом?.. Ипполитом Исаевичем Пришельцем? Нет, не ожидала Аля такого вопроса. Вот, оказывается, кем интересуется милиция. Она нахмурилась, ответила, не глядя на Миронову: — А мы вообще не встречаемся. Мы виделись всего один раз. — Подняла глаза, полные слез, прибавила негромко и отчужденно: — И вообще он мне не отец. — Вот даже как, — с неподдельным недоумением произнесла Тоня. — Тогда расскажите о вашей единственной встрече. — Зачем это вам? — как-то сразу насторожилась Аля. Тоня почувствовала, что девушка может замкнуться. Нужно сразу же расположить ее, завоевать доверие прямым откровенным разговором. — Ипполит Исаевич подозревается в совершении тяжкого преступления… — А мне какое дело?! — перебила Аля. — Вас никто ни в чем не обвиняет. Нас интересуют лишь некоторые детали. Скажите, Альбина, Ипполит Исаевич дарил вам бриллиантовое кольцо? — — Ну, дарил. И что из этого? И бриллиант был не настоящий, искусственный — фианит. — Почему вы так думаете? Как вы узнали, что он искусственный? — Очень просто: пойдите в ювелирный магазин, посмотрите на настоящий и сравните. — Да, кольцо было с фианитом, это верно, — согласилась Тоня. Она старалась вести разговор ровно, не пережимая. — А вы можете мне его показать? — У меня нет кольца, — ответила Аля и залилась краской. — А где оно? — Я потеряла. Вернее, оставила в отеле. — В отеле? То есть в гостинице? Это где же? — В Шенноне, в Ирландии. Там у нас смена экипажа. Слова ее звучали неубедительно и потому не внушали доверия. — Потеряли или продали? — вопрос прозвучал почти утвердительно. — Да вы что? — возмутилась Аля и протестующе посмотрела на Тоню. Тоня встретила ее оскорбленный взгляд с твердым, уверенным превосходством: я же знаю, что ты говоришь неправду, я все о тебе знаю. Аля отвела глаза в сторону, уши ее огнем горели. Наконец не выдержала: — Ну, продала, ну и что — разве я не имею права? — Конечно, имеешь, — доброжелательно ответила Тоня и уточнила: — Здесь, в нашей стране, а не за границей, не в Ирландии. — Я продала в Москве своей подруге Симе, — призналась Аля. — Как-то нескладно у нас получается: в Ирландии кольцо утеряла, вернее, оставила в отеле и забыла, а потом продала его в Москве подруге по имени Сима, а фамилия ее, Серафимы? — Пышная, — смущенно ответила Аля, немного погодя добавила: — Вы извините меня: я тогда сказала неправду, насчет Шеннона. Сама не знаю зачем и почему. — Наверное, потому, что это был подарок отца, и лучше, конечно, потерять, чем продать, — в словах Тони звучала ирония. — Вам, очевидно, очень нужны были деньги. — Совсем не поэтому, — поморщилась Аля. — Я не могу вам объяснить… И я действительно поначалу хотела его выбросить. И если б я его случайно потеряла или просто забыла в отеле, я нисколечко не расстроилась бы. Оно жгло мне палец. Понимаете? Тоня не понимала: сейчас ей нужно было прежде всего и как можно быстрей заполучить это кольцо. — А вы могли бы связать меня со своей подругой? Например, пригласить ее сюда, сейчас? — Я могу, конечно, позвонить, но ее вряд ли отпустят с работы. Вам лучше встретиться с ней после семи. — Это поздно, — озадаченно сказала Тоня, и на лице ее отразилась искренняя досада. — Послушайте, Альбина, вы могли бы оказать мне большую услугу, если бы согласились вместе со мной поехать к Серафиме на работу сейчас, не откладывая до вечера? Она, кстати, где работает? — В ателье приемщицей. Здесь недалеко, всего четыре остановки на троллейбусе. А можно и на метро одну остановку проехать. Я позвоню ей, предупрежу. — Не нужно. Приемщица всегда на месте. Так будет лучше. Поедем? — Тоня встала. — А у Симы не будет никаких неприятностей? — Совершенно. Я только посмотрю кольцо. — Оно что — ворованное? — предположила Аля, и в глазах ее вспыхнул и тут же погас легкий испуг. — Почти. Сима Пышная, как и предполагала Миронова, оказалась на месте. К удивлению Тони, внешность ее соответствовала фамилии. Круглолицая полная блондинка со вздернутым носом и короткой шеей встретила Алю и Тоню широкой улыбкой, в которой отразились и радость, и удивление, и наивное любопытство. В первые же мгновения встречи Тоня обратила внимание на ее руки и, увидя на пальце впившееся в кожу кольцо с алмазом, облегченно вздохнула. Объясняться долго не пришлось. Аля дала показания о том, что это кольцо подарил ей Ипполит Исаевич Пришелец, что она потом уступила его своей подруге Серафиме Пышной, так как Але кольцо было великовато. Это же подтвердила и Сима. Тоня, выдав расписку Пышной, временно изъяла кольцо и, довольная, вернулась в управление. Добросклонцева не застала: Ушанов сказал, что Юрий Иванович поехал к Ященко. — Тебе звонила какая-то женщина, — сказал Ушанов. — Кто такая? — поинтересовалась Тоня. — Она не назвалась. Сказала, что позвонит еще. Тоня не стала думать-гадать: мало ли звонят. Но не прошло и четверти часа, как раздался телефонный звонок. Тоня взяла трубку: — Миронова слушает. — Антонина Николаевна? Здравствуйте. Я по делу Пришельца Ипполита Исаевича. Мне бы очень хотелось с вами встретиться. — Голос незнакомый, обволакивающе-мягкий. — По делу Пришельца? — намеренно равнодушно переспросила Тоня. — Я такого дела не знаю. — Ну, вернее… это связано с делом Анатолия Павлова, — в некотором замешательстве уточнила незнакомая. — А вы кто будете Павлову — жена, родственница? — Нет-нет, я человек для Павлова посторонний. Но я хочу сообщить сведения, которые должны вас заинтересовать. — Ну что ж, давайте встретимся, — сдержанно сказала Тоня. — Вы когда можете к нам зайти? — Видите ли… Мне не хотелось бы заходить в ваше учреждение. Желательно встретиться на нейтральной… Ну, например, в садике у Большого театра, у фонтана. Это рядом — удобно и вам и мне. «Странно, — подумала Тоня. — А впрочем, ничего странного: человек не хочет, чтоб о ее сведениях в милицию знали те, кому не полагается знать». — Хорошо, — согласилась она. — У фонтана, так у фонтана. В какое время для вас удобно? — Желательно сейчас. Я звоню от Малого театра. — Как я вас узнаю? — Я сама к вам подойду: я вас знаю. «Ничего себе — снова загадка. Она меня знает, а я — нет», — удивилась Тоня. Фонтан у Большого театра — одно из многолюдных мест центра Москвы, особенно в летнюю пору. Очень удобное место свиданий. Здесь можно под яблонями и сиренью посидеть на скамеечке, поджидая товарища, здесь все под рукой — магазины, рестораны, метро, гостиницы. Тоня остановилась у гранитного кольца фонтана. Струи воды распыляли приятную в такой жаркий день влагу. На скамейках не было свободных мест. Вокруг фонтана стояло человек десять, а может, и больше. Среди них было четыре женщины. Присматриваясь к ним, Тоня пыталась определить, которая из них ее незнакомца. Неожиданно сзади раздался негромкий спокойный голос: — Здравствуйте, Антонина Николаевна. — Миронова резко повернулась. — Вот и я, Рита. — Простите, а по отчеству? — Ах, зачем отчество, оно старит, а я еще невеста. Вот собралась замуж, да видите, какая история получается. Она и привела меня к вам. — Деланная кокетливая улыбка уже немолодой женщины, украшенной большой копной седых волос, сменилась такой же неестественной скорбью. Ярко накрашенные губы, искусственные черные ресницы, подведенные синькой голубые глаза, густо нарумяненные щеки придавали ей вульгарный вид. Она демонстративно осмотрела Тоню с ног до головы и вдруг предложила: — Вы не обедали? Может, зайдем в «Метрополь» или «Национала», закусим и за столом поговорим? — Благодарю, я пообедала. Итак, я вас слушаю. Женщина в нерешительности осмотрелась вокруг: место не очень подходящее для интимного разговора; Тоня поняла ее, предложила: — Может, пройдем к Большому театру, там посвободней. Они шли медленно, и женщина, назвавшаяся Ритой, начала неторопливо свой рассказ: — Видите ли, я невеста Ипполита Исаевича. Мы решили в августе оформить наш брак, как говорят, пожениться. Мы давно знаем друг друга и любим. Он очень порядочный человек, интеллигентный, воспитанный, тонкая натура, легко ранимая. Он остро на все реагирует, даже на пустяк, на мелочи. Наверно, наложил свой отпечаток печальный эпизод в его прошлом — я имею в виду судимость. Вы, конечно, знаете. Это оставило душевную рану, возможно, на всю жизнь. Такой уж он человек — беззащитный, как говорят, не от мира сего. И вот теперь нежданно-негаданно на нашу голову свалилось это неприятное дело — этот ублюдок Павлов. Говорила я Ипполиту — гони его прочь. Нет же, не послушал: жалел, пропадет, мол, а парень способный. А на что способный? На авантюры. Из-за его авантюр и на Ипполита пало подозрение. Вы представляете душевное состояние невинного человека, травмированного, которого подозревают… — Она не договорила фразу. — В чем подозревают? — впервые подала голос Топя. Похоже, что вопрос несколько смутил «невесту» Пришельца. — Я не знаю, вы должны знать. А подозрение, даже если и безосновательное, ошибочное, все равно оно оставляет на подозреваемом пятно. Самое неприятное, что накануне женитьбы. Если б не это обстоятельство, Ипполит, может, и не стал бы переживать. — Я не совсем понимаю, при чем здесь женитьба, какая связь? — Как при чем? Все осложняется. А наша семья? Как мои родные посмотрят на наш брак, на Ипполита, на зятя, который на подозрении? Мой брат занимает высокое положение, он известный человек в стране. И вдруг такой зять. Ужас. Я схожу с ума. Ипполит места себе не находит. Брат, конечно, мог бы вмешаться, его все уважают, с вашим министром они друзья, и дома у него бывает. Но я не хочу впутывать в это дело брата. Дело-то пустячное, выеденного яйца не стоит. Павлов натворил — пускай и отвечает. Я же знаю, Антонина Николаевна, вы женщина добрая, душевная, о вас все так отзываются. Помогите, все зависит от вас. Моя судьба в ваших руках. Я слезно вас умоляю. В голосе ее звучали трагические ноты. — В чем конкретно должна состоять моя помщь? Я что-то не совсем вас понимаю. — Нет, Тоня прекрасно понимала, куда клонит перезрелая «невеста». — Я сама юрист, и хочу быть с вами откровенной. Вы же можете не обращать внимания на некоторые факты, которые не имеют отношения к делу Павлова и только уводят следствие черт знает куда. Например, зачем вам показания какого-то банщика. Ну, ходил Ипполит в баню, он обожает русскую баню. Может, ненароком обидел этого банщика. Или, может, мало заплатил ему за кольцо. Кольцо-то для меня делал, какое ж тут преступление? Да и сам этот Соколов уже жалеет о своем показании и готов взять его обратно. И на суде, говорит, я откажусь. Да и алмаз-то искусственный, фианит. Будь там натуральный, а то эрзац, теперь их тоннами в лабораториях делают. А из-за этого эрзаца может человек погибнуть. И женщина, достав из сумочки платочек, промакнула глаза. Получилось это наигранно, и Тоня с иронией подумала: «Артистки из тебя не получается, однако ж осведомленность отменная. И расчет верный: самую большую угрозу для Пришельца на данном этапе представляют показания Соколова. Хотят, чтоб их не было». Тоня понимала, что Пришелец решил «смываться», и ему нужно быть «чистеньким», ох, как нужно. Ради этого он готов на все пойти. Она догадывалась, что женщина «липовая» невеста, и имя ее тоже «липовое», и никакого «государственного» брата у нее нет, Правда, она не могла знать, что настоящее имя Риты — Анастасия Ивановна, что она жена адвоката Бориса Шуба, Ася Полушубок, когда-то отчисленная со второго курса юрфака за неуспеваемость. — Умоляю вас, дорогая, не погубите, войдите в наше положение, сжальтесь. Я отблагодарю вас, ни перед чем не постою, — продолжала всхлипывать «невеста», и эта явная фальшь начала, раздражать Тоню. — Перестаньте, — резко оборвала ее Миронова. — Хватит. — И в ту же секунду решила: надо играть, надо пообещать: многое может проясниться. Продолжала уже спокойно: — Я не спрашиваю ни вашей фамилии, ни фамилии вашего брата. Для меня совершенно безразлично, кем вы доводитесь Пришельцу. Если я вас правильно поняла, то вы хотите, чтобы имя Ипполита Исаевича вообще не упоминалось в деле Павлова? — Да, да, вы совершенно правильно меня поняли. — Как юрист, вы должны знать, что это зависит не только от меня. — Ну, я думаю, что вы сможете договориться с подполковником Добросклонцевым. «Однако ж», — удивилась Тоня и спросила: — Вы знаете Юрия Ивановича? — Я всех знаю, — самоуверенно ответила «невеста» и прибавила: — Сначала вы получите небольшой аванс, десятую долю всего. А все остальное — когда дело Павлова закончится и приговор вступит в силу. Тоня делала вид, что она крайне озадачена. Молчала, решая, как поступать дальше. — Вы не сомневайтесь, не пожалеете. Отблагодарим сторицей. Тоня решила: ну что ж, надо идти до конца. — Это так все неожиданно, — произнесла, будто размышляя вслух. — Вы говорите, знаете Добросклонцева? А я думаю, что нет. Я не представляю, как с этим делом к нему подступиться. А может, лучше вам попробовать, коль вы знакомы? — Нет, я лично с ним не знакома, мне Ипполит о нем рассказывал. Очень лестно отзывался. Я бы, конечно, могла попытаться, но… думаю, что лучше вам. «Она должна поверить, — размышляла Тоня, — только бы не переиграть. Бестия наглая, бесцеремонная и самоуверенная. Сейчас она в полной безопасности. Не спугнуть бы неуместной фразой, лишним словом». Тоня вздохнула, вздох получился естественным, проговорила с чувством глубокой озадаченности: — Я не могу так сразу. Надо все взвесить, продумать. — Ну конечно, конечно, я вас понимаю, дело это щекотливое, — согласилась «невеста». — Только имейте в виду; если вы захотите использовать мою откровенность, злоупотребить моим доверием… вам это не удастся. Я — человек совершенно неуязвимый. А что касается Ипполита Исаевича, то за него есть кому заступиться. — Хорошо, — решительно сказала, точно черту подвела, Тоня. — Я подумаю. И дам вам окончательный ответ. Лично или по телефону, как вам будет удобно, позвоните мне завтра к концу дня. — Позвоню. Я очень надеюсь на вашу доброту и благоразумие. Они разошлись в разные стороны. Тоня спешила в управление. Верно заметил Добросклонцев: «День большого улова». Откровенный цинизм «невесты» поразил ее — с подобным Миронова столкнулась впервые. Предлагать роль соучастницы преступления, разумеется, за плату — вот так просто, напрямую? Какое ж должно быть представление о нравственности людей? Такая особа считает, что за деньги можно все купить — совесть, честь, долг. На что она рассчитывала? Неужто найдутся такие, кто может «клюнуть», согласиться, хотя бы один из тысячи? Тоня не могла себе такого даже представить, хотя и знала, что бывает, когда даже должностное лицо позволяет себе в корыстных целях такое падение. Поражало ее и вызывающее нахальство, самоуверенность, чувство безнаказанности этой женщины. Кто она, кем доводится Пришельцу? Невеста? Сомнительно. Сожительница? Едва ли: Пришелец предпочитает помоложе. Разве что бывшая. А может, соучастница, из одной шайки. Если так, то выходит, что главная для них опасность — кольца, бриллианты, и опасен теперь уже не только Алексей Соколов, но и Аля. Да, нужно срочно сравнить Алино кольцо с теми, что были подменены в ювелирном магазине на бриллиантовые. Тоня уже не сомневалась, что авантюра с подменой колец — дело рук Пришельца, и что «работает» он не в одиночку, действует шайка. Павлова пытались устранить, да вышла осечка. Но где гарантия, что не попытаются убрать других важных свидетелей — Соколова и Алю? Нет, Пришельца нужно немедленно арестовать. Но прежде надо его найти. Объявлять всесоюзный розыск? И еще: надо узнать, кто эта женщина. Это завтра. Но придет ли она, позвонит ли? С такими мыслями Миронова зашла в кабинет Добросклонцева. — Ну? Докладывай, — сказал Юрий Иванович, как только Тоня закрыла за собой дверь. Испытывая его терпение, Тоня не спеша взяла стул, поставила у письменного стола, чего она прежде не делала, степенно села и достала из своей сумочки колечко с фианитом. Потом начала спокойно со всеми подробностями рассказывать о встрече с Алей и ее подругой по фамилии Пышная. Добросклонцев рассматривал кольцо: — Вот и улики пошли, серьезные улики, мистер Пришелец! А когда Тоня рассказала о встрече с «невестой» Пришельца, предлагавшей крупную взятку, Юрий Иванович покачал головой: — Значит, зверь, Тонечка, очень крупный. Возможно, крупнее, чем мы думаем. Личность «невесты» необходимо установить. Непременно. А теперь, Антонина Николаевна, хочу проинформировать тебя о новых открытиях сегодняшнего дня. Денек, Тонечка, как никогда! Таких у меня за всю мою службу в органах еще не было. Поработали мы хорошо, даже сверхотлично. Весельчак Ушанов тоже. Быстренько установил, что в ОВИР Ипполит Исаевич не обращался. Но… он числится в списке группы туристов, выезжающих во Францию. Поняла?.. — Но этот, как ты говоришь, крупный зверь пока еще не пойман, а он умеет обходить капканы и не бросится очертя голову в западню. Это раз, — охладила Тоня его пыл. — А и пойманный, он найдет много лазеек, чтоб выскользнуть из рук правосудия — это два, товарищ подполковник. — И знаешь, с чьей помощью Пришелец включен в представительную группу туристов? — не обратил внимания на ее реплику Добросклонцев. — Зубров или Малярчик посодействовали? — Товарищ Земцев, Яков Николаевич изволил облагодетельствовать Ипполита Исаевича. И, между прочим, сам Земцев позавчера уехал в загранкомандировку. — Два ноль в нашу пользу, — сказала Тоня. — Это почему же? — Два друга — покровители Пришельца — Земцев и Малярчик находятся за пределами нашей страны и не смогут помешать следствию. — Нам они и так не смогли бы помешать: у нас факты, доказательства. Вот они! — Он повертел в руке колечко. Алмаз заиграл гранями. 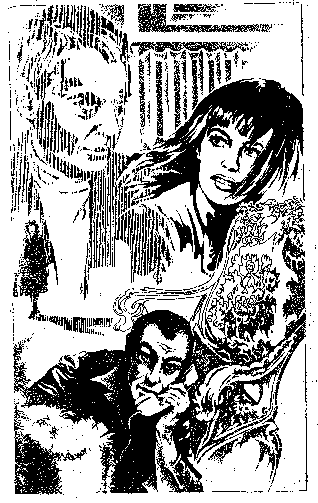 — Давно известно, что, в принципе, все преступники — нравственные уроды, аморальные типы, — задумчиво сказала Тоня. — Ты же сам однажды говорил, что корни преступности настолько же социального происхождения, насколько и морального. Меня удивляет другое: почему нравственный прогресс так непростительно отстает от технического? — Вот-вот — дипломированный, образованный, эрудированный уродец, — живо отозвался Добросклонцев. — Образование дали, а воспитать забыли. Хотя о воспитании мы трубим на всех перекрестках. Да и в воспитателях нет недостатка: семья воспитывает, школа, комсомол тоже воспитывают. Искусство, литература, средства массовой информации! Вот сколько их воспитателей-нянек. А, как говорят, у семи нянек дитя… — Не в этом дело, — перебила Тоня. — Иногда няньки в разные стороны тянут, разнобой получается. Но вот что меня смущает: бывает, что в семье, в одной и той же семье два-три сына. Кажется, и живут и воспитываются в одинаковых условиях. Но один прекрасный парень, а другой подлец. Почему так получается? — Разные характеры, разные интересы, наклонности. В силу своего характера один попал под дурное влияние. Тот же Павлов… — Павлова мне искренне жаль. Я его понимаю. А вот психологию Пришельца понять не могу. — Да, конечно, их нельзя мерить одним аршином. Кстати, я хочу завтра снова встретиться с Павловым. И завтра же мне предстоит свидание с мадам Ященко Натальей Максимовной. А сейчас я с этим колечком еду на Петровку. Сличим. — А вдруг окажется не то? Бес, чтоб сбить твою самонадеянность, возьмет да и подставит тебе ножку. Бесы не любят самоуверенных, ты этой имей в виду, — Поимею, — улыбнулся Добросклонцев. 6 Придя домой, Тоня извлекла из почтового ящика «Вечернюю Москву» и толстый конверт, на котором крупным размашистым почерком было написано: «Мироновой А. Н.» Ни марок, ни штемпеля, ни обратного адреса. Кто-то принес и опустил в ящик, не прибегая к услугам почты. Тоня ничего ни от кого не ждала. На ощупь определила, что в конверте бумаги, и почему-то подумала, что содержимое конверта имеет отношение к делу Пришельца. И не ошиблась. Она вскрыла пакет, едва переступив порог своей квартиры. В конверте лежали деньги — ровно две тысячи. Она не очень удивилась, была почти уверена, что деньги эти принесла и опустила в ее почтовый ящик «невеста» Пришельца. За всю свою жизнь Тоне не приходилось владеть такой суммой денег, и деньги эти были предназначены ей, так сказать, небольшой подарок. А ведь это только аванс, одна десятая часть того, что ей обещано. Двадцать тысяч — с ума сойдешь — целое состояние. От кого эти деньги, кто он — анонимный благодетель? Конечно же, Пришелец — в этом Тоня не сомневалась. Какая щедрость! Похоже, что «благодетель» располагает миллионом, потому и не скупится. Тоня помнит, как в прошлом году они изъяли у группы вот таких же пришельцев семь килограммов золота и восемьсот тысяч рублей. Золото было предназначено для переправки за кордон, да вовремя успели задержать и обезвредить всю шайку. Похоже, что и здесь шайка, и возглавляет ее Ипполит. Он понимает, что «влип» по большому счету, чего-то не предусмотрел, самоуверенность подвела, возможно, слишком понадеялся на своих покровителей. А спохватившись, пошел ва-банк, на мокрое дело рискнул, хотел избавиться от Павлова. Тоня была уверена, что покушение на Павлова — дело рук Пришельца, хотя прямых улик пока нет. А будут ли потом? Ох, как они нужны. Она стояла посреди комнаты с пачкой купюр, торопливо размышляя над новым, хотя и не совсем неожиданным аспектом дела: а что если они меченые и подброшены с провокационной целью? Сейчас заявятся товарищи из прокуратуры с заявлением о взятке. Чем тогда докажешь, что ты не получила взятку у фонтана Большого театра от той женщины? И фотография будет приложена. Тревожный холодок пробежал по спине. Она брезгливо бросила деньги на стол, сказала себе мысленно: спокойно, Антонина Николаевна, не суетись. Выдержка и хладнокровие — наше главное оружие — так говаривал Добросклонцев. Она сняла трубку и набрала номер кабинета Юрия Ивановича. Телефон не отвечал. Тогда Тоня позвонила ему домой. В трубке слышались длинные, тягуче-равнодушные гудки. «Значит, он уехал на дачу, — решила Тоня и тут же вспомнила: — Нет, он сейчас на Петровке, кольцами занимается». А тревога в душе нарастала. Она взглянула на часы и набрала номер генерала Константинова. — Василий Кириллович, извините меня за беспокойство, но дело неотложное, а Юрию Ивановичу я не могу дозвониться. Это Миронова. — Голос ее дрожал. — Слушаю, Антонина Николаевна, — отозвался генерал и спросил: — Ты откуда звонишь? — Я из дома… Я пришла домой и обнаружила в своем почтовом ящике деньги. Две тысячи. Она замолчала, чтобы перевести дыхание. И Константинов, не сразу сообразив, о чем идет речь, переспросил — Деньги? Чьи деньги? — Наверно, преступника. Я думаю. Пришельца. Попытка подкупить следствие. — И так много? — Генерал повеселел, он догадался, что Тоня взволнована, и хотел успокоить ее. — Это только аванс, одна десятая того, что мне обещано. Юрий Иванович, наверное, вам докладывал. Василий Кириллович, вы разрешите мне привезти эти деньги в управление. Сейчас же. Я все объясню. — Хорошо. Говори адрес, я вышлю машину. Добросклонцев не смог доложить генералу о ходе следствия, хотел зайти к нему под вечер, перед тем как ехать на Петровку, но Константинов был в это время в обкоме, и Юрий Иванович решил доложить ему утром. Поэтому Тоне пришлось рассказать генералу все, что произошло в этот день: обыск на квартире Пришельца, встреча с Алей, о фианитовом кольце, которое Пришелец подарил дочери, а также о своей встрече с женой Зуброва, в результате которой удалось установить связи Пришельца. Константинов был немало удивлен связью Пришельца с Малярчиком, Земцевым и Зубровым. По крайней мере, считал генерал, Земцев и Малярчик случайно оказались в компании Пришельца на даче Зуброва. Он допускал, что Зубров и Пришелец в приятельских отношениях, а с другой стороны, у Зуброва могут быть дружеские отношения с Малярчиком и Земцевым. Размышляя таким образом, Василий Кириллович пришел к заключению, близкому к истине: Пришелец через Зуброва пытался втереться в доверие к Земцеву и Малярчику. Все это казалось бы логичным, если бы не одно обстоятельство: свой день рождения Зубров отмечал в узком кругу, следовательно, своих близких друзей, может, самых близких. Деликатный намек Мироновой, что это одна шайка, он решительно отметал, утверждая: простая случайность. Вместе с тем червячок сомнения поселился в нем. Его прежде всего возмущало поведение Зуброва. Что за наглость: используя свое служебное положение, вмешиваться в дела органов. Это нужно немедленно пресечь. Завтра же он потребует от Добросклонцева докладную записку о действиях Зуброва и затем даст ей официальный ход. Он поставит в известность секретаря МК, заместителя министра внутренних дел и в частном порядке проинформирует заместителя генерального прокурора. ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 1 Как всегда, после работы Екатерина Вячеславовна забежала по пути в продовольственный магазин. Купила четыреста граммов сливочного масла, полкилограмма сыра, два пакета сливок и заспешила на вокзал, чтоб ехать на дачу. Так они договорились с мужем: домой заезжать сегодня не будут. Вторую неделю в области стояла жара, днем столбик термометра поднимался до тридцати градусов в тени. Солнце нещадно накаляло каменные глыбы строений, плавило на улице асфальт. По ночам в городских квартирах от духоты не было никакого спасения. У выхода из метро к Екатерине Вячеславовне подошел незнакомый человек, голубоглазый, выше среднего роста, плотно сбитый: — Екатерина Вячеславовна? Извините, прошу уделить мне несколько минут. Катя с удивлением посмотрела на мужчину и, решив, что он один из сослуживцев мужа, ответила: — Пожалуйста. Я вас слушаю. — Отойдем в сторону, — предложил незнакомец н сам сделал первый шаг за угол здания метро. Катя последовала за ним. — Извините, но разговор у нас будет необычный, для вас неожиданный. Скажите, вы вчера открывали свой почтовый ящик? Дома, на улице Добролюбова. — Нет, я там не была. После работы сразу уехала на дачу, А в чем дело? — И муж не заглядывал в почтовый ящик? — Думаю, что нет: он тоже с работы уехал на дачу. А все-таки я не понимаю, о чем речь? — В вашем почтовом ящике лежат деньги — две тысячи рублей. Они ваши. Это только аванс, десятая доля того, что получит ваш муж, если не будет круглым идиотом. — Я ничего не понимаю, — недоуменно пожала плечами Катя и растерянно посмотрела по сторонам. — Может, вам нужно об этом поговорить с мужем? — Выслушайте меня внимательно и не волнуйтесь. Юрий Иванович — человек не от мира сего. Он смешной идеалист, отставший от жизни, от времени. Он борется с ветряными мельницами, современный Дон Кихот. А в наш век это бессмысленное и бесполезное занятие. Мельница, она глупа и своим безжалостным крылом может шарахнуть, и даже смертельно. Не возражайте, я знаю — он человек не из робких. Но не забывайте — у вас есть сын. Он еще беззащитен, и с ним всякое может случиться. — Что вы имеете в виду? — встревожилась Катя. — Однажды он получил травму, только травму, — с явной угрозой в голосе подчеркнул незнакомец. — В другой раз может быть трагедия… пострашней. Вы — мать, подумайте. И посоветуйте Юрию Ивановичу быть поумней, попрактичней. — Ледяные глаза его смотрели отчужденно. — Боже мой, да что ж это… Кто вы такой? Что вы хотите от меня, от моего ребенка? Я ничего не понимаю. — Только одного: благоразумия. Пусть ваш муж не очень усердствует и пощадит бедного юношу Толю Павлова. Поменьше рвения, побольше снисходительности и благоразумия. Не говоря больше ни слова, незнакомец влился в поток людей и исчез, а Катя долго еще не могла сдвинуться с места, хотя инстинкт самозащиты требовал немедленных действий. Прежде всего она решила позвонить мужу. У будки телефона-автомата простояла минут десять в очереди, и эти десять минут показались ей вечностью. Да к тому же телефон Добросклонцева не отвечал. Она знала — так условились еще вчера, — что Юрий Иванович прямо с работы поедет на дачу. Она попробовала взять себя в руки, успокоиться, размышляя над случившимся. Добросклонцев не посвящал ее в свои служебные дела. В электричке она не находила себе места: думы ее убегали к сыну, вспоминались ледяные глаза мужчины и его слова: «Он еще беззащитен»… «может быть трагедия… пострашней». Над Женей нависла опасность! Да, верно, там он беззащитен. Они могут сделать с ним что угодно. От платформы до дачи отца бежала с лихорадочной поспешностью. Бледная, с испуганным взглядом открыла калитку. Мать стояла с совком и веником у крыльца и сразу почувствовала недоброе. — Юра приехал? — с трудом сдерживая волнение, спросила Екатерина Вячеславовна. — Да нет еще, — с тревогой ответила Анастасия Степановна. Катя решила не рассказывать родителям о случившемся до приезда мужа, но скрыть своего состояния не смогла. Анастасия Степановна не решилась донимать дочь расспросами, но своими наблюдениями поделилась с отцом. — Что-нибудь на работе, — отмахнулся Вячеслав Александрович, не придав значения словам жены. Добросклонцев приехал в десятом часу в приподнятом настроении. Несмотря на «безумный» день, он не чувствовал усталости. Экспертиза подтвердила идентичность фианита из колечка дочери Пришельца с фианитами из колец, подложенных в ювелирный магазин взамен бриллиантовых. Он был уверен, что сложное уголовное дело, в котором, по его мнению, Пришелец играл первую скрипку, близится к успешному завершению. Вместе с тем он предвидел, что впереди еще будут трудности, могут неожиданно возникнуть непредвиденные обстоятельства. Если до сегодняшнего дня он видел лишь отдельные этюды и фрагменты дела, часто не связанные между собой, то сегодня ему уже предстала вся картина. Не хватало лишь отдельных штрихов. Но они будут, должны быть непременно. Большая надежда на Павлова. Он должен заговорить, не может он остановиться на полпути, сделав ключевое для следствия сообщение — кольцо дочери Пришельца. Очень важно его разговорить. Взволнованный рассказ жены о встрече с незнакомцем на вокзале насторожил Добросклонцева. Он попытался успокоить Катю: ничего особенного, обычный трюк — пугают. А случай был для самого Добросклонцева далеко не обычным, лично он с подобным никогда не сталкивался: никто не предлагал ему взятки, никто не запугивал. Жену успокоить он не сумел. Посоветовавшись в семейном кругу, решили, что завтра же с самого утра Вячеслав Александрович на машине поедет за Женей. Рассказ Кати вызвал неприятный осадок в душе Добросклонцева, и чем настойчивей он внушал себе мысль о том, что никакая опасность его сыну не угрожает, тем навязчивей становилась мысль о возможной мести со стороны преступников. Особенно застрял в памяти намек на давний случай, происшедший с сыном. Утром он уехал в Москву вместе с Ермоловым задолго до начала рабочего дня. Забежал на несколько минут к себе на квартиру. Да, действительно, в почтовом ящике лежал пакет с двумя тысячами рублей. Сторублевые купюры были еще довольно новыми и подозрительно смятыми, точно их преднамеренно хотели «состарить». «Взятка, — размышлял Добросклонцев. — За две тысячи я должен пощадить несмышленыша Павлова, бедную сиротиночку. И кто ж он такой — его щедрый опекун? Ипполит Исаевич, он, конечно. Значит, Павлов много знает о преступной деятельности мистера Пришельца. Павлов может пролить свет на все еще темные пятна в деле о бриллиантовом кулоне и помочь следствию. Может, но не хочет. Боится. Видно, хорошо знает звериные повадки своего благодетеля». Добросклонцев собирался, не заезжая к себе на улицу Белинского, встретиться с Павловым. Но обнаруженные в почтовом ящике деньги рушили его планы: надо сначала ехать в управление. Было начало восьмого. Он позвонил Мироновой домой. Тоня уже собралась на работу. — Тебя срочно хочет видеть Василий Кириллович, — поспешила она предупредить Юрия Ивановича. — Есть новые данные. — С плюсом или минусом? — Не знаю. Только хочу тебе доложить: Ипполитова «невеста» сдержала слово. Отвалила аванс в две тысячи. — В почтовый ящик? — весело спросил Добросклонцев. — А ты откуда знаешь? Ты виделся с генералом? — Нет. Я только что извлек такую же сумму из своего ящика. Щедры наши клиенты, очень щедры. — Значит, богато живут… Однако же… — Ты хотела сказать, что не веришь в их щедрость? Я — тоже. У меня есть подозрение, что тысячи эти фальшивые. Ну да ладно, разберемся. А сейчас, поскольку меня требует Константинов, тебе нужно встретиться с Павловым. Вопросы — все о Пришельце. И его связь с Коньковым, то, о чем мы с тобой толковали. Постарайся расположить его, рассеять страх перед Пришельцем. Я на сегодня пригласил мадам Ященко. — Но прежде тебе придется приготовить один документ для Константинова. — А именно? — Он тебе сам скажет. Привет. Я поехала в изолятор. 2 Разговор с Добросклонцевым во время последней их встречи, несмотря на свою непродолжительность, больно задел самолюбие Анатолия Павлова, не давал покоя, Павлов ненавидел Пришельца за то, что тот так жестоко, коварно решил расправиться с ним, беззаветно преданным ему человеком. «Лакеем», — неприятно, как пощечина звучал в памяти Анатолия голос Добросклонцева, который так же, как и он, Павлов, ненавидит Пришельца. Для них обоих Ипполит — враг. В изоляторе у Павлова было много свободного времени для размышлений. Раньше он жил в каком-то чертовом колесе, где все вертелось, летело, поддаваясь какой-то невидимой силе. И он отчаянно барахтался, заботясь лишь об одном: только бы не налететь на стенку. Свою жизнь со всеми своими поступками, удачами и неудачами, радостями и огорчениями он никогда не подвергал анализу и даже не задумывался над рискованными действиями сомнительного свойства, не утруждал себя вопросом: хорошо это или плохо? Он довольствовался днем текущим, совершенно не думая о будущем. Веселый и беспечный по своей натуре, Павлов уже на третий день пребывания в изоляторе почувствовал себя всеми забытым. Настало время размышлений. И сразу обнаружилось много неожиданного и любопытного. Например, по элементарной логике получается: если Пришелец одновременно доводится врагом Павлову и Добросклонцеву, то Павлов и Добросклонцев, как минимум, недруги. Добросклонцев говорил ему обидные слова: «Лакей… Пришельцы без лакеев не могут. Их сила, их неистребимая живучесть в лакеях, которых они умеют эксплуатировать, презирая их». Самое обидное, что было в этих словах, — правда, горькая, как полынь, правда. Да, признавался самому себе Анатолий, он был у Пришельца, у своего смертельного врага, лакеем. Да, Ипполит презирал его, оскорблял, унижал. А он терпел, старался не обращать внимания и всегда спешил подавить в себе вдруг вспыхнувший протест. Ради чего? Ради жалкой подачки, или, как говорил Добросклонцев, объедков, кости с барского стола. Думать об этом было противно и гадко. В нем зашевелился запоздалый стыд. И еще вспомнилось: Добросклонцев говорил о гордости, которой он, Павлов, лишен, простой человеческой гордости; да что гордости — даже самолюбия. Так накапливалась в душе Анатолия ненависть к своему бывшему шефу, а к ней примешивалась жажда расплаты. Вывести самонадеянного, жестокого и коварного Ипполита на чистую воду, рассказать следствию правду о нем, сломать печать молчания. Впрочем, считал он, первый шаг уже сделан сообщением о том, что Пришелец собирается удрать за границу. Павлов не подозревал, что не это, а другое его сообщение — о подаренном дочери колечке и потом попытке вернуть его — было для следствия важнее всех других показаний. Об участии Пришельца в подмене бриллиантовых колец Павлов ничего не знал. Зато ему было кое-что известно об участии Ипполита в хищении жидкого золота, и он твердо решил сообщить об этом следствию. Притом бескорыстно, совсем не рассчитывая получить за это снисхождение суда. Между прочим, спокойно и хладнокровно анализируя свою судьбу, он пришел к выводу, что обвинения против него не такие уж страшные. В этом отношении мысли его совпадали с размышлениями Добросклонцева. Ему вменялось в вину хищение бриллиантового кулона. Но он надеялся на снисхождение Беллы, был уверен, что она пожалеет его и простит. Таким образом, за это преступление, вероятней всего, думал он, суровой кары не последует. Сомнительным казалось ему и второе обвинение — попытка нелегально бежать из страны. Теперь он решил изменить свои прежние показания, утверждать, что вообще не собирался нелегально покидать страну, а замышлял разоблачить преступника Арвида и сделать это перед самым отлетом, в аэропорту. Не очень убедительно, но попытается объяснить суду, почему сразу не сообщил об этом, очень просто — находился в состоянии депрессии, страха. Конечно, нужно отказаться и от других вымышленных показаний и давать совершенно новые, правдивые или хотя бы правдоподобные. Дойдя до этой мысли, он споткнулся: возникли сомнения, до каких пределов быть искренним в своих показаниях? Ведь он-то знал: за ним водятся более серьезные преступления, чем те, что известны сегодня следствию. Так или иначе, но он был косвенно причастен и к засаде на квартире ювелира, и к убийству Конькова. Делали это другие по приказу Пришельца. Но приказы свои Ипполит передавал через него, Павлова. Это он скроет от следствия и суда. О них знают только трое: Пришелец и два рецидивиста, которые вместе с Коньковым устроили засаду в квартире ювелира, а потом они же и похоронили Конькова на дне Черного моря. Пришелец будет молчать, а те двое где-то разгуливают, а и попадись они в руки милиции, не станут называть ни Пришельца, которого они в глаза не видели, ни его, Анатолия Павлова, которого знают лишь по имени Саша. Да и смысла им нет брать на себя лишнее. Размышления успокоили Павлова. Вызов к следователю его даже обрадовал. Он вошел в следственную комнату какой-то просветленный, лицо его сияло беспечной улыбкой, глаза приветливо поблескивали. Этот неожиданный резкий переход озадачил Миронову, и она не смогла скрыть своего удивления: — Вы сегодня какой-то другой, Павлов. — Хуже или лучше? Его вопрос, тон, которым он был задан, еще больше изумили Тоню. — Похоже вы мне приготовили какой-то сюрприз. — Как вы догадались? — сорвалось у него. — Жаль, что вы раньше не заметили во мне дара ясновидения. Иначе бы сразу говорили правду. Всю правду, — подчеркнула она и жестом предложила ему садиться. — Я тоже сожалею, что сказал не всю правду, — сказал Павлов, усаживаясь на табуретку. — На то была своя причина. — Какая же? — Страх. Честно вам говорю — струхнул я тогда в сарае порядком. Долго не мог в себя прийти. Мне казалось, что они до меня и тут доберутся. — Кто «они», кого вы имеете в виду? — Люди Пришельца. — Вот как? Выходит, Арвид был человеком Ипполита Исаевича? Так я вас поняла? — Из его шайки. — Ну что ж, я догадывалась. Меня очень возмущало ваше нежелание сказать правду о Пришельце. Обидно было за вас, — искренне сказала Тоня. — Чтоб выгородить матерого уголовника, вы сочинили такие нелепые, дешевые легенды, в которые даже первоклассники не поверят. — Антонина Николаевна, я исправлюсь, — поспешно, с несколько преувеличенным смущением перебил Павлов. Со стороны они напоминали не очень строгую учительницу и ученика-шалопая, не приготовившего урок. — Честное слово. — Что ж, попробую поверить. Итак, всю правду? — Да, — тихо молвил Павлов, опустив голову. Возникла пауза. Тоня смотрела на Анатолия с ожиданием, он же не спешил говорить. Румянец как-то вдруг растаял на его лице, он весь напрягся, посерьезнел. — Ну? — нарушила молчание Тоня. — Не знаю, с чего начать, — потерянно проговорил Павлов и с грустью посмотрел Мироновой в глаза. — Начните с неправды, — подсказала Тоня. — Пожалуй. Кулон Норкиных находится у Ипполита Исаевича. Он меня вынудил взять его. — То есть украсть. — Пусть будет по-вашему. — А по-вашему? Вы что, взяли его на время? Пришелец полюбоваться хотел? — Нет, конечно. — Павлов глубоко вздохнул. — Вещь эта ценная, думаю, Ипполит решил с ней за границу махнуть. — От кого Пришелец узнал о кулоне? — Не знаю. Возможно, от Норкина или от самой Беллы, до замужества она была его любовницей. Да и женил он меня на ней из-за проклятого кулона. Я где-то читал, что есть драгоценные камни, которые приносят несчастье всем, кто к ним прикоснется. Сразу же после свадьбы Ипполит потребовал от меня этот чертов алмаз. Павлов рассказывал со всеми подробностями, как по его просьбе Белла показала ему кулон, как он потом похитил его. При этом рассказывал правдиво, все, как было на самом деле. И как потом передал кулон Пришельцу, как на квартире Пришельца встретился с Арвидом. Спокойный и деловитый тон его рассказа, откровенность и доверительность тронули Тоню. В то же время профессиональный опыт заставлял ее быть настороже. Она понимала, что Павлов продумал заранее каждое слово. — А когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Коньковым? Павлов запнулся и в растерянности отвел взгляд. Уголки губ его дрогнули, но он сохранил самообладание и после некоторой заминки ответил: — Однажды Ипполит приказал мне поехать в Дядино, разыскать некоего Конькова Николая Демьяновича, передать ему двести рублей денег и приказ немедленно уехать из Москвы в неизвестном направлении. Конькова я дома не застал, соседи сказали, что он в психичке, я поехал туда, встретился с ним, передал деньги и приказ смываться. Больше я его не видел. Он повторил свою старую версию. — А такое поручение Пришельца не навело вас на мысль, что ваш шеф связан с уголовщиной? — Я как-то не задумывался. У него были такие друзья — именитые, солидные должности, лауреаты. — В его голосе Тоне послышалась неуверенность. Должно быть, обостренная восприимчивость подсказала ему, что ее не удовлетворили показания о Конькове. — Вы можете назвать друзей Пришельца? — Антон Фомич — академик. Фамилию не знаю. — И все? Или еще кто-то из именитых? — Не знаю, фамилии он мне не называл. — Кто он? — Ипполит. Встречался с человеком, потом говорил мне — это академик, это народный артист, этот замминистра. — Мог пыль в глаза пускать. Павлов почувствовал облегчение: они в разговоре ушли от скользкого вопроса о Конькове. — Ну, нет. Для него в жизни нет ничего невозможного. Он может достать любую дефицитную вещь. Денег у него… — Павлов хотел придумать сравнение, чтобы показать, сколь состоятелен шеф, но ничего не придумал, лишь сокрушенно махнул рукой. — Откуда? Он же нигде не работает. — Об источниках своих доходов он мне не докладывал. Думаю, что у него их много и разных. У Ипполита особый нюх на желтый металл и камешки. Страсть, как у фанатика. — Расскажите подробней о камешках. Вы имели в виду алмазы и другие драгоценные камни? — Да. И золото. — Кроме кулона, какие еще драгоценные камни, бриллианты, например, доставал Пришелец? С вашей помощью или без вас? — Не знаю. Я только кулон… Что касается золота, то знаю, что он участвовал в одном дельце. Там он был не один. Жидкое золото превращали в твердое, а потом монеты царские чеканили. — Расскажите подробно, — попросила Тоня, и Павлов рассказывал все, что знал об афере с жидким золотом. Тоня, слушая Павлова, вспомнила слова Добросклонцева, сказанные по поводу Павлова: «Он заговорит, как только подавит в себе страх. Надо, чтоб он перестал бояться Пришельца». Теперь и она видела, что дело о кулоне идет к завершению. Прокурор уже подписал постановление на арест достопочтенного Ипполита Исаевича, именующего себя свободным художником, специалистом по памятникам старины. 3 Добросклонцев сидел в кабинете генерала Константинова. Пачка сторублевых купюр лежала на журнальном столике, приставленном к письменному столу. В отличие от Добросклонцева Константинов хмурился. — Как ты расцениваешь этот фокус с подсунутыми деньгами? Какой-то провинциальный примитив, вне всякой логики. — Почему же? Логика есть, — возразил Добросклонцев. — И не только логика, и психология, и философия. Элементарная самоуверенность зарвавшихся негодяев. В прошлый раз пойманный на спекуляции иконами, Пришелец вышел сухим из воды. Ну и зарвался, увлекся. Смотрит на мир своими глазами и не считается с реальностью. Подсунул деньги — авось клюнут. — Но это же наивно. Прежде чем предложить, очевидно, надо изучить взяточника и быть уверенным, что он возьмет. Притом не таким способом. Швырнуть четыре тысячи в почтовый ящик без уверенности… — Константинов помолчал. — Или у них был какой-то процент уверенности? — Какой-то процент был. Миронова у Большого театра не отклонила категорически предложение «невесты» Пришельца. — В таком случае ему грозит еще одна статья. — Он будет отрицать. Чем мы докажем, что эти деньги от него? Он скажет, что никакой невесты не знает, что это провокация, кто-то из его недругов хотел таким путем пришить ему уголовное дело. — Надо эту женщину разыскать, — решил Константинов. — И вот еще: о безопасности главных свидетелей — банщика и дочери Пришельца надо позаботиться. Этот гусь может пойти на все. — Все предусмотрено, товарищ генерал, позаботились. Разговор их прервал телефонный звонок. «Разыскать невесту Пришельца… — мысленно рассуждал Добросклонцев. — Допустим, Миронова ее опознает. Та будет все отрицать. Будет возмущаться, твердить: вы ошиблись, обознались, я впервые вас вижу». Константинов положил трубку и поднялся из-за стола, встал и Добросклонцев. — Я срочно в обком. — Понял, товарищ генерал. Разрешите идти? Константинов кивнул. Секретарь обкома сразу, без лишних слов, как человек, у которого рабочий день рассчитан по минутам, перешел к делу, подав Константинову листок, исписанный крупным разборчивым почерком. — Ознакомьтесь, пожалуйста, Василий Кириллович. Пока Константинов читал письмо, секретарь обкома просматривал какие-то бумаги. Письмо начиналось так: «Я работник подмосковной милиции, член КПСС, считаю своим партийным и гражданским долгом доложить вам о непартийном поведении ответственного работника ГУВД Мособлисполкома подполковника Добросклонцева Ю. И.» Далее в письме говорилось, что Добросклонцев, используя служебное положение, покрывает противозаконные действия своего тестя Ермолова В. А., который разводит пушного зверя в большом количестве, занимается спекуляцией пушнины и другими махинациями. Говорилось и о служебной недобросовестности Добросклонцева, и о необъективности следователя, и даже о том, что он был уличен во взяточничестве, злоупотребляет спиртным, на работе появляется в нетрезвом состоянии. Заканчивалось письмо тем, что обо всех этих «фактах» хорошо известно руководству Главного управления, но оно, очевидно, не желая выносить сор из избы, никаких мер против Добросклонцева не принимает. Автор письма не назвал своего имени, объяснив это боязнью мести. Как со стороны самого Добросклонцева, так и его начальников-покровителей. Словом, это была обычная анонимка, и, прочитав ее, Константинов сказал: — Не берусь судить о тесте Добросклонцева, а все остальное — грубая клевета, поклеп, попытка опорочить честного работника. — Видите ли, Василий Кириллович, я не стал бы вас приглашать по этому поводу, передал бы эту писульку в отдел. Но вспомнил наш разговор о некоем Пришельце, к которому якобы ваши товарищи проявляют излишний интерес. И если мне память не изменяет, называлась фамилия товарища Добросклонцева. Он, что ли, беспокоит известного коллекционера? — Да, он. Разрешите, Владимир Иванович, подробней доложить вам об одном деле, как мне кажется, имеющем самое непосредственное отношение к этой анонимке. И Константинов подробно рассказал о деле Пришельца, о том, что прокурор вынес постановление на его арест, что коллекционер этот подозревается в тяжких уголовных преступлениях, на что следствие располагает неопровержимыми материалами. И наконец, сообщил Константинов, в связи с делом Пришельца всплывают не с лучшей стороны имена товарищей: Земцева, Малярчика и Ященко. — А вы своему министру докладывали об этом? — Сегодня в три часа у меня будет встреча с заместителем министра, доложу. На минуту секретарь МК задумался, с легкой грустью покачивая головой, затем, словно что-то решив для себя, сказал: — Я прошу вас, Василий Кириллович, проявить в этом деле принципиальность, партийную твердость, не отступая ни на шаг от закона. Обо всех попытках оказать давление на следствие, от кого бы они ни исходили, ставить меня в известность. О тесте Добросклонцева поручи кому-нибудь проверить, есть ли там криминал. Но сделать это надо деликатно. Договорились? — Я вас понял, Владимир Иванович. — Всего хорошего. — До свидания. Из обкома Константинов вернулся к себе в хорошем настроении. Поддержка секретаря МК еще больше укрепила его позицию в деле Пришельца. В три часа пополудни он уже сидел в кабинете заместителя министра внутренних дел и так же, как несколько часов тому назад в кабинете секретаря МК, читал отпечатанное на машинке письмо на имя министра, в котором автор обвинял Добросклонцева в использовании служебного положения в корыстных целях. Под письмом стояла подпись искусствоведа-коллекционера И. И. Пришельца. «12 апреля с. г. ко мне на квартиру без предварительной договоренности неожиданно зашел подполковник милиции и представился: Добросклонцев Юрий Иванович. Он завел разговор о нападении грабителей на квартиру ювелира Бертулина А. Л. в гор. Дядино, где я, сам Бертулин и наши общие знакомые супруги Норкины оказались жертвами бандитов. Выслушав мой рассказ, как все было в тот злосчастный вечер, Добросклонцев дал ясно понять, что я подозреваюсь в соучастии с бандитами и что якобы у него есть доказательства моей вины. Я был возмущен этой явной ложью, но Добросклонцев сказал, что не надо расстраиваться, дело это можно замять, но что для этого потребуется от меня благодарность, то есть он недвусмысленно намекнул о взятке. Не чувствуя за собой никакой вины, я выставил подлого вымогателя за дверь. Первым моим желанием было написать вам или прокурору об этом возмутительном поступке подполковника милиции. Но я подумал: свидетелей не было, и Добросклонцев станет нагло все отрицать. Я решил ждать, что же будет дальше, оставит он меня в покое или будет мстить за неудавшийся шантаж. Да, Добросклонцев не оставил меня в покое и в отместку начал стряпать на меня уголовное дело, прибегнув к гнуснейшим методам подставки и поклепа…» После того как Василий Кириллович закончил чтение и положил письмо на стол, замминистра спросил: — Ты в курсе? — Да. Сегодня утром нечто подобное читал в кабинете секретаря МК. Правда, там была анонимка, написанная от руки, но стиль тот же. Разрешите доложить по существу? — Замминистра кивнул. — Дело в том, что автор этого письма — опасный преступник, не сегодня завтра он будет арестован, есть санкция прокурора. Пришелец подозревается в хищении золота, алмазов, в том числе и бриллиантовых колец в ювелирном магазине Москвы. Подмена колец с натуральными бриллиантами фианитами. — И есть улики? Доказательства? — спросил заместитель министра. — Есть. Клубок преступлений сложный, с попыткой убийства нежелательных свидетелей и прочими мерзостями. Добросклонцев — один из опытнейших руководителей следственного управления. И я не верю ни единому слову в заявлении Пришельца. И Василий Константинович более подробно изложил имеющиеся у следствия материалы о преступлениях Пришельца. От замминистра Константинов ушел успокоенным. 4 Узнав от жены, что с ней разговаривала Миронова, Зубров взбесился. — Зачем ты ее впустила в дом?! Почему не выставила за дверь?.. И какое она имела право тебя допрашивать? — орал он. Никогда за всю супружескую жизнь Любовь Викторовна не видела мужа в таком состоянии. Он был на грани безумства. — Она не делала допроса, ничего не записывала, и я никаких бумаг не подписывала, — робко оправдывалась она, пытаясь понять подлинную причину гнева. — Мы просто беседовали. Очень милая, обаятельная женщина. Сказала, что это нужно в государственных интересах и что наш долг — то есть мой — помочь следствию. — Да эта милая, обаятельная выудила у тебя самое главное, что ее интересовало: кто был у меня на дне рождения!.. Ты выдала моих друзей… Последняя фраза сорвалась необдуманно, случайно. Он это понял по озадаченному взгляду жены. Прикусил язык, но не смог скрыть замешательства. — Как это понимать — выдала? — удивленно спросила Любовь Викторовна. — Их что — милиция разыскивает? — Дура набитая, — прошипел Зубров и ушел в свой кабинет, щелкнув замком. Безудержная слепая ярость душила его. Ночь для Зуброва была тревожной, тягостной. Утром он появился на службе осунувшимся, с воспаленными глазами и сразу позвонил Ященкам. К телефону подошла Наталья Максимовна, заспанная, недовольная, что ее потревожили, сказала капризно: — Что у тебя, пожар? Попозже не мог позвонить? — Не мог. У нас действительно пожар, — сухо ответил Зубров и сразу спросил: — Где Фомич? — В командировке в Киеве. Зачем он тебе? Тушить пожар? Это занятие не по его профилю. — Пожалуй, ты сможешь его заменить. Нам нужно немедленно встретиться. Это очень важно. Понимаешь? Очень-очень… Дело чрезвычайное. Только теперь Наталья Максимовна окончательно проснулась и вспомнила, что на сегодня она приглашена на улицу Белинского к следователю. Приглашение пришло еще вчера, оно удивило и озадачило Наталью Максимовну. Она пыталась дозвониться до Зуброва, спросить у него — может, он знает, зачем она понадобилась следователю. Но Зуброва на работе не оказалось, а домой она звонить не решилась. Ранний звонок его был кстати и для Натальи Максимовны. Встреча с Зубровым была желанной, но она все же попыталась пошутить: — Зачем ворошить прошлое? — Сейчас нам не до шуток, Наташа! — озлился Зубров. — Немедленно назначай время и место свидания. — Хорошо, — согласилась Наталья Максимовна. — Приезжай ко мне ровно в двенадцать. В час у меня деловое свидание. В половине первого я должна буду уходить. Она лукавила: встреча с Добросклонцевым была назначена на четыре часа. Но Зуброва вполне устраивали и полчаса, да и пятнадцати минут ему хватит, чтобы изложить суть дела и проинструктировать ее, как вести себя в сложившейся обстановке. Уже с первой минуты по осунувшемуся лицу Зуброва она поняла, что произошло нечто чрезвычайно неприятное. Не дожидаясь ее вопросов, он, как только вошли в гостиную, тяжело опустился в кресло. Наталья Максимовна села на диван. — Я прошу тебя — выслушай меня внимательно и отнесись к нашему разговору серьезно, — начал Зубров. Глаза его рассеянно бегали по комнате, не задерживаясь на предметах, дрожащей рукой он машинально схватил лежащую на столике расческу и стал вертеть ее. — Наш общий знакомый Ипполит Исаевич погряз в каких-то уголовных авантюрах. Вообще он оказался не тем, за кого мы его принимали. Неожиданно голос его сорвался, и Зубров умолк. Возникла напряженная пауза. Наталья Максимовна никогда не видела Михаила Михайловича таким взволнованным. Бывали случаи, когда он спорил, волновался, но то волнение было обычным, привычным. Здесь же за всеми его словами был страх, паническое смятение. Он, казалось, силился продолжить внезапно оборвавшуюся речь и не мог: губы его словно судорогой свело. — Ну? Что дальше! — почти крикнула Наталья Максимовна, и этот возглас ее подстегнул Зуброва, вывел из оцепенения. — Ипполит провалился на алмазах, которые покупал у вас — у тебя и Антона. Понимаешь?! Если на следствии Ипполит назовет источник получения алмазов, вы с Антоном должны решительно все отрицать. Отрицать категорично: никаких алмазов Пришельцу вы не давали ни за деньги, ни даром. Никаких. И вообще с ним незнакомы. — Так оно и есть, — Наталья Максимовна была готова поверить в спасительную ложь. — И я у тебя никаких алмазов не покупал! — Она понимающе кивнула. — Наше знакомство шапочное. Никакого юбилея у меня на даче не было. Понимаешь? Люба дура, проболталась о юбилее, назвала, кто там был. Дура, конечно. Теперь придется переиграть, ничего не было. Никаких пришельцев и так далее я не знаю. В этом «и так далее» Наталья Максимовна уловила нечто обидное и оскорбительное: выходит, он открещивается и от нее. — А при чем тут юбилей? — спросила с недоумением. — Зачем лишняя ложь? Там же был не один Пришелец, были и прокурор, и ответственный товарищ Земцев. Они что, тоже будут отрицать твой юбилей? Я ничего не понимаю, — она встала. — Сегодня меня приглашают к следователю. Я всю ночь ломала голову — по какому делу. Теперь кое-что прояснилось. Именно кое-что. — А что тебе еще непонятно, ну что? — Зубров начинал терять терпение, видя, что Наталья Максимовна делает вид, а может, и действительно не сознает всей степени опасности, нависшей над ними. — Непонятно, кто собирался у тебя на даче — честные люди или преступники? Что ж, о них и говорить нельзя? — Ну зачем же так все переворачивать, извращать, — в болезненном исступлении выдавил из себя Зубров. — Все очень просто: юбилеи сейчас не в моде, не поощряются, тем более сорок лет вообще не считается юбилеем. И потом, этот Ипполит, проходимец, уголовник, наше с ним знакомство может быть истолковано… зачем тебе, вам или Земцеву быть в дружбе с каким-то подонком… За всеми его словами Наталья Максимовна увидела вдруг жалкого растерянного человека, потерявшего почву под ногами, и мысленно спрашивала: где твоя былая осанка, мужество и самоуверенность, куда девалась твоя непоколебимая выдержка, Зубров? — Дело очень серьезное, его можно повернуть в ту ив другую сторону. Все зависит от нашего поведения, от поведения Ипполита в первую очередь и не в последнюю от показаний Антона и… — Зубров поднял на Наталью Максимовну печальный умоляющий взгляд, — от твоей беседы с Добросклонцевым. Надеюсь на твой ум, твою смекалку, твой твердый характер. Держись одной линии. Главное поменьше слов. «Да», «нет», «не знаю». Никаких алмазов. Выдумки Пришельца, провокация, чьи-то злобные происки, и так далее. Он поднялся, бледный, осунувшийся, потерянный. — Поимей в виду на всякий случай: может быть и обыск. Особенно бриллианты и желтый металл. Ну и прочие сбережения. Сама понимаешь — ты женщина достаточно умная. — Ты мне льстишь, Зубров. Дура я, набитая наивная дура. Ах, да что теперь об этом, раньше надо было думать. Между прочим, ты не помнишь, кто меня познакомил с Пришельцем? Кто мне представил его как выдающегося, знаменитого?.. — Помню, помню. Не разглядел, виноват, каюсь, — торопливой скороговоркой пробормотал Зубров. — На ошибках учимся. Но главное — не совершить новых ошибок. Об одном прошу — будь благоразумна. Проводив Зуброва, Наталья Максимовна устало прилегла на тахту и погрузилась в тягостные думы. Больше всего ее поразил Зубров, растерянный, напуганный и жалкий, тот самый Зубров, которого она когда-то по-своему любила за твердость характера, самоуверенность и целеустремленность. Она видела в нем настоящего мужчину. И такое превращение. И сразу ей вспомнился Земцев. «Маска, тоже маска». И Пришелец — маска. И Малярчик. Сплошные маски. А где же люди? Есть же люди, настоящие, честные, порядочные, у которых возвышенные души и чистая совесть. И вдруг явился вопрос: а может, и я — маска? Сегодня пойду к следователю, надену на себя маску и буду лгать, нагло, цинично, не краснея. А зачем, во имя чего лгать? Чтоб утаить правду, неприятную, грязную. Во спасение жалкого, перепуганного, ничтожного Зуброва. А нужно ли его спасать? Но не только его, и Антона, и себя… Будет обыск. Что будут искать? Золото, бриллианты, деньги. Ну и пусть ищут, пусть забирают все, весь этот хлам… Она не заметила, как уснула: сказалась бессонная ночь. Разбудил ее телефонный звонок. Она посмотрела на часы — было без четверти три. Пора было ехать к следователю, времени осталось в обрез. Вначале не хотела подходить к телефону, но потом взяла трубку. — Алло, я слушаю… — Вы заболели? У вас такой голос. Что с вами? — с поддельным участием спросил Пришелец, забыв поздороваться. — Я спала, — недовольно ответила Наталья Максимовна и пожалела о своем признании. — Ну, слава богу. А Фомич?.. — Пришелец запнулся — Что Фомич? — переспросила Наталья Максимовна. — Его нет дома? — В командировке он, в Киеве. — Очаровательная Наталья Максимовна, — со слащавой фамильярностью заговорил Пришелец. — Прошу у вас аудиенции. Всего на полчаса. Жизненно необходимо.  «Ага, и этот будет инструктировать, давать советы. Зашевелились, жареным запахло», — с неприязнью подумала Наталья Максимовна и сказала: — Спасибо, что разбудили, я должна срочно выехать на свидание. Могла опоздать. — Наталья Максимовна, золотце, солнышко — всего тридцать минут. — Не могу, опаздываю. В другой раз. — Нужно сегодня, только сегодня, — умоляюще настаивал Пришелец. — Тогда вечером. Не раньше семи часов. — Согласен. В девятнадцать ноль-ноль с вашего позволения я буду у вас. — Хорошо. Приезжайте к семи. ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 1 У Добросклонцева было двойственное состояние, с одной стороны, дело о кулоне распутывалось стремительно, открывая все новые, помогающие следствию детали. Бриллиантовый кулон у Пришельца — это важный в деле факт. Но еще более существенный факт — участие Пришельца в подмене колец в ювелирном магазине. Выходит, Ипполит Исаевич большой любитель «камешков». Сейчас Добросклонцева занимал вопрос: где тот источник, из которого Пришелец черпал фианиты? Вопрос пока оставался без ответа. Многое могли прояснить те, кто был на юбилее Зуброва. Но из всей компании, присутствовавшей на дне рождения, Добросклонцев нашел возможным поговорить лишь с Ященко. Поскольку Антон Фомич оказался в командировке, решили пригласить его жену. Юрий Иванович попросил Тоню присутствовать при беседе с Ященко и при необходимости принять участие в разговоре. Наталья Максимовна явилась точно в назначенное время. Пока не пришла Миронова, Юрий Иванович предложил Наталье Максимовне сесть и обыденно спросил: — Душно на улице? К дождю парит. — Хорошо бы. Только не похоже, ни одной тучки, — вяло поддержала его Наталья Максимовна. — Наталья Максимовна, мы пригласили вас в качестве свидетельницы в связи с уголовным делом, по которому проходит один ваш знакомый, — перешел Добросклонцев на официальный тон. — Я позволю себе задать вам несколько вопросов. — Пожалуйста, — вполголоса проговорила Наталья Максимовна. — Вы давно знакомы с Ипполитом Исаевичем Пришельцем? — Как вам сказать — не очень. — Каков характер ваших отношений? Деловые, служебные, дружеские? Она не успела ответить: в кабинет вошла Тоня, и Добросклонцев представил их друг другу. Женщины обменялись легкими кивками. — Какие там отношения, когда и знакомство-то наше можно назвать шапошным, — ответила Наталья Максимовна на поставленный вопрос и прикрыла подолом обнажившееся колено. — Когда и как состоялось ваше знакомство? — с ходу включилась в разговор Тоня. Ященко недовольным взглядом задела Миронову, пожала плечами и ответила, глядя на Добросклонцева: — Право, не помню. А разве это имеет значение? — Да, для следствия все имеет значение, — сказала Тоня. — Дело в том, что ваш знакомый гражданин Пришелец — уголовный преступник. Он подозревается в тягчайших преступлениях, — пояснил Добросклонцев. — Только подозревается? — Да. Но подозрения опираются на неопровержимые улики, — пояснила Миронова. — Вот не думала. — Наталья Максимовна изумленно повела бровью. — Не думали? Значит, хорошо знаете Пришельца? — спросил Добросклонцев. Этот прямой вопрос несколько смутил Ященко. — Я слишком мало знаю его, но тягчайшее преступление и человек с виду интеллигентный, образованный как-то не вяжутся… Если не секрет, какое преступление он совершил? — Не секрет, — поспешил опередить Тоню Добросклонцев. У него был свой план беседы. — За ним числится не одно, а несколько тяжких преступлений. Повторяю, тяжких. Наталья Максимовна действительно была ошеломлена. Она растерянно посмотрела на Тоню, потом перевела взгляд на Добросклонцева, спросила осевшим голосом: — Это правда? Это достоверно?.. — Да, — подтвердил Добросклонцев. — Никак не укладывается… — вполголоса обронила Ященко. — Совершенно верно, — согласился Юрий Иванович. — Однако вы не ответили на вопрос: где, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Пришельцем? Наталья Максимовна совсем забыла об «инструкциях» Зуброва и ответила машинально: — Кажется, в ресторане. Мы были с мужем и одним нашим приятелем. Там случайно оказался Ипполит Исаевич, и нас познакомили. — Познакомил ваш приятель? — уточнил Добросклонцев. — Кто он? Фамилия? — добавила Тоня. — Один человек, — Наталья Максимовна запнулась, вспомнив последний разговор с Зубровым. — Зубров Михаил Михайлович? — спросила Тоня. — Да, — кивнула изумленная Наталья Максимовна. — Он тоже в чем-то подозревается? — сорвалось у нее помимо воли. — В каких отношениях Пришелец с Зубровым? — уклонился от ответа Добросклонцев. — Не знаю. — А вы с Зубровым? Друзья? — Наталья Максимовна растерялась. Она решила, что с этого вопроса и начинается главный разговор, ради которого ее сюда пригласили. «Не надо быть лапшой вроде Любови Викторовны. Возьми себя в руки», — мысленно приказала она себе и произнесла с вызовом: — Это допрос? — Да, — мягко сказал Добросклонцев. — Мы вправе рассчитывать на вашу искренность и откровенность. Это прежде всего в ваших интересах. Я надеюсь, что встречаемся мы с вами не в последний раз, и было бы очень огорчительно, если бы потом, в будущем, вам пришлось менять свои показания. Лучше сразу говорить правду. Лично я не люблю притворства, а тем более не терплю лжи. Только сегодня утром в следственном изоляторе один обвиняемый, кстати, по делу Пришельца, давал Антонине Николаевне совершенно новые показания, отрекшись от прежних, лживых. Его первые показания были опровергнуты, и ему ничего не оставалось как с опозданием говорить правду. В его интересах было сразу, на первом допросе, набраться мужества и проявить откровенность. По опыту мы знаем: когда человек врет, он обязательно путается, попадает впросак, потом стыдится и начинает говорить правду. Суд все это учитывает. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Но мы отвлеклись, извините. — Вы знакомы с женой Зуброва? — без паузы спросила Тоня. — Да, правда, видела ее всего один раз. Симпатичная милая женщина. — Когда, где это знакомство произошло? — На даче у Зуброва. Недавно. У Михаила Михайловича был день рождения, и мы с мужем были приглашены. — В числе немногих близких друзей? — Кто еще там был? — Внешторговый деятель Земцев, какой-то прокурор с женой, Ипполит Исаевич и брат Зуброва, колхозник из Белоруссии. — Имя прокурора не помните? — опять Добросклонцев. — Петр Михайлович Малярчук. — Малярчик, — поправила Тоня. — Возможно, — согласилась Наталья Максимовна. — Я видела единственный раз. — А когда в последний раз вы видели Пришельца? — Сегодня… — Наталья Максимовна осеклась. — Он звонил мне по телефону. — О чем говорил? — Просил о встрече. — Где, когда? — Сегодня, в семь вечера у меня дома. Добросклонцев и Тоня обменялись взглядами, в которых Наталья Максимовна не могла не заметить торжества. И все поняла: Пришелец будет арестован в ее квартире. И удивилась своему спокойствию, даже равнодушию. Пусть, так ему и надо. Теперь она догадывалась, что впереди ее ждут неприятности («…встречаемся мы с вами не в последний раз», — сказал Добросклонцев. «…Может быть и обыск. Особенно бриллианты и желтый металл», — предупреждал Зубров.) Источник неприятностей — Пришелец. А возможно, и Зубров: он познакомил со своим приятелем Ипполитом Исаевичем. Друзья… Скажи мне, кто твой друг… Мысли проносились вихрем. Нет, она не станет никого щадить, ни Пришельца, ни Зуброва. Она будет думать только о себе. 2 Добросклонцев вместе с Мироновой приехали в следственный изолятор утром на другой день после ареста Пришельца на квартире Ященко. Перед встречей с Ипполитом Исаевичем они обсуждали тактику допроса: преступник опытный, будет всячески изворачиваться. Ипполит Исаевич вошел в комнату следователей в сопровождении конвоира и, едва переступив порог, сказал с наигранной веселостью: — Ба, знакомые все лица! — Доброе утро, Ипполит Исаевич, — улыбнулся Добросклонцев и кивком предложил садиться. — Как спалось в чужой квартире? — Благодарю за внимание, как сказал посол дружественной страны, закончив свое выступление перед телезрителями. — Пришелец нехотя опустился на табурет, привинченный к полу. — Будем считать, что и вы закончили свою деятельность, несовместимую с законом, — негромко проговорила Миронова. Ее реплика вызвала кислую гримасу на сером осунувшемся лице Ипполита Исаевича. Но он возразил с наигранной развязностью: — Я вижу, сама мадам живет не в ладу с законами, а потому и других подозревает в беззаконии… — Кто живет не в ладу с законами, это мы сейчас выясним, продолжив наш с вами разговор, начатый весной на вашей квартире, из которой вы почему-то сбежали, — перебил его Добросклонцев. — Почему именно — нас тоже интересует. Итак, в прошлый раз, если вы помните, я просил вас помочь нам найти бриллиантовый кулон, принадлежащий гражданину Норкину Илье Марковичу, а заодно и его похитителей. Вы не пожелали откликнуться на нашу просьбу и, таким образом, вынудили нас самих заняться розыском, который, как вы догадываетесь, закончился успешно. — Вот как! — в притворном изумлении воскликнул Пришелец. — Поздравляю вас, а еще больше Илью Марковича. — Норкина поздравлять рано, — заметила Тоня. — Это почему же? — насторожился Пришелец. — Наивный вопрос, Ипполит Исаевич: кулон находится у вас, — сказал Добросклонцев. — Вам передал его Анатолий Павлов, в чем признался, сидя на том же табурете, на котором сидите вы. Пришелец помрачнел, закусив губу, чтобы не выдать своего состояния: сообщение Добросклонцева для него было неожиданным. Он не думал, что Павлов «расколется», по крайней мере так быстро. — На этом табурете. Значит, Павлов арестован? Ловко, хотя и грубо. Арестованный Павлов наговорит все, что от него потребует следователь, да еще и сам прибавит. Фантазии ему не занимать. — Вы отрицаете, что Анатолий Павлов по вашей просьбе похитил у своей жены Беллы Ильиничны Норкиной бриллиантовый кулон и передал его вам? — Отрицаю решительно и протестую! Я возмущен гнусной запрограммированной ложью. Чушь какая-то. Похоже, что Ипполит Исаевич начинал терять самообладание. — Запрограммированная ложь. Это что-то новое, — вслух размышлял Добросклонцев. Он предполагал, что Пришелец будет отрицать решительно все. — Что ж, очная ставка покажет, где чушь, а где незапрограммированная правда. — Ничего не покажет и ничего вам не даст, — затряс головой Пришелец. — Ради чего я стану подтверждать дикий бред какого-то паршивого ублюдка? — Выбирайте слова, — не сдержалась Тоня. — Зачем так оскорблять человека, услугами которого вы пользовались в своей преступной деятельности?.. Нехорошо, неблагородно, Ипполит Исаевич. В глазах Пришельца появился злой блеск. — Я отказываюсь отвечать на вопросы в присутствии этой… агрессивной дамы, — отрубил он. — Почему? — спросил Добросклонцев. — Если вам угодно, можете считать меня женоненавистником. — Пришелец скривился иронически. — Давайте все-таки вернемся к бриллиантовому кулону, — продолжил допрос Добросклонцев. — При обыске на вашей квартире его не оказалось. Не могли бы вы сообщить следствию, где сейчас находится вещь, принадлежащая семье Норкиных? — Я уже сказал и могу только повторить: я отказываюсь отвечать на вопросы в присутствии этой дамы. — Вы хотите сказать, следователя Мироновой? — уточнил Добросклонцев и обменялся взглядом с Тоней. Глаза Юрия Ивановича говорили: придется уступить. Спросил: — Как, Антонина Николаевна, удовлетворим просьбу Ипполита Исаевича? — У меня тоже нет особого желания беседовать с гражданином Пришельцем, — ответила Тоня. Добросклонцев кивнул, и она вышла. — Итак, где кулон, как, впрочем, и другие вещи из вашей квартиры? — продолжил Добросклонцев довольно миролюбивым тоном. — Я уже сказал: о кулоне мне ничего неизвестно. Часть своих личных вещей, в том числе и предметы мебели, я продал, на что имею полное право. — Да, это ваше право. Но какая же нужда заставила вас распродавать вещи? — Я решил эмигрировать. Разумеется, легальным путем. Меня пригласил родной брат Михаил. Он живет в Австралии. Прислал вызов, и я направил необходимые бумаги в ОВИР. «Странно, — подумал Добросклонцев. — Несколько дней тому назад Ушанов заезжал в ОВИР, и ему сообщили, что Пришелец к ним не обращался». Уточнил: — Когда? — Недавно. — А именно? Неделю тому назад или месяц? «Справлялись», — догадался Ипполит Исаевич. — Позавчера. — А кулон решили увезти с собой в Австралию? — Юрий Иванович, мы с вами не дети, — с досадой проговорил Пришелец. — Я предпочитаю серьезный разговор. — Я тоже: серьезный, искренний, чистосердечный. Всякое запирательство, как вы понимаете, бессмысленно. Что же касается кулона, то с ним в общем все ясно. А сейчас мне бы хотелось знать, где находятся бриллиантовые кольца, подмененные вами на фианитовые в ювелирном магазине? Я понимаю: мой вопрос не из приятных, но что поделаешь — служба. Пришелец побледнел — терпение и выдержка изменили ему. — Понятно… — Ипполит Исаевич, чтобы не выдать своего волнения, уставился в пол. — Хотите навесить мне уголовщину. Что ж, прием избитый. — Что верно, то верно: прием довольно затасканный, когда уголовник напяливает на себя маску политического. Но, насколько мне известно, политика вас никогда не интересовала. Ваше амплуа — бизнес. Не так ли, Ипполит Исаевич? — Во-первых, бизнес, то есть частное предпринимательство, не есть преступление. Во-вторых, в каждом человеке живет частник, предприниматель. Только способности к предпринимательству у всех разные. Есть талантливые, есть посредственные, а есть просто бездарные. Вот они-то, последние, и прикрывают свою бездарность разной идеологической мишурой. Неудачники всегда были завистливыми. Зависть делала их злыми и жестокими. Они мстят и преследуют преуспевающих, попросту — талантливых. Они строят из себя святош-моралистов. — Ипполит Исаевич, давайте вернемся к началу, — прервал демагогические излияния Добросклонцев. — Вы сказали, что вам хотят пришить уголовщину, то есть сделать без вины виноватым. А зачем, кому это нужно? — Вам не нравится мой образ мыслей. — Не столько образ мыслей, сколько образ жизни, поступки, порожденные образом мыслей. — Юрий Иванович, вы судите о поступках со своих позиций и потому осуждаете инакомыслящих. Мы с вами инакомыслящие. Мне претит ваш образ мышления, но я же вас не осуждаю и не преследую. Фраза эта вызвала у Добросклонцева ироническую ухмылку. — О ваших поступках, Ипполит Исаевич, мы судим с позиций законов нашего общества, законов, которые обязан соблюдать каждый член общества, — сказал он. — Законы. Их создают тоже люди. И почему я должен верить, что сами законодатели непогрешимы? Недаром говорят: закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Любой закон ограничивает свободу, ту самую, к которой человек стремился с того самого дня, когда осознал себя высшим существом. Человек жаждет свободы в своих мыслях и поступках. Для человека в этом мире высшая ценность он сам. Да, да, не спорьте, Юрий Иванович, вы тоже так думаете. И все так думают, все хотят жить в свое удовольствие, все хотят наслаждений и, в этом видят счастье. Только одни этого не скрывают, не, стыдятся, и за это их преследуют. Человек по своей природе эгоист. Мне нет дела до других. Пусть каждый сам думает о себе… Выпалив всю эту тираду залпом, на одном дыхании, Пришелец утомленно приумолк. Воспользовавшись паузой, Добросклонцев сказал: — Итак, если я правильно вас понял, вы считаете, что счастье в удовольствии и наслаждении, и в этом мы с вами расходимся. — Правильно, — торопливо подхватил Пришелец. — А позвольте полюбопытствовать, в чем вы видите свое счастье, в чем смысл вашей жизни? — Делать добро людям, обществу. Отечеству. Очищать жизнь от всякой нечисти, от тех, кто творит зло. — О-о, как возвышенно! — иронически воскликнул Пришелец, закатив глаза. — Посадили за решетку невинного и радуетесь, счастливы, довольны. — Доволен. Одним преступником будет меньше. — Преступление, зло. — Пришелец вздохнул и снова заговорил, глядя в пространство: — Великий сын Америки Уолт Уитмен писал: «Не вам одним известно, что значит зло, я тоже завязывал старый узел противоречий, я болтал и смущался, крал и завидовал, я был похотлив, коварен и вспыльчив, — мне стыдно сказать, какие таил я желания, я был капризен, тщеславен, жаден, я был пустозвон, лицемер, зложелатель и трус, и волк, и свинья, и змея — от них и во мне было многое, обманчивый взгляд, скабрезная речь, прелюбодейные мысли — всем этим грешил и я сам, упрямство, ненависть, лень, надменность и даже подлость — во всем этом был я повинен». Он продекламировал Уитмена с заученным вдохновением, и Добросклонцев решил, что это был его любимый монолог, которым он щеголял в дружеских компаниях. Возможно, даже на даче Зуброва в день рождения. С торжеством победителя в голосе Пришелец заключил: — Исповедь классика, откровенная, искренняя, и никто его за это не судит. Если хотите — это философия свободной личности» и я ее разделяю, для меня она — своего рода молитва, потому что, как сказал товарищ Карл Маркс, ничто человеческое мне не чуждо. — К несчастью, вам не чуждо и нечеловеческое, животные инстинкты, — сказал Добросклонцев. Он не читал Уитмена и потому не мог спорить со своим бойким на язык оппонентом и, оставляя в стороне американского классика, продолжил: — И свои преступления вы пытаетесь прикрыть произвольно выхваченными цитатами. Хочу понять вашу «философию», Ипполит Исаевич, уже не как следователь, а просто по-человечески. Фактически вы проповедуете высшим идеалом для человека жизнь брюха и совершенно отрицаете жизнь духа со всеми ее нравственными, этическими и эстетическими проявлениями. — Боюсь, что вы не поймете. Дело в том, что мы говорим с вами на разных языках. Я повторяюсь: мы — инакомыслящие. У каждого человека свое представление о счастье, и это хорошо, в этом состоит многообразие жизни. Один любит парное молоко, другой живых устриц, и обязательно с писком. Что в этом преступного? Одни мечтают о Золотых Звездах Героя и лауреатских медалях. А мне лично они даром не нужны. Я предпочитаю золото в чистом виде. — Неважно — жидкое или твердое, — заметил Добросклонцев, на что Ипполит Исаевич лишь недовольно поморщился; он оживился и теперь уже не мог остановиться: — Одни мечтают о посмертной славе, а мне она до лампочки, я не верю в загробную жизнь, и мне не нужны памятники ни из бронзы, ни даже из чистого золота. Я хочу удовольствия при жизни, теперь, сегодня. В этом мире единственная для меня ценность — это я. Эгоизм? Назовите, как хотите. И между прочим, я не исключение, так думают многие сильные мира сего, увенчанные лаврами, звездами и почестями: президенты, министры, банкиры, академики, художники. Им и мне также наплевать, что думают о них современники и что скажут потомки. Скажите, вас очень обрадует, если вдруг вам сообщат, что где-то во Вселенной на обитаемой планете воздвигнут ваш монумент из чистого золота пятиметровой высоты? — Добросклонцев ответил вялой улыбкой, и Пришелец продолжал с прежним запалом: — А мне наплевать на монументы. Мне нужен чистоган, потому что в деньгах, только в них, реальная власть, и сила, и радость, и ключ к наслаждениям. — Ну а власть вам зачем? — Это моя слабость, — развел руками Пришелец, — люблю, чтоб вокруг меня были лакеи. Приятно повелевать, чувствовать свое превосходство над этими тварями, двуногими козявками, люблю смотреть, как они пресмыкаются, унижаются, как они за четвертной продаются и покупаются… Отвратительные твари, а вот их вы почему-то не судите. — Ну что ж, поговорили… А теперь оставим теоретический диспут и вернемся к делу, к вашему делу, — остановил поток красноречия Добросклонцев. — Ведь вы поклонник не только желтого металла, но и алмазов, или «камешков», по вашей терминологии. Так вот, вернемся к «камешкам». Своей дочери Альбине вы подарили золотое колечко с фианитом. Где вы его взяли? Пришелец ответил не сразу, помрачнел. — Что касается фианитового кольца… Я действительно подарил его Але. — Где вы его взяли? — Купил по случаю. — У кого? — У одного знакомого. Он перед отъездом в эмиграцию распродавал свое имущество. — Я не спрашиваю фамилию этого мифического эмигранта, вы можете назвать мне десятки фамилий, вы однажды уже пользовались этим нехитрым приемом — я имею в виду аферу со спекуляцией иконами. Тогда именно этот прием помог вам выйти сухим из воды. Сейчас ситуация иная, вы умный человек и, надо полагать, понимаете, что на этот раз ссылка на эмигранта вам не поможет. Но меня интересует вот какой вопрос: зачем вы покупали дамское колечко, для кого? Не для Альбины, о существовании которой вы даже не подозревали и о возможной встрече с ней и думать не могли. — Извините меня, Юрий Иванович, но вопрос ваш риторичен и несколько наивен. Я уже говорил: я люблю наслаждения, люблю женщин, а женщины любят внимание, материальное, разумеется. За любовь надо платить. — Но вы же объявили себя женоненавистником. — Это было сказано по конкретному случаю и относилось персонально к конкретной особе — Мироновой, с которой у нас давние антипатии. — Логично, Ипполит Исаевич, логично. Только ведь фианитовый алмаз подаренного вами колечка гранил Алексей Соколов. Свою работу он хорошо знает. Кстати, вы давали ему для огранки не один «камешек». Где вы их брали? У Пришельца потемнело в глазах. Он ко всему себя готовил, к разным, даже самым неожиданным и каверзным вопросам, и на все у него был продуман и предусмотрен ответ. На деле же все пошло не так, как предполагалось. И ему оставалось теперь уже твердо держаться сомнительных версий, в успех которых он все меньше верил. Но выбора не было, и он через силу ответил: — Никаких алмазов никакому Соколову я не передавал. И знать не знаю никакого Соколова. — Ну как же, Ипполит Исаевич, банщик Алексей Соколов, который усердно обрабатывал ваше бренное тело березовым веником, услужливо сервировал стол в предбаннике. Вспомните кандидата технических наук. Это он научил вас превращать жидкое золото в твердое. — Я знаю банщика Алешу. Фамилия его меня не интересовала. И повторяю: никаких ни золотых, ни алмазных дел ни с ним, ни с кем-либо другим я не имел. Все, что вы пытаетесь мне приписать, сфабриковано вами, чтоб расправиться со мной потому, что решил уехать в Австралию. Сейчас я отказываюсь отвечать на ваши вопросы и предупреждаю, что подам официальный письменный протест прокурору. Я знаю свои права, гарантированные законом. Имейте в виду, Юрий Иванович, расправа надо мной получит широкую огласку и вызовет протест международной общественности. Для вас лично это может иметь далеко идущие последствия, для вашей служебной карьеры, — пригрозил Пришелец. Монолог Пришельца вызвал на лице Добросклонцева легкую улыбку. Погасив ее, Юрий Иванович сказал с прежним уравновешенным спокойствием: — О своей служебной карьере я как-то никогда не задумывался и едва ли задумаюсь после вашего напоминания. Не думаю, что у международной общественности нет других забот, как только заниматься судьбой профессиональных уголовников. Международная общественность — имеется в виду настоящая, а не клика отщепенцев из разных радиоголосов и подголосков — сейчас обеспокоена судьбой мира, предотвращением ядерной катастрофы. Впрочем, вас это не волнует. Ну а что касается законов, то на ваши права никто не покушается, тем более что вы являетесь гражданином СССР даже вопреки вашему желанию. Так что нам с вами остается лишь оформить сейчас протоколом то, о чем мы говорили, записать то, что вы признаете и что решительно отвергаете, и на этом на сегодня прервать нашу встречу. Улыбка Добросклонцева обезоруживала Пришельца. В ответ он не проронил ни слова и молча наблюдал, как следователь, склонясь над столом, пишет протокол. Наблюдал и думал, думал о своей судьбе, нанесшей ему сокрушительный удар. Его разгоряченный мозг лихорадочно отсеивал ненужное, мелочи и оставлял только главное, что составит основу обвинения и что трудно будет опровергнуть, да, пожалуй, и невозможно. Он вспоминал статьи и минимальные сроки, предусмотренные этими статьями. Все равно получалось слишком много, на грани между пятнадцатью годами строгого режима и высшей мерой. «Нет-нет, только не вышка», — мысленно повторял он, ощущая холодную дрожь во всем теле. Положение казалось безвыходным, и все же он утешал себя тем, что с помощью друзей ему удастся свести срок годам к семи, самое большее к десяти, а там он уже — опять же через друзей — добьется досрочного освобождения. А сейчас прежде всего нельзя все пускать на самотек. Он считал, был в этом убежден, что все можно уладить в процессе следствия. Так и рассчитывал, даже надеялся. Его люди пытались подобрать ключ к Добросклонцеву и Мироновой. Получилась осечка. Возможно, действовали грубо: Полушубок — баба отчаянная, наглая, но без фантазии. К таким людям, как Добросклонцев, нужен тонкий подход, если вообще он возможен. Ипполит Исаевич мерил всех людей своим аршином и считал, что неподкупных, честных и принципиальных в природе не бывает. Все дело в подходе. Тем не менее для Добросклонцева он готов был сделать исключение. Таких людей он просто остерегался, ибо не мог их понять, не укладывались они в его мерки. Внешне прост, корректен, обходителен, проницателен и умен. Уравновешен, сдержан, удивительно хладнокровен, при этом не лишен чувства юмора. Знает себе цену, твердо стоит на ногах. Такого не столкнешь. Этот орешек не по зубам не только Полушубку и Шубу, а пожалуй, и самому Ипполиту Исаевичу. А мысль торопится. Конечно, Земцев мог бы помочь, да и Малярчик тоже. Но надо же — как на беду — оба оказались в эти критические для Пришельца дни за пределами страны. Говорят же: закон подлости. Вот он — в чистом виде. Надо их дождаться, затянуть следствие под разными предлогами, выиграть время. На Зуброва мало надежд. Болтун и трус. Сказал, что Павлова нейтрализует, уверял. А Павлов раскололся, гаденыш. Собственными руками удушил бы ублюдка. Кто еще, на кого можно опереться?.. Есть знакомые деятели, но они хороши, когда ты на коне. Упавших из седла поднимать не станут, пройдут мимо, сделают вид, что не знакомы. «Пришелец? Это кто такой? Впервые слышу». Сволочи. Накануне своего ареста Пришелец встречался с бывшей любовницей Павлова — Маркиной. Сам навязался — позвонил домой по телефону, назвался покровителем Анатолия, сказал, что Толя попал в беду. Встревоженная Маркина, в сердце которой все еще теплились нежные воспоминания, пригласила Пришельца приехать к ней и рассказать, что случилось. Ипполит Исаевич наскоро придумал не очень убедительную легенду, говорил, что Павлов страдает из-за него, Пришельца, пожелавшего уехать к брату в Австралию. Павлов, мол, арестован только затем, чтобы сфабриковать материалы, компрометирующие покровителя. Он прощупывал знакомства Маркиной в городском суде и прокуратуре, рассчитывал на ее помощь. Встречался Ипполит Исаевич и с сыном Малярчика. Отпрыск заверил Ипполита Исаевича, что папа и особенно мама сделают все от них зависящее, чтоб прекратить дело и наказать тех, кто его затеял. «Для нас это не вопрос. Тут нет проблем», — прихвастнул молодой Малярчик, но Пришелец не очень доверял хвастливым заверениям самоуверенного юнца и понимал, что проблема есть, и довольно сложная. Он снова мысленно повторил навязавшуюся цифру — десять лет — и поспешно разделил ее пополам. Пять лет его тоже не совсем устраивали, но это не пятнадцать! И снова, словно росчерк молнии, пронзила мысль: а если вышка? Он чувствовал, как лютая ненависть переполняет его, подступает к горлу и давит, душит мертвой хваткой. «Посчитаемся, — думал он, глядя на склонившегося над столом Добросклонцева. — Даром тебе это не пройдет. Поплатишься. Не хотел по-хорошему… Всех не арестуешь. Есть кому получить с тебя должок. Ох и наплачешься. Тебя предупреждали. Пришелец слов на ветер не бросает. Ты не знаком с Библией, Добросклонцев, с Ветхим заветом, но ты еще узнаешь библейскую месть». Мысль о мести воодушевила Пришельца. Он уже представил себе конкретно, какая страшная кара будет ниспослана на семью Добросклонцевых и какие жуткие муки всем членам семьи придется испытать. И на душе у него полегчало. Он даже заулыбался своим сатанинским мыслям. Как вдруг голос Добросклонцева вернул его к действительности: — Пожалуйста, Ипполит Исаевич, прочтите и распишитесь. 3 Выиграть время, дождаться возвращения из-за рубежа Земцева и Малярчика — эта мысль стала для Пришельца главной, определяющей все его действия и поступки. Сначала он все отрицал. И на очных ставках с наглостью закоренелого циника, выказывая искреннее возмущение, кричал в лицо Павлову и Соколову: «Врешь, не было этого, тебя подкупили. Совесть твою купили, продажная тварь!» Потом он разыграл психа, Была экспертиза, и опять очные ставки. На это ушла без малого неделя. Генерал Константинов постоянно находился в курсе следствия, просил Добросклонцева информировать его о всех нюансах дела. Он не забывал, что судьбой Пришельца еще до ареста интересовались ответственные товарищи — Борис Николаевич и Сергей Иванович. Это обстоятельство настораживало, заставляло постоянно быть начеку, требовало осмотрительности. Правда, решительная поддержка секретаря МК придавала уверенности. А все же… Миронова нервничала, возмущалась. Добросклонцев внешне казался спокойным и невозмутимым, тем не менее чувство тревоги и неуверенности одолевало и его. За эти дни удалось установить источник появления фианитов: во второй раз была допрошена Наталья Максимовна, которая не считала нужным что-либо скрывать и никого не выгораживала. Словом, дело, главным действующим лицом которого был Пришелец, находилось в завершающей стадии. На служебном совещании генерал Константинов похвалил Добросклонцева и Миронову за быстроту и оперативность, проявленные в проведении довольно сложной операции. После совещания Юрий Иванович в своем кабинете набрасывал план последних мероприятий по делу Пришельца. Телефонный звонок оторвал его от дела. Добросклонцев услыхал приподнятый голос Константинова. — Юрий Иванович, хорошо, что ты не ушел. Загляни ко мне. — Иду, Василий Кириллович… Константинов был в хорошем настроении. — Так вот, Юрий Иванович, есть довольно любопытные новости. После нашего совещания мне было несколько звонков: из Комитета государственной безопасности, из прокуратуры. Ну прежде всего в Калининграде работники КГБ арестовали приятеля Пришельца Арвида при попытке нелегально уйти за границу на торговом судне. Это раз. Земцев, находясь в загранкомандировке, объявил себя «невозвращенцем», короче говоря, сбежал. Видно, много нашкодил. Это два. Ну а три — вот телеграмма от американского сенатора. Он требует немедленного освобождения правозащитника профессора Пришельца. И еще: «Свобода» и «Голос Америки» уже передали нечто подобное. Матерый уголовник объявлен невинным страдальцем якобы за свое свободомыслие. Это для нас не ново, уже было и, надо полагать, еще будет. Как мне сообщили из министерства, вопрос о Зуброве решается в служебном и партийном порядке. Думаю, что его песенка спета. Итак, поскольку в деле Пришельца появились новые и очень существенные нюансы, делом этим теперь будет заниматься прокуратура. Вы свою задачу успешно выполнили, молодцы… Завтра сам лично отвезешь дело в прокуратуру. Добросклонцев с вниманием выслушал генерала, но когда тот закончил, особого энтузиазма не проявил, насупившись, глядел в окно. — Тебе что-нибудь не ясно? — спросил Константинов. — Ясно-то ясно, Василий Кириллович, — Добросклонцев глубоко вздохнул. — Но ведь в прокуратуре Малярчик… — Был, — поправил его Константинов. — Оформляется на пенсию. — Вот теперь все ясно. Константинов поднялся, встал и Добросклонцев. Зайдя к себе в кабинет, Добросклонцев набрал номер квартирного телефона Мироновой. Телефон молчал. Он посмотрел на часы — да, она еще не доехала до дому. И опять начал медленно перелистывать подшитые в дело документы, хорошо знакомые ему. Он тянул время, ждал, когда Тоня доберется до дома. Снова звонил. Наконец в трубке возник ее тихий усталый голос. — Тонечка, есть приятная новость: дело нами закончено, передается в прокуратуру. — Все понятно, — как-то равнодушно ответила Тоня и вздохнула: — Живем, как на войне. Настоящая битва, и не знаешь, что будет завтра. — Все будет хорошо, Антоша. В битвах бывают и неудачи и поражения. Помнишь, как говорили в прошлую войну: наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Загорск — Пицунда 1979 — 1983 гг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|||||||