 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Нортон Андрэ :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Раззаков Федор :: Станюкович Константин Михайлович :: Грин Александр :: Лесков Николай Семёнович Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: Тюремные дневники :: The Boarding House :: Часы без пружины :: Артур и минипуты :: Три-четыре :: Ифтах и его дочь :: Камероны :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: Сказка про Evil Джека |
Штирлиц (№5) - АльтернативаModernLib.Net / Исторические детективы / Семенов Юлиан Семенович / Альтернатива - Чтение (стр. 13)
— Уж если немец интеллигентен, то он интеллигентен до конца, — сказал Ивановский. Штирлиц молча пожал руки Родыгину и Ивановскому и пошел в другой зал, взглянуть, чем занят Зонненброк. «Пусть собирает подонков, — удовлетворенно подумал он, — пусть собирает старых корнетов и выживших из ума генералов. Ивановский здесь не одинок, и это замечательно, что он не одинок. Очень будет обидно, если мне не поверят дома». * * * — Поехали к Николаенко, — Зонненброк повернулся к шоферу, — это на Медвешчаке; Слесарка, дом семь. Шофер — немец, постоянно живущий в Югославии и завербованный СД еще в тридцать третьем году, — вертанул руль так, словно выкручивал руки врагу. Зонненброк похлопал себя по карману, где лежал список русских эмигрантов. — Мы неплохо поработали, Штирлиц, а? Я, признаться, не ожидал, что улов будет таким интересным. — А что это за Николаенко? Наш человек? — Нет. В том-то и дело, что нет. Им интересуются ученые из «седьмого института» СС. Но меня он сейчас занимает с иной точки зрения. Веезенмайер рвет и мечет, ему срочно понадобились люди из армии. — При чем же здесь Николаенко? — Его дочь замужем за адъютантом здешнего командующего. — Ну, тогда другое дело. А то я не мог понять, зачем нам русская эмиграция. — Эти русские будут работать на нас. Надо было, между прочим, сказать о школах для переводчиц — не подкладывать же в конце концов немок под н у ж н ы х нам красных? — А во имя служения нации? — чуть улыбнулся Штирлиц. — Нельзя портить кровь и мозг. — А мозг-то при чем? — Они же будут что-то чувствовать. А с иностранцами всегда иначе чувствуется, острее, что ли. — У вас язык Петрарки, — сказал Штирлиц. — Каково с эдаким-то языком писать справки? Наверное, начальство ругает за словесные излишества. Нет? — Наоборот. Мои справки зачитывают молодым офицерам как образец: начальство любит элемент таинственного, обожает ужасные подробности и интимные пикантности. — Смотря какое начальство. — Всякое начальство это любит, — убежденно сказал Зонненброк. — Внимательно понаблюдайте за их глазами, когда вы докладываете о какой-либо сложной операции, связанной с ликвидацией или похищением: у них глаза становятся как у детей, которым читают страшную книжку. Между прочим, вы перекусить не хотите, Штирлиц? — Я перехватил бутерброд, сыт. — Ели у русских? Мужественный вы человек. Я не могу. Ничего не могу с собой поделать. Понимаю, что ради дела надо уметь есть дерьмо, но, как доходит до того, чтобы положить в рот хлеб, нарезанный русским, меня выворачивает. * * * Николаенко жил во дворе маленького домика, во флигеле, который летом наверняка утопал в зелени, сейчас вокруг него торчали голые кусты жасмина и сирени с тяжелыми, набухшими уже почками. Комната, которую занимал Николаенко, была крохотной, не повернуться; теснота была ощутимой еще и потому, что повсюду — на столе, подоконнике, стульях и даже на полу — лежали книги, а вдоль по стенам развешаны самодельные клетки с канарейками. Выслушав Зонненброка, Николаенко усадил гостей на маленькую скрипучую тахту и, забормотав что-то странное, рассмеялся, глянув на себя в разбитое зеркало, висевшее над старомодным комодом. Продолжая быстро и путано говорить, Николаенко насыпал корм в резные деревянные блюдечки, укрепленные в каждой клетке. Канарейки у него были диковинные, крупные и до того желтые, что казалось — только что из мастерской химического крашения. Потом внезапно бормотать он перестал, обернулся и другим уже голосом медленно произнес: — Я рад, что на вашей родине меня верно поняли, друзья. Ум германцев настроен на мою проблему точнее, чем все другие умы мира. «Господи, как же мне жаль его, — подумал Штирлиц, глядя на старика в стоптанных шлепанцах и лоснящихся брюках, — как мне жалко всех этих несчастных, живущих вне России… Хотя, попадись я им лет двадцать назад, вздернули бы на первой же осине. Да и сейчас бы вздернули. Трудней им сейчас, удали в руках нет, но вздернули бы. Кряхтя и потея, но вздернули. А мне их жаль, как жаль обреченного, с которым говоришь, зная, что диагноз уже поставлен и медицина бессильна». — Я спрашиваю вас: отчего композитором может быть только мужчина? — без всякой связи говорил Николаенко. — Музыка — это венец творчества, это высшее проявление гениальности, ибо если каждый второй уверен в своей потенциальной возможности написать «Карамазовых» или «Вертера», то на музыку замахиваются лишь полные кретины. Нормальный человек понимает: «Мне это не дано, это удел человека иной духовной конструкции». Так вот, отчего композитор, — спрашиваю я — всегда особь мужского пола? 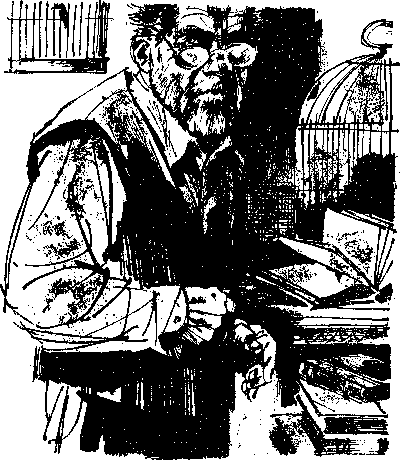 Николаенко оглядел Зонненброка и Штирлица из-под толстых стекол очков, свалившихся на бугристый конец большого носа. Глаза Николаенко показались Штирлицу бездонно голубыми островками донского неба, такими же чистыми и стремительными. — Отвечаю, — продолжал Николаенко торжествующе. — Поскольку у птиц пение присуще лишь самцам и является симптомом полового чувства, у мужчин музыкальный гений — в этом я согласен с Мечниковым — составляет вторичный половой признак, вроде усов и бороды. Но если музыкальный дар прямо связан с половой психикой, то отчего же нам отвергать эту гипотезу в приложении к литературе, живописи, политике, наконец?! — При чем здесь политика? — насупился Зонненброк. — Законы политики питаются иными посылами. — Ну?! — удивился Николаенко. — А, по-вашему, литератор — это не политик? В его голове рождаются кабинеты министров, он выдвигает своих вождей, он дает миру идеи, которые приводят к социальным катаклизмам, он милует или убивает людей — своих героев, вызванных из небытия силой его духа, — он выжимает у вас реакцию сострадания, интереса, ненависти, и вы говорите, что он не политик?! А Бетховен — не политик? Вагнер? Или Глинка? Чайковский? Скрябин? Они больше, чем политики, они провозвестники чувственной идеи нации! «Если бы сейчас Зонненброк сказал, что лишь фюрер — единственный провозвестник чувственной национальной идеи, — подумал Штирлиц, — разговор со стариком можно было бы считать оконченным. Но Зонненброк вещает то, что ему предписано партийным долгом, лишь тем, в ком не заинтересован. Где осталась хоть капля интереса, он сдерживается». Умение слушать — редкостное умение. Как правило, люди склонны слушать себя, даже когда говорит собеседник, «пропуская» его мысли и доводы через себя. Штирлиц научился слушать не вдруг и не сразу. Лишь уверовав в то, что каждый человек — это новый, неведомый мир, который предстоит ему открыть, он приучил себя к тому, чтобы слушать непредубежденно и лишь потом, по прошествии времени, выносить окончательное суждение. Поэтому сейчас, слушая Николаенко, он не торопился считать его слова навязчивым бредом маньяка: «поспешать с промедлением» было вторым качеством Штирлица, которое много раз помогало ему прийти к оптимальному решению после разбора всех возможных вероятий. Он видел и чувствовал, что у Николаенко не сходятся концы с концами в его системе, но тем не менее сама постановка вопроса казалась Штирлицу интересной. Талантливое, став всеобщим, обязано служить той или иной идее. Какой именно? Кто преуспеет первым? На что будет обращен талант как категория создаваемая? Кто станет управлять ею? Во имя каких целей? Отсчет в цепной реакции начинается с единицы, а она так важна, эта отправная единица, так важна… Штирлиц привык впитывать всю поступавшую к нему информацию, всю, ибо только время может определить, какая именно информация будет самой важной. — А чем же — физиологически — объяснить инструмент гениальности? — продолжал Николаенко. — Лишь тем, что возбудитель семенных телец, таинственный и могучий сок простаты, входит во взаимодействие с мозговыми клетками особенно активно, когда на человека воздействует близость прекрасной женщины. Возбуждаемое представлениями половое чувство переходит в эффект творчества! Изящная словесность обезвреживает эти горячие, изнуряющие представления, предлагая творцу выход: строку или музыкальную фразу! Мир находится в смятении оттого, что любовь неуправляема, ибо ученые не поняли скрытого механизма физиологии любви. Платон уверял, что каждый человек — это лишь половина человека; и лишь «мы» — суть «два из одного». Поэтому каждый всю жизнь ищет вторую свою половину, которая и восполнит его тоскующее, одинокое «я». А если не восполнит, если человек так и не осуществит своего идеала в другом человеке, не угадает себя в нем, тогда он сопьется, кончит с собой или же напишет о своем идеале, пропоет его, изваяет. Это относится к творцам, которых единицы. А как быть с теми, кто должен таскать кирпичи и сажать хлеб? Как быть с сотнями миллионов обычных людей? — Как быть с ними? — полюбопытствовал Штирлиц. Николаенко торжествующе потер руки, отошел от клеток с кенарями, которые трещали и свистели на десять голосов, и присел на краешек стола. Зонненброк чуть отодвинулся — от Николаенко разило чесноком. — Очень просто, — сказал он, приблизив свои пляшущие губы к лицу Штирлица. — Все донельзя просто. Надо пойти на жертву. Человек, признанный гением — в любой области творчества, это не суть важно в какой, — должен согласиться на изоляцию от общества. Он должен лечь в специальную клинику. Причем желательно, чтобы этот гений был стариком… Мы должны получить право исследовать механизм работы желез внутренней секреции, которые постоянно рождают таинственные частицы эроса, подстегивающие мозг: «Твори, ибо ты жаждешь!» Мы должны получить право брать посевы будущей гениальности из этих его желез, и тогда мы научимся управлять толпой, подчинив ее созданному нами сверхчеловеку. — Ваше предложение рассмотрено в Берлине, — перебил его Зонненброк. — Мне поручено передать вам приглашение одной из наших клиник. Вы готовы ехать в Берлин? — Хоть сейчас. — Но это может быть неверно воспринято семьей вашей дочери. — Галей? Тином? Что вы? Тин так же верит в германское «рацио», как и я. — Уж не он ли посоветовал вам написать в Берлин? — посмеялся Зонненброк, и по тому, как наигранно он смеялся, Штирлиц понял, что это и есть тот вопрос, который интересовал оберштурмбанфюрера больше всех остальных. — Именно он, — сказал Николаенко. — Да, но отношения между Германией и Югославией сейчас обострились, — продолжал Зонненброк, — впрочем, я убежден, что это ненадолго. Как он отнесется к тому, что вы уедете в рейх? Может быть, устроить все-таки семейный совет? — Знаете что, встретимся сегодня у меня вечером, попозже. Я приглашу Тина и Галю, побеседуем все вместе. — А удобно ли высшему офицеру армии встречаться с иностранцем? — спросил Зонненброк. — Вы же не шпион! Я всегда отделяю для себя политику от народа. Вы же не фашист, вы научный работник из Германии. Повторяю, Германии, а не какого-то рейха! — воскликнул Николаенко. — Нет, нет, пусть вас это не тревожит. Итак, сегодня в семь прошу ко мне. И, коли не шутите, я начну помаленьку собираться… — Поменьше вещей с собой берите, — посоветовал Зонненброк, оглядев еще раз комнату. — В рейхе вам предоставят все необходимое. — А рукописи?! Книги?! Записи бесед?! — Скажите, пожалуйста, господин Николаенко, — негромко спросил Штирлиц, — вы чувствуете в себе силу работать с гением, которого придется изолировать? — Вы прямо будто мои здешние русские оппоненты вопрос ставите. — Николаенко даже головой замотал. — Интонационно так же. Сложный вопрос вы мне задаете. Но я отвечу. Как известно, Сухово-Кобылин — был такой великий русский драматург — просидел два года в крепости по обвинению в убиении любимой женщины. В крепости, заметьте себе. Так, может, вместо того чтобы в крепость, его в клинику? Оскар Уайльд? А? А как Ван-Гог страдал в доме для душевнобольных? Или Ги де Мопассан? Поднять потерянное — вот в чем вопрос. По Чернышевскому надо жить — разумный эгоизм. Все остальное — сапоги всмятку! Тем более я не о себе думаю — о человечестве… «Вот ведь сукин сын, а? — изумился Штирлиц несколько даже растерянно. — Экую исключительность старикашка себе отбивает… Вот оно ницшеанство в его чисто злодейском виде». — Очень своеобразно, — сказал Штирлиц, поднимаясь, — я получил истинное удовольствие от беседы с вами, господин Николаенко… «Штандартенфюрер! Операция, проведенная по выяснению плана мобилизационных мероприятий югославской армии, была, согласно вашему совету, замыслена как «сопутствующая» приглашению в рейх русского эмигранта Николаенко. Я рассчитывал, что он окажется невольным помощником в той беседе, которую мне предстояло провести с его зятем, адъютантом генерала Зинича. На ужине, который состоялся в доме Николаенко, адъютант генерала Зинича майор Тин Усич, услыхав о желании тестя уехать в рейх, согласился с этим его решением. (Лично я считаю поездку Николаенко нецелесообразной, о чем уже сообщил в «седьмой институт» СС. Странная неуравновешенность Николаенко показалась мне несолидной. Приглашение уже отменено.) В результате дальнейшей беседы с Усичем, которая носила доверительный характер, майор сказал, что, с его точки зрения, война между нашими странами была бы безумием. «Я отдаю себе отчет в том, что военная мощь Германии неизмеримо выше югославской военной мощи. Ваша авиация, — сказал он, — предпринимает налеты на Лондон, в которых участвуют сотни современных бомбардировщиков, прикрытых мощными истребителями. Мы не сможем противостоять вашей воздушной атаке. Вы бросили на Францию тысячи танков, прорвав оборону мощнейшей европейской армии. Нам не под силу сдержать ваш натиск». Такой откровенный разговор показался мне подозрительным. Когда мы вышли во двор с Тином Усичем, я спросил его, не боится ли он так открыто говорить с иностранцем. «А разве я говорил открыто? — понизив голос, спросил Усич. — Я ведь не сказал вам ни слова о том, что я знаю. А знаю я все. В случае войны мне понадобятся деньги, чтобы уехать отсюда, я понимаю, что моя армия обречена. Я готов сказать вам все, если вы уплатите мне деньги». Такой откровенный цинизм показался мне еще более подозрительным, но, поскольку во дворе, как мне казалось, не было возможности наладить подслушивание, а в руках у него не было портфеля, и карманы пиджака не были оттопырены возможной звукозаписывающей аппаратурой, я спросил Усича, сколько он хочет получить денег за мобилизационный план и копии оперативных карт. Он сразу же назвал сумму: пять тысяч долларов. С санкции оберштурмбанфюрера Фохта я вручил ему эту сумму взамен за портфель с документами, который он мне передал. В нем находились план обороны Р-41, мобилизационный план, данные о численности танков и самолетов, находящихся на вооружении югославской армии. Усич также сообщил мне, что получено предписание проводить подготовку к скрытой мобилизации. В первую очередь должно быть отмобилизовано 11 дивизий, из них две кавалерийские, что составляет, по словам Усича, около трети всех вооруженных сил Югославии. Таким образом, поставленную передо мной задачу я выполнил, о чем и докладываю. Хайль Гитлер! Оберштурмбанфюрер Зонненброк». Веезенмайер пролистал рапорты Штирлица (беседы с директором департамента продовольствия и начальником загребского узла телефонной связи) и новых сотрудников Кунце и Вампфа (пропагандистская и разъяснительная работа среди местных фольксдойче, организация «пятерок», назначение руководителей групп, изучение стратегических объектов, подлежащих захвату или уничтожению). Работа велась секторально, были охвачены все стороны общественной жизни Югославии. Он, Веезенмайер, знает, что ему делать и о чем писать. Он напишет в Берлин так, чтобы люди, которые станут читать его письмо, поняли всю важность проведенной им, штандартенфюрером СС Веезенмайером, работы. Поскольку генеральный консул рейха в Загребе Фрейндт был офицером политической разведки РСХА и его шифровальщики связывались прежде всего с Гейдрихом, Веезенмайер решил убить сразу трех зайцев, отправив рапорт и Риббентропу, как своему формальному руководителю, и Розенбергу, являвшемуся идеологом «хорватской операции», через имперское управление безопасности. «Группенфюрер Гейдрих! Встреча, состоявшаяся с доктором Мачеком, дает возможность предполагать, что в его лице мы имеем осторожного союзника. Вопрос заключается в том, какую форму примет его согласие оказывать помощь: либо немедленное обращение к нам с открытым призывом ввести германские войска для сохранения правопорядка, либо консультации и контакты с ним после завершения оккупации Югославии. Окончательный и мотивированный ответ я дам в течение ближайших двух-трех дней. Отправляю Вам мобилизационный план югославской армии, а также самые последние данные о численности войск, возможных направлениях контрударов и технической оснащенности армии противника. Документы эти получены мною из вполне надежного источника. Встречаясь с представителями деловых кругов Югославии, как сербской, так и хорватской и словенской национальностей, я вынес твердое убеждение, что «национальный момент» в наших с ними отношениях будет играть подчиненную роль. Представители трех этих — внешне враждующих между собой — групп будут, как я убежден, довольны нашей акцией, поскольку мы сможем надежно гарантировать продолжение их работы, сохраняя личную заинтересованность в проводимых ими банковских операциях, а также в индустриальном производстве, которое будет надежно выполнять наши заказы и предписания. Контакты с представителем Евгена Дидо Кватерника позволяют надеяться на то, что в день X все потенциальные противники национал-социализма будут изолированы. Ведется работа со всеми проживающими в Югославии фольксдойче. P. S. Подробную запись беседы с Мачеком прилагаю, рассчитывая, что Вы найдете возможность ознакомить с ней рейхслейтера Розенберга и рейхсминистра Риббентропа. Штандартенфюрер СС Веезенмайер». Веезенмайер не мог представить себе, что с этой его шифровкой Гейдрих поступит так же, как сам он поступил только что с рапортами Дица и Зонненброка. Замыкание «на себя», оценка происходящих событий через призму собственного «я» играет, как правило, злую шутку с людьми, которые используют общественную идею для того, чтобы с ее помощью делать собственную карьеру, эксплуатируя мозг и труд нижестоящих. Когда доктрина становится и н с т р у м е н т о м в руках тех, кто прежде всего озабочен собственной судьбой, тогда неминуемо начинает развиваться необратимый процесс гниения идеи изнутри. …Гейдрих внимательно прочитал рапорт Веезенмайера, запер его в свой сейф, а стенографисту продиктовал следующее: «Рейхсфюрер! Рад сообщить Вам, что работа, проведенная мною в Югославии, дает возможность передать в штаб ОКВ мобилизационный план армии противника. Убежден, что эти документы позволят Гальдеру и Листу внести последние коррективы в план «Операция-25». Хайль Гитлер! Ваш Гейдрих». А потом Гейдрих вызвал к себе Шелленберга. — Мой дорогой Вальтер, — сказал он, — доктор Веезенмайер начинает раздражать меня. Этот розенберговский ставленник хвастлив и тщится на первое место выставить собственную персону. Кто из ваших людей работает в его группе? — Штирлиц. — Думающий человек? — Вполне. — И вы убеждены в его порядочности? — Бесспорно. — Отправьте ему личное письмо. Пусть внимательно присмотрится к тамошней сваре честолюбий. — Я уже инструктировал его таким образом, группенфюрер. — Свяжитесь с ним через генконсула Фрейндта. Шифровку отправьте лично. — Я могу дать ему полномочия? — Какие? — На самостоятельность. На определенную самостоятельность. — Не занесет его? — Думаю, что нет. — Хорошо. И попросите, чтобы он размышлял не только о сегодняшнем дне, но и впрок — югославская операция скоро кончится, а нам еще предстоит работать вместе с людьми Розенберга… ВСЕ ДЕЛО В ПЕРЕСЕЧЕНИИ СУДЕБ Иван был единственным сыном в семье Мишка Шоха. Мишко поначалу крестьянствовал, а потом, накопив деньжат, переехал поближе к городу и открыл маленькую харчевню. Только постоянная бережливость помогла ему сохранить хозяйство. Жена просила на шубу, брат умолял дать в долг под процент на плату за обучение на шофера, но Мишко Шох молча сносил попреки и деньги держал в сундуке, зная, что если уйдет пара [6], то уплывет и динар, а там и хиляды [7] не увидишь. Он отказывал себе во всем, чтобы, скопив побольше денег, пристроить к корчме домик, вроде гостиницы для приезжих. Место было красивое: при въезде в Загреб, на Пантовчаке, ручьи неподалеку, и прелыми листьями пахнет, когда ветер подует с гор. Единственное, на что он заставлял себя отрывать от сбереженного, были книги для Ивана — мальчишка рос смышленым, сочинял сестренкам сказки и уже в шесть лет сложил первые свои стихи. Беда нагрянула в семью Шоха нежданно: власти надумали расширить дорогу, инженеры расставили хитрые треноги с визирами и прочертили трассу как раз по харчевне с пристроенной уже наполовину гостиницей. Шох делал все, что мог: по-крестьянски хлебосольно, со з н а ч е н и е м угощал пристава, считая, что от жандарма все зависит в нашей жизни; сделал взнос в епископальную кассу, дважды ходил к адвокату, который что-то невнятно объяснял ему и совал тома кодексов, напечатанные на неведомой Шоху сербской кириллице, и деньги за это брал немалые. Когда подошел срок, отведенный муниципалитетом, прибыли рабочие и дом Шоха порушили. Мишко сидел на пенечке, наблюдая за тем, как разбирали его дом, машинально поглаживал голову сына, прижавшегося к нему, хмуро смотрел на жену, которая стояла возле узлов и, причитая, кормила грудью младшую, крикливую и больную, девочку. Потом, не понимая, видимо, что делает, Мишко медленно поднялся, взял топор, попробовал лезвие — не ступилось ли — и попер на рабочих с протяжным криком. Мишка скрутили и увезли в полицию. Об этом узнали ныркие репортеры, напечатали его историю в газетах, и в течение двух дней Шох был фигурой известной. В участок к нему пришел нечесаный адвокат — из студентов. Он долго говорил с Шохом о том, что противоречий между трудом и капиталом топором не решишь, что надо всерьез изучать политические науки, в которых только и сокрыт м е т о д истинной борьбы против слуг буржуазии, а в конце беседы пообещал взять на себя его защиту, естественно, бесплатно. На другой день к Шоху явился новый посетитель, тоже назвавшийся юристом. Он был постарше и в отличие от давешнего, молодого, в полувоенной курточке, одет был с о л и д н о: в черном пиджаке и при галстуке. Дождавшись, пока стражник оставит их вдвоем, адвокат угостил Шоха дорогой сигаретой и сказал: — Тут у тебя вчера один социалист был, тип препоганый. Ты, Мишко, в корень смотри. Кто по крови пристав, которого ты вином поил? Он серб по крови. Кто тот мудрец, который тебе кодексы в нос тыкал? По отцу-то он вроде хорват, а по матери серб. По чьему плану дорогу решили через твою харчевню тянуть? По плану серба, Мишко. Кто ты для них? Да никто! Хорват! Про это небось вчерашний болтун ничего не говорил, а? Словом, жилье для твоей семьи мы нашли. Преподобный отец Степинац рассказал о твоем горе прихожанам. Деньги тоже какие-никакие соберем. А когда завтра к тебе болтунишка придет, помни, что и он серб и ты ему нужен лишь как жертва, на которой он славу зарабатывает. Дело твое выигрышное, мы его будем вести, мы своих в обиду не даем, а уж если страдаем, так все вместе. Выйдя из участка — дело до суда не дошло, — Мишко Шох стал молчаливым, подолгу не отводил глаз от сына, который, словно понимая, что горе в доме, стихи свои шептал про себя и сказки сестрам рассказывать перестал. Устроили Мишка в большой отель швейцаром. В школе, куда определили Ивана, учитель словесности был серб. Рассказывал он интересно, но колы и двойки ставил немилосердно, требуя от своих питомцев и каллиграфии отменной, и абсолютной грамотности. Когда Шоха вызвали в школу — Иван получил три двойки, одну за одной, — учитель сказал ему: — Сын у вас очень ленивый мальчик. Он ворон в окне считает, когда я уроки рассказываю. Вам бы не потакать ему, а требовать побольше. — В отличниках-то небось у вас одни сербы ходят? — тихо спросил Шох. Учитель вопросу этому не удивился. — Скажите, — спросил он, — вы где служите? — Двери открываю, чемоданы господам подтаскиваю. — Как это место называется? — Отель «Эспланада» это называется, — зло ответил Мишко. — Платят мало? — А где ж их много платят? — В швейцарах одни хорваты? Или сербы тоже есть? — Ну, есть… — А платят как? Всем поровну? Или сербам больше? — Кто ж им больше платить станет, если у нас хозяин хорват. Учитель рассмеялся. — Сами себе и ответили. А что касается моих сербских учеников, то я их не очень-то и отличаю от хорватских. Сам-то я черногорец. «Значит, мать у тебя сербская», — подумал Мишко, но вслух этого не сказал — все-таки учитель, над сыном его власть имеет. …Когда Иван отнес свои первые стихи в журнал и ему их вернули, отец утешал: — Погоди, сынок, будут еще они тебе свои стихи носить, а ты их станешь за дверь выставлять. Только б пришла власть хорватская, Иванушка, только б наша кровная власть пришла. Иван Шох начал сочинять притчи о том, как тяжко жить хорвату в сербской стране. Притчи были рождены тоской по утерянной земле, воспоминанием о той поре, когда семья жила своим домом, и поэтому они нравились горемыкам, выбитым из жизни молохом капитала, вложенного в строительство, но никак не сербами, такими же, как и они, горемыками, голью перекатной. Притчи Ивана Шоха переписывали от руки полуграмотные крестьяне, выброшенные нуждой в город, заучивали их, а потом «добрые» люди, из тех, кто, вроде Миле Будака, на народном горе становился «личностью», издали его «народные плачи» в Вене, благо писал Иван на латинице, как и все хорваты, а не на варварской кириллице, столь дорогой православному сербскому сердцу. Благотворительное общество определило Шоха в университет, и он пришел туда как победитель — мало кто из студентов мог похвастаться изданной за границей книгой. Над сочинениями Ивана в студенческой среде подшучивали: — Тебе бы в прошлом веке жить! Ты ж назад смотришь, а так нельзя — спиной пятиться: в яму ненароком попадешь. Иван замкнулся, ожесточился, и в его стихах клокотала злоба, рожденная ущербностью честолюбия. Когда другие студенты читали ему стихи Владимира Назора, Поля Элюара, Ивана Горана-Ковачича, Владимира Маяковского, юноша морщился, как от боли. — Ну о чем, о чем все это?! — восклицал он. — Разве ж от народа все это?! Разве ж народ поймет? Одни ужимки и намеки, одно и з г о л е н ь е городское! — Так они ищут новую форму! — Нечего форму искать! Если смысл существует, так и форма не нужна! Когда я говорю: «Восстаньте, хорваты, против палачей!» — это без всякой формы понятно! — А сербам что ж, не восставать? — Против кого? Серб — он и есть серб, палач ли, жертва ли. Не верю я в разницу между ними, не верю! Все равно за каждым из них сербский король стоит, и сербский премьер, и сербский банкир! А за мной кто?! Сидели бы у себя в Сербии, так ведь нет! Как паразиты, присосались к хорватскому телу, как клещи, впились! Мы работаем, мы от земли рождены, а они что? На базарах торговать да сладостями обжираться — на что еще способны! Старый Шох погиб во время усташеских беспорядков двадцать девятого года, когда Ивану только-только исполнилось девятнадцать. Парня посадили на месяц в концентрационный лагерь, но потом, когда начался откат, сопутствующий всякому стихийному взрыву, отпустили на все четыре стороны. Добрые люди дали денег на дорогу, и он уехал в Мюнхен продолжать учение. Языка он не знал, усердием не отличался и поэтому вскоре перестал посещать лекции и пристроился в усташеской газете Илича. Поначалу ему поручали писать политические статьи, но Илич работу Ивана браковал: «Молод, голова не в ту сторону налажена, слишком певуч, в политике посуше надобно». Потом Шох начал сочинять басни, но Илич и это отверг: «Мы серьезный орган, нам не до поэзии, пусть в стихах дома упражняется». Тогда Иван стал «обработчиком»: переделывал статьи, имитируя разные стили, чтобы читателю казалось, будто в газету пишет множество самых разных людей, со всех концов Хорватии. Однако вскорости ему все это надоело, и он вернулся домой — хотелось видеть глаза людей, которые собирались, когда был жив отец, и плакали, когда Иван читал им свои стихи о поле, конях, любви, закатах, и не скупились на похвалу, столь надобную сердцу поэта. Память о Германии жила в нем: с одной стороны, он навсегда запомнил мощь тамошних городов, жаркий рев машин, богатство магазинов, но, с другой — он особенно остро почувствовал свою ненужность там. И тогда впервые в нем родилась острая жалость к себе, пронзительная жалость, которая могла порой вызвать у него неожиданные слезы, казавшиеся окружающим высшим проявлением поэтического дара. …Человек, вкусивший творчества, должен стать объектом изучения социологов. Такой человек, будучи освящен известной мерой таланта, имеет возможность понять значительно больше из того, что волнует и мучает его современников. Параллельно этому растет и тираж книг такого художника, и аудитория читателей, и популярность, и, как неминуемый результат формулы «товар — деньги — товар», поднимается его достаток. Художник меньшего дарования или же человек, мнящий себя художником только потому, что он научился складывать слова во фразы, воспринимает успех своего коллеги сугубо болезненно и враждебно. Когда «маленький художник» (хотя в понятии «маленький художник» заключен определенный допуск, ибо художник маленьким быть не может) начинает ощущать свою ненужность обществу, незаинтересованность в нем и в его работе, он ищет виновных во всех, но только не в себе самом. Тщеславие, а не зависть, подвигло Сальери на беспощадную борьбу. Тщеславие подвигло авторов гитлеровской теории «крови и почвы» на изгнание из рейха гениев литературы и кинематографа, тщеславие привело Ивана Шоха к германскому консулу в Загребе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
|||||||||