 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Сименон Жорж :: Желязны Роджер :: Картленд Барбара Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: Омен. Последняя битва. :: По заданию преступного синдиката :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: Улики :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: Полет :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона |
Не говори ты Арктике – прощайModernLib.Net / Путешествия и география / Санин Владимир Маркович / Не говори ты Арктике – прощай - Чтение (стр. 1)
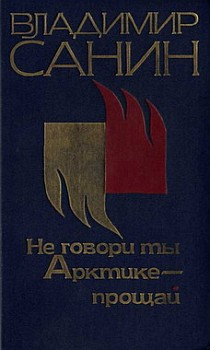 Владимир Маркович Санин Не говори ты Арктике — прощай ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АВТОРА Если переплет — одежда, то название — визитная карточка книги. О переплете я никогда особенно не беспокоюсь и за него не воюю, а вот название — другое дело, это штука серьезная. Бывает, первая строчка еще не написана, а оно приходит и определяет тональность будущей книги; бывает, что книга уже написана, а удачного названия нет, и ты неделями ищешь его, проклиная свою бездарность. Хорошо было классикам! Они знали, что им, классикам, визитные карточки ни к чему — все и так знали, что они классики. А раз так, зачем ломать голову над названием? «Гамлет», «Анна Каренина», «Бесы» — и все дела. Это сегодняшний писатель, еще не уверенный в том, что он классик, придумывает названия позаковыристее, вроде «Любовь на солнечной стороне, на опушке леса», или «Ты — тот, кто еще не пришел». Глядишь — и заинтригованный читатель клюнул, выложил денежки. Пока критики еще не похвалили или не разнесли твое сочинение, название — первая его реклама. Назовешь книгу «Пути-дороги» — и купят ее разве что в привокзальном киоске за пять минут до отхода поезда, и то с отчаянья, а дай этой же книге название, скажем «Пути-дороги из ниоткуда в никуда», — и могут намять бока в очереди, в том же киоске. И вообще с рекламой у нас дела обстоят неважно. Магазин «Продукты», электробритва «Щетина», зубная паста «Антисептическая», духи «Наташа»… А если твою любимую зовут Надя? Пошлет тебя оскорбленная Надя подальше — искать Наташу, и правильно сделает. А назови духи «Придешь…» — и женщины, не обращая внимания на цену, выстроятся в очередь. Однако — к делу. Вступительное слово я взял для того, чтобы рассказать поучительную историю названия этой книги. В полярных широтах я бывал много раз, и с каждым разом участие в экспедиции доставалось мне все с большим трудом. В воображении читателя, знакомого с Арктикой и Антарктидой по книгам, полярник — это могучий мужчина с несгибаемой волей и железным здоровьем. Так вот, ваш покорный слуга напоминает сей эталон не больше, чем потертый жизнью многократно битый петух молодого жизнерадостного страуса. Если пятнадцать — двадцать лет назад я еще позволял себе довольно нагло лезть в пургу и морозить свою шкуру при немыслимых температурах, то в последние экспедиции даже какие-то тридцать — тридцать пять градусов при пустяковом ветре превращали меня в руину. Поэтому после приключений в Арктике лет пять назад (о них вы еще узнаете) я твердо решил, что отныне в ворота, ведущие в полярные широты, я больше стучаться не буду. Когда человеку за полсотни и сил у него хватает разве что на то, чтобы дотянуть свой организм до ближайшего лесочка, пора, как советовал поэт, для своих прогулок выбирать поближе закоулок. Так исключительно мудро и здраво я рассуждал до тех пор, пока меня не замела «Метелица» и окончательно не добил Валерий Лукин (об этом тоже речь впереди). Впрочем, замести меня и добить оказалось не таким уж сложным делом. В каждом человеке, отдает он в том себе отчет или нет, дремлет авантюрист и ждет своего часа. Чаще всего, убаюканный благоразумием, он так и продолжает дремать всю жизнь, и никому в голову не приходит, что этот скромный очкарик, который и мухи не обидит, что ни день переживает в своем воображении неслыханные приключения: только вчера вместе с Эдмоном Дантесом он бежал из замка Иф, а сегодня, несколько минут назад, расшвырял и распластал на земле дюжину хулиганов. Но как минимум в одном человеке из десяти авантюрист обязательно пробуждается, отбрасывает ко всем чертям благоразумие и, к ужасу родных и близких, возвещает, что отныне его ждут горы (льды, море, тайга). В разные исторические эпохи этот самый один из десяти либо надевает красный колпак и орет «пятнадцать человек на сундук мертвеца», либо с дюжиной таких же одержимых углубляется в неизведанные земли, либо переплывает на двухвесельной лодке в одиночку океан, либо карабкается для чего-то на горный пик, на вершине которого нечем дышать, либо мчится на собаках к полюсу… Ввиду того что до меня и лучше меня гимн авантюристам пропел в своей «Бригантине» Павел Коган, добавлю только, что к этому великому и неистребимому племени бродяг я отношусь с исключительной симпатией и утверждаю, что без него наша жизнь была бы серой и скучной, как в монастыре, где главное развлечение — земные поклоны и хоровое исполнение псалмов. Правда, в наше цивилизованное время авантюристов называют романтиками, но суть дела от этого не меняется: авантюристы, или, бог с ними, романтики — это люди с особой, лишь им присущей группой крови, которые по-настоящему хорошо чувствуют себя лишь тогда, когда им плохо или, еще точнее, когда им очень трудно. И — обязательное условие! — наличие в этих трудностях опасности и риска. Честно признавшись читателю в своей принадлежности к великому племени бродяг, продолжу вступительное слово. Очнувшись с помощью «Метелицы» и Валерия Лукина от пятилетней дремы, мой авантюрист стал тихо и невнятно бормотать о своей последней поездке в Арктику. Акцент делался на слове «последней» — это не подлежало никакому сомнению. Жена, слушавшая сей бред с откровенным недоверием, напомнила, что и в прошлый, и в позапрошлые разы я с пафосом подчеркивал именно это слово. Тогда, чтобы связать себя по рукам и ногам, я решительно заявил, что назову свою книгу «Прощай, Арктика!», чем нисколько жену не убедил. — А потом снова туда намылишься… Лучше уж не говори ты Арктике прощай. — Как ты сказала?! — Что ты снова туда намылишься. — Нет, дальше! — Не говори ты Арктике прощай. А что? Так жена придумала мне название этой книги[1]. И благословила в путь без особых отговариваний и драм. Впрочем, ничего другого я и не ожидал. «Кровь!» — как заметил у Булгакова Воланд. А по крови моя жена родная племянница Глеба Травина — «человека с железным оленем», который в начале тридцатых годов в одиночку прошел и проехал на велосипеде восемнадцать тысяч километров советского арктического побережья — подвиг, который вряд ли кому-нибудь удастся повторить[2]. Итак, я отправился в Арктику, возвратился домой и сижу за письменным столом. Сижу, битком набитый впечатлениями, с ворохом блокнотов и записей, оставшихся неиспользованными еще с предыдущих экспедиций, и еще не зная, с чего начать. Решил я пока только одно: книга будет строго документальная. Другими словами, постараюсь по возможности говорить правду, и только правду. Почему «по возможности»? А потому что не люблю выносить сор из избы: о человеке, с которым преломил хлеб, который пододвинул тебе свой котелок и обогрел тебя, — или хорошо или ничего. За двадцать лет странствий по высоким широтам полярники привыкли ко мне, считают за своего и говорят в моем присутствии всё, уверенные, что я не использую во вред их откровенность. Поэтому — «по возможности». Нет, врать я не стану, но об иных событиях и людях просто умолчу. И последнее. Некоторые читатели упрекают меня за преувеличенную восторженность, с какой я пишу о полярниках, летчиках, моряках. Наверное, она действительно имела место, особенно в ранних книгах, когда я смотрел на этих незаурядных людей широко распахнутыми глазами новичка. Однако, хотя с годами многое стало восприниматься более критически, мое литературное кредо не изменилось. Самому автору об этом не очень принято распространяться, но раз уж пошел такой разговор… Одни пишут жизнь такой, какой она никогда не была и никогда не будет; другие — такой, какова она есть на самом деле. Я стараюсь писать жизнь не только такой, какова она есть, но и такой, какой бы я хотел ее видеть. Недостаток, но что поделаешь, если пишешь главным образом о людях, к которым испытываешь сердечную симпатию? Ну а теперь можно приступать к воспоминаниям — об Арктике, товарищах и себе. Начну с Валерия Лукина, с именем которого будет связана значительная часть этого повествования. Мы познакомились восемь лет назад при обстоятельствах, о которых я еще не рассказывал, но именно ради встреч с ним я дважды отправлялся в Арктику. Возвращаюсь в 1977 год… НА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ — В ОЖИДАНИИ ЛУКИНА Недавно маститый критик упрекнул меня за то, что я слишком долго вспахиваю одну ниву — полярные широты. Прав он или нет — судить не берусь; честно говоря, лет двадцать назад, когда я впервые там оказался, то и думать не мог, что попаду под столь сильное притяжение «белого магнита». Наверное, есть в полярных широтах нечто чарующее, зовущее туда вновь и вновь, — великий романтик Джек Лондон выразил это чувство с потрясающей силой; оно глубоко индивидуальное, далеко не все его разделяют, но если уж человек хоть раз был Арктикой или Антарктидой очарован, это остается надолго, иногда — на всю жизнь. Как суровая любовь альпиниста к горам, замечательно воспетая Владимиром Высоцким. Да и в полярном фольклоре, тоже суровом и романтичном, есть очень хорошие строки о том, что «первая зимовка в Антарктиде нам дорога, как первая любовь». Полярные широты, при всей их первозданности и дикой красоте, позаботились о том, чтобы щедро снабдить обживающих их людей экстремальными ситуациями, а именно в таких ситуациях и можно понять, «кто есть кто», — опять же на память приходят настоящие мужчины из мира героев Джека Лондона. Теперь таких героев принято с иронией называть «суперменами», но лично я не вижу в этом слове ничего плохого и вовсе не ассоциирую его с «белокурыми бестиями» и «сверхчеловеками» Фридриха Ницше. Разве не были суперменами без всяких кавычек такие железные люди, как Нансен и Седов, Амундсен и Скотт, Урванцев, папанинцы и многие другие знаменитые и безвестные первопроходцы, без которых полярные широты так и остались бы белыми пятнами? С ясно осознанной целью они шли — наугад, не зная, какая слава им достанется — пожизненная или посмертная, — а часто и вовсе не думая о такой суетной вещи, как слава. Но звездные мгновения человечества фиксировались на циферблатах их часов! Разве это не прекрасная судьба — идти по проложенной ими дороге, все дальше и дальше, крупицу за крупицей добавляя свой опыт к оставленному ими наследству — познанию полярного мира и кровью написанным, потом просоленным параграфам никем не утвержденного Полярного Закона? Где еще можно испытать необыкновенное ощущение — один на один с наиболее суровой на Земле природой, где еще можно так проверить и поверить в себя? Мне довелось видеть и слышать о тех, кто никогда не нарушал Полярного Закона, и о тех, кого полярные широты отторгли, как организм отторгает чужеродную ткань. Об этом я не раз писал в полярных повестях, после почти каждой из них думая, что пора ставить точку; но вдруг обнаруживалось, что тема, казалось бы для меня исчерпанная, раскрывается по-новому, появляются ситуации и люди, о которых очень хочется рассказать. Так, после «Семидесяти двух градусов ниже нуля» мне не позволил поставить точку старый друг по Арктике и Антарктиде Василий Сидоров. «Исчерпал тему? — поразился он. — Да ты еще, считай, первый слой с поверхности снял, до главной жилы не добрался! А станция Восток? А Владислав Гербович на Лазареве? Бери ручку, садись за стол и давай работать». Мы работали несколько дней и раскопали жилу, из которой извлекли сюжеты на целую трилогию. «Вот тебе и исчерпанная тема!» — до сих пор упрекает меня Сидоров. А ниточка все тянулась и тянулась. Чтобы добрать материал для одной повести трилогии, я вновь отправился в Арктику: и людей посмотреть, и себя показать, и, главное, принять участие в «прыгающей» экспедиции. И так уж получилось, что ниточка тянется до сегодняшнего дня: одним концом привязана ко мне, другим — к Валерию Лукину. Если бы меня спросили, что больше всего запомнилось в полярных широтах, я бы не задумываясь ответил: станция Восток, трансантарктический поход санно-гусеничного поезда, подвижки льда на СП, приключения на Северной Земле и — полеты с Валерием Лукиным. В экспедициях с ним я был дважды, не пуд, но фунт соли мы съели; кое-что я увидел, еще больше услышал. Это было весною 1977-го. До дрейфующей станции СП-23 я добирался в очень приятной компании: Алексей Федорович Трешников, тогдашний «хозяин Арктики», прибыл инспектировать свое огромное хозяйство; Михаил Александрович Дудин, всю дорогу блиставший неподражаемым остроумием, задумал цикл стихотворений о полюсе и мечтал подышать воздухом полярных широт. Одно четверостишие Дудин сочинил ровно за сорок секунд — я смотрел на часы. В полете подходит к нам командир корабля, протягивает блокнот и говорит: «Михаил Александрович, черкните экипажу на память…» — «А какой ваш бортовой номер?» — «Сто двадцать сорок три». Дудин на мгновение задумался, вытащил авторучку и четким почерком написал: «Везущему поклажу и нас с собой внутри — спасибо экипажу сто двадцать сорок три!» Сколько историй я наслышался в полете! С такими людьми, как Трешников и Дудин, совсем неплохо было бы застрять на месяц-другой на необитаемом острове — для расширения кругозора. Думаю, что, если бы кто-нибудь догадался записать их устные рассказы и напечатать, литература, и не только юмористическая, оказалась бы в чистом выигрыше. Но если эпиграммы Дудина время от времени прорываются в печать, то академик Трешников, как и положено академику, тщательно оберегает свои книги от проникновения юмора: в научных кругах сие не принято. Я опоздал на десять часов: Лукин улетел на точки, а когда он вновь окажется на двадцать третьей — неизвестно. Хорошо, буду ждать. Может, оно и лучше: успею акклиматизироваться и пообщаться со старыми знакомыми. На станции их двое: старейший полярный механик Николай Семенович Боровский, с которым познакомился еще на СП-15, и Герман Флоридов, радист со станции Восток, где мы оба сначала были довольно жалкими «гипоксированными элементами», а через недели три осмелели до того, что даже играли в пинг-понг. По старой дружбе Гера сдал мне в своем домике койку на вполне сносных условиях: подметать пол и мыть стаканы после чая. В ожидании Лукина я прожил на станции дней десять, но ничуть об этом не жалею: не то что скучать — спать было некогда. Первую ночь мы просидели с Герой, вспоминая Восток. У полярников к Востоку особое отношение: прозимовать на этой станции, с ее чудовищными морозами, нехваткой кислорода, мучительной акклиматизацией и полной оторванностью от внешнего мира, считается весьма престижным. «Кто на Востоке не бывал, тот Антарктиды не видал» — это из фольклора; а кто бывал — не забудет, Восток остается в памяти навечно, как остаются на теле боевые шрамы. Я рассказывал обо всем этом в книге «Новичок в Антарктиде»; в частности, описал единственный в истории Востока случай, когда доктор Валерий Ельсиновский вылечил начальника станции Василия Сидорова от воспаления легких; но тот случай оказался не единственным. Уже после того как я улетел в Мирный, Гера Флоридов ремонтировал антенну при температуре минус 83 градуса, целый час проработал на воздухе, надышался — и подхватил воспаление легких. И Валерий его спас — последними десятью ампулами… Помните кочегара Бакланова из «Цусимы», человека, будто сложенного из двух людей? Таков и механик Боровский: чуть выше среднего роста, с торсом — что ствол баобаба и руками борца-тяжеловеса. Когда Николай Семенович набирал номер телефона, за это зрелище нужно было платить деньги: диск он вертел не указательным пальцем, а кончиком мизинца. Как и на СП-15, ходил Николай Семеныч в сорокаградусный мороз — грудь нараспашку. «Выдумали — морозы… Жарко!» — работал непрерывно, времени вечно не хватало. От двух бутылок пива, которые я привез ему в подарок, он отмахнулся: «Отдай кому-нибудь, чего я буду себя растравлять, мне ящик нужен». На меня Боровский был в обиде. Эта поучительная история стоит того, чтобы о ней рассказать подробнее. В свое время на меня произвел большое впечатление драматический эпизод из жизни восточников: Василий Сидоров с четырьмя товарищами, и среди них Боровский, были доставлены на Восток для расконсервации станции, и после того как самолет улетел, обнаружили, что дизеля разморожены: станция осталась без тепла и источника энергии для радиосвязи. Тогда пришлось из двух дизелей собирать один и запускать его вручную — работа непосильная для только что прибывших на Восток людей, где требуется многодневная акклиматизация. И кто знает, как закончилась бы эта история, если бы Боровский с его богатырской силой не раскрутил дизель… Историю эту, с подлинными фамилиями первой пятерки, я рассказал в «Новичке» на нескольких страницах, а потом на документальной основе написал повесть «В ловушке», где и события, и биографии персонажей были в значительной мере плодом воображения автора. Вот тут-то я сам попал в ловушку: в интересах сюжета один из двух механиков у меня был изображен фигурой не слишком положительной, а ведь добрая сотня полярников доподлинно знала, что в действительности такого в первой пятерке не было! И многие стали гадать: кого Санин изобразил под фамилией Дугин? И кто-то из «доброжелателей» убедил Боровского, что, наверное, его. Это Боровского, главного наряду с Василием Сидоровым героя расконсервации Востока! Тщетно я доказывал Николаю Семенычу, что повесть не документальная и автор имеет право на вымысел; «Нет, Маркович, в „Новичке“ ты написал правду, а здесь из меня сделал какого-то Женьку Дугина». Из записной книжки: «Все-таки богатыри — народ снисходительный и добродушный, Николай Семеныч оттаял. Вечером мы с Пигузовым пришли к нему на чай, разговор сначала зашел о Востоке, потом о. критических ситуациях на дрейфующих станциях. Я припомнил рассказ Сидорова о пожаре на СП-13, а Боровский добавил одну забавную подробность: когда загорелся жилой балок, из радиорубки выскочил полураздетый радист Павел Сорокин и выплеснул в огонь воду… из кружки. У Пигузова тоже оказалась в запасе смешная история из его полярной юности. Впрочем, тогда, уточнил он, ему меньше всего на свете хотелось смеяться, потому что банька на станции вспыхнула в ту минуту, когда он только-только намылился. Сложил руки, вспоминал Пигузов и, как пингвин, прыгнул в окно, пробив круглое отверстие… С ухмылкой поглядывая на меня, Николай Семеныч рассказал о том, как на СП-15 дежурный по станции Санин предотвратил катастрофу. Рассказал с юмором, но недостаточно достоверно. Привести эту историю в первозданном виде». Дело было так. После ужина я вымыл посуду, прибрал кают-компанию, побродил по расположению и вдруг вспомнил, что механик Николай Лебедев, ложась спать, велел мне каждый час следить за показаниями приборов в дизельной. Побежал туда, посмотрел на приборы и — поймал себя на том, что намертво забыл, какие показания на них должны быть. Растормошил Лебедева, спросил. «Температура воды не выше ста, давление не ниже двух», — пробормотал Лебедев и с головой укрылся одеялом. Я вновь побежал в дизельную и сразу же понял, как своевременно это сделал: приборы показывали, что вода давно выкипела, а давление масла равно нулю. Я снова растормошил Лебедева и сообщил ему, что с минуты на минуту дизельная взлетит на воздух. Через несколько мгновений сонный механик в наброшенной на белье шубе и унтах на босу ногу стоял перед приборами. — Ну как? — встревоженно спросил я. — Вы на какие приборы смотрели? — На эти. — А надо было на те! — Лебедев добавил еще что-то, но за грохотом дизеля я не расслышал. Привожу эту давнюю историю исключительно потому, что она совершенно неожиданно «закольцевалась» — причем через каких-нибудь три часа после того, как Николай Семеныч поднял меня на смех. Первое совпадение: в ту ночь я был дежурным по станции и, как положено, время от времени навещал дизельную. И вот далеко за полночь захожу, смотрю на приборы и — второе совпадение! — не верю своим глазам: резко упало напряжение. Несколько мгновений я шевелил мозгами, соображая, что предпринять. Хорошо бы, конечно, поднять Боровского, а вдруг он снова будет веселить кают-компанию, рассказывая, как дежурный Санин десять лет спустя вновь предотвратил на СП катастрофу?.. А, была не была! Разбудил Боровского, напугал его как следует, он, полуголый, помчался в дизельную и — хотите верьте, хотите проверьте — пробурчал что-то вроде «молодчина»: на дизеле сгорели щетки. Боровский отключил дизель, запустил другой, одобрительно хлопнул дежурного по плечу (наутро доктор Шульгин без особой уверенности констатировал, что перелома нет) и отправился досыпать. Между тем жизнь на станции протекала спокойно: все-таки под ногами не хрупкая ледяная корка, а дрейфующий айсберг, на взлетно-посадочную полосу которого запросто производили посадку тяжелые самолеты. На таком острове можно ложиться спать, «раздевшись до трусов», — ни разломы, ни торошение ему не угрожали. Был, правда, случай, когда айсберг, на котором дрейфовала СП-19 Артура Чилингарова, раскололся пополам, но тот случай так и остался, к счастью, единственным и неповторимым. Каждое утро начиналось с того, что я отправлялся к расположенному в полутора километрах домику РП — руководителя полетов. Позавчера Лукин был на Земле Франца-Иосифа, вчера на СП-22, сегодня… — А вот сегодня очень даже может прилететь, — обнадеживал меня Павел Петрович Бирюков, и тут же после небольшой, хорошо выдержанной паузы добавлял: — Не к нам, конечно, а на Средний. Наверное, узнал, что вы к нему рветесь, и теперь ближе чем на тысячу километров к двадцать третьей не приблизится. На широком, круглом лице Павла Петровича — неизменная добродушная улыбка. Это от него я услышал фразочку, которую потом беззастенчиво использовал. «Минутку, Владимир Маркович, — проговорил он, когда ранним утром я его разбудил, — пойду сполосну морду лица». Но очень ошибается тот, кто внешнюю простоватость Павла Петровича примет за подлинную: он прежде всего умен, остроумен и как специалист вне конкуренции. Недаром Сидоров на свои дрейфующие станции требует руководителем полетов именно Бирюкова — и за его безусловную надежность, и за прекрасные человеческие качества. И вообще коллектив двадцать третьей сложился удачно. — Все на станции зависит от двух человек, — сказал мне Владислав Михайлович Пигузов. — Повар может сделать жизнь прекрасной, а начальник невыносимой. Мне доводилось в разных сочетаниях встречать или слышать о тех и других. В одном санно-гусеничном походе грязнулю-повара механики-водители отстранили от работы (его заменил доктор), а на энной станции растерял авторитет начальник — когда выгородил для себя в кают-компании персональный столик и восседал за ним в гордом одиночестве. Воздвиг между собой и коллективом невидимый барьер — и все рухнуло: до самого конца дрейфа того столика полярники так и не простили. Странная вещь! Никогда не мог понять начальников любого ранга, которые каждым жестом, каждым словом подчеркивают разницу между своей особой и остальными людьми. «Пусть ненавидят, лишь бы боялись»? Так это годится диктатору, а не руководителю, на которого возложена ответственность за конкретное дело. Еще древние говорили, что следует почитать не пост, а достойно занимающего его человека; никогда и никого еще высокая должность не делала умнее, ни одна ступенька наверх не прибавляла и грана таланта; зато самомнение, нежелание считаться с обстоятельствами и вера в собственную непогрешимость губила даже таких незауряднейших людей, как Наполеон. К сожалению, самокритичность, трезвое осознание своего долга куда реже даются человеку, чем самовлюбленность и честолюбие; насколько приятнее услаждают слух льстивые голоса, чем откровенная, честная, но портящая настроение правда! Если уж прибегнуть к литературной красивости, то трудно не предпочесть упоительную мелодию «Подмосковных вечеров» грохоту отбойных молотков; только нужно не забывать, что именно те, кто работает отбойными молотками, и дают возможность композитору сочинять свои мелодии. Монтень, на которого я часто ссылаюсь, писал, что самые бесполезные, ненужные и фальшивые из монет, находящихся в обращении, это известность и слава; я бы еще добавил: особенно если заработаны они не упорным трудом и талантом, а просто занимаемой должностью. Авторитет, который воздвигается на фундаменте только должности, искусствен, как восковые цветы; дело прошлое, но мне кажется, что люди, которые подобные авторитеты раздували, стыдились самих себя и с отвращением смотрели на свои распухшие от аплодисментов ладони… Из записной книжки: «Проводили Трешникова и Дудина на СП-22, получили почту и возвратились с Пигузовым в его домик. У Владислава Михайловича отличное настроение: Владимир Высоцкий откликнулся на просьбу двадцать третьей и прислал несколько своих фотографий с автографами. Одну, на правах начальника, Пигузов взял себе, а остальные будут разыгрываться по жребию. Человек слаб: я похвастался, что Высоцкий написал песню об Антарктиде к поставленному по одной моей повести фильму (увы, неудачному), и мои акции подскочили сразу же на тысячу пунктов. А когда, греясь в лучах славы, я еще небрежно бросил, что попробую уговорить Высоцкого прилететь на станцию, Пигузов лично сварил для меня отличнейший кофе». Так благодаря Высоцкому отношения с начальником станции у меня сложились превосходные. И вообще Пигузов мне понравился: хладнокровный, деловитый, в меру демократичный, но — без панибратства. Из тех начальников, которые управляют коллективом, как первоклассный шофер автомобилем — еле заметным движением руки. Ни разу не слышал, чтобы он повысил голос, но и ни разу не видел, чтобы его ослушались. Если к этому добавить, что Пигузов прошел хорошую полярную школу и не раз доказывал, что на него можно положиться в трудных ситуациях, то станет ясно, что с начальником коллективу повезло. Как и с поваром: Владимир Аркадьевич Загорский, ветеран Арктики и Антарктиды, не просто вкусно готовил, а баловал своих «едоков» — причем в любое время дня и ночи. Из записной книжки: «На станцию прилетел начальник высокоширотной экспедиции „Север-39“ Михаил Красноперов. Сегодня в кают-компании он меня утешил: „Денек-другой — и Лукин обязательно прилетит, хотя бы для того, чтобы пообедать у Загорского!“ И еще повезло станции с доктором. Александр Шульгин невысок, атлетически сложен, остроумен и бородат. Я готов был часами любоваться его работой — так ловко, сноровисто и красиво грузил он на волокуши бочки. «Профессионал, — с уважением говорил Гера Флоридов, — здорово у нас готовят специалистов в мединститутах!» Впрочем, незадолго до нашего прибытия бригадиру грузчиков подвалила удача: медведь разодрал собаке морду, и Шульгин, торжествуя, на полчаса обрел статус хирурга. Собаке обмотали бечевкой морду («Чтобы не выражалась во время операции», — пояснил ассистент хирурга Пигузов), и Шульгин зашил раны. «Врачу — исцелися сам»?! Когда я однажды зашел к нему в гости, Саша лежал на животе и отчаянно страдал: на его теле вскочил здоровенный фурункул, причем на таком месте, о котором Вольтер писал, что «из глубокого уважения к дамам никогда не решится его назвать». Извернуться и самостоятельно вскрыть фурункул Саша не мог, дилетантам довериться не желал и посему два-три дня вынужден был выслушивать соболезнования умирающих от смеха визитеров. Содержание соболезнований я, следуя примеру Вольтера, приводить не стану. Но вскоре Сашин фурункул как главное развлечение отошел в тень: на станцию пришел медведь. И не на час, не на день и не на два, а на целых полторы недели! Над моим письменным столом висит его фотография, правда, без автографа — я не успел его взять. А если честно, медведь оказался неграмотным — видимо, его воспитанием никто всерьез не занимался. Историю моего Мишки — пусть за ним останется это имя, так как ни документов, ни визитных карточек при нем не оказалось — я частично изложил в повести «За тех, кто в дрейфе!», но, скованный тесными рамками повествования, многие важные эпизоды его биографии опустил. Попытаюсь восполнить этот пробел: за дни нашего знакомства мне удалось разговорить Мишку и кое-что выяснить. Вот его анкета. Возраст примерно два года, места рождения не помнит, пол мужской, род занятий — охота, рыбалка; семейное положение — холост, родственников за границей не имеет, под судом и следствием не был. Особые приметы: не курит, не пьет, людьми явно не пуганный, наивен, доверчив и общителен, как щенок; аппетит имеет зверский; излюбленное времяпровождение — сон, чистка шкуры путем катания по снегу, выяснение взаимоотношений с собаками; местожительство — камбузная свалка и ее окрестности. Как видите, Мишка был совсем еще не оперившимся юнцом, едва вступившим в самостоятельную жизнь. Как писал поэт, «его ланиты пух первый нежно отенял», или, другими словами, бритва не касалась его щек. Теперь стыдно вспомнить, но этого беззащитного, хилого, уставшего от долгой дороги подростка (вес — килограммов триста, рост — от кончика носа до хвоста каких-то два с небольшим метра) собаки встретили недружелюбно. Как сейчас помню эту картину. Первой, увлекая за собой свору, бросилась на медведя Белка — точнее будет сказать, в сторону медведя, ибо шагах в десяти от него она внезапно остановилась и подлаивала сзади. Но как только энтузиазм трех остальных собак иссякал, Белка вновь проделывала такой же трюк, держась на безопасном расстоянии [3]. Обиженный, недоумевающий Мишка удрал в торосы, а свора, сделав свое дело и гордо задрав хвосты, во главе с Белкой возвратилась назад. Между тем Пигузов объявил постоянную «медвежью тревогу», и как только Мишка выползал из торосов и вновь приближался к вожделенной свалке, на помощь собакам выходил дежурный и отгонял его ракетами. Но Мишка быстро к ракетам привык, гонялся за ними, поддевал их лапой и требовал: давайте еще, в жизни так интересно не играл! Более того: к Мишке стали привыкать собаки! Уже на второй день они не бросались на него всей сворой — подумаешь, много чести, медведя мы не видели! — а атаковали поодиночке, у кого было свободное время. Это и позволило Мишке осуществить свои заветные чаяния и обосноваться на свалке, в полусотне метров от камбуза. Нужно сказать, что в первые дни полярники относились к такому соседству настороженно, и основания для этого у многих были. Гера Флоридов, к примеру, на СП-19 чудом спасся от медведя — в последний момент, когда медведь уже настигал, успел нырнуть в домик. Зверюга был рослый, злой и очень худой. Упустив такой лакомый кусочек, как Гера, медведь разорвал собаку, но больше ничего натворить не успел — пристрелили. В желудке у него нашли одну лишь оболочку от радиозонда — отсюда и агрессивность, давно ничего не ел. И хотя наш Мишка вел себя вполне пристойно, бывалые предупреждали новичков, что этот подросток ударом лапы может свалить быка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
|||||||