 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Грин Александр :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Толстой Лев Николаевич :: Говард Роберт Ирвин :: Гарднер Эрл Стенли :: Коллектив Рубоард :: Астафьев Виктор Петрович :: Гоголь Николай Васильевич Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Бурый волк :: Память, говори (пер. С. Ильин) :: Родная страна :: Путешествие по аквариуму :: Выбор Наместницы :: The Boarding House :: Звезда с неба :: Надежды, разочарования, мечты… :: Тень стройной женщины |
ЗолотоModernLib.Net / Исторические приключения / Полевой Борис / Золото - Чтение (стр. 9)
Это движение водяных капель и порождало тот непрерывный печальный шелест, стоявший в лесу. Лес плакал. Точно поняв, о чем думает сейчас девушка, Матрёна Рубцова отделилась от группы женщин, подошла к ней и, легонько обняв, как подружку, как младшую сестру, шепнула: — А вы поплачьте — легче будет. Немало слез сейчас земля принимает… А жить-то надо, надо жить, девушка! «Где же, где я её видела?» — снова подумала Муся, смотря во все глаза на свою новую знакомую. 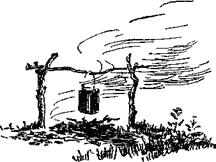  Часть вторая 1 Муся никогда не встречала Матрёны Никитичны Рубцовой до того самого дня, пока судьба военного лихолетья неожиданно не столкнула их на лесной поляне у раскрытой могилы Митрофана Ильича. Но первое впечатление не обмануло девушку. Она действительно не раз видела это красивое, строгое лицо, дышащее спокойной энергией, но видела не в жизни, а на фотографиях в газетах и журналах. Если бы Муся в минуту их встречи не была так потрясена, она, несомненно, вспомнила бы и фамилию и имя незнакомки, так как знатная животноводка Матрёна Рубцова была известна не только в тех краях, где жила Муся, но и по всему Советскому Союзу. Фоторепортёры местных и столичных газет, частенько навещавшие «Красный пахарь», любили её снимать. Фотоэтюд, на котором Матрёна Никитична, прижимавшая к себе две пёстрые телячьи мордочки, была сфотографирована в развевающейся по ветру шали на фоне тонких берёз, радостная, вся точно искрящаяся молодым весельем, получил золотую медаль на международном конкурсе. Снимок этот в увеличенном виде был издан приложением к известному иллюстрированному журналу, и с той поры портрет колхозной красавицы с телятами, образ которой как бы символизировал собою новую деревню, можно было видеть в предвоенные годы и в крестьянском доме, и в рабочей квартире, и в клубе, и в избе-читальне. К своей громкой трудовой славе Матрёна Никитична пришла не сразу. Не прост и не лёгок был её сравнительно ещё короткий жизненный путь. Мать Рубцовой, крестьянская сирота, воспитанная сердобольными соседями, была почти девочкой против воли сосватана за пожилого бобыля, батрачившего у помещика. У неё не было ничего, кроме молодости, редкой красоты да не знавших устали рабочих рук. У её мужа была ветхая пустая избёнка с поросшей зелёным мхом крышей, догнивавшая у околицы большого торгового села. Это был горюн-неудачник, не злой, но хмурый, неразговорчивый человек, давно отчаявшийся выбиться в люди. Матрёна отца не помнила. Он замёрз в поле, захваченный метелью в своей ветхой, рваной одежонке на пути из барской усадьбы в село. Матрёне минуло тогда три года, а её братишку мать кормила ещё грудью. Не избалованная жизнью, крестьянка стойко перенесла и это горе. Летом она неутомимо копалась на маленькой усадьбе за своей избой, помогала людям на сенокосе, на жнивьё и молотьбе, а зимой ходила поденно трепать чужой лён, вязала на продажу варежки и этим кое-как кормила своих малышей. С трех с половиной лет Матрёна оставалась нянькой при маленьком, а пяти уже помогала матери прясть и мотать шерсть. Земли у них не было. И долго, до самых зрелых лет, вспоминала Матрёна, как в те далёкие зимы, когда над заиндевевшей деревней в жёлтом морозном воздухе высоко поднимались неподвижные хвосты дымков, их избу совсем заметало. Сугробы надвигались на окна, наваливались на крыльцо, припирали дверь. Через дырявую крышу снег сеялся в сени, проникал в избу и узкой полоской ложился у входа. Ни один живой след не бороздил эти сугробы. Их никто не разгребал, не протаптывал. Мать ютилась на печке, закрывая детей заплатанной, вытертой, лоснящейся шубой. От зари до глубокого вечера, а то и за полночь, при мерцающем свете чадной лучины, она все вязала, вязала, вязала, как казалось маленькой Мотре, все одну и ту же варежку с коричневым узором, выведенным пряжей, окрашенной в луковой шелухе. Дыхание вылетало у неё изо рта белым паром. Она отрывалась от кропотливой работы только затем, чтобы переменить лучину, засунутую меж кирпичами печной трубы, погреть у себя подмышками заледеневшие пальцы. Часто её схватывал хриплый кашель, такой тяжёлый и надсадный, что детям казалось, будто что-то лопается у неё в груди. Весной, когда снег сгоняло и под окнами смолкала тяжелая капель, а на старой вербе, что росла на огороде, начинали отчаянно гомонить грачи, Мотря помогала матери копаться на усадьбе во влажной земле, отдающей теплом, сыростью и острым запахом прелого навоза. Это была самая счастливая пора. Мать, помолодевшая, похорошевшая, с неестественно ярким румянцем, разлитым по смуглым щекам, ловко действовала старой лопатой. Мотря и маленький Колька разбивали слежавшиеся комья земли, выбирали коренья сорняков с высоких гряд, взбитых, точно пуховики. Возбуждённо, по-весеннему орали грачи, восстанавливая свои повреждённые вьюгами гнёзда, солнышко грело, прозрачная дымка колебалась над чёрной влажной землёй. И вдруг мать принималась кашлять, лопата вываливалась у неё из рук, и она бессильно опускалась на землю, покрытую бурой, прошлогодней травой. Откашлявшись, мать сплёвывала кровью куда-нибудь подальше в сторону. Девочке становилось жутко. Иногда, поднявшись на заре, когда их сверстники ещё спали, Мотря с Колькой, захватив ведёрко, отправлялись по селу собирать навоз для огорода. Они старались управиться до того, как погонят стадо. Но навозу было нужно много, приходилось ходить и днём, и тогда крестьянская детвора бегала за ними, кидала в них сухие конские яблоки и кричала на все лады: «Навозные побирушки! Чахоткины дети!» «Навозные побирушки» — это было ещё терпимо, но «чахоткины дети» — это касалось матери. И тут иной раз тихая, застенчивая Мотря не выдерживала обиды, хватала первый попавшийся под руку камень-голыш, осколки кирпича или палку и с плачем бросалась на своих мучителей. Из дневных вылазок за навозом дети часто приходили с пустым ведром, избитые, исцарапанные, в слезах. Мать утешала их, смывала у колодца кровь, вздыхала и грустно повторяла все одну и ту же пословицу: «С сильным не дерись, с богатым не судись». И хотя ребятам весь день приходилось копаться на огороде, собирать навоз, таскать из колодца воду для поливки, а когда мать уходила батрачить на чужой сенокос, то и самим поливать, полоть, подкармливать овощи, — летом все было нипочём. Поднималась молодая трава, в полях появлялась кислица, у заборов росла свежая крапива. Из крапивы и кислицы варили щи. Потом начинались ягоды, за ними шли грибы. Их можно было не только есть, но и продавать дачникам. Потом поспевали овощи. В эту пору даже в грустных, оттенённых большими синими кругами глазах матери зажигались весёлые искорки. В иной погожий летний вечер, когда вместе с ленивым пением разомлевших на жаре петухов и стуком отбиваемых кос в избу через открытые крохотные окошки просовывались золотые снопы солнечных лучей, мать принималась расчёсывать старым деревянным гребнем свои длинные волнистые косы, затем выкладывала их широким венцом на крупной, гордо посаженной голове и подолгу смотрела на своё отражение в радужно отливающем тёмном стекле. При этом она всегда пела одну и ту же грустную песню: Хороша я, хороша, Плохо лишь одета, Никто замуж не берет Девушку за это… Мотря усаживалась у её ног и мечтала, как вырастет она большая, как будет работать у господ, работать от зари до зари, как наживёт она много денег и купят они козу, и будет у них молоко, которое так нужно для здоровья матери. Мать поправится, все вместе станут трудиться, поднимутся, починят крышу, купят стол, скамейки, будут жить как люди, и никто не посмеет дразнить её и Кольку «чахоткиными детьми» и бросать в них конским навозом. А мать будет всегда такая же красивая, весёлая, какой она бывает в эти редкие летние вечера. Главное — сколотить денег и купить козу. Соседка Агафья все время толкуёт, что жирное козье молоко в два счета поставит мать на ноги. Эта коза, казавшаяся избавительницей от всех бед, превратилась для девочки во что-то сказочное, как перо жар-птицы, как цветок Ивановой ночи. Разгоралась война. Никто не хотел больше продавать шерсти. Покупатели варежек — возчики, прасолы, мелкий торговый люд — наступали в Восточной Пруссии, гнили в окопах на равнинах Польши. Чтобы спасти ребят от голодной смерти, мать Матрёны Рубцовой, заперев Кольку в холодной избе и наказав ему никому не открывать, вместе с дочкой отправлялась собирать подаяние. Просить в своём селе ей не позволяла природная гордость, да своим и не подавали. Мать с дочерью обходили обычно дальние деревни — Мигалово, Кадино, Пожитново — и большое волостное село Ключи. Подавали скудно. Иная тётка и рада бы, да у самой кусок на счёту. И в избу пустит и погреться даст, а насчёт хлеба — ступай с богом, самим нечего есть. Иной раз, проходив в день вёрст пятнадцать-двадцать, мать и дочка возвращались домой с десятком сухих, заплесневевших горбушек, которых едва хватало на два-три дня. На сельской улице Мотре с Колькой теперь и вовсе нельзя было показаться из-за ребячьих выкриков: «Нищенки-вшищенки!» Мать умерла весной, в половодье, когда Матрёне шёл двенадцатый год. Сельский сход решил назначить сиротам опекуна. Но Мотря, помня историю матери, наотрез отказалась. Она заявила, что никому до них с Колькой дела нет, они сами себя как-нибудь прокормят. Дети упорно работали зиму и лето, работали и днём, а часто и ночью. Умирая, мать наказывала девочке кормиться от огорода. И Мотря с прежним старанием выращивала овощи, носила их на базар в волостное село. Летом помогала на сенокосе и уборке зажиточным соседям; зимой, по примеру матери, пряла и сучила шерсть, красила пряжу луковой шелухой, вязала варежки. Так прожили дети несколько лет. Мотря стала рослой, крепкой, не по годам серьёзной девочкой, ловко управлявшейся с жалким хозяйством. Она была смышлёна, расторопна, молчалива и вынослива. Заприметив в подросшей девчонке эти качества, сельский богатей Егоричев «сжалился» над нею и взял её на сезон батрачить. По неписаным сельским тарифам тех лет ей положено было при хозяйских харчах за сезон: куль муки да платье или полусапожки с резинками — на выбор. Но девочка взамен этого попросила у хозяина телку. Егоричев, спрятав ухмылку в реденькой бородёнке, согласился. У него во дворе стояло восемь коров симментальской породы, и такой способ расплаты его вполне устраивал. Ох, как работала это лето Мотря на чужих полях! Без хозяйской побудки она поднималась задолго до того, как начинало белеть в щелях ворот сенного сарая, где спали батраки, а ложилась с последними петухами. И на скотном дворе, и на хозяйских огородах, и на лугах в сенокос, и на полях в жнивьё она трудилась наравне со взрослыми. Надежда на хозяйскую благодарность подогревала, подстегивала девочку. Мечта о красной телке с белыми пятнами, с бархатистой шерстью и круглыми задумчивыми глазами помогала ей переносить непосильный труд, насмешки кое-кого из батраков и батрачек, невзлюбивших её за чрезмерное усердие на хозяйском деле. Лишь на минуту по пути на луг или на поле она забегала проведать Кольку, оставить ему короткие распоряжения по дому и огороду. Впрочем, хмурый и молчаливый мальчик, тоже захваченный мечтой о собственной скотине, ухитрялся поспевать не только с огородными делами. Упросив соседа отбить ему старую косу, найденную на чердаке, он сам насадил её на косовище и по утрам отправлялся с ней в соседний казенный лес. Там он тайком выкашивал травянистые проплешины меж деревьев. Сено затемно перетаскивал в мешке к себе и набивал им пустующую половину избы. И вот мечта сбылась. Поздней осенью, когда в просторном и крепком хозяйском сарае дотрепывали последний лён и развешивали на жердях под крышей шелковистые кулитки, в сутулой, подслеповатой избёнке появилась телка. Дети, не сговариваясь, сразу назвали её Козочкой в честь той козы, что в их мечтах должна была спасти, да так и не спасла их мать. Эту телку сам Егоричев привёз сиротам в плетёном своём шарабане. Вела себя телка странно: ни за что не хотела стоять и вяло отворачивалась от вкусного пойла. Почуяв недоброе, Мотря побежала к соседям. Осмотрев телку, сосед только погрозил кулаком в сторону высокого егоричевского дома, плюнул и, стараясь не смотреть на оторопевших сирот, вышел из избы. А соседка, всплакнув вместе с Мотрей, объявила, что телка больна поносом и не жилица на этом свете, что лучше, пока не поздно, прирезать её — по крайней мере, хоть мясо можно будет продать. Бросилась девчонка с братом к Егоричеву, ворвалась в дом, на чистую половину, где тот за самоваром торговался со скупщиком льна, и объявила, что телка околевает. Егоричев — маленький, тщедушный человечек с морщинистым, в кулачок лицом, на котором бегали живые ласковые глазки, — сначала было завздыхал, заохал, принялся сочувствовать и соболезновать. Когда же Мотря сквозь слезы стала его стыдить и спрашивать перед гостем, разве она плохо, разве мало она работала, Егоричев только руками развёл: работала, слов нет, хорошо, рук не жалела, но ведь и он своему слову господин. Рядились за телку — телку и получила, да не какую-нибудь деревенскую замухрышку — отборных кровей, чистой породы. Верно, не лучшую дал, но уговора о том не было, да и кто ж себе враг? Стало быть, и шуметь и людей почтённых попусту рёвом беспокоить нечего… Посоветовали Мотре дойти до председателя комбеда, хромого матроса Игната Рубцова, недавно вернувшегося с гражданской войны. Выслушал Игнат девчонку, сжал огромный волосатый кулачище, так что на натянувшейся коже заблестели вытатуированные на нем якоря и русалки, посулил мироеду такого, что девочка чуть не сгорела со стыда, а потом сказал хмуро: — Ничего, брат девка, не поделаешь. Форму чёртова гидра контрреволюционная соблюл! Его ни судом, ни комбедовской резолюцией не подковырнёшь. Разве вот только в «Бедноте» или в «Лапте» его продёрнуть или набить ему, пауку, морду в праздник под пьяную руку за такие его дела, за сиротскую обиду. А телка уже и не поднималась, хирела с каждым днём. Мотря и Колька сбились с ног, не спали возле неё по ночам. А когда телка начала уже и вовсе закатывать глаза, девочка снова кинулась к соседу, выпросила у него ручные салазки, настелила на них сена, положила в него Козочку, и, впрягшись в верёвочное ярмо, дети отвезли её за семь километров, в Ключи, в сельскую больницу. Они подтащили салазки к больничному крыльцу, подняли телку на руки и на глазах обомлевших от удивления больных пронесли её прямо в докторский кабинет. Врач сначала пришёл было в ярость, затопал ногами, стал звать сторожа и требовал, чтобы ребят вместе с их паршивой телушкой вышвырнули вон из храма медицины. Но брат с сестрой так плакали, так горячо просили, что он почувствовал наконец за всей бестолковостью этого странного визита лихую сиротскую беду. Сменив гнев на милость, врач приказал перенести телку в тёплое стойло больничной лошади, после приёма осмотрел необыкновенного пациента и, проконсультировавшись по телефону с уездным ветеринаром, приказал провизору приготовить микстуру, которую сам и влил Козочке в рот с помощью резинового баллончика… Весной, когда тощая и грязная скотина, вся облепленная навозной коростой, с пьяным, возбуждённым рёвом хлынула из прогонов на ещё полную непросохшей грязи, но уже прорастающую зелёными сабельками свежей травы сельскую улицу, Матрёна и Колька выгнали в стадо свою Козочку, предварительно окурив её, по обычаю, духмяным дымом богородицыной травы. Летом Мотря опять батрачила у Егоричева. Это была длиннорукая девчонка-подросток, с ребячьим пушком на щеках и с круглыми чёрными глазами. Но рядилась на работу она уже вместе со взрослыми и работала не меньше иного мужчины. И какой бы страдный ни выдавался день, как бы ни ломило от работы кости и ни клонило в сон, она, отказав себе в отдыхе или урвав немного времени от ужина, всегда ухитрялась забежать домой, чтобы позаботиться о братишке, взглянуть на свою любимицу, погладить её жёсткую лоснящуюся шерсть, дать ей густо посоленную хлебную корку, утаённую при ужине, или хрустящий ранний огурец, унесённый в рукаве из хозяйских парников. Из всех многообразных дел, которые Мотре приходилось с утра и до ночи выполнять в хозяйстве Егоричева, любила она лишь работу в коровнике. И хотя царствовавшая здесь Егориха была известна как самая сварливая баба в волости, хотя она не давала девочке ни минуты покоя и не скупилась на пинки и подзатыльники, Мотря безропотно переносила их, стараясь подсмотреть, как хозяйка обхаживает своих славившихся на весь уезд коров, чем кормит, как поит их, и все это запоминала для своей Козочки. На зиму девочка перевела телушку в избу. Они с братом за семь километров возили на санях в бадье из больницы помои, которые доктор, растроганный сиротским горем, приказал собирать для своей бывшей «пациентки». Дети отказывали себе во всем, порой просто голодали, но Козочка питалась не хуже, чем егоричевское стадо. И вскоре у Матрёны была лучшая телушка в селе. Зажиточные мужики, даже сам Егоричев, наперебой подбивали девчонку продать Козочку или поменять на другую корову с щедрой придачей. Мотря вспыхивала гневом. Разве Козочку можно продать? Это была осуществлённая мечта, это была надежда на сытую жизнь. Козочка была любимым членом сиротской семьи. Мотре некогда да и не в чем было ходить в школу. Но брата она заставила учиться и с его помощью, по его учебникам сама потом выучилась читать и писать. В год, когда Козочка, впервые отелившись, принесла маленького крепкого лобастого бычка и начала давать такую уйму отличного молока, что Мотря стала постоянной поставщицей волостной больницы, случилось событие, сразу повернувшее жизнь сирот. По селу прошёл слух, что колченогий Игнат Рубцов, тот самый, к которому бегала когда-то девочка с жалобой на Егоричева, организовал какую-то сельскохозяйственную коммуну «Красный пахарь». Говорили, что под эту затею волисполком отвёл помещичью усадьбу с парком и даже самый барский дом. У Егоричева, где все ещё батрачила Мотря, коммуну эту сразу перекрестили в «Красного калеку», потому что первыми, как посмеивался хозяин, вошли в неё калеки: кроме самого Рубцова, кривой шорник Зозулин Никита, сухорукий подпасок Женька, а за ними уже потянулась всякая голь-беднота из окрестных деревень, будто бы обрадовавшаяся возможности отщипнуть кусок от дарового пирога. Мотря слушала хозяйские кривые шуточки и не верила им. Несколько батраков, самых дельных и самых толковых, сразу же, не дожидаясь уплаты за отработанное, подались от Егоричева в «Красный пахарь». Да и самого Игната Рубцова, широкоплечего, дюжего человека, в дни революционных праздников ходившего по селу с большим красным бантом на старом форменном бушлате, девочка привыкла уважать уже за одно то, что его не любили Егоричев и другие богатей. И вот в воскресенье она вместе с братом явилась в бывший господский дом, меж колоннами которого на натянутых верёвках сохло теперь латанное-перелатанное бельё; дети зашли в разгороженные тёсом на маленькие каморки покои, гудевшие и гомонившие, как растревоженный улей, и где-то под самой крышей, в крохотной комнатке с косым потолком, нашли колченогого матроса и спросили: — Сирот в коммуну берут? Матрос басовито захохотал. Как же не брать! Сироте в коммуне — красный угол! Сам увлекаясь, он начал рассказывать ребятам, как коммуна оградит людей от кулацкой сволоты, с азартом доказывал, что работать совместно куда спорее, и кончил тем, что принялся рисовать картины необычайной и светлой жизни, которая ждёт коммунаров впереди. Недаром, должно быть, говорили по деревням, что был Игнат Рубцов в Октябрьские дни любимым оратором на своём корабле. Мысль о справедливой жизни крепко запала ребятам в сердце. И как ни грозился Егоричев, как ни шипела Егориха, накликая беды на беспутного матроса, морочащего голову несчастным сиротам, как ни советовали детям степенные соседи подождать да поглядеть, как и что будет, Мотря с Колькой, поверив Рубцову, записались в коммуну, решив, что жить хуже, чем они жили, все равно нельзя. Вместе со своими пожитками, для которых и телеги не потребовалось, отдали брат с сестрой в коммуну единственное своё настоящее имущество, свою радость и надежду — Козочку и её первенца, длинноногого лобастого бычка красной масти со звёздочкой на лбу. В те дни случалось, что люди перед вступлением на неведомый ещё коллективный путь иной раз тайком распродавали свой инвентарь, а скот ставили во дворы к своим родичам: дескать, посмотрим, как оно там повернётся, и если падать придётся, то стоит соломки подстелить на всякий случай… Козочка была введена в огромный, пустовавший двор коммуны второй по счёту, вслед за собственной коровой Рубцова. И хотя всем землякам известно было, что матрос человек геройский, что за империалистическую войну имел он полный бант георгиевских крестов, а в гражданскую получил от командования за храбрость кожаные куртку и шаровары да серебряную саблю, прошёл по деревням слух, будто не выдержал он и заплакал при всем народе, принимая от сирот их щедрый вклад, а потом будто сверкнул влажными глазами и сказал коммунарам, столпившимся во дворе по случаю необычайного события: — Назовите гадом Игнашку Рубцова, в глаза ему плюньте, если через десять лет не зацветёт наша коммуна и не будет у нас столько скота, что когда наше стадо вечером с лугов пойдёт, пыль из волости видна будет! А на следующий день приходили к Рубцову делегаты сельского схода, корили, урезонивали матроса и взяли с него обещание, что если коммуна прогорит, он не продаст Козочку и вернёт её сиротам. «Красный пахарь» не прогорел. Были в нем на первых порах и дармоеды, хватало бестолковщины, неурядиц, пережил он приливы и отливы, всеми болезнями переболел. Но вокруг матроса-большевика постепенно образовалось сплочённое ядро людей, веривших в правду коллективной жизни, не унывавших при невзгодах, не поддававшихся ни на какие провокации. И хотя виски матроса от вечных забот поседели до срока, а по широкой скуле прошёл синий рваный шрам от кулацкой пули, выпестовал он вместе с коммунарами сильное новое хозяйство и, перестроив его потом, в годы великого перелома, по желанию односельчан, из коммуны в артель, вскоре сделал самым богатым колхозом в районе. Хороши были в «Красном пахаре» и поля, и пчелы, и льны, и пруд, где отгуливались зеркальные карпы. Но славой его, предметом гордости и особых забот артельщиков была племенная скотоводческая ферма. От чистопородной коровы Козочки, приведённой сиротами в первые дни коммуны, и от могучего племенного производителя Чемберлена, выросшего из маленького красного бычка с белой звёздочкой на упрямом лбу, пошли два рода потомства, превратившиеся со временем в отборное племенное стадо новой породы скота, улучшенной в «Красном пахаре». Вместе со своей артелью выросла, поднялась, прочно встала на ноги, приобрела громкую трудовую славу и Матрена. Брат её Николай, летом помогая сестре на ферме, зарабатывая трудодни на сенокосе и уборке хлебов, окончил школу второй ступени, затем уехал в Ленинград и больше уже не вернулся в родной колхоз. Он стал ученым-лесоводом и работал где-то далеко в субтропиках. Матрёна уже взрослой девушкой училась в вечерней школе крестьянской молодёжи. С годами она стала образованным человеком, пристрастилась читать животноводческие журналы и брошюры и все, что находила в них интересного и ценного, старалась применить у себя на ферме. Она измучила правленцев постоянными требованиями новых и новых усовершенствований оборудования скотных дворов, ставила смелые зоотехнические опыты, вела записи своих наблюдений, состояла в переписке с животноводческим институтом. А когда лучших животноводов страны пригласили на совещание в Кремль, поехала туда и бывшая бедняцкая сирота Матрёна Никитична. Высокая, статная, не смущаясь, с крестьянской степенностью вошла она в зал заседаний, с чувством большого достоинства уселась на своё место. Она неторопливо положила перед собой очиненный карандаш, блокнот и оглядела искоса, вправо и влево, взволнованных соседей по скамьям, и красивое лицо её стало ещё спокойней. Но когда в президиуме появился Иосиф Виссарионович Сталин и с ним руководители партии и правительства, которых Матрёна Рубцова никогда в жизни не видела, но которых сразу же узнала по портретам, она не выдержала, вскочила вместе со всеми, радуясь и рукоплеща. В течение всего совещания делегатка «Красного пахаря» спокойно, внимательно слушала речи, делала записи. Взгляды окружающих часто останавливались на статной русской красавице, так и просившейся на полотно. Наблюдая её, естественно, с природным достоинством сидящую в этом торжественном кремлёвском зале вместе с руководителями партии и государства, трудно было себе представить, что женщину эту дразнили когда-то «чахоткина дочь», что соседние дети брезговали с ней играть, что ходила она в рваных лаптишках, под чужими окнами выпрашивая кусок хлеба на пропитание. Лет за десять до войны, когда слава «Красного пахаря» только ещё начиналась. Матрёна Никитична вышла замуж за Якова Рубцова, колхозного конюха, сына того самого матроса Игната, которому она когда-то так беззаветно доверила свою Козочку. Это был застенчивый, невидный собой парень. Они сиживали рядом на комсомольских собраниях, вместе в зимние вечера, иной раз в метель и вьюгу, ходили за семь километров в Ключи на занятия в школу крестьянской молодёжи. Яков приглянулся Мотре своей сердечностью, скромностью, тем, что никогда не хвалился, не лез вперёд, готов был каждому помочь чем мог, а в делах общественных был строг, неуступчив и твёрд. У пригожей девушки, чья слава гремела по всей округе, не было отбоя от женихов. Были среди них и красавцы и ухари. Писал ей пространные письма «с намёком» молодой районный агроном; как говорится, «с ходу» сделал ей предложение пылкий командир кавалерийского эскадрона, расквартированного в «Красном пахаре» на недолгий постой во время корпусных манёвров; белокурый симпатичный аспирант животноводческого института, приезжавший собирать материалы для книги о новаторах животноводства, звал девушку учиться в Москву, а заодно робко и нежно намекал на возможность и более прочного и длительного союза науки с практикой. Но не эти завидные женихи, а тихий скромница Яша, красневший и тушевавшийся при девушках, сам того не ожидая, покорил сердце разборчивой красавицы. Она сама однажды, когда они возвращались с районного комсомольского актива, неожиданно заявила, что боится состариться, пока он наконец решится её поцеловать. Ошалев от счастья, Яша с таким старанием стал доказывать ей обратное, что они и не заметили, как лошадь, не чувствуя вожжей, свернула в овсы, и увидели это только тогда, когда с накренившейся телеги оба уже летели в придорожную канаву. Свадьба их стала в районе целым событием. На неё приехали даже представители газет, следивших за трудовыми подвигами молодой колхозницы. Но сельские кумушки, отдав дань обильному угощению, вздыхали и предсказывали, что долго молодые вместе не проживут: очень уж «неравная пара». Вопреки всем этим предсказаниям, в новом, по типовому архитектурному проекту построенном доме, куда въехали молодые Рубцовы, царили совет да любовь. Многообразные колхозные дела, растущая слава не помешали Матрёне Никитичне стать хорошей матерью трех ребят. Рубцовы первыми отказались от своего приусадебного участка, заявив, что им с избытком хватает заработанного на трудодни, и этим самым повергли в немалое смущение районных руководителей, не знавших тогда, как им отнестись к такому случаю и не является ли почин молодой пары «перегибом». Колхозные ходоки, приезжавшие с разных концов страны в «Красный пахарь», чтобы ознакомиться с опытом передового животноводства, обязательно осматривали также и дом молодых Рубцовых. Хозяйственные председатели, собиравшиеся строиться, даже срисовывали для себя его необычную островерхую, черепицей крытую кровлю, под которой была светёлка, терраску с резными деревянными столбиками, заменившую традиционное крыльцо, пересчитывали венцы брёвен, примеряли, прикидывали. Уезжая к себе домой, они вместе с опытом племенного животноводства, вместе с рецептами кормов, чертежами кормушек, планами коровников развозили по стране и весть о том, как славно живёт знаменитый животновод Матрёна Рубцова со своим мужем — скромным колхозным конюхом Яковом. Фотографии Матрёны Никитичны то и дело мелькали на страницах газет и журналов. Почтальон ворчал на то, что устал он носить ей письма со штемпелями всех городов страны. Игнат Рубцов, бессменно руководивший «Красным пахарем», шутил, что он уже в пиджаке дырку просверлил для золотой медали за животноводческие экспонаты своего колхоза и рамку заказал для диплома Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Но война неожиданно сломала все эти радостные планы, всю с такими трудами налаженную жизнь. 2 Уже в первую ночь войны над «Красным пахарем» в зеленоватой предутренней мгле пролетела на восток вереница чужих самолётов, направлявшихся бомбить мирные города. Бабка Прасковья Нефёдова, возвращавшаяся в эту пору из телятника после бессонной ночи, проведённой возле хворой телки, божилась потом, что разглядела на их крыльях какой-то чудной, «антихристов» знак. А под вечер Матрёна Никитична вместе с другими женщинами уже стояла у околицы, смотря сквозь слезы, как, багровея в золоте заката, оседает на дорогу пыль, поднятая подводами, на которых колхозники призывных возрастов отправлялись в районный военкомат. Был среди них и Яков Рубцов. А отец его, Игнат, на второй день войны, усевшись в плетёный кузов своей двуколки, отправился провожать на мобилизационный пункт колхозных рысаков с конефермы. Перед отъездом он как-то необыкновенно долго и торжественно прощался со снохой и целовал внуков. Матрёна Никитична заметила в повозке туго набитый вещевой мешок и поняла, что не в конях тут дело. Так оно и было. Сдав коней военным приёмщикам, председатель колхоза отправился в райком. Стараясь не хромать, вошёл он в кабинет первого секретаря, заявил о своём желании идти на фронт и потребовал, чтобы за него, как за члена пленума райкома, походатайствовали перед комиссией военкомата. Годы не в счёт, нога не помеха. Уж что-что, а военное дело бывший георгиевский кавалер и красный моряк знает! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
|||||||