 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Грин Александр :: Толстой Лев Николаевич :: Сименон Жорж :: Лондон Джек :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: Рагнарёк :: Скандальная леди :: Любовь на темной улице (сборник рассказов) :: The Boarding House :: Женская интуиция :: Справочник по реестру Windows XP :: On Basilisk Station :: Чудовище :: Афоризмы :: Дюна (Книги 1-3) |
К своей звездеModernLib.Net / Советская классика / Пинчук Аркадий Федорович / К своей звезде - Чтение (стр. 23)
Зазвонил телефон, он нехотя снял трубку. – Новиков, слушаю. – Здравствуй, Новиков, – с сердитой нежностью сказала Алина, – ты думаешь меня из госпиталя забирать или хочешь без меня улетать? – Выписывают? – встрепенулся он. – Выписали. Сижу у доктора, слушаю рекомендации. – Я мигом! – пообещал Новиков и, бросив летную книжку в сейф, выбежал во двор. – Здравия желаю, Сергей Петрович, – чуть не столкнулся с ним капитан Большов. – Где твой «мерседес»? – Новиков протянул Большову руку. – Жену из госпиталя надо забрать. Большов улыбнулся. – Я ее туда отвозил, значит надо и назад вывезти. Прошу! – Он сделал картинный жест в сторону стоящих неподалеку «Жигулей». – Чувствуете, как шепчет моторчик? – спросил Большов, когда они выехали за ворота части. – Шведские свечи поставил. Вы пристегнитесь на всякий случай. ГАИ цепляется… Нет, не так. Это инерционные ремни. Тоже шведские. Прямо натягивайте – и в замок. – Да, – нарочно восхитился Новиков, – тачка у тебя – класс! – Так это ж не всем дано оценить, – в голосе Большова звучало огорчение, – вот вы сразу поняли, а другому рассказываешь, показываешь, а он только плечами пожимает. – Многие просто высказать не могут, – успокоил его Новиков, – а хорошее каждый понимает. Он говорил еще какие-то приятные слова водителю, вполне заслуженные, потому что салон его автомобиля и в самом деле свидетельствовал о влюбленном отношении к технике, а сам путано думал о предстоящем разговоре с Алиной. Он должен помочь Волкову обосноваться на новом месте, ну хотя бы месяца три-четыре еще побыть в полку. А уж потом вернется сюда. Но как все это преподнести Алине, чтобы не взволновать ее? Он точно знал: самое действенное лекарство для нее – хорошее настроение, душевное равновесие. Любое прикосновение к запретной теме отзовется болью. Вообще не говорить – тоже нельзя. Алина сразу учует, что за недомолвками скрыто нечто тревожное. – Цветы бы купить, – попросил он Большова. – Понятно, – сказал водитель и включил сигнал поворота. Справа была улочка, ведущая к вокзальному рынку. Новиков вошел в фойе госпиталя с огромной охапкой садовых цветов. Алина, увидев мужа, неторопливо встала с низенькой скамеечки, так же неторопливо подошла к нему, по-деловому забрала букет и лишь тогда прислонилась к его плечу. – По-моему, – улыбнулся Новиков, – в этом госпитале не только лечат. Ты стала просто неотразимой. – Смеешься? – с тихой радостью упрекнула Алина. – Кожа да кости остались. А почему сын не приехал? – У сына уже свои женщины. Музей в школе реконструируют, не до нас ему. Руководит бригадой девочек. – Как быстро время бежит! – Ну-ну, – похлопал ее Новиков по плечу. – Мы с тобой еще поживем. – Когда? – Слушай, – Новиков уходил от разговора, – давай выйдем во двор. Не люблю этих больничных запахов. – Ну давай, – согласилась Алина. Однако уже на крыльце опять спросила: – На службе-то как? – Да как тебе сказать… – Как есть, так и скажи. – Наверное, хорошо. Оставляют меня здесь. – А полк? – А полк летит. – Что ж хорошего? – Знаешь, накочевались мы с тобой, хватит. Тут даже интересней будет. В своем полку уже всех изучил. Вроде прочитанной книги. А тут все новенькие. Каждый – загадка. Ну, что ты на меня так смотришь? Не прав, что ли? – Ну, почему же, все правильно. Полк летит на Север, а замполит остается в обжитом городке. Она посмотрела ему в глаза ясно и добро, провела мягкой ладонью по щеке. – Хватит хорохориться! Убедить себя пытаешься? Звони ты, Сережа, начальнику политотдела. Поедем мы с полком. Будем вместе – это главное. Остальное, как говорит один очень симпатичный ас, – дым. До самого дома они больше не проронили ни слова. Переполненный благодарностью к самому близкому человеку на земле, Новиков нежно придерживал ее за хрупкое плечо своей широкой ладонью. А она уютно жалась к нему под мышку, то и дело бросая исподлобья ласковые взгляды. «Алина права, – думал Новиков, – не заметили, как вырос сын, не заметим, как улетят остальные годы – такая малость по сравнению с вечностью. Разве можно добровольно соглашаться на долгую разлуку? День врозь – и то глупо!» У дома он попросил Большова подождать его минутку. А когда захлопнулась за ним дверь, взял в обе ладони ее лицо и осторожно поцеловал глаза, брови, щеки, губы. Сказал: «Я скоро» – и на Санькин манер – через три ступеньки – сбежал вниз. Когда подъезжал к штабу, сразу увидел: вернулся Волков. Его машина стояла на отведенном еще Чижом для нее месте. Водитель читал книгу. Значит, Волков ненадолго в штаб заскочил. – Вопрос твой, Петрович, решен, – сказал он, увидев входящего в кабинет Новикова. – Трудно мне будет без тебя. Привык, знаешь, что кто-то ежедневно портит кровь. Все время ушки на макушке… – Ну, за это не переживай, – ответил Новиков серьезно. – Чего-чего, а крови я тебе еще попорчу. – Что ты хочешь сказать? – Волков боялся поверить в догадку. – Алина моя унты примеряет, Иван Дмитриевич… Рассказывай лучше новости. Волков улыбнулся, ткнул замполита кулаком в плечо и, застеснявшись нахлынувшей нежности, резко раскрыл папку. – Летим, Петрович… Все наши кадровые предложения командующий утвердил. Результатами работы за минувший месяц, кажется, доволен. – Ты-то как? Насчет повышения? – О чем ты говоришь? Лучше о деле. Звонок телефона прервал разговор. И Новиков, поскольку стоял у самого аппарата, снял трубку. – Сергей Петрович, Маша Волкова беспокоит, – пропела трубка. – Ваня в Ленинграде, а тут сын приезжает. Позвонил, что много вещей, старики фруктов насовали. Если появится мой, скажи, на вокзал поехала. – Как дела у Гешки? – В летное поступил, дали ему неделю отпуска по семейным обстоятельствам. – Женится? – Еще чего? Отца повидать хочет. – Здесь он, Маша, передаю трубку. Волков уже понял, что разговор о сыне, и подошел к телефону. Маша, видно, сразу сказала, что сын поступил в училище, потому что Волков еще больше заволновался. – И кто его, такого разгильдяя, принял? – В голосе Волкова зазвучали ворчливые, но ласковые нотки. – Из него летчик, как из меня балерина… Да нет, сейчас заеду, вместе встретим. Ну перестань, за кого ты меня держишь, встречу как положено. Надо же, шалопут вислоухий, – в летное поступил… Буду сейчас, подожди. – Поздравляю! – сказал Новиков, когда Волков задумчиво опустил трубку на рычаг. – Жизнь продолжается. – Жизнь, она и в Африке жизнь, Петрович, – он хмыкнул, качнул головой. – Пакостник, сюрприз батьке подкинул. Как мне теперь на него сердиться? Как воспитывать? Прав-то он! Кругом прав! Это же полное уничтожение отцовского авторитета! Хоть проси прощения у этого сопляка! Нет, хорошо бы на всякий случай ремнем отодрать. А-а, – Волков махнул рукой, – поехал!.. Они вместе вышли из штаба. Остановились на крыльце. Здесь была тень, и уже ощущалась вечерняя прохлада. Волков рассказал, как по пути едва не наехали на лосиху с лосенком. – Привык зверь к человеку. Вышла, понимаешь, на шоссе и шпарит по обочине, как корова. Психология другая у лесных животных. Поверили человеку. Великое это дело, Петрович, когда тебе верят. Оправдывать хочется. – Давно понял? – Лучше позже, чем никогда. – Волков вдруг с болью посмотрел Новикову в глаза. – Он верил в меня больше, чем я сам. Знал меня лучше, чем я сам. Что это, Петрович, дар природы? – Это труд души, Иван Дмитриевич. Любому нашему слову, любому поступку должен предшествовать труд души. Прежде чем что-то сказать или сделать, взвесь, подумай, представь, к чему твой поступок или слово может привести. Слова ранят, оставляют рубцы, травмируют психику. А он умел бережно со словом обращаться. Умел присматриваться к нам, знал каждого. Из подъезда учебного корпуса шумно вывалила группа молодых летчиков. Заметив командира и замполита, они цыкнули друг на друга, поправили фуражки, подтянулись. Поравнявшись со штабным крыльцом, дружно вскинули к виску напряженно вытянутые ладони. Опустив руку, Волков позвал: – Старший лейтенант Горелов! – Я! – Руслан остановился, подошел. – Где ночуешь, Горелов? – с улыбкой спросил Волков. – Дома, товарищ подполковник. – Руслан облизнул губы. – Давно бы так. – Я же должен ее воспитывать. – В свободное от службы время. – Разрешите идти? Волков спустился с крыльца, поправил на груди Горелова закрутившийся галстук и тихо сказал: – Завтра с утра примешь у Ефимова звено. Понял? – Есть принять звено! – голос у Руслана сорвался, и он несколько раз кашлянул. – А Ефимов? Волков засмеялся: – А Ефимов примет у Пименова эскадрилью. Есть еще вопросы, любопытная душа? – Никак нет! Новиков протянул Руслану руку. – Поздравляю. Выходит, не зря ты ушел из морской авиации?.. Что растерялся? Беги, догоняй… Руслан и вправду растерялся. Не далее как сегодня утром он написал ответ кадровикам о своем решении вернуться в морскую авиацию. Решение далось ему в сомнениях и не принесло желаемого удовлетворения. Какие-то незримые ниточки уже привязали его сердце к этому полку, и любая попытка оборвать их приводила его в напряжение, причиняла боль. Лиза уклонялась от советов. «Как хочешь, так и поступай, – сказала она, – мне все равно». Сегодня он проснулся в пять утра и больше заснуть не мог. Шторы они на ночь не закрывали, и в комнате уже полз по стене яркий солнечный «заяц». Лиза спала безмятежным сном. Какой глупой в эти утренние часы показалась ему отшумевшая ссора. Из-за чего они отравляли друг другу жизнь, из-за чего разжигали ненависть? Разве не проще было в первый же вечер спокойно выяснить все, посмеяться над своими глупыми подозрениями, извиниться, шутливо поползать у нее в ногах, а потом прижать к себе и сказать: «Все потому, что люблю и ни с кем не хочу делить». Или что-нибудь в этом роде. Так нет, нагородили такой огород, что только смерть Чижа их окончательно и примирила. Оба и сразу отрезвели. Словно кончилась в этот день их бестолковая юность и пришло взрослое понимание жизни. Понимание, что под этим небом нет ничего вечного. Ему захотелось сделать что-то хорошее для Лизы, и этим хорошим могла быть какая-то приятная новость. Руслан вдруг решил, что надо соглашаться на возвращение в морскую авиацию. В любом случае это будет не хуже, чем в тундре. Не исключено, что попадут они и какой-нибудь черноморский город, будут жить под южным небом, а ребята в летние месяцы станут к ним ездить в гости. Вот радости будет при встрече! Размечтавшись, он тихонько встал, вынул из стола чистый лист, написал письмо и вложил его в конверт. Заклеивать не стал. На кухне покрутил руками, присел несколько раз, сперва на правой, затем на левой ноге, повращал туловище, размял шею. Перемыл оставленную с вечера грязную посуду и только тогда принял душ. В благодарность за помощь сонная Лиза поцеловала его и крепко обняла. И тогда он сказал ей, что дал согласие на возвращение в морскую авиацию. – Тебе будет лучше там? – Не знаю, – пожал он плечами, – надеюсь, что лучше будет тебе. А мне… Небо, оно и в Африке небо. Он попросил ее опустить письмо в ящик и ушел на службу с тревожным ощущением чего-то непоправимо потерянного, ощущением допущенной ошибки. И вот все его ощущения материализовались в сообщении командира. При всех промахах его здесь ценят, ему доверяют. А он решил драпануть из полка. Тихонько, по-предательски. Еще не поздно было сказать о своем решении сейчас, когда Новиков поздравлял его. Честно рассказать, что мучился, что решение принял непродуманное, что если как-то можно исправить эту глупость, то он очень просит помочь ему… Промолчал. Не хватило духу. Слабак. «Нет, Руслан, не дорос ты еще до командира звена. Рано. Прежде чем других учить, с собой надо справиться». Домой он вернулся, как говорят, чернее тучи. Лиза встревоженно посмотрела ему в глаза: – Случилось что-то, Русланчик? – Знаешь, – выдавил он, – зря я послал это письмо. Лиза улыбнулась: – Оказывается, сегодня я была умнее тебя. Вон оно лежит. Руслан не поверил. Рванулся в комнату, схватил незаклеенный конверт, развернул листок. Да, это было его утреннее сочинение. И первое, что он сразу решил, – сегодня же обо всем рассказать Новикову, Волкову. Ему хотелось немедленно очиститься, как хочется немедленно отмыться после грязной работы. – Спасибо, Лизок. – Он обнял жену и по-деловому поцеловал в лоб. – Ты всегда была умнее меня. Просто сегодня еще раз подтвердила это. Как тебе пришло в голову? – Видела, какой ты потерянный был, когда говорил мне о письме. – Я тоже с новостями: нас назначили командиром звена! – Вот видишь… – только и сказала она. 28 Вечер обещал быть долгим и тихим. Солнце как вкопанное стояло над горизонтом, и Ольга решила, что до ночи еще успеет вернуться в Ленинград. Водитель тоже рвался домой, да и причин, чтобы задерживаться на ночь, не было. Здесь все кричало о нем, все преследовало ее и на каждом шагу отзывалось острой болью. Юля и раньше не очень откровенничала с матерью, а теперь совсем окаменела. «Да, нет, да, нет», – вот и весь разговор. – Поеду я, доченька, – уже вслух решила Ольга. – Еще засветло и вернусь. – Я сварю кофе, – сказала Юля, – все равно термос пустым везешь. Ольга вслед за Юлей прошла на кухню, присела у стола на широкую лавку. Ей хотелось быть рядом с Юлей, смотреть на нее, говорить с нею, Ольга все верила, что сумеет найти какие-то слова, которые заставят Юлю изменить свое решение, остаться в Ленинграде хотя бы до окончания института. Но слова эти так и не отыскались. Личный опыт Ольга не могла призвать па помощь, потому что понимала – он не безупречен, скорее даже порочен. Глядя, как Юля уверенно и ловко орудует у кухонной плиты, как сосредоточенно и гибко склоняется к нижним полкам шкафа, как неуловимым движением головы отбрасывает с лица волосы, Ольга все острее хотела, чтобы Юля была рядом с нею, всегда. И все острее понимала, что этому уже никогда не бывать. Разве что на госэкзамены приедет… – Почему ты эти ложки оставила на стене? – спросила она дочь. – Я их заберу с собой. – Зачем? – Ольга сразу почувствовала, что вопрос глупый. Каждую ложку отец дарил Юле по какому-нибудь случаю. Сам вырезал, сам раскрашивал и торжественно дарил. И она наверняка помнит все, что связано с каждой ложкой. – Привыкла я к ним, – сказала Юля. – В общежитии развешу. Наполнив термос темно-бурым напитком, Юля плотно закрыла пробку, навинтила сверху пластмассовый стаканчик и подошла к матери. – Я буду тебе писать, – сказала она и села рядом. – Постарайся отвечать. Хоть по нескольку слов, на открыточке. Мол, жива, здорова, хожу на работу, письмо твое получила… И постарайся не опускаться, следи за собой. Отец всегда останется с нами. Считай, что он снова улетел на Север. Очень надолго. Со своим полком. Оно так и есть. Тебе к этому не привыкать. В последних словах был откровенный упрек. «Ты считаешь меня виноватой?» – хотела спросить она дочь, но промолчала. Зачем? Разве она сама оправдывает себя? Конечно, виновата. Юля может из жалости и не сказать этого, но Ольга чувствует в каждом ее слове, в каждом жесте справедливый упрек. Звено, которое связывало ее с дочерью, разорвано. Какова будет сила притяжения ее материнской любви, покажет жизнь. У машины Ольга еще раз обняла дочь и содрогнулась от мысли о предстоящей разлуке. Раньше с ней такого не было. Отъезды, приезды Юли – все воспринималось как будничное течение жизни. Сегодня уехала – завтра приедет. А сегодня казалось, что видит Юлю в последний раз, что прощается навсегда. В глазах туманилось от влаги, и она ничего не могла с собой поделать. Когда машина тронулась, Ольга еще раз оглянулась на дом, в котором могла быть очень счастливой и в который уже больше никогда не приедет. И отчетливо поняла, что период обретений прошел, черта подведена, начинается период потерь. Ольга дала себе слово, что уже завтра, нет – сегодня же заедет к тете Соне, и они вместе навестят Розу Халитову, вместе потом съездят на могилу Чижа, вместе поплачут. Ей еще предстояло узнать, что тетя Соня умерла в тот же год, когда Юля уехала из Ленинграда, а семья Розы уже давно живет в другом городе. Глядя, как удаляется черная «Волга», Юля мысленно желала матери мужества. Сквозь свежую боль, сквозь невыразимую тоску она подсознательно чувствовала, что впереди будет еще немало счастливых мгновений. Ее, Юлина жизнь – впереди. У матери – перевал пройден. То, чего она ждала, как награды, не сбылось. Не пожили они всей семьей под одной крышей. Не довелось. Судьба вмешалась в их планы бесцеремонно и неожиданно. И хотя у Юли разрывалось сердце от жалости, она не могла утешить мать каким-то конкретным обещанием. «Буду писать», – это она выполнит. Будет писать. Постарается отпуск провести в Ленинграде. Если удастся – вместе с Колей. Всякий раз, когда Юля мысленно обращалась к Муравко, она успокаивалась, словно обретала после длительной качки твердую под ногами почву. От одной мысли, что он где-то совсем недалеко от нее, что завтра утром она войдет в автобус и увидит свободное место рядом с ним, что до самого аэродрома будет чувствовать сквозь тонкую ткань форменной рубахи его тепло, к ней возвращалась уверенность и надежда. Она уже окончательно поняла, что любит его давно и на всю жизнь. И хотя он ей еще ничего не сказал о своем чувстве, Юля безошибочно знала, что любима им, что признание не за горами. Да если и не будет никакого признания, разве дело в словах? Слова уже ни прибавят, ни убавят. Самое главное – они нашли друг друга и поняли, что предназначены друг для друга. Вернувшись в квартиру, Юля начала упаковывать оставшиеся книги. Часть отцовской библиотеки она раздарила летчикам полка. Пусть читают. Остальные книги загрузила в багажник маминой «Волги». Себе оставила только несколько томиков. Позвонил Булатов. – Ты дома? – спросил он. – Иду в гости. А потом заявился собственной персоной с бутылкой шампанского в руках. Увидев собранную сумку, раскрытый чемодан, он молча поставил бутылку на стол и сел на то место, где еще совсем недавно сидела Ольга Алексеевна. – Все-таки уезжаешь? – спросил он. – Уезжаю, Олег Викентьевич. – Что там хорошего на этом Севере? Тундра, холод, пустота. – А северное сияние? – Юля… А ведь еще не поздно. Распакуем чемоданы, накупим вина, назовем друзей… – Поздно, Олег Викентьевич. – Но почему? Почему, черт побери! – Служба, Олег Викентьевич. – Служба… – Он взял бутылку и начал раскручивать проволочную оплетку на горлышке. – Бокалы еще не упаковала? Надеюсь, выпить со мной на прощание не откажешься? Юля поставила два стакана, нарезала колбасу и сыр. Ей стало жаль Булатова. Юля никогда никому об этом не говорила, но часто думала, что этажом ниже живет интересный мужчина, всеми уважаемый врач, он же лауреат какой-то там премии, и он же – безнадежно влюбленный. В нее! И от этих мыслей ей было радостно. – Самое обидное, – сказала Юля, – что я ни разу не воспользовалась медицинской помощью по блату. – Самое смешное, Юля, в этой истории то, что я тебя люблю. – И молчали… – Сам только сейчас понял. Выпьем? – Выпьем. Она подняла отяжелевший стакан и посмотрела сквозь шампанское на свет. Очертания дома и деревьев, освещенных вечерним солнцем, причудливо исказились. Юля резко повернулась к Булатову и спросила: – При каких-то иных условиях он еще мог жить? – Мог. – При каких? – Этого никто не знает. Люди неповторимы. – Извините, Олег. – Она коснулась краешком стакана о его стакан. – Я вам желаю счастья. От всей души. Она выпила и сразу захмелела. И почувствовала, что после нескольких бессонных ночей сегодня впервые заснет крепко и без сновидений. – Устала я, Олег Викентьевич, – сказала она искренне, – спать хочу. Не сердитесь на меня. Она проснулась от какого-то необъяснимого возбуждения. Было начало шестого, а в квартирах хлопали двери, на улице говорили люди, кто-то неуместно рано смеялся, кто-то кого-то звал. Юля встала и выглянула в окно. У подъезда попыхивал мотором автобус, возле него собирались летчики. С чемоданами, рюкзаками, сумками. Тихо переговаривались женщины, сонно молчали дети. «Вот и все», – подумала Юля и подошла к телефону. Дежурный ответил, что она может пока спокойно спать. Транспортным самолетом отбывает передовая команда. – А почему летчики с чемоданами? – Прилетят, а чемоданы уже там, – засмеялся офицер. И добавил: – Придешь в часть – все узнаешь. Юля знала, что за передовой командой полетит первая эскадрилья во главе с Волковым. Значит, и Коля. И она заторопилась со сборами. Приняла душ, выпила наспех чашечку кофе, расчесала подсохшие волосы и, надевая берет, выбежала на улицу. Захотелось глубоко вдохнуть и задержать в себе утреннюю свежесть. Солнце уже вовсю плясало на стеклах домов, на запыленных листьях деревьев, но лучи его еще не распугали отстоявшуюся прохладу ночи, их тепло было мягким и ласковым, и само утро казалось необычно праздничным, мажорным. Юля шла пешком, радуясь легкости движений, тихому звуку своих шагов, одиноким прохожим. Она любила эти зеленые улочки гарнизонного городка и с легкой грустью думала о прощании с ними. В мире уже произошло какое-то перемещение, и ее мысли, обогнав ее, обживались в новых условиях. Здесь ей было хорошо, но Юля верила, что там, в той новой жизни, будет еще лучше. Увидев выходящего из штаба Муравко, она взволнованно окликнула: – Коля! И удивилась растерянному выражению его лица. Словно он еще не решил, подходить к ней или нет. Юля подошла сама. – Что случилось, Коля? – Понимаешь, я уже и забыл… А тут вон приказ – вылетать немедленно. Юля не понимала, чем он так огорчен. Все вылетают. И она тоже. – Думал, мы еще обо всем поговорим, – продолжал сокрушаться Муравко, – а уже надо прощаться. – Я же с полком лечу, Коля, – удивленно пожала плечами она. – Ты с полком… Зато я в другую сторону… У Юли дрогнуло сердце. – Ах, черт, – махнул он рукой. – Я и думать забыл. А он говорит, молчание – знак согласия, за тобой прилетел самолет. Прямиком в Звездный. – Вы согласились, Коля? – Согласился. Ты огорчена? Вот теперь уже Юле стало не по себе. Она почувствовала, что надвигается самая несправедливая несправедливость, если она за что-нибудь не схватится, ей не устоять. И она крепко взялась руками за его руку, почти повисла на ней. – Я напишу тебе, – сказал Муравко, накрыв своей ладонью ее ладонь. – Ты ведь ответишь мне? – Коля… – Они остановились как раз напротив окон командирского кабинета. – Ты ведь все знаешь. – Знаю, – сказал он. – И ты знаешь. – Да, – сказала она. – И ты согласна? – Да, – сказала она. – Когда? – Когда скажешь. – Сегодня. Сейчас. – Это невозможно. – Она показала глазами на продетую в петлицу траурную ленточку. – Напиши, когда можно будет. Я в тот же день примчусь. Муравко украдкой покосился на часы, но Юля перехватила этот взгляд и тихо спросила: – До свидания? … – Увы, – выдохнул он. На его лице было такое искреннее огорчение, что у Юли от жалости защипало в глазах. – Ну, что ты, Коленька, что ты? – порывисто обвила она его шею. – Не надо, я с тобой. Я скоро… И тут же почувствовала, как по щекам освобожденно покатились слезы. Он целовал ее на виду всего военного городка. Легкие перистые облака были прозрачны и неподвижны, словно кто-то гигантской кистью небрежно мазнул по выгоревшей синеве неба. И эта прозрачность облачности, и эта неподвижность свидетельствовали о наличии глубокого антициклона, захватившего полматерика. Да и синоптики подтверждали: на Севере тоже «миллион на миллион». Значит, перелет будет проходить при вполне благоприятных метеоусловиях. Прежде чем выйти из машины, командующий открыл портфель, вынул из него и развернул сверток. На белой тряпице, размером с носовой платок, тяжело блеснула густо смазанная сталь пистолета. Он извлек обойму, проверил наличие патронов, ударом загнал ее в рукоятку и, обтерев тряпицей смазку, положил пистолет в левый нагрудный карман кожаной куртки. Путь дальний. Все должно быть как положено. Во внутренний карман втиснул удостоверение и партийный билет. Затем обошел самолет, проверил, что ему было положено проверить, и поднялся по стремянке в кабину. Поудобнее уселся, защелкнул замки парашютных и привязных ремней, подключился к бортовой радиостанции, застегнул маску кислородного питания. Замки «фонаря» беззвучно притянули к уплотнителям прозрачный колпак. – «Медовый», «два ноля один», запуск. – «Два ноля один», запуск разрешаю. Генерал непроизвольно насторожился и сразу даже не понял отчего. Мгновенно «прокрутил» последовательность своих действий – все было сделано правильно. Тогда в чем же дело? И понял: не тот в шлемофонах голос. С этого аэродрома его всегда выпускал в небо Чиж. Александр Васильевич привык к интонации, за которой всегда скрывалось немножко больше, чем значили сами слова. И все. Нет ни Чижа, ни его голоса. Только небо… И неразгаданная сила его притяжения. Такая же вечная, как неразгаданно вечно притяжение любви. Львов – Ленинград 1975 – 1981 Книга вторая К своей звезде 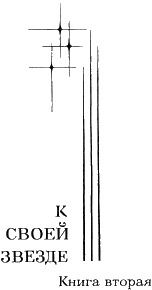 1 Ощущение, что он со всех сторон высвечен бледно-зеленым светом, не оставляло Ефимова даже после того, как он отчетливо понял, что уже не спит и что не во сне, а наяву видит бледно-зеленое небо с пурпурно-красной линией, наискосок перечеркнувшей квадрат окна. Чтобы окончательно избавиться от навязчивого видения, Ефимов встал, подошел к окну и отбросил тюлевую занавеску. Кольца сухо вжикнули по алюминиевой трубке карниза, и его взору открылось нечто ошеломляющее, непостижимое. Откуда-то из глубины Вселенной, из непроницаемой бесконечности, играя и переливаясь неземными оттенками, струился бледно-зеленым водопадом сказочный свет; складки гигантской шторы лениво шевелились, покачивались, меняли насыщенность красок, и в такт этим покачиваниям перемещалась подсвеченная невидимой зарею бахрома. И этот свет – от бледно-зеленых до пурпурно-красных тонов, и этот рисунок теней, и уходящие к звездам складки, и тишина, в которой Ефимов слышал едва уловимые, но грозные звуки Вселенной – все как-то сразу и отчетливо напомнило о существовании вечного и мгновенного. И на душе стало тревожно и неуютно. – Руслан! – позвал он тихо. – Ты только глянь, что творится в мире! Это же надо… Сто раз слышал: северное сияние, северное сияние… А оно, видал, какое! Стояла предрассветная пора. В городке не светилось ни единого окна, ни одного прохожего не было на расчищенных от снега дорожках, и земля торопливо впитывала острый холод, струящийся из межзвездного пространства вместе с этим волшебным светом. Казалось, хлопни дверью, свистни, и все мгновенно улетучится, растворится и навсегда исчезнет. – Что умеет природа, – сказал Руслан. – Представляешь, сколько миллионов киловатт надо, чтобы отгрохать такую иллюминацию? А она – играючи… Любуйтесь, не жалко. Небо продолжало раскачиваться, переливаться холодным блеском складок, озаряться пурпурно-красными сполохами. Это был живой, пульсирующий свет, хотя и отдавал мертвенной бледностью. – Тысячи лет до нас сияло, – сказал Ефимов, – и еще тысячи будет сиять после нас. – Да… Ну, еще пару часиков можно поспать, – Руслан забрался под одеяло. Пружины матраца взвизгнули и затихли. Ефимов вспомнил, как Нина провожала его к метро, как азартно решила ехать с ним на вокзал и как они, ожидая поезд, без стеснения целовались в конце платформы, не обращая внимания на редких полусонных пассажиров. У нее счастливо блестели глаза. – Знай одно, – говорила она, – я всегда с тобой. И если вдруг станет невмоготу, если почувствуешь, что все – больше нет сил ждать, зови… Брошу все и примчусь. Но прошу тебя – не пиши, не жди от меня писем, потерпи. Так будет легче нам обоим. Поверь мне. – Скажи, командир, – Руслан вернул его к реальности, – попляшу я на твоей свадьбе, или бобылем доживать век будешь? Ефимов усмехнулся и задернул шторы. Свечение уже поблекло, потеряло очертания, бесформенно расползлось по небосводу. – Попляшешь, Руслан. Обещаю. – Слышь, Федор… Мне показалось, последнее время ты рискованно летаешь. У спортсменов это называется – на грани фола. – Тебе показалось, – ответил Ефимов, не вдумываясь в смысл вопроса. – Ты спи. – Ну, как знаешь, – обиделся Руслан, и пружины под ним снова нервно взвизгнули. Ефимов лег и укрылся одеялом. «В последнее время ты рискованно летаешь». Полная чепуха! Не рискованно. И не в последнее время. С первых дней, как они перелетели на Север, Ефимов стал летать не посередине ограничительных допусков, а по кромкам пределов. И не только сам. Этого он требовал и от подчиненных. И его понимали. На кой черт, в самом деле, их держат здесь на краю земли? Для чего оторвали от семей, от привычных мест? Зачем доверили эти фантастические ракетоносцы? Чтобы они научились четко взлетать и садиться, чтобы жечь керосин на привычных маршрутах и довольствоваться выполненным планом налета? Мало этого, мало! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
|||||||