 |
|
Популярные авторы:: Азимов Айзек :: Борхес Хорхе Луис :: Горький Максим :: Раззаков Федор :: Чехов Антон Павлович :: Толстой Лев Николаевич :: Грин Александр :: Гарднер Эрл Стенли :: Лондон Джек :: Сименон Жорж Популярные книги:: Рагнарёк :: Любовь на темной улице (сборник рассказов) :: Скандальная леди :: The Boarding House :: Женская интуиция :: On Basilisk Station :: Дюна (Книги 1-3) :: Чудовище :: Белая ворона :: Песнь Крови |
К своей звездеModernLib.Net / Советская классика / Пинчук Аркадий Федорович / К своей звезде - Чтение (Весь текст)
А.Ф. Пинчук К своей звезде (роман в двух книгах) Моему отцу – Федору Пинчуку Об авторе 
Аркадий Федорович Пинчук родился 11 января 1930 года. Боевой путь начал в 14 лет, разведчиком в белорусском партизанском отряде. Полковник в отставке. Длительное время являлся корреспондентом газеты «Красная звезда» по Ленинградскому военному округу. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Президент Международной ассоциации писателей-баталистов и маринистов Санкт-Петербурга. Член Союза писателей России. Прозаик. Автор 10 пьес и сценариев к кинофильмам. Награждён медалью им. А. Фадеева. Лауреат премии имени В. Пикуля. Лауреат премии имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в области литературы и искусства. Книга первая Хождение за облака 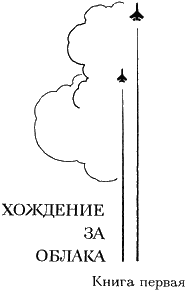 1 Телеграмма была смешная и без подписи, но Нина сразу все поняла. Она почувствовала, как занемела и тут же стала горячей щека. Ехать! Отпроситься у Маргоши на один день и ехать. Ленку из садика Олег заберет. Только не выдать своего состояния до отъезда: она никогда не умела скрывать эмоций. Заняться хозяйством, постирать белье, окна перемыть, ни минуты без дела! Сколько же дел надо переделать, чтобы дожить до завтрашнего дня? – Нинка, не сходи с ума, – только и скажет Марго. – Отпускаешь или нет? – Попробуй тебя, дуру, удержать. Телеграмма жгла руки. Порвать бы скорее, только еще раз перечитать, представить, как, свесив белую гриву свою над бланком, он торопливо писал этот глупый взволнованный текст: «Пятница переносится на четверг крылья дрожат нетерпения». Только рвать телеграммы – пошло, лучше сжечь над Маргошиной пепельницей. Она будет сочно ругаться и необъяснимо мило обзывать Нину разными словами. Да, Нина не отрицает – свихнулась, стала психопаткой, квадратной дурой, бестолочью зеленой и еще чем-то ужасным в международном масштабе. Стала! Ну и что? Да хоть в масштабе галактики! Она жила теперь только им… И благодарила бога за это великое счастье. Хотя благодарить его было не за что. Зачем он так нелепо, несправедливо все решил? Раскидал, растащил два сердца, остудил разлукой, закабалил навечно любовью к маленькому существу, а потом, нате вам, через десять лет свел под крышей одного вагона на одну короткую, как выдох, ночь. Нина даже не поняла сначала, что произошло. Вошел в купе высоченный летчик, швырнул на верхнюю полку портфель, фуражку и сел, уставившись неподвижным взглядом в пол. Сквозь длинные пальцы рук упруго выползла белая грива не по-военному длинных волос. Локти прочно упирались в расставленные колени. И эта поза, и эти пальцы напомнили ей что-то неясно-тревожное, отчего стала медленно каменеть щека. Почувствовав ее взгляд, он вздрогнул и поднял голову. И, не поверив, отшатнулся. Суеверно и сердито сказал: – Мистика… Я же думал о тебе, когда шел к поезду. Ты совсем не изменилась… – Господи, Федя… Вот теперь ее щеки зарделись не на шутку. А сердце забилось торопливо и сбивчиво, будто спотыкалось о что-то рвано-острое, что мешало не только шевельнуться, но и дышать. Федя Ефимов, тот самый Ефимов, от резаных ударов которого многие покидали волейбольную площадку с разбитыми носами. Которого любила вся школа. – Ты летчик? А как же… Да, как же с астмой, про которую так много говорили девочки, говорили тайно, по строгому секрету и потом так же тайно смотрели на него с глубоким сочувствием и состраданием. – Ты правда не изменилась… Его считали обреченным. «Астма в юном возрасте, – утверждали школьные знатоки, – имеет один исход – летальный». Слово это произносилось тихо, один на один. А то, что он был чемпионом школы почти по всем видам легкой атлетики, нисколько не противоречило предположениям девочек, даже наоборот, расценивалось как последняя вспышка жизненных сил. – Знаешь, я верил, что мы встретимся. Честное слово. В десятом классе Катя Недельчук созналась подружкам, что любит Ефимова, и ее стали усердно запугивать, пока она не сказала прилюдно, что «любовь прошла». Нина о своем чувстве молчала. Она искала повод для встречи и однажды сама попросила его, чтобы проводил ее после школьного вечера домой. Жила Нина за железнодорожными путями и ходить прямиком через товарную станцию откровенно боялась, а через переезд путь к дому удлинялся вдвое. Они стояли на вытоптанной между грядками тропе в ста метрах от ее дома. Целовались жадно и чисто, открывая мир доселе неведомых ощущений. Маневровый паровоз аккомпанировал им в ночной тишине короткими свистками и многотонным лязганьем буферов. – Я больше часа болтаюсь на вокзале, как я тебя не заметил? Неужели десять лет? Неужели летает? Значит, вся эта клюква про астму – мыльный пузырь? – Федя… это действительно мистика! Ты в какую сторону? В Ленинград? Ты капитан? – Ее вдруг прорвало. – Ты летчик, да? Ты же хотел в художественное училище. Передумал? И ничего, прошел? Женат, конечно, дети есть? А Катю Недельчук помнишь? Она ведь влюблена была в тебя. А физичка, Фира Яковлевна, умерла. Всех, чьи адреса знали, созывали на похороны. Полкласса было. Ты летаешь, да? Принесли чай. – Пей, ты согреешься, – сказал Ефимов. Он или увидел, или почувствовал, что ее бьет дрожь. – Хочешь, я посижу рядом, тебе будет теплее? – Сядь, – сказала она и поправила у ног одеяло. – Расскажи о себе. – А что рассказывать? – Ефимов прокашлялся. – Служу в Ленинградском военном округе. В авиационном полку. Летаю. Что еще?.. – Он непроизвольно коснулся рукой ее плеча, и Нина вздрогнула. Даже сквозь одеяло она ощутила тепло его пальцев и вдруг отчетливо поняла, что никогда не забывала преданности этих рук, их неповторимой нежности, спокойный уют объятий. Все было с нею. Всегда. От первого прикосновения его губ к виску и до сегодняшнего дня. Все десять лет! Второе свидание она назначила ему на следующий день в Доме культуры. Сидела с подружками, он где-то сзади. На экране развивались бурные события у озера, но Нина чувствовала на затылке его взгляд и трепетно прислушивалась к рождающимся в ней ощущениям. Она могла поклясться чем угодно, что слышала все, о чем он думал на протяжении двух серий фильма. После сеанса Нина громко вспоминала в окружении подружек подробности кино, не сдерживая себя и не оглядываясь, куда-то шла, безошибочно чувствуя, что он слышит ее и идет ни для кого не заметным где-то совсем рядышком. И действительно, стоило ей на развилке перед станцией проститься с последней попутчицей, как сзади послышались быстрые шаги. Нина не обернулась и не испугалась. Была уверена – это он. Поцелуи на тропке за маневровыми путями с каждым вечером становились все длиннее, неутоленная жажда стягивала их своей необъяснимой силой, и они снова и снова припадали губами друг к другу. И когда в затемненных дворах начинали зажигаться окна и глухо позвякивать цинковые подойники, они вдруг догадывались о приближении рассвета и зацелованно-сонные разбегались по домам. Тут же следовал гневный родительский разнос, клятвенные обещания впредь возвращаться рано, но уже в следующий вечер все повторялось, с той лишь разницей, что Нина приходила домой все позже и позже. Сонливость на уроках она объясняла недомоганием. Однажды, перед свиданием, Нина прилегла на кушетку, чтобы вздремнуть самую что ни на есть малость, но проснулась глубокой ночью, укрытая одеялом, с заботливо подложенной подушкой. Она тихо вышла из дому и с паническим ужасом побежала к железнодорожному тупичку, где была на восемь вечера назначена встреча. Нина понимала, что верить в чудо – полный идиотизм. Третий час ночи! Но словно кто-то невидимый тащил ее за руку. Она спотыкалась в темноте, падала, но продолжала бежать. И была вознаграждена – он ждал. Нина тихо смеялась и ручьями лила счастливые слезы, все тормоза были отпущены, и, прояви он малейшую настойчивость, даже не настойчивость, просто желание, она бы безропотно, даже с радостью наградила его за преданность и терпение всем, чем могла наградить. Его тормоза оказались более надежными. Как и подобает мужчине, ответственность за их любовь он взял на себя. Почему она не ответила на его письма? На какие письма? Когда? – Я тебе писал в институт. Весь первый месяц каждый день по письму. Боже праведный, как она ждала этих писем, ждала хотя бы адреса его. Ни ребятам, ни девочкам он не писал. Только Катя Недельчук все обещала Нине узнать у кого-то место службы Ефимова. Его как переростка сразу после десятилетки призвали в армию. В школу он пошел на год позже своих сверстников – родители в тот год меняли местожительство. Катя знала что-то о его службе. Знала о письмах. Ведь это ей было предоставлено право забирать для факультета почту в городском отделении связи. Раскладывая конверты по гнездам установленного в общежитии ящика, Катя, пряча глаза, всякий раз говорила: «Тебе, Нина, нет». Иногда эта фраза звучала в иной редакции: «Тебе, Нина, нет, только вот из дома». На зимних, первых своих каникулах Нина узнала, что у Федора полевая почта, служит в Группе советских войск в Германии, жив и здоров и готовится поступать в военное училище. Душу захлестнули обидные мысли, приглушили боль. Она не раз и не два писала ему длинные письма, то полные нежности и теплой грусти, то злые до грубости. Писала и складывала в портфель, чтобы спустя несколько дней разорвать на мелкие клочья. Глубоко в подсознании поселилась предательская мысль: и хорошо, что так получилось, с ним ей было бы слишком трудно, слишком ответственно. Уже на втором курсе молодой аспирант Олег Ковалев предложил ей свою руку. Познакомила их все та же Катя Недельчук. Олег показался Нине уравновешенным, не лишенным юмора человеком, ему прочили хорошее будущее, родители строили кооперативную квартиру на Тихорецком проспекте. Она догадывалась – такое, как было у нее с Ефимовым, не повторяется. Ждать нечего, а жить надо. Была шумная студенческая свадьба, была медовая десятидневка на Репинской турбазе среди заснеженных елей, была поездка в Озерное к родителям Нины. Все поздравляли, одобряли, желали… С рождением Ленки пришло душевное равновесие. Они переселились из общежития в свою квартиру, Нина взяла на год академический отпуск. И все бы в ее жизни до самой смерти шло путем да ладом, если бы не эта случайная встреча в поезде. Оба не сомкнули глаз до утра. К ним в купе никого не подсаживали, и они говорили, говорили, невпопад задавая вопросы, пока Нина вдруг не уткнулась ему в шею мокрым от слез лицом. Она уже не скрывала своей слабости и, обхватив его шею, прижималась к нему все теснее. Она знала – только один он мог понять всю глубину ее отчаяния. Резкий стук в дверь отрезвил обоих и возвратил к реальности. Проводница уже тюкала своим тяжелым ключом в следующую дверь и предупреждала о приближении Ленинграда. Ефимов хотел открыть светозащитную штору, но Нина придержала его руку. – Я зареванная, некрасивая буду… – Глупыш, – сказал он и вытер тыльной стороной ладони слезы на ее щеках. – Я выйду. Нина торопливо расчесала волосы, перехватила их на затылке резинкой, протерла лицо лосьоном и чуточку запудрила припухлости под глазами. Из небольшого зеркальца на нее посмотрело усталое, чуть постаревшее лицо. Зато глаза свои Нина такими увидела впервые – насыщенно голубые, как у десятиклассницы, рискованно-веселые. «Глаза счастливой женщины», – определила она сама. – Меня будут встречать, – сказала она Ефимову, когда он вернулся в купе умытым и выбритым. – Посиди здесь, пока мы уйдем. Вам не надо видеть друг друга. – Когда мы увидимся? – Когда ты захочешь. – В следующее воскресенье. – Хорошо. Звони на работу. Пиши до востребования. Олег ждал на перроне с огромным букетом ее любимых лимонных роз. В его улыбке была грусть и откровенное счастье. Но Нина вдруг увидела какую-то несуразность в его прическе – ощипанной спереди и длинной сзади, и эта несуразность впервые вызвала у нее раздражение – неужели он не понимает? Тут же поймала себя на том, что сравнивает Олега с Ефимовым, и сравнение было явно в пользу последнего. – Устала? – спросил Олег участливо и заглянул ей в глаза. – Немножко, – сказала она правду. – Спала? – Нет, – ответила, чуть помолчав. – Почему? – Соседка храпела, – впервые за их совместную жизнь солгала Нина и почувствовала, что краснеет, – только этого ей и не хватало. Пока они ехали домой, Олег рассказывал о том, что его лабораторию собираются серьезно потрясти и ожидание ревизоров вносит нервозность в дело, заставляет его спешить с проведением опытов, необходимых для докторской диссертации. Еще говорил о каких-то своих проблемах и тревогах, но Нина лишь кивала изредка головой, изображая внимание, сама же думала совсем о другом. Она вся без остатка была с Ефимовым, продолжала жить чувствами и ощущениями минувшей ночи. Вечером Олег был ласков чуточку больше, чем обычно, и предупредителен. Его нетерпеливость выдал только один порыв, когда ему изменила выдержка и на слова дочери, что она хочет спать с мамой, ответил резко и категорично: «Мама устала после командировки, ты ей будешь мешать». Ленка удивилась – разве может она мешать маме, которая так ее любит и так по ней соскучилась? – Конечно нет, – облегченно поддакнула Нина и разрешила дочери остаться рядом с ней под одеялом. И хотя Нина слышала, как Олег бережно переносил девочку в детскую, она притворилась крепко спящей. Лишь когда он начал стелить себе на диване и непроизвольно вздохнул, в ее душе шевельнулось жалкое подобие сочувствия. Уже на второй день, издеваясь над собственным нетерпением, она все же забежала в почтовое отделение и с надеждой подала паспорт в полукруглое окошко с надписью «Корреспонденция до востребования». Она знала, через несколько секунд ей возвратят паспорт и она уйдет, даже не огорчившись, но следила за всеми движениями работницы связи ревниво и с надеждой. Нина не видела лица девушки, видела только пальцы с темно-вишневым лаком на ногтях. Видела, как они лениво перебирают конверты, как взяли одну открытку и, вложив в паспорт, продолжали ритмичные шажки по острым граням конвертов. Нина почувствовала, как ею овладевает нетерпение. «Что вы делаете, почему не отдаете открытку? Больше ведь мне ничего не должно быть!» – хотела крикнуть, но стояла затаив дыхание, пока не получила паспорт с открыткой. И только теперь увидела: ей улыбалась курносая блондинка с озорными глазами, оттененными добросовестно намазанными ресницами. «…Самое удивительное, что все эти годы я верил и любил. И судьба не обманула меня…» «Господи, – подумала Нина, прочитав эти строки, – он еще не понимает, что у меня муж и ребенок! Он еще не понимает, что все, что случилось, это катастрофа более ужасная, чем та, которая была десять лет назад». Впрочем, она еще и сама не знала, какие сюрпризы ждут ее впереди, и только интуиция подсказывала, что те безоблачные встречи, те изумительные свидания, которые были мажорным аккомпанементом к их последним школьным денькам, уже не повторятся никогда. В пятницу она получила вторую открытку. «Буду весь день с 8 утра и до поздней ночи ждать у входа в Исаакиевский собор. Не уйду ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. Знай это! Скорее бы только дождаться этого воскресенья. Жаль, что нельзя его поменять местами с пятницей». Сказав, что ей надо пораньше сбегать к сотруднице, Нина ушла из дому в половине восьмого. Когда она вышла из такси у гостиницы «Астория», часы показывали начало девятого. Она дважды обошла собор – это удивительное творение Монферрана, – послонялась между гигантскими колоннами из гранитных монолитов, трогая ладонью их гладкую холодную поверхность, пересекла асфальт и остановилась у сквера, отделяющего площадь от собора. Сердце уже не просто учащенно работало, оно било тревогу во все возможные колокола: заболел, задержан милицией, попал под машину! И тут Нина почувствовала, что ноги ее подкашиваются, она вдруг отчетливо нашла простое, как день, объяснение случившемуся – ведь он летчик! Ведь он летает! Как же она забыла об этом? Ведь это всегда опасно! Когда на здании Ленсовета электронное табло показало одиннадцать часов, Нина поняла: Ефимов не придет, надо что-то делать. И тут же созрело решение – ехать к нему. Несколько часов пути, подумаешь. Уже с вокзала позвонила Олегу. «Сотрудница заболела, надо отвезти ее ребенка к родителям в деревню, выезжаю прямо сейчас, к вечеру вернусь…» Лгала вдохновенно, уверенная, что муж никогда не унизится до того, чтобы проверять ее. На вокзале Нина купила каких-то газет, журналов, попыталась что-то читать, но сразу поняла – бесполезно. Смысл прочитанного не доходил до сознания. Воображение услужливо рисовало ей одну картину страшнее другой, мысли вертелись по замкнутой орбите, разорвать которую не было никаких сил. Успокоение пришло в конце пути, когда Нина вышла из вагона и услышала в небе реактивный грохот. Сначала она не обратила на пролетевший самолет никакого внимания. Но спустя минуту-другую над городом вновь заклокотало что-то, раскатилось весенним громом от горизонта до горизонта, набрало силу и неожиданно оборвалось. «Просто у них сегодня полеты», – подумала Нина и вдруг почувствовала голод. Таксист привез ее прямо к железным воротам военного городка. – Тут они и летают, – сказал он, выключая счетчик. – Попросите на КПП солдата, он вам вызовет, кого надо. За металлическим кружевом ворот прямой линией уходила вдаль серая полоса асфальта, упиралась в двухэтажный домик с башней, увенчанной стеклянным скворечником, и под прямым углом разбегалась вправо и влево. «Здесь он работает, живет». Легкое дуновение ветра донесло запахи сохнущих трав и сгоревшего керосина. У горизонта, возле поблескивающего в лучах полуденного солнца самолета, беззвучно копошились люди. «Здесь он летает». Когда? Куда? Что чувствует? О чем думает? Где бывает между полетами? Кто рядом с ним? Где дом его? Вопросы обрушивались на нее, как горный камнепад. Ведь она ничего не знала о человеке, ради которого примчалась сюда потеряв голову. Даже не могла представить, какой он за этими ажурными воротами, среди друзей, в своем самолете. – К кому вы? – спросил невысокий солдат, пытливо заглянув ей в глаза. У него было интеллигентное лицо, едва заметный пушок пробивался над верхней губой. «К брату», – готова была сорваться очередная ложь, но взгляд солдата располагал к откровенности, и она, сложив сперва всю фразу в уме, сказала: – Здесь служит мой школьный друг капитан Ефимов. Мне очень нужно его повидать. – Он случайно не в первой эскадрилье, не знаете? – Не знаю, – созналась Нина. – Подождите минутку, – дежурный скрылся за дверью. Затем он вышел на крыльцо и огорченно развел руками: – Вы опоздали на несколько минут. Ефимов улетел в командировку. – Он жив, здоров? У него ничего не случилось? Солдат улыбнулся. – Летает – значит, все в норме. – Не знаете, это надолго? – Не знаю, – сказал солдат смущенно. Было видно: знает, но сказать не может. – Думаю, что значительно больше, чем на месяц, – добавил он, видимо пожалев Нину. Еще вчера, растерянная от подступивших сомнений, она бы обрадовалась такому повороту событий: значительно больше месяца – вполне достаточно, чтобы спокойно обдумать случившееся. Сегодня сомнений не было. Нина ясно понимала, что она в ловушке, из которой уже не выбраться, ибо ловушка желанная. Думать о нем, ждать, надеяться, мчаться сломя голову на свидание, плакать и смеяться в его объятиях, говорить глупости, позабыв обо всем на свете, – всего этого она хотела сама. Без этого уже не могла, да и не желала представлять свою жизнь. В поезде Нина сняла босоножки и, подобрав под себя ноги, сразу заснула. Подушкой служила согнутая в локте рука, изголовьем – прогретый солнцем столик. В купе тихо разговаривали две старушки, и Нина видела сон с их участием. Будто совсем она не в поезде, а у старой кузницы в Озерном, и приехал будто в поселок новый кузнец, и привез из города пневматический молот, который будет ковать все что угодно, и бабкам очень хочется знать, какой этот молот, которому не нужен сильный кузнец, и для чего тогда он вообще нужен, если спокон веков в любой кузнице кузнец был главной фигурой, что без кузнеца этот молот может такого намолоть, не приведи господь… «Не намолоть, – хотела поправить Нина старушек, – намолотить». Но поняла, что молотит молотилка, а молот бьет, и решила вообще не встревать в разговор старушек. Неторопливая однотонность их беседы успокаивала, восстанавливала утерянные силы. В Ленинграде, прежде чем вернуться домой, Нина забежала на почту к тому полукруглому окошку. У нее не было с собой паспорта, но курносая блондинка с густо подмазанными ресницами узнала Нину. Даже не спрашивая фамилии, быстренько пробежалась пальцами по конвертам и подала Нине письмо. – Еще вчера пришло, – сказала она с упреком, будто знала, что, если бы Нина вчера получила его, ей бы не пришлось так волноваться и ехать бог знает куда. Да, действительно, Федор писал, что обстоятельства повернулись неожиданной стороной, что в день намеченной встречи он будет уже за тысячу километров от Ленинграда, что, хоть он ее и не увидит, она будет с ним всегда и везде: в его снах, в кабине самолета, в столовой и даже на почте, когда он будет писать ей свои ежедневные письма… В субботу Нина еще не ждала письма, она ждала воскресенья, ждала его самого. Что ж, свидание переносилось почти на три месяца. Это девяносто дней, две тысячи шестьсот часов! Только бы хватило сил дождаться этого дня… И он пришел, ворвался в сердце этой до нелепости родной телеграммой. «Пятница переносится на четверг…» Значит, завтра. Завтра четверг. Завтра они вернутся. Федор и его товарищи. Коля Муравко, Руслан Горелов, Новиков, Волков – Нина уже многих знала из его писем. И не только по именам и фамилиям. Она представляла их лица, голоса, жесты, знала слабости и достоинства. Слабостей, правда, кот наплакал, зато достоинств – хоть каждому памятник! Она стремительно постигала мир, в который ей предстояло войти. Постигала с жадностью и нетерпением. Мир, суливший постоянную опасность и терзания, но обещавший свободу чувств и свободу поступков. Вернувшись домой, Нина с ходу развернула в квартире генеральную уборку. Даже не стала переодеваться. Лишь повязала фартук и перехватила волосы старой косынкой. До прихода Ленки ей хотелось хотя бы вымыть окна. Примчится, как всегда, с прилипшими от пота волосами. Прямо какой-то ритуал с отцом придумали – по дороге из садика час игры в догонялки. Начнет от порога сдирать с себя одежду и упадет в одной майке на диван. А тут открыты окна. Нина обильно смачивала стекла аэрозольной пеной, неистово терла их скомканными газетами, пока стекло не начинало тонко взвизгивать. С улицы тянуло прохладой – июнь в этом году был чахлым, все время дули северные ветры. И Нина спешила, как могла. Когда вернулись Олег с Ленкой, Нина уже вытирала подоконники. За ужином Олег рассказывал о новом завлабе, который пока ничем, кроме шотландской бороды, не отличился, о назревающем конфликте вокруг туго идущего высокочастотного прибора, о распределении профсоюзных путевок и еще о чем-то таком же важном… Нина слушала его и не понимала. Все, что волновало Олега, казалось ей замшелой обывательщиной, проблемами, высосанными из пальца. «Мне бы ваши заботы», – крутилась у нее на языке насмешливо-злая фраза. Уже в который раз нахлынувшие сомнения с новой силой терзали ее душу. Она задавала себе самые жестокие вопросы, подбирала самые нелестные слова для оценки своих поступков, самой себе клятвенно обещала остановить это опасное скольжение и торопила время, неумолимо приближающее встречу с Федором. «Ты еще обо всем будешь жутко жалеть, – говорила она себе зло и без лукавства. – О такой, как у тебя, семье мечтают тысячи и тысячи женщин. У тебя прекрасный муж, заботливый, умный, чуткий отец, любит тебя, обожает дочь… У тебя отличная двухкомнатная квартира в Ленинграде, работа в современном вычислительном центре НИИ. Заикнись, что хочешь в театр, и Олег из-под земли достанет билеты. Скажи – хочу шубу, и он будет приносить на дом сложные приборы, ночами их ремонтировать, составлять схемы, но шуба будет. Скажи, чего тебе не хватает? Чего тебе надо еще? Приключений? Знаешь, как все это называется?..» «Знаю, – отвечал кто-то упрямый и не сдающийся, – только это совсем не тот случай». «Вранье!» «Могу и не врать. Но кому от этого станет лучше? Ложь во спасение никем не осуждалась». «Стерва ты, Нинка, вот ты кто. Еще ничего не случилось, еще совсем не поздно, возьми себя в руки и не сходи с ума. Перебесишься, немного переболеешь и будешь жить, как все люди». «А что это значит – жить, как все люди?» «Не прикидывайся идиоткой, отлично понимаешь, о чем речь. Страшно подумать, что ждет тебя…» Нина попыталась представить: к их дому, взвизгнув тормозами, подлетает такси, она хватает Ленку, что-то самое необходимое и выбегает во двор. Ефимов протягивает руки, но раздается испуганный крик: «Папочка! Не отдавай меня!» – О чем ты думаешь? – дернул ее за ухо Олег. – Ты даже не заметила, какую вкуснятину съела. – Мама устала, – назидательно вставила дочь и нежно взяла ее за другое ухо. – Правда, мамочка? – Правда, моя хорошая, – согласилась Нина и поцеловала ее пахнущую вареньем руку. Ленка обняла Нину и тесно прижалась щекой к щеке, и что-то дрогнуло вдруг у Нины в груди, разлилось по всему телу неясной пульсирующей тревогой. Она жадно обвила девочку руками и стала целовать ее мягкие, пахнущие летом волосы, тугие щеки, глаза, шею, целовать с таким неистовством, будто у нее хотели прямо сейчас отнять навсегда это самое родное существо, ее единственное сокровище. Среди ночи Нину разбудил Ленкин кашель. Она тихонько, чтобы не побеспокоить Олега, встала и босиком прошла в детскую. Мягкий свет ночника и тихое посапывание дочери успокоили Нину. Заболей Ленка – тогда все планы летят кувырком. Но девочка дышала ровно и чисто. Нина присела на стул, переложив себе на колени Ленкины «шматички» – так называла Ленка свою одежду. Сквозь приоткрытую форточку в комнату струилась прохлада и отдаленные звуки улицы. Кто-то, видимо, поджег в урне выброшенные бумаги, и Нина отчетливо улавливала горьковатые запахи дыма. По проспекту прогрохотал одинокий грузовик. Его металлический лязг долго висел вдоль многоэтажного проспекта. Нина сидела расслабленная и умиротворенная. Перед глазами – только лицо дочери. Выпяченные вперед отцовские губы, мамины ямочки на щеках, брови, лоб и курносый нос Олега. Конечно, и глаза были его, и характер. Можно сказать, по всем статьям папина дочка. Да и любит она Олега больше, чем Нину. И если раньше Нина к их взаимоотношениям относилась снисходительно и без ревности, сейчас ее это задело – почему? У них было полное единодушие во взглядах на воспитание девочки, все подарки ей делались от имени обоих родителей, играли и занимались с Ленкой, можно сказать, поровну. Пожалуй только, в играх с дочерью отец был щедрее на выдумку, искреннее перевоплощался в ребенка. Во время игр он напрочь забывал о своем возрасте и кандидатском звании. Нина всегда затруднялась определить, кто из них ведет себя более озорно и глупо. С серьезными вопросами Лена всегда идет к матери. Если же ей вздумается узнать, какие сны видела сегодня кукла Магдалина, она обращается к отцу. Они друзья, и в этом вся штука. Они все трое – друзья, и разрушившему этот тройственный союз прощения от двух других не будет никогда. Тешить себя иллюзиями не следует. 2 Прислонившись спиной к прохладной кирпичной стене, Чиж усердно изображал задремавшего старика. Задремавшего от явного безделья. Скупая прохлада тени и уютная сколоченная им же самим год назад из массивных брусков скамейка действительно располагали к дреме. Даже молодые летчики здесь частенько ухитрялись в короткие минуты передышек, несмотря на раздирающий барабанные перепонки форсажный грохот, урвать десяток минут крепкого сна. Но то молодые. Чижа скорее мучила бессонница, чем недосыпание. И прикидывался он спящим исключительно для Юли. Она тоже истомилась ожиданием и сейчас босиком паслась в густо вымахавшей вдоль рулежки траве. Чиж сперва и не понял, что она там высматривает, делая стойки, как спаниель на перепелиной охоте. Потом понял: плетет венок, выбирая в траве маленькие белые цветочки. Кто ее научил этому искусству? Уже и в деревнях многие дети не умеют плести венков. А у Юли, надо же, получалось. Чиж любил такие минуты, когда мог незаметно для Юли подолгу смотреть на нее. Дочь выросла. И хотя она почти все время рядом с ним – и дома, и на службе, – уже давно живет своей жизнью. Ей приходят письма с незнакомыми Чижу обратными адресами, заглядывают в дом парни, о которых Юля никогда ничего не рассказывала, где-то и с кем-то она проводит свободные вечера. Понимал – это диалектика, житейское дело: приходит час, и дочь становится светильником в чужом доме. Понимал, а сердце верить не хотело. Юлька – она его. Открой Чиж глаза и только тихонько кашляни, дочь тотчас вскинет голову, вытянув свою длинную шею, брови изогнет, поймает его взгляд и все лицо от угольных глаз до подбородка засветится бесконечно доброй улыбкой. И так всегда. Сидит ли она у телевизора, в гостях, за подготовкой к своим контрольным, за домашними делами – на любой его знак готова тут же откликнуться вниманием. В такие мгновения забывается все, что тупой болью колет под лопаткой. В такие мгновения Чиж размягчается и осязаемо чувствует себя неприлично счастливым. Бережно расходуя этот капитал, он прикидывается иногда очень занятым, уткнувшимся в книгу или телевизор, а когда позволяет обстановка, неожиданно задремавшим. И только в часы работы он «от первого до последнего МИГа», как любит сам выражаться, принадлежит им – летающим. Да и Юлька на вышке строга. Всякий, даже беглый взгляд Чижа прочитывает не иначе как приказ или вопрос. Взгляд – и тут же стрелки секундомеров начинают свой необратимый бег, взгляд – и следует точный доклад: «Полсотни пятый», тридцать девять минут, двадцать четыре секунды…» И руководителю полетов все ясно. Но уже третий день полеты не планируются и аэродром обволокла оглушающая тишина. Над инженерным домиком завис в зените дрожащий комочек жаворонка, и оттуда, из поднебесья, сыплются замысловатые цепочки серебристых звуков, напоминающих о существовании совсем другой жизни: о тихих, пахнущих травами, а не подплавленным гудроном полях, о шелесте тяжелых колосьев пшеницы, о вздохах жующих ночную жвачку коров… Откуда выплыли эти воспоминания, из каких закоулков памяти? Ведь сколько помнит себя Чиж, он не знал других пейзажей, кроме аэродромных. Даже первые самостоятельные шаги сделал из отцовских рук к металлической стремянке, на которой перепачканный мазутом рыжий механик копался возле мотора «Циррус», установленного на авиетке «АИР» – первом самолете неизвестного тогда конструктора Яковлева. Через его детство прошли истребители всех довоенных марок, от И-16 до ЯК-1. В 1943 году Пашка Чиж в звании сержанта сделал боевой вылет на новеньком ЯК-3 и в тяжелом бою над Украиной сбил ненавистный «Фокке-Вульф-190». Аэродромы полевые, мирные, с травяным и металлическим покрытием взлетных полос, перечеркнутые бетонными линиями, – всю жизнь аэродромы. С их ритмом и запахами, с их напряженным гулом. И вдруг – тишина. И этот беспечный жаворонок, и Юля, собирающая в траве цветы. Босая, простоволосая, его, Чижа Павла Ивановича, дочь… Нет, все-таки он, несмотря ни на что, счастливый человек. Даже когда нет совершенно никакой работы. Безделье всегда вносило в его жизнь мучительный диссонанс, но вот уже третий день Чиж предавался праздному ничегонеделанию и не испытывал от этого ни малейших душевных мук. Еще позавчера на рассвете пришел приказ готовиться к встрече первой эскадрильи. Ждали к вечеру, но не пустила погода. Вчерашний день пролетел в ленивых перебранках с метео. Сегодня позвонили: на трассе проясняется, ждите. Повесив трубку, Чиж разволновался и, чтобы никто этого не заметил, ушел в тень «высотки» и прикинулся спящим. Пусть думают, что он спокоен, так лучше для всех. Но больше никто не звонил, и Чиж в самом деле успокоился. Новые самолеты? Ну и что? Самолеты и в Африке самолеты. Сколько их пришлось перевидеть за свой век! Сколько облетать! Покладистых и норовистых, поршневых и реактивных. А тут всего-навсего принять на аэродром эскадрилью. Иная аэродинамика, конечно, иные посадочные характеристики, но машины пилотируют его чижата: его руки, его глаза – одним словом, летчики. И коль им дано «добро» лететь домой на новых самолетах, стало быть, чему-то научились. Сядут. На фронте все проще делалось. Правда, и машины были попроще. Начинал учебу Чиж в тылу на ЯК-1. Прибыл на фронт – ему дают новенький ЯК-3. Все вроде то же самое и вместе с тем – непривычно. Был у него комэска Филимон Качев. Молчун, каких Чижу никогда в жизни не доводилось видеть. Летчики смеялись: Филимона только по радио и слышим. Принимая в эскадрилью сержанта Чижа, Качев внимательно перелистал его летную книжку, постучал по обложке пальцами и сказал: – Примешь «десятку». Двое суток из кабины не вылезать. Чиж приказ исполнял буквально. На Украине стояли теплые сентябрьские ночи, в кабине было уютно и надежно. Чиж наспех перекусывал, даже не обращая внимания, что техник его подкармливает добытым где-то доппайком, тщательно вытирал руки, прежде чем надеть кожаные перчатки, и продолжал «полеты». Сначала он сочинял задание, определял состав противника и, согласно этой легенде, начинал «действовать». Условно, естественно. Подготовка к запуску, запуск, выруливание на старт, взлет, набор высоты и далее – бой. Женя Гулак – техник его самолета – лежал под крылом с раскрытой книгой. Когда Чиж узнал, что вместо инструкции к ЯК-3 Гулак читает «Графа Монте-Кристо», хотел тут же у самолета побить этого ангела-хранителя. Удержало уважение к возрасту – Гулак был старше Чижа на целых пять лет, да и на фронте с первого дня войны. Когда Чиж остыл, техник снисходительно улыбнулся: – Фамилия мне твоя по душе, – сказал он. – Характер у тебя летный, пашешь глубоко. А за меня будь спок, я этот самолетик еще на конвейере прощупал… Позже Чиж узнал, что Гулак в числе других техников ездил на завод получать новые самолеты, помогал в их сборке и даже встречался с самим Яковлевым. Да и в деле он доказал, что за его знания переживать не следует. Когда истекли вторые сутки освоения новой техники, Чижа разбудил в кабине Филимон Качев. Капитан был строг и молчалив. Только спросил: – Готов? – Так точно, – ответил Чиж. Качев ушел. А спустя полчаса Чиж получил приказ на вылет. Ведущим шел сам комэска. Уже на разбеге Чиж почувствовал легкость и мощь нового самолета. В воздухе он оценил его маневренность и скорость. Особенно когда завязался бой с «фоккерами». Задача ведомого – прикрывать тылы ведущего. Да и свой хвост подставлять не следует. И Чиж то и дело просматривал заднюю полусферу. В какое-то мгновение он прозевал начало маневра ведущего и, когда увидел его самолет, покрылся потом. В хвост Филимону пристраивался фриц. Дав мотору полный газ, Чиж бросил ЯК на крыло и зримо почувствовал, как выигрывает время и расстояние у фашиста. «Фоккер» сам залез Чижу под пушки, и тот по-деловому коротко нажал гашетку. Удар, видимо, пришелся по бензобакам. «Фокке-Вульф-190», окутавшись пламенем и дымом, сразу развалился на куски. – Молодец! – только и сказал комэска. Видимо, взорвавшийся «фоккер» пошатнул психику его партнеров по звену. Они дружно отвалили в сторону и, попросту говоря, дали деру. На обеде Филимон разговорился. – Я вылетел посмотреть его пилотаж, а он начал «фоккеры» сшибать, – сказал он на полном серьезе. – Теперь придется наградной писать. Филимон Качев погиб непростительно глупо. За полчаса до его возвращения из боя какой-то одинокий бомбардировщик сбросил на аэродром две бомбы. Одна из них взорвалась на летном поле, другая в лесу, не причинив никакого вреда. Но воронку при посадке «нашел» самолет Филимона. Истребитель скопотировал, а летчик, ударившись головой о прицел, погиб. Его похоронили недалеко от Кенигсберга у шоссейной дороги, ведущей на Тильзит. Только на похоронах и узнали летчики, сколько орденов получил за свою короткую жизнь их боевой комэска. Еще узнали, что Филимон Качев – воспитанник колонии имени Ф. Э. Дзержинского, что у него не осталось на этом свете ни одного родного человека, что даже Роза Халитова из метеослужбы, которая была влюблена в него и с которой он встречался иногда в нелетную погоду, месяц назад убыла в другую часть, не сообщив никому своего адреса. «Значит, мы, оставшиеся в живых, обязаны сохранить это имя в своей памяти, – думал тогда Чиж, – рассказать о нем своим детям и внукам, чтобы они рассказали своим детям и внукам. Вместе с человеком не должно умирать его имя. Живые должны его помнить». Половину этой клятвы Чиж добросовестно выполнил. В любом случае, когда у него возникала необходимость сослаться на чей-то нравственный пример, Чиж говорил: – Мой друг Филимон Качев в подобной ситуации поступал иначе… Юля с детства усвоила эту фразу и, если обстоятельства ее ставили перед трудным выбором, спрашивала отца: – Как бы в этом случае поступил твой друг Филимон Качев? Рассказывая о своем комэска, Чиж не лукавил. Они действительно подружились после первого боевого вылета. Чиж стал у Филимона постоянным ведомым, даже после присвоения Чижу офицерского звания они летали вместе, хотя многие однокашники-лейтенанты в то время уже сами выводили молодых пилотов. Чиж не рвался в лидеры. Когда завязывался воздушный бой, трудно было сказать, кто у кого ведомый. Они оба бережно охраняли друг друга, умели если надо поменяться местами, из-за крыла, как любил говорить Филимон, ударить по фрицу и тут же прикрыть хвост товарищу. После похорон Качева Чижу приказали принять эскадрилью. Оказалось, что Филимон был молчаливым только с подчиненными. Командир полка с его слов знал буквально все о летчиках Филимонова войска. Эскадрилья носила это шутливое название до самой победы. А Качеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. – Хватит притворяться, папуля, – сказала Юля, – укладывая на голову венок. – На кого я похожа? – Флора! – Чиж подвинулся, освобождая место дочери. – Уставом подобный головной убор не предусмотрен, между прочим. Юля вытащила из кармана зеркальце, подышала на него, протерла обшлагом рубашки и выставила руку вперед. Зеркальце было повернуто так, чтобы видеть лицо Чижа. – Что ты там увидела? – Что ты у меня самый красивый полковник во всей военной авиации. – Понятно, – усмехнулся Чиж, – что будешь просить? – Магнитофон. Говорят, что с магнитофоном очень удобно изучать английский. – Марка? – «Сони», «Филлипс», «Грюндиг». – У нас в магазине? – В комиссионке, в Ленинграде. – По маме заскучала? Юля не ответила. – Ну что ж, магнитофон – дело хорошее. В субботу получишь увольнительную. – Спасибо, – Юля чмокнула Чижа в щеку. – Ты у меня действительно самый красивый полковник в авиации. – Юля, имей совесть. – Ну, согласись, тащиться по Ленинграду с магнитофоном такой хрупкой девочке. – Не смогу я, наверное. – Чиж достал трубку, коробку с табаком. – Можно? Юля обиженно пожала плечами. – Вторая сегодня, – в его голосе звучала мольба. – Кури. Только не до конца. Чиж зажег спичку и поднес огонь к упруго вздувшимся стружкам табака. Треугольный флажок пламени повернулся вниз, оторвался от спички и застрял в табаке. – Прилетит Волков, все закрутится вверх тормашками. Не до поездок будет. – Ты уже не командир, руководитель полетов. А полетов в субботу и воскресенье не будет. – Вдруг ему понадобится со мной посоветоваться? Юля хмыкнула. Чиж сделал вид, что не заметил. Иначе следовало бы обидеться, хотя она, конечно, права, заноза конопатая. Волков уже давно с ним не советуется. А теперь, когда полк пересядет на новые самолеты, Чиж и вовсе будет ни к чему. С летающей публикой быть на равных тяжко, если ты сам не летаешь. Кто-кто, а Чиж это знает. Да и на должности руководителя полетов надо быть летчиком. Пока ты безошибочно знаешь каждое движение пилота, принимающего твои команды, смотришь его глазами на приборы, чувствуешь спиною тяжесть растущих перегрузок, ты будешь на своем месте. Новый самолет – это уже новый самолет. – Не переживай, – Юля всегда читала его мысли. – Как бы поступил в такой ситуации Филимон Качев? Он бы сел в кабину нового самолета и двое суток не вылезал из нее. И никаких проблем. Самолет – он что? – И в Африке самолет. – Чиж обнял Юлю. – Вот поэтому мне и некогда разгуливать по столицам. А чтобы не таскаться тебе с магнитофоном, найдем адъютанта. Кого? Юля весело пожала плечами. Этот жест – пожимать плечами – получался у нее очень красноречивым, всегда точно выражал ее состояние. – Нужен человек, который хорошо разбирается в магнитофонах. Руслан Горелов или… Коля Муравко. Юля произнесла последнее имя как можно небрежнее, но Чиж заметил – смутилась и покраснела. У переносицы тут же проявились разнокалиберные конопушки, двумя ручейками просыпались по щекам. Горелов женат. Выходит, Муравко Николаша. Хороший парень. А вдруг Горелов? Тогда беда. – Руслан, конечно, лучше знает радиотехнику, – продолжала Юля, – но он от своей Лизаветы ни на шаг. Лучше Муравко, если он, конечно, согласится. – Она опять смутилась и чуть-чуть покраснела. Чиж зажег спичку, чтобы раскурить погасшую трубку. – А чего ему не согласиться? Они все, холостяки, рвутся в Ленинград. Чижа позвали к телефону. Дежурный по КПП сбивчиво сказал: – Здесь женщина из Ленинграда, хочет видеть капитана Ефимова. Я говорю – он в командировке, а она говорит – он сегодня вернулся. Вызовите, говорит. – Сейчас я подойду, – сказал Чиж и погасил трубку. «Если женщина знает, когда он должен вернуться, – подумал Чиж, – это близкая женщина». Контрольно-пропускной пункт был рядом, метрах в ста пятидесяти. Втиснув кулаки в карманы кожанки, Чиж косолапо зашагал по асфальтовой дорожке. Его обогнал зеленый тупорылый автобус. Сидевший за рулем водитель-грузин поприветствовал Чижа фамильярным жестом – вскинув кверху ладонь. «Ишь, до чего обнаглел», – хотел обидеться Чиж, но, увидев искреннюю улыбку солдата, с улыбкой кивнул ему в ответ. Он еще не разучился отличать искренность от наглости. Чувствовал – его в полку любят: ветеран, живая история! Скверно, конечно, что история. Живая, правда, но все равно нафталином потягивает. Нину он увидел издали. Она прохаживалась за ажурными воротами КПП, держа двумя руками за спиной небольшую хозяйственную сумку из синей джинсовой ткани. Нина показалась Чижу худой и легкой. Легкие босоножки, светлые вельветовые брюки, черный тонкий свитер. На шее витая цепочка с небольшими янтарными шариками. Чиж сразу даже не понял – красивая она или так себе. Все черты лица были правильные. Высокий лоб, тонкие дужки бровей, прямой нос, четко очерченные губы, в меру длинная шея. Выделялись только ямочки на щеках да глаза. – Вы ждете Ефимова? – Да. – В ее глазах вертелся вихрь вопросов: «Где он? Когда будет? Что с ним? Здоров ли? Вы-то кто ему?» Чиж прочел все вопросы и улыбнулся. – Меня зовут Павел Иванович. – Нина. – Она протянула руку. – Нина Михайловна. – С минуты на минуту ждем команду. Они уже в пути. Сели на промежуточном, но задержала погода. Как только подымутся, через час будут здесь. Нина быстро посмотрела на часы, на Чижа – правду ли говорит. Чиж улыбнулся. Губы у Нины дрогнули, илицо озарилось доверчивой улыбкой. «Красивая», – уже точно определил Чиж. – Давайте присядем, – Чиж шаркнул ладонью по свежевыкрашенной скамейке, вкопанной в землю. – Не бойтесь, чисто. Это место для ожидающих попутный транспорт. Вы из Ленинграда? – Да. – Федю Ефимова я знаю уже пятый год. Хороший летчик. Досрочно капитана получил. Кем вы ему приходитесь, простите? – Мы с ним учились в одном классе, Павел Иванович. – Нина вздохнула. – Любили, чего уж там… Потом на десять лет потерялись. Муж у меня, девочке пять лет. – Она опять вздохнула. Горько и безысходно. Не зная, как утешить эту милую запутавшуюся женщину, Чиж вдруг разоткровенничался: – Когда Ефимов прибыл к нам, я командовал этой частью. Думал, впереди еще жизнь. Но в один прекрасный осенний день оказалось, что жизнь уже позади. Сердце какое-то не такое стало. Запретили летать. А какой я командир, если не летаю? Попросился на другую работу. Жизнь, Нина Михайловна, уходит почти на глазах. Имейте это в виду. Чиж насторожился. По асфальтовой дорожке бежала Юля. – Кажется, за мной, – сказал он и встал. – Ефимов хороший летчик. Надежный. Я летал с ним. Ему можно довериться. – Товарищ полковник, – на крыльце появился дежурный по КПП. – Вас зовут на стартовый командный пункт. – Летят? – спросил Чиж. – Да, – ответил сержант. – Ну, вот и дождались, – улыбнулся Чиж. – Через час будут. Есть еще время? – Конечно, – сказала она. – Спасибо вам, Павел Иванович. В предчувствии работы Чиж распрямил спину, пошевелил плечами, расправляя грудь. Сейчас начнется, так что надо «запасаться кислородом». – Кто это? – спросила Юля. Чиж шел быстро, и она, чтобы не отстать, вцепилась в рукав его кожанки. – Я могу закрутиться, а ты не забудь… Увидишь Федю Ефимова, скажи, что его ждут. У нее мало времени. – Ты не сказал, кто это. – Нина Михайловна. Друзья они, учились вместе. – Ясно. – Ничего тебе не ясно. Тут еще никому ничего не ясно. – Чиж наклонился и сгреб в ладонь пучок скошенной травы. Еще вчера головки клевера фиолетово горели на зеленом ковре. Сегодня уже слиняли, сморщились, окрасились рыжими пятнами. Запах от подсохшего клевера дурманил, настраивал на замедленный темп. «Вытянуться бы на этой траве», – усмехнулся Чиж и передал пучок подсохшего клевера Юле. – С этим запахом у меня связана одна история. Подбили меня возле Гомеля. Сел кое-как на луг, вывалился из кабины прямо в сено. Подобрали без сознания. Нанюхался, видно, от пуза, до сих пор помню. – Хорошо пахнет, – только и сказала Юля. У входа в «высотку» Чиж осмотрелся. И вправо, и влево, и впереди лежало бескрайнее поле аэродрома. Над бетонной полосой спокойно колыхалось знойное марево. Нагретый воздух подымался густыми витками, словно неведомая сила отсасывала с земли слежалые волокна тонких стеклянных нитей; ослабевшее солнце все еще работало, расточительно щедро исходя теплом. Возле домика дежурного звена появилась санитарная машина. Заняли свою позицию пожарники. Пульс аэродрома набирал рабочий ритм. На пятом, предпоследнем пролете лестницы Чиж почувствовал сухость во рту. Остановился, облизал губы, прокашлялся. Дело дрянь. Надо больше ходить пешком, обтираться по утрам холодным полотенцем, трусцой бегать. Движение – это жизнь. На СКП – стартовом командном пункте – все было готово к приему новых самолетов. Дежурный штурман встал, увидев Чижа, но тот махнул рукой: дескать, сиди работай. Эфир в динамиках потрескивал далекими электрическими разрядами; щелкая секундомерами, проверяла свое хронометражное хозяйство Юля. И только солдат-наблюдатель спокойно шлифовал шкуркой выточенный из плекса самолетик. Его оптика была давно отлажена и наведена куда полагалось. Чиж взял микрофон внутренней связи, началась проверка готовности служб. Эскадрилья прошла над полем аэродрома в парадном строю. Прошла низко, на предельной высоте. Прошла как ураган. Готовясь в прошлом к воздушным парадам, Чиж видал картинки и похлестче, удивить его чем-либо было трудно. Да и новые самолеты знал по рисункам и фотографиям. Но то, что пронеслось перед его глазами сейчас, вызвало грусть у старого истребителя – эта техника ему уже никогда не покорится. Рассыпавшись букетом за полосой, самолеты набирали заданный эшелон, чтобы с равными промежутками времени выйти на посадочный курс. И пошла привычная, как жизнь, работа. С минутами предельного напряжения и такими же короткими минутами отдыха. «„Медовый“, я «полсотни первый», дайте прибой». Это Волков. Его голос, даже сдобренный шумами эфира, Чиж отличит среди сотни других голосов. Круто набирает Ваня Волков высоту. Круто. Еще будучи лейтенантом, заявил о себе как главнокомандующий. Чиж помнит тот зимний день, когда они с полковником Гринько мучились над разработкой летно-тактического учения. Гринько явно не хотелось иметь дело с полевым грунтовым аэродромом. Во-первых, не оберешься мороки с перевозкой технического персонала и оборудования, а во-вторых, грунт не бетон, для реактивного истребителя площадка не самая подходящая. А учения хотелось провести красиво, ждали командующего. Тогда и встрял в разговор Ваня Волков, помогавший клеить карты. – Теперь понятно, почему летчики боятся грунтовой полосы как огня. Лучше, говорят, катапультировать. Гринько замер. В его прищуренных глазах появился недобрый блеск. – Кто этот невоспитанный офицер? – спросил он Чижа. – Лейтенант Волков, – представился очень бодро Иван. – Я, товарищ полковник, прошу прощения за несдержанность, но вопрос, который вы обсуждаете, касается больше нас, молодых летчиков. При таком подходе к летно-тактическим учениям мы не научимся воевать. Красота нужна на парадах. – Во-о-он! – гаркнул Гринько. – Это не уставная команда, – заметил спокойно Волков и вышел. Гринько молчал минут десять. Свесив над картой серебристый чуб, он упирался в стол крепко сжатыми кулаками и не мигая смотрел в одну точку. Под загорелой кожей рук матово белели напряженные суставы пальцев. – Сукин сын, – наконец прохрипел он. – Молоко на губах не обсохло, а туда же, учить. Посмотрю я, как он будет садиться на грунт. И техника к самолету не подпускай, Павел Иванович. Он инженер с дипломом. Пусть к повторному полету самолет на запасном аэродроме готовит сам. Под контролем, конечно. План учений был перепахан с ног до головы. Работа с грунтовых аэродромов стала главной на учениях, а Волков все задания выполнил четко и даже, можно сказать, с блеском. Когда командующий похвалил офицеров штаба за грамотную разработку учений, Гринько сказал Чижу: – Представляй этого сукиного сына на командира звена. Поддержим. А то начнет командующего поправлять. Он же выдвинул Волкова и на должность комэска, и на учебу послал в академию. Когда Волков, завершив образование, возвратился в полк к Чижу заместителем, Гринько уже был на пенсии. – «Полсотни первый», я «Медовый», вы на посадочном, удаление двадцать. Точку в пространстве, где должен появиться идущий на посадку самолет, Чиж обычно находил сразу. Беспрерывно работающий компьютер в уме считал безошибочно, как только задавались параметры. Скорость, удаление известны, остальное – дело техники. – Шасси выпущены! – выкрикнул наблюдатель, не отрывая глаз от прибора. Чиж направил взгляд в ту самую точку в пространстве, но самолета не обнаружил. «Неужто и глаза ни к хрену?» – мелькнуло тоскливое предположение. И тут он увидел самолет Волкова. Похожий на раскоряченного петуха истребитель снижался по крутой глиссаде. На таком удалении ему следовало иметь значительно меньшую высоту. – Разучился садиться он, что ли, – буркнул Чиж, сжимая в руке «матюгальник» – так нелепо называли летчики командирский микрофон. – Просто у этого самолета иная глиссада, – спокойно подсказал штурман. Ну конечно же! Как он мог такое забыть? От огорчения заныло в левом плече. Чиж расслабил руку, встряхнул кисть, но боль продолжала сверлить плечо и даже перекинулась ниже, к локтевому суставу. – Удаление два, – сказал динамик, и Чиж опять с тревогой посмотрел на самолет Волкова: не мог он убедить себя, что такая глиссада соответствует заданной. Укоренившаяся годами привычка сидела в нем, как ржавый гвоздь в сухом дереве. – Над ближним! «Сядет с перелетом», – решил Чиж и, уже не отрывая глаз, стал следить за посадкой командира полка. Самолет явно «сыпался». Но у земли плавно выровнялся, показалось – еще больше растопырил ноги, заскользил над серым бетоном и коснулся колесами полосы в том самом месте, где вся она была исписана черными продольными мазками. Каждый возвратившийся на землю самолет оставлял здесь автограф, свидетельствующий о благополучном завершении полета. Два дымка под колесами командирского самолета подтвердили – посадка произведена по высшему классу. Значит, руководителю полетов придется осваивать новые посадочные параметры. За самолетом Волкова еще трепетал серый крест тормозного парашюта, а разрешение на посадку уже запрашивали «полсотни пятый» и «полсотни шестой». – «Полсотни пятый», я «Медовый», посадку разрешаю. – Вас понял. Чиж быстро взглянул на Юлю. Ничего. Работает. Закопалась в расчетах. Ни одна жилка на лице не дрогнула. Может, он, старый дурак, чего-то навоображал? Желаемое за действительное принял? Юля ведь все видит. Коля Муравко ему нравится, вот и она делает вид, что разделяет отцовское чувство. А на самом деле… А что может быть на самом деле? Если бы что-то было, разве Юлька стала бы скрывать? С ним она в первую очередь поделится. В прошлом году механик по вооружению Юра Голубков влюбился по уши, руку предлагал, Юлька сразу ввела отца в курс. До сих пор парень шлет из Волгограда письма, все еще не теряет надежды. Прекрасный был сержант – золотые руки и башка на своем месте. А она к нему – ноль внимания. Что тут поделаешь? Николая Муравко Чиж полюбил сразу. Распахнутая настежь душа, неиссякаемая щедрость на добро и вместе с тем непримиримая твердость ко всему, чего душа его не приемлет. Когда Муравко присвоили очередное воинское звание, он пригласил друзей в кафе. Сам пил только минеральную воду. Как его ни пытались совратить, какие ни придумывали формулировки – стоял как скала. Смеялся вместе со всеми, поддакивал, но пил исключительно минералку. Другого назвали бы белой вороной, еще как-то, а к Коле не цепляются ни клички, ни ярлыки. – Небо любит чистоту. Любая грязь на его фоне видна всем. Даже если она спрятана глубоко в душе. Это его слова. Сказал их Муравко на своем первом партийном собрании, когда разбирали предпосылку к летному происшествию, совершенную одним молодым пилотом. Сказанное отложилось в сознании летчиков полка, и к Муравко стали приглядываться – не расходится ли у этого парня слово с делом? Нет, не расходится. Предан небу без остатка. Чижу такие ребята по душе. Небо за преданность платит верностью, одаривает по самой высокой мерке. – «Медовый», я «полсотни шестой», «добро» бы на посадку. Этот не может без фокусов. Уже около года, как ушел из морской авиации. А с терминологией своей расстается нехотя. Руслана Горелова Чиж любит странной любовью. Как любят в большой семье самого младшего ребенка. У мальчика от природы талант летчика. И хотя еще много в голове мусора, летает Горелов красиво. По этой части к нему не придраться. А Чиж уверен – красиво летать может только красивый человек. Шелуха должна осыпаться, и будет летчик что надо. – «Полсотни шестому» «добро» на посадку… Садись, салага, – уже с улыбкой добавил Чиж совсем неуставную фразу. – «Медовый», я «полсотни седьмой», прошу заход на посадку. Вот и Ефимов. Чиж взглянул на часы. Нина должна еще ждать. Обрадуется? А может, какая-нибудь беда его ждет? Ефимов чем-то отдаленно напоминал Чижу Филимона Качева. Душевной углубленностью, что ли? Как и Филимон Качев, он умеет внимательно слушать, немногословен, чуток к любой несправедливости. Однажды Волков отругал его за грубую посадку, не разобравшись в причине. А человека следовало похвалить. В момент посадки самолет потянуло к земле. Растеряйся Ефимов хотя бы на мгновенье, и быть беде. Но он успел выровнять самолет и посадил его хоть и не очень чисто, но вполне надежно. Когда Волков разобрался в причине предпосылки к летному происшествию – была обнаружена неисправность механизма автоматической загрузки ручки, – он извинился перед Ефимовым. Но Федор написал Чижу рапорт: ваш заместитель оскорбил меня при всех, а извинился наедине. Чиж о рапорте промолчал, но Волкову посоветовал прилюдно признать свою ошибку – дескать, это тебе только прибавит авторитета. И Волков согласился. На разборе полетов он скрупулезно проанализировал действия Ефимова, похвалил за выдержку в экстремальной ситуации. – К сожалению, подобной выдержки не хватило мне при оценке случившегося, – сказал он спокойно, – и я извиняюсь за те резкие слова, которые сказал в адрес Ефимова. Конфликт ушел в песок, но случай этот вспоминают в полку до сих пор, вывели из него нравственную формулу: «Признавая достоинства другого, повышаешь свой авторитет…» – «Медовый», я «полсотни третий», разрешите выход на точку. – Разрешаю, «полсотни третий». – Вас понял, Павел Иванович, дайте прибой. – «Полсотни третий», занимайте посадочный, удаление сорок, прибой двести тридцать шесть, режим. – Понял, «Медовый», выполняю. Даже профильтрованный радиоаппаратурой голос Новикова доходил до руководителя полетов окрашенным в теплые тона. Чиж только сейчас почувствовал, как он соскучился, как ему остро не хватало все эти дни общения с человеком, занявшим в его сердце особое, будто специально для него подготовленное место. В полк, на должность заместителя командира по политчасти, Новиков прибыл после учебы. Чижа раздражала его спокойная неторопливость, осторожность в решениях, неразворотливость. Но в дни подготовки отчетно-выборного партийного собрания Новиков проявил себя сразу. Во всем, что он делал и говорил, чувствовались глубокая компетентность, уверенность и целеустремленность. Он не терпел скольжения по поверхности, бездоказательности в выводах. Каждый свой поступок обстоятельно аргументировал и того же требовал от других. Чиж понял, что поторопился с выводами. Осторожность и неторопливость на первых шагах теперь объяснялась просто: политработник скрупулезно вникал в дело. И пока не докопался до корней, с оценками не спешил. Сблизила их окончательно беда. На одном из медосмотров у Чижа подскочило давление. Вместе с Новиковым он готовился слетать в «спарке» на разведку погоды. Новиков полетел с Ефимовым. Давление держалось, и Чижа уложили в госпиталь. Обследование еще не закончилось, а полк уже гудел: командира списывают с летной работы. Не дожидаясь окончательного приговора медиков, Новиков уехал в Ленинград и договорился, чтобы Чижа самым тщательным образом обследовали в Военно-медицинской академии. В госпиталь он пришел к нему возбужденно-уверенным. Широкие брови при каждом междометии вставали над переносицей домиком, прятались под густой челкой. Глаза сверкали благородным гневом. – Я все эти позорные бумажки, – тряс Новиков анализами и кардиограммами, – показывал самым крупным спецам. Перестраховщики тут у нас в госпитале, говорят они. Надо немедленно ехать в академию. Там все поставят на свои места. Вы еще долго будете летать, дорогой Павел Иванович. Будете! Пребывание в Военно-медицинской академии врезалось в память осенним этюдом: по окну царапают голые ветки липы, в огромной луже на асфальте мелкие желтые листья и все время тоскливо, на одной ноте, гудит ветер. В полк Павел Иванович Чиж вернулся уже с подрезанными крыльями – сколько ни маши, не взлетишь. Встречавший его на вокзале Новиков заплакал. Чиж обнял его и растроганно сказал: – Не надо, Сережа, мы еще с тобой послужим. Валяясь на койке в клинике, Чиж мучительно искал выхода. Он пытался представить себя без авиации, без своего полка и не мог. Только среди самолетов, среди аэродромных запахов и звуков, рядом с авиационной братией, где его опыт был еще многим нужен, он видел смысл дальнейшей жизни, возможность быть полезным. Если все это отнять, что останется? Ждать смерти? Перед отъездом Чиж зашел в штаб ВВС округа, встретился с командующим. Генерал принял его радушно, вышел из-за стола, сел в кресло рядом с журнальным столиком. – Не бери в голову, Паша, – сказал он, вытащив зубами пробку из коньячной бутылки. С Чижом они вместе воевали, в одной дивизии. Были когда-то в равных званиях. Потому генерал никогда не обращался к Чижу официально. Чиж тоже не «выкал», но все же называл генерала по имени и отчеству. Так ему было удобнее. – Дадим тебе должность в Ленинграде. Ольга ждет не дождется. – Не о ней речь. – Чиж помолчал. – Пойми меня, Александр Васильевич, – хочу в полк. Буду руководить полетами. – Я-то пойму. А что другие скажут? Ты подумай, Паша. – Подумал, Александр Васильевич. А полк пусть Волков принимает. Если захочет – помогу. Новиков решение Чижа встретил как подарок судьбы. Домой зазвал, пир горой устроил, всем говорил одно и то же: – Я верил, что Павел Иванович будет с нами. Через два месяца Чиж передал полк своему заместителю подполковнику Волкову. Иван Дмитриевич принял руководящий жезл как должное, спокойно и уверенно. Чижа попросил: – Заметите серьезную ошибку, подскажете. В мелочах сам разберусь. Дни шли утомительно, складывались в недели, месяцы, раны рубцевались. В своей новой работе Чиж даже находил массу преимуществ. А то, что иногда вскипало на душе, никого не касалось. Он верил – время довершит свое дело. И не ошибся. В руководстве полетами его опыт оказался золотым резервом. Летчики верили каждому слову Чижа. И не только в воздухе. Кто-то допустил ошибку в пилотаже – к Чижу. Надо разобраться, он точно определит причину. Нелады в семье – можно отвести душу с Павлом Ивановичем. Свадьба – Чиж в красном углу. «Без Чижа нельзя, ребята. Чиж, он и в Африке Чиж». Сел замыкающий самолет. И небо стихло, словно где-то отпустили туго натянутую струну. Эскадрилья выстраивалась на первой стоянке, это справа от вышки, буквально в двадцати метрах. Чиж видел, как Волков тихо развернул хвост, резко затормозил и выключил двигатель. Техник подал стремянку, и командир, откинув прозрачный фонарь, легко сошел на землю. Перелет не очень утомил Волкова. Он был еще чертовски молод – тридцать семь лет. Пока Чиж спускался вниз, Волков ушел в класс, где хранится высотное снаряжение летчиков. Здесь они облачаются перед полетом в свои марсианские костюмы, здесь и снимают их, пропитанные потом. У каждого летчика свой шкаф, своя полочка для герметического и защитного шлемов, для специальной обуви, рядом душевая и комната отдыха. Чиж подошел к самолету. Техник и механики, прибывшие с переподготовки неделю назад, уже по-хозяйски ощупывали долгожданную машину, выкрикивали понятные только авиаторам слова и команды, не смущались и не робели перед этим полным загадок аппаратом. Если МИГ предыдущего поколения поразил в свое время Чижа стремительностью, готовностью чуть ли не со стоянки взмыть в небо, совершенством аэродинамических форм, нынешний удивил несуразностью линий, непривычностью форм. Вместо открытого заборника с острым конусом в центре – длинный обтекаемый клюв, квадратные короба заборников нелепо выпирали по бокам фюзеляжа, вместо стреловидного треугольника крыльев торчат две узкие прямые плоскости. А шасси? Узловаты, вывернуты, как у кузнечика, коленками назад. Нет, не приглянулась эта техника Чижу. Он поднялся по стремянке и заглянул в кабину. Знакомые запахи лаков заставили учащенно забиться сердце, перехватило дыхание. Неодолимо захотелось протянуть руку к стройным рядам тумблеров, естественным, как дыхание, жестом врубить системы, запросить разрешение и нажать кнопку запуска… Кажется, еще вчера все это было возможным. Еще вчера ему весело подмигивали приборы, нетерпеливо подрагивая стрелками, с готовностью ждал команды многотысячный табун лошадиных сил, втиснутый в чрево фюзеляжа, гостеприимно раскатывалась по зеленому полю до самого неба бетонная дорожка – пожалуйста, взлетай… – Еще вчера… Черта с два! Все это было в прошлом веке! При царе Горохе! До нашей эры! – Летели над морем – внутри так и дрогнуло, – услышал Чиж голос Руслана Горелова. – И зачем я ушел из морской авиации? Чиж улыбнулся, и взгляды их встретились. Руслан придержал Муравко и вскинул ладонь к шлему. – Товарищ полковник, лейтенант Горелов закончил переучиваться и благополучно возвратился домой на новом самолете. – Здравствуйте, Павел Иванович, – расплылся в улыбке и Коля Муравко. Они обнялись. – Возмужали, повзрослели, ум в глазах, сила в бицепсах, – приговаривал Чиж. – А Лизавету мою не видели? – В глазах Руслана трепетало нетерпение. – Цветет твоя Лизавета. В кино с кавалерами бегает. – Скажете, Павел Иванович, – не поверил Руслан. – А ты спроси сам – с кем она ходила, – добавил Чиж и подмигнул Руслану. – Вы разыгрываете, Павел Иванович?.. – Руслан уже насторожился. – Расскажите-ка лучше, как новый аппарат? – спросил Чиж. – Новый аппарат дремать не дает! – вклинился в разговор подошедший Новиков. – Соскучились мы без вас, дорогой Павел Иванович! С Новиковым Чиж расцеловался. – Соскучились, а ни одного письма. – Не до писем было, честное слово. За три месяца такого зверя одолели! – Новиков кивнул в сторону самолетной стоянки. – Благоверной всего одну писульку послал. Он же из нас все соки выдавил, жеребец этакий! – В голосе замполита звучали ласковые ноты. Подбежавшую Юлю летчики встретили не в меру радостными возгласами. – А где Ефимов? – спросила Юля. – Мы спорили, – улыбнулся Муравко, – не знали, кого ты больше всех ждешь. Теперь ясно – Ефимова! – За проницательность – пятерка, – улыбнулась в ответ Юля. – К Ефимову приехала женщина. Нина Михайловна. С утра томится возле КПП. Увидите – передайте. – Везет же некоторым, – продолжал все в том же тоне Муравко. – Заслужили, значит, – парировала Юля. Новиков и Чиж отошли несколько в сторону от молодых летчиков, и до Чижа долетали лишь отдельные фразы, из которых он понял, что Юля просит Муравко выступить перед студентами института авиаприборостроения, в котором учится, а Муравко хочет переложить эту просьбу на Руслана. «Прирожденный оратор, хлебом не корми, дай только о морской авиации поговорить». – Есть новости? – Чиж в сосредоточенном молчании Новикова уловил какую-то недосказанность. – Есть, Павел Иванович. – Новиков вздохнул. – Перелет был задержан не из-за погоды. Нас с Волковым вызывали в Москву. – Туда зря не вызывают. – Не вызывают, – как эхо прозвучал голос Новикова и умолк. – Не томи, Сергей Петрович. – Да что уж… Перебрасывают наш полк на Север. На необжитые места. – Как скоро? – Завершим переучивание – и вперед. Чиж прикинул: сегодня вернулась последняя группа летчиков, прошедших курс переучивания. Месяц интенсивных занятий – и полк будет на крыле. А технику получить – дело нескольких дней. Сядет на аэродром эскадрилья, летчики, пригнавшие самолеты, уедут поездом, а техника останется. Вот и вся аптека. Так что месяц-полтора, не больше. А может, и меньше. – Ну что ж, Север так Север. На войне не успевали осмотреться, а уже новый аэродром. Не впервой, перелетим. Новиков поддакнул: – Вот именно, не впервой. Только на войне, мне кажется, делать это было проще. – В каком смысле? – Во всех смыслах. – Ничего. Проведем работу. – Да, конечно. Работу будем вести. Без этого нам крышка. Только эта новость волны погонит огромные… – Как Волков? – А Волкову что, Павел Иванович. Он, наверное, уйдет. Разговор сугубо между нами, но вы должны знать: ему предлагают новую должность. Дали время подумать, пока будет готовить полк к перелету. Мне кажется, Волков уйдет раньше. Если есть решение назначить нового командира, он должен принять полк здесь, до перелета. Элементарная логика. – Элементарная логика хороша в математике. А люди, Сергей Петрович, они и в Африке люди. – Так-то оно так… А только… – Утро вечера мудренее. Поживем – увидим. Иди, переоденься. Через полчаса совещание. Да, комиссар подкинул информацию к размышлению. Не дай бог узнает Ольга – все сделает, чтобы не отпустить Юлю. Чиж представил жену за руководящим столом. Телефонный звонок. Неторопливый жест, усталое «алле!» и деловое внимание… Затем трубка с грохотом летит на аппарат, и Ольга лихорадочно соображает – что предпринять? Она уже давно ищет повод, чтобы перейти в активное наступление, но силы пока неравные – Юля железно стоит на своем. А что, может, и в самом деле подумать о переезде в Питер? Вот Юля расхохочется, если узнает мысли Чижа. «Стареешь, – скажет, – папуля, стареешь». Да ведь все мы в ту сторону движемся, обратно – еще никто не встречался. 3 Все военные аэродромы похожи один на другой, как однотипные самолеты. Бескрайнее поле, исчерченное вкривь и вкось бетонными полосами. Взлетно-посадочная – пошире и подлиннее, рулежки – покороче и поуже. Командные пункты, системы посадки, спецплощадки, склады, копаниры, классы, ангары, что там еще? Сколько перевидел их Ефимов в дни летно-тактических учений и всегда отмечал: похожи, как самолеты на стоянке. А сегодня сделал открытие – ни черта подобного, свой-то родным кажется. Хоть и чахлый лесочек отделял аэродром от шоссейной дороги, но есть в нем одна особенность. Приветливый он, лесочек. Даже боровички по осени дарит иногда. И «летный» домик здесь веселенький, нарядно подкрашен, клумбы с цветами. И вышка со своим лицом. Силуэт у нее самобытный – ни с какой другой не перепутаешь, особенно с воздуха. А Юлька? Юлия Павловна то есть. Тоже ведь достопримечательность. Вон, бежит к нему, улыбается. Ефимов часто бывал у Чижа дома, заходил в Ленинграде и к его жене Ольге Алексеевне, директору НИИ. Бывал у нее в квартире на Фонтанке. Видел иногда Чижа вместе с женой и дочерью. Встречи эти всегда оставляли в его душе какие-то не дающие покоя зарубочки. Нет-нет да и всплывали в памяти, бередили душу, наталкивали на ассоциации. Было в судьбе Чижа, в его семейной жизни нечто до удивления гордое и нечто горькое, такое же нелепообидное, как и в судьбе Ефимова. Однолюбство, что ли? – Товарищ капитан! С прибытием! С возвращением! – Спасибо, золотце! Соскучилась? – С вас коробка конфет, я первая сообщаю. Лады? – Лады! – Ефимов начал лихорадочно перебирать варианты возможных сюрпризов. Звание? Рано. Квартира? Вряд ли. Медаль? Точно! За десять лет выслуги. – Медаль? Юля засмеялась: – Орден! К вам гость – Нина Михайлова ждет у проходной. С утра. Ефимов остановился. В лицо ударило, как при перегрузке, – не может быть. Сначала он рванулся к «летному» домику – переодеться! Но тут же вспомнил: скоро совещание, надо успеть до начала. У беседки, где летчики все еще делились впечатлениями от перелета, он кинул Муравко защитный шлем и наколенный планшет. – Забрось в мой «пенал». Я скоро! – И, уже не сдерживая себя, размашисто-быстро зашагал напрямик по полю в сторону КПП. Боковым зрением Ефимов засек выходившего из «летного» домика Волкова. В кителе, при фуражке. «Сейчас вернет», – подумал почти с испугом, но Волков не окликнул. Ну и слава богу. Сейчас Ефимов только попросит Нину, чтобы еще чуточку потерпела, пока закончится совещание. А потом в их распоряжении и вечер, и ночь. Конечно же, он никуда ее не отпустит. Потом у него еще отпуск и еще целая жизнь впереди. И Нина молодец, прикатила, угадала, о чем телеграмма. Умница! И вдруг в мажор его мыслей ворвалась тревожная нота. Может, что случилось? Но если она здесь, что могло случиться? Приехала сказать, чтобы он больше не писал, не звонил, не появлялся? Черт, как далеко, оказывается, КПП от «летного» домика. Он почти побежал, отрывочно вспоминая смысл одного из присланных ею писем, не на шутку встревоживших Ефимова. Нина путано писала о муже, о дочери, о том, как она обязана им всем, чем одарила ее судьба. Человеку, способному предать все это, она не могла даже подобрать оценки. «Ничто не способно оправдать мое поведение. Ничто. Даже любовь. У предательства одно имя – предательство». И уже на другой день Ефимов читал совсем иные строки: «Я знаю, ты все поймешь – и радость мою, и муки. И, что бы я тебе ни писала, ты помни главное – я твоя. Предназначена тебе от рождения. Просто обстоятельства были против нас. И, если мы не запасемся терпением, нам не одолеть их. Ты мне поможешь, я знаю». Протиснувшись сквозь турникет КПП, Ефимов на секунду замер: Нина уходила. – Нина! – окликнул он торопливо. – Федя!.. Господи… – Она обессиленно опустила руки и показалась Ефимову трогательно хрупкой, худенькой, невесомой. После первой встречи Нина запомнилась ему крепкой и плотной. Видимо, эти три месяца были у нее нелегкими. – Нина… Она только шевельнула губами, в сощуренных глазах подрагивали вот-вот готовые скатиться слезы. И что-то дрогнуло у него в груди, тугим комком подкатило к горлу; сердце переполнилось неистраченной нежностью, он шагнул к ней, и все, что накопилось за минувшие три месяца, за минувшие десять лет, вложил в объятие, выдохнул шепотом: – Люблю… Она жалась к нему, как жмутся дети, когда им страшно и одиноко, вытирала украдкой глаза, хлюпала носом. Он ласкал ее, как мог успокаивал. И, если бы его сейчас спросили, что такое счастье, он бы ответил, ничуть не лукавя: счастье – это стоять вот так в тени под липой и чувствовать, как, вздрагивая, успокаивается в твоих объятиях любимая женщина. Ему сейчас казалось, что не было никакой трехмесячной разлуки, никаких десяти лет, что они стоят не у полковой проходной, а у бетонной чаши фонтана на вокзале областного центра, откуда он уезжал служить. И все, что вклинилось между ними за минувшие годы, это тяжелый, кошмарный сон. – Федя-Федюшкин, Федя-Федюшкин, – шептала Нина, прижимаясь виском к его плечу. – Если бы ты только знал, как трудно и хорошо мне. Если бы только знал. Я измучилась до предела. И хоть бы с кем посоветоваться. Уже ничего не соображаю, не вижу, что делается вокруг меня. Одно в голове – как быть? – Разберемся, – заверил он твердо. – Сядем рядком, поговорим ладком. Во всем разберемся. У нас будет достаточно времени. – Я должна сегодня уехать. – Никуда я тебя не отпущу, ты останешься у меня. Нельзя нам больше расставаться, слышишь, Нина? Нина подняла глаза, виновато улыбнулась: – Увы, Феденька, должна. Ты еще ничего не понял, оказывается. – Не усложняй. Все просто. Все менять надо. И чем быстрее, тем лучше. Уходи от него. И точка. – А Ленка? – И Ленку забирай. – А вдруг она не захочет? Девочка уже взрослая. – Как не захочет? – опешил Ефимов. Нина пожала плечами: – Не захочет, и все. Она любит его. «Тогда пусть с ним остается!» – чуть не сморозил Ефимов. Но что-то остановило его. И он тут же понял, что говорил сейчас не он, а его эгоизм. Он думал только о себе, начисто забыв, что Нина не из пены морской предстала перед ним, а пришла из той жизни, где крепко повязана десятками незримых, приросших к душе нитей и узелков, что рвать их больно и опасно. – Прости меня, дурака, – он сжал ее руку. – Жди на вокзале. Как только освобожусь, мигом прилечу. – Ничего, Феденька, – шептала она, – ты только знай – я всегда с тобой. Станет невмоготу, зови. Хоть на часок, но примчусь. Мы придумаем что-нибудь. Обязательно придумаем. Иди. Ты какой-то чужой в этом скафандре. Вот только руки да лицо твое. Иди… Господи, как я люблю тебя! – Я знаю, – сказал Ефимов. Он взял ее лицо в свои широкие ладони, повернул к себе, поцеловал глаза, ямочки на щеках, губы. – Спасибо, что приехала. Повернулся и побежал. И ни разу не оглянулся. Знал, она уходит к автобусной остановке. В учебном корпусе, где Волков проводил служебное совещание, было тихо. Ефимов понял – опоздал. Он осторожно приоткрыл дверь. Волков стоял к нему спиной, чертил на доске схему. – Вот примерно так выглядит эта ошибка графически, – говорил он. Ефимов проскользнул в дверь и сел за один из самых последних столов. Ему показалось, что Волков не заметил опоздания. Он спокойно вытирал тряпочкой мел с рук, смотрел в свою неизменную рабочую тетрадь, напоминающую бухгалтерскую книгу. – Что случилось, Ефимов? – вдруг спросил Волков. Тон вопроса был ровным, даже доброжелательным. – Прошу извинить за опоздание, – так же спокойно ответил Ефимов. – Какого черта на аэродроме шатаются посторонние? – Мы разговаривали по ту сторону проходной. – Кто эта женщина? – Знакомая. – Я своих знакомых принимаю на квартире. Объявляю замечание. – Есть замечание. На какое-то мгновение в классе повисла тишина. Никто даже не обернулся в сторону Ефимова. Один только Новиков не сводил с него глаз. Замполит в числе немногих был посвящен в сердечные дела Ефимова. Там, где они проходили переучивание, почту в эскадрилью приносил сам Новиков. Однажды, вручая Ефимову сразу три письма с одним обратным адресом, он спросил: – Никак дело к свадьбе идет? – До свадьбы далеко, Сергей Петрович. Был тихий южный вечер, когда дневная жара сменяется облегчающей прохладой, высоко в небе недвижно висела полоска румяных облаков, одиноко гудел возле самолетной стоянки огромный топливозаправщик, терпко пахло акацией. До ночных полетов еще оставалась уйма времени, и Ефимов вдруг разоткровенничался, рассказал Новикову о Нине все, что знал сам. Они сидели в траве неподалеку от пешеходной дорожки, по которой взад-вперед ходили летчики. И было странно, что никто к ним не подсел, не помешал беседе. Видимо, угадывали по озабоченным лицам собеседников – идет нешуточный разговор. А разговора, собственно, не было. Ефимов рассказывал, Новиков слушал. Потом оба молчали. Покусывая травинку, замполит о чем-то долго думал. Думал и Ефимов, пока не позвали в класс на постановку задач. Отряхивая поднятую с земли кожанку, Новиков сказал: – Не знаю, радоваться за тебя или сочувствовать. Посоветовать могу только одно: не принимай торопливых решений. И помни: ей труднее, чем тебе. В сто раз. Ефимову показалось, что в нависшей тишине класса звучат слова замполита: «Не принимай торопливых решений». А он уже чуть было не надерзил командиру. И если бы не этот взгляд Новикова, наверняка сморозил бы глупость, а впоследствии страдал от запоздалого раскаяния. – Садитесь, Ефимов, – сказал командир и уткнулся взглядом в рабочую тетрадь. Ефимов смотрел на торопливые цифры и слова, выведенные мелом на доске, и видел сквозь них встревоженное лицо Нины, ее растерянные глаза. И куда бы он ни переводил взгляд, Нина стояла перед ним. Нечто подобное с ним уже было. Тогда, десять лет назад, после прощания у бетонной чаши фонтана. Он слал ей одно письмо за другим, каждый день встречал ротного почтальона умоляющим взглядом, а тот лишь пожимал плечами. Ефимов непрерывно думал о Нине, видел ее озорные глаза, удивленно приоткрытые губы, слышал горячий шепот. И никак не мог совместить со всем этим ее необъяснимое молчание. Он написал Кате Недельчук. Спросил, как бы между прочим, не больна ли Нина. Спросил, неуклюже скрывая тревогу. Катя ответила прямо: Нина твоя жива и здорова, распрекрасно бегает на танцы, собирается выходить замуж. Ефимов ничего не понимал. Он с нетерпением стал ждать вызова в училище, надеясь по дороге заскочить в Ленинград. И хотя путь в училище лежал совсем в ином направлении, Ефимов воспользовался пересадкой в Москве и ухитрился прилететь в город, о котором думал почти непрерывно. В отделе кадров института ему сказали, в какой группе Нина занимается и как пройти в лабораторный корпус. Он увидел ее сразу. Сквозь стекло лабораторной двери. Она сидела за узким столом, держала в руках штатив с пробирками и смотрела прямо в глаза сидящему напротив парню. Ефимов потом сразу забыл его физиономию, а вот лицо и глаза Нины помнил все время. Это было счастливое лицо. И счастливые глаза. Он не возмутился, не рванул двери, не полез в драку. Сразу навалилось безразличие. И было только одно желание: уйти скорее, и незамеченным. Перед самым выпуском из училища, примерно за месяц до госэкзаменов, его вызвал командир эскадрильи и, вручая увольнительную записку, сказал с плутоватой улыбкой: – Тебя в гостинице «Звездочка» ждет невеста. Свободен до утра. – И добавил, протягивая руку: – Будь счастлив, тихоня… Ефимов вышел от командира растерянным. Он давно решил никогда не встречаться с Ниной, но не понимал, зачем она здесь. Не понимал, зачем идет в гостиницу. А вдруг все неправда? Вдруг не было никакого замужества, никакой дочери? Бывают же чудеса! Нет, чуда не произошло. В гостинице его ждала Катя Недельчук. Она предвидела его разочарование и была готова к этому. Сухо попросила извинения, невестой, дескать, назвалась, чтобы отпустили из училища, в городе оказалась случайно – командировка. В номере по-деловому поставила на стол бутылку коньяка, приготовила бутерброды с колбасой, вымыла фрукты, положив их горкой на тарелку, вскрыла пачку печенья, включила электрический чайник. – Мне нельзя – завтра полеты, – прикрыл Ефимов ладонью стакан, когда Катя подняла бутылку. – Освободил тебя командир от полетов, – усмехнулась она. – Мы с ним мило побеседовали. Расслабься немного, ты же весь закаменел. Нельзя так. Себе она налила почти полстакана. Ефимов махнул рукой. В конце концов до утра пять раз выветрится. Они молча сдвинули стаканы, посмотрели друг другу в глаза. – До дна, – сказала Катя. И только теперь Ефимов заметил, что она волнуется. Видимо, все, что она делала и говорила, было детально продумано заранее и давалось ей нелегко. Ефимов пока не догадывался, что скрывается за этим неожиданным свиданием, поэтому пожалел Катю и дружески подмигнул ей. После института, рассказывала Катя, ее оставляли в аспирантуре, но она нашла хорошую работу, там хороший коллектив, в общежитии не захотела жить, снимает комнату на Загородном, часто ходит в театры, музеи, на выставки. Замуж? Тут осложнение. Влюблена безответно в одного дурачка, еще со школы, а он и не знает, другую любит. А другая уже давно замужем, дочку родила. Конечно, и Катя могла выйти, чтобы числиться благополучной, ухажеры и сейчас есть, но душа противится, жить по принципу «стерпится – слюбится» она не способна. Все или ничего. – А человек, которого я люблю, – сказала она без рисовки и без всякой надежды, – это ты, Ефимов. Угораздило меня втюриться. Катя вертела в пальцах граненый стакан с недопитым коньяком, словно хотела точно определить цвет содержимого, и легонько покусывала полные губы. В глазах – то озорство, то наивная растерянность, то неожиданное горе. – Скажи, ты до сих пор ее любишь? – Не знаю. – Тебе легче. А как мне быть? – Не знаю, Катя. Зачем ты все это сказала? – Не могла больше. Сказала и вроде легче чуток… Впрочем, ерунда все это. Дура я была, дурой и останусь. Прости меня, Ефимов. Ложись поспи, я посижу возле тебя. Он проснулся от прикосновения Катиных рук. Она сидела на краешке дивана в короткой ночной сорочке, плотно сжав круглые колени, и осторожно перебирала пальцами его длинные волосы. – Мне пора? – вздрогнул Ефимов. – Проспал? Свет в номере был слабый, Катя набросила на светильник полотенце, но Ефимов разглядел в широком вырезе Катиной сорочки трогательные впадинки возле ключиц, тонкую шею, мягкие линии плеч. Она вся была ладненькой, уютной. Коротко остриженные, не очень густые волосы усиливали это впечатление. – Ты что, Катюш? – Он перехватил ее ладонь и прижал к своему виску. – Глупостей ведь наделаем. – Я такая положительная, Ефимов, что одна глупость меня бы только украсила. Она наклонилась, коснулась щекой его лица, отыскала губами его губы и, поймав едва уловимое ответное движение, припала к ним торопливо и жадно. «Ну и пусть, – отстраненно подумал Ефимов, расслабляясь в пьянящем дурмане. – Пусть все будет. Потом разберемся. Потом…» – обещал он себе, проваливаясь в жаркую невесомость. Проснулся Ефимов от тихих шагов. Катя возилась у стола, готовила что-то к завтраку. Одетая и причесанная, она вела себя так, словно этой ночью ничего не произошло. И если бы не ее припухшие губы и не тени под глазами, Ефимов мог подумать, что все случившееся ему приснилось. – Что ты мне скажешь на прощание? – спросила Катя, когда он взялся за ручку двери. – Теперь я, наверное, обязан… – Обязан, – хмыкнула она, – ничего ты мне не обязан, Ефимов. Освобождаю тебя от всяких обязанностей. – Что я могу для тебя сделать? – Напиши хотя бы… Хоть пару слов, – в ее голосе дрожали слезы. – Хорошо, – пообещал Ефимов. Он быстро забыл о своем обещании и вспомнил о Кате года два спустя. Послал ей поздравительную открытку. В ответ получил длинное, страниц в десять, письмо, где она ядовито-зло высмеивала свою любовь к Ефимову, издевалась над его верностью Нине, убежденно писала, что, если бы ей встретился Шекспир, она бы ему про такое коварство рассказала, какого свет не знал… Кажется, на третий день Ефимов получил от нее второе письмо. На нервно выхваченном из школьной тетради листке было всего несколько слов: «Если можешь, забудь все, что было в том гадком письме. И прости». Больше они не переписывались. Умом Ефимов понимал: если Нина принадлежит другому, родила девочку, значит, она счастлива и надеяться на что-нибудь глупо. А сердце сопротивлялось такому неизбежному выводу. Бывая в Ленинграде, он всматривался в прохожих, приглядывался к пассажирам троллейбусов, в музеях изучал не только экспонаты, но и посетителей. В сердце, хотя и приглушенно, но теплилась надежда на встречу. И вот она, его Нина, где-то совсем рядом. Хрупкая, беззащитно-доверчивая. Ему кажется, что он до сих пор слышит запах ее волос, и у него кружится голова и замирает сердце. Скорее бы заканчивал Волков этот занудливый разбор. О чем только можно так долго говорить? – Начальство благодарит за четкий перелет и разрешает сообщить семьям о передислокации полка. Можно назвать срок: примерно через месяц-полтора. Это пока все, что им можно знать. Передовую команду отправим в ближайшие дни. Перелистнув хрустящую страницу тетради, Волков выпрямился и поискал кого-то глазами. Остановил взгляд на Горелове. – А теперь последняя новость. Лейтенант Горелов! – Я! – вскочил растерянный Руслан. Он непонимающе смотрел по сторонам, словно апеллировал к присутствующим: вы же знаете, я ничего такого не сделал. – Приказом командующего вам присвоено очередное воинское звание «старший лейтенант». Поздравляю! – Служу Советскому Союзу! – гаркнул на весь класс Руслан. Волков взял поданные Новиковым погоны и кивнул Горелову. Руслан снова посмотрел по сторонам. Даже улыбка не могла погасить растерянности на его лице, она казалась вымученно-виноватой. И летчики вдруг засмеялись, захлопали в ладоши. Командир вручил погоны и обнял Руслана. – Расти до генерала, – сказал он от души. И Ефимов за этот жест простил Волкова. Ведь, конечно же, он сам спровоцировал его на грубость. – На этом закончим, – подвел черту Волков. – Все свободны. Офицеры задвигали стульями, начали шумно поздравлять Руслана. Волков достал сигареты, открыл окно и только тогда щелкнул зажигалкой. Достал свою трубку и Чиж. – Вы, кажется, были на Севере, Павел Иванович? – Волков подал ему зажигалку. – Если разрешишь, полечу с передовой командой. – Чиж не сомневался, что так оно и будет. Уж где-где, а там его опыт – на вес золота. Но Волков как-то странно отвел взгляд. – С вашим-то здоровьем? Чиж опешил: – Здоровьем? – Потом только и будет разговоров, что я не чуткий командир. Вот рассказать ребятам о Севере – другое дело. Подумайте, выберем время, поговорим. Он стряхнул за окно пепел и, зажав сигарету в губах, начал убирать со стола бумаги. Ефимову показалось, что у Чижа в глазах что-то погасло. Странно посмотрел на командира и замполит. «Нет, все-таки Волков дуб», – подумал Ефимов раздраженно и подошел к Чижу. – Павел Иванович, там Юлька вас ищет. – Ефимов видел, как она уже дважды заглядывала в класс. А теперь появилась у распахнутого окна. Взглянув на отца, она сразу догадалась – что-то произошло. – Папа! Автобус уходит. – Юля ждала ответа. – Иди, я следующим, – Чиж пытался улыбнуться, но улыбка никак не складывалась. – Ты что? – насторожилась она. – Я? – бодро переспросил Чиж. – Ничего. – Я тоже следующим поеду, – сказала Юля и демонстративно отошла от окна. – Во характер, – кивнул в ее сторону Чиж. – Тягачом не сдвинешь, если что решит. Иди, Федя, ты еще не переоделся. Иди, тебя ждут. Он подтолкнул Ефимова и тоже пошел к выходу. Ефимову казалось, что он все делает спокойно, что никто даже не замечает, как рвется его душа туда, где его с нетерпением ждут. Упругий душ, свежее белье, свободная повседневная форма – как это хорошо после спецодежды. Но время! Оно идет! И она скоро уедет! Все. Пуговицы потом! У проходной его ждет «Жигуленок» приятеля, с которым их в лейтенантские годы свела судьба в одной комнате холостяцкого общежития. Ныне Коля Большов отец семейства, послужил за границей, в результате приобрел легковой автомобиль, швейцарский хронометр и какую-то сверхмощную аппаратуру, состоящую из магнитофона, проигрывателя, усилителя и акустической стереосистемы. Всем этим Большов чрезвычайно гордился и мог часами рассказывать о машине, о дисках и новых записях. Сегодня Волков похвалил его за четкое обеспечение посадки, и Большов нуждался в собеседнике. Несмотря на свое железное правило «подвозить только попутчиков», он, не задумываясь, согласился подбросить Ефимова до вокзала. Коле хотелось быть хорошим до конца. – Чувствуешь, какой движок? – начал он атаковать Ефимова, как только они тронулись с места. – Тянет, что твой МИГ. А почему? Потому что у меня японское электронное зажигание. Считай, десяток лошадей прибавилось. Что поставить? – Большов открыл крышку багажника, там ровным рядком стояли магнитофонные кассеты. – Во, нестареющий Поль Мориа. Кассету заглотнула узкая щель магнитофона, и салон «Жигулей» наполнился музыкой. Откуда она лилась, Ефимов не мог понять. Динамики Коля хитро замаскировал, и казалось, что музыку излучают даже стекла салона. – Здорово? – довольный произведенным эффектом, ерзал на сиденье Большов. – Вот построю гараж – вмонтирую телевизор. И вообще… Машина, Федя, любит хозяина. У меня кузов так оштукатурен «мовилем», на всю жизнь хватит… Сначала Ефимов вслушивался в болтовню Большова, потом понял – рассказчика не волнует, слушают его или нет. Ему просто надо выговориться. Как тому петуху: прокукарекал, а там хоть не рассветай… И Ефимов лишь согласно поддакивал и просил прибавить скорость. Хотя они и так уже шли с большим превышением. …Конечно же, Нину надо забирать к себе как можно скорее. Квартиру со временем дадут, мебель, посуда всякая – это не проблема, купят. Главное – быть вместе. Детский садик для Ленки найдется. Нина будет работать… На этом месте его размышления споткнулись. Где будет работать Нина? Инженер-технолог по нефтехимическим процессам, да еще с уклоном программиста ЭВМ. В этом городишке ничего похожего нет. – С одной стороны, хорошо, что меня не берут, – продолжал Коля Большов, – система посадки здесь остается. А с другой – неплохо бы. Там свои плюсы. «Эге, что-то я совсем отключился, – Ефимов посмотрел на спидометр. – Через месяц-полтора полк летит на Север. Гарнизон только строится, жить придется в сборно-щитовых, а я о мебели размечтался. Будут железные койки на сказочно мягкой панцирной сетке». – Мы не слишком гоним? – спросил Ефимов Большова. – Как бы не врезаться. Большов засмеялся: – Ну даешь! На самолете за два звука носишься, а тут сотня на спидометре. – Сравнил! – Ефимова устраивала скорость, хотя на душе вдруг стало неуютно. Он еще не понимал, что источником тревоги, которая тихо наполняла его, была вовсе не скорость. Пока он отвлеченно фантазировал, в их будущем, рисовалась прямо-таки идеальная картина: счастливые встречи после полетов, трогательные прощания, поцелуи, отпуск у моря. Сейчас он попытался все представить несколько приземленнее, в реальных деталях. И эти представления, как сполохи еще неслышной грозы, настораживали. У Нины устроенная жизнь, квартира в Ленинграде, любимая работа, семья, в которой она пусть не стопроцентно, но все же счастлива. А что он ей может предложить взамен? Неустроенный военный городок, где даже воду будут подвозить в бочках, казенную мебель с номерными бирками, а вместо театров, музеев, библиотек – транзисторный приемник. Ну, да это не главное. Главное в другом. Сможет ли он заменить Ленке отца, девочка уже действительно взрослая? Простит ли она матери измену? Это будет неотступно преследовать Нину, будет истязать ее сердце, сушить душу. Какой же безмерной должна быть сила ее любви, чтобы выстоять, не сломиться, сберечь свое чувство для завтрашнего дня. Как только они выехали на центральные улицы, их остановил инспектор ГАИ. Представился: старший сержант Дерюгин. Большов выскочил из машины, достал удостоверение. – Почему нарушаете? – с сознанием силы и безусловной правоты спросил инспектор. – Я извиняюсь, – торопливо ответил Большов. – За что ты извиняешься, Коля? – вмешался Ефимов. Ему показалось, что в этот момент они ехали без нарушений. Большов зыркнул на него с гневом – мол, не вмешивайся. – Вы на желтый свет ехали. – Желтый загорелся, когда мы были на перёкрестке, – вновь вмешался Ефимов. – Отпустите нас, Дерюгин. Я на вокзал спешу. – Я разговариваю с водителем. Инспектор, как показалось Ефимову, наслаждался данной ему властью. – Вас просят по-человечески. Военные люди. – За рулем все равны, – спокойно парировал инспектор. – Но нарушения не было. – Было. Я обязан сделать просечку. Большов взмолился: – Товарищ старший сержант, лучше штраф. – С военнослужащих не берем. – Ну, я вас прошу… Ну, честное слово, больше это не повторится. – На лице Большова то вспыхивала, то гасла заискивающая улыбка. – Коля, – не выдержал Ефимов, – да пусть он лучше дырку сделает в талоне! Разве не видишь, он унижает тебя и наслаждается, как садист. Инспектор побледнел. – Вы ответите за это оскорбление, – просипел он в сторону Ефимова. – А вы явитесь за удостоверением в ГАИ. – Товарищ старший сержант, – взмолился Большов, пытаясь спасти положение, но неумолимый старший сержант Дерюгин сделал в талоне отметку, отдал его водителю, а удостоверение сунул в планшет и ушел к своему желто-синему автомобилю. – Ну зачем ты, только ввязывался? – горько вздохнул Большов. – Сидел бы и молчал! Я знаю, как с ними разговаривать… – Редиска он, – попытался отшутиться Ефимов. – Заметил? Ни одного слова грубого не произнес, а ноги об тебя вытер. Унижал, как хотел. Опасная штука – власть, когда ее дают в руки кому попало. Что будем делать? – Иди, тебя ждут. Я попытаюсь его уговорить. – Перед кем ты будешь бисер метать? – Какая разница, перед кем! – Большов зло сплюнул, пошел за инспектором. Ефимов почувствовал себя виноватым. Ему бы сейчас в такси, но бросить Большова в беде – подло. – Коля, подожди! – Он глянул на часы. До отправления поезда оставалось больше получаса, и он еще не терял надежды, что успеет увидеть Нину. Сейчас ему казалось чрезвычайно важным не допустить, чтобы капитан Большов, полновластный хозяин радиолокационной системы посадки, человек, отвечающий за жизни летчиков и самолеты, заискивал, стлался перед этим сопливым мальчишкой. – Прошу тебя, – остановил его Большов. – Иди на вокзал. Тебя ждут не дождутся. Не мешай мне. Я все устрою сам. Я договорюсь с ним. Ты мне помешаешь. Иди. Ефимов почти бежал по перрону, заглядывая в открытые тамбуры и окна. Время подхлестывало, а ему нельзя было ее не увидеть. Он обязан сказать ей самые нужные слова, поддержать, вдохнуть веру, укрепить надежду, чтобы она уехала сильной и стойкой. Ее не должны мучить сомнения. Он с нею. Всегда, везде, до конца. Пусть знает: что бы она ни решила, в его сердце до самой последней минуты будет жить только одна женщина – она. – Федя! – Она возникла из-за спин идущих по перрону людей и крепко вцепилась в лацканы его кителя. – Как хорошо, что ты пришел. Феденька, родной, что же это происходит? Я совершенно обезумела! Ничего не могу сообразить. Понимаю, что подлая дрянь, что все это блажь, что гнать ты меня должен, и до смерти боюсь услышать от тебя хотя бы упрек. Феденька, милый. Нина умоляюще смотрела ему в глаза и говорила, говорила, едва успевая передохнуть. – Я не могу сделать тебя счастливым, пойми! Я все предала, затоптала, поменяла на благополучную жизнь. Ты не должен этого прощать мне. И ты не простишь. И будешь сто раз прав! И лучше, если ты сейчас все это скажешь мне. Я не могу больше жить так! Ефимов осторожно, одной рукой, прижал ее к себе, другой вытер влагу у глаз, пригладил волосы. – Успокойся. Все прекрасно. Ты даже не представляешь, как все хорошо. Я заново жить стал, когда снова нашел тебя. И ты станешь жить заново, только найди силы, решись. Не ты первая в таком положении, не ты последняя. – Я не смогу, Феденька. Мне это не по силам. Мне легче умереть. – Ну, ну… – Он приподнял за подбородок ее лицо. – Ты же сильная, Нина Михайловна. Не спеши. Успокойся. Все станет на свои места. Я люблю тебя. И это навсегда. Что бы ни случилось. – Нет, Феденька, нет. Я обыкновенная баба. Ты придумал меня. И скоро придет разочарование. Я чужая тебе. Я не смогу. – У меня не было и нет человека более родного. Я счастлив, что ты есть, что любишь меня. А будем мы вместе или нет – это уже неважно. Поезд! Тебе пора. Состав тронулся бесшумно, и Ефимов шагнул в тамбур вслед за Ниной. – Крепись, – шепнул в ухо. – Я с тобой! Поцеловал в висок и выпрыгнул на перрон. Поезд энергично набирал скорость. 4 Когда зеленый тупоносый автобус нырнул под виадук и покатил по городской улице, разговор в салоне пошел на спад и незаметно угас. Летчики молча смотрели в окна. То ли соскучились по этой привычной улице с ее чахлыми топольками, магазинчиками, пивными ларьками, неторопливыми пешеходами, то ли подсознательно надеялись увидеть знакомое лицо, то ли почувствовали близость долгожданной встречи и уже мысленно готовились к ней. Скорее, накатило все вместе. И по детям соскучились, и по женам. Тем более что не каждая с восторгом примет новость о переезде в новый гарнизон. В эти минуты летчикам было о чем помолчать. Но стоило Руслану подать голос: «Водитель, остановите у гастронома!» – как весь автобус тут же отреагировал советами и пожеланиями. – Коньяк не бери, Русланчик, лучше водку. И дешевле, и надежнее. Лейтенантам коньяк не по рангу. – Поправочка! – Руслан энергично вскинул топориком ладонь. – Старшим лейтенантам! – Главное, внуши своей Лизавете, что ты теперь – старший. – Простите, – подал голос Муравко, – я не понял, в какой банкетный зал приходить? – Вам сообщат, – уже выходя из автобуса, сказал Руслан, разрубив ладонью воздух. В гастрономе он выбил чек на бутылку шампанского, попросил ее хорошенько завернуть, в кондитерском отделе купил конфет – любимых Веткиных «мишек». На улице осмотрелся, нет ли поблизости насмешливого глаза, завернул в гарнизонный универмаг, попросил несколько пар погон, чтобы хватило на обе шинели, на повседневный и парадный кители и на две рубашки, взял горсть звездочек и эмблем. До дома, где ему полгода назад дали двухкомнатную квартиру, можно было проехать две остановки. Но Руслану не хотелось ждать автобуса. Решил, что скорее дойдет пешком. Ему нравились не очень далекие прогулки – возможность размяться, без спешки что-то обдумать. Сейчас он думал о том, что Лиза уже наверняка накрыла на стол и с нетерпением ждет – он дал ей телеграмму. Что сегодня они весь вечер будут вдвоем. Никаких гостей. Дверь на замок – их дома нет. И что Елизавета Юрьевна через месяц отметит свое девятнадцатилетие, а ему пойдет двадцать пятый. Но это совсем ничего не значит, ибо старшинство в семье безраздельно принадлежит ей. Житейский опыт Лизы и ее практицизм нередко приводят Руслана в замешательство. Ему порой казалось, что нет такого дела, которое она не умеет делать. Лиза сама навешивала карнизы для штор в их новом доме, сама отремонтировала сломавшийся выключатель, сама прибила защелку к балконной двери. Разумеется, при желании он мог все это сделать не хуже ее, но желания как раз не было. Лиза же от любой работы получала удовольствие. Решили поменять обои – Руслан охотно фантазировал, рассчитывая, что дело это будет свершаться в далекой перспективе. А Лиза тут же повязала фартук и начала заваривать клей. Возня с обоями Руслану представлялась каторжным трудом. Да и вообще, вся эта домашняя работа, по его мнению, не личила мужчине, тем более – летчику. Лиза добродушно смеялась над ленью Руслана и весело клеила обои, вбивала гвозди, вкручивала шурупы. Побелку потолков, за которую он не взялся бы ни за какие коврижки, Лиза сделала за один день. Чтобы устранить скрип дверей, Руслан собирался вызвать столяра. Лиза на его глазах смазала петли обыкновенным вазелином, и скрип исчез. К чему бы ни прикасались ее руки, они были словно зрячие. Житейская серьезность, неизбалованность поразили Руслана еще в первый день их знакомства. В одну из суббот он отпросился у Волкова съездить в Пушкинские горы. Пушкина Руслан считал своим богом, знал и любил его поэзию, шпарил наизусть не только стихи, но и целые главы из поэм. Это был пасмурный сентябрьский день. Прилипшие к асфальту желто-оранжевые листья блестели, омытые моросящим дождем, словно лакированные. Зябко перешептывались вековые липы и ели в парке, примыкающем к усадьбе Ганнибалов-Пушкиных. Господский дом на холме, домик Арины Родионовны, вековой сосновый бор, бескрайняя даль холмов и полей за голубым поясом Сороти. Здесь ходил гений. Дышал этим воздухом, задумчиво смотрел вот с этого крыльца на зеленые луга. Наверное, не раз прикасался ладонью к стволу старой липы. Эти мостики, беседки, аллеи, пруды… Руслан, возбужденно-молчаливый, ходил и ходил по земле, запечатлевшей следы великого поэта. В Тригорском его незаметно настиг вечер. А впереди еще было самое главное, что хотелось увидеть, – Святогорский монастырь, могила Пушкина. Проходя через Воронич, Руслан на всякий случай заглянул в приемное отделение турбазы «Пушкиногорский заповедник». За столиком дежурила уже немолодая женщина в армейской пилотке с пионерским галстуком на шее. – Не смогу ли я у вас переночевать? – спросил Руслан, показывая удостоверение личности. – Нет, – ответили ему. – Здесь сборы пионервожатых. Ни одного места, – и тут же обратилась к стоявшей рядом девочке: – Вета, помоги лейтенанту где-нибудь устроиться. Может, он у вас переночует? Вета внимательно окинула Руслана взглядом и спросила: – На одну ночь? – Да, я завтра должен вернуться в часть. – Устроит на раскладушке? – Спасибо, устроит. Они шли через какие-то заросшие кустарником переулки почти в полной темноте. – Значит, вас зовут Вета? – Это для друзей. Полное мое имя Елизавета Юрьевна. – Очень длинно говорить. – Ничего, язык не сломается. – А в каком вы классе учитесь, Лизавета Юрьевна? – Я уже в прошлом году закончила школу. А вас как зовут? – Руслан. Девушка засмеялась: – Жаль, что я не Людмила. Очень подходящая парочка для этих мест. Она привела Руслана к небольшому домику, утопающему в густой зелени. Горящий в окнах свет слабо выхватывал из темноты узкий дворик, отделенный от сада металлической сеткой, толстенькие чурбачки, велосипед под стеной, старые ступени крыльца. Лиза повернула на стене у входной двери выключатель, и в глубине двора зажглась лампочка. – Туалет у нас там, – сказала она без тени смущения. – Подышите пока воздухом, я приготовлю раскладушку. Через несколько минут Лиза вышла и позвала: – Товарищ лейтенант, мои родители приглашают вас на ужин. – Нет, нет, – засмущался Горелов. – Я поужинал. – Только не надо врать, – сказала Лиза. – Вам негде было ужинать. И нечего стесняться, мы простые люди. Руслан вырос в Москве. И о деревне у него было в основном книжное представление. Его удивили контрасты: городская трехрожковая люстра под дощатым потолком и полированный сервант рядом с традиционной русской печью; мягкие кресла и железный рукомойник над фаянсовой раковиной, вода из которой текла прямо в ведро. Современные эстампы и фотографический иконостас в деревянной раме; цветной телевизор и на нем гипсовый кот со щелью в голове для бросания монет. Руслану казалось, что заснет он сразу, – усталость заявила о себе, как только он присел к столу. Но вот уже шел второй час, как он вытянулся под одеялом, а сон словно сдуло ветром. В памяти вставали почерневшие стены усадьбы в Михайловском, сомкнувшиеся над аллеей кроны деревьев, пионервожатая в пилотке, печально-деловитое лицо юной Лизаветы Юрьевны, похожей на мать, внимательный взгляд ее отца, все время листавшего еженедельник «За рубежом». – Заходите, если еще доведется бывать в наших местах, – сказала ему мать Лизы, когда Руслан покидал этот гостеприимный дом. – Будем рады видеть, вы нам понравились. – Хорошо, спасибо, – сказал Руслан с уверенностью, что в этом доме он первый и последний раз. Лиза вызвалась проводить гостя, и по дороге к Святогорскому монастырю они разговорились. Руслан увлекся перечислением малоизвестных подробностей пребывания Пушкина в Михайловском, рассказывал о его друзьях и врагах, об Анне Керн. Лиза ходила за ним, забыв, что ей надо на работу в пионерлагерь. Они вместе пообедали в кафе, и она проводила Руслана к автостанции. – А вы Ленинград знаете? – спросила она перед прощанием. – Не очень. Но пушкинские места смогу вам показать. Уже в автобусе Руслан чертыхнулся – кто его дергал за язык давать это дурацкое обещание? Расхвастался, расшаркался. Теперь опять отпрашивайся у командира. Но в следующее воскресенье все сложилось как нельзя благоприятно. Комитет комсомола полка организовал для молодых летчиков экскурсию в Ленинград. И Руслан встретил Лизу прямо у поезда на вокзале. Три часа она ездила в автобусе по Ленинграду вместе с летчиками. Если ей что-то нравилось, она вопросительно вскидывала глаза на Руслана. Он лишь снисходительно кивал ей. Обедали в ресторане «Аустерия» в Петропавловской крепости. То ли шутя, то ли с умыслом кто-то громко спросил: «Когда свадьба?» Лиза пожала плечами: – Я всегда готова, было бы предложение. Летчики загудели: – Ну, Руслан, это не по-нашему. – Морочить голову такой девушке… – Ночевал у нее, с родителями познакомился, а предложение сделать забыл? – Да он просто застенчивый! – Давай, Руслан, мы поможем. – Есть предложение: объявить помолвку Руслана и Елизаветы. Кто за? Единогласно! Лиза, вы не против? – Помолвка – не замужество. – А ты, Руслан? – Я как все – за! – засмеялся Руслан. Заказали шампанское, произносили тосты. Лиза тихо улыбалась – игра эта ей пришлась по вкусу. Руслан гордо выпячивал грудь, ему нравилось быть в центре внимания. Когда они остались вдвоем и Руслан в шутку назвал Лизу невестой, она взяла его руку в свои ладони, похлопала по запястью и сказала: – Пошутили – и хватит. Руслан не остановился. – Что значит – пошутили? Ты имеешь дело с истребительной авиацией. У нас такими вещами не шутят. Лиза тоже перешла на «ты». – Смотри, Руслан, я ведь могу согласиться. – Что значит «могу»! Ты уже согласилась. Еще за обедом. Поедем прямиком на набережную Красного Флота. – Поедем. А что там? – Дворец бракосочетания. Подадим заявление. Лиза очень внимательно посмотрела из-под крутых бровей на Руслана и промолчала. А ему впервые вдруг пришла озорная мысль: «А что? Возьму и женюсь. Красива, не глупа. Без профессии? Так ей только восемнадцать, можно лепить, что захочется мужу. Ребята наши ее оценили, родителей знаю. В ноябре отпуск – отпразднуем свадьбу и поедем куда-нибудь в путешествие. Даже очень все неплохо получается». – Ты очень смелый человек, Руслан. Видишь меня только второй раз, – Лиза снова стрельнула в него глазами, – и уже заявление… Всем, что ли, так предлагаешь? – Лизавета Юрьевна! – Ну ладно, ты мне нравишься, – просто призналась она. – Я тебя рассмотрела еще на раскладушке у нас. Ты мне уже тогда понравился. – За комплимент – спасибо. Ты очень симпатичный товарищ, Лизавета Юрьевна. – Ладно, хоть объяснились. Теперь можно и на набережную Красного Флота. Только мне надо родителей сперва предупредить. И тебе тоже. Не надо их обходить в таком деле… Они молча прошли всю территорию Петропавловской крепости, вышли через деревянный мостик к стоянке «Кронверка», затем на Стрелку Васильевского острова. На Дворцовой набережной повернули по Зимней канавке и оказались на Мойке напротив дома, где провел свои последние дни Александр Сергеевич. Руслан рассказывал о Пушкине, Лиза молча слушала. На Конюшенной он показал ей купол бывшей церквушки, где отпевали великого поэта. А в Летнем саду Руслан сказал Лизе, что в одном из писем к жене – Наталье Николаевне – Пушкин назвал его своим огородом. Лиза весело смеялась – ей бы такое в голову не пришло. На вечерний поезд они опоздали и решили, что Лиза поедет трехчасовым, а Руслан утренним. Гуляли по вечернему Невскому, ели мороженое, пили газировку из автоматов. В первом часу, не чуя под собой ног, пришли на Витебский вокзал. Свободная скамейка под застекленным перекрытием была обоими воспринята как подарок судьбы. – Если ты не против, – сказала Лиза, – я возле тебя хоть минутку вздремну. Уже нет сил. – Давай, буду на часах, – весело согласился Руслан, не подозревая о ее намерениях. Лиза сняла туфли, подвернула под себя ноги и, обхватив выше локтя руку Руслана, уютно улеглась на его плече. От неожиданности он сидел, боясь пошевелиться. Она действительно почти сразу задышала ровно и спокойно. В брюках, шерстяных носках, легкой курточке, коротко остриженная, она ему вдруг показалась беззащитным ребенком, доверившимся взрослому человеку. Это было мгновение, когда он впервые в своей жизни почувствовал себя взрослым. То ли характер такой ему подарили родители, то ли внешность, то ли условия были благоприятные для сохранения инфантильности, но в школе, и в училище, и в полку к нему все относились как к младшему, как к мальчишке. А тут вот прижался к его плечу теплый милый человечек, поверивший в его силу, мудрость, порядочность, поверивший, может быть, однажды и навсегда. И он остро почувствовал свою ответственность перед ней – будущей женой и понял, что не сможет никогда этого доверия ее лишить. Уже подходя к дому, Руслан подумал, что в ноябре они отпразднуют первую годовщину своего безоблачного союза, а сегодня – встречу после трехмесячной разлуки. Будут пить шампанское. Ветка будет рассказывать, как она здесь одна тосковала, куда ходила, с кем. «Вот именно – с кем?» Вдруг вспомнил Руслан слова полковника Чижа, что кто-то на нее засматривается, провожает. Павел Иванович сочинять не станет. Если это хотя бы капельку правда, такую подлость он ей не простит. Чиж сказал: «Сама расскажет». Уж, наверное, побеседовал с ней, объяснил, что к чему. Руслан прибавил шагу. «Нет, если это правда, я не смогу с нею больше жить. Это форменное предательство. Измена и вероломство. Как же я друзьям в глаза смотреть буду?» Лифт, как обычно, не работал. – Лифт и тот по-человечески не могут сделать! – зло сказал он и, перешагивая через три ступеньки, на одном дыхании взлетел на шестой этаж. Звонок в квартире тоже молчал. Видно, отключили ток. Постучал. Дверь не открывалась. Руслан сложил у порога кульки, нашел в одном из карманов кожанки ключи, открыл замок. Лизы дома не было. – Ветка! – позвал он на всякий случай, но голос глухо увяз в зашторенной прихожей. – Лизунчик! – сказал Руслан, войдя в комнату. – Отзовись, если дома. Не отозвалась. Постояв в раздумье, Руслан свалил кульки на застланный кружевной скатертью стол («Развела уже мещанство!»), достал коробочку с иголками, наперстками и приготовился менять погоны. Три звездочки смотрелись уже совсем по-другому на плече: «многочисленно» и солидно. Что такое лейтенант? Зелень, бритый гусь! А старший – это… старший. Все этим сказано. Погоны прямо-таки влипали в ткань кителя. Что-что, а погоны Руслан пришивать научился. Старшина в училище с ними не чикался, по пять раз заставлял перешивать, пока не добивался желаемого результата. Руслан увлекся и не слышал, как вошла Лиза. – Ой, Русланчик, – выдохнула она, снимая в прихожей туфли, – а я себе не спешу, думаю, куда и зачем спешить, а он – вот он… Она подбежала к нему, обняла сзади, прижалась щекой к его макушке, потом присела на корточки и несколько раз поцеловала. Увидев в его руках погон, всплеснула руками. – Ты что же молчишь? Нам звание присвоили, а он молчит. Русланушка, родненький, я же тебя от всего сердца поздравляю. Она хотела снова его поцеловать, но Руслан мягко отклонился. – Что мы, хуже других, – сказал он холодно. Еще не понимая, что случилось, Лиза почувствовала себя виноватой. Со дня их свадьбы Руслан никогда не смотрел на нее с такой обидной холодностью. – Давай же я тебе все быстренько сделаю! – Сам сделаю, – ответил твердо Руслан и вдруг наколол палец. – Ну неужели нельзя купить настольную лампу? – Русланчик, все равно нет тока. Кабель пробило. – Ну, так хоть свечку купи, что ли. – Ты чего это такой, а? – Ничего. Мы улетаем, Елизавета. – Куда? – К новому месту службы. Лиза насторожилась. – Русланчик, куда? – Отсюда не видно. – Там город? – Тундра там! Неэлектрифицированная тундра! Лиза стала на колени, пытаясь заглянуть Руслану в глаза. – Как же так, Русланчик? Не о такой встрече мечтал Руслан все эти три месяца. Совсем не о такой. И еще можно было взять себя в руки и все исправить, но ссора – первая ссора в их жизни – уже набирала скорость. – Как же так? – голос Лизы тоже налился обидой. – Восемнадцать лет я прожила в деревне и все восемнадцать лет мечтала попасть в город. – Скажи, что и замуж за меня вышла, чтобы только в город попасть. – Все может быть, Русланчик, – она вдруг всхлипнула и, широко раскрыв глаза, закрыла ладонью рот. – А я-то, дурак, возомнил, – он швырнул китель на тахту и пошел в ванную. Открыл кран, подставил затылок под холодную струю. Немного остудившись, вошел в комнату, почти готовый к примирению. Лиза не почувствовала этого. – Только-только в свою квартиру въехали, устроились как люди… Сам сказал: учиться тебе надо, Лизавета… Сказал? – Сказал – учиться! А ты? – А что я? Записалась на курсы машинописи в Доме офицеров. Научную организацию труда нам преподают. Буду квалифицированным секретарем… И в тундру? Руслан швырнул полотенце. – Я все уже понял. Можешь оставаться! Тут много начальников, которым нужны квалифицированные секретарши. Он резко натянул тельняшку, заправил ее в брюки, сорвал со спинки стула кожанку. – Я все понял, Елизавета Юрьевна! – Сгреб с вешалки фуражку и, хлопнув дверью, вышел на затемненную лестничную площадку. Привычно нажал кнопку лифта, но вспомнил, что нет тока. Ему остро захотелось, чтобы Лиза выбежала вслед и попросила остановиться, вернуться, чтобы плакала и горько раскаивалась. И она действительно выбежала. Только без слез и раскаяния. В глазах – обида и непонимание. – Я все понял! – повторил он сквозь зубы. – Ну и дурак, – сказала она. – Секретарша! – Руслан грохнул кулаком по закрытым створкам лифта и, гордо заложив руки за спину, пошел вниз пешком. Лиза не позвала. Он даже не услышал, когда она вернулась в квартиру. Дверь не хлопнула, пока он спускался с шестого этажа, и Руслану казалось, будто Лиза все еще стоит босая в дверях и ждет, когда он опомнится и вернется домой. «А вдруг она вышла без ключей, – подумал он, – и теперь не может вернуться? Ну что же, я молча брошу ей ключи и снова уйду». Но еще издали Руслан увидел, что Лизы возле двери нет. Он тут же развернулся и чуть ли не бегом спустился вниз. Обида тупой болью заполняла все его существо, туманила мозг. Воображение услужливо рисовало картину грехопадения жены. Кто-то с ним поздоровался – он лишь кивнул в ответ. У автобусной остановки столкнулся с командиром эскадрильи майором Пименовым. – Горелов, что с тобой? Руслан почувствовал, что его держат за рукав куртки. Ему еще не приходило в голову, что кто-то может встретиться на пути и спросить, куда он так спешит, и он начал медленно соображать, что должен говорить. – Что случилось, Руслан? – повторил свой вопрос майор Пименов. – Ну-ка, отвечай. Я приказываю. «Иду в магазин за покупками», – приготовил он фразу, но сказал совсем другое: – Переночую в профилактории. – Поругались? – Выяснили отношения. Все! – Ну, молодцы. Темпы у вас – позавидуешь. – Пименов сощурил глаза, недобро улыбнулся. Руслан уже пожалел, что признался в ссоре. Комэска вряд ли его поймет. У него жена как жена, трое детей, не семья, говорят, а образцово-показательная ячейка социалистического общества. Ему и невдомек, что существуют еще под этим небом такие вот Лизаветочки. – Я ей телеграмму дал – жди. Прихожу – нет дома. Только что заявилась, дрянь такая. – Так уж и дрянь, – улыбнулся Пименов. – Может, телеграмму не получила? – Она мне все высказала, Александр Александрович. Замуж вышла, чтоб в городе жить! – Ладно, пошли домой, – Пименов крепко взял Руслана под руку. – Женский язык, брат, труднее всего выучить. Сначала скажет, потом подумает. Пошли. Руслан заупрямился. – Нет, Александр Александрович, я должен побыть один, все обдумать и понять. – Что тебе непонятно? – Зачем я только ушел из морской авиации? – В таком случае действительно надо подумать. – Пименов отпустил рукав Руслана и подтолкнул в плечо. – Иди, отоспись. Я позвоню в профилакторий. Забота командира оказалась весьма кстати. Почти все места в профилактории были заняты. Свободным оставался лишь генеральский «люкс». В остальных комнатах разместилась группа инженеров и техников от завода-изготовителя. Самолеты, поступавшие на вооружение полка, проходили еще так называемые войсковые испытания, и конструкторское бюро вместе с представителями завода-изготовителя держало их под усиленным контролем. В морскую авиацию Руслан попал случайно. Перед выпуском из училища к ним приехал представитель какой-то фирмы – жизнерадостный высокий мужчина в сером коротком плаще. Руслан дежурил на КПП и, можно сказать, был первым, кто попался гостю на глаза. – Цель вашего прибытия? – спросил он у приезжего. Тот посмотрел по сторонам, хитровато улыбнулся и, прикрыв ладонью рот, шепнул Руслану на ухо: – Буду вербовать выпускников в морскую авиацию. Хочешь? – На корабль? – Сначала на переподготовку, а там видно будет. – Хочу, – сказал Руслан. – Договорились. В учебном полку Руслан встретил представителя фирмы в форме морского летчика. Подполковник Захаров был заместителем командира полка. Именно он учил молодых пилотов осваивать совершенно незнакомый им самолет с вертикальным взлетом. Руслан выполнил всю необходимую программу налета в простых и сложных метеоусловиях и уже мысленно примерял черную форму. Но однажды его пригласили в отдел кадров и предложили снова вернуться в сухопутную авиацию. – Полетайте пока на других типах самолетов. Как только вы нам понадобитесь, вызовем. Альтернативы не было, и он сказал «есть!». Но чувство осталось такое, что он мог не согласиться и не уходить из морской авиации. Задав однажды себе вопрос: «Зачем я ушел из морской авиации?» – он утвердился в мнении, что у него был выбор, и окончательно поверил, что выбор этот сделал добровольно. Сейчас он лежал поверх одеяла на мягкой генеральской кровати, окруженный тишиной, и выстраивал заманчивый сюжет. Не уйди он из морской авиации, все могло бы повернуться в его жизни совсем по-другому. Пушкинские горы он наверняка посмотрел бы в другое время, а значит, и эту паршивую девчонку не встретил и не было бы сейчас так обидно и больно. Та, другая, которая ему на роду написана, не поступила бы так. Он заснул тяжело и сразу. Не слышал, как в «люкс» заходил дежурный солдат, как закрывал окно и менял графин с водой, не слышал разговоров в коридоре. Разбудил его вспыхнувший под потолком верхний свет. Он словно ударил по глазам своей насыщенной яркостью. Руслан из-под ладони попытался рассмотреть, кто это так бесцеремонно вломился к нему. И сразу подумал, что снится сон. На пороге стояла Лиза. – Руслан, – нет, в голосе не было раскаяния. – Это еще что такое? – А это что такое? – Она выразительно обвела взглядом генеральский «люкс». – А ну, пошли домой. Руслан спустил ноги на пол. Уперся локтями в колени, лицо спрятал в ладонях. – Кто вас сюда звал, Елизавета Юрьевна? – Мне Пименов Александр Александрович доложил. – Лиза немножко окала, и слово «доложил» у нее получилось с ударением на «о» – дол?жил. Получилось непосредственно и мило, как непосредственно и мило у нее получалось все. И он, сдержав улыбку, беззлобно передразнил: – Доложил… – Может, хватит уже, Руслан? – Она подошла к постели, покачала головой. – Позор! И опять сильно выделила обе гласные. И Руслан снова не удержался, чтобы не передразнить. – Позор… Тебя кто провожает домой? Люди все видят. Лиза подбоченилась, покачала головой – дескать, теперь понятно, какая муха тебя укусила. Руслан ждал горячего отрицания. Но Лиза улыбнулась, сощурила глаза. – Ну, провожает. Ну и что? По-твоему, ночью одной ходить по городу приличней? Вместо того чтобы человеку спасибо сказать, ты всякие гадости воображаешь? Эх ты, дурак полосатый. Руслан одернул тельняшку. – Может, он еще и целовал тебя?! В соседней комнате кто-то постучал в стену. Лиза прикусила губу и села рядом с Русланом. В ее глазах уже плясали озорные бесенята. Серьезность опасности, как ей показалось, миновала. – А порядочные мужчины за своими женами не шпионят, – сказала она полушепотом. – Так целовал или не целовал? – таким же полушепотом спросил Руслан. – Эх ты… – Лиза откровенно смеялась над ним. – Еще летчик. Тельняшку носишь. Другой бы ухажеру физиономию намылил, а ты на жену кидаешься! Виновата я, что за мной ухаживают? Руслан вскочил. – А я возьму и убью его! В стену снова постучали, но уже более раздраженно. Лиза, уже шепотом, подливала масло в огонь. – А тебя осудят судом чести, снимут звездочку… – Она вдруг встала и подошла к нему вплотную. – Может, я хочу нравиться, хочу, чтоб за мной ухаживали. А что? Дни и ночи ты на полетах. Три месяца в командировке. А теперь и вовсе – в тундру? Молодость там похоронить? Руслан взял Лизу за ухо, приподнял лицо. Лиза спокойно выдержала его взгляд. – Вместе с ним я убью и тебя. – Господи! – Лиза ударила Руслана по руке. – Какого же ты придурка мне в мужья послал!.. Чиж! Павел Иванович Чиж провожал меня из кино. Руслан почувствовал себя полным идиотом. Ну конечно, Чиж. Разве он сказал бы ему, даже если увидел Лизу с другим? Ведь предупреждал: «Сама тебе расскажет». Улыбался. А я? Оставалось одно – упасть перед Лизой на колени и густо посыпать голову пеплом. «Все потому, что люблю тебя!» – была готова первая фраза для оправдания. Но черт дернул за язык совсем в другую сторону. – Врешь! – выдохнул он и подумал: пусть сначала сама оправдывается, а потом уже и он попросит прощения. Но Лиза резко повернулась и уже с порога разочарованно бросила: – Тебе бы при домострое жить, Отелло в погонах! – Секретарша! – успел, пока не захлопнулась дверь, бросить последнее слово Руслан. Но лучше бы ему промолчать, дураку… 5 Когда закончилось служебное совещание и офицеры, толкаясь, выходили из класса, Новиков в этой толкучке все время видел только одну спину, плотно обтянутую вытертой и потрескавшейся на сгибах кожанкой. Седые хвостики волос, прижатые околышем фуражки, касались воротника кожанки, слегка прикрывали напряженную шею, но согнутая больше обычного спина выдавала тщательно спрятанную обиду Чижа. И хотя Новиков не чувствовал себя виноватым за неосторожную реплику командира, на душе у него было препаршиво. Ему даже не хотелось ехать с Волковым в одной машине. – Что вам больше всего нравится в летной работе? – спросил как-то Новикова журналист. – Возвращаться домой, – сказал он. Ответ не понравился журналисту. В опубликованной позже статье он приписал политработнику слова, которые, по его мнению, более соответствовали такому должностному лицу, как заместитель командира полка по политчасти. Текст в газете звучал иначе: «Что вам больше всего нравится в летной работе?» – спросил я перед отъездом подполковника Новикова. Он подумал и твердо сказал: – «Высота». За этим словом был прямой и скрытый смысл…» – Вот чудак, – усмехнулся Новиков, прочитав статью под названием «Высота». – Не захотел понять. Видимо, следовало разжевать стоящий за теми словами смысл. Возвращаться домой ведь можно по-разному – героем или дезертиром, на щите или со щитом, с цветами или с бутылкой водки. Любое возвращение – это итог и начало. И если тебе возвращение домой – как награда, ты очень счастливый человек, у тебя и на работе хорошо, и дома. Он родился в 1945 году в военном госпитале на территории поверженной Германии. Петр Новиков, его отец, командовал в то время саперным батальоном, восстанавливал мосты, дороги, жилища, занимался разминированием. Мать, Светлана Новикова, в чине лейтенанта, работала переводчицей в комендатуре небольшого городка на Одере. У нее в те дни было столько работы, что о ее демобилизации никто не хотел слышать. На другой день после родов ей уже приносили в палату пачки текстов. И она лежа делала свою нелегкую работу. Через неделю к маленькому Сереже была приставлена неотлучная сиделка – рядовой Иван Божко, пожилой и ворчливый солдат из комендантской роты. Сергей Новиков приказом коменданта (выписка из этого приказа до сих пор хранится в семейном архиве) был зачислен на армейское котловое и другие виды довольствия. Так случилось, что на родину семейство Новиковых возвращалось только в 1951 году. Сереже подходила пора идти в школу. Он не знал еще, какая она – Родина. Но молчаливая взволнованность отца и матери жила в нем с того дня, как только он услышал о возвращении домой. Он знал, что едут они в деревню, где ни кола, ни двора. Все сгорело в войну. И все-таки ехали они домой. Много лет спустя Новиков понял, что ностальгия вошла в него вместе с первым криком. Она была уже в крови, он вдыхал кислород, пропитанный тоской по Родине, засыпал под песни Ивана Божко, сотканные из одного-единственного желания – скорее вернуться домой. После десятилетки Новиков рванулся поступать в авиационное училище. На медицинской комиссии его начисто забраковали – офтальмолог нашел конъюнктивит и не рискнул написать «годен». Оставалось одно – ехать домой. А он не мог. Не мог, и все. Два дня отсыпался в каптерке у земляка – старшины роты. А затем пошел к начальнику училища: «Не гожусь в курсанты, оставьте солдатом возле самолетов». Начальник вызвал врача, попросил еще раз проверить абитуриента: он оценил преданность Новикова авиации. И совершилось чудо. Воспаление конъюнктив было признано как следствие недосыпания – Новиков по ночам готовился к экзаменам. Первые каникулы в памяти сохранились до мельчайших подробностей. И то, что видел, и то, что слышал, и то, что чувствовал. Такое возвращение домой он признавал. Когда Новиков учился в академии, стажироваться его направили в полк, которым командовал полковник Чиж. Командир стажера почти не видел и не запомнил. Но политработник сразу почуял, что ему крупно повезло: он увидел именно того командира полка, которого давно придумал в своем воображении как образец. Чиж умел все: летать, учить, понимать людей. Его влюбленность в дело, мастерство в небе, профессионализм во всем вызывали невольное восхищение у каждого, кто с ним общался или служил. Не устоял и Новиков. Он спал и видел себя после академии только в этом полку, только с этим командиром. И когда узнал, что просьба его удовлетворена и уже готово предписание, захлопал в ладоши, чем вызвал серьезное удивление у инспектора-кадровика. В полк он рвался с тем взволнованным нетерпением, какое бывает после вынужденно долгой командировки перед возвращением домой. И вдруг эта неожиданная болезнь Чижа… Никто, казалось тогда ему, не был способен понять Чижа так, как понимал он. Ах, как ему хотелось верить, что после обследования в Военно-медицинской академии Чиж вернется с желанным заключением! Но время не перехитришь. Чуть раньше или чуть позже этот час подходит. «Снаряды рвутся все ближе и ближе», – вертелось в памяти выражение Павла Ивановича. Уход Чижа с летной работы он считал потерей для авиации. Зато решение Чижа остаться в полку было расценено Новиковым как возвращение домой. С горчинкой, с грустной нотой, но все-таки это было одно из тех возвращений, которые больше всего нравятся Новикову в летной работе. Он хорошо понял Чижа, когда тот, еще не разобравшись в обстановке, первым попросился на Север. Пусть без полка, пусть всего-навсего во главе небольшой команды, но первым. А Волков не понял, что Север для Чижа – это лучшие его годы, это романтика молодости, ощущение полноты жизни. Вернуться туда с передовой командой, подготовить все к приему, – значит вновь ощутить себя незаменимо нужным своему полку. Возвращение на Север – это для Чижа возвращение к жизни. Пусть ненадолго! Пусть на месяц, на день! Но разве настоящая жизнь измеряется хронометром? Она, как и настоящая любовь, ценна чистотой и глубиной чувств. Очень жаль, что Волков этого не ухватил. Руководствовался лучшими побуждениями – поберечь здоровье старика, а результат получил со знаком минус. Зыбка грань добра и зла. Как же чутка должна быть у командира душа, каким зорким сердце! Все заместители Волкова жили в одном доме. Водитель останавливал здесь машину без команды. – Желаю приятного отдыха, – сказал Волков. – Твоя Алина, Сергей Петрович, уже, наверное, с пирогами стоит у дверей. Вечерком загляну, поговорить надо. – Милости просим, – Новиков пожал протянутую руку. Увы, с пирогами вышла осечка. Даже ключи забыла оставить Алина Васильевна. Ну что ж, есть возможность прогуляться до школы. Чемоданчик Новиков бросил у соседей и вышел во двор. Посаженные у дома еще в позапрошлом году кусты сирени набухли зеленью и цветами. Он срезал несколько веточек и воровато осмотрелся по сторонам. Кажется, никто не заметил. В конце концов он сам посадил полтора десятка кустов, может раз в году и воспользоваться плодами своего труда. Вернувшись в подъезд, Новиков вытащил за торчащий уголок газету из почтового ящика и завернул в нее цветы. Теперь можно и на свидание. Как в те курсантские времена. Школа встретила напряженной тишиной. Какая-то женщина в коридоре шагнула в его сторону – то ли задержать хотела, то ли спросить о чем-то, но не сделала ни того, ни другого. И Новиков обратился к ней сам: – Не скажете, перерыв скоро? – Через десять минут. – А в каком классе Алина Васильевна занимается? Новикова? – А вы по какому вопросу? – наконец решилась женщина. – Мне бы эту учительницу увидеть. – Родитель небось? – догадалась она. – По вызову? – Совсем отбилась от рук. – Известное дело. Как отец военный – дитя без глаза. Подождите, я ей скажу… – Я буду во дворе. Алина Васильевна преподавала математику. Они и познакомились благодаря математике, которая давалась Новикову с трудом, особенно интегральные и дифференциальные исчисления. Ему казалось, что преподаватель что-то упускает в логической цепи объяснений, что потеряно какое-то звено. И чтобы докопаться до истины, начал искать популярную литературу по элементарной высшей математике. Однажды, во время разговора с продавцом книжного магазина, к прилавку подошла круглолицая рыжая девушка и, добродушно улыбаясь, сказала: – То, что вам нужно, здесь вы не найдете. Это точно. – А где найти? – спросил Новиков. – У меня дома, – сказала она. – Да, но я бы хотел купить… – Я вам подарю. Идемте. Это недалеко. То, что вы хотите прочесть, – для меня давно пройденный этап. По пути к дому она узнала, как зовут Новикова, назвала свое имя, рассказала, что учится в пединституте на математическом факультете. – Что вы интересного нашли в этих сухих цифрах и формулах? – Ему казалось, что девочки с такими изящными фигурками и такими ясными глазами, как у этой студентки, просто обязаны рваться во ВГИК или театральный. Ну, в крайнем случае в консерваторию. – Что может быть увлекательного в математике? Алина смеялась. – Это все от вашего дилетантства. Математика, милый Сережа, это… как полет. Идете вот вы по лесу, видите березы, кусты, отдельные предметы. Это арифметика: пятью пять – двадцать пять. А когда вы летите над землей, что видите? – Много чего. Поля, массивы лесные, просеки, дороги, реки. – Вот! – радовалась она. – Вы охватываете взглядом всю землю. В лесу можно в два счета заблудиться, а сверху вы сразу увидите, где выход из чащи. Вот так и в математике. Формулы, они ведь красивы, как античные статуи. А цифры – это те же ноты. За ними музыка! Вопросы, которые мучили Новикова, она серьезно обдумала и ответила неожиданно: – Вы, милый Сережа, не усвоили один пустячок, вот эту школьную формулу. Она написала формулу и посоветовала ему решить несколько задач. Новиков позже с поразительной ясностью вспомнил, как из-за поездки на соревнования пропустил эту тему. Все собирался наверстать, да так и не собрался. А пробел аж вон где аукнулся. Решив задачи, он снова побывал у Алины дома, познакомился с ее родителями. Василий Иванович был замкнут и сосредоточен. Видимо, наложила отпечаток профессия – он всю жизнь работал машинистом тепловоза, а мать, Элеонора Игнатьевна, его полная противоположность, трудилась технологом на кондитерской фабрике. К Новикову они относились спокойно – видимо, в этой квартире не один он побывал, Алина не отличалась замкнутостью. Но когда почувствовали, что дочь всерьез увлеклась курсантом авиационного училища, забеспокоились, особенно мать. – Как вы к ней относитесь, Сережа? – спросила она осторожно. – Я на ней женюсь, – ответил он твердо. – А если она откажет вам? – Все равно женюсь. Ответ понравился Элеоноре Игнатьевне, и она улыбнулась. Перед самым выпуском из училища Алина стала его женой. Новикова направили служить на Дальний Восток. Не успела Алина устроиться в школу, как его перевели в Группу советских войск в Германии. Там ей работать не довелось. Сначала негде было, а потом родился Санька. И Новиков подивился такому совпадению: и у него, и у сына место рождения – Германия. Из Группы войск Новиков уехал служить в Среднюю Азию. Там Санька пошел в школу. Алина начала работать. Не успела войти во вкус, мужа перевели в тьмутаракань и к черту на кулички. Самое счастливое время для их семьи пошло с того дня, когда Новикова приняли в академию. Отец и сын учились, Алина читала лекции на курсах усовершенствования преподавателей начальных школ. Они жили в одной комнатенке офицерского общежития, готовили на электроплитке завтраки и ужины, ходили по вечерам на спектакли, концерты, литературные вечера, просмотры и даже популярные лекции. Выходные дни посвящались Саньке. Когда Новиков стал замполитом в полку у Чижа, Алина почти год не работала. Школы города в преподавателях математики не нуждались. Но она взялась в одной из них вести математический кружок, подменяла иногда учителей. Директор пытался изыскать возможность хоть как-то оплатить ее труд, но Алина наотрез отказалась. И когда в школе появилась вакансия, ее сразу зачислили в штат. Математический кружок неожиданно стал популярным. Занятия посетил какой-то ученый, где-то расхвалил их эффективность, в школу приехал представитель Академии педагогических наук. И тогда Алина, решив, что пробил ее час, предложила свою, выстраданную за все минувшие годы, программу, как она определила сама, обучения с увлечением. – Каждый человек, – объясняла Алина Новикову, – рожден творцом. Создай ему условия для творчества, и он будет трудиться с полной самоотдачей, без понукания. Этот принцип я использую в изучении математики. На каждую тему ученик должен составить опорный конспект. Чем лаконичнее – тем выше балл. Вот, например, конспект ученика шестого класса. – Она показала Новикову тетрадь. На листочке был контур многоэтажного здания, а внутри кружочек с хвостиком. – Ребус, – сказал Новиков. – Правильно, – согласилась Алина. – А читается он так: если атом увеличить до размеров здания Пушкинского театра, его ядро станет величиною с вишню. Школьник, считает Алина, умеющий сам составить подобный ребус по любой теме, способен таким образом создать сжатую модель любой информации. Он уже человек, который научился учиться, А ведь это ему придется делать всю жизнь. У нее появились противники и заступники. К какому решению пришли в школе, Новиков не знал – уехал на переучивание. Школьный звонок заставил его улыбнуться, уж очень он был похож на сирену Дворца спорта. Будто не конец урока, а конец хоккейного матча. В его памяти еще жил колокольчик из снарядной гильзы, в который названивал безногий гардеробщик. Особенно долго он махал им, извещая об окончании большой перемены. Маленькая перемена – и звонок короче. Алина вышла во двор в толпе учеников. Она смешалась с десятиклассницами и подошла к Новикову почти вплотную не замеченная им. С ходу обняла его, прижалась вся, замерла. Их обтекал поток учеников, и те с любопытством наблюдали за своей учителкой: с чего это она вдруг бросилась на шею летчика. А учителка в этот миг забыла обо всем на свете и только все теснее жалась к человеку, которого каждую ночь видела во сне. – Алина Васильевна, – шептал Новиков, – что скажут твои ученики? – Что я люблю тебя, – шепнула она в ответ. – Да?.. Целый час маячу под окнами, всех дворников насторожил, а любящая жена – ноль внимания. – Ну, Сережа, – она засмеялась и снова спрятала лицо у него на груди. – Господи, как соскучилась… Новиков легонько дернул ее за рукав. – Пошли? – Да я же не могу, – сказала Алина. – Кружок. – А Санька – в школе? – Санька пошел с девочкой в кино. Новиков сделал испуганное лицо: «Уже с девочкой?!» – Можешь поздравить, – залилась краской Алина. – Эксперименту дана зеленая улица. Была комиссия из Академии, – она радостно засмеялась. – В общем, наша взяла. – Ну, Алина Васильевна, с вас причитается. – Сейчас мои ребята только входят во вкус. Институтские формулы щелкают как семечки. А что еще будет! Я тебе покажу этих учеников через год, в десятом классе… Что гримасничаешь? – насторожилась она. – Не веришь? – Верю. Только через год мы с тобой… – Новиков вдруг запнулся. Он понял, что, если сейчас скажет Алине о предстоящем переезде, не просто огорчит ее, глубоко обидит. И почему-то почувствовал себя виноватым перед ней, хотя, видит бог, какая его вина тут… – Что через год, Сереженька? – Алина ловила его взгляд. – Ты у меня военный человек… – Нет, он не мог сказать. – Год – это… знаешь… меня представили к ордену. За успешное освоение военной техники. – Да ну тебя, – она уже готова была расплакаться. – Напугал прямо… Думала, опять. Новиков засмеялся. Нет, он правильно сделал, что не сказал, не время, видно, еще. – Подумаешь, – продолжал шутя, – а если опять? – А если опять… – Алина твердо смотрела ему в глаза. – Если опять – ни за что. – Ни за что, так ни за что, – Новиков пригладил ее рыжие кудряшки. – Давай ключи. Тебя ждут твои вундеркинды. – Подождал бы, – жалобно попросила она. – Всего часик. Только теперь Новиков вспомнил, что в руке у него букет сирени. Он развернул газету и вручил цветы жене. Растроганная Алина поцеловала Новикова, положила ему в карман ключи и отпустила: – Иди. Я скоро. Почти у самого дома Новиков столкнулся с Волковым. В легком спортивном костюме, кедах, легкомысленной кепочке, командир больше походил на студента, нежели на солидное должностное лицо. – Куда, Иван Дмитрич? – А никуда, просто так, – засмеялся тот. – Захотелось хоть на часок расслабиться, погулять у озера. Не хочешь? – Надо хоть умыться. Только вот ключи нашел. – Ну, пошли. Разговор есть. Пока Новиков переодевался, Волков стоял у книжных полок, вытаскивал то один, то другой томик. Листал, ставил обратно. – Сколько богатства человеческой мысли, – сказал, когда Новиков вышел из спальни. – Есть счастливчики, которым все это доступно, читают, никуда не торопятся. Даже как-то удивительно. А тут вот час один выпал и не знаешь, как его лучше провести. То ли газеты читать, то ли книги, то ли с женой поговорить, то ли пройтись, как все смертные, по берегу озера… – Сам сказал – завтра всем отдыхать. – Всем, да не нам с тобой. В десять – сессия исполкома. После обеда будем стыковать планы, проведем заседание жилищной комиссии. А сегодня в ТЭЧ [1] партийное собрание – надо бы нам с тобой поприсутствовать. – Секретарь парткома будет, инженер полка – вполне достаточно. – Для них достаточно, да я сам хочу послушать, чем живут там коммунисты. Три месяца не виделись. – Я не пойду. Перебор будет. – Дело хозяйское. – Волков захлопнул томик со стихами Винокурова, аккуратно поставил его на полку. – Хочешь, один секретик выдам? – Это я люблю. Новиков плюхнулся в кресло, расслабил мышцы. Мокрые волосы послушно легли под густой расческой в ряд. – Так вот, – начал Волков, – приказано подобрать из нашего полка кандидата в космонавты. – Хоть десять, – сказал Новиков. – Не упрощай, Сергей Петрович, все серьезнее, чем ты думаешь. Командующий звонил. Сказал отнестись по-государственному, чтобы парень прошел все фильтры и был зачислен. – Моряка Горелова… – Не смейся, Сергей Петрович. Я серьезно… Скажут, не нашли в полку одного хорошего летчика. – Можно Ефимова. Волков промолчал. – Первый класс у парня, здоров, холост. Да и внешние данные – краснеть не придется. Пусть летит. – Я тоже о нем думал, черт бы его побрал. – Ну и что? – Кто эта женщина, ты знаешь? – Знаю, Иван Дмитрич. – Серьезно у них? – Серьезно. – Так пусть женится. – Сложно там. У нее ребенок, муж. – Где она его подцепила? – Они со школы знакомы. – В общем, так… Поговори с ним. Пусть с этой дамочкой напрочь завязывает, если хочет стать космонавтом. Это непременное условие. Туда анкета нужна без зазубринки, сам понимаешь. – Поговорю, – пообещал Новиков. И без всякого предисловия упрекнул: – Зря Чижа обидел. – Обидел?.. Чижа? – удивился Волков. – Да ты что? – Еще хуже, если ты этого не понял. Толстокожим становишься. – Брось, комиссар. Это Север. А сердце у него во, – он показал кончик мизинца, – на волоске. Пора нам обходиться без няньки. Привыкли за его широкой спиной, а человеку уже и на отдых надо. Потрудился он дай бог каждому – за пятерых. Разговор с Волковым оставил у Новикова смутное чувство неуверенности, шаткости своей позиции. Он по сути ничего не смог возразить командиру. И закралось сомнение – так ли он прав, если самые убедительные его аргументы лишь в ощущениях и предположениях. «Я чувствую, мне кажется, я убежден…» – «Убеди меня, но фактами, аргументами». Впервые за два года работы они расстались, не найдя общего языка. Каждый держался своей правды. Успокоительные аргументы лежали на поверхности: Волков из полка уходит, ему плевать… Волков загрубел под тяжестью командирских обязанностей… Волкову лишь бы попроще… Воспользоваться ими – значит, самому стать на позицию «как бы попроще». Волков неглуп, хотя бывает невыдержанным и резким. И конечно же, в его словах есть сермяжная правда. Все равно, раньше или позже, но Чижу придется проститься с полком. Лучше бы позже, но для кого? Для летчиков полка, для замполита, командира? А для Чижа? Для него-то как раз пораньше уйти надо. Тут Волкова не свернешь. Шаги Алины Новиков услышал еще на лестнице. Узнал по нетерпеливо-усталому ритму. «Сил уже нет, а спешит, соскучилась». И теплая волна нежности заполнила Новикова, вытеснила остатки горечи от незавершенного спора с Волковым. Он вышел в коридор и распахнул дверь в тот миг, когда Алина потянулась к звонку. Она вздрогнула от неожиданности, улыбнулась и перешагнула порог. Дверь толкнула ногой. Как только прозвучал звонкий щелчок замка, бросила на пол портфель, сумку с продуктами и обессиленно повисла на шее Новикова. – Ну, вот мы и вместе, – шептала она. – Я с ума сходила, умирала, превращалась в камень. А ты даже этого не чувствовал… Нет, ты не мог не чувствовать, ты рвался ко мне, я знаю. И я тебя очень люблю. Ты у меня один такой на всем белом свете. Слышишь? – Слышу. Он взял в ладони ее лицо. На него смотрели глубокие, как колодец, светло-зеленые глаза. На самом дне их лежали маленькие сдвоенные огоньки. Они стыли в нерастаявшей тревоге, как стынут пузырьки воздуха в прозрачном осеннем льду. «Значит, все поняла», – подумал Новиков и вдруг почувствовал щемяще-пронзительную, как боль, нежность к женщине, которая уже не раз и не два, тщательно скрывая, как трудно это ей дается, изо всех сил старалась подладиться под его службу. – Ты у меня лучшая жена во всем мире, – сказал он серьезно и несколько раз осторожно поцеловал в полураскрытые теплые губы. Пока Алина, повязав фартук, проворно стряпала ужин, он мешал ей, стараясь помочь, и рассказывал полковые новости. Это стало как ритуал. С того дня, когда он, вернувшись домой после первого самостоятельного вылета в авиаполку, вот также искал себе работу на кухне и, захлебываясь от восторга, рассказывал ей о своих впечатлениях от полета, от друзей, самолетов, неба. Алина внимательно слушала мужа, ей хотелось не только знать все о его делах, но и понимать психологию взаимоотношений в полку. Этому ее учила мать. «Если ты поймешь, чем живет твой муж, ты избавишь себя от многих ошибок в семейной жизни». Следующие рассказы Новикова становились глубже. Он делился с женой не только впечатлениями, но и сомнениями, вслух сожалел о допущенных ошибках. Алина никогда не давала ему прямых советов. По ее реакции он частенько угадывал ее отношение к рассказанному, в размышлениях искал ответы на свои сомнения, в молчании – подтверждение своим выводам. Алина знала всех летчиков полка. Знала их жен и детей. Она умела запросто зайти в квартиру, разговориться, помочь по кухне или посидеть с малышом. О семьях, в которых она побывала, у нее быстро складывалось довольно точное представление. «Серегин какой-то вялый пришел на полеты», – скажет иногда Новиков и посмотрит на жену. И она, если знает, скажет: «У него сын болеет». Или промолчит, но на следующий день обязательно сообщит: «Зина требует шубу каракулевую, а он не соглашается, в долги лезть не хочет. Вот и надулись…» Где-нибудь в другом месте подобный частный эпизод может пройти незамеченным. Надулись – и ладно, завтра помирятся. В авиации любая семейная перепалка может обернуться трагедией. Взвинченный ссорой летчик медленно реагирует на команды, у него повышенная рассеянность, забывчивость, появляется приблизительность в расчетах, где необходима точность, короче говоря, такой летчик еще до вылета – предпосылка к происшествию. А между предпосылкой и происшествием дистанции нет – острая грань. Алина, как не раз убеждался Новиков, очень хорошо это понимала. Слушая его полковые новости, она полученную информацию неторопливо осмысливала и своими размышлениями нередко подводила его к неожиданным выводам. – Волков до тебя здесь был, – рассказывал Новиков, наблюдая, как Алина ловко раскатывает творог для любимых Санькиных сырников. – Поцапались из-за Чижа… Ты же Федю Ефимова знаешь? Высокий такой. – Кто его не знает. – Парень влип… Любовь свою школьную отыскал, Нину. А она уже с мужем и дочуркой. – Что же она? – Любит его. Любит дочь. Любит мужа. – Так не бывает. – Ну, уважает мужа. Там все застряло из-за девочки, по-моему. Обожает отца, друзья они. Нина боится разлучить их, страдает. Он мне показывал ее письма. Оба влипли. – Если не будут спешить, разберутся. – В том-то и дело, что надо спешить. Ефимов – кандидат в космонавты, надо что-то решать с этой историей. Тоже не дело, эгоизм получается. Она мечется между ним, мужем, дочерью, а он, ничем не рискуя, ждет. Хороша любовь! Любить – значит, взять на себя ответственность за судьбу любимой, понимать ее, делать все, чтобы уменьшить груз, лежащий на ее плечах… Что ты смотришь, я неправильно думаю? – Нет, ты очень интересно думаешь. – Алина поправила тыльной стороной ладони упавшую на глаза прядь. – Предполагается и ответственность за судьбу любимого? – Естественно. – Значит, кто-то из двоих должен идти на жертву. А если я не хочу, чтобы ты жертвовал ради меня? Новиков опустил глаза. Алина, как всегда, повернула разговор в совершенно неожиданную плоскость. Сейчас все абстрактные категории обретут плоть и покатятся по конкретным рельсам. Он не был готов к этому повороту. – Ты считаешь, Ефимов должен отказаться от Нины? Она обретет покой, он осуществит мечту юности – станет космонавтом. И просто, и главное – правильно. Новиков засмеялся: – Ты даже не представляешь, как верно рассуждаешь! Только говорить с Ефимовым на эту тему я не буду. Пусть Волков сам говорит. Алина что-то еще хотела сказать, но дверь в прихожей с треском распахнулась и с пушечным грохотом захлопнулась. Влетел Санька и с визгом повис на шее у отца. – Пап, ну самолеты у вас! Там технари движок гоняли. Как форсаж врубили, он аж взбугрился! А язык из сопла – кольцами, как «колдун» на мачте. Почему это, а, пап? – Был на аэродроме? – Естественно. – И по шее тебе не дали? – Дурак я шею подставлять? Никто и не видел. Мы в дырку пролезли, а потом из-за капонира все видели. – Кто это мы? – Я и Шурка. – Это какой Шурка? – Не какой, а какая. – Все, вопросов нет. – Зато у меня есть: почему пламя двигателя в форсажном режиме разбито ритмичными кольцами? – Ей-богу, не знаю. Думаю, что это какое-то резонансное явление. В разговор вмешалась Алина: – Ты уже созрел для ужина? – Даже перезрел, – улыбнулся Санька и подсел к столу. …Он заснул в кресле перед телевизором. Заснул, неудобно свесив руку и голову. Новиков позавидовал: он уже в такой позе заснуть бы не смог. Взял сына на руки и повернулся к Алине так, чтобы сняла с него кеды. Запахло прелой резиной. – Разбудить? – спросил Новиков. – Завтра помоет, – махнула рукой Алина. – Завтра и белье сменим. Почувствовав под собою постель, Санька смачно потянулся и, просунув босую ногу сквозь решетку спинки, затих. На лице, чуть ли не один к одному повторяющем мамины черты, застыла печать безмятежного спокойствия. И эта безмятежность спящего сына вдруг вызвала у Новикова прилив неосознанного беспокойства. Он, как и Санька, не видел войны. Зато отчетливо помнил ее следы. Особенно врезался в память бывший Кенигсберг, через который лежала дорога из Германии на родину. У города уже было новое имя – Калининград, но нового в нем еще ничего не существовало. Отцу необходимо было заскочить в штаб, и они от вокзала очень долго ехали на трамвайчике через пустыню развалин. В обгоревших углах, половинах домов устраивалось подобие жилья. Из окна трамвая Новиков видел, как на четвертом этаже уцелевшей половины открылась красивая резная дверь, соединявшая когда-то комнаты, и простоволосая хозяйка вылила из тазика помои. Серая жидкость долго летела к земле. Вторая половина дома, в которую вела эта дверь, лежала грудой почерневших кирпичей на уровне первого этажа. Между обломками дома безбоязненно разгуливали похожие на черных поросят крысы. Их толстые и длинные хвосты вызывали холодный ужас. Санька родился и рос под чистым мирным небом. Война кружила где-то над далеким Вьетнамом, о ней говорили по радио, показывали иногда по телевидению, но ее огненное дыхание не опалило сознание мальчика. И он, и его подруга Шурка, и еще сотни тысяч его ровесников дышали чистым воздухом мира. В этом Новиков видел и свою заслугу. Значит, и он, и многочисленные его сослуживцы все эти послевоенные годы вполне добросовестно делали свое дело. В его жизни были и, наверное, еще будут всякие неудобства и жертвы. Но что они значат по сравнению с жертвами и лишениями возможной войны? Вот за такой безмятежный сон мальчишки он готов лететь не только в Заполярье – на Северный полюс, в тьмутаракань, к дьяволу в пасть! Он понимал, разговора о переезде не избежать, и лихорадочно подбирал те единственные слова, которые бы могли передать глубину его мыслей. Но слова подворачивались расхожие, неубедительные. Он злился и не мог уснуть. Политработник называется. Жене объяснить не можешь. Уютно прижавшись к нему, она спала, уткнувшись носом в его шею. Свет уличной лампы искаженным квадратом дрожал на потолке, отражаясь в спальне, рассеянным мерцанием. Новикову хотелось потрогать ее мягкие, тонко пахнущие волосы, но он боялся пошевельнуться, чтобы не оборвать ее сна. – Почему ты не спишь? – вдруг спросила она. – С чего ты взяла? – Я слышу, как ты вздыхаешь, как бьется твое сердце. – Боюсь. Вдруг проснусь, а тебя нет. – Сережа… Ты пошутил, конечно, что нам опять… Новиков вздохнул: – Нет, лапушка. Представь себе – опять… Алина приподнялась, повернула к нему лицо. – Нет, Сережа, это несправедливо. – Весь полк переводят. – Когда? Новиков улыбнулся, запустил пальцы в ее волосы. – Обычно ты спрашивала – «куда?». – У Саньки впервые друзья появились, – вздохнула она, убирая с головы его руку. – Впервые после института я по-человечески начала работать. Всех взбудоражила. Добилась того, о чем мечтала еще студенткой. И теперь вот так… все бросить? Сережа, это нечестно… Она снова положила голову ему на плечо, и он почувствовал прохладу ее слез. – Как же нам быть? – Это нечестно, – повторила она уже дрожащим голосом. – Почему я должна отказывать себе во всем, а ты не можешь? Почему мы с сыном обязаны носиться за тобой по всем частям света? Нет, Сережа, пока я не выпущу этот класс – никуда. С меня хватит. Все. – Ну, все так все. Плакать-то зачем? Финские домики, дровяные печки. Мне даже спокойнее будет одному. Вон Чиж… Почти всю жизнь один. И ничего. Алина начала вздрагивать, изо всех сил сдерживая рыдания и все теснее прижимаясь к мужу. Он гладил ее волосы, шею, плечи, бормотал бессвязные ласковые слова, а она все плакала и плакала, и перед этими ее слезами он все глубже ощущал и свою беспомощность, и свою силу. 6 Вода рвалась из медного крана клочьями, со стрельбой, и Муравко попробовал унять ее. Он осторожненько привернул вздрагивающий кран, но ровной струи не получилось. Кран свистел, трясся со страшным ревом, передавая вибрацию на весь водопровод. – А-а, чикаться тут, – сказал Муравко и крутанул вентиль до отказа влево. Брызги обдали его обнаженный торс, спортивные брюки. Он был один в умывальной комнате, поэтому плескался без оглядки… За время командировки на тумбочке Муравко выросла горка газет и журналов. В первый вечер он жадно перелистал «Литературную газету», перечитал все шестнадцатые страницы. «Красную звезду» сразу отложил в сторону, ее он там читал ежедневно. А вот «Авиацию и космонавтику» приготовил, как говорится, на закуску. «Новый мир» начал публикацию очередного романа. Это на потом, на более свободное время. Соседи по комнате, два лейтенанта из батальона обслуживания, весь вечер играли в шахматы. Комендант общежития снова предлагал Муравко переселиться в комнату к летчикам – дескать, у вас одни интересы, но он отказался. Ему нравилось здесь. И были тому три причины: во-первых, из окна он видел городскую башню с часами, во-вторых, к нему никто не приставал, если он этого не хотел, в-третьих, в комнате никто не курил, хотя оба лейтенанта были курящими. Коллеги по ремеслу считаться бы с ним не стали. Растираясь полотенцем, Муравко прикидывал распорядок на вечер. И в Доме офицеров, и в городском кинотеатре шли фильмы, которые он успел посмотреть в командировке. Махнуть бы в Ленинград, но уже поздно, ушел последний поезд. К тому же к Волкову надо за разрешением обращаться. Пока Муравко одевался, принесли местные газеты. Одну из них он развернул, посмотрел, чем сегодня может порадовать телевидение. И вдруг его глаз остановился на заголовке «Дела сердечные». – Вот это да! – невольно вырвалось у Муравко восторженное восклицание. В заметке рассказывалось о молодом кандидате наук Олеге Булатове, удостоенном комсомольской премии. – Ну, Барабашкин, держись… Электрическая бритва заскользила по вздутым щекам Муравко в два раза быстрее. От вялой неопределенности не осталось следа. Теперь у него была цель, и нетерпеливое стремление к ней подхлестывало. С Булатовым их свел два года назад нелепый случай. Катаясь воскресным утром на лыжах, Муравко вышел к озеру, которое одним берегом упиралось в городской парк, другим уходило далеко к лесу. Зима давно сковала его водную гладь, припорошила снегом. Пересекая озеро напрямую, Муравко надеялся быстрее попасть к общежитию. Шел он накатистым шагом и уже был близок к цели, но недалеко от берега его окликнули. Муравко повернулся на голос и увидел в проруби купающегося «моржа». – Извините, пожалуйста, – выбивая мелкую дробь зубами, сказал «морж», – мне нужна помощь. Муравко подъехал к проруби, подал руку. – Я купался, но у меня кто-то украл одежду, – сказал тот. – Сколько же вы тут сидите? – Не знаю. Минут двадцать, наверное. Часы украли. – Надо бежать, замерзнете. – В проруби теплее, – продолжал он выбивать дрожь. – На воздухе замерзну. Ветер. – Ах, черт! – Муравко оглянулся по сторонам, но кругом было пустынно, лишь реденькая поземка неслась над озерной гладью. – Вылазьте, поделимся. Он быстро снял шерстяной свитер и подал незадачливому «моржу». Тот сел на край проруби и начал застывшими руками натягивать его на мокрое посиневшее тело. От одного его вида у Муравко свело скулы. Зябкая дрожь прошла между лопатками. Он торопливо отстегнул лыжи, снял ботинки, шерстяные носки. Бросил их к проруби и на мгновение растерялся. Под спортивными брюками были голубые трикотажные кальсоны. Что лучше – отдать пострадавшему брюки или?.. «Ладно, – решил он, – лыжнику кальсоны сойдут за спортивное трико». Вся эта операция с дележкой одежды заняла не больше трех минут, но Муравко успел застыть. «А как же ему, бедняге?» – подумал он и, загнав одетые на босую ногу ботинки в скобы лыжных креплений, скомандовал: – За мной, бегом марш! Как только они выскочили на дорогу, пострадавший обогнал Муравко и сказал: – Поедем ко мне, на Садовую. Муравко хотел возразить – на Садовой был дом, заселенный летчиками полка, там жили Чиж, Волков, Новиков – все командование. Уж они-то отличат летные кальсоны от спортивного трико. Но, взглянув на посиневшего «моржа», он понял: его ни повернуть, ни остановить не удастся. Хорошо, хоть квартира на первом этаже. Сняв лыжи, Муравко вбежал в подъезд. Ключи у «моржа», естественно, тоже пропали, и дверь пришлось высадить ударом ноги. Хилая филеночка треснула, как спичечный коробок. Вверху, на лестнице кто-то хихикнул. Муравко стыдливо нырнул в темный коридор квартиры. – Надо вызвать врача, – сказал он. – Я сам врач. Булатов. Олег. В гарнизонном госпитале работаю. – Николай. – Раздевайся, спиртом разотру. И внутрь надо. – Тебя надо спасать. – Потом, – согласился Олег. – Я покажу методу. Согревшись и слегка захмелев, они сидели в мягких креслах, укрытые пушистыми пледами, говорили о всякой ерунде, пили кофе, слушали музыку. Муравко узнал, что в этой двухкомнатной квартире Олег жил с матерью, главным бухгалтером хлебозавода. Она вторично вышла замуж и переехала к мужу. Теперь Олег ее почти не видит. По сравнению с общежитием квартира Булатова казалась райским уголком, хотя роскоши особой он здесь и не разглядел. Вот разве что эти два шикарных кресла да книжная полка. Во всю стену. От пола до потолка. Они сошлись и подружились, хотя встречались не так уж часто. Муравко знал: к Булатову захаживали девицы, и он без предупреждения не хотел вламываться в чужой дом. А предупредить не всегда удавалось. Кроме того, Олег работал над диссертацией, часто уезжал в Ленинград. Муравко тоже не бездельничал – ему предстоял экзамен на второй класс. Тут с кондачка не проскочишь. Последний раз они виделись в ночь под Новый год. В Доме офицеров. Булатов был в плотном женском окружении, как потом узнал Муравко – медсестер госпиталя. – Девочки, не теряйтесь, – дал команду Булатов, представив им своего друга. – Коля холост и, как видите, симпатичен. И девочки не терялись. Они наперебой приглашали его в круг, даже если распорядитель не объявлял белый танец. Особенно усердствовала операционная сестра Лиля. Маленькая, кругленькая, она так и сияла, словно луна, так и катилась, будто колобок. А Муравко только и думал – куда бы сбежать от этого круглого сияния. Перед закрытием вечера Олег представил ему еще одну работницу госпиталя – хирурга Верочку. Попросил Муравко проводить ее домой. – Верочка живет у вокзала и одна боится идти через весь город. Транспорт уже, сам понимаешь… – Если у вас есть хоть какие-то причины отказаться, ради бога… – Нет у него никаких причин, – подвел черту Булатов. – Я не прав, Коля? – Доктор всегда прав, – признал Муравко. – Откажусь, а вдруг попаду к вам? С медициной надо дружить. Они шли очень долго. Верочка все время придерживала белой варежкой сомкнутый у подбородка воротник шубки. И когда Муравко поворачивал к ней лицо, видел только глаза с кристалликами инея на ресницах. Потом он удивлялся: ведь всегда умел найти тему для разговоров, всегда чувствовал себя легко в подобных ситуациях, а тут словно отупел, двух слов связать не мог, под руку взять стеснялся. Молчала и Верочка, односложно отвечая на его вопросы. – Живете с родителями? – С мамой. – Всегда здесь жили? – Попала по распределению. – Нравится работа? – Да. – На лыжах ходите? – Редко. – Как свободное время проводите? – У телевизора. – В Ленинград часто ездите? – Нет. Возле дома Верочка опустила руку, и ворот у подбородка распахнулся. В свете уличных ламп ее лицо отсвечивало матовой белизной, глаза темнели холодно и строго. – Спасибо, – сказала она сухо. – Я жуткая трусиха. Спасибо. И протянула ему руку, сдернув белую варежку. Муравко позже не раз вспоминал Верочку. Что-то успел разглядеть в ней, запавшее в душу. Но что? Улыбку? В том-то и дело, что он ни разу не видел ее улыбки, и ему почему-то очень хотелось знать, как она улыбается. Вот и будет прекрасный повод для встречи. На торжества по случаю присвоения премии Олег пригласит Верочку. Уж в этот раз Муравко своего не упустит. И если она еще не вышла замуж, к ней надо будет присмотреться повнимательнее. Выдернув из розетки штепсель бритвы, он распахнул скрипучую дверку шкафа. Хотелось пощеголять в белой рубашке, но она была не глажена. Терять на утюжку драгоценные минуты не хотелось, надел свитер, взял на всякий случай летную кожанку, сунул в нее документы, деньги и дернул молнию кармана. У выхода Муравко наклонился к зеркалу. Легкомысленный чубчик, такая же легкомысленная улыбочка, ничего серьезного. «Нет, Коля, так не годится, надо менять вывеску, иначе нам удачи не видать». На автобусной остановке толпился народ. Было то время, которое почему-то называют часом «пик». Какой-нибудь экономист вычерчивал график перемещения человечества и обнаружил в нем две острые вершины – утром и вечером, – и назвал их пиками. Название всем понравилось, потому что есть в нем что-то острое и загадочное, его легко произносить даже детям. Муравко решил не усугублять и без того тяжелой обстановки на городском автобусном транспорте. Он перекинул кожанку через плечо и бодро зашагал в сторону нового жилого массива, который вырос, можно сказать, на глазах Муравко. Больше всего ему здесь нравилась близость озера. Летом – вода, зимой – лыжи. Первым в этом районе поселился Павел Иванович Чиж. Говорят, у него даже были какие-то сложности. Кто-то написал анонимку – дескать, держит квартиру в Ленинграде и здесь хочет тоже отхватить хоромы. Чиж категорически отказался от четырех комнат и попросил одну. Дали двухкомнатную – вполне приличное жилье. Муравко помогал командиру перевозить вещи да и захаживал частенько к Павлу Ивановичу на чаи. Особенно когда тот сдал бразды правления Волкову. Да разве только Муравко бывал в этой квартире? К Чижу липнут все летчики. Что бы у кого ни случилось – к нему. Чиж обладал тем редким даром, который попросту называют душевностью. Он и выслушает тебя, и посочувствует, и бедой твоей заболеет, и будет рассуждать при тебе так, что к выводу ты подгребешь как к единственному причалу. Муравко тогда ошалел от удивления, когда Булатов завел его в тот самый подъезд, где живет Чиж. Он так и не узнал, кто его засек в кальсонах и кто хихикал на лестнице. Только бы не Юлька. Чем-чем, а ироничностью, чувством юмора господь ее не обделил. «Интересно, поедет ли она с отцом на Север?» – вдруг подумал Муравко и поймал себя на мысли, что ему хочется услышать утвердительный ответ. Что бы там ни говорили, а ее присутствие на полетах вносит приятное разнообразие. На Севере улыбка Юли будет еще нужнее. В стылой полярной ночи каждая родная душа на вес золота. Да и Чижу одному там несладко придется, должна понимать. О Чиже Муравко всегда думал так, словно это был его родной отец. Даже называть его хотелось не «товарищ полковник», не Павел Иванович, а как отца – батя. Да он, по сути, и был здесь ему отцом. Первый вылет после училища – с Чижом, первый выговор – от Чижа, первая благодарность – тоже от него. Ни один шаг молодого летчика в небе не остался им не замеченным. Да разве только его, Муравко, Чиж поднимал на крыло? О «школе Чижа» были наслышаны многие. Учил он летчиков жестко, не щадил перестраховщиков, делал все, чтобы каждому дать возможность вволю полетать. Планы и по налету, и по классности в полку всегда перекрывались с лихвой. Когда проверяющие упрекали его за риск, он отвечал резко и непримиримо: – Без риска не победишь. И продолжал гнуть свою линию: летать смело, брать от техники все, что она способна отдать, и даже – больше. Волкова тоже не назовешь перестраховщиком. Но у Чижа за спиной была фронтовая школа. А это что-то значило. Чем ближе подходил Муравко к дому, где жил Булатов, тем шире становились его шаги. Он уже горько сожалел о потерянном вчерашнем вечере, как будто газеты и журналы нельзя было почитать в другое время – по дороге на аэродром, в перерывах между полетами. Ведь не исключено, что Булатов сегодня дежурит или уже куда-то уехал, в Ленинград, скажем. Впереди суббота и воскресенье, вполне мог укатить. Войдя в подъезд, Муравко остановился, чтобы перевести дыхание. Улыбнулся – на косяке дверей до сих пор оставались следы взлома. Грохнул он тогда в дверь лыжным ботинком на совесть. Муравко нажал ручку. Дверь оказалась незапертой. – Можно ли сюда войти? – громко спросил он, остановившись в прихожей. – Коля? Булатов выглянул из комнаты удивленно-радостный. Поднятый воротник белой рубашки и неповязанный галстук вызвали улыбку у Муравко: все-таки он вовремя успел перехватить Булатова. – Не ожидал? – Здорово, Коля! – Здорово! Муравко пожал протянутую руку и обошел Булатова по кругу. На его лице уже не было и тени улыбки: – Гремим, значит, на весь мир? Другом называемся и все молчком? А если бы мне на глаза не попалась эта газетенка, в каком бы я положении оказался? Ты подумал об этом? – Тебя же не было здесь, чудик. – А написать не мог? Может, хоть теперь объяснишь мне, что ты там такое разработал и что ты там такое внедрил? Это же не шутка, когда человеку отваливают комсомольскую премию. Только популярно, пожалуйста, в трех словах. – Знаешь, я чертовски рад. – Еще бы – лауреат! – Я рад, что ты пришел. – Не заговаривай зубы. – Ну, во-первых, не я один. Наградили целую группу. А во-вторых, не в этом счастье, Коля. И ничего нового мы не открыли. Просто чуточку усовершенствовали методику своевременного выявления сердечно-сосудистых заболеваний, возникающих на почве… – Стоп! Хватит. А то еще больше все запутаешь. Я все равно тебя от души поздравляю. Покажи лауреатский знак. – Еще не вручали, Коля. – И диплома нет? – И диплома нет. Муравко деланно огорчился: – Я думал, имею дело с настоящим лауреатом. – Не расстраивайся, это от нас теперь не уйдет… У меня к тебе маленькая просьба, – голос у Булатова вдруг охрип. – Выполнишь? – Разве я могу отказать лауреату? Булатов рассказал, что сегодня одна из сотрудниц госпиталя дает прощальный ужин по случаю убытия к новому месту жительства. – В Ленинград едет. – Повезло. – Поедешь со мной? – Я без фрака. Удобно? – Еще как! Там цветник. – А Верочка будет? Булатов с любопытством взглянул на своего друга. – Думаю, что будет. – Скажи, она всегда такая веселая, какой была, в новогоднюю ночь? Булатов достал из буфета водку и рюмки. Вынул из холодильника банку с маринованными огурцами. – Тяпнем за встречу? – Ты не ответил на мой вопрос. – Видишь ли, Коля… Верочка, как мне кажется, очень рассчитывала на меня. Это, знаешь, нетрудно заметить, когда работаешь бок о бок. Я не оправдал ее надежд. И поняла она это в ту новогоднюю ночь. – Ясно, – сказал Муравко. – Чем же она тебе не того?.. Булатов налил полную рюмку водки, быстро выпил ее и неторопливо закусил огурцом. – Сама виновата, – нехотя сказал он. – Я ей говорил: «Приходи. Останься. Поживем – увидим». «Нет, говорит, я так не могу». А я, Коля, не могу, как она хочет. Некогда мне ухаживаниями заниматься. Времени жаль. Все равно в постель придем. Так лучше сразу. – Сердцу не прикажешь, – сказал Муравко. – Сердце можно попросить, – возразил Булатов. – Поверь, в сердечных делах я кое-что соображаю. – А ты бы не мог проверить мое сердце? По блату, а? Булатов насторожился: – Ты что, серьезно? – Естественно. Шутка ли, двадцать седьмой год пошел, а оно еще не знает, что такое любить. Не сердце, а во, – он сделал несколько выразительных движений руками, – насос! – Тут я бессилен, Коля, – засмеялся Булатов. – Обратись к Верочке. Она, пожалуй, тебя сможет выручить. Он снова наполнил рюмку водкой, подержал в кулаке, но пить не стал, поставил на место. – Коля, надо прихватить одну девушку. Муравко вскинул брови – дескать, при чем здесь я? – Ты ее знаешь, – продолжал Булатов, – соседка моя, служит у вас в полку. – Юлька?! – удивился Муравко. – Организуешь? Она дома. – Уверен? – Слышу, – он посмотрел на потолок. Муравко улыбнулся. Действительно, квартира Чижа была на втором этаже. Если человек отличает ее шаги, дело пахнет керосином. Вспомнилась примета: когда на пол падает нож, жди гостя… из квартиры этажом ниже. – Соседи – а сам не можешь организовать? – Муравко взглянул Булатову в глаза. С Юлькой он тоже не намерен ухаживаниями заниматься? Но вслух этого вопроса не задал: – Суду все ясно. Сделаю… Теперь ты остепенился, лауреат, можно и жениться. Так, что ли? – Коля, время не ждет. – Ладно! – Муравко решительно хлопнул руками о подлокотники и рывком встал. Не хотелось ему брать Юльку в эту медицинскую компанию. Глаз у нее острый, будь здоров, а язык и того острее. – Иду. – Он обнял Булатова за плечи. – Но хочу тебя предупредить – с Юлькой надо ухо держать востро. Она не такая, как все. У Булатова появилась на лице страдальческая гримаса. – Иду, – Муравко направился к двери. – Такси заказал? – Заказал… Только не ляпни, что я тебя попросил. – Ну, лауреат, ну, хитрец, – эти слова Муравко сказал уже за дверью. В два прыжка он поднялся на второй этаж, с ходу нажал кнопку звонка. За дверью различил шаги Юли. Дверь распахнулась беззвучно, и Муравко растерялся. Юля предстала в проеме дверей неожиданно домашней – в длинном халате без рукавов и с огромной чалмой из махрового полотенца. В руках был учебник английского языка. – Ой! – вскрикнула она и так шустро юркнула в комнату, что перед глазами Муравко только промелькнули полы ее халата. – Разве так можно, товарищ старший лейтенант? – выговаривала Юля из-за дверей. – Надо же предупреждать. – Меня, между прочим, Николаем зовут. – Простите, не знаю отчества. – Обойдешься без отчества. – Поскучайте чуток в коридоре, я сейчас. – А на кухню можно? Там блинами пахнет. Юля весело засмеялась. – Можете попробовать. Муравко пошел на кухню. Всегда получалось, что его принимали в этой квартире в одной из комнат, в кухне же он был только в день новоселья. Тогда здесь уныло белели голые стены и сиротливо стояла неукомплектованная газовая плита. Теперь бросалась в глаза выставка расписных деревянных ложек. Маленькие, средние, огромные, десертные крохи и увесистые черпаки, сериями и поодиночке, они до потолка покрывали одну из стен, делая всю кухню празднично нарядной. Это, конечно же, выдумка Юли. Выдумка оригинальная. У потолка, по всему периметру кухни, на толстых металлических костылях покоились почерненные сосновые доски. На них беспорядочно стояли горшки, кувшины, берестяные коробки, керамические и медные кружки, бронзовая ступка и выщербленный медный колокол. Электрическая кофемолка была здесь явно временным гостем. Черненые, только более широкие доски опоясывали кухню и по нижнему периметру. На них можно было сидеть, на них можно и готовить. Уютно, красиво, удобно. Если это выдумка Юли, она заслуживала пятерки. Блины лежали горкой на широкой тарелке, теплые, ароматные, и Муравко невольно сглотнул слюну. Несмотря на разрешение хозяйки, пробовать блины он не решился. – Ну, что же вы растерялись? – теперь в проеме кухонной двери стояло совершенно незнакомое существо на высоких каблуках, в белых брюках и оранжевой кофте с глубокими разрезами на бедрах. Подсушенные феном волосы переливались живым блеском. Выразительные глаза, губы. И ни грамма косметики. – Слушай, Юля, – Муравко даже растерялся на мгновение, – тебе цивильное идет в тысячу раз больше, чем форма. Прямо как с обложки журнала. Ну, Юля… – Папа вернется не скоро, – сухо перебила она Муравко. – Нет, честно, – продолжал он в том же полусерьезном-полушутливом, точнее – в полудурацком тоне. – Мне даже неловко рядом с тобой. Ты чертовски похорошела. И, я бы сказал, где-то подросла. Юля недобро усмехнулась, взялась рукою за дверной косяк: – Что еще? Муравко явно заносило. – Я серьезно: в тебя уже запросто влюбиться можно! Вдруг он отчетливо понял: перебрал. И чтобы как-то разрядить сгустившуюся атмосферу, решительно взял из тарелки блин и целиком запихнул его в рот. Порция оказалась великоватой, и Юля с трудом сдержала смех. – Сама готовила? – спросил Муравко, прожевав. Юля не ответила. Зрачки ее глаз были еще угрожающе сужены, а губы плотно сжаты. – Очень вкусно. Всю бы жизнь такие ел… Да перестань ты дуться, Юля! – Я и не дуюсь. – А то я могу подумать, что тебе изменило чувство юмора. – Не надо ерунду молоть. – Льдинки в ее глазах начали таять, и они вновь заискрились теплом. Юля наклонила к плечу голову, и ее темные волосы послушно съехали набок. – Английский зубришь? – Сессия на носу. – А не могла бы ты на сегодняшний вечер забросить зубрежку? – Муравко посмотрел на Юлю. В глазах все еще настороженность. Повзрослела девочка, такой он Юлю не знал. Когда приходил к Чижу домой, она почти всегда сидела в своей комнате, а если и появлялась, чтобы подать чай, Муравко воспринимал ее как школьницу. На аэродроме, в армейской форме, Юля была, с одной стороны, служебным лицом, с другой – чем-то вроде живой игрушки: каждый хотел с ней заговорить, пошутить, по-дружески обнять. Юля не противилась такому отношению. Она доверяла этим людям, как и они во время полетов доверяли ей. Никто на аэродроме не видел, чтобы Юля на кого-то сердилась, обижалась или, больше того, с кем-то враждовала. Полушутливый дурашливый тон, в котором и начал сегодня Муравко разговор, всегда нравился Юле. А тут вдруг иголки, холодный огонь в глазах. – Понимаешь… – Муравко посмотрел на тарелку с блинами. – Можно еще один? – вдруг спросил он. В его голосе впервые за этот вечер прозвучали искренние ноты. – Пожалуйста, – Юля улыбнулась, и настороженность в ее глазах растаяла окончательно. – Так вот, – жуя, продолжал Муравко. – Твой сосед, он же мой друг, он же лауреат какой-то там премии, Олег Викентьевич Булатов пригласил меня в свою медицинскую компанию на вечер. Один я там буду чувствовать себя не совсем уютно. И тут я вспомнил о тебе. Товарищей в беде не бросают, так что выручай. – Хорошо, – сразу согласилась Юля. – Я готова. – Юля, да ты же прелесть! – А когда это он стал лауреатом? – Да вот, только что. Пошли? – Минуточку… – Она вышла и быстро вернулась подносом, на котором стоял графинчик и три бокала. – Вперед? – Ну, лауреат, ну, хитрец, – начал было Муравко, но, посмотрев на Юлю, осекся. Юля опять недобро усмехнулась. Они вошли в квартиру Булатова торжественно-неторопливо, остановились в прихожей. – Доктор! – позвал Муравко. – К вам пришли! Булатов встретил их улыбкой, кивнул Юле. – За разборку и обострение своевременной методики, – начал декламировать Муравко, безбожно перевирая слова, – реаблигации сердечно-посудистых заболеваний и выявление влюбленности в стадии ремиссии путем заклинаний, предлагаю… – он сделал паузу, ожидая, пока Юля наполнит бокалы содержимым из хрустального графинчика. – «Букет Заполярья», – Юля подала бокалы Булатову и Муравко. – В вине главное не букет, а убойная сила, – поднял бокал Муравко. – За нового лауреата! Проглотив содержимое бокала, Булатов вопросительно посмотрел на Муравко. Тот удивленно пожал плечами и понюхал горлышко графина. – Компот, – спокойно уточнила Юля. – Компот, – подыграл Муравко, в упор глядя на Булатова. – Я сейчас, – сказала Юля и вышла. – Я тебе дам «компот», – Булатов заподозрил розыгрыш и прижал Муравко в угол. Он был чуть ли не на голову выше его и значительно шире в плечах. Завяжись потасовка на полном серьезе, Муравко бы несдобровать. – Нет, вы посмотрите на этого психа, – обмяк он в объятиях доктора. – Сам просил привести ее, а теперь кидается на людей. Зазвонил телефон, и Булатов настороженно обернулся. – У тебя что, телефон поставили? Вот что значит лауреат! Булатов прошел в комнату, нервно сорвал с аппарата трубку. – Да, – ответил тихо и, послушав, закончил упавшим голосом: – Хорошо. Он отвернулся к окну и расстроенно ударил кулаком о подоконник. Муравко понял: бал не состоится. Но вместо огорчения, как ни странно, почувствовал радость, словно его освободили от каких-то чертовски ответственных обязанностей. Захотелось смеяться, валять дурака. Он взял на полочке стетоскоп, заправил в уши наконечники слуховых трубок и приложил мембрану к собственной груди. За этим занятием его увидела вернувшаяся Юля, весело улыбнулась. Он поднес палец к губам: Булатов набирал номер. Затем нацелился приложить мембрану к Юлиной груди, но не решился, осторожно повернул Юлю и прижал мембрану к ее спине. – Дышать? – подчинилась Юля, словно перед нею был настоящий врач. – Дыши, только не громко, – сказал Муравко и вдруг взаправду услышал тугие удары Юлиного сердца. Гу-гу, гу-гу, – билось оно чисто и ровно. «Дыши громче», – хотел сказать Муравко, но внезапно задохнулся от толчка в собственном сердце и, не поняв, что с ним случилось, растерянно сорвал стетоскоп. Юля удивленно обернулась, и он прочел в ее глазах насмешливый вопрос: «Ну, что услышал?» Булатов появился в прихожей расстроенный и виноватый. – Вызывают в госпиталь, – сказал он извиняющимся тоном. – Вы уж извините. – Не оправдывайся, жми, – подтолкнул его Муравко. – В твоих руках человеческая жизнь, а ты извиняешься. Жми быстрее, мы подождем. Верно, Юля? Юля поспешно кивнула. – Мне привезли новые диски из Польши, – кивнул Булатов в сторону проигрывателя. – Покрутите, послушайте. В холодильнике есть чем закусить. Договорились? – Жми быстрее, все будет о'кей. Муравко почти вытолкнул Булатова из квартиры и выглянул в окно. У подъезда стояла машина с красным крестом на борту. – Ну, так что, Юлия Павловна, покрутим диски? – Давайте лучше на свежем воздухе погуляем. – Сколько ты меня знаешь, Юля? – Тень недоверия в Юлином голосе царапнула Муравко обидой. Неужто она допускает, что он способен на вероломство? – Пятый год. Я десятый заканчивала, когда вы впервые пришли к нам. – Не называй меня, пожалуйста, во множественном числе. Можешь? – Не могу. Привыкла. Пойдемте к озеру, там приятнее, чем в квартире. – Нет, Юля рвалась на воздух не потому, что боялась чего-то. Сидеть в такой вечер в четырех стенах действительно глупо. – Так что? Займемся астрономией? Муравко прикидывал – если через парк выйти к озеру, то береговой тропкой они попадут на шоссе. Если устанут, можно вернуться автобусом или поймать попутную. Юля шла рядом, не спрашивая, куда они идут. Она сразу и полностью доверилась Муравко, и это обрадовало его и одновременно обострило чувство ответственности. Привыкший думать только за одного себя, Муравко смутно ощутил в себе всплеск гордости и удовлетворения. Вспомнился Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил». Но ведь Муравко не собирался Юлю приручать. Это Булатов на нее нацелился. Только с Юлей номер у него не выгорит. Эта мысль снова вызвала всплеск удовлетворения, и Муравко вдруг обозлился на себя: «Завидуешь ты ему, что ли?» И далее заставил себя размышлять реалистично, без отрыва от грешной земли. Во-первых, Булатов его друг. Надежный во всех отношениях человек. И если Юля не сваляет дурака, она будет иметь прекрасного мужа. А она не сваляет дурака, потому что девочка с умом. Булатов молод, уже кандидат, талантливый врач, лауреат! Своя квартира, этажом выше – отец, которому нужен и уход, и внимание, и, как ни горько, наблюдение. Так что тут никаких сомнений и быть не может. Муравко придется поздравить обоих и только порадоваться за них. Единственное, что тут не стыкуется, это перелет полка в Заполярье. Чиж не станет просить, чтобы его оставили здесь. Не тот характер. Да и дело не только в характере. Полк для него – все. Он мог уйти еще два года назад, когда передавал командование Волкову. А он плюнул на амбицию и перешел на должность руководителя полетами. И все в полку обрадовались его решению. Поступи так другой – насмешек не избежать. А его только поздравляли, потому что Чиж и полк стали уже неразделимы. В этом полку он начинал сержантом, вырос до полковника. Разве он оставит его в трудную минуту. Тем более что в послевоенные годы служил на Севере, знает все тонкости организации летной подготовки, особенности полетов. А раз Чиж не оставит полка, значит, и Юля с ним полетит. И придется Олегу Булатову сватать Верочку. – Коля, как вы думаете, – Юля размышляла на той же волне, что и Муравко. – Отца возьмут на Север? Они стояли среди старых сосен на берегу озера, серпом опоясывающего городскую окраину. Было тихо и безветренно, к запаху хвои подмешивался запах тлеющих водорослей, с противоположного берега доносился голос шоссе. – Как он захочет, так и будет. – Он не сможет без самолетов. – Батька у тебя великий. – У меня и мама великая. – Юля зябко передернула плечами – от озера тянуло прохладой. – Сначала они действительно не могли быть вместе. А когда он вернулся из загранкомандировки, надо было твердо сказать: или – или – и всем ее сомнениям пришел бы конец. Она любила его. А он: «Ты можешь остаться в Ленинграде пока». Она и обрадовалась. За диссертацию взялась. Муравко набросил на плечи Юле свою кожанку. Она перехватила накрест полы и благодарно ему кивнула. – Потом ей лабораторию дали. Я в школу пошла. Она попросила отца еще немножко потерпеть, уже докторскую заканчивала, а он опять не проявил характера. А может, уже и не хотел проявлять. – Юля тяжело вздохнула. – В общем, когда ей дали после защиты институт, все уже было ясно. Я тогда семилетку закончила. И приняла решение переехать к отцу. – Юля замолчала. – Добрый он у тебя. А с вашим братом надо покруче, Юленька. Юля кисло хмыкнула: – Вот женитесь, тогда попробуйте, Коленька… Они подходили к тому месту, где зимой купался в проруби Булатов. Муравко вспомнил и засмеялся. Юля удивленно повернула голову. – Однажды зимой на этом месте у Булатова украли одежду. В подштанниках домой чесал, – приврал Муравко. Юля тоже засмеялась. – По-моему, в подштанниках был кто-то другой, да еще на лыжах. Муравко как бы со стороны взглянул на себя и Булатова, вспомнив тот вьюжный день. По глубокому снегу сигает в коротеньких спортивных брюках посиневший от холода дылда, а за ним на лыжах в голубых подштанниках коротышка. Сюжет для «Фитиля». – Я ведь по сей день не знал, кому мы тогда попались на глаза. – Вы давно его знаете? – С того самого дня, когда из проруби извлек. – Муравко самодовольно взмахнул рукой. – Считай, что спас жизнь государственному человеку. Лауреату! – Он лечащий папин врач, – сказала Юля. – И вообще – крупный спец по сердечным делам. Вы разделяете его взгляды? Муравко пожал плечами: – Я не медик. – Ничего вы не поняли, – засмеялась Юля. – Видите, белые ночи пошли на убыль? Видите, зажглись звезды? – Вижу, – сказал он, поскучнев. – Вы мне обещали урок астрономии. – Ты еще, Юленька, не доросла до астрономии. – Это почему же, Коленька? – Потому что астрономия – наука для влюбленных. – А что такое любовь? – Привидение, о котором все говорят, но никто не видел. – А я-то думала, что уж вы наверняка знаете… Эти слова он слышал не только от Юли. Почему-то еще в школе к нему обращались за советом одноклассники, если у кого не получалась «дружба» с девочкой. Он был поверенным в сердечных тайнах почти всех однокурсников в училище. Когда приехал лейтенантом в свой офицерский отпуск домой в Советск, в тот же день к нему в гости прибежала Ира Воронцова. «Коля, посоветуй, не знаю, что делать…» Муравко ухаживал за Ирой в десятом классе, она его учила целоваться, спешила доказать свою взрослость. И вот Ирку сватает молодой инженер, работающий на целлюлозно-бумажном комбинате, с квартирой, денежный, но она чувствует – не любит он, просто парню импонирует ее внешность. Ира была видной девочкой. «А ты его любишь?» – спросил Муравко с видом знатока. «Если бы. Просто очередной шиз», – ответила она тоскливо. Муравко до сих пор не знает, что именно его тогда разозлило. Но ругался он от души. Говорил своей бывшей подружке злые слова, обвинял в неразборчивости, не понимал, куда она торопится. Спустя год Ира прислала ему трогательное письмо, полное счастья и благодарности. Она встретила прекрасного парня, рабочего. И хотя квартиры у них своей пока нет, но они живут в домике у его матери, живут счастливо – как говорится, в тесноте, но не в обиде. В следующий отпуск к нему за советом приходила еще одна знакомая одноклассница, которая не могла решиться уйти от пьяницы-мужа, но и жить с ним у нее не было мочи. И Муравко вновь кипятился и вновь попал в цель: позже и у той сложилась новая семья. И если сейчас Юлька спросит его совета, он опять заведется и со злостью скажет, что лучше Олега Булатова ей партии не сыскать никогда в жизни. И главное – не надо далеко бегать, спустилась этажом ниже – и все как в сказке. Муравко встречался с девушками, но настоящего чувства еще не испытал. Наслышан был основательно. Поэтому признался: – Нет, Юленька, в сердечных делах мой опыт равен нулю. Посему за советом ко мне обращаться не советую. Он был уверен, что огорчит этими словами Юлю, но почему-то услышал, как Юля тихо и радостно засмеялась: – Я догадывалась. – Ну и хорошо, – уже сердито буркнул Муравко. Они вышли на шоссе прямо к автобусной остановке. Народу на остановке было немного, но подошедший автобус был уже переполнен, и Муравко с Юлей едва втиснулись. Юля хотела развернуться к Муравко боком, но это ей никак не удавалось, а когда автобус тронулся, всех тяжело качнуло назад, и они оказались плотно прижатыми друг к другу. Юля исподлобья глянула на Муравко, не воображает ли он чего-нибудь, но Муравко, положив ей на плечо ладонь, напряженно вглядывался в окно, словно ему было крайне необходимо увидеть, где именно они сейчас едут. Юля успокоилась и затихла. Муравко с любопытством прислушивался к своим ощущениям. В этом дозволенном объятии рядом с ним была женщина, а не подросток Юлька, которую он привык видеть на аэродроме. Они вышли из автобуса недалеко от Юлиного дома. – Папа уже вернулся, – сказала Юля, взглянув на окна. – А лауреата нашего нет. Тоже работенка… – Он уже давно веселится в своей медицинской компании. – А где ты эти ложки разукрашенные добываешь? – спросил Муравко, вспомнив кухонную выставку. – Это папа, – с гордостью сказала Юля. – Вам понравилось? – Я был просто ошарашен! Думал, в сувенирных магазинах покупаешь. Это же мечта! – Мечта у меня другая – увидеть северное сияние. – Значит, ты с нами? Юля внимательно посмотрела на Муравко. Даже в темноте он увидел, насколько серьезным был ее взгляд. Что она стремилась понять: в самом ли деле Муравко хочет, чтобы она была с ними, или что-то другое? – Полечу, если Чиж полетит, – сказала, не отводя взгляда. – А если нет? – Значит, нет. – Как же военная авиация без тебя? – дурашливо спросил Муравко. Он тут же пожалел, что снова взял этот тон, но уже было поздно. Юля сжала губы и ничего не ответила. Она вдруг стащила с плеч кожанку, небрежно сунула ее в руки Муравко и сказала: – Идите вы, Коленька, в свое общежитие. Чао! – Юля, подожди! – только и успел он крикнуть вслед. Но Юля уже растаяла в темноте дверного проема. 7 Маша всегда просыпалась без будильника, и Волков не переставал удивляться этой ее наивысшей внутренней дисциплинированности. Сам он вечно недосыпал и без будильника встать не мог. Сегодня, на удивление, опередил звонок на целых десять минут. Сна не было ни в одном глазу. Но было ощущение досады от чего-то незавершенного, неисполнившегося, будто еще позавчера не вытащил занозу, и она сегодня напомнила о себе легким ознобом. На кухне мягко шипела сковородка, глухо постукивал о деревянную дощечку нож (Маша крошила лук или морковку), диктор неторопливо сообщал последние известия. Спортивный костюм висел под рукою, и Волков, откинув одеяло, лежа натянул шаровары. Согнул ноги, повернул их вправо, влево, «покрутил педали велосипеда», сложился перочинным ножиком, достав лбом колени, – тело было легким и послушным. У открытого окна он раз пятнадцать растянул тугой шестипружинный эспандер, затем взял десятикилограммовые гантели. Активная силовая зарядка вошла в его жизнь в мальчишеские годы, и не было такого дня, когда бы он не проделывал всего комплекса запланированных упражнений. Не успевал утром, искал какую-нибудь щель среди дня, в крайнем случае делал упражнения вечером перед сном. Волков был убежден: достаточно один раз дать себе поблажку, и лень станет отвоевывать у тебя позицию за позицией. Видел он этих сорокалетних толстяков с отвисшими животами. Особенно нравились Волкову утренние пробежки до озера и назад. Людей нет, воздух чистый, под кедами мягко пружинит земля, пахнет мхом и корою. Этот запах Волкову слышится во всякую пору, кроме зимы. Зимой все стынет, и запахи в лесу господствуют другие, похожие на запахи металлических опилок. В подъезде он привычно надавил на крышку почтового ящика, и язычок замочка податливо выскочил из мелкого гнезда. Волков никогда не пользовался ключом, никогда не пытался исправить замок. Его вполне устраивал вот такой, поддающийся грубой силе запор. Закрываясь, замок весело щелкал, убеждая непосвященных в своей прочной надежности. Вместе с газетой в ящике было письмо. Не глядя на обратный адрес, Волков по почерку догадался – от Гешки, стервеца. Хотел тут же вскрыть, но удержался – Маша осмеет его нетерпеливость. Письмо вместе с газетой положил на кухонный стол и молча ушел в ванную. Волков не хотел признаваться, что поступок сына его не на шутку встревожил. Ну, уехал и уехал. В минуты, когда Гешка заставлял вспоминать о нем, Волков чувствовал себя немного виноватым перед сыном. Со дня рождения и во все последующие годы его воспитание целиком и полностью лежало на Маше. Она и не сетовала. «Воспитывает пример родителей, – говорила она, – будешь сам настоящим человеком, будет и сын таким. В этом твоя главная воспитательная роль. А посюсюкать с ним и я смогу, для этого много ума не надо». Читая в журналах фельетоны про незадачливых отцов, он без тревоги пропускал их мимо сердца – не про него. Считал, что Маша в случае чего забьет тревогу. А коль молчит, тут все благополучно. Иногда, правда, накатывало: уходит на службу – Гешка еще спит. Приходит – Гешка уже спит. Если выдается выходной – у Гешки свои дела, свои товарищи. Появились секреты – о них знает только Маша, на то они и секреты. Как-то Волков должен был срочно ехать в Ленинград. Домой приехал среди бела дня и застал необычную, вернее, ранее не виданную сценку. Гешка и какая-то девица сидят в обнимку на диване, а Маша перед ними выступает с концертом. Она всегда хорошо пела, студенткой отличалась в смотрах художественной самодеятельности, получала грамоты и призы. Пела и в армейской самодеятельности, пока полком командовал Чиж. При Волкове самодеятельность пошла на убыль, а в последнее время и вовсе заглохла. Стоя тогда в прихожей, Волков дослушал песню до конца и, когда ребята зааплодировали, сделал то же самое. Все смутились. Гешка отнял от плеча девочки руку с такой поспешностью, будто прикоснулся к раскаленному металлу. Маша встала и вышла к мужу в прихожую. – Ребята вот спеть попросили, – сказала, скрывая неловкость. – Извини, помешал, – Волков был обижен: у него время по секундам расписано, а они среди буднего дня развлекаются. – Сын в обнимку с девочкой, при матери, как это понимать? – Они друзья, Ваня, – Маша уже овладела собой. – Мы тоже были друзьями, но чтоб при родителях… – Ну, Ваня, это долгий разговор. Уж лучше, если при мне. Истинную причину своей обиды он понял позже, когда сидел в вагоне: сын ему не доверял, они не стали близкими. Виноват он в этом, конечно, сам, но и Маша недоработала. Уж коль они такие друзья, могла бы внушить, что у отца служба ответственная… Да и сын, видать, не в него. Не мужчина. Вон у Новикова. С аэродрома не вылезает, самолет изучил не хуже механика. А этот – маменькин сынок. С девочками, с гитарками… Вернулся из Ленинграда Волков с твердым намерением взяться за воспитание Гешки. – Хочешь, вместе сходим в кино? – сказал он сыну. – Когда? – улыбнулся Гешка. Волков начал вслух прикидывать: – Сегодня партсобрание, завтра ночные полеты, послезавтра методический совет, затем учения со второй эскадрильей… Проведу разбор учений, и мы вернемся к этому предложению, годится? – Годится, – сказал Гешка. – В кино тебе сходить давно пора. И лучше с мамой. А я каждый день бегаю. – Стыдишься с отцом? – вспыхнула старая обида. – Не надо, папа, думаешь, я не вижу, какой воз ты тянешь? – серьезно сказал Гешка. – В пору троим, а ты один. – Ты и рад! – Сочувствие сына еще больше задело Волкова. – Полная бесконтрольность! – Снял бы ты, Ваня, ремень, – сказала из кухни Маша, – да всыпал ему хоть раз, для профилактики. Гешка засмеялся. Эта идея, похоже, ему понравилась. – И всыплю, – всерьез пообещал Волков, открывая дверь. Под окнами уже гудел автомобиль. Перед Новым годом Гешка обратился к отцу с наглой просьбой: – Мне надо триста рублей. – А три тысячи не надо? – Нет. Надо триста. – Зачем? – Хочу купить кассетник. Волков не понял. Не знал такого выражения. – Ну, кассетный магнитофон, – пояснил Гешка. – Не слишком ли дорогая игрушка? Вмешалась Маша: – Я ему то же самое говорю: живем втроем на одну зарплату, и выбросить такие деньги… – Этот аппарат стоит в комиссионке шестьсот рублей! Приятель отдает за полцены – сестру на лечение надо отправить. А вам дорого! Обойдусь! Все зимние каникулы Гешка работал на железной дороге. И потом еще около месяца ходил с ночными ремонтными бригадами. Как позже узнал Волков, Гешка занял триста рублей у Новикова и уже в феврале вернул ему долг. «Видимо, надо было дать ему эти деньги, – подумал Волков, но тут же решил: – Ничего, сам заработал, беречь будет». Увы, бережливостью сын не отличался. Десятого апреля он торжественно преподнес кассетник в подарок ко дню рождения своей подружке. Об этом Волков узнал от полкового инженера. – Дочка моя аж захлебывается, – рассказывал тот, – Гешка твой – настоящий рыцарь. Подарил девочке магнитофон на день рождения. Все так и попадали… Утром Волков поднял сына раньше обычного. – Ну, рыцарь, говори: где твой трехсотрублевый кассетник? – Подарил, – ответил тот. – Это что же за купеческий жест? – Папа, давай об этом не будем. – Нет, будем. Я хочу знать, откуда у моего сына такие барские замашки? – Магнитофон мой. Что хочу, то с ним и делаю. – А если я так стану поступать? На какие шиши вы будете с мамой жить? – Пойдем работать, – ответил сын. – В нашей стране в подобных ситуациях с голоду не умирают. Ты сам ее не пустил работать, а теперь упрекаешь? – Чтобы тебя, дурака, воспитывала… – Какой из меня воспитатель, Ваня? – с улыбкой сказала Маша. – На него палка нужна, оглобля хорошая. А я слабая женщина. Гешка засмеялся. Хотя по логике Волкова – должен был возмутиться. «Сговорились, спелись!» – подумал он и сказал: – Окончишь школу, я за тебя возьмусь… Свою угрозу он выполнить не смог. Возвратившись с переучивания, Волков сына не застал. Получив аттестат зрелости, Гешка уехал к Машиным родителям. Старики его любили, и теперь он там наверняка катается как сыр в масле. Волков не стал бы возражать против этой поездки. Но возмущало своеволие сына. Хоть бы для вида испросил разрешения. Нет, демонстративно укатил. Даже деньги на билет у кого-то занял. Паршивец эдакий. И вот, соизволил первым письмом осчастливить… – Что пишет блудный сын? – спросил у Маши, развернув газету. – Денег небось просит? – Что он напишет? – Маша проворно гладила рубашку Волкова. Возле плеч утюгу мешали погончики, и она все хотела изловчиться, даже губу прикусила. – Загорает, купается, никаких проблем. – Старики здоровы? – Вроде еще держатся… В летном училище Машин отец командовал эскадрильей, когда Волков был еще курсантом. Однажды комэска попал в госпиталь с тяжелым воспалением легких. Маша примчалась из Москвы, где училась в Бауманском, и здесь, в госпитале, у койки больного отца, Волков впервые увидел ее. Он любил своего командира глубоко, по-сыновьи, потому что сам вырос без отца. Любовь к командиру, можно сказать, автоматически перешла и на его дочь. Тем более что Маша при первой встрече поразила его своим жизнелюбием, чувством неиссякаемого юмора. С ней ему было легко с первых минут знакомства. Когда они вдвоем зачастили в госпиталь, отец Маши стал на глазах поправляться. – Уж очень мне по душе, что вы подружились, – сказал он откровенно. – А если поженитесь, буду считать себя совсем счастливым. – А мы как раз хотели просить твоего согласия, папа, – засмеялась Маша. – Будем считать, что благословение получено. Училище Волков заканчивал уже зятем комэска. По этому поводу он слышал в свой адрес немало дружеских шуток: «Хочешь добиться чинов и званий, надо жениться, как Волков Ваня». Шутки были беззлобные – комэска все любили, он был строгим, но справедливым человеком. Волков до сих пор хранил к нему уважение и почитание, как хранят подчиненные к командиру, хотя давно перерос его в чинах и званиях. – Не посмотрю, что времени в обрез, – сказал Волков. – Слетаю и всыплю ему… – Слетай, Ваня, слетай. И меня с собой возьми. Стариков навестим. Чай, с Севера и вовсе не выберемся. Как с отпуском-то в этом году? – Одному богу известно. Где-нибудь в декабре, как всегда… Слетала бы сама на пару недель к родителям. – Хочется, но не могу я тебя сейчас оставить. – Что со мной станется? – Одному всегда плохо. А тут такое сложное время. – Сложное. – Волкову нравилось, что Маша его понимает и без всяких просьб упреждает желания, но сразу соглашаться с ее выводами – значило бы безоговорочно признать их безгрешность. – Всем бы все усложнять. – Ты чем-то крепко расстроен? – С чего ты взяла? – Ему и хотелось поделиться с женой, и что-то сдерживало. – Кричал во сне, – сказала Маша. – Наводнение снилось, – буркнул он. – Аэродром заливало. – Конченый ты человек, Ваня. Даже сны служебные видишь. – Она подошла с выглаженной рубашкой и неожиданно села ему на колени, обняла, внимательно глянула в глаза. – Начинает казаться, что у меня характер портится, – признался он, – ловлю себя на нетерпимости, раздражаюсь по пустякам. – За Гешку не переживай, – снова сказала она. – Как я могу не переживать? – Раздражение подскочило мгновенно, как ртутный столбик на огоньке спички. – Влипнет в историю какую-нибудь, в милицию попадет. Ума-то на копейку! – Все грехи возьму на себя. Где еще жмет? Подмышками? – Со всех сторон хватает, – начал он успокаиваться. Рассказал про Ефимова, про стычку с Новиковым, про звонок из милиции – Большов оскорбил работника ГАИ, возмутился поведением Горелова: убежал от жены ночевать в профилакторий… И только о Чиже не сказал ни слова. – От таких «пустяков», Ваня, можно свихнуться. – Начинаешь построже, не нравится… «Не хочешь, – говорит Новиков, – как следует вникнуть, сплеча рубишь». А я ему говорю: «Ты – комиссар, ты и вникай. А мне некогда». – Правильно, командир, – Маша попыталась разгладить морщинки у его глаз. – Легко быть добрым, гуманным и человечным, если за последствия отвечает кто-то другой. На твоих плечах – полк. Боеготовность. Государственная ответственность. Начнешь с каждым возиться – полк развалится. Спрос с командира… У всех есть нервы, у всех самолюбие, а у командира ничего нет. Он железный. У него ничего не болит. Нет, Ваня, не глаголы жгут сердца людей, а инфаркты. Плюнь на всех. – Перебор, Маша, – сказал он и, придержав жену, встал. Он сразу уловил в ее голосе насмешку, но перебивать не хотел. Когда Маша злилась, она иронизировала. Отчего злилась, не знал, потому и дослушал до конца. Но и дослушав, не понял. – Знаешь, что мне кажется, – сказала она в том же тоне, – нехорошо, когда в полку два командира. Тебе синяки да шишки, а ему любовь подчиненных. Несправедливо это. Заслоняет он тебя, в тени держит. А за полк отвечаешь ты. – Не надо, Маша. – Теперь Волков начинал понимать, откуда ветер дует. – Его всегда любили. И было за что. – Вот именно – было. А теперь ты и сам с усам. – Будь командир хоть семи пядей во лбу, всех не осчастливит. – Да и зачем, – не сдавалась Маша. – Командир должен быть выше всякой этой лирики. Он должен знать одно: чем сложнее обстановка, тем жестче должна быть… что? Требовательность! – Она протянула выглаженную рубаху. – Надевай. Машина пришла. Волков чувствовал – успокоения от разговора с женой не получил. Скорее наоборот – нервы натянулись еще больше. Маша выключила утюг и стала помогать застегивать пуговицы. – Просто разрубать узлы чужие, – сказал он с обидой. – Это верно, – подхватила Маша. – Своя боль всегда сильнее. – И уже без иронии закончила: – Ничто на свете не сделает нас счастливыми, Ваня, если мы не научимся чужую боль чувствовать. «А кто мою боль чувствует?» – хотел сказать Волков, но не сказал. Это прозвучало бы кощунственно. Уж кто-кто, а Маша чувствовала не то что боль – малейшие симптомы его заболеваний. И врачевала, как могла. Эта трехмесячная разлука, видать, не осталась без последствий: какая-то хворь застарела, заноза уже казалась Волкову опухолью, потому что тревога у сердца не утихала, а только ширилась все больше и больше. В машине он попробовал было переключиться на какие-нибудь более приятные размышления, покружить, так сказать, в чистом голубом небе, но возникающие тут же ассоциации сносили мысли в плотную грозовую облачность. Неудовлетворенность пришла после разговора с Новиковым. Пустяковый разговор о Ефимове, о Чиже. Ведь чувствовал: не прав комиссар. А все равно осадок остался недобрый. Наверное, оттого, что не нашли с Новиковым общего языка. До этого всегда приходили к единому знаменателю. Нередко компромиссному, но единому. А тут разошлись, как в море две селедки. Или чего-то Новиков не понял, или… Нет, второе «или» в данном случае не допускалось. Ефимова с таким «хвостом» рекомендовать в отряд космонавтов он не имеет права. Это совершенно четко. С Павлом Ивановичем Чижом тоже ясно. Нервотрепки на новом месте будет столько – дай бог здоровому выдержать. Стрессы не для него. Хочет служить – пусть остается здесь. Будет руководить полетами. Какая ему разница, чьи самолеты сажать? А командующий перевод оформит. Командующий для него все сделает. «Он тебя заслоняет, в тени держит…» Это Маша зря. Волков никогда так не думал. Даже в те дни, когда его назначили командиром, а Чижа – руководителем полетов. Он лишь однажды поймал себя на ревности, когда кто-то из командиров эскадрилий, кажется Пименов, запутавшись в плановой таблице, побежал советоваться с Чижом. Волков проглотил эту пилюлю, но, поразмыслив, оправдал комэска. Ведь запутался тот в трех соснах, и обнажать перед новым командиром свою слабину ему было, конечно же, неловко. Чиж не вмешивался в его дела, хотя не единожды останавливал Волкова у той черты, за которой ошибку уже не исправить. Однажды Муравко прекратил взлет и чуть не выкатился за взлетно-посадочную полосу. Видимых причин для прекращения взлета с полосы не было, Муравко объяснил, что ему показалась «какая-то фигня с давлением масла» и он выключил двигатель. – К полету не подготовился, вот и показалась «фигня», – сказал Волков. – Накажу самым строгим образом. Сразу после полетов! Но Волкова срочно вызвали к телефону, и разбор полетов делал Чиж. А назавтра инженер доложил, что в самолете обнаружили течь маслопровода и что, если бы Муравко взлетел, могла быть беда. Вместо наказания Волков объявил Муравко благодарность, а Чиж сознался, что специально организовал Волкову вызов, чтобы он «дров не наломал». Были и кадровые ситуации, и бытовые, когда Павел Иванович проявлял принципиальность и твердость и, как член парткома, требовал от Волкова решения, не совпадающего с командирскими выводами. В итоге оказывалось, что Чиж шел на обострение отношений с Волковым в интересах самого Волкова. Да что там говорить, Чиж, естественно, оставался хозяином в полку. И хотя внешне его командирские действия нигде и ни в чем не проявлялись, все, от солдата до первого зама, это чувствовали. Чувствовал и Волков. Поначалу его это устраивало, но в последнее время, чего уж хитрить, стало несколько беспокоить. И хотя Маша иронизирует (как только она почуяла, ведь ни слова не сказал ей об этом?), суть верна: плохо, когда в полку два командира. Даже признавшись самому себе во всех этих мыслях, Волков был убежден, что в первую очередь он все-таки думает о здоровье этого дорогого не только для него, но и для всего полка человека. Все равно ведь ему скоро придется уйти из авиации совсем. Лучше это сделать сейчас, пока есть здоровье. Да и жена Чижа Ольга Алексеевна уже не раз просила: «Отправляйте его на пенсию, может домой вернется». Дочке учиться надо. Нет, совесть у Волкова чиста. Тут он не уступит. Вот только как все это сказать Чижу? Заикнулся лишь о его здоровье – и то разобиделся вконец. Вчера на сессии исполкома горсовета нашелся мудрец, внес предложение: провести новый коллектор через аэродром. Расстояние, дескать, короче, а следовательно, дешевле обойдется и сроки можно сократить. Всем депутатам идея показалась заманчивой. Председатель попросил Волкова высказать по этому поводу свои предложения. Он шел к трибуне возмущенный: быстро забывают люди об опасности. Чтобы поддерживать готовность летчика к бою, ему необходимо летать и летать. Перерыть аэродром – значит, на месяц остановить полеты. Чтобы потом восстановить летные навыки полка, придется дополнительно затратить такие средства, на которые несколько новых коллекторов построить можно. В результате копеечная экономия обернется тысячными убытками. Волков говорил спокойно, объяснял депутатам ситуацию, как детям. Не все поверили, во время перерыва пошучивали – дескать, Волков запугивал исполком. Но больше к этому вопросу никто из депутатов не стал возвращаться. В общем, день вылетел в трубу, хотя и небесполезно. Волкову всегда было интересно слушать людей других профессий. Иногда обсуждаемые проблемы ему казались очень далекими от его дела, а потому и малозначимыми, и слушал он ораторов рассеянно, думая о проблемах своих. Но чаще все-таки проникался тревогой выступающих делегатов, когда речь шла о городском транспорте, коммунальном хозяйстве, торговле, культуре. Однажды ему поручили выступить с докладом по вопросам охраны природы и окружающей среды. Волков перерыл все протоколы за десять лет и обнаружил странное отношение к принимаемым на сессиях документам. Ни одно из решений исполкома за десять лет не было реализовано полностью. – Мне как человеку, привыкшему безоговорочно выполнять приказы вышестоящих инстанций, такое положение, мягко говоря, кажется странным. Трижды обязывали директора комбината капитально отремонтировать очистные сооружения, и он трижды плевал на эти распоряжения. И, пожалуйста, процветает. Сегодня его хвалили за выполнение плана. Простите меня, товарищи депутаты, – Волков был искренне взволнован, когда делал доклад, – может, я чего-то не понимаю, но считаю, что избиратели ошиблись, доверив нам власть. Если наши решения можно вот так безнаказанно игнорировать, мы не оправдываем народного доверия, занимаемся пустой болтовней, зря теряем время… – Ты, брат, перегнул, – сказал за обедом Волкову директор хлебозавода. – Такую речугу перед подчиненными толкнуть – куда ни шло. А здесь народ ответственный. Большинство – руководящий. План для нас – все. Выполнил – на коне. Провалил – сам понимаешь. А комбинат – статья особая. На него знаешь как жмут? Поставь на капремонт очистные, и миллионов не досчитаешься. Не так все просто, дорогой подполковник… – Резко вы, Иван Дмитрич, резко, – заметила и дама из городского здравоохранения. Она явно не одобряла доклад в такой редакции, хотя по роду занятий первая обязана была поддержать. – Хорошо выступил! – согласился лишь начальник управления внутренних дел. – Молодец! Мы тут с военкомом обменивались, все правильно: надо подымать авторитет наших решений… У ворот КПП Волкова встретил дежурный офицер, доложил: – Никаких происшествий не случилось. Ну и слава богу. – Капитан Большов прибыл? – Так точно. Вон его машина. – Давай туда, – сказал Волков водителю. Капитан Большов, видать, еще издали заметил, что командирский «УАЗ» катит в его хозяйство. Выскочил из кабины, одернул китель. Волков ценил этого офицера. Большов знал свое дело, работал без проколов. Правда, один раз ему пришлось всыпать – перестал следить за состоянием резервного двигателя, но с тех пор Большов не давал повода для недовольства. А вчера на сессии к Волкову подошел начальник ГАИ и пожаловался: – Твои летуны, Иван Дмитриевич, оскорбили моего сотрудника. Сержант собирается идти в суд. – И кто же это отличился? Начальник ГАИ подал Волкову шоферское удостоверение Большова. – Этот был за рулем. Оскорблял второй, его пассажир. Фамилию не знаю. Поговори там, пусть извинится, да на этом и точку поставим. Не судиться же им в самом деле… Увидев в руках командира свое удостоверение, Большов покраснел, опустил глаза. – Кто с вами ехал? – спросил Волков. – Капитан Ефимов. – Значит, он оскорбил инспектора? – Не оскорбляли мы его, товарищ подполковник. Он же придрался ни за что. Мы его просили, а он стоит и измывается, прямо садист какой-то. Ефимов ему так и сказал. – Говорить вы мастера, – Волков отдал Большову удостоверение. – А тень позора на весь полк. Военный летчик капитан Ефимов судится с сержантом милиции! Красиво? Пойдете вместе к этому сержанту просить прощения. И если не вернетесь с распиской, что он к вам не имеет претензий, пеняйте на себя. И помните… К ним подошел Новиков. – Здравствуй, Иван Дмитрич! – Протянул командиру руку. Обменялся рукопожатием с Большовым. – Слышу с утра на басах разговаривают. Кто бы это, думаю? Гляжу – командир. Что стряслось, если не секрет? Волков вкратце пересказал суть конфликта. – Не хватало, чтобы этот факт совали во все доклады. Слыхано ли – летчики судятся с милицией! – Знаешь, командир, – неожиданно предложил Новиков, – я сам заеду в ГАИ. Не посылай их, еще больше напортачат. Так будет надежнее. – Пожалуй, ты прав, – согласился Волков. И сказал стоявшему неподалеку Большову: – Слышал? – Так точно! – обрадовался тот. – Благодари комиссара. – Спасибо, товарищ подполковник. – Кушай на здоровье, – улыбнулся Новиков и, как показалось Волкову, подмигнул капитану. Ни к чему, конечно, заигрывать с подчиненными, ну, да ладно, у них, политработников, свои приемы. Волков отпустил водителя, и они пошли с замполитом по бетонной дорожке вдоль стоянки самолетов. Здесь уже вовсю кипели предполетные работы. Для непосвященного они могли показаться беспорядочными, суетливыми и бессистемными. Но Волков схватывал в этом беспорядке четкую систему и удовлетворенно отмечал высокую организацию работы технического персонала. – Макарыч, – бросил он одному из техников, – научи, пожалуйста, своего соседа инструмент в порядке содержать. А то он думает, что работает в МТС. Макарыч улыбнулся и пошел на соседнюю стоянку. Волков не сомневался, что порядок там будет наведен. Переодетые летчики уже тянулись к классу на предполетные указания. Волков глянул на часы и сразу же посмотрел чуть выше горизонта, туда, где появляются идущие на посадку самолеты. Разведчик погоды что-то задерживался. – Не говорил с Ефимовым? – спросил Волков у Новикова. Замполит как-то поморщился, но вдруг улыбнулся: – Дело деликатное, надо при подходящих условиях… – Что ты все усложняешь? – Волкова почему-то задели слова Новикова. Комиссар, видите ли, понимает что-то такое, что командиру и не снилось. Психолог какой нашелся. И появилось желание немедленно доказать политработнику, что не надо искать глубокой философии на мелких местах. Все значительно проще под этим небом, за исключением техники. Вот тут сложность реальная. А с Ефимовым задачка из простейшей арифметики. На два действия. – Ефимова ко мне! – приказал он помощнику руководителя полетов и взял Новикова под руку. – Самые подходящие условия именно сейчас, Сергей Петрович. Новиков пожал плечами и неуверенно улыбнулся. Одними уголками губ. Волков знал эту улыбку комиссара. Она ничего хорошего не сулила, но теперь тем более хотелось доказать ему, что и он, командир, кое-что понимает в человеческой психологии. – Так я пойду, – сказал Новиков и посмотрел в сторону старта. Над горизонтом быстро увеличивалась точка, на глазах перерастающая в самолет. Возвращался разведчик погоды. – Останься, Сергей Петрович, – почти приказным тоном сказал Волков. – Разговор будет душевный, по твоей части. – Это когда соображают на троих, – буркнул Новиков. – А тут третий лишний. – Ничего-ничего, вот уже бежит. Ефимов подошел еще возбужденный каким-то веселым разговором. Он должен был лететь в первой паре, поэтому полностью экипировался. Защитный шлем держал в левой руке за ремешок, как держат ведерко с водой. Внутри лежали кожаные перчатки и наколенный планшет. Волков представил портрет Ефимова в газете – красавец! Сколько девок с ума сходить будет, узнав, что космонавт холостой. – Капитан Ефимов по вашему приказанию прибыл. Волков окинул летчика взглядом с головы до ног. Тесно будет в корабле такому великану. – Работник ГАИ в суд подает на вас. За оскорбление. – Пусть подает, – спокойно сказал Ефимов. – Таким, как он, в милиции работать противопоказано. Они подрывают авторитет государственной автоинспекции. Я докажу это. – Какой храбрый, – разговор начался не так, как хотелось Волкову, и он повернул его ближе к делу: – Ладно, я для другого пригласил вас… От нашего полка надо выделить одного летчика в центр подготовки космонавтов. Мы вот посоветовались с Сергеем Петровичем и единогласно остановились на вашей кандидатуре. – Спасибо, товарищ командир, за доверие. – Слышал, мечтали об этом? – И сейчас мечтаю, товарищ командир. Вот теперь тон был взят верный, можно и к главному приступать. Волков взял Ефимова за обшлаг комбинезона. – Поймите меня правильно, Ефимов, – сказал доверительно. – Космонавт на виду всей страны, всей планеты. Его анкета должна быть ясная, как весеннее небо. Ни облачка, ни зазубринки. У вас такая зазубринка есть. Ее надо убрать, и дорога в космос открыта. Ефимов обеспокоенно глянул на Новикова. Он еще не догадывался, о какой зазубринке речь. – Я имею в виду эту замужнюю женщину, Ефимов. С этим у вас все. Понятно? Ефимов не то удивленно, не то сконфуженно посмотрел на Волкова. – Я люблю эту женщину, товарищ командир, – сказал он. – Не понял, – быстро перебил его Волков. Он действительно не понял. Неужели ему трудно сказать: «Да, с этой женщиной все»? Сказать! А там уж как знаешь. – Не понял я вас, Ефимов. – Я люблю ее. Смеется он над ним, что ли? – У нее муж, ребенок! – Волков уже закипал и остановить или повернуть разговор, как повернул вначале, не мог. – О чести подумайте… О своей чести – офицера, летчика… О ее, женской чести… И запомните – это у вас единственный, первый и последний, шанс. Я не думаю, что вы настолько глупы, чтобы из-за этой… упустить его. Полчаса на размышление. – Товарищ командир… Я люблю ее. Ах, как хотелось Волкову выругаться сейчас. От обиды за этого здоровенного балбеса. Ведь не представляет, что от него уходит, не догадывается. Как пономарь: «Я люблю ее, я люблю ее». Люби, пожалуйста, но не будь дураком, не будь идиотом. Вслух Волков сказал только одно слово: – Идите! Ефимов молча повернулся и молча ушел. «Вернитесь и отойдите, как положено по уставу!» – хотел крикнуть Волков, но сдержал себя. Проигрывать надо достойно. А он явно проиграл. Новиков, конечно, не скажет этого, не упрекнет, но подумает обязательно. Волков подбирал слова, чтобы что-то сказать в свое оправдание замполиту, но от этой необходимости его избавил мелькнувший неподалеку Горелов. – Старший лейтенант Горелов! – крикнул Волков. – Ко мне! Руслан спешил в класс. Он видел, как заруливала на стоянку «спарка», вернувшаяся с разведки погоды, значит, через минуту-другую начнутся предполетные указания. Голос Волкова его словно подсек, он как-то неестественно развернулся и подошел к командиру почти строевым шагом. Четко вскинул руку к модному козырьку фуражки. – Что тебе запланировано? Волков старался подчиненным не «тыкать», но обращаться к Горелову на «вы» у него язык не поворачивался. – Система и перехват, товарищ командир. – Не полетишь. Лицо Горелова обиженно вытянулось, нижняя губа задрожала. «Совсем еще ребенок, – подумалось Волкову, – точь-в-точь как мой Гешка, отняли конфетку – губа задрожала». – Почему не ночуешь дома? – Чтобы… отдохнуть перед полетами, товарищ командир. – Отдохнул? Руслан опустил глаза, сжал кулаки. У него были крепкие мужские руки, и подкатившее было сочувствие сразу покинуло Волкова. – Семейный скандал в профилактории затеяли, гости смеются, потеха на весь город! Нет, Горелов, если ты не научился семейные нелады за порогом дома оставлять, ты еще не летчик. От работы на сегодня отстраняю. Иди отдыхай. – Есть! – Руслан обреченно повернулся и пошел в класс, на предполетные указания. Он еще не терял надежды, что командир переменит решение. Но Волков уже утвердился в своей правоте. Даже опытному летчику опасно вылетать по сложному варианту, если у него на душе кошки скребут, не о том думать будет. – Что ты все молчишь, Сергей Петрович? – не глядя на Новикова, спросил Волков. – Нас ждут, Пименов прилетел. Потом поговорим. Потом так потом. Волков никогда не набивался к замполиту на душеспасительные беседы. Скорее наоборот. Или уходил от них вообще, или сворачивал по ходу разговора в сторону. Тут же его подмывало услышать от комиссара упрек и в ответ сказать то, что он давно хочет ему сказать: «Хватит либерализма, Сергей Петрович! Сюсюкать можно в детском саду, а тут армия, каждый должен сам нести свою ответственность. Почему-то мы с тобой помним об этом, а другим надо напоминать, уговаривать их. Чушь собачья получается! Спрашивать надо! И построже!» Когда Новиков прибыл после академии в полк, Волков еще ходил в заместителях у Чижа. Над аэродромом неподвижно зависли редкие скирды белых клубов облачности, и среди этого небесного великолепия в осенней голубизне напряженно высвистывали турбинами музыку «боя» два истребителя. Посмотреть поединок Чижа с молодым летчиком лейтенантом Муравко высыпали все, кто был на аэродроме. «Бой» был принципиальным. Накануне Муравко во время обычного кулуарного разговора самоуверенно заявил, что может на равных потягаться с любым первоклассным летчиком. – Не переоцениваешь ли ты свои возможности, Коля? – с улыбкой спросил Чиж. – Дело не в моих возможностях, – сказал Муравко. – На однотипных самолетах одинаковые возможности – что у аса, что у новичка. Только не зевай, а все остальное техника сделает. Новиков еще не знал способностей Муравко. Но знал, как летает полковник Чиж. Поэтому, когда летчики разошлись, сказал: – Павел Иванович, кому-то из нас троих надо запланировать воздушный бой с этим лейтенантом. И чем быстрее, тем лучше. Точка зрения Муравко может стать популярной. Легкая слава заманчива для молодых пилотов. Лучше всего, если бой проведете вы. – Спасибо, Сергей Петрович, – сказал Чиж, – это ты цепко подметил. Могут черт знает чего навоображать, сукины дети. Завтра надо. – Хорошо бы над аэродромом. – Тоже верно. – Кто полетит? – спросил Чиж. – Может, ты, Сергей Петрович? – Нет, Павел Иванович, лучше вам. – Так и быть. Бой, он и в Африке бой. Когда Новиков и Волков остались одни, затянувшуюся паузу прервал Волков: – Муравко, конечно, летчик не слабый, но я бы на вашем месте сам полетел. – Ему показалось, что новый замполит перестраховался. – Упустили прекрасную возможность сразу утвердить свой летный авторитет. – А если этот Муравко загонит меня в угол? – искренне сказал Новиков. – Я же два месяца не летал. Надо восстановить навыки. Уж тогда наверняка многие решат, что сила бойца не в мастерстве, а в технике, которой он управляет. – А если он Чижа загонит в угол? Ведь вы должны охранять авторитет командира. – Авторитет Чижа не колыхнется даже при атомном взрыве, – засмеялся Новиков. – Не сомневаюсь, Муравко откажется от своих убеждений. – Это еще покажет бой, – сказал Волков. – Командир уже не мальчик, на максимальных углах атаки может ослабить ручку. А Муравко упрям. И здоров как бык. – Все, конечно, может случиться, – согласился Новиков. – Может, вам вместо Чижа? Волков с улыбкой покачал головой. – Он же воспримет такое предложение как личное оскорбление. Скажет, раньше времени хороните, а Чиж, он и в Африке Чиж. – Это точно, – согласился замполит. Разговор о Чиже, как первая разделенная на двоих тайна, признание замполита в какой-то слабости, одинаковое служебное положение и примерно одинаковый возраст – все это стало почвой, на которой очень быстро проросли их взаимные симпатии. И когда на второй день над аэродромом парой взлетели Чиж и Муравко, Новиков и Волков уже следили за поединком, объединенные одним чувством. Следить за динамикой боя мешали белопенные облака. Но по тому напряжению, с каким кромсали тишину могучие турбины, нетрудно было догадаться, что над землей идет бескомпромиссная схватка. Самолеты спиралью взбирались на максимальную высоту, стремительно пикировали и круто уходили в зенит, делали боевые развороты, петли, неожиданные виражи. Их звук то достигал предельного накала, то вовсе таял в голубых окнах неба, то вдруг обрушивался на зеленое поле аэродрома с совершенно неожиданной стороны. Все облегченно вздохнули, когда оба самолета вдруг словно обмякли и, мирно выровнявшись, ушли на роспуск для захода на посадку. Турбины запели совсем по-домашнему – неторопливо и ровно. А самолеты уходили к горизонту, как уходят, обнявшись, от любопытной толпы примирившиеся после ссоры молодожены. Первым коснулся бетонки самолет Муравко. Почти сразу за ним приземлился и Чиж. Открыв «фонарь», Муравко вылез на стремянку и вскинул кверху обе руки. Этот красноречивый жест можно было истолковать в одном-единственном смысле: сдаюсь на милость победителя. А Чиж обнял и поцеловал лейтенанта. – Мне бы на фронте такого ведомого, – сказал он, – намолотили бы мы с тобой фрицев. Когда проявили пленку, стало ясно, что Муравко побывал в прицеле Чижа несколько раз, а Чиж у Муравко ни разу. – Вот вам и одинаковые возможности, – смеясь говорил молодым летчикам Новиков, демонстрируя через эпидиаскоп обе пленки. – Нет, миленькие мои, на одном и том же инструменте, по одним и тем же нотам можно сыграть очень даже по-разному. Волкову тогда понравилось, как Новиков, в ответ на брошенную в шутку реплику, сочинил для полковой молодежи убедительный урок. Доказательный и запоминающийся. Он только почему-то не оценил роли Чижа в сложившейся ситуации. Не отдал должного командирской мудрости, а следовательно, и для себя не сделал выводов на будущее. А ведь мог Чиж, имел все основания сказать Новикову, что на каждый чих не наздравствуешься. Если каждую вздорную реплику доказывать таким образом, план налета и наполовину не выполнишь. Волков бы наверняка так и сказал. Когда Волков принял полк, к работе Новикова он начал приглядываться с пристрастием. Видел – липнут к нему люди. Идут с любым пустяком. Уходят довольные, улыбающиеся, хотя ничего он им особого не говорит. В последнее время Волкову начало казаться, что он догадывается, где зарыта собака. Это же очень просто – будь со всеми мягок, добр, улыбчив, сочувствуй всем, обещай, а не получится – есть на кого кивать. Летчик с чужой женщиной путается – повздыхай с ним, похвали за смелость, за верность мужскую. Глядишь – он тебя лучшим другом считает. А за распущенность взыскать – это пусть командир. На предполетные указания Волков пришел уже взвинченным и хмурым. Голос Пименова, рассказывавшего об особенностях погоды, журчал как вода в кране – ровно и успокаивающе. Словам его о каких-то подозрительных образованиях и возможных сюрпризах Волков значения не придал, хотя и синоптик о чем-то предупреждал, высказывая свои гипотезы. Уткнувшись в плановую таблицу, Волков никак не мог состыковать по времени свою работу в зоне и работу Ефимова. Упражнения у них были разные, и, хотя Ефимов вылетал позже, получалось, что на посадочный они выйдут чуть ли не секунда в секунду. – Павел Иванович, – от раздражения голос у Волкова ржаво скрипел, – что вы тут напутали? Чиж удивленно вскинул брови – мол, черт его знает, может, и в самом деле «пустил петуха», – подошел и через плечо Волкова заглянул в плановую таблицу. – Ничего не вижу, – сказал он спокойно. – Не видите, так закажите очки. – Очки, они и в Африке очки, – Чиж явно сглаживал бестактность командира, хотя мог, имел моральное право одернуть Волкова. Но он щадил своего ученика. – Старею, наверное. Где? Волкову следовало подыграть Чижу, иначе он мог оказаться в смешном положении. Но подходящая шутка под руку не подвернулась. И Волков, скрипнув стулом, молча ткнул сломанным ногтем в сторону плановой таблицы. Все, кто был в классе, затихли. Лишь в динамике назойливо потрескивал эфир. И в этой тишине Волков вдруг почувствовал, как участились удары его собственного сердца. Он увидел, что сломанный ноготь стоит на чужой строке и, если кому надевать очки, то в первую очередь ему, Волкову, потому что в плановой таблице было все как в аптеке. Надавив ладонью на лист, он резко сдвинул таблицу на край стола. Чиж еле успел подхватить ее. – В общем, посмотрите все внимательно. – Волков встал. – Вопросы есть? Все по местам. Чиж свернул плановую таблицу в трубку и вышел. Глядя ему в спину, Волков решил, что перед полетами зайдет на СКП и поговорит с Чижом наедине. Извинится, объяснит, попросит понять его… – Ты что это, командир? В классе остался только Новиков. Он присел на желтый полированный стол, поставив ногу на табуретку. Темный чуб скобкою повис над глазом. – К черту, Сергей Петрович, сантименты. Не служба у людей в голове, а черт знает что. За сутки – букет неприятностей. Столько дел впереди, а тут что-то трещит, по швам расползается. – Значит, швы на живую нитку. – Нет, надо жестче, жестче, Сергей Петрович. Ослабим гайки – тут нам и крышка. Новиков резко выпрямился. – Гайки-балалайки… Неужто и вправду не понимаешь, что на затянутых гайках далеко не уехать? Или так проще, думать не надо? Волков подсознательно понимал правоту замполита, но дух противоречия требовал от него не соглашаться ни с какими доводами. Особенно если Новиков станет защищать Чижа. Но замполит о Чиже молчал. – Больше всего мы вежливы, – сказал он, – когда сами с собой разговариваем. Что «человек – это звучит гордо», мы со школы усвоили. А что делаем, чтобы каждый человек чувствовал себя гордым? С униженным достоинством, командир, крылья не расправишь. Чтобы летчик преодолел перегрузки в воздухе, его надо освободить от перегрузок на земле. Не поймем мы с тобой этого, вот тогда нам действительно крышка! Волков вслушивался в слова замполита, и до него медленно начинал доходить смысл сказанного. Конечно, надо освобождать летчика от перегрузок на земле. Но как? Сам он сегодня подымется в воздух с такой перегрузкой, что хоть после первого круга садись. – Сегодня у человечества нет проблемы важнее, продолжал Новиков, – чем взаимопонимание. Люди должны стремиться к взаимопониманию, Иван Дмитриевич. Без этого мы не сможем ни высоту, ни скорость одолеть. – Про здоровый нравственный климат еще скажи, – беззлобно буркнул Волков. – Да ну тебя… – Новиков махнул рукой, повернулся и вышел. И это его «да ну тебя», и небрежный взмах рукой, и неожиданное окончание спора больно задели Волкова. «Как будто я уже и не командир полка, – подумал он зло и обиженно. – С Чижом небось такое бы себе не позволил». 8 Рассвет над аэродромом был многообещающим. Светило июньское солнце, лениво раскачивались на деревьях теряющие свежесть запыленные листья, пахло пересохшей землей, и небо голубело от горизонта до горизонта: миллион на миллион, как говорят летчики. К приезду технического персонала очертания солнца уже растворились в грязной дымке, оно не плавилось и не переливалось, как час назад, а просто белело тусклым пятном, как белеют в непогоду уличные фонари на вечерних набережных Ленинграда. Серая паутина обволакивала пространство неторопливо, но капитально, могучей подковой охватывая аэродром. И хотя над головой не было ни облачка, голубизна пространства уже поблекла, а его бездонность обрела реальную высоту, будто к небу подклеили старую выцветшую марлю. Вылетевший на разведку погоды Пименов докладывал, что на северо-западе просматривается очень подозрительная плотность атмосферных образований, а дежурный синоптик по полученным данным подтвердил вероятное направление циклонической деятельности. – Если в течение ближайших двух часов не отнесет в сторону, – сказал он Чижу, – может зацепить и наш район. Волков, как показалось Павлу Ивановичу, не придал особого значения ни словам Пименова, ни предупреждению синоптика. И уже когда Чиж подходил к СКП, его встретил дежурный штурман и сказал, что Волков решил до начала работы слетать лично на доразведку погоды. Не сказав ни слова, Чиж отметил про себя правильность решения командира. Когда в небесной обстановке есть какие-то вопросики, командиру лучше всего взглянуть на нее собственным глазом. Точно так поступил бы и Чиж, будь он на месте Волкова. – «Медовый», я «полсотни первый», разрешите запуск. – Голос командира звучал, как всегда, четко и бесстрастно, даже, как показалось Чижу, извинительно. Волков настраивался на полет, и, прежде чем закрыть «фонарь», он подсознательно как бы отпускал грехи другим в надежде, что и ему отпустятся какие-то прегрешения. Еще будучи командиром, Чиж с профессиональным одобрением отмечал у Волкова это редкое умение оставлять все, что не касается полета, за бортом кабины. Принимая у техника самолет, Волков мог еще шутить, воспринимать суть посторонних разговоров, осмысленно что-то советовать или обмениваться опытом. Но когда он усаживался в кабину и подключал фишку гермошлема к самолетной рации, его сознание концентрировалось на полетном задании до такой степени, что он забывал собственную фамилию и реагировал только на присвоенный ему индекс – «полсотни первый». Самозабвенная преданность небу была главным стержнем в характере Волкова, его сутью. Чиж разглядел это еще в те дни, когда Волков только осваивал боевую программу летчика. Ступени пилотажного мастерства он брал одну за другой с завидной легкостью. Но легкость эта была только видимой. За ней скрывался въедливый труд, многие часы непрерывного истязания в кабине тренажера, постоянное напряжение мысли. Каждый очередной полет он проигрывал в уме бесчисленное количество раз, осложняя самыми каверзными вводными. И пока не находил оптимального решения в аварийной ситуации, не успокаивался. – Выдумывает себе трудности, – говорили о нем сослуживцы, – чтобы потом их мужественно преодолевать. – Многим казалось, что такое насилие над организмом неестественно, неорганично и рано или поздно наступит мгновение, когда нервы не выдержат постоянного перенапряжения, последует срыв. И дай бог, чтобы это случилось на земле, а не в воздухе, где чаще всего и попадает летчик в экстремальные обстоятельства. Однажды срыв произошел, но не у Волкова, а у командира звена, который как раз больше всех разглагольствовал на эту тему. Волков уже командовал эскадрильей и «вывозил» своего подчиненного, чтобы оценить уровень его мастерства при пилотировании самолета по приборам. Экзамен был сдан на «отлично», и самолет взял курс к аэродрому. Они уже были на посадочной прямой, когда корпус истребителя вздрогнул от удара и неукротимая сила вибрации тут же вцепилась зубами в его стальное тело. Самолет трясло так, словно он не летел, а катился по старой булыжной дороге, по мелким ямам и выбоинам. – Ваши действия? – спросил Волков сидящего в первой кабине пилота. – Катапультироваться! – голос летчика был растерянным. – Надо немедленно катапультироваться! – Отставить, – сказал Волков. – Беру управление на себя. Он убрал обороты двигателя до минимума, и вибрация прекратилась. Но самолет начал терять высоту. Волков доложил руководителю полетов о случившемся и попросил разрешения на посадку с прямой. Они вышли на полосу с небольшим смещением, но Волков уже у самой земли успел довернуть машину и благополучно посадить. Позже выяснилось, что произошел обрыв лопатки турбины, – авария серьезная. Но действия Волкова в сложившейся ситуации были академически безукоризненны. Он не совершил ни единой ошибки. Спас самолет и экипаж. Вибрация не прошла бесследно, в катапультных сидениях тоже обнаружились повреждения, и, если бы пришлось аварийно покидать самолет, могли возникнуть осложнения. Командир звена после этого полета написал рапорт о списании его с летной работы. Позже он перевелся в другую часть и стал неплохим штабистом. Для Волкова же это был почти рядовой вылет. Передавая Волкову полк, Чиж сказал: – Пока ты не сказал «полк принял», я с тобой буду разговаривать как с будущим командиром. И дам тебе несколько советов, которых не посмею дать командиру. Волков молчал. Чиж провел его в технический класс, где стояли магнитофоны с записями переговоров летчика и командного пункта, достал из кармана катушку и поставил на аппарат. – Давно хотел послушать вместе с тобой, но как-то не удавалось. Сейчас – самый момент, – и повернул черный носик включателя. Это была фонограмма одного из сложных перехватов, совершенных Волковым. Цель маневрировала, уходила в облака, меняя курс и высоту, но перехватчик неумолимо сокращал расстояние. Голос наведенца звучал невозмутимо-спокойно, почти ласково. А подполковник Волков, зная, что наводит его молодой штурман, всего лишь лейтенант, то и дело позволял себе не то чтобы грубость, но какое-то едва уловимое превосходство: «Что вы мне двадцать раз одно и то же, дайте высоту!» Даже при заходе на посадку: «Я не пойму, кто первый заходит – «один семнадцать» или я?» – хотя руководитель очень четко выдал необходимые команды. – Понравилась музычка? – спросил Чиж, выключая магнитофон. Волков молчал. Он предпочитал молчать в ситуациях, когда необходимо было что-то немедленно осмыслить. – Итак, – сказал Чиж, – совет номер один: в небе нет генералов, есть только летчики. – Это я знаю, – буркнул Волков. – Нет, Ваня, это тот случай, когда знать мало. Надо понять. – Зарубил, Павел Иванович. В кабинете Чиж вынул из стола письмо с пометкой на конверте «командиру части». В письме мать одного из солдат заблаговременно просила, чтобы сына в день рождения отпустили в городской отпуск, в этот день она приедет к нему на побывку. Из Иркутска. – Помню это письмо, – сказал Волков, – вы были в отпуске, я распорядился отпустить солдата. – А его поставили в оцепление, матери объяснили: служба, мол, ничего не поделаешь. Теперь представь, что думает эта женщина о нас с тобой, что рассказывает знакомым в Иркутске, и что думает солдат о своих отцах-командирах. Кстати, отличный солдат, передовик… Молчишь? Это хорошо. Теперь представь, что подобное письмо тебе прислал командующий авиацией округа. Представил?.. Ты бы пять раз проконтролировал, отпустили солдата или не отпустили. А женщина эта, – он потряс конвертом, – между прочим, депутат Верховного Совета. – Кто ж знал, – Волков пожал плечами. – Вот, Иван Дмитрич, в этом и суть твоей ошибки. Для начальства – прогнулся, просто для человека – плевать хотел. Отсюда второй совет. Люди, они и в Африке люди. И у каждого есть право считаться человеком. И у генерала, и у солдата. – Я извинюсь перед этой женщиной, – пообещал Волков. – Извинись, – сказал Чиж. – Только она не депутат. Это я так. – Все равно извинюсь. Солдату отпуск дадим. – Ну и ладно. Напоследок передам тебе завещание моего друга Филимона Качева. Он говорил: слушай всех, а решай сам. Без этого командира нет. Все. Если будешь нуждаться в моих советах – обращайся. Навязываться не буду. Волков почти не обращался к Чижу за советами, но помощи просил частенько: там проконтролировать, здесь поговорить, с кем-то разобраться, куда-то съездить, кому-то написать… Просьб этих со временем становилось меньше, Волков набирался опыта. И Чиж радовался – его полк был в надежных руках. Никто этого не знал, но Чиж всякий раз, когда требовались нестандартные действия командира, в уме моделировал решение, а затем на эту модель проецировал деятельность Волкова. И, как правило, Волков не ошибался. Школа Чижа не прошла для него бесследно. Вот и сегодня. Еще во время докладов Пименова и дежурного синоптика Чиж подумал, что он бы в такой ситуации слетал на доразведку. И если большая часть из того, что здесь говорили, подтверждается, надо перейти на сложный вариант. Таблица готова, предполетную подготовку летчики прошли. – «Медовый», я «полсотни первый», – голос Волкова был бесстрастно-спокойный. – Разведку закончил, иду на точку. Работать будем по сложному варианту… Чиж выдал свое удовлетворение непроизвольным кивком. Дескать, все верно, все понятно. И почувствовал, как подступило облегчение, – он простил бестактность Волкову. Ну, сорвалось у человека, не железный, чай, а допекают его со всех сторон. Конечно, командующему Волков про очки не стал бы говорить. А Чижу посоветовал. Хотя, с другой стороны, еще неизвестно, что лучше – копить в себе напряжение или на ком-нибудь разрядить его. Самолет Волкова уже тяжело катился по бетонке, упруго волоча за собой набитый спрессованным воздухом тормозной парашют. Чиж спустился на балконную площадку стартового командного пункта. Здесь стоял Новиков, облокотившись на планку перил. Пахло сухой пылью, хотя ветра почти не было, полосатый «колдун» над домиком метеорологов висел безжизненной тряпицей, словно все в этом мире вдруг притормозило свой бег, замерло. Гул турбин на стоянке воспринимался обособленно, как вычлененный самостоятельный мир, существующий в ином измерении. И самолет Волкова, подруливающий к стоянке, тоже был из того мира, хотя встречали его и заводили на свое место вполне реальные земные ребята. – Отчего не в духе, Петрович? – спросил Чиж и облокотился на широкий брус перила рядом с Новиковым. – О погоде думаешь? – О ней, – кивнул замполит. – Ни в какие ворота с таким климатом. – Распогодится, – обнял его за плечи Чиж. – Тучи приходят и уходят… – Хоть бы вы ему сказали… для его же пользы, – Новиков нетерпеливо махнул рукой, – для общей пользы, для пользы дела! – Трудно ему, Петрович. – Вот-вот… И вы оправдываете. – Ему действительно трудно. – Значит, можно хамить, голос повышать, портить всем настроение… Почему вы ему все это прощаете? – Он командир, Петрович, – улыбнулся Чиж и подмигнул Новикову. Немного помолчав, добавил: – Волков из тех, кто умеет в своих ошибках разбираться. Это, сам знаешь, надежнее, чем тебе укажут со стороны. – Как бы не опоздать с этим разбором… Пойду, надо перед полетами потолковать. Сложняк идет. Оба посмотрели в небо. Оно еще было светлым, но кисея, поглотившая голубизну, стала гуще и грязнее. – Петрович, – голос у Чижа вдруг охрип, и он легонько прокашлялся. – Только не юли. Может, мне в самом деле не лететь с вами? Новиков насупился. – Север не Сочи, – буркнул он таким тоном, что подразумевалось только одно продолжение: туда немного охотников. Чиж улыбнулся, хотя улыбка эта далась ему не просто. – Я не о том. Не пора ли на дворовый козлодром? Новиков с обидой покачал головой, неизвестно с чем соглашаясь. – Павел Иванович… Женщины войну объявили. Знают, земля круглая, а туда же: на край света не поедем… – Он глубоко вздохнул. – Алина моя. Наездилась, знаете, вдоль и поперек. Каждое новое мое назначение было ей костью в горле, но ни разу даже не заикнулась. Только в мечтах видела: живем в большом городе и она работает в школе. Молчала и ехала. А тут до слез взбунтовалась. Ревет белугой, будто на этом жизнь кончается. Один раз, говорит, ты мог бы поступиться своими интересами ради меня. Один раз! Я, дескать, как и ты, имею диплом, на меня государство деньги затратило, учило, а отдача? Могу я, наконец, как все люди жить, работать, воспитывать сына? Что ей скажешь? – Ее можно понять. – Вот-вот… А вы? Как же вы, с вашим опытом, с вашим умением учить людей… – Чему я их теперь научу, Петрович, – в голосе Чижа звучала боль. Он сам почувствовал это, устыдился, что вот так обнаженно показал открытую рану, и попытался прикрыть ее юмором: – Вон на каких крокодилах прилетели, подходить страшно… – Павел Иванович, – перебил Новиков, – вы другому учите. – Он улыбнулся. – Знаете, как наших ребят называют? Чижатами. Внизу по бетонной дорожке размашисто и уверенно шел Волков, отдавая на ходу распоряжения своему заместителю. В одной руке у него были перчатки, в другой – наколенный планшет. – Чижатами, говоришь? – спросил Чиж. – Не загибай, Петрович. Давно уж волчатами стали… Иди. Он проводил Новикова к выходу, а сам повернул на вышку. Металлические ступени лестницы отозвались на его шаги приветливым гулом. Дежурная смена встретила его улыбкой. Помощник облегченно встал с места руководителя, дежурный штурман азартно потер руки, Юлька только глазами вспыхнула, синоптик с готовностью положил руку на телефонную трубку. Для них он был не только начальником – живой историей полка. Новое пополнение начинает свою службу «крещением» на вечере Боевой славы, где Чиж – главная фигура. Главнее его был разве что Филимон Качев, который начал службу в полку со дня его формирования. Здесь каждый солдат знает его портрет, знает, что он летал с Чижом в одной паре… Стартовое время, когда в полном соответствии с плановой таблицей начиналась работа, Чиж ценил особо, ибо в эти часы время и пространство становились осязаемо материальны. Замысловатые значки в строчках таблицы оживали, обретали голос и характер, требовали к себе индивидуального внимания. – «Полсотни шестой» на приеме. – «Полсотни шестому» запуск. Доразведка не внесла новых корректив в план летного дня. Работа пошла по сложному варианту, то есть начали летать в первую очередь те летчики, которым был необходим налет в облаках, под шторкой, у кого не хватало для повышения классности посадок при минимуме – кому нужны были сложные погодные условия. – «Полсотни шестой», подрулить… – Разрешаю подрулить «полсотни шестому». Самолет Муравко, хищно вытянув акулью голову, побежал к старту. Летчик покачал у лица растопыренной пятерней. На фоне молочно-белого шлема этот жест нельзя было не заметить. Это традиционный жест. Летчик как бы говорил: у меня все нормально, я спокоен. Летчик как бы обещал: все будет хорошо, скоро увидимся снова. Кто не летал, не знает, что прощание на тридцать минут – тоже прощание. Дело не только в минутах. Полчаса пешком и полчаса в сверхзвуковом истребителе совершенно несопоставимые временные величины. Это объяснить трудно. Минуты, проведенные за звуковым барьером, имеют иное смысловое наполнение, они сопоставимы с обычными минутами лишь по длине, по объему они не знают аналогов. Каждый полет – это новые впечатления, иные режимы, иные покрытые расстояния, каждая секунда множится на километры, интегрируется с пережитыми чувствами и остается в ощущениях летчика единицей, которую пока еще никто не измерил и не придумал ей названия. Нет для нее системы измерения. И если очень грубо перевести тридцать минут полетного времени на обычное, то по среднему ощущению это будет около суток. – «Полсотни шестой», на взлет! – «Полсотни шестому» разрешаю на взлет. Самолет Муравко уже несется на форсажном режиме к той черте, где колеса его неуловимо оторвутся от земли и многотонный аппарат скользнет над землей в стремительном полете. Воздух раскаленно вибрирует в такт огненным долькам разрубленного на кусочки форсажного языка пламени. Тонко повизгивают окна на стартовом командном пункте. – «Полсотни шестой», номер зоны. – Вам зона четыре, «полсотни шестой». Юля не отрываясь следит за взлетом самолета Муравко, и, как только его огонек поглотила серая паутина, она взглянула на Чижа. И чуточку смутилась, как это с ней бывало в детстве, когда в школьном дневнике появлялась красная запись о плохом поведении и Чиж эту запись начинал читать. «А что, – подумал Чиж, – не так все и плохо… Вон как Петрович набросился. Значит, Чиж еще нужен здесь. Набросился от души, не для вида». Он улыбнулся своим мыслям и подмигнул Юле. Она растерянно отвернулась. Значит, парень этот ей по душе. «С Волковым надо тоже объясниться, – вернулся Чиж к наболевшему. – Эти намеки на здоровье, на очки, они неспроста… А может, мне, как той голодной куме… Надо при случае поговорить. Лучше всего в домашней обстановке». Работа набирала ритм, и Чиж полностью погрузился в летную обстановку. Одни просили запуск, другие выруливали, третьи сообщали о прибытии в зону, о заходе на посадку. Бросая взгляд то на планшет, то и плановую таблицу, Чиж зримо представлял, где и что делает сейчас каждый самолет. – «Полсотни шестой»… Захват… Пуск… – Понял. Выходите вправо на курс девяносто. Доложите остаток топлива. – Остаток большой, схожу в зону. – Снижайтесь до десяти, работу в зоне разрешаю. К аэродрому все плотнее подступала облачность. Синоптик получал данные и все подрисовывал и подрисовывал на карте линии изобар. Ядро циклона зримо вытягивалось в пузатенький графинчик. Горло этого графинчика разбухало, подбираясь к посадочному курсу. Давление падало прямо на глазах. На запросы синоптика запасные аэродромы отвечали обеспокоенно: через двадцать – тридцать минут закрываемся. Чиж попросил на связь командира. – Надо полеты прекращать. – Вы что, Павел Иванович? Мы этот сложняк ждали как манну небесную. – Иван Дмитрич, надо принимать решение. Есть риск. – Полеты не будем прекращать. – Вас понял. Чиж положил трубку. Может, и в самом деле старость подступает? Осторожность, перестраховка – первые признаки. Чиж не любил хитрить с самим собою, хотелось ему знать о себе правду, а самочувствие – не объективный показатель, и он искал такие критерии, от которых не отвертеться. Все старики чрезмерную осторожность оправдывают опытом. Опыт и ему подсказывал: идет не просто сложняк, идет фронт с сюрпризами. И лучше в таком случае переждать. Но Волков торопится. И его можно понять. Он хочет закалить летчиков здесь, чтобы сюрпризы Севера они приняли мужественно и стойко. И чем больше таких сложняков пройдет через эти широты, тем лучше. – Павел Иванович, – дежурный синоптик протянул Чижу трубку. – Вас. – Анализ последних данных показывает, что циклон через пятнадцать – двадцать минут пересечет эпицентром наш аэродром… Чиж прикинул – если Муравко сейчас прервет задание, еще успеет сесть. – «Шестьсот двадцать пятый», взлет? – «Шестьсот двадцать пятому» запрещаю взлет.«Пятьсот седьмому» подруливание прекратить. И сразу звякнул телефон, помощник протянул трубку Чижу: – Командир. – Павел Иванович, я же сказал – будем летать! Вы что, не поняли? – Волков был раздражен. – Нельзя летать, Иван Дмитриевич, – упрямо сказал Чиж. – Опасно. – Я сейчас приду. Без меня никаких команд! – и положил трубку. Чиж опять прикинул. В воздухе три самолета. Два только что взлетели, эти вне опасности, их можно на запасном посадить. Муравко до запасного уже не хватит горючего. Время работало против него. Ветер ворвался на аэродром сразу, будто стоял за воротами и ждал, когда откроют запоры, а уж распахнуть их он и сам сумел. Да так лихо, что влетел с пылью и сорванными листьями, с посвистом и устрашающим гулом. Волков двумя руками схватил фуражку и, низко наклонив плечо, словно рассекая упругую волну, подбежал к домику с вышкой. Дверь за ним закрылась с пушечным гулом. – Этих двоих, – его палец поелозил по строчкам плановой таблицы, – предупредите, если не пронесет эту муру, будут садиться на запасном. Запросите Дизельный. «Полсотни шестому» – на точку. Чиж взглянул на хронометр. Семь минут потеряно. – «Полсотни шестой», работу в зоне прекратить. Выходите на точку с курсом сто двадцать. – Понял, выполняю. – Высота, «полсотни шестой»? – Двенадцать с половиной. – Понял. Снижайтесь до шести… До точки девяносто. Режим. Выходите на посадочный. Удаление тридцать пять. – Понял, выполняю. – Видимость ухудшилась, включаю светооборудование. – Понял… На посадочном, режим до двух. Иду в облаках. По стеклам вышки ударили первые капли. Крупные, тяжелые, как из свинца. Следы на стекле – как рваные воронки на заснеженном поле. Сколько таких полей повидал Чиж из кабины истребителя во время войны? От порыва ветра пугливо скрипнули стропила СКП, угрожающе заиграла жесть крыши. И тут же огромная невидимая рука размашисто сыпанула горсть ледяных шариков. Они с треском кололись о бетон, разлетаясь сверкающими осколками. – Запросите остаток топлива. – Скулы Волкова побелели, но голос был спокойным. Муравко доложил. И стало ясно, что у него остался один вариант – садиться дома. До запасного уже не дотянуть. Те семь минут, которые были потеряны в ожидании Волкова, могли избавить сейчас Муравко от риска – он вполне успевал до Дизельного, но они уже канули и думать надо о другом – как обеспечить безопасную посадку. – Приведите в готовность все аварийно-спасательные средства, – сказал Чиж своему помощнику. Волков только еле заметно кивнул. Видимо, Чиж опередил на секунду его распоряжение. Муравко уже был на удалении пятнадцати километров, и Чиж представил себя в кабине самолета. Сейчас истребитель идет, как в дыму, только вздрагивает от ударов плотных образований. Лобовое стекло затянуто водяной пленкой. Сплошная муть перед глазами. – «Полсотни шестой», пилотируйте по приборам до ближнего… На курсе. Удаление двенадцать, на глиссаде. – Понял… – «Полсотни шестой», влево пять. – Выполняю. – Удаление десять. – Понял. – Высота? – Пятьсот. – Снижайтесь. – Понял. – «Полсотни шестой», горизонт, удаление девять, с этим курсом. – Понял. – «Полсотни шестой», удаление семь, левее двести, на глиссаде… – Понял. – «Полсотни шестой», подходите к дальнему, проверьте шасси, закрылки, удаление четыре… Левее сто. – Дальний, в облаках. – На глиссаде. – Понял. – Удаление два, левее пятьдесят. – Понял. – «Полсотни шестой», на курсе! – Ближний, полосы не вижу! – Уходите на второй круг! – наверное, чуть поспешнее, чем требовалось, приказал Чиж. За стеклами СКП потемнело, как в зимний вечер. Уже трудно было разобрать, где небо, где земля, космы водяной пыли раскачивались из стороны в сторону, закручивались воронками, неслись в сумасшедшей погоне. Все понимали – это надолго и при вторичном заходе Муравко все повторится. Если не станет еще хуже. Нагретая июньским теплом земля начала парить и окутываться туманом. Беда кружила рядом, крыло в крыло с мечущимся истребителем. Здесь не то что растерянность, любая оплошность могла стать непоправимой. Волков набыченно смотрел на затянутую водяной пылью взлетно-посадочную полосу. Она и с вышки просматривалась с трудом. А как оттуда, с высоты, когда сверху вниз пробиваешь эту кашу? Муравко наддал оборотов, и над СКП, подобно весенней грозе, прокатился грохот. Только по звуку и можно было догадаться, куда его понесло. Нужно было принимать безотлагательное решение. Чиж его уже смоделировал, но подсказывать Волкову не спешил. Уж коль он здесь, это право принадлежит ему. Но Волков молчал, и напряжение росло. Наблюдатель и планшетист изображали сверхзанятость, хотя делать им сейчас было нечего, Юля теребила носовой платок и кусала губы. Дежурный штурман, как и Чиж, смотрел на Волкова. Он взял микрофон и сказал: – «Полсотни шестой», я «полсотни первый». Разрешаю уход в зону для катапультирования. Доложите решение. Эфир безразлично потрескивал. Чиж опять представил в кабине себя. Услышав эти слова, он бы улыбнулся и помолчал, делая вид, что обдумывает обстановку. Ответь сразу, и расценят как поспешность в решении. А решение – давно готово. Какой нормальный летчик бросит исправный самолет? Смешно. – Буду садиться, – сказал Муравко. Чиж облегченно вытер рукавом лоб и взял микрофон. – Все взвесил? – Буду садиться, – упрямо доложил Муравко. – Понял, «полсотни шестой», – и, повернувшись к Волкову, сказал: – Я сам, Иван Дмитрич. – Хорошо, – спокойно согласился Волков, но скрыть волнения не смог. – Надо же что-то сделать, хоть что-нибудь! – Надо. – Чиж снял фуражку и повесил на колпак настольной лампы. И тут же упрекнул себя: как мог забыть? – Включить прожекторы и развернуть по курсу, навстречу самолету, – распорядился он. – А что, – Волков встрепенулся, – это уже кое-что. – Лучше, чем ничего, – сказал дежурный штурман. – Такой светлячок – над ближним уже будет заметен. Есть за что глазу зацепиться. Муравко тем временем снова выходил на посадочный курс. Град перестал, но дождь стал мельче и сеялся по летному полю волнами, еще больше снижая видимость. Чиж связался с двумя истребителями, ожидавшими в зоне, выяснил, какой остаток топлива, и с облегчением переключился на Муравко. Если через полчаса погода не улучшится, те двое успеют сесть у соседей. У Муравко же после этого захода топлива останется максимум на пять минут. – Внимание на РСП… – Слушаю, Павел Иванович, – мгновенно откликнулся Большов. – Будьте внимательны, все сейчас зависит от вас. – Понял. Скрипнула дверь, на СКП пришел Новиков. Зыркнул на планшет, таблицу, посмотрел на секундомеры, все понял и отошел в сторону. – Расчетный выполнил, дайте прибой… – На посадочном, удаление пятнадцать, прибой триста. – Дальний… В облаках. – На глиссаде. – Ближний… Вижу свет! – На глиссаде. – Шасси выпущены! – неожиданно громко выкрикнул солдат-наблюдатель. И все облегченно улыбнулись. Вынырнувший из мутной паутины самолет шел на полосу с небольшим перелетом, но это ему уже ничем не угрожало. Даже на мокрой полосе Муравко сумеет погасить скорость. – Катапультироваться, – сказал Чиж, ни к кому не обращаясь, – это и дурак сумеет. Самолет Муравко еще бежал по рулежке, как дождь вдруг схлынул. Начало быстро светать, ветер обмяк и уже не так упруго ломился в стекла СКП. Синоптик доложил, что фронт осадков отходит, облачность поднимается и нижний край по прибору – двести метров. – Идите, други, – сказал почти ласково Чиж, – не мешайте мне работать. – Ему хотелось прилечь, тягучая боль сверлила плечо, отдавала в локоть и даже ладонь. Когда Волков и Новиков молча вышли, он попытался определить источник неприятных ощущений, но, будучи неискушенным в делах медицинских, объяснил себе причину боли элементарно: застрявший в левой лопатке осколочек каким-то образом шевельнулся и задел плечевой нерв. Осколочек этот ему предлагали удалить еще сразу после ранения. Но был апрель сорок пятого года, запах близкой победы кружил голову и встретить ее на госпитальной койке – более глупого положения боевой летчик представить себе не мог. Осколочек прижился, врос в кость и все эти годы ничем не беспокоил Чижа. Даже врачи были убеждены, что от него никакой опасности, а вот, поди же, проснулся, вредить начал. Можно бы побыть сейчас на воздухе, но отработавшие в зоне пилоты уже запрашивали разрешения идти на точку, и Чиж, расслабленно опустив плечо, взял правой рукой микрофон. «Чиж с перебитым крылом», – пошутил он над собой. Ветер совсем ослаб, и мелкий дождик сыпался, казалось, лишь по инерции. Вся толчея небесная отошла на юго-восток, напоминая промчавшийся через летное поле неуправляемый табун диких животных: чуть приотставшие задние ряды сейчас, резвясь, догоняли стадо, подталкивали несущихся впереди. По каким признакам Юля угадала, что на вышку поднимается Муравко, Чиж так и не понял. Вопреки правилам, она вдруг оставила свой пост и быстро выскочила за дверь. В воздухе к этому времени уже никого не было и Чиж, еще не зная причины, почему Юля сорвалась с места, вышел следом. – Ну что ты на меня смотришь как на привидение? – донесся с балкона голос Муравко. – А ты не понимаешь? – спросила Юля, готовая расплакаться. – Вот уж не думал, что из-за меня кто-то переживает, – засмеялся Муравко, но Юля зло перебила его: – Было бы из-за кого! Отец до сих пор очухаться не может, а ты… – Она увидела спускающегося Чижа и, повернувшись к нему, уже сквозь слезы бросила: – Развели тут хулиганов воздушных! По металлическим ступеням мелко-мелко застучали каблуки ее туфель. Чиж обнял Муравко, похлопал по спине. – Набросилась, как тигрица, – Муравко еще чувствовал себя растерянным. – Ты молодцом был, спасибо. Вбежал, как ветер, Руслан. – Как ты сел, нулевая видимость? – Сам знаешь, как в такую погоду садиться. Глядишь – нет земли… И вдруг – полон рот земли. Чиж прикуривал трубку и вдруг закашлялся. Ему хотелось засмеяться, но почему-то поперхнулся. – Хочешь знать, что я о тебе думаю? – Руслан расстегнул на комбинезоне Муравко молнию. – Хочу, – Муравко отцепил руки Руслана от замка и застегнул молнию. – Это идиотизм! Малейшая неточность – и нет ни самолета, ни летчика. Самолетов можно тысячи наделать. А жизнь не повторишь. Каждый человек уникален. Мог катапультироваться. – Значит, не мог, – устало возразил Муравко. – Понимаешь? – Понимаю… За подобные «подвиги» с летчиков надо штаны снимать, а не ценными подарками награждать. Развенчивать надо такое фанфаронство, а мы на щит подымаем. Как же – проявление мужества, выдержки, мастерства! Юля права: хулиганство это воздушное! – Салага ты… Бросить исправную машину! Велосипед разбить жалко, а тут самолет. Да какой! – Если бы мы бросали в бою каждый подбитый самолет, на чем бы воевали? – вмешался в разговор Чиж. – Возвращались порой как в песне: на честном слове и на одном крыле. – Ну да! – вспыхнул Руслан. – Латали дыры и снова в бой. Это мы слыхали, Павел Иванович. Но теперь будет иная война. Если будет. На одном крыле не полетишь. – Это мы тоже слыхали, – вдруг обозлился Чиж. – Был у меня такой философ. Лампочка мигнула, он за катапульту: «Пожар!» А самолет, умница, сам приземлился в поле. Обшивку поправили и через неделю полетел. – Значит, по-вашему, я – трус? – Салага ты, – улыбнулся Муравко. – И зря ушел из морской авиации. – Чтоб построить нам этот самолет, – уже ласково, как несмышленыша, обнял Чиж Руслана, – наши люди терпят разбитые дороги, мучаются от недостатка детских садов и гостиниц, под открытым небом держат трактора, экономят в большом и малом… Он имел право, – Чиж кивнул на Муравко, – но не воспользовался им. Оценил свои силы и спас тысячи народных рублей. Способный ты парень, а в голове ералаш. Волков прав, что отстранил тебя сегодня от полетов. Чиж почувствовал, как осколочек в лопатке шевельнулся и уколол уже не плечо, а что-то внутри. Затаив дыхание он перетерпел остроту боли и тихонько, чтобы не побеспокоить этот чертов металл, стал подыматься наверх. Облачность уплотнилась, приобрела четкие очертания. Полосатый «колдун» на мачте обвис. К стоянке двинулись летчики. Еще несколько минут, и работа и небе загудит полным ходом. 9 Муравко садился в автобус последним, и Юля больше всего боялась, что кто-то из летчиков, стоящих в проходе, займет пустующее рядом с нею место. Почему-то чаще всего возле нее пристраивались молодые женатики. Искушенные и любви и противоречиях семейной жизни, они держались с нею независимо-раскованно, откровенно высказывали комплименты, давали очень уж практические советы, от которых Юлю порой бросало в жар. Слушала она их всегда с улыбкой, ее так и подмывало сказать: «Да не нужны мне ваши советы! Я еще в седьмом классе знала, какая будет у меня семья!» Когда она вспоминала, насколько серьезно тогда относилась к своему предстоящему замужеству, как тщательно, до мельчайших деталей разрабатывала принципы взаимоотношений с будущим супругом, ей сразу становилось весело. В основу всех основ она ставила взаимную любовь. Без этого условия ни о какой гармонии даже думать нельзя. Как некоторые могут жить без любви под одной крышей, Юля не понимала, считала такой союз аморальным, лживым, предательским. Во-вторых – полное доверие и откровенность. Даже маленькая ложь, даже ложь во спасение – это такая же опасная трещина для счастья, как необнаруженная неисправность в двигателе самолета. Третье – единый взгляд на воспитание детей, которых в семье будет как минимум трое. Сама Юля с детства страдала и злилась на родителей за то, что у нее нет ни брата, ни сестры. Четвертое – чувство юмора сохранять в семье даже в самых трудных ситуациях. Пятым, шестым и дальнейшими пунктами шли принципы создания быта, отдыха, отношения к учебе, труду и так далее. Юля незыблемо верила, что достаточно ее избраннику не принять хотя бы одного из условий ее модели, и союзу не быть. Все у нее было продумано, взвешено, решено. За исключением малости: она никак не могла остановить своего выбора на каком-то конкретном человеке. В школе дружила со многими ребятами, участвовала в их рискованных затеях, когда во время каникул совершался заплыв по озерам Карельского перешейка, ездила в Карпаты, где всем классом ходили на вершину Говерлы, даже пробовала овладеть кроссовым мотоциклом. Тогда впервые она подумала о своем тренере как о возможном будущем муже. Геннадий Ильяшенко привлекал ее своей недюжинной силой, которую он никому не демонстрировал. Но когда Юля однажды упала и повредила ногу, он подхватил ее на руки и почти километр нес, как пушинку, до медпункта. Был он и смелым – на трассе отыгрывал драгоценные секунды в самых рискованных ситуациях. Юлю поразило, когда он накануне соревнований отдал сопернику единственную запасную цепь для мотоцикла, хотя знал, что на его машине цепь не очень надежная, что и подтвердилось на трассе. Он был красивым – возле него всегда вертелись девочки из легкоатлетической секции, тренировки которой проходили возле трассы мотоциклистов. Юля тогда считала, что Гена ей мог подойти, если бы не был глуп, – влюбился в длинноногую Зинку, которая вила из него веревки, и никого вокруг не замечал. Что он нашел хорошего в ней, Юля понять не могла. Два года спустя она встретила его в Ленинграде, спросила, как жизнь. Юле показалось, что счастья в его глазах не было, и беззлобно подумала: так тебе, дураку, и надо. Сейчас за ней настойчиво ухаживает студент-заочник Института авиационного приборостроения. Он в одной группе с Юлей, и все думают, что у них любовь. Но Юля к этому парню абсолютно равнодушна, хотя чувствует себя с ним почти хорошо. Он удачливый изобретатель, умеет доставать билеты в БДТ и театр Комиссаржевской, ездит только на такси. Всякий раз, когда они встречаются на сессии, он напоминает, что думает о Юле и что предложит ей руку и сердце, когда они закончат институт. Пока, мол, у него нет материальных возможностей для создания семьи. Ближе всех подружился с Юлей сержант Голубков, механик по вооружению. Это он научил Юлю плести венки из полевых цветов, готовить различные отвары из трав, собирать грибы и мариновать их по совершенно секретному рецепту, проверенному и усовершенствованному несколькими поколениями Голубковых. Юлю тронуло отношение Голубкова к своей младшей сестре. Немудреное денежное содержание сержанта он ежемесячно посылал ей – девочка училась в техникуме без стипендии. Получив краткосрочный отпуск, он сначала поехал к сестре, потом уже домой. За неделю до увольнения в запас Голубков пришел к Юле домой с огромным букетом полевых цветов и попросил, чтобы она стала его женой. – Голубчик, – сказала ему Юля с сочувствием, – ведь мы с тобой только друзья. Нужна любовь. – А может, это и есть любовь? – спокойно возразил он. – Мы же не знаем. Аргумент Голубкова сразил Юлю наповал. Действительно, откуда она знает, какая любовь? Если двое относятся друг к другу с уважением, понимают друг друга, вместе им очень хорошо – может, это и есть любовь? С чего она взяла, что любовь совсем не такая? Юля заколебалась. Вечером, укладываясь спать, она увидела себя раздетой в зеркале. С улыбкой подумала: а могла бы она вот в таком виде предстать перед Юрой Голубковым? И засмеялась – никогда в жизни! Этот ответ и подвел черту всем ее колебаниям. Юля догадывается, что совсем не случайно к ней присматривается их сосед – доктор Олег Булатов. Она уже не раз замечала, как он, чуть сдвинув штору в окне, наблюдает за подступами к дому, и стоит появиться Юле одной, как он тоже оказывается у входа, чтобы сказать: «А, Юленька, добрый день», заговорить, справиться о здоровье отца. Он умеет как-то очень естественно протянуть конфету или апельсин, озабоченно сказав при этом, что по его мнению, он должен быть вкусным, но, чтобы убедиться в этом окончательно, надо попробовать. И Юля, ничуть не стесняясь, тут же пробует и по-деловому успокаивает Булатова, что апельсин в самом деле вполне съедобный. Иногда он забегает попросить в долг заварки для чая или кусочек хлеба. Чаще всего это случается поздним вечером, когда Булатов возвращается из госпиталя после какой-нибудь экстренной операции. Юля видит – отец к нему относится с почтением. Они встречаются в госпитале и скрывают от Юли свои секреты, хотя она отлично знает, что все их секреты – это больное сердце Чижа. Он еще надеется, что у него что-то там восстановится и он будет летать. Ох, папа, папа… Иногда Юле забредали в голову мерзкие практичные мыслишки. Выйдет она замуж за Булатова, у него квартира рядом, человек он видный, врач хороший, тут отец рядом, под его наблюдением… Чем плохо? Но Юля, хотя и впускала такие мысли, тут же их высмеивала, словно примеряла не к себе, а к кому-то другому. Когда к ней пришел Муравко и позвал на вечер в «медицинскую компанию», Юля сразу почуяла, откуда дует ветер. Но то, что на этом вечере будет и Коля, меняло дело. Что с нею случилось и случилось ли что-нибудь, Юля еще не могла вразумительно объяснить даже самой себе. Хронометражисткой на СКП она, конечно же, стала не случайно. Отец в то время командовал полком. И Юле очень хотелось посмотреть, как летает лейтенант по фамилии Муравко. Он приходил к ним в дом за книгами, от которых гнулись полки в комнате Чижа. Книги неинтересные, но их всегда брали и охотно читали летчики. Там у него есть все – от «Фарманов» до «Восходов». – А что вы чувствуете, когда самолет преодолевает звуковой барьер? – спросила однажды Юля Муравко. – Ничего, – сказал он. – А с парашютом прыгать не страшно? – Страшно, – ответил он. – Почему же вы прыгаете? – Надо. Юля ожидала других ответов. Молодые летчики любили хвастать, она это уже не раз отмечала. А этот отвечал нестандартно. Юля бросила еще один пробный шар: – Интересно читать эти книги? – Да нет. – Зачем же читаете? – Командир советует. Ответы снова понравились Юле. В следующий раз она спросила с подвохом: – Вы хороший летчик? – Конечно, – сказал он. – Значит, вы тоже хвастун. А я думала… – разочарованно сказала Юля. – Я не хвастун, – возразил Муравко, – приходите на аэродром, увидите. И Юля попросила отца взять ее на полеты. Она видела, как Муравко, одетый в противоперегрузочный костюм, взбирался по стремянке в кабину самолета, как, заметив ее, улыбнулся и подмигнул, как потом, закрыв прозрачный колпак, вдруг отдалился и уже на земле стал недосягаемым для простых смертных, неземным, существом из другого мира. Юля невольно прониклась к нему возвышенным уважением. Поднявшись с отцом на СКП, она не только видела, как взлетал Муравко, но и слышала его голос, не разбирая половины слов. Было поразительно, как в этих скомканных пережеванных звуках можно уловить какой-то смысл. Но руководитель полетов и его помощники отлично все понимали. До боли в глазах Юля следила за красной точкой форсажного пламени, пока в динамике не прозвучал его голос: «Форсаж выключил». И красная точка пропала. Юля представила, как ему сейчас одиноко в голубом небе, и прониклась сочувствием. Потом она вслушивалась в диалог земли и неба, и, хотя ничего не понимала, ей было здесь интересно. На вышке стартового командного пункта все делалось чрезвычайно скупо и всерьез. Никаких лишних слов, жестов, все по делу. Хронометраж вела светленькая, как одуванчик, Валя Кузнецова, жена одного техника. Она работала последние месяцы, собиралась в декретный отпуск. – Как здесь интересно, – сказала ей Юля. – Хочешь, научу? – предложила Валя. – Я скоро уволюсь, будешь вместо меня. Хочешь? Юля подумала, что тогда она будет иметь возможность почти каждый день видеть Колю Муравко, слышать хоть и искаженный эфиром, но все-таки его голос, и согласилась. Чиж не стал возражать, и Юля подрядилась в ученицы к Вале Кузнецовой. Наука оказалась не ахти какой сложной, и Юля вскоре стала самостоятельно подменять штатную хронометражистку. Когда Кузнецова уволилась, Юля подписала соглашение и стала армейским человеком. Форма ей шла. И она это чувствовала. Четвертый год она выполняет свои нехитрые обязанности, и не было такого дня, чтобы шла на службу не как на праздник. – Заболела авиацией, – говорили про нее летчики. – В меня, – с гордостью подмигивал Чиж. За минувшие годы Юля всякого навидалась. На ее глазах загорелся самолет, который летчик пытался посадить с остановившимся двигателем. Загорелся мгновенно, как яркий факел. Самолет был из другой части, садился аварийно, летчика Юля в глаза не видела, но переживала она эту катастрофу трудно. Болела, бредила по ночам. И когда сегодня Муравко заходил на посадку почти при нулевой видимости, сердце у нее ушло в пятки. Она мгновенно вспомнила и тревожный голос незнакомого летчика, и несущиеся через поле пожарные и санитарные машины, и траур на лицах, вспомнила абсолютно все, что оставило незарастающий в памяти след. Как она желала ему удачи! Какие неожиданные слова вдруг рождались в Юлиной душе, когда она молила судьбу быть чуткой и доброй, один-единственный в жизни раз не отказать ей в просьбе и сделать все так, чтобы он остался цел и невредим. Она молила небо открыть ему хоть самое малюсенькое окошечко, заклинала железный самолет быть верным и надежным. «Он же тебя спасает несмотря ни на что, так будь и ты ему другом, не подведи в эту роковую минуту». Но больше всего она просила самого летчика: «Ты же у меня умница, ас, лучше тебя никто не летает на свете. Если тебе хоть капельку жалко меня, останься живым. Собери всю свою волю, все умение. Ты ведь все можешь, Коленька. Мне ничего от тебя не надо, только останься живым, и я буду всю свою оставшуюся жизнь благодарить судьбу. Сделай мне такой подарок, вернись целехоньким, и я тебе за это сделаю все, что ты захочешь!..» Она не видела, когда он подошел к СКП после посадки, но почувствовала, что идет он. И бросилась, чтобы обнять его, расцеловать, а когда увидела, словно все в ней отнялось… Потом медленно возвращалась реальность: все хорошо, ничего не случилось, все живы и целы. Даже вспомнилась та фраза его: «Я не хвастун, приходите на аэродром, увидите». Сегодня он доказал, что действительно хороший летчик. Сколько величия было в его спокойствии, какое мастерство продемонстрировал! Можно задирать нос вон на какую высоту! А он даже при посадке в автобус скромненько стал в хвост стихийно образовавшейся очереди. Сегодня его как именинника могли пропустить вперед, на самое лучшее место. Так нет же, никто даже предложить не догадается. Сквозь запыленное окно автобуса Юля отчетливо видела его лицо, глаза, хмурую складочку у переносицы, устало сомкнутые губы. Войдя в автобус, он улыбнулся Юле, и она, вместо того чтобы обрадоваться и показать на пустующее рядом место, поджала губы и отвернулась. И тут же обозвала себя идиоткой, потому что больше всего хотела и улыбку его видеть, и сидеть с ним рядом. А когда ее желания начали как по щучьему велению исполняться, сдурела и начала что-то изображать из себя. Лютой ненавистью она ненавидела притворщиц и воображал, и вот сама туда же… – Ты все еще сердишься? – услышала она почти у самого уха голос Муравко. – Я же не виноват, что такая погода свалилась… Ты уж прости меня, пожалуйста… Ну, хочешь, на колени стану? – Не хочу, – она уже не сердилась, но строгость на лице сохраняла. – Тогда скажи, чего ты хочешь. Ради одной твоей улыбки я готов на что угодно. – Да? – спросила Юля ехидно. – Да! – ответил он не дрогнув. – Поедете со мной в Ленинград? – спросила она и испугалась. И от волнения покраснела. Даже сама почувствовала жар в лице и представила, как от переносицы посыпались по щекам рыжие, похожие на шляпки старых гвоздей веснушки. – Юля! – с пафосом вскинул руку Муравко. – С тобой я не только в Ленинград, хоть на край света! – Вот завтра и поедем! – Юля, – Муравко перешел на шепот, – а Волков меня отпустит? – Я попрошу его. – А предлог? – Мне нужен носильщик, я буду покупать магнитофон. Муравко разочарованно скривил губы, наморщил лоб. – И только? – спросил он. – Вам этого мало? А кто сказал: «Готов на что угодно»? – Так это ж если будет в награду твоя улыбка, Юленька, – продолжал дурачиться Муравко. – Без этого быть носильщиком почти невыносимо. – Будет улыбка. Муравко протянул руку ладошкой вверх, как ковшик. – Прошу аванс. И Юля улыбнулась. Разве можно с этим Муравко быть серьезным? – А место для меня держала? – Для папы. – Ну, Юля! Что тебе стоило сказать, что для меня? – Ну, хорошо, – согласилась Юля, – для вас. – Для нас? Это кто же еще, кроме меня? Соперников не потерплю! Автобус выехал за ворота, и Муравко умолк. По его лицу пробежала тень каких-то нелегких размышлений, и Юля не стала навязываться с разговорами. Но Муравко вдруг наклонился к ней и тихо сказал: – А не махнуть ли нам в Питер сегодня? – Он смотрел Юле в глаза и продолжал о чем-то думать. – До поезда два часа. В Ленинград приедем около полуночи. Мосты, говорят, разводятся в два. До утра погуляем, потом купим твой маг и домой. Как, принимается? Я ведь ни разу не был в Ленинграде в белые ночи. Чтобы не обнаружить радости, Юля по-детски надула щеки, выдержала взгляд, делая вид, что думает, и наконец изрекла: – Ладно. Согласна. – Готовься. Я договорюсь с командиром и зайду за тобой. А ты с отцом договорись. – Я уже взрослая. – Все равно. Отец, он и в Африке отец. Они, не сговариваясь, обернулись. Чиж сидел на своем однажды выбранном месте – в углу на последнем сиденье – и задумчиво смотрел в окно. От уголков глаз разбегались кривыми лучиками морщинки, иссеченные глубокими линиями щеки запали, усы безвольно обвисли. Тень от густых бровей прикрывала глаза, и они казались печально-потухшими. «Какой он уже старенький у меня», – подумала Юля, переполняясь смешанным чувством нежности и жалости. Она верила, что больше всех на свете с отцом повезло ей. Он был своей дочери другом, когда она только училась ходить, и остался таковым по сей день. Сколько Юля помнит себя, она всегда и во всем доверяла отцу, гордилась им и больше всего боялась огорчить его. Чиж стойко перенес беду и всем говорил, что перехитрил судьбу: в воздух не поднимается, но летает с каждым летчиком, когда руководит полетами. Юля тогда очень переживала и боялась за его здоровье, а он улыбался и успокаивал ее: воздух аэродрома – самый целебный. И действительно, за эти два года Юля ни разу не видела его в дурном расположении духа. Казалось, что сложившимся положением, своей новой работой Чиж удовлетворен стопроцентно. По вечерам частенько брал гитару и пел веселые песни из своей фронтовой юности: «На станции нашей перрон и вокзал, на станции нашей любовь я искал…» И вот – снова потухшие глаза. Это все из-за перевода полка. Он чувствует – Волков в нем не нуждается, и переживает из-за этого больше всего. Надо готовить его к новой жизни. Ведь рано или поздно уходить на пенсию придется. Переедут они в Ленинград, поселятся в маминой квартире на Фонтанке, Юля будет работать в каком-нибудь НИИ, а Чиж… И тут ее мысли споткнулись. Она просто не знала, чем еще может заниматься отец, если у него не будет аэродрома и самолетов. Он свянет и зачахнет от тоски. Да и себя Юля плохо представляла вне аэродрома, без привычного гула самолетов, без общения с этими устало-озабоченными, но всегда полными жизнестойкого оптимизма людьми, без Коли Муравко. Ведь это будет совсем несправедливо – она в Ленинграде, а он у черта на куличках. Соглашение у нее действительно до конца года, но, если отец останется здесь, Юля будет вынуждена остаться с ним. – Павел Иванович! – позвала она и, когда он повернулся, вскинула брови – мол, что задумался? Чиж стеснительно улыбнулся и покачал головой: ничего, все в порядке. «Смотри у меня», – сказала Юля взглядом и тоже улыбнулась. «О нас не беспокойтесь», – подмигнул Чиж. – Мне не нужно звонить Волкову? – спросила она Муравко. – Ни в коем случае, – сказал он. – Когда женщина вмешивается в служебные дела мужчин, это… Уже в автобусе Юля лихорадочно перебирала в памяти свой гардероб – она должна одеться просто и эффектно. Лучше всего шерстяное платье с кожаным пояском, в котором она сдавала зимнюю сессию. С собой взять плащ и теплую мохеровую кофту, ту, что привезла из Голландии мамуля. Но не слишком ли зимний наряд? Июнь – и шерстяное платье? Надо надеть светлую юбку и голубую кофту-батничек, – просто и красиво. Только в юбке этой не сядешь где захочется, малейшая пыль – и сразу видно. Дома, открыв шкаф, Юля увидела потертые джинсы и шлепнула себя ладонью по лбу – ну как же она о них забыла? Это же то что надо! Купленные мамулей в Штатах, с фирменным лейблом «Вранглер». Юля тут же их надела и облегченно вздохнула – одна проблема решена. – За ночь проголодаетесь, – посоветовал Чиж, – возьми с собой перекусить чего-нибудь. Юля заглянула в холодильник, но ничего подходящего не обнаружила. Она взяла сумку и побежала в гастроном. Нервничая из-за того, что всюду длинные очереди, Юля покупала то, за чем не надо было долго стоять: плавленые сырки, фасованное печенье, пепси-колу, конфеты. Она спешила, боясь опоздать к приходу Муравко, шла домой энергично, никого не замечая. И чуть не сбила с ног выросшего на пути человека. – Юля, – сказал он, подхватывая ее под руку. – Так ведь можно упасть и разбиться. А мне придется лечить. – Простите, Олег Викентьевич, – смутилась Юля. – Это было бы ужасно – попасть к вам на больничную койку. Кстати, как завершились дела в тот вечер? Мы так и не дождались вас. – Извините меня, но уйти до утра не удалось, – он погрустнел на секунду, но снова улыбнулся. – Будет жить, сделали все, что могли. Он запросто взял ее под руку, взял крепко и повел в сторону их дома. Почти у самого подъезда, словно передумав, Булатов повернул в сторону детской площадки и предложил присесть на низенькую скамеечку. – Я хочу вам сказать, Юля… – он начал растирать пальцы и сделал паузу, от которой Юле стало не по себе. Она представила продолжение фразы и покраснела. – Я вас прошу – не надо, – она опустила глаза. Булатов снисходительно улыбнулся и положил руки на колени. – Я хочу вам сказать о другом. Это касается отца вашего. Юля насторожилась. – Говорить вам этого не нужно было, но предстоящая передислокация полка заставляет меня искать выход. – Он положил ее руку в свою широкую ладонь, второй накрыл сверху. – Отец ваш, Юля, слишком щедро расходовал свои ресурсы и быстрее, чем это бывает, подошел к критическому рубежу. – Осколок? – Юля вспомнила виденный ею рентгеновский снимок с рваным темным пятнышком. – Другое, Юля. Осколок можно вынуть за несколько минут. Сердце у него износилось. Ему бы не следовало сейчас так резко менять климат. Я пытался его уговорить, но он отшучивается, не принимает моих слов всерьез. – Вы думаете, он меня послушает? – Да нет, не думаю. Но есть другой выход, – Булатов снова начал растирать пальцы. – Если вы останетесь, если не полетите с ними, он без вас… Он любит вас, Юля, и не сможет… Юля хмыкнула и встала. – Он не сможет без самолетов. И на второй день умрет. Я не могу пойти на это, Олег Викентьевич. Жестоко это. Сейчас он больше всего боится, что командир не позовет его с собой. А еще я. Это будет предательством. – Я вас понимаю, – Булатов тоже встал. – Извините, наверное я не должен был говорить вам всего этого, но Павел Иванович мне дорог, и очень хочется, чтобы такие люди как можно дольше оставались с нами… А как это сделать, мы не всегда знаем. Зашли бы вечерком. Мне привезли новые диски – самые последние записи: «Баккара», «Черрони», «Джо Дассен». За жизнь поговорим. А, Юля? – Спасибо вам, Олег, – Юля протянула для прощания руку. – Я побегу. Спасибо. – Всего доброго. Тревога за отца заставила Юлю мобилизоваться, что-то взвесить и переоценить и сделать неожиданный вывод: Булатов преувеличивает опасность, не хочет, чтобы Юля уезжала, и пытается удержать ее таким вот образом. Она, конечно, не склонна обвинять его в нечестности, врач он знающий, но категоричность выводов его замешана на личной заинтересованности. Нет, уважаемый Олег Викентьевич, от Севера мы не откажемся. – Муравко не объявлялся? – спросила она с порога. – Звонил, – сказал Чиж, не отрываясь от телевизора. – Что сказал? – Скоро будет. – Папка, – Юля подошла к Чижу и запустила пальцы в его хоть и поседевшие, но еще довольно густые волосы, – ты меня любишь? – Что ты еще задумала? – Папка, я буду в институте, меня спросят: когда твой отец выступит у нас? Я должна им что-то ответить или нет? – О чем выступать? – сердился Чиж. – Об авиации, естественно. – Можешь сама выступить. – Сама… Что я им скажу? Они хотят о романтике, о подвигах… – О романтике, о подвигах… Видела, какие они выжатые прилетают. Тот же Муравко… Расскажи! И не забудь: за один полет с максимальной нагрузкой летчик теряет в весе, у него меняется химический состав крови, а пульс увеличивается в два раза. Вот это и есть романтика… Он помолчал, улыбнулся Юле. – Возможности авиации растут, а человек, он что? Остается все тем же двуногим существом. Видела мужика на телеге? – Чиж встал, засунул ладони под резинку спортивных брюк. – Он все успевает: по сторонам поглазеть, закурить, подумать, за вожжи подергать. Потому что информации по ходу движения он получает мизер, а времени на ее осмысление и переработку у него больше чем достаточно. Водитель автомобиля уже глядит только вперед. Информации больше, времени на обработку меньше. Улавливаешь? А на современного летчика за одну минуту полета обрушивается такой поток информации – день нужен, чтобы осмыслить, а отпущены мгновения. А небо, сама знаешь, ничего не прощает… Так что за романтику надо платить. Впрочем, как и за все в жизни. Отсюда что ни полет – подвиг. – Что же будет дальше, папка? – Чиж заинтриговал ее. – Самолеты будут усложняться, скорости расти, а человек, как ты говоришь, на пределе. – Возможности человека, дочка, беспредельны. Они только скрыты. Слушая отца, Юля не забывала выглядывать в окно, чтобы не зевнуть, когда явится Муравко. – А как их открывать? Чиж раскурил трубку. – Закрывать мы научились отлично. А как открывать?.. – Понятно, папуля, – она снова выглянула в окно. – Будем считать, что вопрос о скрытых резервах остается открытым. Отец не ответил на шутку, только резко затянулся, и складки на его щеках обозначились еще глубже. «Слишком щедро расходовал свои ресурсы, – вспомнила вдруг Юля слова Булатова, – подошел к критическому рубежу…» Но ведь должны у него быть еще и скрытые резервы. Должны! Их надо только открыть. Но как? – Пап, – Юле показалось, что ее осенило, – а почему бы тебе не написать книгу? О пережитом, о твоих друзьях, о Филимоне Качеве, о самолетах. Ты умеешь интересно рассказывать, твою книгу будут расхватывать… – Ну что ты несешь? Я летчик, а не писатель. – Теперь все пишут, папка, кому не лень. – Только дураки думают, что книгу написать может каждый. Писать, дочка, как и летать – надо долго учиться. А мне уже новое ремесло осваивать некогда. Стар. – Чтоб написать книгу, талант нужен, а не ремесло. А ты у меня самый талантливый. – Ну, если так, – Чиж развел руками, улыбнулся, – придется писать. Только куда мы с тобой гонорар будем девать? Две зарплаты израсходовать не можем. – Израсходуем! Не волнуйся. Купим «Запорожец». Я получу права и буду тебя катать. – А что? – Чижу такой тон разговора пришелся по вкусу. – «Запорожец» – тоже машина. Юля изобразила себя за рулем. – Подъезжаем к маминому институту, распахиваем дверцу: «Садитесь, Ольга Алексеевна!» – В «Запорожец»? – изобразил Чиж на лице ужас. – По Ленинграду? «Уж пристраивайтесь за моей черной «Волгой», если поспеете». Вот такая перспектива у нас с тобой. – Да, – вздохнула Юля и добавила как бы совсем невзначай: – Тогда уж лучше нам на Север. Но отца ей врасплох застать не удалось. Видимо, он давно ждал этого разговора, потому что ответил сразу, вопросом на вопрос: – Чего это мы там не видели? – Полгода ночь, полгода день, – вывернулась Юля. – Разве не здорово? Чиж выколотил трубку в пепельницу, отнес ее в кухню и уже оттуда спросил: – А институт? Диплом? – А что институт? – Да и замуж пора, – рассердился Чиж. Юля весело засмеялась: – Ты чего это, папа? – А что, не прав, что ли? – Чиж продолжал говорить, не высовываясь из кухни, как пулеметчик из укрытия. – Состарился, а дедом так и не стал. Нормально это? Юля еще раз выглянула в окно и прошла на кухню. Ей показалось, что отец снова перешел на серьезный тон, а это ему было совсем ни к чему. – Ну, ты даешь, папка… Чиж и самолеты – это я отлично представляю. А вот Чиж и внуки… – Внуки, они и в Африке внуки… – Это уже была не просто присказка, Юля почувствовала – отец сказал нечто очень важное для них обоих. И она за сегодняшний вечер во второй раз испытала ощущение вдруг найденного выхода. Действительно, Чижу нужны внуки. Или хотя бы один внук. Лучше внучка. Чиж не первый и не последний. Быть дедом – всеобъемлющая должность на земле. Сколько стариков возвращается к жизни благодаря этим маленьким тиранам! В ее фантазии возникла картина: двое карапузов висят на руках Чижа, целуют его щеки, накалываются на усы, визжат, тащат на улицу, и Чиж деловито одевает их в одинаковые костюмчики, и все трое шумно скатываются с лестницы во двор. А Юля с мужем собираются в театр… Тут картинка сломалась. За понятием «муж» расплывалось улыбчивое аморфное пятно, опереточный персонаж в черном фраке. Прямо какое-то наваждение! Ну, Ильяшенко Гена, ну, Юра Голубков, Булатов в конце концов! Но какого черта лезет это чучело гороховое во фраке?.. Бог свидетель, Юля искренне сопротивлялась, в мыслях даже не допуская на дистанцию узнаваемости того, кого больше всего желала видеть рядом с собой; подсознательное суеверие предостерегало: опасно верить преждевременно в то, без чего потом и жизнь покажется не в жизнь, и небо с овчинку. Уж если суждено – постучится. А нет, так к чему фантазировать? А он все равно наплывал и наплывал со своим пронзительным чистым взглядом, улыбчивым носом, густой челкой и голосом, который она готова сколько угодно слушать даже сквозь густо насыщенный помехами эфир. И она впервые отчетливо осознала: влюбилась… И тихо засмеялась своему открытию. А сердце сразу увеличилось, заполнило всю грудь, стало трудно дышать. Влюбилась… Влюбилась… «И что-то открылось», – попыталась она подобрать рифму и опять засмеялась, догадавшись, почему так много написано стихов о любви. «Все потому, что она, как наводнение, – выливается через берега». – Насмешил я тебя? – спросил Чиж. Он неслышно подошел к Юле и стал рядом у окна. Его большая ладонь невесомо коснулась ее головы. – Я тебя очень люблю, папка, – Юля уткнулась лицом в плечо Чижа, – ты у меня самый великий отец. И мы поступим так, как ты скажешь. Мне с тобой везде хорошо. – Ну-ну, – удовлетворенно буркнул Чиж. – Только вот с внуками ничего конкретно обещать не могу, – Юля развела руками, выпятила губу. – Сие не только от меня зависит. Чиж посмотрел на нее и улыбнулся одними глазами – хитро и понимающе. – А вон и Коля твой, – сказал он подчеркнуто буднично. Но в слово «твой» был вложен совсем не будничный смысл. И Юля поняла, что отца ей не провести. Слишком большую и сложную жизнь прожил этот человек, чтобы не заметить, что происходит в душе у дочери. Юля вдруг совсем некстати вспомнила слова Булатова – «слишком щедро расходовал свои ресурсы», – и, понимая их правоту, испугалась уже за себя: как же она останется здесь, если Муравко улетит на Север? В ее жизнь, отмеченную доселе гармонией и внутренним согласием, впервые вторгалась несправедливость. Вторгалась как объективная реальность. И на душе у Юли стало неуютно и тревожно. 10 Волков встретил Муравко непривычно тягучим взглядом. Не выслушав доклада, показал рукой на стул у приставного столика, сам сел у стены там, где обычно во время совещаний садятся его подчиненные. Сел расслабленно, закинув ногу на ногу и положив руки на спинки соседних стульев. – Расскажи, о чем думал, когда шел на посадку, – попросил он. Зазуммерил телефонный комбайн, но Волков даже не посмотрел в ту сторону, словно этот сигнал его не касался. Муравко пожал плечами. – О разном. Боялся ошибиться в режиме. Скорость в этом молоке обманчива. А когда прожекторы врубили, стало веселей. – А насчет катапультирования? – Извините, товарищ командир, но я расценил эту команду как преждевременную. – И правильно расценил, – сказал Волков, улыбнувшись. – В таких ситуациях лучше перестраховаться, чем недостраховаться. В случае реальной необходимости летчику катапультироваться легче, если у него есть приказ командира. Принять такое решение самому не просто. Иногда легче пойти на аварийную посадку, чем покинуть самолет… В какое-то мгновение Муравко действительно об этом подумал. Схватиться за ручку катапульты проще простого. А потом доказывай, что ты не верблюд. Может, никто вслух и не усомнится в необходимости такого шага, но про себя кто-нибудь обязательно подумает: не поторопился ли Муравко? В кулуарных разговорах он еще ни разу не слышал, чтобы о летчике, покинувшем самолет, говорили с одобрением. Нет, не ругали, но и не хвалили. Дескать, хороший парень, но… – А я испугался, – признался вдруг Волков. – Потерять в такой момент новый самолет, да вместе с летчиком, – кошмар! До сих пор тошно, как подумаю. – А я был уверен, товарищ командир. – Ну ладно, это к слову. Действовал правильно. О другом у меня разговор. Снова зазуммерил комбайн, и Волков снова не обратил на него внимания. – Ответ пока не нужен. Так сказать, информация к размышлению, – сказал Волков загадочно и встал. – Не исключена возможность послать тебя в отряд подготовки космонавтов. Есть наметки. Подумай. Все взвесь. Могу сказать тебе одно – сам бы я тебя не послал туда. Летная твоя биография на этом закончится. Там иная работа, иные требования. Повезет – слетаешь в космос… Ну со всеми вытекающими последствиями, – он хлопнул ладонью выше орденских нашивок, – звезда, головокружение от славы и прочие радости. Может не повезти. И лет через пятнадцать уйдешь на пенсию майором, как это случилось с одним моим другом, с глубокой обидой и горьким разочарованием. Подумай. Если есть вопросы… – Когда я должен ответить? – Через неделю, через две. – Ясно. Есть просьба, товарищ командир. Волков недовольно шевельнул щекой. – Разрешите на сутки отлучиться в Ленинград. – Оставь дежурному по части адрес и выпиши отпускной билет. – Есть! Разрешите идти? – Иди, Муравко. Он спустился этажом ниже, оформил отпускной, зашел к дежурному, оставил адрес и телефон знакомого художника и взял курс на общежитие. Слова командира пока еще не пробились в глубокие пласты сознания. Мысль о возможных крутых переменах в его судьбе, дразня и заигрывая, шла рядом. Будто не предложение ему сделали, а как ребенку показали в витрине красивую игрушку: при каких-то условиях может стать твоей. Возможность реально стать космонавтом почему-то смешила Муравко. Чтобы безоглядно поверить в такое, надо быть или предельно наивным, или нахально-дерзким. От наивности Муравко уже благополучно избавился, а вот до нахальной дерзости пока не дорос. Вспомнилось почти забытое… Он уже ходил во второй класс, когда однажды отец ему сказал: «Если ты мне докажешь, что умеешь управлять мотоциклом, я тебе куплю его хоть завтра…» Коля Муравко стал завсегдатаем динамовского мотоклуба. Не отказывался ни от какой работы. Мыл в бензине цепи, чистил от грязи щитки, выносил и сжигал ненужную ветошь, затачивал напильником куски стальных спиц, нарезал метчиком гайки – делал все, что просили. Взамен получал знания устройства мотоцикла и возможность прокатиться по кругу на самой легкой машине. Через три месяца он привел в мотоклуб отца и на пересеченной трассе, которую гонщики оборудовали в овраге рядом со стадионом, продемонстрировал езду на уровне юношеского спортивного разряда. Отец загрустил. «Тебе жалко денег?» – спросил он отца. «Нет, не в деньгах дело. Просто до восемнадцати лет тебе не выдадут документов. Нет у тебя права управлять мотоциклом. Не дорос». Коля доверял отцу во всем, и ему казалось, что синяя птица в его руках. Но вмешалась неучтенная сила, и счастье, в котором он уже не сомневался, утекало сквозь пальцы. «Ты знал об этом?» – спросил он отца. «Знал, но как-то не подумал, что ты всерьез примешь мои слова. А теперь попал в глупое положение». Полученный в детстве урок приучил Муравко к сдержанности в эмоциях и вместе с тем избавил от многих разочарований. Он как-то мысленно примерил скафандр космонавта. Не к себе, к своей фамилии. Представил экран телевизора со стартующей ракетой и голос диктора: «…космическим кораблем «Союз-50» управляет летчик-космонавт майор Муравко». И не смог поверить, что такие слова прозвучат когда-нибудь в эфире. Все это было похоже на фантастику. И космический корабль, и майорское звание, и даже сам факт такого сообщения. «Бред», – сказал себе Муравко и согласился с командиром, что вариант ухода в майорском звании на пенсию более реален, чем звезда на груди и головокружение от славы. К тому же он совсем не представлял своей жизни без самолетов, без аэродромов, без предполетной подготовки, без Чижа и без Юли. Близкая встреча с нею, поездка в Ленинград наполняли душу тихой радостью, предчувствием праздника. Муравко даже не заметил, как прибавил шагу. – Коля! Он обернулся. В курилке возле КПП сидел Ефимов. Муравко подошел, опустился на теплую, вымытую дождями доску. Скамейка упруго прогнулась. – Понимаешь, какая штука, – Ефимов как бы раздумывал – говорить или не говорить. – Дежурным по аэродрому заступаю. Не хочешь вместо меня? – Нет, – засмеялся Муравко. – Я уже отпускной выписал. В Ленинград еду. Ефимов встрепенулся. – Сделай доброе дело. – Он быстро, даже торопливо вынул из кармана записную книжку, вытащил заложенную между листками купюру и протянул ее Муравко. – Хотел сам, но видишь… У Нины завтра день рождения, купи цветы и передай ей от меня. Вот адрес. – Он вырвал из записной книжки листок и передал его Муравко. – Буду твоим вечным должником. – Это хорошо, – улыбнулся Муравко. И пообещал: – Сделаем. – Я тебе сегодня не позавидовал, – сказал Ефимов. – Но был уверен, что ты ее усадишь как миленькую. И точно. – Чиж подсобил – прожекторы врубил вовремя. – Муравко усмехнулся. – Второй раз не хочу… Будь! Он собирался сказать «меня ждет дама», но что-то удержало – побоялся показаться хвастливым. Они пожали друг другу руки и разошлись. Время уже поджимало, и Муравко, не задумываясь, натянул свой любимый черный свитер, переложил документы в летную кожанку, на ноги надел растоптанные мокасины и выскочил на улицу. Словно по заказу, вдоль обочины катилась машина с ярким зеленым глазом. Когда такси подъехало к дому Юли, Муравко подумал о Булатове. «Хорошо бы не встретиться»… От этой мысли ему стало неловко. И он, прежде чем подняться на второй этаж, позвонил Булатову. Дверь открылась сразу, будто Олег стоял в прихожей и ждал его звонка. – Привет лауреату! – бодро сказал Муравко. – Проходи, у меня гость, – они обменялись рукопожатием. Муравко заглянул в комнату и увидел у телефона Верочку. Она что-то увлеченно говорила в трубку и даже не посмотрела на вошедшего Муравко. Ее прическа, яркое платье, свободная поза так и просились в объектив кинокамеры. Ну, в крайнем случае – фотоаппарата. И на обложку журнала. Весь тираж будет раскуплен в один день. – Здравствуйте, Верочка! Верочка лишь кивнула. В такт опущенным ресницам густой зеленью мелькнули веки. Тут ей чувство меры, пожалуй, изменило. Муравко представил ее рядом с собой в открытом «ЗИЛе» на шоссе Внуково – Москва. Верочка была бы на месте. А Юля? А Юлю, пожалуй, фиг затащишь в этот автомобиль. Сколько раз пытался Чиж подвезти ее в своем «уазике», ни в какую. Это, говорит, машина командира полка, а мое место в автобусе. – Чему улыбаешься? – толкнул его в бок Булатов. И, прикрыв дверь, сказал: – У нее день рождения, решили посидеть у меня. Мы собирались за тобой. – Жаль, – весело сказал Муравко. – Еду в Ленинград. – Что, обязательно? – Да. Сразу два задания. – Ты ее здорово огорчишь. – Не думаю, – с намеком улыбнулся Муравко. И добавил: – По-моему, ты недооценил ее, а, Олежка? Верочка тем временем грациозно опустила трубку на аппарат и, улыбаясь, вышла в прихожую. Муравко вспомнил где-то прочитанное: «Если улыбка украшает лицо – перед вами хороший человек, если портит – наоборот». Улыбающаяся Верочка была и вовсе неотразимой. – Вам сказал Олег? – спросила она Муравко. – Примите мои поздравления! – Муравко раскинул руки. – Оставляю за собой право вручить вам цветы после возвращения из Ленинграда. А сейчас должен ехать. У Верочки даже не погасла улыбка. Как показалось Муравко, она стала еще ослепительней. – Я разочарована, – сказала она совершенно счастливым голосом. И, чтобы сделать ее еще более счастливой, Муравко посмотрел в потолок и поставил Булатова в известность: – Юлька со мной напросилась. По белым ночам соскучилась. У Булатова лишь вздрогнули зрачки. А Муравко, позавидовав его выдержке, сделал вид, что ничего не заметил. – Так мы поедем, – развел он руки в извинительном жесте и, не дожидаясь согласия, щелкнул каблуками и резко склонил голову. У него было ощущение ребенка, простодушно перехитрившего взрослых. – Желаю вам всегда оставаться такой же ослепительно прекрасной. – Ого! – удивилась Верочка. – Таких откровенных комплиментов мне еще никто не говорил. – Подумал я о вас еще более возвышенно, – Муравко сделал шаг назад. – Вы этого заслуживаете. Честь имею. Он еще раз наклонил голову и быстро вышел. Уже не хотелось встречаться взглядом с Булатовым. Когда за спиной туго захлопнулась дверь, Муравко облегченно вздохнул и в несколько широких – через четыре ступеньки – шагов достиг второго этажа. Нажал кнопку звонка. Юля широко распахнула дверь. В джинсах, легких босоножках, она раскованно тряхнула волосами и приглашающе, по-русски, с поклоном повела рукой. – Милости просим… – За что такая честь?.. – Ну, как же? Герой дня… Муравко хотел было разразиться комплиментом, но последние слова Юли остудили его пыл. – У нас, между прочим, времени в обрез, – сказал он строго и посмотрел на часы. – Готова? – А если нет? – вызывающе спросила Юля. Муравко пожал плечами. – Если нет, значит нет. Они нащупывали тональность для предстоящего дуэта. – Папа! – позвала Юля, и в прихожую выглянул Чиж. – Мы поехали, не скучай. – Старшим назначаю Муравко, – сказал Чиж. – Чтоб слушалась. – Да? – стрельнула она в Муравко глазами. – Да, – спокойно подтвердил Чиж. – В данном случае вы следуете в Ленинград как военнослужащие. Со всеми вытекающими последствиями. Ясно? – Так точно! – Юля обняла отца и звонко чмокнула в щеку. В поезде было тесно и шумно. Сначала удалось найти место для Юли. Потом, благодаря дорожной утряске, нашлось местечко и для Муравко. Вскоре Юля договорилась с усатым парнем поменяться местами, и они оказались рядом, да еще и у окна. Подступающие к железной дороге холмы, лесные чащи и заболоченные озера таили в себе нечто притягательно-заманчивое. Муравко сразу захотелось в лес. Так с ним бывает всегда. Но когда он приходил в тот же самый лес, на те же озера и холмы, их заманчивость тускнела. Следы человека в виде масляных пятен, бутылок, целлофановых мешков, рыбных скелетов и прочего мусора вызывали уныние. Они только кажутся бескрайними, наши леса. А с высоты он видит их небольшими лоскутами, обжатыми канавами, дорогами, стройками. «Из космоса и того меньше увидишь». – Чему вы улыбаетесь, Коля? – С нами очень хотел поехать в Ленинград твой сосед. Он же лауреат и он же… – Спасибо, – перебила Юля, – я догадалась, о ком речь. И что же он не поехал? – А я сказал ему, что третий лишний. – И он уступил? – Пусть попробует возражать… – И что вы ему сделаете? – Обратно в прорубь засуну. – Представляю! – Юле стало весело. – А кто та девушка, к которой он звал меня на день рождения? – Я жестоко разоблачен. Мне стыдно, я краснею. Муравко закрыл глаза и откинулся в угол, голова уютно прижалась затылком и виском к прохладным панелям. – Юля, не будешь ли ты возражать, если я вздремну? К нему вдруг пришла расслабленность, сонливо тяжелел затылок. «Хорошо, что Чиж догадался прожектора врубить, – подумал он удовлетворенно, – а то жуть что могло случиться». Запоздалое чувство страха еще больше расслабило его, и Муравко уже сквозь дрему услышал Юлины слова: – Будет удобнее. Ее рука скользнула по шее, мягко придержала его голову, и в следующее мгновение Муравко почувствовал под головой что-то мягкое и пушистое. Едва уловимый запах духов, подобно наркозу, довершил дело, и Муравко провалился в крепкий сон. Он проснулся от шума встречного поезда. В купе было свободно, и Юля теперь сидела напротив, опершись локтями на столик. Ее подбородок лежал в полураскрытых ладонях. За окном в прозрачных полусумерках плыл Ленинград. – Кажется, я всерьез придавил… Юля только улыбнулась. Кавалер называется, всю дорогу продрыхнуть! Хорош! – Не здорово получилось, – виновато сказал Муравко. – Как раз здорово, – успокоила его Юля, загадочно улыбаясь. – Вы спали тихо, как мышонок. Когда они вышли на привокзальную площадь, время перевалило за полночь. Но город жил дневным ритмом. Повизгивали на поворотах трамваи, грохотали металлическими бортами самосвалы, из метро высыпали полуночные пассажиры. По ленинградской традиции городское освещение было выключено. Да в нем и не нуждался никто. Затянутое высокими облаками небо нежно и мягко светилось, и этот прозрачный свет отраженно стоял над Невой, растекался по дворам, паркам, узким переулкам, размывал тени и загадочно вспыхивал на золотом шпиле Петропавловской крепости. Молча подошли к памятнику Ленину. – Без микрофона выступал, – сказал Муравко, – и все его слышали. А народу на этой площади будь здоров сколько вместится. – Здесь площадь была поменьше тогда, – Юля показала в сторону Невы, – там забор кирпичный стоял, здесь вокзальные постройки. Сам памятник тоже в другом месте был. Его поставили примерно вот здесь, – Юля показала на проезжую часть улицы. – И вокзал тут другой был, и дома. Памятник передвинули, когда начали реконструкцию площади. Сразу после войны. – А откуда ты все это знаешь? – В школе наш класс участвовал в конкурсе знатоков Ленинграда. Они вышли на набережную. На гранитных ступеньках спуска к Неве сидели парочки, о чем-то шептались, смотрели, как темные невские воды державно катились к устью. – Знаешь, что мне сегодня сказал Волков? – начал Муравко о том, о чем твердо решил молчать. – Что вы героически спасли репутацию полка, – усмехнулась Юля. И уверенно добавила: – Если бы он послушал отца и разрешил остановить работу на десять минут раньше, вам бы не пришлось рисковать. – Это не наше дело. Он командир. – А если бы вы грохнулись? Это тоже не наше дело? – Если бы да кабы, – отшутился Муравко, – я же не грохнулся, целехонький иду рядом с тобой. И разговор у меня с ним был совсем не об этом. – Это его счастье, – в голосе Юли прозвучала угроза. – Я бы ему не простила до конца жизни. – Юля! – упрекнул Муравко добродушно. – Все ведь хорошо. – Ладно, не будем об этом. Вон «Аврора», – она хотела показать рукой, но в руке была сумка. – Дай-ка мне эту штуку, – Муравко забрал сумку. – А кофточку надень, свежо. – Ничего, – ответила Юля и спросила: – А о чем у вас шел разговор? Муравко уже расхотелось рассказывать, и Юлин вопрос застал его врасплох. – Да так… – Вы же хотели рассказать. – Все это ерунда, Юля. – Он посмотрел на нее и поймал прямо-таки умоляющий взгляд. – Только чур, между нами. Мне дано две недели на обдумывание, – Муравко замолчал, недосказав фразу. – Чего? – подтолкнула Юля. – Предлагают стать космонавтом. Юля удивленно вскинула глаза. – Зазнаетесь – не подступиться. Муравко засмеялся. – Я серьезно, а ты… Ладно. Я еще согласия не давал. И вообще… Они шли по набережной Большой Невки. Муравко остановился и придержал Юлю за локоть. – Я ведь мог стать моряком. Вот с этим зданием, – он кивнул на Нахимовское училище, – связано мое знакомство с Ленинградом. Муравко остался без отца, когда учился в восьмом классе. На шахте, где работал отец, произошел какой-то несчастный случай, несколько человек пострадало, несколько погибло. В числе последних был и отец. Колина мать Светлана Петровна работала старшей медсестрой в шахтерской больнице. В эти дни он ее не видел, она дневала и ночевала там. Муравко был предоставлен самому себе. Кто-то из мальчишек тогда сказал: «Надо подаваться в Суворовское или Нахимовское, нас, как сирот, примут без экзаменов». Идея понравилась. Коля сказал матери: «Поеду в Нахимовское», – и положил перед нею открытку, снятую, наверное, вот как раз с этого места – от гостиницы «Ленинград»: голубой домик училища и серый трехтрубный крейсер. Светлана Петровна подумала, помолчала, будто сразу согласилась, а затем жестко сказала: «Не поедешь. Ты не сирота. Пока я жива и здорова, ты будешь учиться и жить, как все нормальные дети». – Тогда я обижался на мать, – сказал Муравко. – Теперь понимаю: она поступила мудро. Став моряком, я никогда бы не стал летчиком. – И космонавтом, – добавила Юля. Эта тема продолжала занимать ее. А Муравко было неловко: проболтался, как пацан. Все еще может сто раз перемениться. – Это же был пристрелочный разговор, Юля, – он поправил сползшую с ее плеча кофточку. – Ни Волков, ни я ничего друг другу не обещали. Он наверняка еще пятерым сказал то же самое. Знаю я эти конкурсы. А ты всерьез. – Вам ничуточки не жалко уходить из полка? – Во-первых, я еще никуда не ухожу. А во-вторых… Ты ведь тоже не останешься с полком, если Чижа… Он не нашел сразу точного слова – «уволят, оставят, не возьмут» – и замолчал. – Речь не обо мне, – смутилась Юля. «Именно о тебе», – хотел сказать Муравко, он уже понял, что беспокоит Юлю, но пощадил ее самолюбие. Видимо, говорить о том, что уже было ясно обоим, еще не подошло время. – Это Кировский мост? – спросил Муравко. – Да, – односложно ответила Юля. – Расскажи, пожалуйста, о крепости, – попросил Муравко, пытаясь уйти от трудного разговора. Тем более что складывался он в каком-то нервном ключе: еще никто из них не взял на себя никаких обязательств, а в подтексте, в тоне уже звучал упрек, звучала обида. – Мы пойдем через крепость? – спросила Юля. – А потом по пляжу вернемся к Неве. Как раз увидим развод двух мостов. – Веди, как знаешь. – Вы старший, и я обязана свои действия согласовывать с вами. – От моего старшинства осталась одна иллюзия. Передаю бразды правления тебе. – Ну нет, – не согласилась Юля, – мне удобнее быть подчиненной. Командовать – не женское дело. Они взошли на деревянный мост, украшенный старинными фонарями. Муравко представил себя в черном цилиндре, фраке, с тросточкой. Юлю – в пышном платье с кринолином и шлейфом. И говорят они возвышенным слогом о возвышенных чувствах. – Чему вы улыбаетесь? – Юля почувствовала его настроение, хотя шла немножко впереди. – Ведь вы улыбаетесь? – Ну, улыбаюсь. А как ты догадалась? – Почувствовала. Я ведь читаю мысли на расстоянии. – Мысли – понятно. Метод дедукции. А как увидела, что я улыбаюсь? – Это же просто – по ходу ваших мыслей я поняла, что вы должны в этом месте улыбнуться. – Логично. И о чем же я думал? – Вы представляли себе людей, которые гуляли по этому мосту после его открытия. Они вам показались смешными. Муравко суеверно заглянул Юле в лицо. И Юля почувствовала, что попала в точку. – Имейте в виду, – предупредила она серьезно, – я все знаю, о чем вы думаете, – и без всякого перехода сообщила: – Эти ворота построил Трезини. Еще при Петре. Это вы хотели спросить? Да, они сохранились без изменения. Муравко почувствовал себя неуютно. Поверить в Юлину феноменальность он не поверил бы и под дулом пистолета, но то, что она угадала, пусть примерно, его мысли и его вопросы, вызвало некоторое смятение. И это не ускользнуло от нее. – Не пугайтесь, Коленька, – пожалела она его. – На этом месте почему-то у всех стандартные мысли. Это проверено практикой. Когда они спустились к пляжу и остановились у взметнувшейся к небу кирпичной стены, Юля зябко передернула плечами. Муравко стоял за ее спиной, почти рядом, он расстегнул молнию куртки и полами прикрыл Юлины плечи. Ее спина уютно прижалась к его груди, и Юля настороженно замолчала. – Поскольку я отвечаю за твое здоровье, – попытался оправдать свой поступок Муравко, – погрейся в моей куртке. – И ночь кончается, – сказала она, закинув голову. Ее тяжелые волосы скользнули по лицу Муравко, обдав его волнующим запахом. – Помните Пушкина? «Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса…» Вот этот миг и наступил. Смотрите, Дворцовый начали разводить… Муравко увидел, что все, кто находился неподалеку от них, словно по команде вскинули руки. Пролеты тяжелого моста, казалось, навечно уложенные на бетонные опоры, вдруг взгорбились, мягко разомкнулись и бесшумно, как в причудливом сне, распахнулись в небо. Непривычно повисли трамвайные провода, а в открытый проем по-хозяйски двинулись стоявшие за мостом морские сухогрузы. Шум их мощных двигателей властно раскатился над притихшей Невой. – Сейчас Кировский разведут, – сказала Юля, и Муравко увидел, как гуляющий народ дружно устремился в ту сторону, куда шли морские корабли. Кировский мост был виден с этого места так же отчетливо, как и Дворцовый, и бежать к нему Муравко не видел смысла. Ему и не хотелось срываться с места: этот волнующий запах Юлиных волос, доверчиво прижавшаяся спина, расслабленно опущенные плечи – все для него было внове. И ему хотелось насытиться очарованием этого мгновения, продлить его как можно дольше. – Я согрелась, спасибо, – сказала Юля и, видимо заметив на лице Муравко тень огорчения, счастливо засмеялась. – Юля, – придержал ее Муравко. – А что ты мне посоветуешь? Соглашаться или нет? – Вы должны поступить так, как считаете нужным. – Хорошо. А как бы тебе хотелось? Только честно. – Если честно, я не знаю. Она подала ему руку и потащила его почти бегом в сторону горбатого мостика, соединявшего берега Кронверкского пролива. Миновав парусник, ставший рестораном, они вышли на мост Строителей, а затем – на Стрелку Васильевского острова. Задержались на минутку у ступенчатого цоколя одной из Ростральных колонн, где Юля сообщила, что эти уникальные маяки построены по проекту Тома де Томона, по боковому пологому пандусу вышли к центру Стрелки, рассекающей, как нос гигантского корабля, Неву. Около морды каменного льва, держащего в зубах толстое железное кольцо, предназначавшееся для швартовых канатов, самозабвенно целовались милицейский лейтенант и полненькая длинноволосая блондинка. У их ног лежала стопка книг, накрытая милицейской фуражкой. «Перед полетом в космос, – шутя сказал себе Муравко, – обязательно пройдись этим маршрутом вместе с Юлей…» На шпиле Петропавловки внезапно вспыхнул солнечный луч. Яркий, как плазма электросварки. Муравко даже прикрыл глаза. Юля проследила за его взглядом и неожиданно присела на гранитную ступеньку спуска. И он понял, что она устала. Снял кожанку, свернул и положил рядом с нею. – Пересядь, – сказал требовательно. Юля подчинилась, поблагодарила за заботу и взяла у него из рук свою сумку. Молча достала сверток и протянула Муравко увесистый бутерброд. Затем подала одну за другой две бутылки с «пепси-колой», консервную открывашку. Муравко сковырнул пробки и уже хотел их швырнуть в воду, но Юля остановила его удивленным взглядом. – Это же Нева, Коля… – Пардон, – сказал Муравко и сунул обе пробки в карман. Одну бутылку протянул Юле, другую оставил себе. Усталость предательски растекалась по мышцам – лучше было не садиться. А вместе с утолением голода подкрадывалась сонливость. Еще не было и четырех, а над городом уже вовсю торжествовало летнее утро. Дворцовый мост сложил свои крылатые пролеты, и по ним торопливо рванулись застоявшиеся на обоих берегах машины. Очарование белой ночи таяло, как тает над озером ночной туман, когда его пронзают первые лучи встающего светила. Муравко даже не заметил, как ворковавшие неподалеку от них парочки тихо снялись с насиженных мест и бесшумно ушли. Лишь по-прежнему целовались у каменной львиной морды милицейский лейтенант с длинноволосой блондинкой. Идти не хотелось. Юля застыла в своей любимой позе – локти упираются в колени, подбородок – в ладошки. Губы ее по-детски мило топырились и влажно поблескивали. Ему неудержимо захотелось привлечь ее к себе и поцеловать в эти полураскрытые губы. Но между ними было еще что-то недосказанное, и это «что-то» сдерживало его. «Наш Коля, кажется, влюбился», – кричали летчики в полку», – пропел он про себя известную песню, несколько перефразировав ее, и, довольно улыбнувшись, дотронулся пальцем до Юлиного носа. – Баиньки хочется? – Сейчас сполосну лицо, – сказала она, выпрямилась, шевельнула плечами и шагнула на нижнюю, покрытую легкой зеленью водорослей ступеньку спуска. Как случилось дальнейшее, Муравко не понял. Он только услышал всплеск и, когда обернулся, увидел, как невская вода сомкнулась над Юлиной головой. Она даже не успела вскрикнуть. Он сразу прыгнул в воду и удивился, почувствовав под ногами дно. Юля же все еще барахталась под водой в поисках опоры. Муравко прямо в воде взял ее на руки, поднял на поверхность. Даже намокшая, Юля показалась ему невесомой. – Испугалась? – спросил он, усаживая ее на гранит ступенек. Там уже стоял милицейский лейтенант в готовности помочь. – Не успела, – ответила Юля и засмеялась. – Умылась, называется… – Не вы первая, – сказал лейтенант. – Я не успел вас предупредить, что скользко. Тут хотела сфотографироваться одна дама. Солидная такая. Как ухнула, еле вытащили. Помогаю ей вылезти, а она краску от ресниц вытирает… Умрешь со смеху. Муравко подал лейтенанту руку и, почувствовав надежную опору, легко выбрался из воды. Юля вытирала лицо. Ее посиневшие губы с трудом удерживали виновато-вымученную улыбку. – Машину бы, – сказал Муравко лейтенанту, – у меня тут есть знакомый художник, ей надо обсушиться. Юля ничего не сказала, а когда через несколько минут лейтенант милиции прямо по спуску подъехал на такси, она назвала шоферу адрес: – На Фонтанку, к Измайловскому парку, – и пояснила Муравко: – Там наша квартира. Машина рванула, и Муравко укрыл Юлю своей кожанкой. «Хорошо, что документы в ней были», – подумал успокоенно. – У меня никогда без приключений не бывает, – Юля убрала с лица слипшиеся сосульки волос. – Теперь у вас на счету уже два утопленника. С Дворцового моста водитель повернул на Адмиралтейскую набережную, затем на Исаакиевскую площадь. Муравко даже не заметил, как они проехали мимо знаменитого Медного всадника, рассмотреть который он так мечтал еще совсем недавно. На повороте Юлю качнуло, и она прислонилась к Муравко, невесомо-легкая, пахнущая водорослями. «У космонавта Муравко, – сочинил он текст для печати, – был свой ритуал перед полетом во Вселенную – он приходил на Стрелку Васильевского острова и окунал в невской воде свою спутницу». – Смешно? – спросила Юля. – Весело мы путешествуем. Такси остановилось у старого четырехэтажного дома на набережной Фонтанки. Муравко расплатился с таксистом, и они вошли в просторный подъезд. Юля отыскала в сумке ключи и открыла почтовый ящик. На цементный пол шлепнулись журналы, скомканные газеты, конверты. – Маман опять в отъезде, – сказала Юля, подбирая почту. Муравко помог ей, и они поднялись по широкой лестнице на четвертый этаж. Обитая дерматином дверь выглядела нежилой. Но Юля уверенно вставила в замочную скважину ключ, и дверь бесшумно распахнулась. В полутемном коридоре светлым овалом вспыхнуло зеркало, отразив Муравко и Юлю, освещенных лестничной лампочкой. – О, господи, на кого я похожа, – охнула Юля и, не включая света, нырнула в ванную комнату. И уже из-за двери крикнула: – Чувствуйте себя как дома, я мигом! Муравко нажал клавишу выключателя и сразу заметил, что с брюк все еще стекает вода. Он быстро прошел на кухню, снял их, отжал над раковиной, встряхнул и снова надел. Вид, конечно, у него был респектабельный. Пока Юля мылась, приводила себя в порядок, он обошел квартиру. Каждая из трех комнат имела отдельный вход. Самая маленькая, видимо, принадлежала Юле. Несколько закрытых стеклом полок, маленький письменный стол, старый радиоприемник, узкий диван, шкаф. На стене у входа чуть ли не от потолка до пола свисало полуметровой ширины темно-синее полотнище, сплошь обцепленное значками. В гостиную, сквозь открытую форточку, врывались звуки улицы – город оживал. Но даже несмотря на свежий воздух, и в этой большой квадратной комнате пахло нежилым. Казалось, что спрятанная за шторами алькова широкая двуспальная кровать, застланная парчовым покрывалом, никогда не использовалась по своему назначению. Как на музейной витрине, поблескивали за стеклами шкафов дорогие хрустальные бокалы, вазы, позолоченные чашки из тонкого фарфора, всевозможные статуэтки. Одна из стен была отдана полотнам. Около десятка небольших пейзажей. Цветной «Электрон» с сенсорным переключателем. Столик с хрустальной вазой и засохшими мухами на дне… И только в кабинете чувствовалась какая-то обжитость. Смятый плед на тахте, поздравительные открытки на журнальном столике, женская кофта в кресле и беспорядок на письменном столе. Он хотел посмотреть, чем завален рабочий стол доктора наук, но услышал звук хлопнувшей в ванной двери и вышел из кабинета в коридор. Шлепанцы на босых ногах, перехваченный поясом белый махровый халат, румянец на щеках и веснушки, сбегающие от переносицы, да еще тяжелые волосы и свежесть, исходившая от Юли, – вот такой домашней он будет вспоминать ее еще многие месяцы. – Примите душ, – сказала Юля. – А я приготовлю чай. Там в ванной папина пижама. Придется в ней побыть, пока отутюжу ваши брюки. – Юля, кто живет в этих хоромах? – Мама. – Одна? – Иногда бываю я. Во время экзаменов. Возможно, с отцом сюда переедем. Чай пили с печеньем. Юля рассказывала, как она оповещала своих школьных подружек о наводнении. Они всегда удивлялись, что Юлины сообщения опережали предупреждения синоптиков по радио и телевидению. – Я им говорила: суставы крутит. – Юля весело смеялась. – А на самом деле у нас из окна видно, как Фонтанка поднимается. – Весело тебе тут жилось. Юля вдруг сникла. – Я ее почти не видела, – сказала она. – Да вы сами все понимаете… – Можно библиотеку посмотреть? – Смотрите, я уберу посуду. Уже первая снятая с полки книга захватила его. Это были дневники Софьи Толстой из серии литературных мемуаров. Знал ли что-нибудь он об этих дневниках? Сможет ли когда-нибудь их прочесть? А сколько понадобится жизни, чтобы перечитать хотя бы часть того, что стояло на полках шкафов? Муравко слышал, как за его спиной в кабинет бесшумно проскользнула Юля. Он повернулся к ней спустя минуту-другую и, удивленный, замер. Юля спала, свернувшись, как котенок, и подсунув под щеку обе ладони. Муравко потянул с тахты плед и тихонько укрыл ее. Пусть спит. Впереди жаркий день. Сам сел к письменному столу и раскрыл книгу. Но уже ни одно слово в голову не шло. Тихое дыхание Юли за спиной заставляло его то и дело оборачиваться – не проснулась ли? Каждый раз он все дольше задерживал взгляд на ее безмятежно спокойном лице, и с каждым разом ему становилось все труднее отрывать от нее глаза. Сегодняшняя ночь с ее прозрачными сумерками, с невской купелью и тихим говором влюбленных связала их незримо, но крепко. Ему хотелось подойти к Юле, взять ее на руки, понести, прижаться к ее лицу… Он знал уже, был уверен: она ждет этого шага. 11 Нина проснулась от тишины. Дома, на Тихорецком, не бывает минут без звуко-шумового сопровождения. Не трамвай, так самосвал прогрохочет или какой-нибудь мотоциклист без глушителя, нет транспорта – кран на строительной площадке верещать будет, а если и кран утихнет – лифт отзовется или трубы водопроводные загудят. Могучий организм города всегда полон звуков, появляющихся порой из необъяснимого источника. А тут – тишина. Глубокая, хорошо отстоявшаяся. И мысли от нее ясные. Нина посмотрела на часы – еще не было четырех. Пасмурное безветрие скрадывало рассвет, но утро давно наступило, это чувствовалось несмотря на обманчивую тишину. Через полчаса зазвенит будильник. Из трех запланированных часов она проспала лишь два. Но сна, как говорят, не было ни в одном глазу. Видимо, слишком много всяких событий втиснулось в эти последние сутки. Разве могла она еще вчера утром предположить, что будет ночевать вдали от Ленинграда в чужой квартире? В лаборатории еще и рабочий день не начался, а ей вдруг позвонили с проходной и сказали, что двое молодых людей просят Ковалеву Нину Михайловну спуститься вниз. На это сообщение мгновенно отреагировала щека – окаменела и тут же стала горячей: кроме Ефимова, никто больше не мог так рано звать ее. Вопреки женскому инстинкту, она даже не посмотрелась в зеркало. Прямо от телефона побежала по широкой лестнице в вестибюль. Навстречу ей поднялся вихрастый, застенчиво улыбающийся юноша с букетом, нет – с охапкой свежих роз. Нина еще успела придирчиво обшарить глазами все закоулочки вестибюля, но кроме вахтера и большеглазой девочки, оставшейся сидеть на диване, никого не увидела. – Здравствуйте, Нина Михайловна, я – Муравко. Ефимов утверждал, что моя фамилия вам знакома. – Здравствуйте, Коля, – упавшим голосом сказала она. – А он… У него все в порядке? – Да. Служба не пустила. Он просил поздравить вас и передать эти цветы. Тут и от нас с Юлей, – Муравко кивнул на сидевшую в стороне девушку. Нина вспомнила: Юля – это дочь Павла Ивановича, того седого, усталого полковника, и улыбнулась ей. – Боже, что я буду делать с этим букетищем? – Колючие шипы роз пропарывали бумагу и больно жалили руки, а запах прямо обволакивал сладким дурманом. – Даже не знаю, как вас благодарить… Прелесть какая! Кусаются только… – Это плата за красоту, – улыбнулся Муравко. – В общем, мы вам желаем счастья! – Спасибо. Когда вы обратно? – Пообедаем и поедем. Нина почувствовала: сейчас они попрощаются и уйдут – и оборвется эта неожиданная, но хоть как-то связывающая ее с Федором ниточка, и она жалобно попросила, повернувшись к Юле: – Давайте вместе пообедаем. Я вас приглашаю в кафе «Лукоморье». Это здесь рядом, на Тринадцатой линии. Угловой дом. Все равно где-то обедать будете. – Спасибо, – сказала Юля. – Мы придем обязательно. – В половине второго. – Годится! – улыбнулся Муравко. Нина вошла в кабинет Марго прямо с охапкой роз. – Это все он? – вскинула та иссиня-черные брови. – Мужчина! Молодец! Их надо немедленно в воду! – Марго, – Нина села в кресло и закрыла руками лицо. – Отправь меня в командировку. В срочную. Сегодня. Хоть на сутки. – Где я работаю? В научной лаборатории или в психиатричке? – Если я его сегодня не увижу, честное слово, умру. – А что мне твой муж скажет? Что я черствая дрянь? Что, несмотря на день рождения, послала человека в командировку? – А ты не знаешь, что у меня день рождения. Я тебе не сказала. Отпусти, Марго, если не хочешь заниматься моими похоронами. – Ха, похоронами! Да поезжай хоть на месяц. Но имей в виду: я не одобряю твою дурацкую любовь. – Маргоша, – Нина прослезилась, – оставь эти розы у себя в кабинете. После Ленки и Феди я тебя люблю больше всех… – Нужна мне твоя любовь, – буркнула Марго и начала наливать воду из графина в вазу, уныло сверкавшую резными гранями на журнальном столике. В начале второго Нина уже сидела в кафе за накрытым столиком, который заказала по телефону из лаборатории. «Лукоморьем» заведовала бывшая работница лаборатории, и «своим девочкам» она делала невозможное. Мало того, что на столике были различные деликатесы, в центре еще красовался и загадочный гость заморских плантаций – ананас. Нина не понимала, зачем она все это делает. И Муравко, и Юлю она видела впервые; не собиралась каким-то образом им понравиться; не представляла, о чем будет говорить с ними. Но ей хотелось побыть возле них, потому что и Муравко, и Юля приехали от него, видятся с ним ежедневно, дышат одним воздухом, объединены одним делом. Когда вино было разлито по бокалам и Муравко завершал разделку ананаса, Нина заметила, какими глазами Юля сопровождала каждое движение его рук. А когда Муравко протянул ей лучший ломтик и задержал на лице Юли взгляд, она зарделась и опустила глаза. «Даже не догадываются, какие они счастливые», – подумала Нина и тут же перехватила изучающе-строгий взгляд Юли. «Осуждает…» Муравко поднял бокал. – Нина Михайловна, – сказал он торжественно, – мы поздравляем вас с днем рождения и желаем счастья… – А это вам подарок от нас, – сказала Юля и протянула Нине перехваченную тесьмой коробку. Нина поблагодарила и вопросительно посмотрела на Юлю. – Вскрывайте, не бойтесь. Нина разрезала столовым ножом тесьму, сняла крышку. В коробке лежал старинный барометр, о чем на циферблате свидетельствовали литеры старославянского алфавита в словах «п?р?м?нно» и «к бур?»{1}. – Пусть он вам всегда показывает только «ясно». Нина почувствовала, что ей уже не удержать слез. Они посыпались из глаз, как бусы с перерезанной нитки. Закусив губу, она смотрела то на растерявшегося Муравко, то на присмиревшую Юлю и все пыталась улыбнуться, но губы не хотели ее слушаться. – Ну, все, – наконец сказала она и улыбнулась. И сразу посветлели лица гостей. Они выпили, хорошо закусили, рассказали Нине, как гуляли по Ленинграду, как Юля искупалась в Неве, похвастались покупкой магнитофона и, выпив кофе, заторопились. – Хочется еще в Русском музее побывать, – сказал Муравко. – Сегодня уезжаете? – спросила Нина. И, еще не веря в собственную решимость, сказала: – Я с вами. И почувствовала, как от сердца отвалил тяжелый груз. «Вот так же решительно надо и с Олегом, – подумала Нина, – сказать – и всем мукам конец». Страхи, которые ее пугали раньше – слезы и ненависть Ленки, страдания Олега, недоумение и презрительные взгляды знакомых, – все это теперь представилось под иным углом зрения. Любую плату – только скорее освободиться от необходимости лгать, жить двойной жизнью, терпеть близость человека, к которому она стала совсем равнодушной. Так жить дальше она не могла и не хотела. Решимость в ней зрела с нарастающей силой, обретала конкретные очертания. Да, сегодня она уедет к Ефимову, скажет о своем решении сначала ему, а завтра все выложит Олегу. Не может она рвать свое измученное сердце на части. Это не жизнь. Люди рождены для счастья. Как в лихорадочном бреду доживала она этот самый длинный день в своей жизни. Обзвонила знакомых: «В связи со срочной командировкой ужин отменяется…» Сбегала в детский сад к Ленке, потом поплакала в скверике, собралась и уже с вокзала позвонила Олегу. – Не расстраивайся, – сказал он. – Вернешься – отметим. Мне сегодня тоже не до гулянки. В ночь запускаем установку. – А Лена? – Заберу и оставлю у соседей. Не думай, все будет в норме. «Он еще ничего не подозревает, – подумала Нина и почувствовала, как задыхается от жалости к человеку, который ей верит, не допуская и тени сомнения. – А может, не хочет подавать вида?» Жалость сменялась раздражением. Ничего не почувствовать за все это время способен только толстокожий болван. Ни толстокожим, ни болваном Олег не был. Другой бы уже давно грохнул по столу кулаком или пришел домой в стельку пьяным. Ковалев не мог сделать ни того, ни другого – не позволяла воспитанность. Он просто разыгрывал мужа, не допускающего и тени подозрения. За обман платил обманом. Все это она ему завтра и скажет. И пусть утешается своей рафинированной интеллигентностью. Нина понимала шаткость этих аргументов, но ей хотелось хоть за что-нибудь зацепиться, чтобы разозлить себя, укрепиться в принятом решении. Верила еще, что силы ее умножатся после встречи с Федором. Муравко и Юля стояли у входа на перрон. – Успели в Русский? – спросила Нина. – И в Военно-морской тоже, – ответил Муравко. – И что вы в нем интересного увидели? Там же одни модели. Юля тихо засмеялась. – Нина Михайловна! – Муравко грозно насупился. – Еще одно плохое слово про этот музей, и мы станем врагами! – Упаси бог, – улыбнулась Нина. – Просто я знаю, что этот музей любят дети. – Этот музей любят все. Просто дети непосредственно выражают свое восхищение, а взрослые… В общем, не будем об этом. Билет мы на вас взяли. Как договорились. – Ну, а чем вас Русский поразил? – снова спросила Нина, чтобы поддержать ни к чему не обязывающий разговор. – «Последним днем Помпеи», – сказала Юля, глядя на Муравко. – Мы почти не выходили из брюлловского зала. – Интересно, – искренне удивилась Нина. Она любила Русский, частенько захаживала в него, любила, не распыляясь, подольше побыть в одном из залов, но ее ни разу еще не потянуло к полотнам Брюллова. Его картины казались ей слишком гладкими, слишком классическими, воображение скользило по ним, не цепляясь ни за какую шероховатость. Все правильно. Чем же мог поразить Брюллов человека, занимающегося далеким от искусства делом? – Не знаю, – пожал плечами Муравко. – У меня такое ощущение, что краски для картин он замешивал на своей крови. Они живым теплом отдают. – Мне такое и в голову не приходило, – сказала Юля. – А когда всмотрелась, честное слово, почувствовала жар. Все трое стали наперебой вспоминать брюлловские полотна: «Вирсавию», «Пилигримов», «Всадницу», «Бахчисарайский фонтан», портрет Ю. Самойловой. На какой-то оценке Муравко и Юля не сошлись, упрямо заспорили, и Нина, воспользовавшись ситуацией, откинулась в угол и прикрыла глаза. Ей хотелось подумать о своем, хотелось представить, как они встретятся с Федором, как он обрадуется ее неожиданному появлению, а еще больше – ее решению. А вдруг не обрадуется? Нелепость вопроса была настолько очевидной, что Нина едва не выдала себя счастливой улыбкой. «Вот оно, настоящее! – радостно подумала она. – Даже для шутливого сомнения нет почвы». И еще она подумала, что, если бы всегда была рядом с Ефимовым, такой бы вопрос ей и в голову не посмел прийти. Обрадуется! Как ребенок обрадуется. И будет бесконечно счастливыми глазами ловить ее глаза, прислушиваться к стуку сердца. Потому что она сама с дрожью ждет встречи и точно такая же сумасшедшая, как он. В который раз она вновь и вновь перебирала в памяти ту мгновенную, как молния, встречу на вокзале. Сколько чепухи наговорила она ему! Как ей хотелось выпрыгнуть из вагона и бежать по шпалам в обратную сторону. Она действительно стала ненормальной – тут Маргоша права. И мама сказала ей то же. Только еще и объяснила: «От жиру ты свихнулась, доченька». Мать к Нине наведывалась дважды в год. Зимой на недельку, чтобы отметить день рождения внучки Леночки, и летом, когда в огороде все сделано, а урожай убирать еще рано. Она откровенно радовалась за дочь, не могла нахвалиться зятем и особенно трогательные отношения у нее были с Ленкой. С приездом бабушки ребенок становился неузнаваемым. Всегда образцово послушная, Ленка начинала выделывать такие номера перед бабкой, у нее прорезался такой повелительно-царский тон, что родители от удивления раскрывали рот: наша ли это девочка? А бабка, вместо того чтобы одернуть внучку, с покорной улыбкой выполняла любую ее прихоть. – Бабушка, ну почему ты такая глупая? – вопрошало воспитанное дитя. – Потому что старая, – с удивительным спокойствием отвечала пожилая женщина. Но от этого спокойствия и покорности не осталось и малейшего следа, когда Нина проговорилась, что встретила Федю Ефимова и что, оказывается, до сих пор любит его. – В нашем роду потаскух не было, – сказала, как пригвоздила. С гневом, с ненавистью. И Нина поняла, что от матери ей не будет ни сочувствия, ни поддержки. Только гнев и осуждение. А у нее все равно были за спиной крылья. И сегодня Нина уже знала: крылья от веры, что ты под этим небом не одинок, что есть еще одна душа, переполненная любовью и нежностью, есть человек, который способен тебя понимать без слов, на расстоянии чувствовать боль твою и верить тебе. Когда они вышли из поезда и, обогнув вокзал, остановились возле очереди, ожидавшей такси, Нина забеспокоилась – куда ей идти? – К нам, – сказала Юля. – А Коля в это время отыщет Ефимова. Нина потерла щеку. Чем-то этот вариант смущал ее. Не хотелось снова попадаться на глаза Павлу Ивановичу Чижу. Он, конечно, ничего не скажет, не упрекнет, даже, наверное, будет по-своему рад. Но ведь про себя все равно подумает о ней нечто такое, что вслух не говорят. Она не знала, почему ее беспокоит мнение именно этого человека, но подсознательно чувствовала – хочет ему нравиться, хочет, чтобы он думал о ней хорошо. Чижа дома не было, и Нина повеселела. – Мы ваш день рождения отметим здесь, – осенило Юлю. – Отличная идея! – поддержал Муравко. – Пока вы сообразите закуску, я обеспечу гостей и все остальное. – Чувствуйте себя как дома, – сказала Юля. – Я сейчас картошки нажарю. – Я помогу, – вызвалась Нина. Удивленно разглядывая увешанную деревянными ложками стену, она взяла нож и начала быстро чистить картошку. Затем она проворно извлекала из холодильника продукты, что-то крошила, что-то размешивала, раскладывала по тарелкам, руки ее были умелы и быстры. Нина совсем успокоилась, и ей на какое-то мгновение показалось, что все под этим небом ясно и гармонично, все живут в полном согласии со своей совестью, противоречия сглажены, конфликты существуют только в кино и на театральных подмостках. – Вы его никогда не любили? – вопрос Юли мгновенно вернул на грешную землю. – Любила, – не стала лукавить она. – А как же Ефимов? – Юля перестала размешивать салат и опустила руки. – Разве так можно – сразу двоих? Извините, – она виновато пожала плечами, – я просто… – Когда мы потеряли друг друга, я думала, смотреть ни на кого не буду. И замуж-то вышла, чтобы заглушить в памяти… И действительно, заглушила. Особенно когда Ленка появилась. Он хороший человек, Олег. Я считала, что люблю его. А Федю встретила и поняла: все придумала. – А почему вы потеряли друг друга? – Если бы знать… Он моих писем не получал, а я – его. Обида была такая – жить не хотелось. Ну и… – А вам Коля нравится? Нина улыбнулась. Она по-хорошему завидовала безоблачному счастью своих новых друзей и радовалась, что они еще не познали беды. Вот когда наделают ошибок, когда осмыслят потерянное, тогда эти дни вспомнят как самые распрекрасные денечки всей своей жизни. А может, у них все сложится и безошибочно. Открутить бы календарь на десять лет назад, Нина бы не позволила себе беспечно уповать на будущее, она бы каждую минуту своего бытия испила, как пьют родниковую воду в жаркий полдень июля. Ефимов, как его Нина ни ждала, появился пред очами ее совершенно неожиданно. Бездумно взглянув в окно, Нина сразу увидела и клумбы с цветами, и вкопанный в землю потрескавшийся от дождей столик, и ровный ряд подстриженных кустиков, и человека в тенниске, и цветы в его руке, и что-то еще. И сразу не могла сообразить, почему этот человек стоит среди клумб и смотрит на окно. А потом почувствовала, как немеет щека, как ослабли руки, державшие картофелину и нож. Словно сонная, она подошла к окну и прижалась к стеклу. И хотя отчетливо представила, что нос ее будет видеться ему расплющенным и некрасивым, оторваться от стекла уже не могла. Ефимов засмеялся, вскинул над головой руки, одну с букетом, другую с какой-то коробкой, и счастливый, что не остался не замеченным, закружился в танце на виду всего дома. – Я вычислил тебя, – сказал он позже. – Прикинул время и безошибочно подрулил под окно. Юля вытолкала их из кухни, сказав, что ужин теперь приготовит сама, и плотно закрыла дверь. Они прижались друг к другу посреди чужой комнаты, чужих стен, чужих предметов. И было Нине странно, что она себя чувствовала так, словно после долгого-долгого отсутствия наконец возвратилась домой. – Ох, господи! – вырвался из ее груди облегченно-счастливый вздох. – Возможно ли это?.. Так хотелось окончательно поверить в сбыточность всего того, что грезилось бессонными ночами, что виделось в недосягаемом будущем за плотным барьером времени. – Как тебе жилось все эти годы? – Хорошо, Федя. – А сейчас? – Сейчас мне очень плохо, Федя. Так плохо, что смерть можно принять за счастье. – Ты думаешь, что говоришь? – Думаю. Но уже по-прежнему я тоже не могу. Живу в постоянном напряжении, в страхе. Меня надолго не хватит. Забери меня к себе, Феденька! – Она подняла лицо, посмотрела ему в глаза и прочитала: не верит. – Забери, родной. Я боролась, сколько могла, сопротивлялась изо всех сил и вот дошла до ручки. Не по шее хомут. Ефимов молчал и только прижимал ее к себе. – Неужели это правда? – наконец спросил он. – Только ты не отказывайся от меня, я буду тебе хорошей женой, Федюшкин. – Ты уже не уедешь? – Только забрать Ленку, уволиться с работы. – Не хочу тебя отпускать. – Не бойся. Мне главное – решиться. – Ты сегодня пойдешь ко мне. – Знаешь… Это будет не то. Будто украденное. Лучше потом, но без оглядки. Ты же меня всегда понимал, Федюшкин, родной мой. – А если он тебя не отпустит? Нина крепче сомкнула руки на его шее. – Главное, что ты меня не гонишь. За дверью ударило «динь-бом», шаркнули быстрые шаги, и голос Муравко окончательно развеял волшебство мгновения: – Юля, я принес все, что необходимо. Где будем накрывать стол? Потом, когда уже были выпиты первые рюмки и включен магнитофон, пришел Павел Иванович Чиж. Он молодо улыбнулся, поприветствовал всех и, вскинув на уровень плеч ладони, поймал танцевальный ритм, прошелся вокруг стола. Ему радостно зааплодировали, Юля порывисто обняла и поцеловала отца, Ефимов наполнил бокал вином. – Давненько в нашем доме не звенели бокалы! – Чиж был искренне рад гостям. – Деловые мы с Юлькой стали. Все работа да учеба. А для чего человечество изобрело вино? – А мы и завтра соберемся, Павел Иванович! – заявил Муравко. – Магнитофон обмыть. – А что? – подхватил Чиж. – Гулять так гулять! Только я не знал, что вы здесь, и пообещал одному человеку быть у него. Так что извиняйте, вынужден совершить посадку на другом аэродроме. Они еще танцевали, пили чай, потом Нина попросила Ефимова показать озеро, о котором он не раз писал и рассказывал ей, и они заспешили на воздух. – Гуляйте, – сказал Муравко, – я помогу Юле посуду мыть. Они почти не говорили. Шли и шли тихим берегом, прислушивались к шелесту камышей и мягкому всхлипыванию воды. Ее рука была в крепкой и преданной руке друга, плечо, к которому она прижималась, казалось ей безгранично надежным. Ее решимость уже была неколебимой. На обратном пути они едва не столкнулись с бежавшим по тропке человеком в синем спортивном костюме. Он уже разминулся с ними, но вдруг остановился и подошел: – Ефимов? – Так точно, товарищ командир. – Что же не знакомишь? – Это… Нина Михайловна. – Волков. Иван Дмитриевич. – Очень приятно, – Нина не отвела взгляда. – Ну что ж, – сказал он помолчав, – желаю счастья. Буду рад, если вы окажетесь правы, Ефимов. Цените, Нина Михайловна, он крупной ставкой пожертвовал ради вас. До свидания. Волков повернулся, сделал несколько шагов, а затем взял темп и растаял в сумерках редколесья. Нина посмотрела в глаза Ефимову – что он скрыл от нее? – Понимаешь… – Нина видела, что ему трудно об этом говорить, но ждала объяснений. Ефимов улыбнулся. – Не было никакого выбора, не могло быть, понимаешь? Я просто отказался от предложения стать космонавтом. Мне нравится летать в небе. – Федюшкин… – Он думает, что я из-за тебя. Я летчик, Нина. Я летать на самолете хочу. – Ладно, летчик, – счастливо засмеялась Нина. Она отлично поняла, о чем речь, и не стала выпытывать у Ефимова подробностей. Ей не хотелось приносить ему даже маленькие страдания. Но сообщение Волкова показалось Нине неоценимо важным. Если до этого ее решимость держалась только на одной опоре – на ее любви, то теперь появилась вторая – долг. Нина уже просто не имела права оставить его ни с чем. Они шли по узкой тропе, под ногами шелестели сухие прошлогодние листья, пахло водорослями и сосновой смолой. – Как на Кировских островах, – сказала Нина. – Привыкла, что белые ночи в Ленинграде. А у вас здесь то же. – В тундре они будут еще ярче и еще длиннее. Нина не поняла. И Ефимов рассказал, что в очень скором будущем, примерно через месяц, их часть передислоцируется в один из северных гарнизонов. – Тебя это не путает? Тут многие жены прямо бунт устроили. – Наоборот… Нина представила заснеженный поселок возле крутого обрыва, уютный домик на две квартиры, общий холл, большая кухня, соседи – Николай Муравко и Юля. Вечерами они будут собираться у камина (камин обязательно должен быть, хотя бы электрический), обсуждать события минувшего дня, прочитанные книги, просмотренные фильмы, создадут свой театр, будут вязать мужьям и детям теплые вещи и мечтать об отпуске. В отпуск – конечно же к Черному морю… Начать все сначала и подальше от Ленинграда – лучше не придумаешь. – Видимо, поначалу будут какие-то бытовые неудобства, – сказал Ефимов и вдруг остановился, повернул Нину к себе. – У тебя валенки есть? – Нет. – А шуба? – Есть теплое пальто и сапожки меховые. Он тихо усмехнулся. – Ты это чему? – Мне никогда ни о ком не приходилось заботиться. Видимо, это чертовски приятно. – Ох, Федюшкин, Федюшкин, – вздохнула Нина. – Неужели все это будет? – Будет, Нина, – сказал Ефимов твердо. – Еще десять лет назад я знал, что дождусь этого часа. И я его дождусь. Они уже вышли на шоссе. Промчавшиеся с полным светом «Жигули» на мгновение выхватили из сумрака лицо Ефимова, глубокую складку у переносицы между широко поставленными глазами и плотно сжатые губы. В ту ночь, перед сном, Нина с Юлей долго шептались. Увлеклись воспоминаниями о школьных временах. Нина радостно перебирала в памяти все связанное с Федором, рассказала о годах студенчества, о Ленке. Во втором часу Нина завела будильник и расслабленно вытянулась под легким одеялом. Как и Юля, она заснула не сразу, но они уже не возобновляли разговора, это грозило затянуться на всю ночь. Сон к ней пришел похожий на летний ленинградский дождь – быстрый, освежающий, легкий. Она проснулась отдохнувшая, полная энергии и желания действовать. Чтобы будильник не всполошил дом, Нина перевела стрелку звонка на девять часов. Тихо оделась, написала на клочке бумаги большими буквами «спа-си-бо» и тихонько подошла к двери. Юля спала на своей раскладушке глубоко и безмятежно. Ефимов ее ждал на одной из скамеечек детской площадки. Нине показалось, что он вообще никуда не уходил от дома. – Федюшкин, ты всю ночь здесь просидел? – Ничего, вот провожу тебя и отосплюсь. Сегодня выходной. Да и какой к черту сон, если рядом ты? Прощалась Нина, убежденная в неминуемой скорой встрече. Она и предполагать не могла, какое испытание приготовила ей жизнь. На вокзале в Ленинграде она столкнулась нос к носу со своей соседкой. Та посмотрела на Нину сочувственно и с испугом. И сердце у Нины похолодело и замерло: Ленка! – Что с ней? – схватила она за плечи соседку. Мысли уже рванулись лавиной, диким табуном: «Вот, вот она, расплата тебе! Слишком много счастья! Не может так быть, это несправедливо! Кому-то крохи, а кому-то коробом! Жизнь без равновесия немыслима. Испила меда, глотай теперь горюшко горькое. Глотай, Ниночка, глотай…» – Что с ней, говорите же? – С кем? – еще больше испугалась соседка. – Да с Ленкой, господи! – Вы еще ничего не знаете? – О боже мой! Да откуда же мне знать? – У мужа вашего беда, – чуть ли не шепотом заговорила соседка. – А с Ленкой все хорошо. Ничего с ней. Погибла лаборантка у него. Пожар был в лаборатории, по его вине, говорят. Нина старалась запомнить только одну фразу – «с Ленкой все хорошо», понять ее до конца, поверить. Остальное уже казалось не главным. Но уходящая тревога за дочь как бы освободила место для другой тревоги. Сразу всплыли слова о гибели лаборантки, о пожаре и о вине Олега. И Нина вспомнила, как товарищи упрекали Олега за несовершенство установки, за тайное накопление и лаборатории гидролизного спирта, петролейного эфира, этилацетата. Нина была химиком и знала, как легко воспламеняются эти жидкости и какую таят в себе опасность. Но Олег отмахивался. Он спешил с докторской диссертацией и утверждал, что, если будет соблюдать всю казуистику параграфов, он никогда не дойдет до финиша. «В конце концов, – рассуждал он, – результатами своего труда я заработал право на некоторую амплитуду неучитываемых движений…» – Он пострадал? – К ней уже возвращалось самообладание. – Не было его в лаборатории, экспериментировали студентки. – Соседка вдруг заторопилась. – На дачу спешу, там без продуктов мои сидят. Я же думала, вы знаете, потому и вернулись из командировки. «Пусть и он так думает», – решила Нина и почти побежала к метро. Ей уже все казалось ясным, сердце билось ровно и уверенно, в плывущем из-под земли людском потоке она чувствовала себя значимой единицей, а не какой-то частичкой безликой массы, и все же тревога в ней безотчетно нарастала. Нина была уверена, что после детского садика, где она увидит свою Ленку в полном здравии, она обязательно успокоится. Однако предчувствие беды преследовало ее. Ей показалось, что и ключ вошел в скважину бесшумно, и дверь распахнулась, не издав ни единого звука, но сидевший в комнате офицер в милицейской форме сразу поднял на нее строгие глаза и только едва заметно кивнул в ответ на ее «здравствуйте». Повернулся сидевший к ней спиной и Олег. Поразили Нину его глаза – измученные, виноватые, полные одиночества и растерянности. И Нина поняла, какое предчувствие вползало ей в душу: оставить Олега в такую минуту одного будет выше ее сил. Все обещания, данные себе и Ефимову, рассыпались как карточный домик. Поняв это, Нина, не отводя взгляда от Олега, попыталась нащупать на стене какую-нибудь опору, ноги вдруг обмякли и не хотели держать ее. Но опоры не нашлось, и она сползла на пол с виноватой и беспомощной улыбкой на лице. 12 Когда истребитель вздрогнул и захлебнулся и его напряженное тело словно обмякло, Новиков не испытал страха, почувствовал только невероятную досаду. Он вслух чертыхнулся и уже совсем неожиданно для себя услышал собственный голос. Потерявший тягу самолет еще несколько мгновений в полной тишине скользил, как привидение, над землей, используя силу инерции. И в эти мгновения летчику необходимо было прежде всего осмыслить случившееся. Затем оценить обстановку и принять решение. Но мозг сверлили нелепые вопросы: «Почему сегодня? Почему именно сегодня случилось это? Почему со мной?..» Дефицит времени – это ощущение висело над Новиковым постоянно с того дня, как полк вернулся с переучивания. В его личных планах, так скрупулезно рассчитанных по минутам, все чаще и чаще оставались окошки, не заполненные словом «выполнено». Львиную долю часов и минут забирали полеты и все, что было впрямую связано с ними. То, что удавалось сделать в оставшееся время, тоже служило полетам, с той лишь разницей, что относилось к ним несколько опосредствованно. Новиков видел: летчики после каждого вылета рвутся к разговору. Новый самолет на каждом очередном этапе его освоения задавал вопросы, требующие сиюминутного и четкого осмысления. Новые технические возможности истребителя-бомбардировщика открывали простор для фантазии, будоражили воображение. И если до переучивания в курилках, как правило, шел легкий бытовой разговор, теперь летчики возбужденно перелопачивали каждый элемент только что законченного вылета. Испытанные в воздухе ощущения требовали выхода, пережитые впечатления нуждались и оценках. Точность критериев решала многое. Верный навык необходимо навсегда зафиксировать, ошибочный – переосмыслить. Участие в таких разговорах для Новикова было главным звеном его политической работы. Лейтенант Колесников опять грубо посадил самолет. В чем причина – понять не может. – Ну, давай разберем всю посадку по секундам… Колесников медленно вспоминает все элементы своих действий, его правая рука повторяет каждое движение ручкой. – Ближний привод… Бетонка почти рядом… Сейчас колеса коснутся земли. Новиков замечает, как Колесников вытягивает шею, чтобы лучше «увидеть» полосу, его правая рука делает едва заметное движение к груди. – Пойдем-ка к самолету. Колесников садится в кабину, Новиков пристраивается на красной металлической стремянке. – Ближний привод, – вновь повторяет лейтенант, вспоминая каждое движение. Его лицо напрягается, брови сходятся к переносице. – Сейчас колеса коснутся бетонки. Он вытягивается на сиденье, чтобы улучшить обзор, и рука снова делает едва уловимое движение к груди. – Все ясно! – Новиков доволен. – Сидишь, дорогой мой, низко. Как только начинаешь вытягивать шею, ручку берешь на себя. А машинка-то чувствительная. Чуть ручку тронул – она взмывает, потом плюхается. Сиденье подняли, обзор улучшился. Очередную посадку Колесников произвел как по нотам. Вчера на разборе полетов Волков лаконично, как всегда, но с плохо скрытым гневом сказал: – Некоторые наши молодые летают, как на параде. Даже не замечают, что их перехватывают. Мало, сами мишенью служат, так и другим упрощают учебу. Симптом опасный. Даже в период освоения нового самолета. Вдвойне опасный – в предложенных обстоятельствах. Освоить новый самолет – значит научиться не только его пилотировать, но и вести бой. Именно в этом суть отпущенного полку времени перед тем, как перебазировать его на Север. И в маленькой, открытой всем ветрам курилке то и дело вспыхивает возбужденный разговор. – Конечно, – говорит Новиков, ни к кому конкретно не обращаясь, – любая задача имеет несколько решений. Мы знаем примерно, где цель, знаем курс, время, знаем, что ее надо уничтожить. Один идет к цели наверняка, издали присматривается, не торопясь готовится к удару. И наносит его без промаха. Другой все расчеты делает заранее, в уме, подкрадывается к цели как лиса. И прежде чем ударить, заложит какой-нибудь отвлекающий маневр… Летчики слушают, пытаясь угадать, о ком это замполит речь ведет. А Новиков нарочно тумана напускает. – Разумеется, – говорит он, – и тот и другой правы. Для оценки точность первого очень хороша. Лихость второго окупится сторицей в настоящем бою, хотя сегодня он рискует промахнуться. Горелову запланирован не выполненный несколько дней назад полет в облаках. А в небе, по закону подлости, лишь одинокие белые островки. Хоть сетями их вылавливай и тащи в зону. Руслан держится спокойно, но, естественно, понимает: зачет по такому полету если и будет выставлен, не принесет радости ни ему, ни командиру. Переиграть бы этот вылет, подобрать другую задачу, а где взять время, чтобы уговорить Волкова внести поправки в плановую таблицу? Нет его, времени, и все тут. И все-таки Новиков находит какой-то резерв, чтобы почти на ходу кинуть командиру: – Сами упрощаем условия, а потом возмущаемся. – А где я возьму ему облака? – Не валяй дурака, Иван Дмитриевич. Ты знаешь, как в таких случаях поступают. Волков машет рукой – мол, черт с тобой, разрешаю. Теперь надо с комэском договориться, с руководителем полетов. А еще с Назаровым разговор на очереди. Человек возглавляет партийную организацию эскадрильи, но кроме своих полетов ничего знать на аэродроме не желает. – Моя партийная работа – летать! Это еще Чкалов сказал. И летает. Четко, красиво, ювелирно. Новиков не помнит случая, чтобы Назаров совершил хоть какую-нибудь микроскопическую ошибочку. Ну почему бы не рассказать о своих секретах молодым? – Все, что я могу рассказать, – написано в наставлении по производству полетов. Пусть читают и выполняют. Он и на собрании такой. Объявит повестку и молчок. Будто лишнее слово сказать – принять дополнительную нагрузку. Даже выступающих объявляет только по фамилии. – Ведь положено говорить: слово предоставляется коммунисту такому-то, – заметил ему как-то Новиков. – И без этого слов хватает, – буркнул в ответ Назаров. Однажды он закрыл собрание сразу после доклада. Помолчал минуты три и сказал: «Желающих выступить нет, собрание закрыто». Все только переглянулись. Зато после этого случая стали записываться для выступлений еще до начала собрания. Новиков чувствует – Назарова можно разговорить. Надо только струну отыскать, за которую тронуть нужно. А уж если зазвучит она, то ее чистый голос услышат многие. Разгадать бы только, что это за струна. Встреча с Ефимовым напомнила Новикову о срочности еще одного дела. Он прикинул: вторая смена начнет полеты в пятнадцать часов. Теперь около тринадцати. За два часа можно черт знает что сделать. Предупредил Волкова и немедленно уехал в город. Начальник ГАИ майор милиции Середин встретил Новикова озабоченной улыбкой, пригласил сесть. В его маленьком кабинете особенно бросалась в глаза огромная, во всю стену, карта города. Обсыпанная разноцветными точками, она внушала какое-то не поддающееся объяснению уважение. – Слушаю вас, Сергей Петрович, – по-прежнему озабоченно сказал Середин. – Что невесел, молодец? – улыбнулся Новиков. – Для веселия планета наша мало оборудована, – ответил стихами майор. И добавил: – Набрали в ГАИ девчушек, а теперь вот плачем. Повыходили паршивки замуж, взяли декретные отпуска, а на постах шаром покати. Хоть сам становись. Пять минут назад грузовик зацепил райкомовскую «Волгу». Как раз на том перекрестке, где регулировщица в декрете. – Не вовремя я, кажется, к вам, Аркадий Васильевич. – Люди помирают только не вовремя. А если встречаются – всегда вовремя. Новиков напомнил о конфликте старшего сержанта Дерюгина с офицерами полка. Середин нажал клавишу селектора. – Дерюгина немедленно ко мне. – Выехал на лесозавод, – ответил трескучий голос. – Верните. Новиков посмотрел на часы. – Минут через десять будет, – успокоил его начальник ГАИ и спросил: – Уверены, что ваши ребята не виноваты? – Большов, водитель, мог кое-что сгладить, приукрасить. В честности Ефимова не сомневаюсь. – Дерюгин как раз наоборот говорит: «Водителя прощу, а на пассажира в суд подам». – Середин помолчал, прокашлялся. – Инспектор, главное, дисциплинированный, дело знает. А вот чего-то парню не дано. И как это ему скажешь? Не будь слишком строгим? Не обращай внимания, если тебя оскорбляют? Без строгости в нашем деле труба. Есть такие наглецы за рулем – диву даешься… Новиков знал, что сказать в ГАИ, когда выехал за порота аэродрома. Нагрузка, которая сегодня легла на плечи летчиков, если о ней рассказать поярче, не оставит никого равнодушным, даже милицию. Но слушая Середина, видя его озабоченные глаза, Новиков усомнился в неотразимости своих аргументов. У них тут тоже волнений хватает и нагрузка не легче, чем у летчиков. – Отпустите его со мной в полк, Аркадий Васильевич, – сказал Новиков. – Пусть посмотрит на нашу работу, а Ефимов потом с ним пару часов на посту постоит. Авось найдут взаимопонимание, а? – Я и сам бы не прочь поглядеть на новые самолеты. – Давайте встретимся. Хоть сегодня. – Серьезно? – К пятнадцати приезжайте. Середин полистал какой-то толстый журнал, что-то посчитал, выписал фамилии. – Вот, двенадцать человек набирается, – протянул он листок Новикову. В дверь постучали. – Товарищ майор, старший сержант Дерюгин по вашему вызову. – Садись, – показал на стул начальник ГАИ. – Вот Сергей Петрович Новиков хочет пригласить тебя в полк на полеты. – А зачем это мне? – удивился инспектор. – А просто так. Для интереса. Дерюгин пожал плечами. Майор насупился и строго сказал: – Чтобы не думал, что только у тебя работа. Другие тоже не бездельники. В четырнадцать тридцать быть в автобусе у подъезда ГАИ. Понял? А теперь свободен. Старший сержант вышел из кабинета озадаченным. – Идея! – повеселел Середин. – Люди есть люди. И жить им надо, как людям. Они расстались повеселевшие. Не оттого, что удалось договориться. Оттого, что поняли друг друга, оттого, что захотели понять. Новиков с радостью обнаружил, что у него осталось почти сорок минут времени, и вместо привычного «На аэродром!» сказал водителю неожиданное и для него, и для себя: «Домой!» Он знал – у Алины сегодня уроки с шестнадцати часов и она искренне обрадуется его неожиданному появлению. Тем более что расстались они утром, сказав совсем не те слова, которые хотелось сказать. Новиков искал на ее столе чистую бумагу, хотел прихватить с собой несколько листочков в надежде, что появится «окошко» и он сумеет, хотя бы вчерне, набросать давно заказанную ему статью в окружную газету. Включил настольную лампу и увидел фирменный конверт из Академии педагогических наук. В отпечатанном на машинке письме какой-то академик скрупулезно разбирал предложенную Алиной методику преподавания математики в старших классах средней школы. В письме было много специальной терминологии, разговор шел профессиональный, однако Новиков с гордостью почувствовал – академик всерьез принимает работу его жены, дает ей высокую оценку и с нетерпением ждет окончательного результата. Новиков еще раз перечитал письмо, уже с чувством боли. Стало очень досадно. Женщину, которую он любит, которой желает успеха больше чем себе, сам лишает возможности познать счастье исполненного долга. В эту минуту он впервые ощутил всю жесткость непререкаемости армейских законов, ощутил суть трудности своей профессии и высшую справедливость этой трудности, этой жесткости. Ну в самом деле, почему бы ему не рассказать в политотделе об этом письме академика, о школьном эксперименте Алины, почему бы не попросить оставить его здесь, хотя бы на пару лет? Ведь человек тоже государственное дело делает, – детишек учит. Должны понять! «И поймут, и оставят, – сказал он себе, – только просить об этом нельзя. Немыслимо! Попросил – и нет комиссара…». – Прочитал? – Алина стояла у приоткрытой двери, застегивая халат. – Прочитал. – Что мне ответить почтенному академику? – Напиши ему вот что, – он обнял жену, потерся подбородком о ее волосы, – напиши: любит тебя один ас, любит так, что жизни своей без тебя не мыслит. И академик все поймет. Они знаешь какие ушлые… Алина не ответила. Она высвободилась из его объятий и ушла в ванную комнату. У него уже не было времени объясняться. – Вечером я тебе продиктую исчерпывающий ответ, – сказал он в дверь. – Во всяком случае, академик будет доволен. И сейчас, подъезжая к дому, он не думал о затягивающемся узле семейных противоречий, он представлял, как Алина удивленно обрадуется его появлению, как бросится к нему в объятия и им обоим будет хорошо и покойно до тех пор, пока не вспомнят об этом злосчастном переезде. Ну, что огород городить? Поживут два-три года врозь. Если смогут, конечно. Алина сидела над стопкой школьных тетрадей, накинув на плечи его кожаную куртку. Услышав шум открывающейся двери, она, не повернув головы, сказала: – Что-нибудь забыл? – Тебя поцеловать, – сказал Новиков. Алина ойкнула и обессиленно опустила руки. – Думала, Санька. Что случилось? Реки вспять пошли, земля в обратную сторону завертелась? Или тебя сняли с должности? – Нестерпимо захотелось повидать тебя. – Он пристально осмотрел ее всю. – Что это ты в мою куртку нарядилась? Алина смутилась. – Тобою пахнет, будто рядом. Он засмеялся. – Унты надень, будет стопроцентное впечатление. – А ты не смейся, пожалуйста. – Извини. – Он прижал ее к груди, и она податливо, без сопротивления приникла к нему. Доверчиво и преданно, как в далекие юношеские годы. – Сегодня в городском Доме культуры выступают ленинградские оперные артисты, – сказала Алина и мечтательно вздохнула: – Вот бы послушать. «Подумаешь, событие», – хотел он тут же ответить, но чувство вины перед любимым человеком остановило его. Чувство, которое накапливалось годами и вот сейчас подступило к сердцу волной трогательной жалости. Действительно, скольких больших и маленьких радостей лишил он ее хотя бы за последний год? Только обещал: поедем в Ленинград, походим по театрам, вот скоро отпуск, тогда уж мы развернемся, вот в следующее воскресенье пересмотрим все фильмы в городе. Нет, черт побери, у всякого терпения есть предел. – Я согласен, – сказал он, прикинув в уме свои возможности. – Ты пойдешь со мной или только поддерживаешь идею? – Она запрокинула голову и пронзительно-требовательно посмотрела ему в глаза. – Даю тебе честное, – он хотел сказать «пионерское», – комиссарское слово – мы пойдем вместе слушать твоих заезжих звезд. Чтобы к девятнадцати ноль-ноль была в полном параде. И с аксельбантом. Алина осталась строгой. – Попробую поверить еще раз. Новиков взял ее лицо в обе руки, посмотрел в глаза. На самом их донышке таяло недоверие. – Ну… улыбнись, Алина свет Васильевна. Улыбнись. Тебе так идет улыбка. – Не могу, Сережа. Хочу и не могу. Он взял ее на руки и удивился ее легкости. Санька и тот, пожалуй, в весе обогнал мать. И в сердце с новой силой всколыхнулась нежность. Нет, без нее он пропадет на Севере, не сможет. Тоска сожрет его. Или ехать вместе, или не ехать вовсе. – Я все понимаю, – говорила она, уткнувшись носом в его шею, – со всеми доводами согласна, а на душе камень. Будто в дураках остаюсь. – Со мною остаешься. С Санькой. Разве этого мало для счастья? – Если бы с тобою, – она снова вздохнула и крепче обняла его шею. – Одна буду обедать, одна в отпуск ездить, одна засыпать. Знаю, слава богу, твою службу. А с ними мне хоть думать об этом некогда. Знаешь, как они любят меня? – Не будь жадной, лапушка. Ты знаешь, крепче и надежнее всех тебя любит один летчик. Между прочим, ас. – Он ходил по комнате и раскачивал ее на руках, как раскачивают ребенка, когда хотят, чтобы он скорее заснул. – Ты знаешь, небо для этого летчика – что жизнь. А для тебя ему и жизни не жалко. – Знаю… Только ведь все равно обидно бросать начатое. Обидно до слез. Вспомню – и больно. – Вон жена Волкова. Без всяких комплексов. Сказал муж «надо», она только и спросила, когда собирать вещи. – Дом, семья – все ее заботы. – Эта домохозяйка окончила Бауманское училище. Ее работы по дизайну отмечены медалями ВДНХ. Ей предлагали аспирантуру, а она… – Сереженька… Дело в характере, в субъективном отношении. Может быть, ее такое положение больше устраивает, чем аспирантура, чем… Стать тенью мужа – разве в этом счастье? – Если тенью – нет… У Волкова на плечах такой груз, что десятерым впору нести. – А у тебя? – У меня поменьше. Но не будь рядом тебя, давно бы ноги подкосились. Вы, наши жены, служите, как и мы. На самом ответственном посту. На защите Родины. И медали, которые нам дают за безупречную службу, принадлежат вам в равной степени. А ты говоришь – тенью. – Отпусти меня, ты же устал, – наконец улыбнулась Алина. – Давай я тебя блинами накормлю. – Ты прекрасно знаешь, что я могу тебя всю жизнь носить на руках. – Была в Ленинграде, – вспомнила она, – заходила в институт к Ольге Алексеевне, жене Чижа. Ты бы видел, сколько в этой женщине величия, сколько достоинства. Личность! – И тебе показалось: вот счастливый человек! – Думаешь, нет? – Спросила бы ее… – Он посадил Алину на диван, сам лег, положив ей голову на колени. – Счастье, когда я могу вот так полежать. – Как ребенок. Новиков засмеялся. Посмотрел украдкой на часы. – Мы только думаем, что с годами становимся мудрее и опытнее. Ничего подобного. Каждый возраст требует своего опыта. – А любовь? – Любовь, лапушка, приходит и уходит по своим законам. Если двое не могут друг без друга – это начало. А если могут – то все, близок конец. Так что самый счастливый человек – это ты. И я, само собой. Он встал, поправил галстук. – Все. Пора. Целуй аса. – Уже? Пяти минут не побыл. – Не хмурься, Алина свет Васильевна. Жизнь прекрасна, уверяю тебя. Остальное – дым. Алина взяла его под руку, склонила голову на плечо, проводила до порога. – Я знаю, что счастливее меня нет на свете женщины, – сказала она. – Но мне все равно хочется плакать. Они мне не простят предательства. – Мы живем в такое время, лапушка, когда все желания исполняются. – Он уже открыл дверь. – Есть желание поплакать? Поплачь. Но лучше – улыбнись. – Он сразу стал серьезным. – У меня полет, и мне нужна твоя улыбка. – Иди, – улыбнулась Алина. – С тобой невозможно говорить о серьезных вещах. Иди. – Не забудь нарядиться к девятнадцати ноль-ноль… Ворота на сигнал водителя лишь приоткрылись и, дернувшись, замерли. – Автоматика – на грани фантастики, – сказал Новиков выбежавшему навстречу солдату и выпрыгнул из машины. – Никак нет, – возразил тот. – Тут к вам приехала какая-то гражданка. Сидит в комнате для свиданий. – Ко мне лично? – Говорит, ей нужен замполит. Новиков быстренько перебрал в памяти возможных посетительниц и, решив, что наверняка мать какого-нибудь солдата, попросил пригласить ее на свежий воздух, под липу. Здесь стояла удобная для бесед скамья. Женщина представилась Евдокией Андреевной, крепко пожала руку Новикова, осторожно села на скамью. Ей было около пятидесяти. – Я вас слушаю, Евдокия Андреевна, – сказал Новиков после затянувшегося молчания. Женщина вздохнула, облизала пересохшие губы. – Федька Ефимов служит у вас. Наш, Озерный. С дочкой моей женихался, когда учились в школе. Кто же в их возрасте не влюбляется? Ну, потом Ниночка вышла замуж. Только подумайте: такой человек ей попался – в сказке не встретишь. Любит-то ее как, в Леночке души не чает. Не пьет, не гуляет. А умница какой! И пошутит, и серьезно поговорит. Кандидат наук, доктором скоро будет. Нинке моей все подружки завидуют. Да и то – живет как у бога за пазухой. Она раскрыла сумочку, достала платок и вытерла без того сухие узкие губы, промокнула навернувшиеся на глаза слезы. – Я почему все вам рассказываю? Отыскал ее Федька. Уж не знаю как. И начал сманивать к себе, бобыль проклятый. Мало ему незамужних девок. В партии, наверное, состоит. Нинке бы моей погнать его метлой поганой, так и она туда же: люблю его и весь сказ. Семью-то хорошую создать не просто. Вот разрушить – это легко. Ужель он не понимает? Поговорите с ним, приструните. Я мать. Сердце мое не на месте. Чую – не к добру он ее разыскал. Пусть откажется от затеянного. Всем будет легче. И ему, и Нинке, и Леночке. Она же без отца не сможет. Любит его больше, чем маму. Девочка будет ненавидеть его всю жизнь – неужели Федька этого не понимает? Мы с вами больше их прожили. Хорошо знаем, что любовь – это как грипп: полихорадит-полихорадит, да и отпустит. Поговорите с ним. Убедите. Нельзя же создавать счастье на чужом несчастье. Девочку без отца оставят, Олегу жизнь загубят, да и сама она будет потом локти кусать. – Евдокия Андреевна помолчала и глубоко вздохнула. – Кто мог подумать, что беда придет, откуда ее меньше всего ждали? Новиков не знал, что сказать этой пожилой женщине. Она мать. И всеми доступными ей средствами спасает свое дитя. От чего спасает и нужно ли спасать – это вопрос другой. Нина счастливо сделала выбор, сложилась отличная семья, дружная, благополучная. И вдруг появляется зловещая тень в образе летчика-красавца, которому наплевать на эту семью, на ребенка, только бы устроить свое счастье. Все как будто логично. Но Нина любит Ефимова. Любит? А что это такое – любовь? В каких единицах ее измеряют? Стоит ли она тех бед и несчастий, которые придут, если дать волю любви? А не наряжаем ли мы в торжественные одежды обычную человеческую похоть? Разве Ефимов плохо жил до встречи с Ниной? И разве он уверен, что ей будет с ним лучше? Ведь рушится не какая-то случайная семья, полная противоречий. Рушится семья счастливая. Имеет ли Ефимов моральное право на такой шаг? Все ли он взвесил? Все ли оценил с достаточной серьезностью? Да, он любит ее. Но кто и когда закрепил за этим чувством право на вероломство? Ведь любовь – это высшая нравственность. Значит, она должна быть зрячей, а не слепой. – Евдокия Андреевна, – Новиков волновался. – Я отлично понимаю вас, разделяю ваше беспокойство и обязательно поговорю с Ефимовым. Но вас, как мать, не беспокоит такой вопрос: может, не надо вмешиваться, может, это обернется для нее горем на всю оставшуюся жизнь? Сможет ли она быть такой, как раньше? Будет ли в их доме прежнее счастье? – Будет, – твердо стояла на своем Евдокия Андреевна. – Перебесится, переболеет, а природа свое возьмет. Баба, она и есть баба. Нет, эта женщина не могла быть советчицей Новикову. Надо с Алиной поговорить. У нее зоркое сердце. С Ефимовым. С Ниной Михайловной. Не может он, комиссар полка, быть сторонним наблюдателем в этой истории. Любовь – стихия. Но и стихии надо противопоставлять человеческую волю, ум, накопленную мудрость. Неуправляемая стихия разрушительна. – Хорошо, Евдокия Андреевна, – сказал Новиков, вставая. – Мне надо на полеты. Я обязательно приму меры. Ефимов парень неглупый, он должен понять. Поговорю сегодня же. – Только не говорите ему, что я была тут. Узнает Нинка, не простит мне. – Не скажу. До свидания. «Какая ерундистика, – подумал он через минуту. – Стихия, воля! Мура на постном масле! Если они любят, их не остановит ничто. И говорить на эту тему с кем бы то ни было – выставить себя чучелом гороховым». Он отметал уже мысли, не связанные с полетом. Земное оставлял на земле, в небо уходил облегченно-свободным. Хотя задание у него было сравнительно простое – послерегламентный облет самолета старой модификации, – но он волновался. Вчера очень серьезно готовился. Все время думал о предстоящем вылете. «Все будет просто и буднично, полет как полет», – говорил он себе, принимая доклад у техника. Но память разбережена. Она поспешно воскрешает одну за другой картинки, связанные со знакомством и освоением самолета, стоящего в ряду ветеранов. Новиков садится в кабину с возбужденным нетерпением. Ему предстоит не просто рабочая проверка «старичка», у него будет сейчас удивительный полет в юность. Не только мозг, даже мышцы цепко хранят память всех навыков управления. – Ну, сынок, – сказал ему тогда инструктор, – лети! Этим коротким напутствием майор Головко Иван Афанасьевич провожал его не только в первый самостоятельный вылет, он выпускал юного курсанта в большой полет через всю жизнь. Понял это Новиков позже, когда узнал, что Ивана Афанасьевича не стало. Рассказывали, что он умер во сне. Вечером попросил у дочери таблетку анальгина – болела грудная мышца, а утром уже был без признаков жизни. «Красиво жил, – говорили ветераны, – красиво умер». Но все это будет позже. Тогда восторженная душа курсанта еще не знала боли утрат. В его руках был реактивный истребитель, перед глазами уходящая за горизонт взлетно-посадочная полоса и над головой – бесконечная голубизна неба. К этому дню Новиков освоил все, что полагалось курсанту. Запуск, подруливание, взлет, пилотаж, заход на посадку – все это им делалось неоднократно. Но под наблюдением инструктора. Афанасьич, как звали его между собой курсанты, вмешивался в работу пилота только в крайних случаях. Летая с Новиковым, он не сделал ему ни одного замечания. Нередко Новикову казалось, что за его спиной во второй кабине вообще никого нет. Но казаться может что угодно, а инструктор в кабине был и каждое действие курсанта контролировал с неусыпной бдительностью. Самостоятельный полет по категории сложности – шаг назад. Но в плане психологическом это целый скачок вперед. Одно слово – сам! Сам принимаешь у техника самолет, сам опробуешь рули, тормоза, сам запрашиваешь руководителя полетами, сам принимаешь решение на перевод рычага за «максимал»… И вот уже ощущаешь, как упругие крылья твоего самолета отрывают многотонную машину от земли. И ты, словно сдунутая с бетонной ладони пушинка, взмываешь в высоту, теряя чувство скорости и времени. Потрескивающий в наушниках эфир предостерегает: будь бдителен, не увлекайся. Но радость уже переполняет тебя, распирает грудь: сам! И, чтобы в этом убедиться еще и еще раз, ты делаешь не предписанные программой маневры. Самолет идет по сложной кривой – вправо, влево, вверх, вниз, качает крыльями, размахивает руками… Нет, это уже тебе самому хочется кричать и размахивать руками: смотрите – я сам лечу! В наушниках потрескивает эфир: не увлекайся, ты летчик, чувствами своими надо владеть. И ты с сожалением берешь себя в руки. Но значимость этого полета не имеет для тебя аналогов. Слова Афанасьича: «Сегодня ты стал летчиком», – звучат подобно торжественному гимну. В каждом – высший смысл. Сегодня… Ты… Стал… Летчиком… А какие объятия раскрывались ему навстречу, какие искренние поздравления он слышал от друзей! Но самое счастливое мгновение – цветы Алины. Она не говорила никаких слов, просто неистово и долго целовала его, будто понимала, что с этого дня ему придется разделить свою любовь между небом и ею, и навсегда прощалась с вынужденной потерей принадлежавшей ей половины. Ушедшие годы, как след инверсии за самолетом. Те, что поближе, – объемны, с отчетливыми контурами событий. Которые подальше – уже потеряли очертания, стали расплывчатыми. И лишь отдельные клочки воспоминаний дают возможность угадать след оставленной траектории. Заложить бы вираж, зайти к началу начал и все пережить заново! Но жизнь – не полет в истребителе. Сегодня не скажешь, а завтра уже не поправишь… И этот полет на самолете юности не более как полет памяти. Многое стало привычным, утратило остроту. И только жажда летать с годами не утоляется, а наоборот – все острее и острее. Где-то глубоко в подкорке идет неумолимый отсчет: день прошел – значит, ближе к финалу. И надо бы каждый полет испить медленными глотками, насладиться чистотой неба, но летчик подымается в небо не на прогулку. Он работает до седьмого пота, до самозабвения. Он готовится к тому часу, когда ему Родина прикажет вылететь навстречу врагу и победить его. Сегодняшний полет Новикова отличался как раз тем, что ему не надо изнурительно разыскивать «противника», выверять заданный режим, держать постоянную связь с КП, жестко рассчитывать маневр и делать многое другое, что делают летчики в плановых вылетах. Ему надо просто полетать в зоне, на разных режимах погонять движок, убедиться, что самолет после регламентных работ нормально функционирует, о чем и сделать отметку в соответствующих документах. Как говорят летчики, полет в свое удовольствие. «И все-таки с Ефимовым надо поговорить, – пытается догнать его оставшаяся за бортом кабины мысль, – попросить об одном – не спешить». И тут же вспомнил: уже просил. И все. Мысль отлетела. Самолет оторвался от бетонки. Как только скользнули под крыло домики аэродромных служб, Новиков привычным движением убрал шасси и положил самолет на заданный курс в зону. Рука свободно лежала на ручке управления, все стрелки на циферблатах приборов разошлись по своим местам, двигатель работал ровно и надежно. Вот и заданная высота. Рука сама подает ручку вперед, и «птичка» авиагоризонта сигнализирует, что самолет уже движется в горизонтальной плоскости. А стрелки часов подсказывают – прибыли в зону. – «Медовый», я «полсотни второй», зону занял, разрешите работу. – Вас понял, «полсотни второй». – Это Павел Иванович Чиж. – Доложите высоту. – Высота двенадцать… – Хорошо, работайте. Впереди тусклым пятном белеет облако, и Новиков нацеливает самолет прямо в его середину, и по тому, как оно стремительно приближается, ощущает скорость. Безобидные скопления легких паров сердито ударяют по корпусу самолета, тонкими водяными нитями ползут по остеклению кабины. Но вот самолет прошивает эту небесную копну хлопка и будто зависает в стерильной голубизне. Новиков делает разворот, облетает белопенный айсберг стороной, проходит над его верхушкой, снова разворачивается и уже пролетает под нижней кромкой, задевая фонарем провисшие сосульки облаков. Он купается в небесной стихии, как купаются дети на мелководье морских берегов, не сдерживая восторга. Словно дюжие молодцы, наваливаются на него перегрузки, вдавливают в чашу сиденья, хватают за руки, оттягивают челюсть, а он переламывает себя, заставляет самолет быть послушным его отяжелевшим рукам. Нет, все прекрасно, регламент сделан по высшему классу, ребята в ТЭЧ знают свое дело. – «Медовый», я «полсотни второй», режим один закончил, разрешите занять эшелон для второго режима. – Вас понял, снижение разрешаю. Работа у земли окрашена новыми тонами. Здесь, как говорится, надо ушки держать на макушке. Каждому маневру нужен безукоризненный расчет, ибо за одну секунду под крылом проносится несколько сотен метров. Для исправления ошибки в расчетах времени нет. Но именно такие жесткие условия пилотажа у земли по душе летчику. Это как у альпинистов – чем труднее высота, тем сильнее манит. Только у летчиков все наоборот. Чем ближе к земле, тем острее ощущение полета. И не будь регламентирующего документа с жестким указанием нижнего предела, многие пилоты довели бы эту остроту до опасной грани. И тут ничего не поделаешь, уж так устроен человек. Новиков не сразу увидел впереди похожее на медузу подвижное пятно. А когда оно неожиданно выросло на фоне светлого неба, он резко взял ручку на себя, но было уже поздно. Истребитель вздрогнул, и двигатель его захлебнулся. Он еще сохранял устойчивость, слушался рулей, несся по инерции над землей, но это движение уже нельзя было назвать полетом. До встречи с землей оставались мгновения. Подавив досаду, Новиков глянул на приборы. Пожара нет. Можно попробовать запустить двигатель… Рука сама нащупала кнопку… Не запускается… Все верно – в воздухозаборник что-то попало… Осмотрелся… Для катапультирования высоты нет… Доложить руководителю… Прекрасно – рация не работает… Остается одно – на фюзеляж… Но где? Впереди распласталась на десятки километров пересеченка – скалистые холмы, поросшие лесом. Справа – цепочка населенных пунктов. И лишь левее курса виднелся рыжий лишай пересыхающего болота. Туда и надо повернуть. И если повезет… – Черт! – выругался Новиков и удивился громкости своего голоса. Почему именно сегодня? Ведь они собирались в театр! И опять Алина будет права, обижаясь на него. 13 Тревога осторожно подкрадывалась к нему, но он был занят – на посадку шли один за другим молодые летчики – и не обратил на нее внимания. Она постучалась настойчивее, подступила ближе к сердцу и лизнула его своим шершавым языком. «Уж не забыл ли чего?» – подумал Чиж и неторопливо осмотрелся. Вся смена была спокойной, все шло по плану, погода не внушала никаких опасений. Но коль тревога вошла в тебя – беда рядом. Она только задышала над его ухом, а он уже знал, с какой стороны ждать удара. Знал потому, что интуитивно чувствовал неладное в затянувшемся молчании Новикова, хотя голос его отсутствовал в эфире не так и долго. Чиж посмотрел на дежурную смену. Тревога еще не коснулась ни одного лица. Юля, покусывая губу, что-то сосредоточенно подсчитывала, помощник уткнулся в плановую таблицу, дежурный штурман возился со своей хитроумной линейкой, планшетист вычерчивал неизменные загогулины, ничего не видя и не слыша, кроме голоса в наушниках. Бездельничал лишь солдат у прибора наблюдения, смотрел на летное поле, а в мыслях витал далеко за его пределами. Чиж умышленно медлил с запросом, очень хотелось ошибиться в своих предположениях. И хотя с момента, когда он почувствовал опасность, до принятия решения хронометр отсчитал не более пяти секунд, ему почудилось, что ждет он манну небесную преступно долго. Уже давно надо действовать. – «Полсотни второй», доложите обстановку. Я «Медовый», прием. На ответное молчание он уже никак не среагировал. Был готов к нему, и запрос повторил механически: – Ответьте, «полсотни второй», я – «Медовый». Ответьте, как слышите… – Помолчав, Чиж распорядился не терпящим возражения голосом: – Внимание всем! Работать только на прием. Если заметите взрыв или пожар, докладывать немедленно… «Полсотни второй», Сергей Петрович, если слышите меня, дайте знать о себе. Любым способом. Прием! Эфир отвечал зловещим потрескиванием. Юля напряглась и смотрела на отца умоляющими глазами, будто он бог и все может. Виновато скис наблюдатель, отложил в сторону свою линейку штурман, помощник нервно кусал губы, ожидая новых сообщений. И лишь планшетист продолжал чертить маршруты летающих в небе самолетов. Он еще не заметил, что одна из точек на его планшете неподвижно зависла. – Командный пункт, доложите обстановку по «полсотни второму». – «Пятьдесят второй» работал на малых высотах в зоне три. Из-за местников наблюдать его не могли. – Понял… – И снова в эфир: – «Полсотни второй», Сергей Петрович, мы вас не слышим, дайте знать о себе. Он отложил микрофон. Вся смена сидела как загипнотизированная, и Чиж впервые повысил голос: – В чем дело, товарищи? Готовность стартового командного пункта никто не отменял! Он может в любую секунду появиться. Другие в воздухе. Что за разболтанность? Особое внимание за посадочным! По ступенькам лестничных пролетов уже грохотал Волков. Он влетел на СКП как ветер. – Что с Новиковым?! – Нет связи. – Последний доклад? – Попросил эшелон для второго режима. Я разрешил. Это в зоне три на малых высотах. И все. Волков взял микрофон. – Объявляю готовность всем аварийным службам. Инженеру обеспечить транспорт для группы поиска. Радиостанцию в мой автомобиль. И, повернувшись к Чижу: – Вызывайте, вызывайте его непрерывно. И слушайте, вдруг что-то прорвется. Он отошел к аппарату дальней связи и стал вызывать «Бумажник». Чиж, как всегда, сверил действия командира со своей моделью и удовлетворенно одобрил их. «Бумажник» – позывной вертолетчиков. Поиск в зоне необходимо контролировать с высоты. Осталось совсем немного времени возможного пребывания Новикова в воздухе. – Остаток горючего, – сказала Юля, будто чувствовала ход размышлений Чижа, – примерно на три минуты. Если за эти три минуты он не появится на посадочном курсе, значит все – или катапультировался, или пошел на вынужденную, или уже нет ни самолета, ни летчика. Волков договаривался. Вертолетчики готовы поднять звено. Нужна команда вышестоящего штаба. Волков просит соединить его с командующим. Тоже верно. Когда беда, когда нет времени, можно и так. Даже нужно. – «Полсотни второй», «полсотни второй», ответьте, мы ждем, мы готовы принять вас, ответьте, прием… – Остаток топлива на одну минуту, – дрожащим голосом говорит Юля, зная, что руководителю это известно так же, как и ей. – Я прошу еще раз «Бумажник», – требует Волков. – «Дизельный», «Клубничный», я «Медовый». Потеряна связь с бортом «полсотни два» МИГ-двадцать один, облет после регламента. Работал в зоне три на малых высотах. Прошу немедленно сообщать все, что станет известно. Как поняли, прием. По ответам чувствовалось – там уже знали. – «Бумажник», соедини с командиром… Гаврилыч, Волков опять. Командующий дал добро… Уже знаешь?.. Ну что ж, два звена лучше, чем одно. Поднимай, я выезжаю в зону… Рация в моей машине. Это хорошо. Спасибо. – Топливо кончилось, – тихо сказала Юля и опустила руку с секундомером. И Чиж почувствовал, как шевельнулся под лопаткой острый, горячий металл. И боль разветвилась в плечо и через грудь к позвоночнику. Словно его проткнули горячей шпагой и тут же ее выдернули. Он вдыхал, вдыхал воздух, а легкие не наполнялись – словно воздух выходил сквозь оставшиеся от прокола отверстия. – Папа! Тебе плохо? – глаза Юли были перед самым лицом. Не хватало только руководителю грохнуться на пол. Неимоверным усилием воли Чиж заставил себя улыбнуться Юле: – Вот увидишь, все будет хорошо. Запомни, с ним все будет хорошо. Это – Петрович. Он повернулся к помощнику: – Всех на точку. Полеты закончены, – и стал осторожно спускаться вниз, потому что боль не отпускала и хотелось вволю, на полную грудь вдохнуть свежего воздуха. У вышки уже столпился народ. На лицах еще читалось ожидание, люди еще верили в какое-то чудо, еще надеялись, что вот-вот из-за горизонта вынырнет сверкающий в вечерних лучах солнца самолет и, как всегда, ювелирно притрется к взлетно-посадочной полосе. Верили, что может весело затрезвонить какой-то телефон и трубка успокоительно скажет: «Не волнуйтесь, сел у нас живой и здоровый». Чиж и сам умел вот так верить в чудо. Уже возвратятся даже те самолеты, что вылетали позже, а он все глядит и глядит за горизонт, поджидая товарища или подчиненного. Умел верить, наверное, не только по молодости – жизнь, война давали тому многочисленные прецеденты. Прилетали без хвостов, без горючего, прилетали на честном слове. Опыт реактивной эпохи позволял верить в чудеса уже не так безоглядно. – Что могло случиться, Павел Иванович? Муравко не заметил его состояния, значит, не так все страшно. Еще живет. – Случиться в авиации может все, о чем мы даже не подозреваем, Коля. Но я верю в Петровича. – Может, еще прилетит? – Нет, Руслан, у него уже даже при самом оптимальном режиме кончилось топливо. И только теперь Чиж увидел в сторонке группу милицейских ребят, приехавших в полк по приглашению Новикова. – Вы только не думайте, что в авиации такие сюрпризы каждый день. – Может, если бы не мы… – Ну при чем здесь вы? – Он обещал нам экскурсию, – сказал розоволицый младший лейтенант, – может, спешил из-за нас, гнал. – Вы какую-то причину предполагаете? – майор милиции хотел услышать что-то успокоительное. И если сказать ему, что в голове уже перетасованы сотни предположений и ни на одном из них Чиж не остановился, потому что у этих предположений не было фактической основы, он не успокоится. А успокоить его надо. И Чиж сказал наиболее предпочтительный вариант: – Мог остановиться двигатель. Он облетывал самолет после ремонта. – Почему же он не сообщил? – Малая высота, большая скорость. Пока будешь сообщать, земля рядом. В подобной ситуации на счету каждое мгновение. Сразу за красную ручку хватаешься. – Нам рассказывали, что в парашютной системе есть аварийная радиостанция. – По закону подлости бутерброд всегда маслом вниз падает… – Мы, пожалуй, поедем. – Майор милиции все еще был под гипнозом комплекса вины. – Все это надо было сделать в другой день. Чиж кивнул. У него не было сил разубеждать этого человека. Причины случившегося известны пока одному господу богу. Чиж достал из кожанки свою обкусанную трубку и крепко сжал зубами мундштук. Милицейский «рафик» медленно удалялся к воротам. Боль немножко отступила, и Чиж подозвал Ефимова. – Организуй, дорогой, магнитофончик в класс. Катушку с записью не снимать. Просьба Чижа словно подстегнула летчиков. Они надеялись услышать нечто такое, чего не услышали во время полетов, на мгновение поверили, что именно в магнитофонной записи ключ к разгадке тайны. Нет, Чиж не мог проворонить в эфире Новикова. Это были бы слова, выбивающиеся из привычной тональности. На фоне ровного рабочего диалога земли и неба такие слова выперли бы, как сломанная пружина в матрасе. Не было этих слов. Не успел он их сказать. Врасплох был застигнут. Или в цепочке отказов систем первым звеном был передатчик. Может, и хотел сказать, да не мог. Как все было – еще предстоит узнать. А может, и вообще не удастся узнать. Таких тайн авиация унесла немало. А сколько та же авиация подарила приятных сюрпризов? Сколько летчиков до сих пор живы и здоровы, хотя по логике событий у них был один шанс из ста? Только на летном веку Чижа подобных неожиданностей было столько, что он и сам научился верить в лучшее и других этому всегда учил. Дело иногда доходило до анекдотов. В одном из полетов на доске приборов вспыхнуло сигнальное табло «пожар». Летчик сразу доложил руководителю полетов о случившемся и включил систему, нейтрализующую огонь. Но табло не гасло. И Чиж приказал летчику катапультироваться. Самым поразительным в этой истории было то, что оставленный летчиком самолет не разбился, а совершил четкую посадку на фюзеляж неподалеку от аэродрома. Тишина над зеленым полем звенела, как натянутая струна. Летчики сидели возле распахнутых окон и ждали. Где-то, черт знает где, глухо отмолотил на стыках поезд. Никому больше не нужный магнитофон молчал. Прокрученная несколько раз запись уже никого не интересовала. Слушали ее все. Любой подозрительный звук исследовали на разных скоростях. Новиков словно сквозь землю провалился. Был и нет… Чиж, сутулясь над аппаратом, несколько раз опросил всех соседей – никто ничего не видел, никто ничего не слышал. 14 Лиза тяжело переживала ссору с Русланом. Ей казалось, что даже если они и придут к примирению, то счастливые дни, что были у них после свадьбы, уже никогда не повторятся. Ах, как она гордилась собой, поступив на курсы делопроизводства! Ей, в ее восемнадцать лет, должность секретаря-машинистки представлялась как чрезвычайно важная единица в управленческом аппарате. Если секретарь хорошо подготовлен, считала она, имеет практическую хватку, любит порядок, он может стать правой рукой руководителя. Лиза была уверена, что обладает такими качествами, кроме, конечно, подготовки. Как все хорошо началось! Она быстрее всех освоила машинку, уже стала набирать скорость. У нее самый разборчивый почерк. Ясная память. Образцовая аккуратность. К тому же она самая молодая в группе. И внешностью бог не обделил. И Лиза уже не раз представляла, как будет восседать у широкой, обитой кожей двери. У нее не будут просиживать в приемной часами. Она наведет порядок. Не то что у этой куклы в исполкоме. В кабинет председателя идут все кому не лень, по нескольку человек сразу. Разве это работа? И свое время губят, и чужое воруют. Ведь председатель все равно не может решать одновременно вопросы всех вошедших к нему. Нет, Лиза знает, как это должно быть. Она прочитала в одной книжке, как в Америке работают секретари. У них многое можно позаимствовать. Вот, скажем, начинается рабочий день. Лиза докладывает директору, кто записался на прием. Они вместе прикидывают, кого и когда принять, кому назначить свидание на завтра. Лиза четко расписывает, сколько минут каждому потребуется для разговора, и оповещает записавшихся по телефону. – Иван Петрович вас примет в десять часов двадцать пять минут. Не опаздывайте, иначе время приема будет сокращено. И это не пустые слова. Прежде чем впустить посетителя, она скажет: – Вам пятнадцать минут. Через четырнадцать минут она войдет в кабинет и предупредит: – У вас осталась одна минута. И через минуту впустит следующего посетителя, попросив предыдущего, если он не успел все сказать, прийти в другой раз. О, она бы их быстро приучила ценить время. А то зайдет, рассядется в мягком кресле, боржомчик попивает и болтает, болтает… С юношеской непосредственностью Лиза верила, что именно ей предстоит вернуть престижность работы секретаря-машинистки. Ее любой руководитель будет ценить, потому что она ему создаст условия для творческого труда. Сегодня первейший враг ритмичности – беспорядочная текучка. От нее авралы, неразбериха, бюрократизм. А если хотеть и уметь – текучку эту можно упорядочить, но начинать упорядочение надо с режима работы руководителя. А режим работы в руках секретаря. …Дурак Русланчик, не понял ее самых благих помыслов. Он бы еще гордился ею. А что теперь будет, она не представляла. Лучше всего, конечно, уехать к родителям. Пусть повертится один, может, поймет хоть что-то. Придумал – ночевать в профилактории. Черт с ним, пусть ночует. Он еще будет на коленях перед нею ползать, прощение вымаливать. Домостроя ему захотелось. Она, конечно, все сделает – перестирает ему белье, рубашки, налепит пельменей и уедет. По пути в магазин Лиза заглянула в почтовый ящик и вместе с газетами вытащила нестандартный конверт со служебным штампом Военно-морского ведомства. Она понимала, что вскрывать чужие письма – последнее дело, но конверт жег ей пальцы. Какое-то десятое чувство подсказывало Лизе, что в этом письме ее судьба. Ей так мучительно хотелось знать содержание, что она вернулась домой, закрыла на цепочку дверь и, аккуратно поддев спичкой заклейку, мягко вскрыла конверт. На маленьком листочке была густо отпечатана просьба к старшему лейтенанту Горелову сообщить по такому-то адресу свое согласие на перевод в авиационную часть Военно-Морского Флота… Лиза взмокла. Она не знала, что лучше – соглашаться Руслану на это предложение или нет. Нет – значит, перевод на Север. Да – значит… Нет, она не знала, что это значит. А вдруг его направят летчиком на корабль? Тогда уже точно ей быть соломенной вдовой. Руслан рассказывал: корабли эти по полгода не бывают дома. Лиза заклеила конверт, положила на стол и, хлопнув дверью, застучала каблуками по лестнице. Пусть решает, как хочет. С ней он все равно уже не посоветуется – она сегодня же укатит в Пушгоры. Пусть решает. Пусть попробует без нее. В очереди за «пепси-колой» Лиза услышала слова, которые не сразу дошли до ее сознания: «Полетел и не вернулся». – Кто не вернулся? – обернулась она к шептавшимся женщинам. – Артист из-за границы? – Да черт бы с ним, с артистом, – сказала полная блондинка. – Летчик, говорят, пропал на полетах. Лиза похолодела. – Кто говорил? Может, вранье? – Муж моей соседки в ГАИ работает. Они как раз на экскурсии были у летчиков. Он приехал и рассказывал. – И вы сами слышали? – А если и слышала, так что? Лиза взяла ее за руку и вытащила из очереди к окну. – У меня муж летчик. Что еще говорил этот милиционер? – Сказал, что кто-то полетел и не вернулся. Так вот почему уже который час над городом висит тишина. Вот почему они не летают и домой не идут. Конечно же никто другой в такую историю влипнуть не мог. Ведь хотел чего-то там доказать. Вот и доказал. Сунул свою глупую башку в шестерни. Лиза бежала домой не чувствуя ног. А в голове хороводом неслись предположения одно страшнее другого. Разувшись, она влезла в ванну и пустила из крана холодную воду. Собственно, зачем она мчалась домой? Прямо на мокрые ноги натянула босоножки и рванулась к двери. В глаза бросился белый квадрат конверта на темном столе. «Надо взять, – подумала она, – если с ним все в порядке, скажу, что письмо несла». А если не в порядке? Нет-нет… Она гнала непрошеные мысли, а они подступали с удвоенным натиском. И Лиза отчетливо увидела, какой несусветной глупостью была их ссора. Любит же он ее! Любит… Нет, если только все в порядке, она больше никогда не допустит таких глупостей. Все. Раз и навсегда. Трепать нервы человеку, без которого она не проживет и дня, – это свинство. Руслан пытался ни о чем не думать, но в голову лезли и лезли всякие варианты. «Отказ двигателя? Тогда почему не работает радио? Обрыв лопатки? Он бы успел катапультироваться. Напоролся на шаровую? Вот это не исключено». Руслан слышал: при столкновении с шаровой молнией летят к чертовой матери все системы. В том числе и система аварийного покидания самолета. Если так, Новиков не катапультировался. Нет, Руслан не мог представить, что Новиков оказался беспомощным перед стихией. Это же ас. Летчик-снайпер… Руслан не сразу понял, кто так спешит к летному домику, пересекая самолетную стоянку. Глянул и повернулся к ребятам. Фигурку женщины уже заметили все. Руслан спросил: – К кому женщина? Вгляделся и с досадой махнул рукой. – Отставить, ко мне женщина. Выпрыгнул через окно на газон и пошел навстречу. Увидев растерянность на лице всегда уверенной Лизаветы, Руслан смутился. Ему стало жалко ее. Эта выбившаяся из-под заколки прядь, расстегнутый рукав кофточки – такого Лиза не терпела в своем туалете никогда. А тут забыла обо всем. – Ты чего это? – спросил он издали. – А ты? – Черты лица ее на глазах менялись, растерянность переходила в радость. Приблизившись к Руслану, Лиза сложила у подбородка кулачки и быстро-быстро зашептала, сдерживая слезы: – Господи, живой, живой, живой… – Ты чего это? – уже хмуро спросил Руслан, подходя к Лизе. – А ты, дуралей, не знаешь? – Она уткнулась лицом в его грудь и прижалась к нему. – Во всех очередях только и разговоров, что разбился самолет, а ты… Трудно позвонить?.. Я как сумасшедшая бегу, сердце вырывается, а ты… – А как сюда прошла, гражданка Горелова? – уже с улыбкой спросил Руслан. – Через забор, – Лиза всегда, когда волновалась, сильно окала, и Руслану захотелось ее подразнить. – Зобор, – повторил он. – А меня из-за твоих фокусов от полетов отстраняют. – И хорошо, вот целый остался. – Остался, – снова передразнил Руслан. – Трусом меня считают. Ничего, я им еще докажу. Лиза встрепенулась. – А ну, смотри мне в глаза, – она властно повернула его голову за подбородок. – Чего ты опять доказывать надумал, а? Мало вам одного? Я тебе докажу! Я тебе так докажу, герой! Руслан поморщился, словно от зубной боли. – Лиза… Не вмешивайся, пожалуйста, в мои служебные дела. – Как это не вмешивайся? Ехать с тобой в эту, как ее… ну?.. – Тундру… – Вот именно, в тундру. Туда ехать – служба требует, долг велит. А как твою башку дурную остудить, тут не вмешивайся? – Перестань, Лиза, на нас смотрят… – Я тебе дам перестань. – Она вдруг сделала паузу, посмотрела Руслану в глаза. – Эх ты… Ничего не видишь. Я из-за тебя как дура с ума схожу, ругаю себя последними словами. Уже совсем решила – хоть к черту на рога поеду. А ты… – А что я? – Он чувствовал, как в его руках мелко вздрагивают ее плечи, словно от озноба, и, забыв, что из окон летного домика за ними наблюдают летчики, прижал ее к себе. – Ну, Лиза, не надо. На нас же смотрят. А ты сцены семейные. – Пусть смотрят, – хлюпала она носом, – пусть видят, какого дурака люблю. – Хорошенькая любовь, – хмыкнул Руслан и сразу понял, что слов этих говорить не следовало. Лиза напряглась и оттолкнула его. – Прости, ты меня не так поняла. – Он попытался снова обнять ее. – Не притрагивайся, – прошептала она, – ненавижу! – Лиза… – Видеть тебя не хочу. – Я не понимаю… – За ворота выгляни, может, хоть что-нибудь поймешь. Сказала и пошла в сторону КПП, цепляясь каблуками за высокую траву. Руслан почувствовал: если он ее сейчас не остановит, Лиза не вернется к нему никогда. Он догнал ее и пошел рядом. – Лиза… Ну, сорвалось… Взвинчены все. Человек пропал… – Кто? – спросила она тихо. – Новиков. – Насмерть? – Неизвестно. Ищут. – Там его жена, – она кивнула в сторону ворот. – Надо, чтобы кто-то вышел. – Я скажу Павлу Ивановичу, подожди. Лиза остановилась. Сделав несколько шагов, Руслан обернулся. И ему показалось, что он видит новую Лизу. Тень беды, задевшая и ее своим крылом, оставила печать на всем облике этой девочки. Она в один день посерьезнела, – повзрослела на несколько лет. И похорошела. И Руслан почувствовал это. «Она красивая», – подумал он и побежал в «высотку». Чиж сидел склоненный над столом возле телефонного аппарата. На лоб свисали седые волосы, пальцы обеих рук выбивали ритмичную дробь. На шум открывшейся двери он лишь скосил глаза. Из-под густых бровей на Руслана выплеснулось пламя тревоги. – Что, сынок? – спросил он тихо, и у Руслана от этого ласкового «сынок» запершило в горле. – Там, у ворот, жена Новикова. Чиж поморщился, глубоко вздохнул и засунул правую руку под куртку. Потом встал и, сказав помощнику, чтобы не отходил от телефонного аппарата, кивнул Руслану. – Жена, она и в Африке жена. Пошли. Спускался он по лестнице медленно и тяжело. Руслан смотрел Чижу в спину, но виделись ему глаза, полные боли и тревоги. «Значит, дело табак». Выйдя на воздух, Чиж остановился, опять глубоко вдохнул, задержал воздух и пошел не по асфальтовой дорожке, что вела к воротам, а повернул на травяной газон, где стояла Лиза. Рядом шел Руслан, стараясь не отставать. Лиза грустно улыбнулась Павлу Ивановичу, и Руслан опять подумал: «Красивая». – Вот такие дела у нас, девочка, – сказал Чиж и положил Лизе на плечо руку. – Только не вешать нос. На фронте нас сбивали, а мы, назло всем смертям, возвращались. И снова били их, гадов. В голосе Чижа прозвучали азартные ноты, и Лиза улыбнулась чуточку радостнее. Воспользовавшись этим, Руслан на ходу поймал ее холодную руку, но Лиза недовольно высвободила пальцы. И Руслан понял, что прощения в этот раз ему придется добиваться долго и трудно. «Что имеем, то не ценим, потеряем – слезы льем». Он чувствовал себя круглым идиотом. Одно ласковое слово в ответ, и все стояло бы на своих местах. Так нет же, дернула его нечистая не вовремя хмыкнуть: «Хорошенькая любовь»… У КПП их встретил растерянный солдат. Он все время поддерживал сползающую с рукава красную повязку. – Они ничего не говорят, товарищ полковник. Стоят и молчат. И все смотрят. Прямо жуть какая-то. Чиж только молча кивнул в ответ. Он вышел на крыльцо и остановился. Руслану показалось, что в это мгновение затих весь мир: остановились поезда, заглушили двигатели водители, застыли в безветрии липы, умолкли птичьи голоса. Из-за плеча Чижа он видел только глаза женщин, направленные в их сторону. Глаза, излучающие тревожное ожидание. Оно было настолько красноречивым, что, казалось, вот сейчас из этой тревоги сами родятся слова: «Скажите скорее – чей?» Вслух произнести это никто не решался, другие слова были бы кощунственно неуместны. Чиж нашел в толпе Алину Васильевну и пошел к ней. Руслан с ужасом подумал – какие слова скажет Чиж? И не поверил, увидев, что Павел Иванович весело улыбается. Чтобы выглядеть в театре бодрой, Алина завела на семнадцать часов будильник и, накинув на ноги меховую куртку, прикорнула на маленьком диванчике, что стоял напротив телевизора. Это было ее любимое место, когда вечерами собиралась вся семья перед голубым экраном. Чаще всего это случалось в дни хоккейных баталий. Сын и муж усаживались в кресла и сразу находили общий язык. Алина подкладывала под локоть подушку и была рада оттого, что, наконец, вся семья в сборе. Под монотонный репортаж Озерова удивительно легко думалось. Она сочиняла в уме несложные, но каверзные задачки для своих учеников, заготавливала сразу несколько вариантов опорных конспектов. Погружалась Алина в свою стихию, как правило, с закрытыми глазами, и Санька тут же констатировал: – Мамуля отошла… Сегодня она «отошла» на полном серьезе. И даже сон увидела. Такой неожиданный, тревожный. Будто попала на гигантский базар, море народа. И она ничего не знает, где Санька и Сережа. Стоит у прилавка, заваленного старой обувью, а народ без единого звука уходит и уходит. И от этого тихого движения у нее тревога в душе… С этой неясной тревогой она и проснулась. Чертыхнулась – приснится такое – и посмотрела на будильник. Он должен был подать голос минут через пятнадцать. Она встала, распахнула окно и пошла в ванную. Прохладный душ смыл остатки сонливости, настроил на мажорный лад. Она уже сейчас предвкушала удовольствие от полученной возможности побывать в театре, надеть самое нарядное платье, нацепить украшения, чувствовать себя слабой женщиной, которой на каждом шагу оказываются знаки внимания. Гардероб Алины не отличался особым разнообразием. Она никогда не тянулась за модой и к каждой обновке готовилась тщательно и долго. Больше всего приобретений было сделано в Москве. Некоторые платья ей казались уже вышедшими из моды, и она их объединила на одной вешалке. Сегодня она начала примерку именно с этой вешалки. И первое длинное платье с серебристым эдельвейсом у плеча ей не захотелось снимать. В Москве она почему-то стеснялась его надевать – слишком броское, – а вот теперь оно было ей в самую точку. Алина даже покружила по комнате, широко расставив руки. Остановилась вдруг. Ее опять коснулась неясная тревога. «Видимо, оттого, – подумала она, – что я опять не верю в обещание Сергея. Не верю, что одеваюсь и готовлюсь не зря. У него обязательно найдется уважительная причина». В восемнадцать тридцать она не выдержала и позвонила в часть. Его телефон не отвечал. Позвонила командиру – тоже длинные гудки. Не ответил командирский телефон и на аэродроме. Звонить дежурному постеснялась, да и Сережа этого не любит. «Они могут быть в пути», – успокоила она себя. Но вопрос остался без ответа – почему молчат телефоны? Летать перестали давно, когда она еще спала. Домой не идут, в кабинетах нет. Если бы задержался командир с замполитом, другие должны появиться. Но пока ни летчики, ни техники к дому не подходили. Это она уже точно знает. А летать перестали раньше обычного. Уже давно пора по домам. И тут ее тревога проявилась уже более отчетливо: летать перестали, а домой не идут. Перестали давно, но ни один человек не появился. Что бы это могло значить? Это значит, что у них опять что-то непредусмотренное. А раз так, замполит останется в полку до тех пор, пока будет требовать служба. Может, до полуночи, может, до утра. Потому что у него такая должность, потому что он обязан все знать, во все вмешиваться и быть для каждой гайки шпонкой. Ну что ж, пусть будет так, а с нее хватит. Она не станет больше ему мешать. Пусть живет, как Чиж, которому кроме самолетов ни черта не надо. Может, он уже давно этого добивается. Она тоже при деле. Вон Ольга Алексеевна. Еще пятидесяти нет, а она уже доктор. Алина была убеждена, что сможет добиться многого. Ее методика стала предметом внимания в Академии педагогических наук. К ней едут эксперты, от нее ждут работу с обобщением накопленного опыта, про нее уже дважды писала «Учительская газета». И все это бросить? Ради чего? Чтобы вот так томиться каждый раз в ожидании, заранее зная, что все эти приготовления – мыльный пузырь? Утешаться очередным обещанием, опять же зная, что оно будет точно таким, как сегодняшнее, как десятки предыдущих? «Конечно, – рассуждала Алина, – служба у него особая, она не прощает половинчатости, – или все, или ничего. И это правильно. Главнее защиты Родины ничего быть не может. Но ведь нашли альтернативу Чижи». Но вслед за этой мыслью пришла другая: только три месяца она прожила без мужа и думала, что сойдет с ума. «Если двое не могут друг без друга – это начало, – вспомнила она слова Новикова. – А если могут – это все, конец». Алина подошла к зеркалу, придирчиво осмотрела себя, вырвала из блокнота листок и написала: «Я в квартире Чижа». Положила листок на стол в прихожей и, прихватив с гвоздика ключи, вышла. С Ольгой Алексеевной она познакомилась в Ленинграде. Отвозила по просьбе Юли туесок с земляникой. У нее в приемной сидело несколько человек. С толстыми папками, двое с бородками, один в огромных затемненных очках. «Не иначе как доктора наук», – подумала она и села на стул у двери. – Вы Алина Васильевна? – спросила ее совсем юная секретарша. – Проходите, пожалуйста, Ольга Алексеевна вас ждет. – Встала, открыла перед ней дверь. Алина представляла Ольгу Алексеевну крупной властной женщиной с гладким зачесом волос, в строгом костюме. А за широким столом сидела модно одетая в легкое платье женщина с массивным янтарным браслетом на руке. Легко поднялась Алине навстречу, располагающе улыбнулась, пригласила к маленькому столику, уютно расположенному под развесистым фикусом. Алина достала туесок с земляникой и поставила на стол. Ольга Алексеевна удивленно сложила на груди ладони – вот-вот зааплодирует. – Знаете, они сами собирали, – сказала Алина. – Да, знаю. С рынка посылать не станут. Ай да Паша… Она попробовала ягоду, закрыла от удовольствия глаза. Потом предложила: – А давайте-ка мы с вами под эту закуску по рюмочке вина. У меня в сейфе есть божественный напиток. Из Азербайджана привезли. За знакомство. А? – Удобно ли? Там в приемной люди. – Я им назначила на одиннадцать, а они пришли в десять. Пусть сидят, коль такие пунктуальные. Она ловко отсыпала ягоду в хрустальную конфетницу, окатила ее из кувшина водой, приготовила бокалы, вино, поставила коробку с конфетами, сифон с газировкой. И пока все это делала, задавала Алине вопросы про ее работу, про сына, про Юльку. А когда разлила вино и предложила тост за встречу, взволнованно сказала, внимательно посмотрев Алине в глаза: – Он-то как? «Любит!» – решила Алина и стала с подробностями рассказывать о Павле Ивановиче, чувствуя, что ее собеседница ловит каждое слово. – Надо бы все к черту бросить и съездить к ним, – вздохнула Ольга Алексеевна. – Крепче цепей держат эти стены. – Никак не возьму в толк, – смеялась Алина, – зачем такие большие кабинеты директорам? – И я не знаю, – сказала Ольга Алексеевна. – Рядом актовый зал, все совещания можно там проводить. Для авторитета, наверное. Чем больше кабинет, тем выше ранг. Она приехала к своим вчера вечером. Заночевала и сегодня никуда не уходила из дома. В этот раз Ольга Алексеевна предстала перед Алиной в потертых джинсах и выгоревшей спортивной майке с оранжевым бородатым идолом на груди. Алина только теперь поняла, как похожа Юля на мать. – А я думала – мои, – несколько разочарованно сказала Ольга Алексеевна. Оценивающе посмотрела на Алину и одобрительно кивнула: – Очень вам идет это платье. – Муж дал клятвенное обещание, что пойдем в театр. Вот приготовилась. Жду. Но там у них что-то опять не так. – А что у них случилось? – Да разве они скажут. – А почему вы решили? – Летать перестали, а домой не идут. С трех часов тишина. – Одну минуточку, – Ольга Алексеевна нашла бумажку с номером телефона и подошла к аппарату. – Юля, мама говорит, – что у вас случилось?.. Почему, почему. Летать перестали, а домой не возвращаетесь… Ну хорошо, не по телефону. Скажи только, у вас все и порядке? «Любит, – вновь подумала Алина, – забеспокоилась». И вдруг ее словно пронзило: может, именно с Сережей и случилось. Будь он на аэродроме, давно позвонил бы, извинился. Почему ей сразу это не пришло в голову? Привыкла, что с ним всегда все в порядке? Да нет, конечно же она зря волнуется. Юля бы сказала матери. А может, и сказала? – Говорит, о служебных делах по телефону не положено, – развела руки Ольга Алексеевна. На какое-то мгновение она ушла в себя, отвернулась к окну и, не поворачивая головы, сказала: – В нашем возрасте трудно что-либо менять. Но будь у меня возможность повторить жизнь сначала, я бы не знала, что выбрать. Да и можно ли выбирать?.. Никто никому наперед не подскажет. Жизнь есть жизнь. Слушайте сердце. Оно не обманет. Она подошла к Алине, положила ей руку на плечо. – Другое от меня хотели услышать?.. Когда-то мне с ними было лучше, чем без них. Теперь я здесь чужая. Не будь у меня моего института, не знаю, чем бы я заполнила жизнь. Это неведомо никому. Нет алгоритма, чтобы прокрутить в ЭВМ, нет возможности проверить эмпирическим путем. Жизнь неповторима. И коротка… Грустно от этого. Как Алина очутилась у ворот, она помнила плохо. 15 Нина пыталась убедить себя, что в ее жизни ничего не изменилось. Взять хотя бы сегодняшний день. Как всегда, она встала вслед за Олегом. Он, тоже как всегда, делал в прихожей зарядку, растягивая сложенный вчетверо эластичный медицинский бинт. Ночью он тяжело вздыхал, и сердце у Нины щемило от жалости. Она протянула к нему руку, провела ладонью по лицу, задержалась на губах. Он прижал ее руку и несколько раз поцеловал. – Прости меня, – прошептал быстро. Жалость еще больше накатила на нее, заполнила всю, вытеснила на поверхность чувство собственной вины. Появилась потребность исповедаться, каяться, и Нина, придвинувшись к Олегу и дрожа всем телом, прижалась к нему, крепко обхватила руками шею. – Это я, – говорила она, – это я недоглядела. Я во всем виновата. – Не смей, Нина, – услышала она желанное возражение и набросилась на себя еще с большей яростью: – Молчи, я знаю, что говорю. Я поощряла твое рвение, твое стремление делать карьеру. Ты ради меня тянул жилы, спешил, я знаю. Еще хорошо, что тебя не было там… Уж ты бы первый сгорел в этой лаборатории… – Лучше бы я сгорел, – вырвалось у него, и он тяжело замолчал. «Лучше бы», – подумала она и устыдилась своей жестокости: совсем свихнулась – такое пожелать близкому человеку. Впрочем, попади она в подобную ситуацию, себе бы тоже пожелала смерти. Уже было ясно, что в смерти лаборантки Олег виновен. В лаборатории хранились большие запасы огнеопасных составов, хранились вопреки правилам, лаборантка делала опыты, не получив инструктажа по безопасности, не зная свойств одного из реактивов. Опытом, который она ставила, необходимо было управлять в спецодежде и с защитной маской. Здесь ни того ни другого не было. Олег это знал, но закрыл глаза: авось пронесет. Так хотелось скорее закончить практическую часть докторской диссертации. Не пронесло. Следствие идет к концу, у него нет ни одного оправдательного аргумента. Его отсутствие в лаборатории в момент постановки опыта рассматривается как отягчающее обстоятельство. Молодого ученого ждал суровый приговор. Нина даже боялась думать об этом. Ей казалось, что нормальному человеку перенести такой позор невозможно. Из Петрозаводска приехали родители погибшей лаборантки, они требовали сурового наказания виновных. Их гнев понять было нетрудно. В вычислительном центре, где работает Нина, кое-кто успокаивает ее, уверяя, что наказание Олегу дадут условное. Дескать, не тот случай, когда человека надо изолировать от общества. Ах, как ей хотелось верить в такой исход! Но верить было трудно. Марго пододвинула ей валидол и сказала: – Прими. Я тебе скажу правду. Он получит от семи до десяти лет. По совокупности нескольких статей. С обязательной изоляцией. Ты должна быть готова к этому. Помолчав, она резко раздавила в пепельнице сигарету и сказала еще: – Если он попадет в тюрьму, ты имеешь юридическое право на расторжение брака. Марго одно время была народным заседателем и поднаторела в юриспруденции, ей можно было верить, она многое знала. Она только не знала, что творится в душе у Нины. – Другая, видимо, у меня судьба., Маргоша, – вздохнула Нина. – Не смогу я оставить Олега в такую минуту. Не смогу. Это точно. – Что ты скажешь своему летчику? – Он поймет. – Счастливая ты. – Дальше некуда, – грустно поддакнула Нина. – Ты не знаешь, что такое счастье. – Марго встала и быстро прошла к окну. Захлопнула форточку, разом отрубив шум улицы. Повернулась к окну сутулой спиной, оперлась руками о подоконник. Сквозь черное трикотажное платье остро обозначались худые бедра. В глазах ее был гнев и обида. – Три дурака прошли через мою жизнь, – сказала она. – Все трое любили меня. Но ни один не захотел, даже не попытался понять. Когда люди не хотят понимать друг друга, это скотство, а не любовь. Лучше я одна буду. У тебя сразу два, и оба тебя понимают. Мне бы такое раз в жизни пережить – и черт с ней, со смертью, пусть приходит и забирает. Так что не кисни. Жизнь идет, и все проходит. Да, жизнь идет… Еще совсем недавние денечки, когда в их доме царил беззаботный смех, когда все – рассветы и закаты, завтраки и обеды, прогулки и посиделки у телевизора – казалось праздником, стали необратимо ушедшими и невозможными сегодня. «Ты была слишком счастлива, – говорила Нина себе. – Тебе одной досталось вдруг все, что можно было разделить как минимум на четверых. А в природе так не бывает. Не должно быть. В природе все гармонично. И каждый должен поддерживать эту гармонию. Не высовываться. Жадных до счастья она наказывает». Во второй половине дня к ней на работу заглянула подружка студенческих лет – Катя Недельчук. Нину поразил ее вид. Всегда немного консервативная, Катя предстала перед ней словно с обложки иностранного рекламного журнала. С лихо взбитыми волосами, замысловатой цепью на шее, в какой-то мятой марлевой кофте и фирменных вельветовых брюках. Нина не могла сказать, что в туалете Кати было что-то безвкусное. Нет. Все было в меру, все ей шло. – Ты даешь, Катька, – рассматривая подругу, восхищенно заключила Нина. Они вышли в курительную комнату. – А что мне остается? – вызывающе махнула Катя рукой. – Мужа нет, детей тоже, куда деньги девать? Одна радость – тряпки. – А где покупаешь? – Моряк один привозит. Уже пятый год добивается моей руки. Подарки принимать отказалась, так он мне по госцене продает. – Не по душе? – Да ну его к бесу! Барахло! Пока трезвый, вроде ничего. Только противно, когда в шею целует. А выпьет, глаза остекленеют, губы мокрые, как жаба… Как ты живешь? Докатились слухи, что у какого-то Ковалева лаборантка погибла. Не твой случайно? – Случайно мой, – сказала Нина. – Ох, господи! Прости, Нинка, была уверена, что совпадение. Что же ему будет? – Тюрьма, Катя. – Ты серьезно? – Серьезно. – Вот это да! – Катю неуместно развеселила новость. – У меня есть один знакомый адвокат. Говорят, талантливый, как зверь. Он хочет, чтобы я его любовницей стала. Подкину ему для стимула задачку. Скажу: спасешь от тюрьмы парня – буду твоя. – Катя, что ты говоришь? – Нина не понимала – шутит подруга или всерьез способна на такое. – А что? Слишком легко мы им достаемся. Пусть докажет, что он рыцарь. Мужик симпатичный. Только женатый. Она резко достала из сумочки пачку сигарет «Филипп Морис», японскую газовую зажигалку, предложила сигарету Нине. Нина покачала головой. – Молодец. А я привыкла. И шампанское обожаю. Надо же хоть чем-то компенсировать… Держись, Нинка. Сегодня же найду этого красавчика. Пусть докажет, что стоит чего-то. Она лихо выпустила струйку дыма, прошлась, подбоченясь, по комнате, как-то странно качнулась на каблуках и дрогнувшим голосом спросила: – Ты с Федей Ефимовым поддерживаешь связь? Нина кивнула. – Не женился? – Нет. – Тебя ждет? – В голосе Кати зазвучали холодные ноты. – Ох, Катя! – вырвался у Нины тяжелый стой. Она обняла подругу и уткнулась хлюпающим носом в ее плечо. – Все прахом, все!.. Жить не хочется. Сегодня ночью лежу рядом с ним и думаю – лучше бы ты сам сгорел в этом пламени. Я не переживу… До такого докатиться… – Держись, дружочек. Бывает хуже. – Она вынула из сумочки записную книжку и карандаш. Развернула и протянула Нине. – Запиши его адрес. Поздравлю с днем авиации. Защелкнув замок сумочки, Катя стряхнула пепел в раковину, открыла кран, чтобы смыть его, и, сполоснув пальцы, заторопилась. – Не вешай нос, спасем твоего Олега. …Оставшись одна, Нина поняла, что успокоить ее сейчас может только Ефимов. От того, что он скажет ей сегодня, будет зависеть все. Что «все» – она не знала. Но верила, что только он найдет те необходимые слова, которые возвратят надежду и желание жить. Пока же ей собственное будущее казалось пустым и мучительным. Единственным светлячком на мрачном фоне была Ленка. «Ради нее, – говорила Нина себе, – ты обязана все стерпеть, все вынести». Она зашла к Марго и попросила: – Отпусти меня. Я должна съездить к нему. Нет мочи… – Поезжай, – только и сказала Марго. И проводила ее грустным взглядом. Катя нервничала и ничего не могла с собой поделать. Когда она вышла от Нины, ее била дрожь, хотя над Ленинградом плавилось в голубизне солнце и пешеходы старались держаться тени. Дойдя до набережной, Катя свернула к Университету. За мостом Лейтенанта Шмидта сошла по ступенькам к воде и села на самую последнюю. Босоножки поставила рядом, а ноги опустила в Неву. После нескольких затяжек сигаретным дымом дрожь прошла. Катя не понимала, что с нею происходит. Ей казалось, что все давным-давно прошло, а в сердце поселилось спокойствие, наступило душевное равновесие. Ее все устраивало под этим небом. Устраивала должность в управлении материально-технического снабжения, где через ее руки шли фондовые материалы и снабженцы понимали, что симпатия Кати к тому или иному из них может сыграть решающую роль в очередности получения дефицитного кабеля, металла, других материалов. Ей дарили сувениры, откровенно смахивающие на взятку. Но Катя принимала их только в том случае, если была уверена, что сможет быть полезной. Обедать она ходила, как правило, вместе с ними, и они всегда расплачивались за нее. Ужинала с ними же, в хороших ресторанах, и только завтракать забегала в кафе, чтобы выпить чашечку кофе с песочным пирожным. А вообще-то она ела мало. Особенно вечером. Чтобы оставаться в форме, следовало заботиться о фигуре. Устраивала ее и кооперативная однокомнатная квартира на Бассейной улице, которую ей помогли купить родители. Знакомые ребята из СМУ сделали ремонт, поставили финскую сантехнику, подобрали красивые обои, прихожую отделали шоколадным пенопленом. Румынская стенка прямо вписалась в интерьер. Книги она собирала только те, которые уже завоевали известность и нравились ей. Стены украшали небольшие, но подлинные картины известных мастеров. «На редкость уютное гнездышко», – сказал знакомый адвокат, побывавший у Кати в гостях. Она с гордостью показывала избранным посетителям свою квартиру. Но оставаться одной здесь ей всегда было неуютно. Поэтому вечера проводила если не в ресторанах, то в театрах, концертных залах, на худой конец, по студенческой привычке, в читальном зале Публички. Она побывала замужем за франтоватым журналистом многотиражки, возненавидела его за самоуверенность и хвастовство и сама подала на развод. Он возражать не стал. Но мужчины липли к ней, как мухи к патоке. Были очень выгодные предложения, были милые ребята, готовые бросить своих жен ради нее, а уж о таких, кто хотел бы изредка поразвлечься в ее «уютном гнездышке», и вспоминать не хотелось. Однажды она чуть было не вышла замуж вторично. С Аркашей – капитаном дальнего плавания – ее познакомил сотрудник управления. Жена Аркаши не выдержала постоянных многомесячных разлук, нашла другого и подала на развод. Квартиру они разделили, и Аркаше досталась комнатка в коммуналке. Он сразу сказал Кате, что знает хороший вариант обмена, что у них будет отдельная двухкомнатная квартира, что он ее оденет с головы до ног, потому что зарабатывает хорошо, а тратить некуда. За одно обещание подумать он принес Кате огромный сверток заграничных вещей. Катя дрогнула и разрешила ему переночевать у себя. Потом брезгливо и долго мылась под душем, а утром, когда он, собираясь уходить, обнял ее, Катя настойчиво попросила забрать подарки. Аркаша искренне расстроился. Его толстые губы по-детски топырились, лоб морщился, плечи удивленно подымались. – Поймите, Катя, – говорил он грустно, – я – моряк, мне надо, чтобы кто-то меня ждал на берегу. Без этого можно с ума сойти… – Дайте мне время, Аркаша, – просила Катя. – Я пригляжусь к вам, привыкну. Нужна же если не любовь, то хоть какая-никакая симпатия. Но это должно прийти естественно. Ваши подарки давят на психику. Я так не могу. – Куда мне с ними? – пожимал он плечами. – Не солить же. – Я их продам, если хотите, – предложила Катя. – Деньги переведу на ваш счет. Может, что-то и себе куплю. Он только махнул рукой. И вот уже третий год тянется эта волынка. Два или три раза в год он возвращается из плавания в Ленинград, привозит ей кучу всякого заграничного барахла, Катя распродает кое-что подружкам, кое-что оставляет себе, деньги исправно переводит на его сберкнижку, каждый раз вручая ему подробный письменный отчет. В последнюю встречу он напился и заснул, упав на ее кровать. Катя, не раздеваясь, спала под пледом на диване. Утром Аркаша был молчалив и хмур. От завтрака отказался. Выпил бутылку холодного пива и, сказав: «Пока», – ушел. Скоро полгода, как он исчез с горизонта. Катя хотела, чтобы ему повезло, чтобы он нашел достойную женщину, которая бы любила его и ждала. Хотела она этого искренне, но поверить в реальность этого не могла. И ей было немножко горько. Он все-таки неплохой мужик, и преодолеть два-три раза в год свою брезгливость было бы не так уж трудно. Так ей думалось. Но не устраивала ее синица, добровольно садившаяся в руку, ей хотелось достать журавля с неба. И вот сегодня, в разговоре с Ниной, Кате показалось, что возможность такая как никогда близка. У нее в руках адрес, она немедленно поедет к нему. Катя верила в удачу. Она с трудом не показала своей радости Нине. Она чувствовала: идет праздник и на ее улицу. Ее уже давно не мучила совесть за ту вероломную цензуру, которую она изощренно осуществляла в течение нескольких месяцев десять лет назад. Даже будучи больной, с сорокаградусной температурой, она все равно каждый день шла на почту за письмами, чтобы ни один конверт от Ефимова не проскочил к адресату. Рвала его послания не читая, сжигала их в печке, и долго перемешивала железным прутом золу. Все это потом забылось, поросло быльем. И только постоянной была тихая ненависть к Нине, к ее счастливой удачливости. Но правда должна быть, должна! Пусть через десять лет, но она восторжествует. Прохлада невской воды остудила ноги, тень гранитного парапета закрывала голову, и Катя, бездумно созерцая противоположный берег, постепенно успокаивалась. За спиной гудели машины, сворачивающие с моста Лейтенанта Шмидта, громыхали на стыках трамваи, какие-то желторотые юнцы, стоявшие на верхней ступеньке спуска, плоско острили по ее адресу, а Катя смотрела на тот берег, на дом, который ей однажды приснился, и почти верила, что не за горами день, когда она не во сне, а наяву войдет в этот дом в длинном белом платье, крепко держась за руку Феди Ефимова. – Мария Романовна, – в трубке звучал взволнованный голос, – извините, ради бога, за беспокойство, может вы что-нибудь слышали? – Кто это? – не поняла Маша. – Пименова я. Звоню вам по просьбе наших женщин. Говорят: «Ты женсовет, ты и узнавай». Что у них в полку случилось? Вы не знаете? – Ничего не знаю. – Не звонил Иван Дмитриевич? – Никогда днем не звонит. Он что, вам звонил? – Да нет, летать давно перестали, а домой не идут. И все телефоны молчат. Дежурному позвонила, говорит, все в порядке. А бабы чувствуют, их не проведешь. – Вы успокойте там всех, – как можно мягче сказала Маша. – Я бы давно знала. Поверьте. – Спасибо, – ответила после некоторого молчания трубка. – Извините. – И побежали короткие гудки. Маша надавила рычаг аппарата и тут же набрала телефон Волкова. В кабинете никого не было. Она позвонила дежурному по части, представилась, спросила, где командир. И тот, ничтоже сумняшеся, выложил: – Не знаю. У нас тут не вернулся самолет… Кровь ударила Маше в виски. Не дослушав до конца объяснение дежурного офицера, она бросила трубку на аппарат и, в чем стояла, выбежала на улицу. Она никогда не размышляла, как ей лучше поступить в том или ином случае. Один был обет, на всю жизнь: поступать так, как хорошо ему. Ладится у Ивана – счастлива и она. Ее мать была всегда ей прекрасным примером. Она прошла с отцом через все его гарнизоны и всегда повторяла одно: «Его жизнь – моя жизнь. Он служит, я помогаю. Значит, оба служим. Не царю-батюшке, Родине служим». Она гордилась званием «жена офицера» и то же самое внушала дочери: «Выйдешь за офицера, про себя забудь. Вот тогда и почувствуешь, что такое счастье». Когда Маша сказала матери, что решила выйти замуж за летчика, та заплакала. – Жизнь у тебя будет нелегкой. Но поверь моему опыту: трудное счастье дороже ценится. Вначале Маша пыталась совместить обязанности жены и дизайнера. До рождения сына она еще успевала и там, и там. Потом поняла, что, если долго сидеть на двух стульях, можно оказаться между ними, и, несмотря на медали ВДНХ, полностью переключилась на домашние заботы. И хотя забот этих было не так уж много – Ивана и кормили, и одевали в части, – она находила для себя занятия, которые радовали Ивана. Ведь порадовать человека несложно. Надо только захотеть. Надо хотеть этого постоянно. И радость, как бумеранг, вернется к тебе. Первая серьезная проблема вошла к ним в семью, когда подрос Геша. Парень нуждался в отцовском внимании, а Иван не мог его оказать в той степени, в какой считал нужным. И от этого нервничал. – Не надо, – сказала Маша. – Ему нужны не слова твои. Ему твой пример нужен. Если о тебе будут говорить, что ты честный человек, хороший летчик, справедливый командир, – большего и не надо. Пошептаться с ним, пооткровенничать, удержать от глупостей – это и я смогу. Это пустяки. Он должен мужчиной расти. Он должен гордиться отцом. Вот это главное. И то, что Гешка укатил, не посоветовавшись с отцом, Машу не пугало. Она уже видела: сын вырос на крепком стержне. Его не сломать. А если и совершит какую-нибудь глупость, то это только на пользу – поймет, что не такой он умный, как ему кажется. Поэтому к переживаниям Ивана относилась с легким юмором. Ей нравилось, когда он беззлобно ворчал, чертыхался. Выпустив пар, он всегда становился добрым и ласковым. Сейчас на него свалилась тяжкая ноша. Новая техника, перелет на Север, предложение перейти на новую должность и самое тяжелое – ему предстояло принять решение, как быть с Чижом… А тут еще Гешка. В другой ситуации и не заметил бы своеволия сына, а тут… Нет, с такой нагрузкой ему просто опасно подыматься в небо. Маша знает – там нужна светлая голова. А он полетел. И вот новость – не вернулся самолет. Конечно, это еще ничего не значит. Садились на других аэродромах, садились на грунт, катапультировались, блуждали по нескольку суток, возвращались, летают снова. В панику бросаться не надо, не вернулся – не значит… Маша шла так быстро, что начала задыхаться Увидев такси, подняла руку. – Куда? – спросил водитель. – У меня пассажир. – На аэродром. – Садитесь, по пути, – водитель был хмур. – Уже который рейс туда гоняю. А назад – порожняком. Что там стряслось у вас? – Ничего, – сдержанно ответила Маша, садясь рядом с женщиной. – Ничего, – хмыкнул таксист. – Уже весь город гудит, что летчик разбился, а вы думаете – секрет. Вон, видите, еще две спешат? Тоже туда. Не возражаете? Он притормозил машину. Действительно, женщины бежали на аэродром. Маша где-то видела их лица, но вспомнить не могла. Наверняка знала – жены летчиков. – Перед вами вез дамочку, так она точно знает, – продолжал водитель, – кто-то из начальства загудел, говорит. Маша посмотрела на соседку. Эту женщину она видела впервые. Захотелось заговорить. – Муж здесь служит? – Друг детства, – ответила та и достала из сумочки сигареты и зажигалку. – Прошу. Маша баловалась в институте, но после рождения сына сигарет в рот не брала. И была уверена – никогда не возьмет. Но вопреки здравому смыслу, она жадно схватила сигарету и так же жадно затянулась над сильным пламенем зажигалки. До головокружения. Позыв тошноты удержал от второй затяжки, но, как ни странно, она почувствовала облегчение. – Спасибо, – поблагодарила соседку. – Меня зовут Марией Романовной. – Катя. – Я знаю почти всех летчиков. – Ефимов. – А-а… Я слышала что-то. Вы замужем? – Нет, – сказала Катя. – Это вы слышали о моей подруге. Она сюда больше не приедет. Мне поручено сказать… В жизни мне всегда везло, чувствую, и тут меня ждет сюрприз. Наверняка Федя. Маше показалось, что соседка с нечеловеческим усилием сдерживает себя, и она положила на ее руку свою ладонь. – Полно. Все будет хорошо. – Нет, нет, – зашептала Катя, – такое меня не обойдет. Бог, он видит. А на моей душе великий грех. Чем и когда искуплю – не знаю. – Ну-ну, уже подъезжаем. Когда машина свернула с дороги на асфальтовый аппендикс, упирающийся в кружево металлических ворот воинской части, Маша вздрогнула. На маленьком пятачке, закрытом густой вечерней тенью липы, неподвижно стояли женщины. Их было не менее двух десятков, но Маша сразу выхватила из толпы знакомые лица. На ее появление никто не отреагировал. Все смотрели на придавленный тишиной аэродром и молча чего-то ждали. Поддавшись общему настроению, остановилась в нерешительности и Маша. Первое желание – расспросить – она легко сдержала. Вдруг им уже все известно и ее вопрос прозвучит нелепо? Если случилось серьезное, узнает и она. С такими новостями не торопятся. Если они в неведенье, то и спрашивать незачем. Надо набраться терпения и ждать. Стоять, как все, и смотреть на зеленое поле, на вышку, на дверь проходной. Когда-нибудь она откроется, кто-то выйдет и все скажет. 16 Сколько Маша простояла в этом напряженном ожидании, она не знала. Ей показалось, что Чиж вышел сразу, как только она почувствовала, что силы ее покидают, что еще секунда – и она закричит. А делать этого ей никак нельзя. Все потому и молчат, что молчит она. Чиж улыбался и шел прямо на нее. И Маша на мгновенье поверила в праздник. Зачем бы он иначе улыбался? И смог ли улыбаться? Но уже в следующее мгновение она прочитала в глазах Чижа неотвратимую печаль и поняла: беда еще не миновала. – Злые языки – страшнее пистолета, – сказал Чиж и, пожав плечами, спросил: – Как я вас в город отправлю? У нас все автобусы в рейсе… И кто вас только взбаламутил. Женщины смотрели недоверчиво. – Кто разбился? – вырвался из толпы нервный голос. – Уж лучше сразу скажите. – Я вам заявляю официально: в полку никто не разбивался, – голос у Чижа был строгий, даже несколько раздраженный. – Поворачивается же язык такие слова говорить… – У нас действительно никто не разбивался, – удивленно пожал плечом Руслан. И странно, его слова произвели на всех решительное впечатление. Засветились улыбки, кто-то облегченно заплакал, послышались возгласы утешения, кто-то кого-то звал идти домой. И только две пары глаз цепко держали Чижа под своим прицелом. Глаза Марии Романовны и Алины Васильевны. Чиж подошел к Волковой и тихо сказал: – Иди домой, Маша. Он выехал на поиски. Не вернулся Новиков. Иди. И сразу подошел к Алине Васильевне: – А ты, голубушка, чего надумала? – Павел Иванович, – жалобно сказала Алина, – это какое же терпение надо иметь? В театр ведь собрались. Первый раз в этом году. Слово дал: приду вовремя, будь готова. Нарядилась, накрасилась, сижу как дура с мытой шеей, а его нет и нет. Где он, Павел Иванович? – Театр, Алина Васильевна, он и в Африке театр. Было бы из-за чего переживать. – Позвонить ему трудно? – Значит, не мог. – Чиж взял Алину Васильевну под руку и повел к воротам. Стоявший у окна солдат включил мотор, и ажурные металлические створки бесшумно распахнулись в обе стороны. Руслан пошел следом, но его окликнула одна из женщин. Он повернулся и узнал Нину. – Я его сейчас позову, – сказал Руслан, не дожидаясь никаких вопросов. – Спасибо, – кивнула она. Он подошел к Лизе, опустил глаза. – Иди домой, – сказал требовательно, – потом поговорим. – Только и пожили по-человечески, – услышал он голос Алины Васильевны, когда пересек линию ворот. – А потом пошло, покатило. И чем дальше, тем хуже… А почему вы не подошли к Ольге Алексеевне? – Где не подошел? – не понял Чиж. – Она стояла вместе со всеми. – Зачем? – Павел Иванович, где Новиков? – Ну, Ольга Алексеевна, – усмехнулся Чиж, оставив без ответа вопрос Алины. Вдруг повернулся к ней. – Это же при вас было, когда я сел на озеро? Еще, как назло, запуржило. Двое суток блудил. – Павел Иванович, – встрял в разговор Руслан, – у нас в училище один курсант катапультировался и повис на сосне. Стропы резать страшно – метров семь от земли, а другого пути нет. На третий день пожарной машиной сняли… – На третий, – поддакнул Чиж, – это еще ничего, я помню… – Да хватит вам, Павел Иванович, – раздраженно сказала Алина. – Не надо со мной так, честное слово… Что с ним? – Не знаю, Алина Васильевна, – честно признался Чиж. Он крепче взял ее за руку и непроизвольно вздохнул. – Мы потеряли с ним связь, он не вернулся на аэродром. Сейчас работают две поисковые группы: наземная и воздушная… Я думаю… – А говорите, ничего не случилось. Я же слышу – летать перестали, а домой не идут. А вы мне… Когда они гудят, я спокойно сплю. А тут проснулась. Чувствую – что-то не по себе. И не могу понять. Потом догадалась: уже давно не гудят и домой не едут. Еще звонить начала. У нее на полуслове подкосились колени, и она сразу обмякла. Руслан тут же подхватил ее с другой стороны и помог Чижу уложить на валок скошенной травы. – Воды и аптечку! – выдохнул Чиж, расстегивая ей ворот платья. Руслан влетел в класс, сорвал со стены аптечку. – Врача! – крикнул он летчикам. – Алина Васильевна! – Врач в поисковой команде. – Большову позвоню, – сказал Ефимов, – пусть в госпиталь жмет. – Точно, – поддержал Муравко, – к Олегу Булатову. Друг мой. Спец по сердечным делам. Сейчас от дежурного звякну. Уже закрывая дверь, Руслан вспомнил: – Федя, помоги! …Ефимов подымался вместе с Муравко к дежурному штурману. Услышав свое имя, он задержался. – Ты знаешь, – как-то виновато сказал Руслан, – там, за воротами, Нина. Извини, сразу не сказал. Ефимов придержал Муравко и попросил: – Позвони Большову, пусть подгоняет свою карету прямо сюда. А врачу своему скажи, чтоб ждал. Через пятнадцать минут они будут у него в госпитале. Воздух аэродрома уже настаивался вечерними запахами трав, над дальним лесом висело остывающее солнце, по всей посадке вдоль дороги, бегущей за изгородью аэродрома, заливались в вечерней песне соловьи. А в двадцати метрах от СКП лежала на охапке скошенной травы потерявшая сознание женщина. – Пульс есть? – спросил Ефимов, поравнявшись с Чижом. – Очень слабый. – Сейчас будет Большов на «Жигулях». В госпиталь ее надо. От площадки РСП на полном газу летел светлый «Жигуленок». Из домика бежала Юля, а следом за нею Муравко. Руслан, стоя на коленях, осторожно тер нашатырем виски Алины Васильевны. – Ее бы уложить, – глядя на подрулившего «Жигуленка», сказал Чиж. – Как же сидя? – Положим, – сказал, выходя из машины, капитан Большов и, распахнув все дверцы, откинул спинку переднего сиденья. Получилось удобное ложе. – Придержи голову, – попросил Ефимов Юлю и взял Алину на руки. Он легко поднес потерявшую сознание женщину к машине, уложил на переднее сиденье, осторожно поправил голову на подголовнике. – Кто поедет с ней? – Я поеду, – сказала Юля. – Садись. Когда машина скрылась за воротами, Ефимов заметил, как Чиж, кусая нижнюю губу, массировал под кожанкой грудь. Лоб его был покрыт испариной. Ефимов наклонился к аптечке, нашел патрончик с нитроглицерином. – Примите это, Павел Иванович, – сказал тоном, не терпящим возражения. И Чиж покорно бросил в рот таблетку. Собрав аптечку, он подал ее Руслану. – Понаблюдай за ним, – кивнул на Чижа, – я к Нине. Появилось ощущение исполненного долга, и он зашагал шире, чувствуя, как сердце тоже участило свой ритм: он столько ждал этого дня! В последнюю встречу Нина наконец сказала: «Если приеду, то навсегда. А приеду я обязательно». Переступая порог КПП, он приказал себе: «Спокойно, Ефимов». Но сердце, вопреки разуму, набирало темп и удержать его не было сил. Под развесистой липой, в глубокой тени стояла Нина. Ее плечи были устало опущены, спина сутуло согнута. Нина повернулась к нему, и Ефимов не узнал ее: взгляд – печально потухший, губы – изломлены горем. Он ничего не понял и бросился к ней. Успел только подумать: «Этот переезд ей стоил дорого». И от этой мысли сердце его сжалось в тревоге. Ничего не спрашивая, он прижал ее к себе и целовал, целовал, пока она не начала вздрагивать в его руках от неудержимых рыданий. – Ну, успокойся, – просил он ласково, – я с тобой, мы вместе. Все будет хорошо, все образуется. Слышишь? Посмотри на меня, ну? Нина упрямо мотнула головой и еще сильнее вдавилась лицом в его грудь. – Обманула нас жизнь, – наконец сказала она. – Не могу я сейчас приехать к тебе, Феденька. Невозможно это. – Зачем ты говоришь это, Нина? – Все против нас, родной мой. Все… Ефимов почувствовал правду ее слов и ничего не стал спрашивать. Сможет – сама расскажет. А нет, лучше подождать с расспросами, ей и без того больно. – Все равно ты со мной. Всегда. И ждать я тебя буду, даже если потребуется для этого вся жизнь. Скажи только, чем я могу тебе помочь? – Прогони меня! Я обманываю и тебя и себя. Не могу! Ты заслуживаешь лучшего. Прогони, скажи, чтобы я больше не появлялась здесь и не мучила тебя. Скажи, что ты давно хотел это сделать. Скажи. И ты поможешь мне. – Для тебя я могу все, – сказал Ефимов спокойно, – но только не это. – Прости, Федя, – сказала она глухо. – Мне пора. Не провожай. У вас своя беда. Я видела. Будь с ними. – Я приеду на этих днях и найду тебя. Она положила свои руки ему на грудь, вздохнула. – Хорошо-то как с тобой, господи. Повторила эти слова глазами, кивком головы, тряхнула шелком волос и быстро пошла к дороге. Ефимов какое-то мгновение колебался: уйти или проводить? Но это было только мгновение. Он повернулся и почти побежал в сторону КПП, освобождая ее от своего присутствия, от дополнительных страданий. Придет время – все станет на свои места. Когда Ефимов вернулся в класс, где сидели измученные ожиданием летчики, почти следом за ним в класс вошел и Чиж. – Хватит, – сказал он. – Сейчас подойдет грузовик от связистов, всем домой. Будут новости – узнаете дома. А то, понимаешь, развели у ворот панихиду. Семья, она и в Африке семья. Надо уважать своих близких и нервы им зря не вытягивать. Встать! Все вскочили, удивленно глядя на Чижа. Давненько он так властно не командовал. Чиж, наверное, и сам почувствовал, что удивил летчиков. И добавил уже тихо и мягко: – Идите, переодевайтесь, – и, стоя у выхода, каждого сопроводил шлепком по плечу. Летчики не торопились. Почти у всех находились какие-то причины для задержки. Одни топтались возле вышки, заглядывая по очереди в комнату диспетчера, другие вдруг начали жадно допивать газировку из сифонов, заготовленных на ночные полеты, третьи просто тянули волынку. Все надеялись – а вдруг вот-вот звякнет телефон и скажут: жив Новиков! Вот тогда и домой не грех. Но диспетчер пожимал плечами, а все телефонные аппараты зловеще молчали. …В машине ехали молча. Говорить было не о чем. – Стукните там, – попросил сидевший у заднего борта Руслан Горелов. Кто-то ударил кулаком по кабине, и тяжелый «КРАЗ» мягко притормозил возле гарнизонного универмага. Никто, как обычно, не пошутил Руслану вслед. Он по привычке завернул к гастроному, но магазин был закрыт. Руслан посмотрел на часы. Все верно – половина одиннадцатого. Хоть и белая, но все-таки ночь. Всегда оживленный бульвар был по-будничному пуст. В душе у Руслана осталось смешанное чувство. С одной стороны, он понимал, что виноват перед Лизой, а с другой – не мог преодолеть вдруг подкатившего безразличия. Выйдя из лифта, он потянулся к кнопке звонка – хотелось, чтобы дверь открыла Лиза, но передумал, достал ключи и тихо вошел в затемненную прихожую. В комнате скрипнул диван и зажегся свет. Лиза вышла в помятом платье, с припухшими глазами. Она заснула на диване не раздеваясь и не расстилая постели. – Нашли? – спросила она. – Пока нет, – ответил Руслан. – Тебе письмо, – Лиза кивнула на стол, где белел конверт, и пошла в ванную. Руслан торопливо расшнуровал ботинки и, не спуская взгляда с конверта, подошел к столу. Нервно вскрыл заклейку, пробежал глазами по строчкам. «Вот и свершилось», – подумал радостно. Совсем недавно он видел себя во сне взлетающим со стальной палубы. Физически чувствовал, как вспухает его машина на раскаленном потоке газов, как, набрав безопасную высоту, соскальзывает с этой зыбкой опоры в горизонтальный полет и мощный крейсер с его палубой, надстройкой, антеннами и прочими сооружениями на глазах тает и становится махонькой лодочкой в бескрайней стихии океана. И – здравствуйте-пожалуйте – сон в руку. – Лиза! – крикнул он радостно и вбежал в ванную. Лиза при его появлении стыдливо закрыла руками грудь. «Будто я чужой», – безобидно подумал Руслан и протянул ей письмо. – Меня зовут в морскую авиацию! Вот, вспомнили! – Ну и что? – холодно спросила Лиза. – Как что? – удивился Руслан. – Я же во сне вижу, как летаю над морем. А тут вот, – он ударил согнутыми пальцами по листу, – одно мое слово – и сон свершился. Ты что, не понимаешь, что это значит? – Я не понимаю, чему ты радуешься? – Ладно, – великодушно махнул рукой Руслан и вышел из ванной. Он еще и еще раз перечитал письмо, несколько раз перегнул и вложил в конверт. – В тундру не надо будет лететь, глупая, – сказал он Лизе, когда она вышла, одевшись в домашний халат. – Не глупее тебя, – спокойно ответила Лиза. Руслан сник, полагая, что такая реакция – результат ссоры. Ведь он не раз и не два рассказывал ей о противолодочном крейсере, о романтике полета над океаном, о традициях морской авиации. Слушала! С разинутым ртом. А тут – будто ее не касается. – Будешь ужинать? – спросила она из кухни, звякая чашками. – Лиза, – он вошел к ней, взял за плечи и, почувствовав под руками напрягшееся тело, тряхнул ее. – Опомнись, Лиза. Мы не должны мучить друг друга. – Опомнилась, помог. – Мы же по-хорошему можем. – Могли. – Что изменилось, Лиза? – Все. – Неправда! Я люблю тебя. А если ты… Лиза резко обернулась: – Ты никогда не любил меня! Играл, как с куклой… А я живая! Она в сердцах швырнула на стол нож, которым резала пирог, и вышла из кухни. 17 Когда Волкову доложили, что пропавший самолет обнаружен, он ответил категорично: – Спуститесь до предельной высоты и убедитесь, действительно ли это самолет. Через минуту вертолетчики передали по радио бортовой номер истребителя. Ошибка исключалась. – Летчик?.. – В кабине, без признаков жизни. – Можете на борт его взять? – Самолет в болоте, приземлиться негде. Подъемными механизмами вертолет не оборудован. Он тут же вызвал по радио СКП вертолетной эскадрильи и попросил срочно прислать специально оборудованный вертолет. Когда прибыл экипаж, обнаруживший место вынужденной посадки Новикова, Волков спросил командира – совсем юного капитана: – Сможешь зависнуть метрах в двух? – Смогу, – ответил капитан. Волков отдал необходимые указания майору Пименову, взял санитарную сумку и пошел к вертолету. – Летим, – сказал он летчику, – сам выпрыгну. – Это очень опасно, товарищ подполковник, – засомневался молодой офицер. – Может, ему эти секунды жизни стоить будут! – Волкова уже раздражала медлительность экипажа. – И давайте без разговоров, капитан. Я вам приказываю, а не прошу. – Есть, – спокойно ответил летчик и полез в кабину. Через несколько минут винтокрылая машина стремительно отделилась от земли, будто ее сдуло боковым ветром. Ничего и никогда так Волкову не хотелось, как увидеть Новикова живым. За эти часы, пока с ним не было связи, он перебрал в памяти чуть ли не каждый день их совместной работы. Уже через неделю после прибытия в полк Новиков зашел к Волкову в кабинет. Тогда Волков еще был замом. И строго, как пацану, пригрозил: – За саботаж партийных решений, Иван Дмитрич, можете строгача схватить. Это я вам обещаю. – Я не политработник, я строевой летчик, – попытался отмахнуться Волков, но Новиков не отстал. – Выступать перед личным составом должен каждый коммунист. А вы уже полгода готовитесь к лекции и никак не родите. – Вот вы с пропагандистом и выступайте, – сорвался Волков, – а я другими заботами перегружен. Буквально на второй день Волкова вызвали на заседание парткома. На повестке дня стояло персональное дело коммуниста Волкова. Иван Дмитрич вскипел. По дороге в партком он поносил Новикова, не выбирая слов. – Болтун, карьерист, выскочка, – искал он сочувствия среди других замов. – В небе пусть покажет стиль. А в кабинете все мастера командовать. На парткоме Волков сидел хмурый и замкнутый. А секретарь все перечислял и перечислял, какие партийные поручения выполняют другие руководящие коммунисты полка. Этот список был внушительным, и только Волков выглядел вроде как беспартийным. Никто его не упрекал, никто ему ничем не грозил, просто шел разговор о том, почему каждому коммунисту-руководителю надо выступать перед личным составом, чувствовать пульс партийной организации, жить ее интересами. – Есть предложение, – сказал в заключение Новиков, – ограничиться приглашением Ивана Дмитриевича на заседание парткома. Лекция, которую потом подготовил Волков, называлась «За барьером барьер». Выступая с нею и перед солдатами и перед офицерами, Волков гордился собой. Все-таки лекцию полностью сочинил сам, вернее, она была написана его летной биографией. На своем веку он прошел через все типы реактивных самолетов, хотя начинал в летном клубе на винтомоторном ЯКе. У него было что сказать, было чем поделиться, и эти выступления приносили ему тихую радость, о которой Волков говорил одной только Маше. На летно-тактических учениях он ни за кем так придирчиво не следил, как за Новиковым. Точил его червь, уже и фраза была заготовлена: «В кабинете, Сергей Петрович, у вас лучше получается». Однако Новиков не дал ему повода для этих слов. И он на разборе признался: «У замполита есть чему учиться не только на земле». Однажды они схватились на комиссии по распределению жилья. Волков считал, что в первую очередь надо обеспечивать летный состав, и подготовил список новоселов исходя из своей позиции. Новиков высказался за то, чтобы одну из квартир отдать технику ТЭЧ старшему лейтенанту Ширинскому. На запальчивую речь Волкова Новиков ответил предложением: съездить и посмотреть, как живет Ширинский. – Мне это ни к чему, Сергей Петрович, – воспротивился Волков. – Тебе это положено по уставу – знать нужды своих подчиненных, – парировал Новиков. – Съездите вместе, – сказал Чиж, – потом и решение примем. В тот же вечер они зашли в дом, где жил Ширинский. В одной комнате площадью в двадцать квадратных метров жило четыре человека. Ширинский с женой, мать его и взрослая дочь – десятиклассница. На столе сразу появилось варенье, электрический самовар, свежие пироги, никто ни на что не жаловался, но Волков все понял: эти перегородки из книжных шкафов напоминали ему фиговые листочки на древнегреческих скульптурах. – Опять ты меня, как слепого кутенка, Сергей Петрович, – сказал Волков, когда они вышли из дома. Когда Волкова назначали командиром полка, ему казалось, что Новиков не спускает с него глаз. Любое безобидное замечание замполита он воспринимал с нарастающим раздражением. И Новиков вдруг исчез из его поля зрения, словно почувствовал, что при таком повышенном напряжении полюса необходимо развести, иначе ударит молния. Он занимался своими делами, почти не попадая на глаза Волкову. Но Волков пришел к нему сам. Жизнь заставила. Месяц назад командир полка по просьбе директора асфальтового завода на несколько дней послал к нему в порядке взаимовыручки десять солдат. С машинами. Рассчитывался директор асфальтом, который был уложен вокруг солдатской казармы. На завод нагрянула ревизия, и сделка между директором и командиром была взята на карандаш. Назревал скандал, который Волкову как начинающему командиру был ни к чему. Идти за советом к Чижу Волков постеснялся. С ним надо было советоваться «до того». И он пошел к Новикову. – Выход один, – сказал замполит, – заслушаем тебя на заседании парткома, объявим взыскание и о решении проинформируем городской комитет партии. За один грех дважды не наказывают. Это будет и честно, и принципиально… Сдружило их окончательно чрезвычайное происшествие. Случилось оно в день торжественного собрания, проходившего в городском Доме культуры. Ноябрь в тот год был холодным, неожиданно ударили морозы. Водитель командирского автомобиля, чтобы скоротать ожидание, заснул в машине, не выключив двигателя. Машина стояла на ветру, и выхлопные газы задувало в салон. Парень надышался ими и в бессознательном состоянии был доставлен в госпиталь. И хотя жизнь ему сумели спасти, над Волковым нависла угроза освобождения от занимаемой должности. Говорили, что был уже заготовлен проект приказа. Новиков тогда дважды ездил на прием к командующему. Один раз сам, вторым заходом – с Чижом. Снятие с должности заменили двумя выговорами: командиру и замполиту. …Волков уже не представлял своей работы без Новикова. Во всех делах он для него был как вторая совесть. Во всем они находили общий язык. Одно мучило обоих – Чиж. Впервые они схлестнулись из-за него, когда полк начал пересаживаться на новые самолеты. Новиков настаивал, чтобы Чиж с одной из групп побывал в центре переучивания, изучил матчасть нового самолета, познакомился с его пилотажными качествами, посмотрел машину в боевом применении. Волков был уверен, что делать этого не следует. – На кой черт перегружать старика, если ему уже никогда не летать на этой машине. Вообще не летать! – Пойми ты, Иван Дмитриевич, ему необходимо чувствовать машину, он же руководит полетами. – Почувствует здесь. Пусть отдохнет, пока мы в отъезде будем. – Обидится Павел Иванович. – Обида пройдет, а здоровье окрепнет. …Не знал Новиков, сколько невеселых дум передумал Волков, прежде чем принять такое решение. Чижа он любил, специально заходил в Военно-медицинскую академию, где того обследовали, советовался с врачами госпиталя, все в один голос твердили: сердце на опасном пределе. И Волков решил, что Чижа надо исподволь готовить к проводам. Служба в авиации уже ему не по плечу. Хочется того или нет, а каждый вылет в небо – это напряжение для всех. Для летчика и руководителя полетов – наивысшее. И вот подворачивается идеальный повод – передислокация полка. А Новиков вдруг встал на дыбы. Волков не понимал его, он – Волкова. Непонимание накапливалось, росло, перерождалось в отчуждение, и Волков чувствовал, что в последние дни между ними незаметно образовалась стеклянная перегородка: видеть друг друга видят, а услышать не могут. Сидя сейчас в вертолете с санитарной сумкой через плечо, Волков верил, что, если Новиков живой, эту стеклянную стену они одолеют. Когда Новиков понял, что двигатель не запустить, и повернул самолет к болотной плешине, он зримо почувствовал притяжение земли. Самолет терял опору и начинал валиться. Даже не секунды, мгновения понадобились летчику, чтобы в комплексе оценить обстановку и принять единственно верное решение. Он резко взял ручку от себя и заставил самолет не просто падать, а падать правильно. С каждой секундой земля приближалась, а когда понеслась ему навстречу с угрожающей быстротой, Новиков начал вписывать разогнавшийся самолет в ту невидимую глиссаду, которую он начертил в пространстве и угадывал теперь лишь девятым чувством, имеющимся, наверное, у каждого опытного летчика. «Шасси!» – мелькнула привычная мысль, но ее тут же догнала следующая: «Нельзя!» Земля надвигалась непривычно безликая, без спасительной бетонки, без приводов, без четкой разметки – бурая смесь пожухлых камышей со ржавыми пятнами заводей. Новиков безошибочно почувствовал момент касания. Самолет сглиссировал, вспахивая заросшее болото, разбрасывая во все стороны перемешанную с водорослями грязь. Перепуганная утиная стая темным косяком долго кружила над насиженным плесом, никак не решаясь приблизиться к месту вторжения непрошеного гостя, ошалело тявкало воронье, кричали сороки… Новиков уже не сомневался, что напоролся на, птичью стаю. Но какого дьявола их так высоко занесло? И почему отказала радиостанция? Почему вырубились сразу почти все системы? «Почему? Почему? Почему?»… Сколько их – этих «почему»? Он закрыл глаза и судорожно вздохнул. Ему еще предстояло поверить, что самое ужасное позади. Он осторожно, насколько позволяла кабина, подтянул к груди одну ногу, затем другую. Боли не было. Подвигал плечами, повертел кисти рук – все в порядке. Никто не поверит. Десятки тонн безжизненного металла! А шлепнулся вполне прилично. Освободившись от привязных ремней, Новиков открыл «фонарь» и встал на сиденье истребителя. След от приземления, то бишь приводнения, уже затянуло ржавой водой. И без того закамуфлированный самолет был захлестан липкими водорослями, осокой и еще черт знает чем. Фюзеляж почти до самых крыльев зарылся в грязь, вытащить самолет из этого болота будет не просто. С высоты оно казалось мизерным, а вот теперь, из кабины шлепнувшегося самолета, Новиков едва угадывал, где могут быть его границы. И самое печальное – если начнут искать, то искать будут совсем не здесь. Эта территория наверняка за пределами зоны пилотажа. Покинуть самолет и продираться через болото было бы полным безумием. Оставаться до конца здесь? Если не успеют комары да мошки сожрать живьем, все будет в норме. Не сегодня, так завтра – все равно найдут. Прочешут каждый квадратик и найдут. Раздавив на щеке тяжелого комара, Новиков снова опустился на сиденье и закрыл «фонарь». Насекомые уже успели заселить и это пространство. Ну что ж, пусть живут. Он широко зевнул. До боли в затылке. По телу прошелся озноб, и сразу навалилась сонливость. Новиков не стал сопротивляться. То нечеловеческое напряжение воли, благодаря которому он не допустил в аварийной ситуации ни единой ошибки, требовало теперь от организма своеобразной компенсации. Сон был крепкий и освежающий. Он даже не чувствовал комариных укусов. Напившись человеческой крови, разбухшие, они тяжело тыкались в запотевающий колпак «фонаря» кабины. Упавший в болото самолет с высоты можно было угадать лишь по четкому профилю задранного к небу хвоста. Передняя часть и левое крыло почти не просматривались, зато правая плоскость выделялась как посадочный «пенек». Прозрачный сумрак северной ночи тускло отражался в колпаке кабины. До земли оставалось несколько метров, и Волков увидел в кабине неподвижную фигуру Новикова. Голова его была склонена набок, глаза закрыты. Лицо летчика показалось Волкову безжизненно бледным, и внутри у него что-то оборвалось, похолодело. И все-таки надежда не покидала Волкова до последней минуты. Когда вертолет завис над крылом самолета, он подошел к открытой дверке, сел на порожек, затем перевернулся и, ухватившись за край, мягко повис на вытянутых руках. До плоскости крыла оставалось не более метра. Он разжал пальцы и гулко грохнулся на дюралевую поверхность, тут же соскользнув к фюзеляжу. И в этот момент он отчетливо увидел, что Новиков повернул голову сперва налево, затем направо. «Мистика!» – подумал Волков и, придерживаясь рукой за выступ фюзеляжа, начал подбираться по скользкому крылу к кабине. Вертолет уже набирал высоту, и его шум отдалился. Волкову показалось, что он слышит легкий кашель. Он выпрямился и обернулся, но болото было пустынным, лишь утиная стая волнистым шнурком стягивала у горизонта земную твердь с небесными хлябями. Когда Волков снова повернулся к кабине, она была уже открыта и на него ясными глазами смотрел Новиков. – Неужели живой? – вырвалось у Волкова нелепое удивление. – Конечно живой! – Самолет жалко, – сказал Новиков, посмотрев на затопленное крыло. – Думал, пока прилетите, посплю. И придавил. – Цел? Ничего не сломал, не разбил? – Самолет разбил. – Через неделю самолет полетит. Что случилось-то? – В сопло что-то втянуло. Чуть душу не вытряхнуло. А ты откуда здесь взялся? – С вертолета. У них, видишь ли, снасти нет. Пришлось прыгать. – Зачем? Сломал бы ногу. – А почему молчал? – Отказ по всем системам. – Ну, вылезай, я хоть пощупаю тебя. – Куда? В болото? – А как садился? – Сам видишь. – Нет, ты молодец! Ей-богу! Они, дураки, приняли тебя за этого… Без признаков жизни, сказали. – Кто? – Вертолетчики. – Обещал Алине в театр. Вломит она мне сегодня. «Не вломит», – хотел сказать Волков, уже зная, что жена Новикова в госпитале. Но вовремя удержался. Сонный взгляд Новикова начинал его не на шутку тревожить. – Сижу, как на кобыле, – сказал Волков, пришпорив каблуками бока фюзеляжа. – Не вылезай, еще свалишься. Сейчас прилетит другой вертолет. Он наклонился, скользнул вперед, дотянулся руками до профилированного уплотнителя и рывком подъехал к кабине. Они обнялись, не обращая внимания на массированную комариную атаку. – Спасибо, – сказал Волков. – Спасибо, что живой. В небе уже росла в размерах винтокрылая машина, оглашая окрестности ритмичным стуком мотора. Под ее брюшком раскачивался стальной трос с набором привязных ремней на случай спасательных работ. – Давай застегивай, – сказал Волков, перехватив связку сбруи. Новиков не услышал из-за вертолетного шума его голоса, но жест понял. Система лямок напоминала парашютную систему, и Новиков проворно защелкнул замки. Волков заставил его повернуться, проверил надежность креплений и подал рукой сигнал. Трос натянулся, и Новиков легко скользнул под прозрачный зонт, сотканный из рассеченного лопастями пространства. Когда в салон вертолета подняли Волкова, Новиков крепко спал на брезентовых носилках. 18 – Обзвоните всех, у кого есть телефоны, и передайте: «Живой и здоровый. Ни царапинки. Отсыпается». А я домой. Чиж снял повязку с буквами «РП», надел фуражку, выпил из сифона воды и пошел вниз. Сумерки нехотя сгущались, и пятна тумана в низких местах белели, как опустившиеся на ночлег облака. На самолетной стоянке звонко цокали по бетону подковки часового, у КПП рядом с грузовиком стояла легковая машина капитана Большова. Внутри гремела музыка. – Павел Иванович, – Большов распахнул дверцу. – Садитесь ко мне. Домчу по высшему классу. Не на этом же динозавре вам ехать. – Вдруг у тебя свои планы… – Какие планы? Я знаете как рад, что Сергей Петрович цел. У меня теперь все гаишники в кармане. Лучшие друзья стали. – Болтуны они, твои гаишники. – Это точно, трепачи, – согласился Большов и фарами мигнул дежурному по КПП. Ворота бесшумно растворились, и машина мягко покатилась по асфальту. Чиж расслабил ноги, откинул голову на мягкий подголовник… Машина ему нравилась. Вот такую они и купят с Юлей. И поедут путешествовать. Надо же хоть под конец жизни поглядеть на матушку землицу в упор. А то все сверху да сверху… Закончит Юлька институт, отпуск возьмет, и поедут они по стране на Запад. По тем местам, где были фронтовые аэродромы, где стоят обелиски на могилах его друзей. Надо обязательно отыскать последнюю пристань Филимона Качева, выпить на его могилке, цветы положить. Да нет, не так все плохо, надо решаться и уходить. Стоит чуть понервничать, и проклятый металл срывается с места, режет все живое на своем пути, подбирается к сердцу. Сегодня, когда увозили в госпиталь Алину, боль оглушила Чижа. Хорошо, Ефимов подал таблетку нитроглицерина, а то бы и на ногах не устоял. – Если не спешишь, – сказал Чиж Большову, – покатай меня потихоньку по городу. Ему не хотелось идти домой, потому что вчера приехала Ольга, потому что молчать в ее присутствии трудно, а говорить еще труднее. Ее планы, ее надежды кажутся Чижу такими же странными, как и ее просьбы о прощении. За что прощать? И что изменится? С их первой встречи Ольга казалась ему немножко неземной, как говорят, не от мира сего. Ее непохожесть на других, несовпадаемость с привычным стереотипом вначале просто забавляла Чижа. Шел первый его полновесный отпуск. Эскадрилья освоила полеты на реактивных самолетах. Все летчики и командир – новоиспеченный майор Чиж, – получили ордена и отпуск. Чиж давно хотел побывать в Ленинграде, навестить друзей и главное – Розу Халитову, боевую подругу Филимона Качева. Ее адрес, полученный через центральный адресный стол, он уже года три носил в бумажнике, не решаясь написать письмо. Все надеялся на оказию. И вот сам едет. Какое это было прекрасное время! Тридцать суток в Ленинграде! Сентябрь уже шелестел под ногами опавшими листьями, над городом низко и торопливо шли непричесанные облака, проливаясь иногда мелкой изморосью, но было еще тепло, ослабевшее солнце щедро дарило людям свою энергию, чтобы запасались впрок на долгую зиму. Чиж приехал в Ленинград в гражданском костюме, прихватив с собой лишь потертую кожанку. Головного убора он вообще не любил и, чтобы избавить себя от обязанности надевать его, отказался на время отпуска от всей формы. На ночлег его приютил бывший техник – Женька Гулак. Он демобилизовался сразу после войны, женился и жил на улице Дзержинского в коммунальной квартире, занимая с женой и детьми две узенькие, как два параллельных коридора, комнатенки. Раскладушку Чижу ставили на ночь в детской комнате. Первые дни он, как хмельной, слонялся по городу. Где на трамвае, где троллейбусом, а чаще пешком. Город его поражал всем: размахом, стройностью улиц, великолепием колоннад, чистотой и даже своим торопливым желанием скорее залечить следы бомбежек, обстрелов, пожаров. Чиж видел раньше Ленинград лишь в кино и на фотографиях. Встреча с реальным городом разочаровывала лишь в деталях – краски казались не такими яркими, – все остальное превзошло самые смелые ожидания. Он мог по нескольку часов стоять, облокотившись на гранит невского парапета, и смотреть, как через Дворцовый мост идут трамваи, как туго свиваются течения мощной реки, как мимо прогуливаются юные ленинградки в модных резиновых сапожках с короткими широкими голенищами. Роза Халитова жила на Пионерской. Чиж несколько раз подходил к этому дому, гулял поблизости, надеясь на неожиданную встречу, и наконец решился войти. То, чего он больше всего не хотел – встретиться с ее мужем, – сразу и свершилось. Дверь ему открыл сухощавый мужчина с обвисшими усами. Поздоровавшись, он внимательно посмотрел на Чижа и вдруг весело крикнул: – Роза! Твой однополчанин! Выбежавшая Роза, в халате, с мокрыми руками, ойкнула и повисла у Чижа на шее. А ее муж обрадованно улыбался, щуря глаза, и не выказывал никакой ревности… Были сумбурные вопросы, они перебивали друг друга, Роза показывала фотографии, на одной из которых был снят и Чиж с Филимоном Качевым. – Семен до сих пор меня к нему ревнует, – сказала Роза, посмотрев на мужа. Но тот лишь добродушно улыбался, и Чиж догадывался, что между этими двумя нет ни тайн, ни секретов. Здесь можно все вспоминать, обо всем говорить без утайки. – О его смерти я узнала через три месяца, – рассказывала Роза, – жить не хотела, лезла под бомбежки… Да что там, до сих пор душа болит… Вот если бы не он, – она кивнула в сторону мужа, – не встретились бы мы с тобой, Пашенька. Второй раз бог дал полюбить… Ожила. Сыночка Филю имеем, сейчас в Кавголове у бабки с дедом. Это в их квартире мы с Семеном живем. Студентка у нас квартирует. Вот эту боковую комнатку ей отдали. И в это время распахнулась наружная дверь. На пороге стояла девочка в красном берете. Плотная вязаная кофта свисала свободно, как куртка. Поверх искрилась длинная коса. – А вот и наша Оля, – сказала Роза: – Знакомься, Оля, это мой однополчанин Паша Чиж, боевой летчик, настоящий герой. Оля окинула боевого летчика усмешливым взглядом и протянула руку. – Я летчиков представляла иначе. Извините, – и она проскользнула в дверь своей комнаты. – Не обижайся на нее, – шепнула Роза. – Девка прямая, но хорошая. Роза почти не изменилась. Разве что немножко похудела да у глаз и на шее появились морщинки. Чиж вспомнил посиделки в командирской землянке, особенно когда начинались затяжные дожди. Роза у порога стаскивала мокрые сапоги и быстренько забиралась на нары, под меховую куртку. На сердитые взгляды Филимона отвечала улыбкой или шутливо оправдывалась: «Ну, Филик, не я же дождем управляю. Ну потерпи. Денек-другой и распогодится». – «Распогодится, – ворчал Филимон, – а сама рада, что дождь». – «А ты сядь возле меня, – просила Роза. – Я песню спою…» – Ты песни-то петь не разучилась? – спросил Чиж. – Те, что в землянке нам пела? – Поет, – улыбнулся Семен. И вдруг всполошился: – Роза, такую встречу нельзя насухую. Это не по-нашему, не по-армейски. – Да я и сама думаю, – в ее голосе были нотки досады. – Понимаешь, Паша, в театр мы собрались. Балет смотреть. Я ему голову продолбила – достань билеты на «Дон-Кихота». – Ну и прекрасно. Идите. Еще встретимся. – Нет, – твердо сказала Роза и позвала: – Оля! Ольга вышла с книгой в руках, искристая коса перекинута на грудь. Перехватив взгляд Чижа, она деловито застегнула нижние пуговицы халата. – В театр хочешь? – спросила Роза. – Вы же знаете, я могу от еды отказаться, но от театра… – У нас билеты. А тут гость. – Роза развела руками. – Пока вы будете балет смотреть, мы с Сеней по магазинам и стол приготовим. Она повернулась к Чижу. – Ухаживать умеешь за девушками? Чиж пожал плечами. Роза посмотрела на дверь, за которой скрылась Ольга, и взяла его за пуговицу. – Из трамвая выходи первым, руку подай. Мороженым угости, морс купи. А если еще и цветы подаришь – будешь кавалер на все сто. Не подведи авиацию. В памяти сохранилась атмосфера театральной праздничности. То ли оттого, что все было впервые, то ли оттого, что посещения оперного театра Чиж мог пересчитать по пальцам, но запомнилось неторопливое гулянье по зеркальному фойе, улыбающиеся лица, поток нарядных платьев, вздрагивающий от аплодисментов зал, необъяснимо волнующая музыка и Ольга. Она была в строгом черном платье. Рядом с нею Чиж в своем помятом костюме выглядел не очень респектабельно, но он втайне гордился, что в театр Ольга пришла именно с ним. Когда на сцене изображали сон Дон-Кихота и на глазах публики начала вырастать на подмостках какая-то зелень, Чиж весело ахнул: – Во дают прикурить! – Паша… – тихо шепнула Ольга, – разве можно так громко? Чиж понял, что опростоволосился, смутился и умолк. Ему стало неинтересно. Видимо, и Ольга почувствовала свою вину. Она просунула под его руку свою ладонь и теснее прислонилась к нему. – Не будьте таким обидчивым, не надо, – сказала она просительно, и Чиж примирительно тронул ее пальцы. На Пионерскую возвращались трамваем. Ольга разговорилась, рассказала, что она приехала в Ленинград из Астрахани. Там ее мать работает директором школы. Отец погиб на фронте. Еще в 1941 году. Здесь, возле Ленинграда. Она ездит к нему на могилу. Это не очень далеко. Несколько остановок на электричке с Московского вокзала. Она хотела поступать в Московский политехнический, но здесь могила отца. Помнит ли она его? Конечно. Он был смешным выдумщиком. И носил черную вышитую косоворотку. И подпоясывался синим шелковым шнуром. С кисточками на концах. Когда он садился за стол, кисточками играла кошка. Ужинали все вместе. Вчетвером. Ольга, захмелев, смеясь, рассказала, как Чиж во всеуслышанье сказал: «Во дают прикурить!» И Чиж смеялся вместе с нею. Потому что в этот вечер всем было хорошо. Роза иногда вытирала слезы, и Семен трогательно ее утешал. Похоже было, он гордился, что его жена так помнила о своей первой любви. Во всяком случае Филимон Качев был почти родным человеком в этой семье. Его портрет висел на стене. Рядом с портретами Розы и Семена. Роза пела песни, Ольга ей подпевала. Особенно хорошо у них получалась «Летят перелетные птицы». Голос у Ольги был приглушенно-мягким, улыбалась она только ему, Чижу, когда их глаза встречались, а встречались они часто, потому что Ольга и Чиж сидели друг против друга. И казалось тогда Чижу, что он опять возвратился в ту ушедшую навсегда, страшную своей беспощадностью и жестокостью, но прекрасную боевым братством жизнь; возвратился к друзьям, для которых понятия чести, верности, долга были не абстрактными понятиями, а частичкой их самих; они все были сотканы из этих понятий. В новой, послевоенной жизни Чиж так и не обрел чего-то ушедшего вместе с войной. Будто оборвалась какая-то струна. Гитара по-прежнему звучит, мелодия прослушивается, а чего-то не хватает… – Вы еще послезавтра не уедете из Ленинграда? – спросила Ольга, когда они прощались. – Нет, – сказал он и подумал: «Глаза синие, как небо». – Я хочу съездить к отцу. – Где мы встретимся? – На Московском. Как войдете, там увидите справочное бюро. В девять часов у справочного. Уже на следующий день Чиж почувствовал замедление в беге часовой стрелки. Ему хотелось, чтобы воскресенье наступило сегодня. Потому что одинокое шатание даже среди развеселых аттракционов на Кировских островах почему-то не радовало. Люди на «чертовом колесе» смеялись и ахали, визжали на «летящих стрелах», улыбались встречному ветру на карусели, а он засмеялся только у кривых зеркал, потому что не засмеяться там было нельзя. Постояв в очереди, Чиж взял напрокат лодку. Сразу же выяснилось, что он не умеет грести. Весла то слишком глубоко зарывались в воду, то срывались, скользя по поверхности и вздымая веера брызг. С залива тянуло холодом, лодка капризничала, и Чиж, не использовав до конца отпущенное время, сдал ее лодочнику прокатной станции. На Пионерской трамвай делал поворот, и он на ходу спрыгнул у дома, где жила Ольга. Вошел во двор, нажал кнопку звонка. Дверь никто не открыл… На следующий день Чиж проснулся в шесть утра. Сквозь открытую форточку доносились звуки шаркающей метлы, приглушенное позвякиванье стеклянной посуды, где-то за домами ритмично долбил утреннюю тишину дизельный движок – скорее всего, по Фонтанке полз какой-нибудь буксирчик. Вспомнился день в конце апреля 1945 года. Пьяные от весны и близкой победы летчики рвались в бой, потеряв элементарное чувство осторожности. Возвращаясь из боя, Чиж торопил техников с осмотром, подгонял заправщиков и, только они завершали свои манипуляции, запускал мотор и взмывал в небо. Он похудел, глаза провалились и лихорадочно поблескивали, веки были красные и припухшие от недосыпания. В один из таких дней на его самолете дал течь маслорадиатор. Эскадрилья вылетала на сопровождение штурмовиков в район Берлина, а комэска оставался. С досады Чиж впервые обругал техника и приказал ему готовить самолет одного из молодых летчиков. Но вмешался командир полка, и Чиж остался на аэродроме. Эскадрилья нарвалась на плотный заградительный огонь. Погиб замкомэска, двое пошли на вынужденную, командир полка выпрыгнул с парашютом. Тот, молодой, которого хотел заменить Чиж, вернулся с перебитой осколком ногой. Когда Женя Гулак уезжал после демобилизации домой, он признался: – Течь в радиаторе оказалась вшивой, можно было за полминуты заклепать. Но у меня с утра было дурное предчувствие. Боялся, что больше тебя не увижу. – Дурак ты, Женя, – обругал его Чиж. – Будь с ними я, может, никто бы не пострадал. – Нет, ты бы полез в самое пекло, я знаю. Хватит Филимона. И вот теперь, лежа на раскладушке, отделенный тонкой стеной от своего бывшего техника, Чиж вдруг переполнился благодарностью к этому трудолюбивому доброму человеку. Да разве на такой грани он раскачивался лишь единожды? Сколько пуль и осколков пролетело мимо, в одном сантиметре от него? Сколько вмятин он насчитал в бронеспинке, сколько пробоин привозил в крыльях и фюзеляже. Как-то осколок зенитного снаряда начисто срезал задник сапога, пятка голая вылезла. И только однажды сталь Круппа вонзилась в плечевую кость. Чиж встал тихонько, чтобы никого не разбудить. Женька приехал из Пулкова поздно (он и теперь технарит у самолетов, только гражданских), пусть поспят в выходной. Очень тихо захлопнул за собою дверь и вышел во двор. В одном из уголков стояли в очереди женщины с авоськами, возле окошка поблескивали батареи бутылок. Вот откуда, значит, неслись в форточку загадочные звуки. Прием стеклотары. Не зная, каким воспользоваться транспортом, Чиж пошел к Невскому пешком. У Аничкова моста он задержался. Уж больно хороши были бронзовые кони в рассветных сумерках. Дважды осмотрел скульптуры. В сторону Московского вокзала один за другим, звеня и постукивая на стыках колесами, мчались трамваи, доехать теперь можно быстро, и Чиж не спешил. Зашел в одну из открывшихся столовых, выпил кофе с сайкой, попросил у буфетчицы конфет. Он так и не сел в трамвай. Пошел пешком. На углу Невского и улицы Рубинштейна наткнулся на цветочный киоск и купил гвоздики. Переходя Литовский проспект, с улыбкой подумал, что уже вторые сутки его жизнь течет в каком-то бессмысленном потоке. До встречи с Ольгой он каждую минуту своего бытия словно вдыхал в себя, как кислород, все стремился запомнить – смех Женькиных девочек, вкус молока, узор воронихинской решетки возле Казанского собора, витрину обувного магазина, запах воды в Фонтанке, толщину гранитных колонн Исаакиевского собора, голос трамвайной кондукторши… И вдруг все это заслонилось скуластеньким лицом с припухлыми губами, перекинутой через плечо косой, строгим взглядом еще совсем детских глаз. Заслонилось и потекло мимо сознания, будто эти часы и минуты стали ненужными в его жизни, будто отсчет прожитого начнется с того мгновения, когда стрелки часов на башне Московского вокзала покажут девять. «Глупо, Паша, – сказал он себе, – настолько глупо, что ты даже не представляешь. Так ты можешь испортить себе не только отпуск, но и всю жизнь…» Но тут же сам себе улыбнулся. Ведь ничего серьезного не случилось. Одинокое шатание исчерпало себя, он перенасыщен информацией, и появилось естественное желание с кем-нибудь поделиться увиденным и услышанным. Не подвернись Оля, он бы заставил Женьку Гулака слушать его или Розу. Но они люди семейные, дел по уши, так что всем удобно – отпускник доволен и никому никаких забот. Кончится отпуск – остались считанные дни, – он скажет всем «спасибо», помашет ручкой и домой, к самолетам. Там он нужен, там его ждут с нетерпением. А отпуск, он и в Африке отпуск. Однако уже в следующее мгновение боевой летчик Паша Чиж был сражен наповал безгранично счастливой, предназначенной только ему улыбкой Ольги. Еще издали завидев его, она сорвалась с места и быстро, чуть ли не бегом, пошла ему навстречу, вскинув руку. Сердце боевого летчика дернулось, и он задохнулся, как при многократной перегрузке на крутом вираже. Хотел причесаться, но цветы посыпались, он кинулся собирать их, а когда поднял глаза, прямо перед собой увидел ее высокий чистый лоб и русые завитушки у самого пробора. Он замер и виновато прикусил губу. – Я просил связать их, но у продавца не нашлось бечевки. – И хорошо, – Ольга ловко собирала цветы, – когда их связывают – стебельки портятся. А сейчас все в порядке. Видишь, какие они красивые? Она посмотрела на Чижа и сразу перестала улыбаться. – Паша, я вас назвала на «ты». – Ну и что? – не понял он. – Я никогда малознакомых людей не звала на «ты»… В ее глазах было смешанное чувство испуга и удивления. Она пристально изучала его лицо, словно хотела, немедленно понять, почему все это случилось. А он улыбался, по-видимому очень глупо улыбался, потому что не мог понять, отчего она так испугалась. На протяжении всех последующих лет, когда подкатывала сосущая тоска одиночества, он вспоминал эти ее полные искреннего испуга и удивления глаза. Ему всегда казалось, что все это случилось с ним совсем недавно, только что, хотя от того дня отделяла полупрозрачная стена толщиной в тридцать лет. 19 Ольга уже стала почти забывать, что минувшей осенью был «Дон-Кихот», был рассыпавшийся на черном асфальте букет гвоздик, был молчаливый разговор над могилой отца и торопливое прощание у поезда. Осталось и тлело теплым угольком только одно – неожиданно сорвавшееся «ты». С детских лет, как Ольга помнила себя, она обращалась на «ты» только к близким людям. И вот вдруг вырвалось. Пытаясь доискаться причин, она начинала волноваться, но убедительного ответа не находила. После отъезда Чижа Ольга какое-то время нетерпеливо заглядывала в почтовый ящик и огорчалась, что он молчит. У Розы спрашивать ничего не хотела, удерживало инстинктивное желание сохранить это незнакомое волнующее тепло в себе. Но дни бежали, запахло талым снегом и пробуждающейся землей, и осенние встречи с летчиком в гражданском костюме стали вспоминаться как давний сон. Воспоминания походили на легкую рябь в отстоявшейся воде, когда ветер скользит только по поверхности, не затрагивая глубинных слоев. И вдруг эта телеграмма. «Скоро приеду непременно жди». Она, как шквал, взвихрила успокоенную повседневностью память, взбаламутила, подняла на поверхность все, что до поры таилось на донышке сознания. Сколько раз представляла Ольга, как он возникнет на пороге с букетом цветов, в своей неизменной кожаной куртке, как будет, поглядывая на нее, застенчиво причесывать непокорно-упругие пряди, как едва заметным кивком головы отзовет ее в комнату и торжественно скажет что-то такое, отчего она окончательно свихнется и никогда уже не будет такой строго-сдержанной Ольгой, какою была в школе. Но встреча произошла иначе. Придуманные варианты так же не походили на реальный сюжет, как Млечный Путь на дорогу, ведущую к молочному магазину. Ольга проснулась, когда в доме уже никого не было. Роза с мужем всегда уходили рано. Полусонно шлепая в ванную, она чуть не наткнулась на раскладушку, поставленную в прихожей. Не включая света, Ольга присела на корточки, уверенная, что вернулся с дачи хозяйский сын Филя – симпатичный разбойник, и хотела ласково потрепать его тугие щеки. Но в следующий миг вздрогнула: на нее немигающими глазами смотрел Он. – А-а! – коротко вскрикнула Ольга и мгновенно зажала ладонью губы. Ольга понимала, что надо бежать, спрятаться, но, странно, у нее не было никаких сил. Как присела возле раскладушки в своей коротенькой ночной рубашке, так и сидела будто завороженная под гипнотизирующим взглядом его внимательных глаз. – Оля, – сказал он тихо, – я люблю тебя… И если ты не против, мы сегодня распишемся… Вечером я должен уехать… Надолго… И замолчал. Ждал ответа. В ней что-то бурно восстало – ведь не так все это происходит, не так должно происходить! Ну пусть не изысканно, не в зале с яркими люстрами, но и не в темной прихожей, не в ночной сорочке. Какой-то голос шептал: встань и гордо уйди, а она стала тянуть свои руки к его рукам. Голос удивленно упрекал: уж от тебя такого никто не ждал, а она, дрожа от нетерпения, искала губами его губы… Вернувшись к себе в комнату, Оль а надела свое лучшее платье, причесалась, вышла в прихожую. Чиж умывался. Она убрала раскладушку, постель. Ей мешал стул, на котором висел его китель. Хотела убрать китель в другое место. Тронув его, Ольга вдруг ошалело замерла: над левым клапаном кармана тяжело шевельнулась Золотая Звезда. «Для чего этот маскарад?» – сверкнула гневная мысль. Но тут же Ольга вспомнила сказанные Розой еще при знакомстве слова: «Он у нас настоящий герой». Значит, сказано было об этом? А она подумала… Да нет, она ничего не подумала, просто отнеслась к словам Розы как к дружеской похвале знакомого человека. Но он-то, как он смел об этом не сказать ей?! Ольга никогда не видела Золотой Звезды так близко. Романтический ореол вокруг звания Героя Советского Союза и его символа – этой тяжелой звездочки – в ее сознании был связан с представлением о людях, избранных судьбой, о людях почти неземных. А Паша такой обыкновенный, застенчивый… Ольга приподняла пальцами звездочку, и гладь полированных граней строго сверкнула в ее руке. Тихий, счастливый смех вырвался из груди: в том-то и дело, что ее Павел совсем не похож ни на кого. И хорошо, что она ничего не знала об этом раньше, очень хорошо! Ольга накинула китель на плечи и подошла к зеркалу. Звезда надежно сидела над рядами орденских планок. «Мой муж – Герой Советского Союза», – сказала она про себя, и фраза ей показалась холодной. «Паша – мой муж» – это сочетание было теплее. «Павлик, любимый, самый родной мой!» – вот в этих словах уже был огонь, было самое главное. Конечно хорошо, что он к свадьбе такой сюрприз ей приготовил, но она и без этого была переполнена счастьем. Теперь оно захлестывало ее. – Почему ты мне ничего не сказал? – спросила Ольга, когда Чиж подошел к ней сзади и обнял за плечи. В обрамлении небольшого зеркала их прижатые щекой к щеке лица напоминали семейный портрет. – Отвечай – почему? Он пожал плечами и поцеловал ее, уходя от прямого ответа. – А за что? – За сбитые самолеты. – Расскажешь? – Расскажу. – А когда это случилось? – В апреле сорок пятого. – А почему ты должен сегодня уезжать? – Приказ. – Далеко? – Боже, как ей было хорошо в его объятиях. – Очень. – На сколько? Хоть приблизительно… – Не знаю. Если долго не будет писем, не волнуйся. Значит, нельзя. Случится что – тебе сразу скажут. – А что может случиться? – Все, что могло случиться, уже случилось. Ты – моя жена. Я самый счастливый человек. – Брак еще не зарегистрирован. – Это формальность. Я люблю тебя, Оля. И больше всего боялся, что ты… Ты такая красивая, необычная, умница. А я – дитя аэродромов. Что я знаю, кроме самолетов? Что умею? Летать, воевать, командовать подобными себе. Сегодня мое ремесло кажется ненужным. А у тебя впереди… – Там опасно? – Где? – не понял он. – Куда ты едешь? – Не знаю. – У меня к тебе только одна просьба, – Ольга повернулась к нему лицом и посмотрела в глаза. – Только одна – вернись живым. Я тебя буду ждать, как никто никого не ждал. Обещаешь? – Обещаю. – Спасибо. И никогда ни в чем не сомневайся. Я люблю тебя с детского сада. И поняла это, когда мы с тобой возили цветы на могилу отца. У дверей загса они вспомнили, что нужны свидетели. – Может, в институте твоем? – Нет. – Ольга не хотела, чтобы о ее замужестве трезвонили в институте. Ей казалось, что сберечь полноту счастья можно только оставаясь с ним наедине. Как можно дольше. Чиж улыбнулся: – Хорошо, сейчас сообразим. – Он подошел к остановившемуся такси, помог выйти жениху и невесте. И попросил: – Будьте нашими свидетелями. – А вы нашими! – обрадовался жених. Худая, все время кашляющая женщина посмотрела на Чижа, на его Золотую Звезду, ничего не спрашивая, внесла в свои книги все записи, поставила в документах штампы, протянула узкую ладонь для поздравления. – Можете поцеловаться, – сказала тихо. – Пусть на вашем жизненном пути будет как можно больше солнечных полустанков. На Невском они зашли в фотографию и попросили сделать семейный снимок. Потом было три бесконечно долгих года. В первые после его отъезда дни она получала открытки со штемпелями городов, по которым нетрудно было проследить его путь. Приходили они не ежедневно, но зато по две, по три сразу. Потом еще было несколько коротких посланий, и наступило мрачное молчание. Ольга сходила с ума, но держалась стойко, как могла. Однажды, примерно через год после отъезда Чижа, ее разыскал в институте улыбающийся молодой человек в штатском. Отвел в сторонку и тихо сказал: – У него все в порядке. Просил кланяться и не беспокоиться. Все, говорит, что обещал, выполню. – Вы его видели? Какой он? – Загорелый, веселый, усы отпустил. Трубку курит. – Когда он вернется? – Думаю, скоро. «Скоро» растянулось почти на два года. Дни бежали как в полусне. Чтобы отвлечься от иссушающих душу мыслей, она все время отдавала учебе, поклявшись однажды, что должна быть достойной своего мужа. О ее дипломной работе заместитель декана сказал, что это готовая кандидатская, и спросил, как она смотрит на предложение остаться в институте аспиранткой. Ольга ответила согласием, хотя до окончания института оставалось почти полгода. Восьмого марта студенты организовали в общежитии складчину. В одной из самых больших комнат, выбросив кровати, составили два стола и, накрыв их газетами, расставили вино и закуски – у кого что было. Танцевали под аккордеон, на котором лихо играла черноволосая первокурсница. Ольга не танцевала, и ребята, считая, что она нездорова, не приставали к ней. В разгар веселья кто-то открыл дверь и сказал: «Вон она». Ольга сидела спиной к вошедшим, не видела, кто появился, но слова эти ее словно пронзили, и она подумала: «Как хорошо, что я не танцевала в этот момент, ему бы было неприятно». Чиж стоял в коридоре и застенчиво улыбался. В его руках был огромный букет цветов и небольшой фибровый чемоданчик. – Входите, не стесняйтесь, – приглашал его кто-то из Олиных сокурсников, – здесь все свои. Она хотела вскочить, броситься к нему – и не могла. У нее словно отнялись ноги. Потом собралась с силами, напрягла волю и встала. Сделала еще усилие и заставила себя пойти навстречу. Дальнейшее смешалось, стерлось. Запомнилась только прохлада Звезды на щеке, восторженные голоса поздравлений, щедрый набор бутылок и консервных банок в его чемоданчике и неудержимый поток счастливых слез. Их усадили рядом, подвинули стаканы и тарелки, кричали: «Горько!», просили станцевать вальс. В середине танца Ольга сказала: – Давай подкружим к выходу и сбежим. Он согласно кивнул. Это был удивительный март в ее жизни. Каждое утро Павел провожал Ольгу до дверей института и встречал после занятий. Иногда, сквозь паутину голых ветвей сквера, она видела его гуляющим под окнами института. И ее сердце переполнялось гордой нежностью. – Вон твой Герой гуляет, – говорили ей подружки, когда она сама не замечала появления Павла. И если это был перерыв, к окнам приникали многие девочки. А он, не подозревая об этих взглядах, весело играл с лохматой дворнягой. Звенел звонок, и девочки, вздыхая, рассаживались за столы. Они безоговорочно считали, что Ольга – самая счастливая среди них. У Чижа еще оставалось две недели отпуска, когда к ним пришел посыльный офицер. Его приглашали в штаб. Чиж, как всегда, проводил Ольгу до института, поцеловал. И после занятий встретил не на улице, а у дверей аудитории. – Я сегодня должен уехать, Оля, – сказал он, беря ее под руку. – Только ты не волнуйся, это уже рядом. На Севере. – А как же мой институт? – Заканчивай, а там решим. – Вот и кончились солнечные денечки, – только и сказала Ольга. – Ничего, – улыбнулся он успокаивающе, – у нас еще все впереди. Она тоже в это верила. А время уходило стремительно. Глубокие погружения в науку чередовались с минутами отчаянной тоски и одиночества. Уже был окончен институт, сдан кандидатский минимум, ее прочили в лабораторию на должность, которая под силу зрелому ученому; уже была готова диссертация, и Ольга ждала часа защиты. А Чиж все не приезжал и не приезжал. И даже письма от него были краткими, как телеграммы. Время не просто сочилось. Оно подмывало берега, уносило по песчинке в океан вселенной нечто бесконечно дорогое и неповторимое. И когда однажды Ольга поймала себя на раздраженном чувстве неверия в смысл подобного союза, от Чижа пришла радостная телеграмма: «Едем Черное море». Из аэропорта они ехали автобусом, сидя друг против друга. Он смотрел на нее почти неотрывно, иногда улыбаясь и осторожно подмигивая: мол, все в порядке, я с тобою. А Ольге казалось, что, глядя на нее, он думает о другом – о своих друзьях, о самолетах, о заполярном аэродроме. В его глазах появилась незнакомая ей ранее и глубоко спрятанная боль, но резкая складка между бровями, туго обтянутые кожей скулы, напряженный рот выдавали эту боль. И те слова упреков, которые она заготовила в часы тоскливой бессонницы, перед лицом этой боли слиняли и улетучились. Разве ему было легче там без нее? И Ольга неожиданно решила: после защиты, буквально на другой день, вылетит к нему, и к черту все науки, лаборатории, руководящие посты! Отныне – все пополам: и это счастье, и эту боль. Все! Ничто ей не заменит недостающей радости общения с ним. Ничто! С момента встречи Чиж не оставлял Ольгу одну ни на минуту. Она мыла руки – он стоял у открытой в ванную двери, опершись о косяк. В магазин? Сходим вместе. Надо в институт? Я с тобой. К декану? А почему бы мне с ним не познакомиться? От ее слов «подожди меня минутку» у него на лице появлялся испуг, словно он боялся, что она исчезнет и больше не объявится. В ночь перед отъездом на юг он сказал: – У меня был запланирован вылет на том самолете, а полетел Валя Половцев. Ему не хватало несколько часов налета для подтверждения классности. Были мы друзья. Смеялся перед вылетом, руку мне пожал. Не поверишь, до сих пор чувствую это пожатие. И все. Был и нет. Какая-то дикость! Ольга не знала, каким был этот Валя Половцев, но боль близкого человека ей была понятна, и она подсознательно старалась делать все, чтобы эту боль скорее снять. Но Чиж возвращался к случившемуся, казалось, в самые неожиданные минуты. – На фронте мы спокойнее смотрели смерти в глаза, – сказал как-то за завтраком. – То ли моложе были, то ли глупее? То ли слишком часто встречались с ней?.. Во время антракта в театре он снова вспомнил: – Девочка у него осталась. Нинка. Все время говорила родителям: «Уехала бы к бабушке, но вы же без меня пропадете…» Стоило ей уехать, как случилась беда. Нелепая связь, а будет себя упрекать всю жизнь. Потом было Черное море. В санатории их разместили на третьем этаже. Прямо под балконом останавливался вагончик фуникулера, курсировавший на пляж и обратно, и они с первого дня пристрастились к купанию. Однажды они вышли на пляж задолго до завтрака. Море слегка штормило, но на купание запрета не было. – Ты плавай, – сказала Ольга, – а я поваляюсь на лежаке. Минут через двадцать она подняла голову и не увидела над волнами его фиолетовой шапочки. В груди стало тревожно. Справа и слева участок пляжа ограждали бетонные волнорезы. Ольга поднялась сначала на правый, потом на левый. В соседних секторах его тоже не было. И тут она вдруг почувствовала, что страх пеленает ее с головы до ног. Побежала к спасателям, стала сбивчиво объяснять случившееся, показывать, где видела его последний раз, и не замечала, что слезы из глаз уже льются не каплями, а в два ручья. Такой он ее и увидел – растерянной и зареванной. Обнял, отвел в сторону, умыл лицо и виновато объяснил, что выплыл на берег в другом секторе, встретил знакомого летчика, разговорились, потеряли контроль за временем. И все чертыхался, как мог допустить такое. В последующие дни они не отходили друг от друга, будто предчувствовали, что очередное расставание будет еще более длительным. – Я еду с тобой на Север, – сказала она решительно, когда они возвратились в Ленинград. Чиж отложил нож и картофелину, которую чистил к завтраку, вытер о фартук руки, уперся ими в колени и посмотрел на Ольгу, словно впервые ее увидел. – Или ты не хочешь? Она сказала глупость, еще не подозревая, как далеко он видел все вперед. – Один бог знает, как я этого хочу, – продолжая все так же изучающе смотреть на Ольгу, сказал Чиж, – но у тебя защита на носу… – Плевала я на диссертацию! В ее глазах отразилось счастье. Дорога запомнилась как бесконечно долгое путешествие с ночевками в заезжих домах, ожиданием погоды, чаепитиями. Почему-то все время в памяти всплывало лицо Розы и ее последние слова: «Комнату твою мы никому не отдадим». На аэродроме к самолету подали газик. Сидевший рядом с водителем упитанный офицер рассказывал о каких-то ЛТУ[2], регламентах, о выводах комиссии, признавшей причиной катастрофы столкновение с шаровой молнией, о строительстве новой ВПП[3], о скандальном отъезде жены командира ОБАТО[4] и еще о каких-то малопонятных для Ольги и очень важных для Чижа событиях. Они ехали каменистым берегом высоко над морем. Почти за каждым поворотом шум автомобильного мотора спугивал с голых скал стаи тяжелых птиц. Они устремлялись вниз к воде, словно им надо было в этом падении набирать скорость, и, скрывшись за темным гранитным выступом, вновь усаживались на камнях, над шумно пенящимися волнами. Море, скалы, серое небо и чужие, словно придуманные птицы. Это все, что осталось в памяти от дороги. Жили они в одной комнате двухквартирного финского домика. Другую комнату командир полка держал как гостиничный номер для прилетающих из вышестоящего штаба офицеров. – Приживетесь, – сказал он Ольге, – вторая комната тоже будет вашей. «И этот не верит», – подумала она с досадой. И начала наводить в своем доме уют. Трех дней ей хватило, чтобы отмыть и отскрести полы, нацепить занавески, заклеить окна, утеплить дверь, соорудить рукомойник. Еще несколько дней, пока Чиж пропадал на аэродроме, она изучала окрестности, собирала диковинный гербарий. Через полмесяца в голову начали приходить тоскливые мысли. Вечерами Чиж и Ольга иногда ходили в гости, кто-то приходил к ним, но продолжительные разговоры о полетах, о двигателях, еще бог знает о чем Ольгу утомляли и еще больше ввергали в уныние. Однажды вечером Чиж прямо с порога заявил: – Собирайся, Ольга Алексеевна, завтра утром на Ленинград полетит прямой самолет. Везет арктическую экспедицию. Я договорился. – А ты? – спросила она. – Защитишь диссертацию – будет видно. Ночью Ольга не спала. Она видела, что ему здесь одному хоть на луну вой. Да и ей там без него не жизнь, одно прозябание. Но и здесь она уже не могла. Уходило время, уходила вперед наука. Она стояла на месте. В конце концов неразумно – столько сделать, столько сил отдать на диссертацию и бросить дело у самого финиша. Паша прав – надо ехать. Потом, позже, она поняла, что именно в этот раз должна была не послушаться его, переломить себя и остаться с ним. Но у нее даже не хватило сил для формального возражения. Его решение отправить ее в Ленинград показалось ей тогда своевременным и мудрым. Радость билась в ней трепетной птицей от одного воспоминания о Ленинграде. И он все это чувствовал. И понимал. Больше Ольга никогда не видела в его взгляде такого огня, как в тот миг, когда она сказала: «Плевала я на диссертацию!» – Тебя не могут перевести в Ленинград? – спросила она перед трапом самолета. – Сие от меня не зависит, – Чиж был откровенно грустен, и эта его грусть еще долго преследовала Ольгу. Она вернулась в Ленинград переполненная жаждой работы. Накинулась на информационные бюллетени, вестники, на зарубежные журналы. Она и хотела, и боялась увидеть что-то новое в области научных исследований природы и свойств сероорганических соединений нефти. Уже на третьем курсе института Ольга поняла, что сжигание нефтяных углеводородов – непростительное расточительство. Иметь возможность делать из них бесчисленное множество ценных химических продуктов и не воспользоваться такой возможностью ей казалось преступным. Ольга понимала, что здесь нужен комплексный поиск, опирающийся на достижения фундаментальной химии, но тем не менее увлеклась проблемой и уже в своей кандидатской вплотную подошла к порогу научных исследований природы и свойств сероорганических соединений. Из информационных источников узнала, что в Уфе над этой проблемой работает несколько лабораторий. Попросила командировку. Уфимцы подходили к проблеме широким фронтом. Они уже выделили часть сероорганических соединений в особый класс сульфидов и вели научный поиск возможностей этих веществ. А возможности, она сама убедилась, у сульфидов удивительные. Они способны образовывать вместе с цветными металлами новые соединения. В перспективе это открытие позволяло разработать высокоэффективные методы выделения из руд и очистки ряда дефицитных и дорогих металлов. Она провела серию лабораторных исследований, перетряхнула, перелопатила свою диссертацию и заявила о готовности к защите. Ольга спешила. Под сердцем уже стучалась новая жизнь. И хотя внешних признаков не было, она сама чувствовала, как меняется у нее характер, жесты. Природа властной рукой вмешивалась в ее доселе вольную и независимую жизнь. Она и не противилась, втайне вынашивая надежду, что появление ребенка внесет в их брачный союз положительные коррективы. Защита диссертации была трудной. Не от слабости материала – от его обилия и проблемности. Ольга вольно или невольно затрагивала вопросы огромного народнохозяйственного значения. С теми же сульфидами. Путем весьма несложных операций их можно превратить в сульфоксиды. А это уже новый класс органических реагентов с уникальными свойствами и широкими возможностями практического применения. В промышленных установках предприятий гидрометаллургии сульфоксиды во многих случаях могут быть использованы по всей технологической «нитке», начиная от флотации руд и кончая доведением металлов до высокой степени чистоты. Ольга обрушивала на оппонентов новые и новые доводы, доказывая, что сульфоксиды способны также улавливать вредные примеси из сточных вод и выбросных газов, выделять ценные продукты из технологических растворов. Продолжая доклад о возможностях создания безотходных технологий, Ольга особенно горячо говорила о проблеме многотоннажных отходов, ибо в большинстве случаев их можно превратить в ценные продукты. – Но сделать это непросто из-за отсутствия комплексного подхода к проблеме. – Она выступала взволнованно, потому что материал, вложенный в диссертацию, как ей казалось, был подан бесстрастно, с холодной математической логикой. – Посмотрите, как неопределенно и сложно складывается судьба некоторых фракций пиролиза, являющихся прекрасным сырьем для получения синтетических каучуков, лакокрасочных материалов, других ценных продуктов. Она ставила вопрос о необходимости создания общегосударственного кадастра отходов, в котором должна быть информация о точном химическом составе, тоннаже, перспективах роста или сокращения. Убеждала, что с этими данными необходимо периодически знакомить институты Академии наук и отраслей, соответствующие кафедры вузов. – Я уверена, – утверждала диссертантка, – что многие академические, научно-исследовательские институты и кафедры вузов с готовностью откликнутся на предложение о постановке работ, посвященных открытию новых технологий на основе отходов. Ей задавали сложные вопросы, но Ольга, хотя ей и было трудно, все-таки старалась отвечать с тем же страстным запалом. – Щедро, весьма щедро вы отдаете себя маленькой кандидатской диссертации, – сказал ей после защиты один из гостей и, вручив визитную карточку, попросил зайти к нему через день. Это был заместитель директора по науке Всесоюзного научно-исследовательского института нефтехимических процессов. Высокий, узколицый, с большими залысинами и глубокими, широко поставленными глазами, он произвел на Ольгу впечатление человека, озабоченного делом. И она, предварительно позвонив ему, зашла через день на прием. Он встал, поздоровался, провел ее к креслу, стоявшему у развесистого фикуса, сам сел напротив, взяв возле длинного стола стул, и сразу сказал: – Есть решение министерства о создании специализированной лаборатории по исследованию сероорганических соединений. Я вам предлагаю возглавить эту лабораторию. Ольга была убеждена, что реализация такого предложения – утопия, а посему засмеялась и заговорила смело и раскованно. – Во-первых, – сказала она, – у меня никакого опыта руководства. Во-вторых, я еще не имею ученой степени. В-третьих, готовлюсь стать матерью, в-четвертых, мой муж летчик и может увезти меня к черту на кулички, в-пятых, вы совершенно не знаете моих возможностей. Вот, – она показала кулак из загнутых пальцев, – пять против и ни одного за. Он улыбнулся. – Отвечаю на ваши возражения. Во-первых, опыт руководства приобретается в процессе руководства, во-вторых, ученая степень – дело ближайшего будущего. Остались формальности. В-третьих, все женщины должны рожать детей, это их украшает, в-четвертых, с мужем мы надеемся уладить все через командование ВВС. Кроме того, мы вам сразу даем квартиру, хороший оклад, вы сможете пригласить няню, если пожелаете, а если нет, к вашим услугам любые ясли Ленинграда. – Вы хорошо подготовились к нашему разговору, – только и сказала она. Когда подошло время идти в роддом, лаборатория уже вчерне сформировалась. Часть сотрудников пришла из Политехнического, часть из НИИ нефтехимических процессов, часть из Технологического, остальные – по объявлению. Ольга успела сделать главное – дать рабочую перспективу лаборатории. Поэтому знала: ее отсутствие не очень отразится на деле. Молодость и отменное здоровье помогли ей без осложнений справиться с теми трудностями, которые знакомы каждой рожавшей женщине. В телеграмме Чижу она просила срочно сообщить имя дочери. Срочно не получилось, и трехдневное молчание мужа не на шутку взволновало Ольгу. Она снова корила себя за предательство, за измену, за то, что уступила бредовому желанию отдаться науке, забыв свое извечное женское предназначение. Ее самоистязание не прошло бесследно, пропало молоко, она перестала спать, под глазами отчетливо вырисовались темно-коричневые полукружья. На четвертый день вошедшая утром в палату сестра сказала: – К вам приехал муж. Вопреки правилам, его впустили в роддом, дали возможность через застекленную дверь увидеть жену и дочь. В записке он написал: «Спасибо за девочку, дочь назови Юлей». Записка лежала в огромном кусте багульника. К дню выписки из роддома он расцвел нежными фиолетовыми цветочками. Они были такие нежные и такие нарядные среди белизны палаты, что даже в ночное время источали загадочный сине-сиреневый свет. Его неожиданные отъезды, как, впрочем, и приезды, стали для нее настолько привычными, что Ольга откровенно удивилась, услышав от него точную дату окончания отпуска. В ее распоряжении было еще целых десять дней. В доме появилась нянечка – хрестоматийная бабуля с очками на переносице. Роза уверяла, что надежнее сиделки, чем тетя Соня, не найти во всем Ленинграде. Тетя Соня умела обращаться с младенцами, умела шить, готовить, стирать, была подкована в самых необходимых вопросах медицины, знала много колыбельных песен, но имела одну слабость – любила в конце дня пропустить стаканчик-другой портвейна. Ольга на этот недостаток закрыла глаза: «Лишь бы она днем не пила, а вечером я сама буду дома». Они могли хотя бы эти десять дней побыть неразлучно вместе. Но Ольге предложили новую квартиру, и она, воспользовавшись тем, что Чиж все хлопоты по ремонту и переезду взял на себя, окунулась в дела лаборатории. Ей показалось, что за прошедший месяц ни одна проблема не сдвинулась с места, что еще месяц отсутствия руководителя, и все, что так трудно создавалось, рухнет в одно мгновение. Вернувшись однажды после работы домой, Ольга увидела в своей комнате на Пионерской голые стены. Значит, ремонт закончен и Чиж перевез вещи в квартиру на Фонтанку. Какое счастье. Она понимала, что надо радоваться, а радости не было. Роза обняла ее, прижалась щекой к щеке, размазывая слезы. Она любила Ольгу искренне, как родную. – Я же не в тридевятое царство уезжаю, – утешала Ольга, – всего-навсего на Фонтанку. – Все равно. Это все. Мы больше не встретимся. – Какая ерунда, Роза! – Я чувствую… Вспоминая прощальные слова Розы, Ольга не раз потом клялась, что в ближайший свободный вечер она побывает в гостях у своей старшей подруги. Но проходил один вечер, третий, десятый, а выбраться на Пионерскую она так и не смогла. И теперь только проклинала свою нескладную жизнь, ничего впредь не загадывая. В тот вечер она впервые увидела в Чиже отца. Тетя Соня, выпив свой стакан портвейна, тихо пела на кухне песню про Чуйский тракт и про лихого водителя «АМО», который трагически погиб, пытаясь обогнать «форд», управляемый возлюбленной Раей. Швейная машина стрекотала в такт словам. А Чиж, слушая песню и мило растопырив пальцы, держал в руках кроху Юльку. На плите грелась вода для купания девочки. – Давай я, – попросила Ольга. – У тебя еще будет возможность, – сказал он и, попробовав локтем температуру воды, осторожно вместе с пеленкой опустил Юльку в ванночку. Малышка удовлетворенно морщилась, улыбалась, причмокивала губами, будто благодарила за полученное удовольствие. А Чиж, подложив ей под спинку руку, другой ловко намыливал, тер, массировал. Ополоснув ребенка, он умело промокнул влагу простынею и так же умело запеленал его. Юля только попискивала от блаженства. Кроватки у нее тогда еще не было, и спала она в коляске. Уложив дочь, Чиж повернул коляску к Ольге и сказал: – Принимай, мать. Мне пора. – Куда пора? – не поняла Ольга. – Я же тебе говорил, – сказал он без упрека, – что сегодня в двадцать три часа уезжаю. Забыла? И Ольга вспомнила: действительно говорил. А она как последняя стерва бегала по городу в поисках гипосульфита, словно без этой дурацкой соли завтра расколется на несколько частей земной шар. – Какая же я дрянь, – сказала она вслух. – Ведь сегодня был последний день твоего отпуска. – Не кори себя, – Чиж укладывал в чемодан вещи, на Ольгу не смотрел. – Даже в последний день жизни человек должен быть самим собой. Перед смертью не надышишься, говорят в народе. Так что все нормально. Ты обрела себя в науке, в лаборатории. Другие этого не имеют. – Я очень виновата перед тобой, Паша? – Не надо об этом, – попросил он. – Я тебя провожу на вокзал? – Ни к чему. Тетя Соня уже не справится с Юлькой, если она проснется. Ты ее береги. Это моя единственная просьба. Ольга воспитывала девочку в своем духе. Но Юля выросла, как принято говорить, папиной дочкой. Даже первое слово сказала «папа». Вся ее жизнь до окончания семилетки состояла из встреч с отцом и ожидания этих встреч. Чтобы они были чаще, Чиж приезжал в отпуск зимой. Летом Юля все каникулы жила у него. Когда Чижа перевели в полк, с которым он прошел войну, Юля закончила седьмой класс и переехала к отцу. Объяснить феномен этой привязанности Ольга не могла. Иногда бежали дни, месяцы, и она не замечала своего одиночества. А потом вдруг на нее находило, и тогда все летело к чертям собачьим. Она как угорелая мчалась на вокзал, садилась в поезд на любое место и ехала к Юльке. В этот раз ее потянуло к дочери во время загранкомандировки. Ольга даже не заехала в институт по возвращении. Приняла душ, переоделась с дороги – и на вокзал. 20 Чиж в тот вечер рано вернулся домой. Когда в прихожей ударил звонок, они с Юлей сидели у телевизора. – Папка, меня нет, – сказала Юля. – На вранье толкаешь? – Папуля, горит контрольная. – Тогда брысь. Юля мгновенно закрылась в своей комнате. Чиж поправил усы и открыл дверь. На пороге с большой дорожной сумкой стояла Ольга. В темном платье с треугольным вырезом, с цепочкой бус вокруг шеи и небрежно заколотыми волосами. Она казалась еще совсем молодой. Чиж взял у нее сумку и сделал широкий приглашающий жест: – Входите, Ольга Алексеевна, – и тут же крикнул: – Юлька! Выходи из укрытия, мать прикатила. Ольга подставила щеку, Чиж по-родственному чмокнул ее и занялся замком, будто в нем что-то сломалось. – Ох, господи! – тихо вырвалось у Ольги, но уже в следующее мгновение она взяла себя в руки и, отвернувшись к зеркалу, начала поправлять волосы. – Мамуля, каким ветром? Заложив пальцем учебник, Юля держала его за спиной. – Совсем невеста, – удивленно сказала Ольга. – Как успехи? – Нормально. А у тебя? – И у меня. – Они поцеловались. – Какие новости? – «Запорожца» покупаем. – Зачем? – Внуков катать, – сказал Чиж. – А что, – с веселым вызовом сказала Юля, – запросто обеспечу. – Каких внуков? – Ольга еще ничего не понимала. – Обыкновенных! – продолжала Юля в прежнем тоне. – Нарожаю полный дом чижиков. Демографический взрыв. Дед Мазай и зайцы. Поняв шутку, Ольга шлепнула Юлю ниже спины и повернулась к Чижу: – Как чувствуешь себя, Паша? – А что со мной станется? Здоровый, как конь. – Юлька, – ухватил дочь за халат, – давай-ка в гастроном, у нас один кефир. – После семи не дают. – Это у них в Ленинграде не дают, а у нас дадут. Юля взяла мать под руку и повернула к кухонной двери: – Товарищ директор, займитесь картошкой, пожалуйста. Мгновенно надела джинсы, кофточку и вылетела в дверь, взмахнув сумкой. Ольга сняла босоножки, обошла квартиру, заглянула в кухню и ванную, села рядом с Чижом на диван. – В командировке? – спросил он. – Два дня осталось… Что у тебя нового? – Все по-старому. – Ни звонков, ни писем, совсем уж… – Юлька ездила на днях в Ленинград. Не застала тебя. – В Англии была. – Интересно? – Интересно. Только устала. – А что там интересного? Сплошные туманы. Как они только летают? – Нету там, Паша, туманов. Над Лондоном голубое небо. Как у нас в Крыму. Туманы там висели от печного дыма. А теперь везде паровое отопление. – Помолчав, она сказала дрогнувшим голосом: – В Ленинград бы приехали. – Наш полк на Север переводят. – Ох, господи, – сказала она тихо. – Юлька, надеюсь, останется? – Спроси у нее. – Уговори ее, Паша. Последний курс ведь, диплом. Дома есть все, что ей надо для учебы. Это было бы разумно, Паша. – Конечно, разумно. – Тебя она послушает. – Послушает… И сделает наоборот. – Паша, – Ольга посмотрела ему в глаза, – мне страшно… Он хотел, как всегда, отшутиться, но подступила неожиданная жалость. Подступила, как далекое эхо бушевавшей когда-то в душе грозы. Захотелось утешить, а слов искренних не нашлось. И Чиж только сильнее сжал челюсти. Ольга протянула руку, потрогала его висок, поправила упавшую прядь. – Весь уж белый. – Серый, – поправил он жестко. Она уткнулась носом в платок, подышала, словно всхлипнула, и резко встала: – Помоюсь с дороги. Там в сумке коробка. Трубку тебе из Лондона привезла. Чиж раскрыл сумку и увидел сверху темно-коричневую коробку с золотым тиснением по коже. – С этого и надо было начинать, – буркнул он себе под нос. – Трубка, она и в Африке трубка. Проснулась Ольга от тихого неясного шепота. Плотные шторы на окне были закрыты, и она с трудом разглядела рядом с кроватью силуэт дочери. Юля сняла берет и склонилась к матери. У нее были ароматные тяжелые волосы. И Ольга жадно обняла дочь за шею. – Ты не скучай, мы скоро, – сказала Юля и поцеловала Ольгу в нос. Когда на лестнице затихли шаги, Ольга встала, убрала постель, распахнула кухонное окно и, сев за маленький столик, приставленный к подоконнику, расслабленно откинулась на спинку стула. За окном устало шептались тополиные верхушки, а внизу сыпал и сыпал по клумбам водяной веер. Вырывался он из перевязанного проволокой шланга, который держала в руках полная, но подвижная женщина, одетая в полинявший спортивный костюм. Юля рассказывала, что эта известная в прошлом спортсменка не на шутку занялась цветоводством, собрала уникальную библиотеку, много экспериментирует по выращиванию специальных трав для спортивных площадок, консультирует любителей, в дни рождений всем жильцам дома приносит букеты цветов. Понаблюдав за ее работой, Ольга со слипшимися еще глазами пошла под душ и стояла, пока утренний сон бесповоротно не был смыт. Привыкшая к энергичному ритму жизни, она готовила завтрак и одновременно приводила в порядок себя. Косметику Ольга не жаловала, но иногда, когда ей хотелось выглядеть чуточку помоложе, она подкрашивала ресницы, накладывала очень легкие тени на веки и тонким, едва заметным слоем пудры покрывала лицо. Ее волосы все еще сохраняли свежий блеск и упругость. Сегодня ей очень хотелось выглядеть молодой. Приглушенные голоса в доме, тихое позвякиванье чайных стаканов, волнующие запахи – все это разбудило в ней полузабытую радость причастности к семейному очагу, радость чувствовать себя матерью и женой. Утренний концерт по радио, составленный из песен послевоенных лет, усиливал ощущение праздника, и Ольга, наспех позавтракав и надев Юлины джинсы и спортивную безрукавку, окунулась в домашнюю работу. Она радовалась, что умеет быстро и почти профессионально все это делать, доходя до истины чисто логическим путем. Гудела стиральная машина, гудели пылесос и вентилятор над плитой, гудели в воздухе самолеты. Праздник улетучился с приходом Алины Васильевны. Боль всколыхнулась, как осевший ил в тихом карьере. И впервые пришло тревожное ощущение непоправимой ошибки. Она взяла такси и поехала на аэродром. Ждать до вечера не было сил. Но у ворот, где стояла толпа женщин, она поняла – ее боль, ее тревога в этой ситуации насквозь фальшивы. И если Чиж ее здесь увидит, в его душе кроме досады ничего не шевельнется. Вернувшись домой, она собралась и уехала в Ленинград. Когда Большов подвез Чижа к дому, тот, не вылезая из машины, попросил: – Подвези к госпиталю. Если дежурит Олег, можно будет подробнее об Алине разузнать, в палату заглянуть. Да и самому давление померить не помешает. – Приехали, Павел Иванович… Чиж поблагодарил Большова и прошел в госпиталь. Вахтер его знал, он с готовностью поздоровался, открыл замок вертушки. «Домой все-таки надо было заехать», – укорил себя Чиж, но подумал, что Юля давно дома, и успокоился. Снова он заволновался, когда увидел Юлю у дежурного ординатора. Булатов встал, подал Чижу стул, пододвинул пепельницу. – Здесь можно подымить. Как вы себя чувствуете, Павел Иванович? – Видите, вполне прилично. Как Новикова? – Спит. Мы ей сообщили. – Взглянуть бы… – Нельзя, Павел Иванович. Давайте я вам кардиограмму сделаю. Давайте, давайте… До пояса раздевайтесь и на диванчик. Чиж посмотрел на Юлю. – Мама уехала, – сказала она, – какая-то комиссия прибыла в институт. – Ну и прекрасно, – сказал Чиж, снимая куртку. «Мелькнуло ясное солнышко и закатилось за горизонт». Стало почему-то досадно, и осколок незамедлительно тронулся с места, заставив затаить выдох. «Паразит, – выругался Чиж, – мало что сидит в теле трудового народа, так еще и спокойную жизнь себе требует!» Развернув на столе бумажную ленту, Булатов быстро пробежался глазами по изломанным следам самописцев и вышел в коридор. – Ты видела ее? – спросил Чиж у Юли. – Да. У нее какой-то синдром. Я забыла. Вернулся Булатов. С ним вошла медсестра, держа перед собой стерилизатор. – Укольчик вам сделаю, Павел Иванович. – Нет-нет, – решительно отмахнулся Чиж и даже шагнул назад. – Здесь я приказываю, Павел Иванович, иначе вызову санитаров и мы вас оставим в госпитале. Не до шуток. – Папа, – с укором сказала Юля, – ты как маленький. – Сговорились… – сказал Чиж и начал снимать рубашку. Когда они шли домой, Юля крепко прижалась к отцу и сказала: – Олег мне сделал предложение. – А ты? – спросил Чиж. – Сказала, подумаю. – А он? – Спросил, долго ли буду думать. – А ты? – Пока не надумаю, сказала. – И все? – И все… Мне еще учиться сколько, диплом защищать. – Причина серьезная. – Хороший он человек, прекрасный врач, но… – Что мать сказала? – перевел Чиж разговор на другую тему. – Ничего не говорила. Расстроенная уехала. Сказала только, что мы все трое психи ненормальные. – Значит, так и есть. Она ученая, ей виднее… В это же самое время Федор Ефимов подымался по лестнице подъезда, где он снимал по договору комнату. На лестничной площадке третьего этажа под его дверью на разостланной газете сидела с сигаретой в руке молодая женщина. На коленях у нее лежал портативный магнитофон, тихо отбивающий ритм знакомой мелодии. На шаги она повернула голову и вскинула руку в приветственном жесте. – Ура! Все-таки ты живой! – Катя? – Не ожидал? Конечно, не ожидал. Меня никто нигде не ожидает. А я решила – хоть до утра буду сидеть, но дождусь. Соседи твои уже раз пять на чай приглашали. – Она встала, убрала газету и магнитофон в сумку, подставила для поцелуя губы. Ефимов чмокнул ее и обнял за плечо. – Приятная неожиданность, Катерина. Честное слово. – Ну, если приятная, тогда все в порядке. Я ведь думала, выгонишь. Тем более что после Нины явилась. Ефимов уже открыл дверь и впустил Катю в коридор. Услышав про Нину, он замер, забыв включить свет. – Где у тебя выключатель? – спросила она. – Ах да, – он нажал клавишу, и под потолком зажглась тусклая лампочка. – Свет, как моя жизнь, – сказала Катя. – Я ее видела в толпе возле аэродрома. Бабы тут у вас вышколенные. Как по команде примчались. Зрелище, я тебе скажу, жуткое. Хорошо, что ты на мне не женился. Я бы, наверное, каждый день стояла под воротами. – Нина знала, что ты здесь? – Стану я выставляться. Я на чем приехала, на том и уехала. Даже из такси не вышла, когда ее увидела. – Садись, располагайся. Я чай приготовлю. – Насиделась под дверью. Есть хочу. И мочевой пузырь на пределе. Извини, я, когда голодная, хулиганить начинаю. Ефимов открыл банку шпрот, поставил печенье, халву, бутылку шампанского. Больше у него в доме ничего не было. – Печенье со шпротами?.. Под шампанское?.. Все снобы лопнут от зависти, когда расскажу. Нет, Ефимов, ты неповторим. Я не зря тебя люблю с детского сада. Они взяли бокалы. – За любовь! – сказала Катя и жадно выпила все до капельки. – Тебе Нина рассказала про своего? – спросила Катя, дожевывая печенье со шпротами. – Нет? Ну, тогда и я молчу. – А что у них случилось, Катя? – Отвечаю: случилась – трагедь. По вине ее мужа погибла лаборантка. Я уже консультировалась у юриста. Ковалеву по совокупности статей могут до десяти лет дать. Так что Нинка твоя очень скоро будет свободной. Катя что-то говорила еще про знакомого адвоката, про какой-то условный срок, про казусы юриспруденции, но Ефимов ее не слушал. Нина попала в ловушку. Это арифметика. Дважды два – четыре. Теперь Ефимов понимал, почему она сегодня прощалась с ним, словно уезжала навсегда. Переполненный горькими мыслями, он рассеянно слушал Катину болтовню. – Я никогда никому ни в чем не завидовала, – говорила она, – а Нинке завидую до боли в сердце… И злюсь, как волчица. Дрянь она препорядочная, собака на сене. Да если бы ты мне сказал хоть одно ласковое слово, поползла бы за тобой хоть в тартарары. На четвереньках. А она выбирает еще. Ленинград оставить боится, квартирку свою, Олежку ей жалко! Ох, как бы я рада была, если бы ты ей от ворот поворот показал. Пусть бы помучилась, как я, пусть бы хоть капельку узнала из того, что пришлось узнать мне. Ефимов успокаивал ее, вытирал слезы, давал воду. А она плакала и просила что-то совершенно немыслимое. – Я знаю, если Нинка к тебе не приедет, ты ведь все равно не женишься. Но человеку одному жить нельзя. Возьми меня к себе в качестве домработницы. Я не буду обременять тебя ничем. Буду только помогать, в чем смогу. Если стану в тягость – выгонишь. Уйду безропотно. Если тебе нужна будет женщина, я с радостью. Захочешь детей – нарожаю хоть дюжину. – Что ты несешь, Катя? – пытался остановить ее Ефимов, но остановить ее было невозможно. – Я тебе предлагаю вполне компромиссный вариант. – Слезы снова катились из ее глаз ручьями. – Нинка тебя не отпустит, я знаю. Будет сама сидеть в Ленинграде и тебя никому не отдаст. Мы, бабы, жадные. В голосе ее вдруг снова вспыхивала надежда, и она опять просила. – Пусть это никогда не сбудется, но ты пообещай. Скажи: «Хорошо, Катя». И я буду жить этой надеждой. Ну, что тебе стоит пообещать? – Не могу, Катя. – Он действительно не мог, хотя и жалел Катю. – Ладно, – соглашалась она, будто заранее ждала такого ответа. – Но скажи, в твоем сердце есть хоть немножко сочувствия ко мне? Есть? – Я тебя понимаю, Катя. – А сочувствие есть? – Есть, Катя. Но что я могу… – Все можешь, – перебила она, – все. Я очень хочу иметь ребенка, у меня будет смысл в жизни. Помоги мне. – Как? – не понял Ефимов. Просьба была очень уж неожиданной. Катя посмотрела на него с иронией. – Ты что же, не знаешь, отчего рождаются дети? – Перестань, Катя, – Ефимова начала раздражать ее развязность. – Неужели я такая уродина? – не сдавалась Катя. – Синий чулок? Ты посмотри, какое у меня тело, какая фигура! Ефимов и глазом моргнуть не успел, как она одним движением сбросила через голову свою марлевую кофту, рванула молнию и переступила через упавшие к ступням вельветовые брюки. На загорелом теле белым клинышком выделялись те места, где должны быть трусы и бюстгальтер. Она нагишом стояла посреди комнаты, как античная статуя с опущенными вниз глазами, – красивая и холодная. – Артистка ты, Катерина, – улыбнулся вдруг Ефимов. – На витрину тебя надо, в «Пассаж», – и подал кофту: – Одевайся. В красоте твоей я никогда не сомневался. Но сердцу не прикажешь. Одевшись, Катя долго приводила в порядок заплаканное лицо, потом устало и безразлично попросила: – Постарайся, если сможешь, забыть все, что я тут делала и говорила… Звони мне иногда. Мы ведь учились в одной школе. Я буду рада. И не бойся. Ничего подобного больше не повторится. А на рассвете, уходя, она обняла Ефимова порывисто и жадно, прижалась щекой к щеке, и он – нет, не увидел – почувствовал, как из ее глаз снова брызнули слезы. 21 Волков подъезжал к дому, когда сумерки короткой ночи тронул рассвет. Он вышел из машины и закурил. Дым сигареты сладко и пьяняще наполнил легкие, и Волков присел на бордюр тротуара, чтобы докурить сигарету. Ноги уже едва держали его. Хотелось разостлать на камнях куртку и полежать, ни о чем не думая. Но рядом был дом с десятками окон. И хотя ни одно из них не светилось, Волков знал – окна всегда бывают зрячими. Кто-нибудь обязательно придумает, что ночью командир пьяный валялся на тротуаре. Сегодня ему уже не раз приходило желание навсегда оставить полк. Он чувствовал – работает на пределе. Авария с Новиковым и вовсе вышибла из колеи. Завтра нагрянут «ревизоры», будут терзать душу, а она уже и без того истерзана. Чего он только сегодня за день не передумал. Командир есть командир. Что бы в полку ни случилось, прямая или косвенная вина – на нем. Что-то, значит, не доглядел, не предусмотрел, не предугадал, не научил. Первые часы рядом с живым Новиковым ему показались самыми блаженными в его жизни. Он уже ничего хорошего не ждал от завтрашнего дня, понимая, что смерть Новикова будет витать над ним до конца жизни. И вдруг такой подарок – цел и невредим. Радость схлынула, навалились сиюминутные дела, и пошло, покатило. С утра – все сначала. А Новикову придется полежать. Как бы эта сонливость не стала постоянной. И Алина в госпиталь угодила. Уже теперь она точно никуда не поедет. И Новикова оставят. С кем ему начинать на Севере? Тут хоть Чиж рядом. Воспоминание о Чиже болью отдалось в сердце. Он даже представить не мог полк без Чижа. Волков уже хотел загасить сигарету и подняться в дом, как услышал сзади легкие шаги. Решил не поворачиваться. Кто бы там ни был, пусть идет мимо. Говорить ни с кем не хотелось. Но прохожий остановился возле него и присел рядом, крепко взяв под руку. – Не спала? – спросил Волков ласково. – Случайно проснулась, – улыбнулась Маша, – делать нечего. Дай, думаю, прогуляюсь по свежему воздуху. Выхожу – кто-то сидит. Присяду, решила я, вдвоем все-таки веселее. – Воздух утром чистый. – Укатали Сивку крутые горки? – Сразу все навалилось, не знаешь, за что хвататься… Но ничего, – добавил он бодро, – штопор тем, и хорош, что из него приятно выходить. Волков обнял жену и крепко прижал к себе. – Зачем приходила в полк? – спросил жестко. – Испугалась, – призналась Маша. – Нельзя, Машенька, нельзя нам с тобой давать волю эмоциям. Особенно на людях. Они ведь как думают? Раз жена командира прибежала – труба нам. – Все понимала, а ноги несут. Ты уж прости. Волков поцеловал Машу, залюбовался смуглой кожей ее лица. Разглядел морщинки у глаз. Попытался разгладить их, не получилось. – Пойдем-ка спать, Машуля. – Посидим хоть минутку. Забыла, когда мы с тобой вот так сиживали. – Перехватила его взгляд на окна дома. – Все они дрыхнут. А если и увидят, пусть. Не воруем. Расскажи, что с ним случилось. Все знают, а мне расспрашивать неудобно. – Самое главное – живой. А остальное, как говорит сам Новиков, дым. Когда они вошли в квартиру. Маша помогла ему раздеться. Снимала галстук, расстегивала пуговицы, стягивала носки. – Легонький душ – и в постель, – подтолкнула она его к ванной. Теплые струйки искусственного дождика и взбадривали, и одновременно успокаивали, словно вымывали из души осевшие за день тревоги. – А теперь – стаканчик чая, – сказала Маша, когда он присел на край кровати, закутанный в махровый халат. Чай был горячий. И пока Волков пил его, Маша тоже приняла душ и вышла к нему обернутая полотенцем. Одной рукой она убирала посуду, другой придерживала концы своего одеяния. Потом подошла к нему и положила руки на плечи. Полотенце скользнуло вниз, словно покрывало при открытии памятника. Волков обнял ее за талию и прижался щекой к прохладной коже живота. Его Маша была с ним. В половине седьмого требовательно зазвонил телефон, стоящий на тумбочке рядом с кроватью, и Маша, не открывая глаз, сняла трубку и подала Волкову. – Товарищ подполковник, – мощно загудел голос дежурного. – К нам вылетает командующий. На вертолете. Машина за вами пошла. – Хорошо, – только и сказал он. Маша уже проснулась и хотела встать, но он придержал ее. – Поспи. Ничего серьезного. Начальство едет. Волков знал командующего давно. И никогда не трепетал ни перед его званием, ни перед должностью. Александр Васильевич был таким человеком, с которым всегда хотелось встречаться. Гневным он мог быть лишь в тех случаях, когда видел безразличие к делу, равнодушие. С равнодушием он воевал решительно и беспощадно. Людей, болеющих за дело, командующий ценил и оберегал. И, если кого-то из них подсекала жизнь, он первый подставлял свое плечо для опоры. В свои пятьдесят шесть лет командующий летал на всех типах современных самолетов. Он вышел из вертолета, озабоченно щуря глаза. Посмотрел по сторонам, словно хотел убедиться, что приземлился именно там, где надо, подал руку Волкову. – Где твой замполит? – спросил буднично. – Идем, навестим. А по пути расскажи, как осваиваете новый самолет. Волков сказал, что план налета выполняется с перекрытием, что большинство летчиков опробовали новый самолет на боевое применение, что, если бы не эта предпосылка, работу можно считать хорошей. – Предпосылка, – грустно улыбнулся командующий. Он был высокого роста и смотрел на Волкова немножко сверху. – Хорошенькая предпосылка. – Самолет цел, – возразил Волков, – только ума не приложу, как его вытащить из этого болота. – Пролетал я над ним, – сказал командующий. – Сидит крепенько. В санчасти навстречу им выбежал встревоженный врач. Начал сбивчиво докладывать. – Скажите, – мягко перебил его командующий, – проснулся Новиков? – Так точно, товарищ командующий. – Как его дела? – Да чуть не убежал. Еле перехватил и уложил в постель. Командующий улыбнулся. – Ну, ведите, показывайте. В больничном халате Новиков показался Волкову изможденно-усталым. Халат был явно с чужого, более широкого плеча. – За самолет спасибо, – сказал командующий и пожал Новикову руку. – Как все случилось? Новиков снова пересказал все, что вчера говорил Волкову. – Высота большая для птиц, – усомнился и генерал. – Вытащим, обследуем самолет, разберемся. Только убегать из санчасти не надо. – Жена в госпитале, товарищ командующий, – сказал Новиков. – Я ничего не знаю, и она не верит, что я цел. – Иван Дмитрич, – повернулся к Волкову генерал. – Дайте машину, пусть они посмотрят друг на друга… Когда вышли из санчасти, командующий сказал врачу: – Не концентрируйте внимание на болезни. Обследуйте, понаблюдайте, но спокойно. Он летчик. – Понял вас, товарищ командующий. – А теперь, – командующий обратился к Волкову, – зовите инженера, командира ОБАТО, подумаем, как лучше эвакуировать самолет. Уже возле вертолета генерал отвел Волкова в сторону. – Надо, командир, форсировать переучивание. Летайте в две полные смены, по всем вариантам. Если что мешает, говорите. Полк могут поднять в любой день. – Со специалистами трудно, полигон держит. Это первое. Второе… – Не надо на ходу. Сядьте вместе с заместителями, все взвесьте и к вечеру доложите начальнику штаба. Поможем. Вопрос серьезный. Очень важно, чтобы полк прибыл на Север с хорошим запасом мастерства. Помолчав, он спросил: – Как Павел Иванович поживает? – Нормально, – хотел отделаться Волков проходным ответом. Но генерал уточнил вопрос: – Берете его с собой или оставите здесь? Волков знал, что Александр Васильевич и Чиж воевали в одной дивизии, хорошо знакомы, одним указом получили звание Героя Советского Союза, что судьба Чижа командующему не безразлична. Волков только не знал его позиции по отношению к Чижу. Впрочем, он и своей позиции до конца не определил. Поэтому не стал хитрить. – Трудный это вопрос для меня, товарищ командующий, – признался он. – Естественно, – улыбнулся генерал. – Просился он с передовой командой, я отказал. – Есть у вас объективные данные состояния здоровья Чижа? – Я не врач, мне судить трудно. – Чиж – заслуженный военный летчик. Он отдал авиации жизнь. Человек не должен унести обиду. А почему, собственно, отказали? – Врач наш категорически против. – А вы что думаете? – Я, товарищ командующий, убежден: ему лучше всего – уйти в запас. Жена в Ленинграде, дочь институт заканчивает, пожить по-человечески. Разве это дело – всю жизнь без семьи? Генерал вздохнул. – Может, ты и прав, командир. Но если мне скажут – пора, Александр Васильевич, в отставку, будет обидно. Нельзя так. Тем более с Чижом. Он заслуживает иного. Пусть остается, если сам рапорт не подаст. – Как лучше хочется. – Никто не знает, как лучше. Они уже шли к вертолету, когда командующий неожиданно спросил: – Ну, а как с нашим предложением? Должность пока вакантная. – Срок еще не истек, товарищ командующий. – Ну хорошо. Желаю удачи. Он крепко пожал руку Волкову, другим провожающим, легко поднялся в салон вертолета. Через несколько секунд его четкий профиль Волков разглядел в пилотской кабине. Он устраивался на правом сиденье, готовил к работе шлемофон. Взвыл двигатель, и тяжелые стальные лопасти винта упруго распрямились, набрали скорость, слившись в один прозрачный диск, и легко оторвали машину от земли. Скользнувшая над аэродромом тень вертолета сработала, как сигнал к действию. Пришедшие на стоянку техники и механики зашуршали брезентом чехлов, зазвякали инструментом. К стоянке один за другим покатили тяжелые заправщики, тягачи. Люди без суеты и спешки делали свое привычное дело. Как делали его вчера, позавчера, год, десять лет назад. Как будут делать завтра, послезавтра, многие годы впредь. – Товарищ командир, – рядом с Волковым стоял капитан Ефимов. – Капитан Ефимов к вылету на разведку погоды готов. «С кем летишь?» – хотел спросить Волков и вспомнил, что вылет запланирован ему. Можно было и отказаться, Волков терпеть не мог, когда летчик в запарке садился в самолет. На каждый вылет надо настраиваться, как артисту перед выходом на сцену. Спешка к добру не приводит. Но все-таки не отказался. Кивнул Ефимову – мол, хорошо – и быстро пошел в класс высотного оборудования. В училище, будучи курсантом, Волков играл в футбол. Он любил минуты перед игрой, когда футболисты сосредоточенно зашнуровывают бутсы, укрепляют щитки, натягивают чистенькие майки с эмблемой команды. Во всем теле, особенно в ногах, играет избыточная энергия, легкие крепкие бутсы, как сапоги-скороходы, бегом несут тебя на зеленый газон футбольного поля. Это незабываемые минуты. Сравнить их можно только с минутами подготовки к полету в классе высотного оборудования. Надевая специальное белье, высотный компенсирующий костюм, унтята, спецобувь, гермошлем, Волков одновременно изолировал себя от земных забот, волнений, проблем, настраиваясь только на работу в небе. Он словно уходил на время из одной среды обитания и переселялся в другую, где были свои ощущения, свои тревоги и свои радости. Сегодня Волков не почувствовал этого переключения. Все звучали и звучали в ушах слова командующего, стояло перед глазами осунувшееся лицо Новикова, выплывал из памяти запах болотных водорослей, налипших на крылья и фюзеляж упавшего самолета. Он совсем не думал о предстоящем полете, подсознательно рассчитывая на подготовленность Ефимова. А если Ефимов рассчитывает на него? – Товарищ подполковник, самолет к вылету готов, – доложил техник, вскинув к виску иссеченную шрамами ладонь. Руку он повредил в прошлом году во время регламентных работ. Пытался удержать соскользнувшую с ложементов самолетную пушку. Руку долго лечили, хотели офицера списать по болезни, но за него заступился Новиков. И хотя мизинец у него не разгибается до сих пор, дело свое старший лейтенант Петров делает безукоризненно. «Спарка», которую он обслуживает, неизменно украшена почетным пятиугольником. Волков пожал технику руку и привычно обошел самолет. Ефимов уже стоял возле стремянки. Поднявшееся над лесом солнце набирало силу, и от асфальта рулежной полосы уже подымался теплый, пахнущий гудроном воздух. «Денек будет жаркий», – подумал Волков и повернулся к Ефимову. – Хорошо отдохнули? – Плохо, товарищ подполковник, – неожиданно признался Ефимов. – Что так? – Не спалось после вчерашнего. – Значит, мы сегодня оба не в лучшей форме, – сказал Волков. – Надо утроить бдительность. – Значит, утроим, – ответил Ефимов и пристегнул привязные ремни. – По коням, – тихо скомандовал Волков и сел в кабину инструктора. Он давно не летал с Ефимовым, и этот полет был запланирован не случайно. В связи с перелетом на Север первый комэска майор Пименов может занять новую должность. Значит, сдвинется вся лесенка. И Волков, чтобы проверить некоторых кандидатов на выдвижение, решил посмотреть в первую очередь их технику пилотирования. Первым в этом списке был Ефимов. Во второй кабине Волков всегда чувствовал себя инструктором, с кем бы ни летал. От запуска до выключения двигателя он словно проецировал все действия пилота на образцовый стереотип, тут же анализировал допуски, и, если они не выходили за пределы безопасности, никогда не вмешивался в работу летчика. Анализ, разбор, замечания – это потом, после полета. Ефимов грамотно проверил тормоза, рули, четко запросил разрешение на выруливание и на взлет. Рычаг управления двигателем идет вперед к черте максимала, и самолет, зажатый тормозами, начинает дрожать от перенапряжения. Как только тиски тормозов разжались, он срывается с места упругим толчком. Форсаж – и движение пошло с постоянным ускорением. Это ускорение Волков чувствует спиной даже после отрыва самолета от земли. «Взлет без замечаний», – фиксирует командир и блаженно щурится от брызнувшего в кабину солнечного прибоя. Руки привычным движением опускают на гермошлеме дымчатый фильтр. Горизонт кренится и скользит под крыло. Волков расслабляется, стрельнув глазами по приборной доске. Ефимов пока все делает безукоризненно. «Хороший летчик», – думает Волков и уже жалеет, что не отпустил его в отряд космонавтов. Парень по всем статьям подходит. Выдержан, умен, волевой. И анкета во всех отношениях образцовая. А он сам ее портит. Дернул его черт с замужней бабой спутаться. «Зря я полез в бутылку», – снова упрекнул себя Волков. Время бы показало. Он и сам не дурак, во всем бы разобрался. Бытие всегда определяет сознание. Там ведь тоже конкуренция. Хочешь в космос слетать, доказывай делом, всей своей жизнью, что именно ты сегодня достоин, а не кто-то другой. А тут он закусил удила. Люблю – и хоть кол на голове теши. Соврал бы, что ли. Трудно ему было сказать какую-нибудь чепуху, чтобы не ставить командира в дурацкое положение? «Узнал бы Новиков об этих мыслях», – улыбнулся сам себе Волков и представил лицо своего замполита. Уж он бы не упустил возможности проехаться по нравственным позициям командира. «Тебе, сказал бы, не суть, а форма важнее. А то, что Ефимов не пошел на сделку с совестью, ты не заметил». Все он заметил, все оценил, но поступить иначе не мог. Обследуя фронт облачности, Ефимов заложил крутой вираж в наборе, и у Волкова проснулся азарт бойца, захотелось взять вожжи в свои руки и подстегнуть эти тысячные табуны лошадей, упакованные в стальное чрево фюзеляжа. Пилотаж Ефимова был не только грамотным, но и вдохновенно исполненным. «Если не наделает глупостей с этой бабой, – решил Волков, – дадим ему эскадрилью». Что стояло за словом «глупости», он и сам не знал. – Разрешите получить замечания? – обратился Ефимов, когда они, зарулив на стоянку, вылезли из кабины. – Нет замечаний, Ефимов, – сказал Волков. – Молодцом! Ему захотелось заглянуть этому парню в глаза и попросить извинения за свои бестактные советы, за дурацкие подозрения, но между ними уже была стена, это Волков знал точно. Не примет он его извинений. «Дело, скажет, я свое делаю, как видите, хорошо, а в душу не лезьте». – Не жалеете, что отказались от космоса? – спросил Волков. – Нет, – сухо ответил Ефимов. Волков только кивнул. Так даже лучше. И все-таки что-то командиру не давало покоя. Ефимов ему нравился, и Волкову хотелось, чтобы летчик знал его мнение. Но для этого нужен откровенный разговор, беседа по душам. А души их настроены на разные волны. Новиков из госпиталя вернулся скисшим. «Как дела?» – «Неважно». – «Что врачи обещают?» – «Ничего не обещают». Вот и весь с ним разговор. Волков догадывался, что Алина наверняка что-то сказала о предстоящей перемене местожительства. И если раньше Новиков отшучивался, болезнь жены лишила его такой возможности. Сейчас он мог только соглашаться с ее просьбами и ни в чем не перечить. А каково ему было соглашаться – Волков представлял. После разбора полетов он зашел в санчасть. Новиков лежал на койке поверх одеяла. В толстых шерстяных носках домашней вязки, синем спортивном костюме. На тумбочке, на полу, на кровати лежали газеты. – Неплохо ты устроился, – сказал Волков. – Кто без продыху крутится, а кто газетки читает, приемничек крутит. – Ложись, полежи вместо меня, – улыбнулся Новиков и сел, спустив ноги на пол. – Я покручусь вместо тебя. – Вместо себя крутись, – Волков тоже сел. – Хочу, комиссар, знать, что меня ждет. Командующий сегодня намекнул – сроки подготовки к перебазированию сокращаются. Если ты заикнешься: хочу остаться, тебя оставят без звука. – С чего ты взял? – Хватит с нас одной героической семьи – Павла Ивановича и Ольги Алексеевны. Вам с Алиной этот вариант не подойдет… Ты ей что-нибудь пообещал? – Не говорили мы с ней об этом. – О чем же вы говорили? – О любви. – О какой любви?.. А… Ну да… Прости, заскок. – И он тут же сменил тему: – Летал сегодня с Ефимовым. Хороший летчик. Поразительная интуиция. – Не интуиция. Он летчик-инженер. – Новиков сделал ударение на последнем слове. – Самолетом управляет сознательно, чувствует физическую суть каждого коэффициента в формулах. – Новиков засмеялся: – У них с Муравко соревнование: кто глубже постигнет аэродинамику. Болельщики – вся эскадрилья. А выгода – делу. Волкову не надо было разжевывать, что значит для летчика знание аэродинамики сверхзвуковых скоростей во всех деталях. Понимание особенностей поведения самолета, этого сложнейшего авиационного комплекса на различных режимах полета помогает, во-первых, безошибочно определять наиболее выгодные условия для его боевого применения, а во-вторых, принимать правильное решение при выборе тактики воздушного боя. – Давно это они соревнуются? – Третий год. – Ты втравил? – Да нет. Это еще Павел Иванович. Волков достал сигареты и снова спрятал. Все-таки – санитарная часть. – Да кури, – махнул рукой Новиков. – Сигаретой запахи медикаментов не перешибешь. Еще месяц проветриваться буду. Волков закурил. – Командующий спрашивал о Чиже. – Естественно. – Почему? – Они фронтовики. – Новиков придвинулся к Волкову. – Не отпускай ты его, если станет проситься. Не хочет он. В полку его место. Особенно сейчас. – Не думай, комиссар, что я избавиться от него хочу. Он мой лучший учитель. За ручку вывел на потолок. Я хочу, чтобы он хоть несколько лет по-человечески пожил. В Ленинграде, в семье, без нервотрепки. В гости к нему хочу с Машей приехать, попросить, чтоб Питер показал. Он заслужил все это. – Может, ты и прав, но я чую – он хочет быть нужным своему полку до конца. И он действительно нам нужен. И мне, и тебе, и этим мальчишкам. – Не вечно будет с нами Чиж. – Ну, пусть будет, пока ему самому этого хочется. – Я что, выгоняю его? Пусть будет. Действительно, подумал Волков, пусть будет. С передовой командой ему ни к чему лететь, а с полком – пожалуйста. – Ну ладно, – Волков выбросил в открытую форточку сигарету. – Завтра еще полежи, и хватит. Дел много. – Как самолет тащить будете? – Хвостом вперед. За скобу тормозного парашюта, тросом. По воде он легко пойдет. А дальше – трейлером. Там уже работают. Может, Саньку твоего к себе забрать? Новиков упрямо покачал головой: – Взрослый уже. Пусть сам. – Пока, – Волков протянул замполиту руку. С аэродрома он прямиком поехал в госпиталь, купив по дороге виноградный сок и цветы. Наверное, что-то надо было еще купить, но он не знал что. В госпиталь его не пустила зловредная старушка, сидевшая у стеклянной двери. – Бабушка, я начальник гарнизона, – сказал с улыбкой Волков, – имею право проходить во все воинские учреждения. – В своем гарнизоне и ходи, – упорствовала старушенция, – а тут госпиталь. Посещений сегодня нет. Волков вышел на улицу и позвонил из будки-автомата своему дежурному, попросил номер телефона начальника госпиталя. Распоряжение пропустить посетителя прямо-таки взбесило бдительную вахтершу. – И что вы тут все шастаете, все шастаете, – ворчала она, – я еще и начальнику скажу на это безобразие. Халат она не подала, а чуть ли не швырнула, гневно сверкнув глазами. Не могла простить, что вышло не по ее. Удивило Волкова, что стоявший рядом дежурный врач не сделал ей замечания. Видимо, знал – старуху не переубедить, а настроение будет испорчено. Подымаясь по лестнице, Волков все еще боролся с закипевшим гневом и думал о том, как мало надо человеку, чтобы вывести его из равновесия и надолго испортить настроение. – Почему вы ее терпите? – спросил он дежурного врача. – Хорошая работница. Исполнительная. – Бездушная работница. – Душа – философская категория, а у нас медицина. – Он улыбнулся. – Если всерьез – некем заменить. Она и санитарка, и гардеробщица, и вахтер. Работает безотказно, чувствует себя незаменимой… Палата, в которой лежала Алина, была открыта. Нянечка протирала линолеум сырой тряпкой. Волков вошел незамеченным и направился к койке, на которую указал ему дежурный врач. Алина спала. Он тихо поставил на тумбочку байку с виноградным соком, положил рядом букет и повернулся к выходу. – Иван Дмитрич, – строго сказала больная. – Вы уже уходите? – Мне показалось, вы спите… – Что-нибудь с Сережей? – Да нет, здоров он, как конь. Я посмотреть на вас зашел. – Когда я была здоровая и красивая, вас что-то не тянуло посмотреть на меня. А когда меня скрутило, вы тут как тут… – Голубушка, не прибедняйтесь, – Волков принял ее тон. – По мне, так вам не в госпитале валяться, а на плантации работать. – Ладно, ладно… Спасибо за цветы. Вы уж не ругайте нас с Сережей. Хлопот мы вам подбросили. Не семейка – ЧП ходячее. «Алина Васильевна, – хотел сказать Волков, – не сбивайте с толку Сергея Петровича, не заставляйте его сейчас заниматься делами семейного устройства, потерпите. Очень у нас трудное время. Перелетим, освоимся, и я сам его отпущу с богом». Но в ее глубоких карих глазах, которые только и выделялись на бледном лице, он прочел плохо спрятанную боль и, боясь ее усугубить, сказал совсем не то, что ему хотелось: – Набирайтесь сил. Насчет Сергея Петровича завтра сам буду говорить с начальником политотдела. Найдут ему и здесь должность. – Вы думаете, это возможно? Алина пристально посмотрела на Волкова, и он, как в открытой книге, прочел в ее глазах надежду. – Возможно. У нас все возможно. Хотя, не хочу скрывать, полк без него осиротеет. Ну, да мы все не вечные. Поправляйтесь. К их разговору уже прислушивались другие женщины, лежащие в палате, и Волков попрощался. «Дернул меня черт выдавать такие векселя», – подумал он, выходя из госпиталя. Но огорчения особого не было. Поговорит он завтра с начальником политотдела, предупредит его, попросит подумать над вариантом такого перевода, который можно будет осуществить без ущерба для дела после перелета полка к новому месту базирования. – Я говорю ему – ходют тут, – снова ворчливо встретила Волкова вахтерша, – а мне выговор от доктора. Я в жисть выговоров не слышала. – От какого же это доктора? – всерьез поинтересовался Волков. – Какого надо. Лечащего. Булатова. – Где же он, ваш грозный доктор? – Здесь я, – сказал Булатов, спускаясь по лестнице со второго этажа. – Здравствуйте, Иван Дмитриевич. – Добрый вечер, Олег Викентьевич. Вахту вы тут выставили, как в испытательном центре. – Какая есть, такую и выставили, – тут же вмешалась в разговор старуха. – Тетя Дуня, – строго посмотрел на нее Булатов, – вы не справляетесь с обязанностями вахтера. – Я ему и говорю, – тут же вставила она реплику. – Здесь надо вежливо молчать, а не говорить. А если говорить, то уважительно. – Так ходют же всякие… – Тетя Дуня! – Ну, молчу, молчу. Булатов жестом пригласил Волкова подняться наверх. Здесь, прямо у лестничной площадки, начинался уютный холл, уставленный вдоль стен сверкающими аквариумами. Их было около десятка. Одинаковой формы, но с разным содержанием. «На Севере такое завести в летном домике, – подумал Волков, – это же красота!» И тут же решил: заведу обязательно. – Я вас слушаю, Иван Дмитриевич. – Скажите, Олег Викентьевич, если можно, у Алины Васильевны что-то серьезное? – Она жила последнее время в напряжении. Случай с Новиковым был той каплей… – Это инфаркт? Булатов едва заметно улыбнулся. – Синдром Миньера это называется. В общем, надо полежать ей. После выписки, естественно, максимум спокойствия. Вы понимаете, о чем я говорю? Волков все отлично понимал. С Новиковым придется расставаться. – Олег Викентьевич, – решился Волков на главный вопрос. – Вы лечите Павла Ивановича Чижа… – Слушаю вас. – Посоветуйте, доктор… У нас есть возможность не брать его на Север. Но он и слышать не хочет. Порекомендуйте что-нибудь. Булатов встал и нервно заходил вдоль аквариумов. Сцепленные в замок руки за спиной хрустнули, косточки на пальцах побелели. – Ему лучше с вами ехать, – сказал Булатов тихо и убежденно. Волков искренне удивился этой противоречивой рекомендации. – Север – не Крым, доктор. – Я знаю. Ему не климат опасен. Ему надо беречься от психологических стрессов. – Где же логика, милый доктор? Вы же знаете характер его работы. У нас этих стрессов, как в психбольнице. – Это привычные стрессы. Организм уже выработал на них стереотипные реакции, приспособления к защите. Уход от любимого дела, при глубоком убеждении, что ты еще можешь быть полезным этому делу, – такой стресс опасен. Он может иметь непоправимые последствия. – Все это лирика, доктор, – сказал Волков, а сам подумал: «Сговорились с Новиковым». – Кстати, Олег Викентьевич, за что вы получили звание кандидата медицинских наук? – Вот за эту самую лирику, – грустно улыбнулся Булатов. – Тогда вам и карты в руки, – Волков обрадовался, словно поймал врача на неправде. – Под вашим бдительным наблюдением его сердцу будет гораздо спокойнее. Там, где мы будем, нет таких квалифицированных врачей. Тем более специализированных клиник. А если случится что? – Вы попросили совета, я вам его дал. Вопреки своим желаниям. Видеть Павла Ивановича мне всегда приятно. И дочь его, Юлю, тоже. Если бы вы ее оставили, это было бы мудро. Волков вскинул брови. – У нее последний курс в институте, подготовка диплома. Нужны лаборатории, библиотеки… – Если она такое пожелание выскажет, держать не стану, – пообещал Волков, и они простились. – Домой! – сказал он водителю и захлопнул дверцу машины. Маше будет приятно, что он сегодня раньше обычного возвращается домой. Волков шумно потер руки и бодро усмехнулся: – Закурим, чтобы дома не журили! Он был доволен собой. Все, что еще вчера бередило душу, сегодня отступило. У дома он подписал водителю путевку, сорвал на клумбе цветок и, вытащив из почтового ящика газеты, поднялся на второй этаж. Обычно он всегда открывал дверь своими ключами, а в этот раз с удовольствием нажал кнопку звонка. Маша и в самом деле была приятно удивлена. – Какая сила гонит моего муженька домой? В такой ранний час ты еще никогда не появлялся. – Ранний, – буркнул Волков. – Восемь вечера! Все нормальные люди уже поужинали и давно сидят в пижамах у телевизоров. А для меня ранний? Закрывая дверь, Волков любовался Машей. Он высоко ценил ее требовательность к своим туалетам. Она еще ни разу его не встретила непричесанной, в заношенном халате или в растоптанных шлепанцах. Маша умела одеваться удобно и красиво. Для кухни у нее было несколько нарядно расцвеченных передников, к телевизору она натягивала немнущиеся брюки и мягкий свитер, чтобы с ногами забираться на диван, ее комнатная обувь отличалась удобством и изяществом. – Отвернись, я переоденусь, – попросил Волков, и Маша, улыбнувшись, вышла. Она тоже выставляла его из комнаты, когда меняла одежду. «Одно дело – раздеваться для тебя и совсем другое – при тебе», – любила повторять она где-то вычитанные слова. – Что пишет блудный сын? – Блудный сын молчит. – Все-таки я доберусь до него. – Давно бы пора, – улыбнулась Маша, продолжая орудовать вязальными спицами. – Что будет? – кивнул Волков на ее вязание и развернул газету. – Свитер будет. – Такой толстый? – Для Севера все-таки. Как Новиков? – неожиданно спросила она. – По-моему, в порядке. Хуже с Алиной. Видимо, Новикова придется оставить здесь. – Для нее это вопрос очень серьезный. – А что у нас имеется на ужин? Маша отложила вязание. – Пирог сварганим? – Пошли. – Мне нравится твое настроение, – сказала Маша, раскатывая тесто. – Ты что надумал? – В Ленинград поедем, Маша, – весело посмотрел на жену Волков. – Сегодня командующий опять напомнил о новой должности. Это, конечно, не полк, работа чиновничья, зато Ленинград… Пора свой опыт другим передавать. – Ну, Ваня… Не ожидала. Что я со свитером буду делать? – Ленинград тоже не Ялта. – Любопытную новость подбросил ты. – Она обняла мужа, свесив за его спиной кисти рук так, чтобы они не запачкали мукой его одежды. Прижалась, вытянула губы для поцелуя. В коридоре раздался звонок. – Кто бы это? – удивился Волков. – Кто угодно, только бы не посыльный за тобой, – сказала Маша, вытирая полотенцем руки. – Если посыльный, скажу, что тебя нет дома. – Обманывать детей нехорошо, – погрозил ей пальцем Волков и тоже вышел в прихожую. На пороге стоял Чиж. В отглаженном кителе с новенькими орденскими нашивками и Золотой Звездой над ними, в начищенных до блеска туфлях. – Даже не представляете, как вы вовремя, Павел Иванович, – обрадовалась Маша. – Пироги пеку! Наливочку достанем. И закатим пир на весь мир. – Спасибо, Маша. Но я ненадолго. – Чиж был торжественно-строг. – Хочу с Иваном Дмитричем кое о чем посоветоваться. – Павел Иванович, вы такой редкий в нашем доме гость… – И дорогой, – добавил Волков. – Что мы вас просто так не отпустим. – И советоваться за чаркой как-то сподручней. Проходите. Мы все-таки не чужие. – Как у сына дела? – спросил Чиж, вешая на олений рог фуражку. – Не пишет, бандит. – Не ругался командующий? ЧП все-таки. – Да нет… – Виноват я в чем-то, Ваня, – сказал Чиж словно самому себе, – чего-то недоглядел. Волкову было знакомо это чувство. Командир всегда чувствует себя виноватым, если в полку что-то случается. Но что Чижу казниться? Все еще думает, что без него полк погибнет? Как та тетя Дуня в госпитале, считает себя незаменимым? «Заменимы мы все под этим небом, Павел Иванович!» – хотел сказать Волков, но Чиж его опередил: – Видно, уже не тот нюх. И тон, и выразительная пауза подсказывали Волкову продолжение разговора: возражай! Но Волков промолчал. Вмешалась Маша, расставлявшая посуду на столе: – Не прибедняйтесь, Павел Иванович, ваш опыт не имеет цены. – Опыт, Машенька, к сожалению, капитал индивидуальный. В полном объеме им может пользоваться только тот, кто его накопил. «Хитрый Павел Иванович, подъезжает издалека», – решил Волков и снова промолчал. – То, что можно передать другим, – продолжал Чиж, – это не опыт, это только его отдельные слагаемые. Опыт, Машенька, не просто количество накопленной информации, это новое качество. Это информация, пропущенная через сердце и душу человека. А поскольку каждый человек неповторим, опыт его может материализоваться только при его личном участии. Согласны? – Убедительно, – кивнула Маша. Волкову мысль Чижа казалась тоже убедительной, но что-то в нем сопротивлялось. «Сейчас он скажет о том, – решил Волков, – что в эту критическую минуту, когда полк должен передислоцироваться на Север, его опыту нет цены, и потому он решил быть со своими чижатами до конца». И Волкову останется одно: согласиться. «Нет, Павел Иванович, – думал он, – не хватило вам мудрости вовремя выйти из игры. А жаль». – Ну ладно, – шевельнул плечами Чиж, словно хотел расправить грудь. – Я, собственно, вот о чем тебя хотел спросить, Ваня… Он отвернулся к окну, осторожно, чтобы не выдать волнения, кашлянул. И снова шевельнул плечами, расправляя их. – Надумал я, Ваня, подаваться в запас. «Вот и хорошо, – обрадовался Волков, – теперь только надо не смалодушничать и помочь ему». – Юльке учиться еще, Ольга совсем затосковала… И у меня не те силы. Что-то, конечно, могу, но, пожалуй, хватит. Как сказал поэт, пора, мой друг, пора… Он повернулся к Волкову и посмотрел ему в глаза: – Если, конечно, я не нужен полку. «Вы всегда нужны полку», – уже готовы были сорваться слова. Их ждал Чиж, их ждала Маша, напряженно умолкшая с прижатым к груди подносом. – Я думаю, Павел Иванович, – сказал он твердо, – вы приняли очень правильное решение. – Ваня! – вырвалось у Маши. – А что? – так же жестко продолжил Волков. – Павел Иванович послужил, слава богу, за четверых. Нашего уважения и почета ему хватит, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. – Ваня, – снова вмешалась Маша, – ты же сам говорил, что Павел Иванович… – Говорил, – перебил он жену, – говорил, что Павел Иванович еще мог бы летать да летать… Но против медицины не попрешь. Я одобряю и поддерживаю ваше решение. – Так я завтра и напишу рапорт. Так, мол, и так, в связи с тем-то и тем-то прошу… Спина Чижа вдруг начала сутулиться, и Волкову захотелось хоть немножко подсластить горькую пилюлю. – Не будем спешить. По-людски сделаем. Проводим по всем правилам, будьте спокойны. Вынесем Знамя, пригласим семьи, представителей города, воздушный парад запланируем, оркестр – пусть все знают, как провожают заслуженных летчиков на заслуженный отдых. – Прости, Ваня, – Чиж положил ладонь на его плечо, – не надо проводов. Это лишние волнения. А мне врачи не велят. – Нет, Павел Иванович, боюсь, что нас не поймут. Это надо для тех, кому еще служить да служить. – Проводы, Ваня, они и в Африке проводы. – Он посмотрел на Машу, подошел к ней, убрал мизинцем выкатившуюся на щеку слезу и философски подытожил: – Лучше на год раньше, чем на день позже… 22 К вечеру небо затянуло плотными, как серый войлок, облаками. Безветрие и настороженное молчание птиц свидетельствовали о приближающемся ненастье. И Юля обрадовалась: полетов не будет, можно поработать над курсовой. Сроки поджимали, надо спешить. Работу она решила начать немедленно. Чтобы завтрашний день использовать максимально, необходимо сегодня проделать подготовительную часть. Отобрать литературу, составить план, прикинуть, что потребуется из иллюстративного материала. Юля любила делать всевозможные графики, диаграммы, чертежи, они удавались ей и, как правило, нравились институтским преподавателям. Другие заочники почему-то избегали иллюстраций в своих контрольных, и Юлины работы на их фоне выгодно отличались. Она убрала со стола все лишнее, постелила ватманский лист, чтобы все, что неожиданно придет в голову и что вычитается в книгах, записывать прямо на нем, обложилась книгами. Разговор, что тема курсовой ей досталась нетрудная: объяснить принцип действия и обосновать расчеты авиационного гирокомпаса, был обыкновенным женским кокетством. Над курсовой предстояло попотеть. А погода испортилась. Словно из-за угла вырвался тугой ветер, пригнул верхушки деревьев, зашумел в листве, заставил испуганно вздрогнуть кровельное железо. Юля не услышала, как вошел отец, а когда случайно обернулась, коротко вскрикнула, увидев в прихожей человека. – Что с тобой, малыш? – спросил Чиж каким-то отстраненным голосом. – Напугал ты меня, папка. Как тень, проскользнул, даже не услышала. – Тень – это точно, – сказал он. – Поработать решила? – Курсовая горит. – Хвалю за храбрость. Чиж прошел в свою комнату, и Юля слышала, как он долго возился, что-то, снимал, что-то надевал и наконец появился в новом кителе с Золотой Звездой, в новых брюках и новых коричневых туфлях. Юля привыкла его видеть в потертой кожаной куртке, в старой, с выгоревшим верхом фуражке, полинялых, хотя и всегда отутюженных брюках. В новом костюме Чиж выглядел стройнее и моложе. – И куда мы собрались? – На свидание. Юля осмотрела отца. – Жених что надо. – Может, побриться? – посмотрел он в зеркало и поправил усы. – Не надо. Ты отлично выглядишь. – Некоторые думают иначе. – А ты не обращай внимания. Чиж покивал головой, но думал о чем-то другом. Словно решал какую-то трудную задачу: быть или не быть? – Ну, что ты, как Гамлет? Чиж застенчиво улыбнулся, словно она прочитала его мысли, и быстро вышел. Юля после ухода отца села к столу и попыталась снова углубиться в текст. Но ниточка была упущена. В голову лезли непрошеные мысли. Она знала, что отец пошел к Волкову. Он уже несколько дней собирался сходить к командиру в гости. «Накопилось всякой всячины, – объяснял Чиж, – надо поговорить». Но так торжественно для житейских бесед он еще никогда не одевался. «Будет опять проситься в передовую команду», – решила Юля и немного успокоилась. С очередным порывом ветра о стекло глухо разбились первые капли дождя. Юля надела плащ, туфли, взяла зонт и вышла из дому. Она еще не успела подойти к подъезду, где жил Волков, как увидела отца. Он сидел на краю детской песочницы, держа в руках фуражку. Ветер бесцеремонно трепал его седой чуб, желтым огоньком посвечивала на груди Золотая Звезда. Юля подошла и молча села рядом. Он обнял ее, рывком прижал и отпустил. – Все, дочка. Отслужили. – Ты о чем, пап? – Пишу рапорт и ухожу в запас. Последний перелет на дворовый козлодром. Юля взяла отца под руку и положила на его плечо голову. Чутье ей подсказывало: отцу сейчас как никогда плохо, необходимо тепло близкого человека, участие и ласка. – Пойдем-ка мы, папуля, погуляем с тобой, – она встала и подала ему руку. – При Звезде ты еще со мной никогда не гулял по улицам. Пофланируем, как говорят наши студенты, себя покажем, на других посмотрим. – Теперь у нас будет много времени для прогулок. – Он поднялся, надел фуражку. – Гуляй не хочу. – Не заблуждайся, папуля, мне до пенсии еще далеко, – Юля крепко взяла отца под руку. – Пенсия, она и в Африке пенсия, – сказал он. – К ней не опоздаешь… Все, сегодня же напишу рапорт и завтра отдам Волкову. Он прав… – В чем? – Это же какая-то райская жизнь у меня начнется, представляешь? Сплю сколько хочу, гуляю сколько хочу, на рыбалку буду ездить, когда захочу. – Ты не умеешь удить. – Научусь. На охоту тоже буду ездить. А что, и «Запорожца» купим. Как участнику войны без очереди положено. Утром отвезу тебя на аэродром и загорать. Вечером приеду и заберу. В выходной поедем в Ленинград. – А не лучше ли нам вообще в Ленинград переехать? – Можно и в Ленинград, – безразлично согласился Чиж. Они вышли на центральный бульвар и в свете рекламных огней выглядели беззаботно болтающей парочкой. Юля цепко ловила сопровождающие их взгляды. Чижа в городе знали многие, дочь его – единицы. Все, кого они встретили, оглядывались им вслед. Одни знали Чижа, другие Юлю, третьи смотрели просто так. На Героя. Хотя Юля и понимала, что отцовская слава достается ей, так сказать, отраженно, все равно она очень гордилась в такие минуты. Они уже подходили к центральному телеграфу, когда на землю обрушился быстрый косой ливень. Он почти сразу пробился сквозь крону молодых тополей, под которые спрятались Юля с отцом, и тяжело забарабанил по раскрытому зонту. – Давай перебежим в здание, – предложила Юля и, не дожидаясь согласия, потянула отца в подъезд. – А если дождь до утра? – спросил Чиж. – Поймаем такси, – успокоила Юля и сунула в руки отцу мокрый зонт. – Постой здесь, я сейчас вернусь. Она вспомнила, что в зале телеграфа есть междугородный телефон-автомат. У кассы разменяла рубль на пятнадцатикопеечные монеты и вошла в кабину. Автомат мягко, с фиксирующим ударом заглотнул три монеты, подтвердив индикаторным глазком готовность к связи, и выдал непрерывный зуммер. Юля набрала единицу, характер звука сменился. Номер она помнила наизусть и, когда в трубке пошли сигналы вызова, почувствовала, что волнуется. – Да, – жестко сказал женский голос. – Это ты, мамуля? – Юленька! Ты откуда, деточка? – Мама, мы тут гуляем, я по междугородному. В общем… Тут у нас серьезные перемены намечаются. Отец завтра несет рапорт на увольнение. Решение, кажется, окончательное. – Как он себя чувствует? – Нормально. Индикатор показывал – осталась одна монета. – Спасибо, доченька, что позвонила. – А ты как, мам? – По-разному. В общем, ничего. За границу опять завтра вечером. – Куда, мам? – В Голландию. – Привези портативный диктофон. Привезешь? Английский изучать. – Хорошо, если попадется. – А ты поищи, ладно? – Ладно. Только будь умницей. Время истекало. – Ну, пока! Счастливой тебе поездки. Целую. – Спасибо, доченька, спасибо. Чиж стоял в тамбуре и сквозь застекленную дверь смотрел, как на асфальте тротуара плясал мелкими фонтанчиками дождь. Набившиеся в тамбур люди возбужденно ругали погоду, кто-то пытался привести в порядок прическу, кто-то с кем-то шептался, кто-то складывал зонт. Объединенные общей причиной, они бесцеремонно толкались, острили, высказывали ближайшие прогнозы. Фуражку Чиж держал в руке, может, потому и не разглядела его Юля в толпе. Привыкла всегда видеть отца в центре внимания среди летчиков. А тут – полное безразличие к седоголовому полковнику. Его теснили спинами, толкали локтями, терлись мокрой одеждой, бесцеремонно отжимая в угол. И Юля вдруг остро почувствовала тревогу отца. Вся его жизнь прошла среди летчиков, в коллективе, который складывается благодаря строгому естественному отбору, – небо селекционирует безошибочно. Он прожил жизнь в атмосфере доброты и уважения, веры и верности. Сам эту атмосферу создавал. Что ждет его за порогом авиационного полка? Юля вспомнила слова, сказанные год назад старым сослуживцем отца, потерявшим на фронте ногу. – Когда мы воевали, Паша, думали, всё после победы будет по-другому, – говорил он. – Верили – нас не забудут. Забыли, Паша. В первые годы после войны всем было плохо, мы понимали. А что происходит теперь, Паша? Разве мы можем угнаться за ними, молодыми и здоровыми? Скажешь, нам льготы дали… Как же – дали. В каждой пивной, в кассах, в поликлиниках табличек навешали: инвалидам и Героям без очереди. А попробуй сунься без очереди – ненависть в глазах… И таблички эти, Паша, не от хорошей жизни. Безнравственные таблички, оскорбительные. Нет, Паша, что-то здесь не так. Не такой мы эту жизнь представляли… Такой ли представляет эту жизнь Чиж, какая она есть на самом деле? На автобусной остановке размышления Юли нашли подтверждение. На замечание Чижа: «Соблюдайте очередь, ребята», прилично одетый подросток нахально осклабился и сказал прямо Чижу в лицо: – Героям, папаша, в магазинах отпускают без очереди, а здесь ты брось качать права! – и полез вперед. Чиж стушевался перед неприкрытой наглостью и только удивленно качнул головой. А Юля, словно кошка, так рванула на юнце обшлаг пиджака, что только стрельнули отлетевшие пуговицы, и острым наконечником зонта поддела снизу его подбородок. – А ну, извиняйся, мразь, – прошипела она, – иначе проткну твое поганое горло! Ну!.. Ошеломившие всех напор и решимость Юли были такими неукротимыми, что он дрогнул и сполз на корточки. – Юля, что ты? – бросился к ней Чиж. Он, вероятно, подумал, что его дочь уже осуществила свою угрозу, но парень залепетал о том, что он не собирался никого оскорблять. Его дружки, двое их было или трое – Юля не заметила, настороженно ждали развязки. – Только так с ними и надо, – сказала какая-то женщина из очереди, и все, кто до этого безразлично отнесся к хулиганской реплике наглого юнца, вдруг объединились в своем гневе: – Распоясались!.. – Молодец девка! – В милицию их, подонков! – Что позволяют себе… – И вино им продают… Ребята дернули пострадавшего за руку. – Тебе говорили – идем пешком… А ты полез… Пошли. До самого дома Чиж и Юля молчали. Лишь однажды он посмотрел ей в глаза и, тряхнув головой, улыбнулся. Юля весело засмеялась в ответ. – Если бы мне кто-нибудь сказал, что ты способна на такие подвиги, – смеялся Чиж уже дома, – не поверил бы ни за что. Ну, Юля… – А кто меня воспитывал? – парировала она. – Пожинай плоды. Помолчав, она серьезно сказала: – За тебя, папка, я любому бандиту перекушу глотку, как овчарка. Не успеет и пискнуть. А вот за себя… Чиж обнял Юлю, прижал ее голову к плечу и тихо сказал: – Все равно я счастливый человек… Еще не знаю, как это будет, но не я первый и не я последний ухожу из авиации… А боль пройдет. Должна пройти… Все проходит. – Я и сама не знала, что я такая отчаянная, – призналась Юля и решительно предложила: – Давай-ка, папуля, поработаем. Ты почитай, а я над курсовой покумекаю. Она пыталась углубиться в работу, но мысли ускользали, не хотели за что-либо цепляться. Юля пыталась представить себе новую жизнь на Севере. В том, что она туда поедет, сомнений не было. Во-первых, срок трудового соглашения у нее истекает только через год, а во-вторых… Конечно же, из-за Муравко. Она уже не представляет, как можно прожить хотя бы один день, не увидев его глаза, не услышав голоса, от которого вздрагивает сердце. Вдали от него жить она уже не сможет. Юля видела, как отец за кухонным столом что-то писал. Он уже несколько листов скомкал и выбросил в мусорное ведро. Юля прошла в кухню, вроде за ножом, и через плечо Чижа посмотрела, что он пишет. Бросилось в глаза слово «Рапорт». А дальше строчки были торопливо-мелкие; они не умещались на бумажном листе и загибались у правого среза вниз, как струи из садовой лейки. И боль отца вдруг передалась Юле. Она обвила сзади его шею, прижалась к колючей щеке и почувствовала почти забытое детское желание выплакаться. Не сопротивляясь ему, она уткнулась носом в шею отцу, вздрогнула, сглотнула сдавивший горло комок и дала волю слезам. Ни о чем не спрашивая ее, Чиж только гладил волосы дочери, промокал платком глаза и тихо приговаривал: – Это хорошо… Это надо иногда… Поплачь, маленькая… 23 Ему казалось, что плачет не Юля, что слезы текут не из ее глаз, а рвутся из его измученного сердца. Дать бы им сейчас возможность излиться, и кончились бы все страдания. Проклятый кусочек стали не выбирал дороги, шел напропалую поперек груди и резал все живое. В сознании сидела только одна мысль – не поддаваться боли, выстоять. Он даже прикрикнул на себя: «Разве можно такую слабину давать? Распустил ты, братец, нюни. Хватит, возьми себя в руки!» И боль вдруг сразу отпустила. Словно почувствовав это, Юля всхлипнула в последний раз и затихла. – Иди умойся и спать, – сказал ей Чиж. – Утро вечера мудренее. – Не сердись на меня, – попросила Юля. – Обидно стало. – Бывает, – сказал он и осторожно поднялся. Металл не шевельнулся. Видно, на сегодня сделал свое дело, выдохся. Чиж скомкал последний вариант рапорта и решил, что завтра утром напишет этот документ безо всякой лирики. Лаконично и ясно. «В связи с выслугой установленных законом сроков прошу уволить меня в запас». И вся тут лирика. Рапорт, он и в Африке рапорт. Он уже лежал в кровати, когда Юля вошла с подносом, на котором дымился густо-коричневый стакан с чаем. – Выпьешь? – спросила она. – Пожалуй. – Чиж приподнялся и поставил поднос поверх одеяла на ноги. Юля села на стул боком к спинке, на которой висел китель. Прямо под ее рукой оказалась Золотая Звезда. Юля шевельнула ее, и четко отграненный золотой слиточек тяжело закачался на золотом кольце. – Что ты чувствовал, когда тебе вручали эту Звезду? – спросила Юля. – О чем думал? – Что чувствовал – уже плохо помню, – отпивая чай, сказал Чиж. – А что думал – помню хорошо. Я думал – вот бы порадовался за меня Филимон Качев! И очень жалел… Да, именно жалел, что в ту минуту его не было уже в живых. Мне нужна была его оценка, его похвала, его радость. – А все остальные, они разве не поздравили тебя? – Поздравлений было много, но как бы тебе сказать… Вот когда ты надеваешь новое платье… В первую очередь хочешь показаться в нем перед теми, кто тебе дорог. А что о нем говорят прохожие на улице, тебе безразлично. Так или нет? – Ну, ты сравнил… – Может быть, я не прав. Но думается мне, что свою радость человек оценивает в основном глазами только тех людей, которых знает, которые знают его. И свое горе тоже. Если бы мы научились свои переживания рассматривать на фоне галактики, они бы показались нам настолько мизерными и недостойными внимания, что мы тут же бы забыли о них. Но мы не научимся этому никогда. – Что же человеку надо для счастья? – Надо, чтобы о нем хорошо думали, отмечали его достоинства, а это зависит от того, в какой степени он нужен людям. Чем полнее эта степень, тем человек счастливее. – Ты берешь общественную сторону, – не успокаивалась Юля. – А личная? Чиж улыбнулся: – И личная. Если ты знаешь, что он тебя любит, что ты ему необходимее всего на свете, значит, ты счастлива. Но какой бы огромной любовь ни была, она все равно не дает человеку полного счастья. Мало ему этого. Ты знаешь, от какого корня происходит слово счастье? – А ты знаешь? – Знаю. Когда люди жили еще племенами и вместе ходили на мамонта, каждый из них после охоты получал свою со-часть. Чем больше коллективная добыча, тем больше личное сочастье. Улавливаешь связь? И еще. В общинах делили справедливо. Большую со-часть получал тот, кто больше других рисковал, ловчее действовал, больше брал на себя груза. Большее со-частье принималось как награда. Человек очень радовался, ибо знал, что он нужен соплеменникам. Они ценят его. А если мамонта не удалось убить, все остаются без счастья. Так что личное от общественного неотделимо, дочка. Он проснулся от монотонного шелеста дождя. Прислушался и понял: такой дождь не кончается сразу: если зарядил, то надолго. Часы показывали половину пятого, но спать уже не хотелось. Чиж включил настольную лампу, взял с полочки купленную на днях небольшую книжицу о великом зодчем Петербурга Бартоломео Растрелли, раскрыл ее. Судьба архитектора, его характер, логика творческого поиска – все это увлекло Чижа, и он потерял контроль над временем. Вдруг пришла радостная мысль – сколько теперь он сможет прочесть подобных книг! Чем ближе подбирался Чиж к финалу книги, тем острее воспринимал финал творческой биографии величайшего строителя города на Неве. Чиж видел дворцы Растрелли. И в Пушкине – Екатерининский, и у Невы – Зимний, и на Мойке – Строгановский. А еще незабываемый Смольный собор, окруженный монастырскими палатами. Ему бы при жизни за эти творения памятник поставить, чтить до последних дней, но неблагодарная императрица подмахнула гениальному зодчему отставку. За годы, которые Растрелли потерял в поисках заказов, он мог бы построить еще более прекрасные дворцы, потому что находился на вершине творческого взлета. Но судьба была немилостива к гению. Оставив российской столице неповторимые шедевры, он умер, изгнанный из нее, в бедности и одиночестве. Грустная повесть о жизни и смерти великого архитектора разбередила душу Чижа. «Тебя никто не гнал в отставку, – сказал себе Чиж, – и не надо искать виноватых». Он встал, убрал постель, сделал привычный комплекс гимнастических упражнений, принял душ. Чтобы не разбудить Юлю шумом электробритвы, настроил станочек безопаски и с удовольствием побрился лезвием. Включил утюг, прогладил брюки, китель, начистил ботинки, выпил из термоса, который Юля заправляет каждый вечер, горячего чая, зашел в комнату к дочери. Она спала, засунув под щеку сложенные вместе ладони и смешно, как в детстве, оттопырив губы. От прилива нежности Чиж улыбнулся и подумал, что он, действительно, счастливый человек. Он познал все доступные человеку чувства. Пережил горечь поражений, боль утрат, обиду за безвременно погибших друзей; вкусил радость победы, гордость славы, нежность женской любви. Он воспитал целую плеяду учеников, посадил сотни деревьев, вырастил дочь. Уже, можно сказать, миссия его на земле выполнена. Конечно, после пятидесяти мы все становимся сентиментальнее, острее воспринимаем потери и отчетливее понимаем мизерность отсчитанного нам природой времени. Но если постоянно думать об этом, оставшиеся дни могут стать не праздником, а сплошным кошмаром. Ничего не потеряно. Просто завершен очередной этап. Было детство, была школа, война. Потом этап освоения реактивных самолетов, этап руководства полетами. Теперь можно отдохнуть, подлечиться, попутешествовать – тоже прекрасный этап. А там бог даст внуков, и глядишь – ты снова очень нужный на земле человек. Чиж прикрыл одеялом плечо дочери и тихонько притворил за собой дверь. У выхода из подъезда накинул на плечи плащ-накидку. Эпицентр циклона находился, видимо, где-то рядом: дождь был густой и холодный, накатывал волнами, шумно обдавая водой листву тополей. Одинокие прохожие кутались в плащи, прятались под зонтами. Машины шли с зажженными подфарниками. Увидев зеленый глазок такси, Чиж поднял руку, и машина прижалась к тротуару. – Здравия желаю, товарищ полковник, – сказал водитель. – Вы меня не помните? Чиж внимательно посмотрел на заросшего кудрявыми волосами парня и не признал в нем знакомого. – Служил я у вас, на топливозаправщике, – напомнил водитель. – Извини, браток, – сказал Чиж, – запамятовал. А про себя подумал: «Раньше помнил всех в лицо». Дежурный по части ввел Чижа в курс новостей. Волков уже распорядился: свободные техники и механики уезжают в район эвакуации упавшего самолета, летчики будут заниматься в классе летно-тактической подготовкой. Чиж зашел в столовую. Официантки накрывали столы, готовились к встрече летчиков. Обычно Чиж питался вместе с техническим составом в соседнем зале. Сколько Волков и Новиков его ни уговаривали столоваться вместе с ними, Чиж категорически отказывался. «Это зал для летного состава, – говорил он. – А я в наземной службе». Сегодня он без угрызений совести сел на командирское место. Хотел подсчитать, сколько лет он просидел в этом кресле, но сбился со счета и позвал одну из девушек. – Луиза! Чем будешь угощать? – Павел Иванович, – перед ним предстала круглолицая, с тугими, как у куклы, щеками девица и сощурила в улыбке и без того глубоко спрятанные глаза, – вас мы накормим, чем только прикажете. – Судак-фри! – Чего нет того нет, – развела руками Луиза, обнажив ровный ряд белых зубов. – Тогда неси что есть. Лет пять назад, когда Чиж еще командовал полком, она попросилась к нему на прием и без предисловия заявила: хочу работать в летчицкой столовой официанткой. Присела на краешек стула, улыбнулась и сказала, что работа ее очень устраивает. Ходить через день, и питание здесь хорошее. Рассказала, что отец ее был рыбаком, что долго болел и умер, а мать вышла замуж и уехала куда-то, оставив дома младшего брата; мальчик он хороший, но не может ходить, и с ним надо заниматься, он уже третий класс проходит… – У вас здесь много холостяков. Они хорошие ребята. Может, я кому-нибудь понравлюсь, – выложила она свой главный аргумент. И Чиж не устоял, распорядился взять ее временно на должность судомойки. Когда появилась вакансия, Луизу перевели в официантки. Встречались с нею многие, но замуж так и не вышла. То ли отпугивал женихов больной братишка, то ли что-то еще мешало. Чиж ее давно не видел, и ему показалось, что девушка еще больше похорошела и расцвела. Когда она принесла поднос, уставленный закусками, он попросил ее присесть. – Может, позавтракаешь со мной? – Спасибо, Павел Иванович, нам здесь запрещено. Да и завтракала я. – Как братишка? – Восьмой класс заканчиваем. – Извини за неприятный вопрос – замуж так и не вышла? – Ничего, Павел Иванович. Дело житейское. Предлагал мне один братика в специальный детдом передать, а я как погляжу ему в глаза, сердце кровью обольется и не могу. Хороший, такой ласковый и способный мальчик. В столовую с шумом и хохотом ввалились летчики, стряхивали с фуражек капли дождя, шли мыть руки. – Не беспокойтесь за меня, – улыбнулась Луиза, – я не горюю. Побегу, надо кормить эту братию. – Спасибо, Луиза. Летчики почтительно кивали Чижу, рассаживаясь по своим местам. Звенели стаканы, вилки, ложки, скрипели стулья, кто-то ругал соседа за подсыпанный в яичницу сахар. Из столовой Чиж зашел в канцелярию первой эскадрильи, сел за стол и написал рапорт. Лаконично и четко, как положено по уставу. Сложил втрое по продольной линии листа и, не перегибая, засунул во внутренний карман кителя. После его увольнения руководителем полетов будет командир первой эскадрильи майор Пименов. Человек стал в последнее время тяготиться полетами, просил перевести его на штабную работу. Такое тоже бывает в авиации. Взяв другой листок, Чиж решил набросать тезисы необходимых советов начинающему руководителю. Инструкция инструкцией, а особенности есть в любом деле. Строчки плотно ложились одна к другой, и вместо тезисов Чиж написал целое исследование в области руководства полетами. В класс летно-тактической подготовки он пришел в разгар спора летчиков о тактике воздушного боя. – Модель воздушного боя, конечно, можно строить и на научном анализе, – горячился Руслан Горелов, – если знать самолет противника не по бумажкам, а по результатам конкретного боя. – В бою один и тот же самолет может быть в разных руках, – вставил Муравко. – Я уже в этом убедился. – В войну были разные самолеты, – сказал Новиков, – а сколько выдумки, смекалки, творчества проявляли наши летчики для достижения победы… Была даже формула боя трижды Героя Советского Союза Покрышкина: высота – скорость – огонь. – Высота тогда для летчиков считалась особенно ценной, – вставил Чиж, – потому что ее в любое время можно было превратить в скорость: сравнительно небольшая потеря высоты давала ощутимый прирост скорости. – Но эта формула приемлема для дозвуковых скоростей, – не сдавался Руслан. – Сейчас нужна другая тактическая основа. – А она есть, – сказал Чиж. – Скоростной показатель шагнул уже за два звука, и мы получили возможность взаимных превращений – высоты в скорость и скорости в высоту. С хорошего разгончика можно забраться выше, чем позволяет практический потолок. А уж оттуда набрать еще большую скорость. – И как теперь выглядит новая формула? – Скорость – высота – маневр – огонь! – За примерами ходить далеко не надо, – снова заговорил Новиков, – Ефимов и Муравко перехватывали цель на высоте, которая больше предельной для их машин. Они как бы перешагивали рубеж, считавшийся для этого самолета непреодолимым. – Это исключение из правил. – Как сказать, – улыбнулся Чиж, – Ефимов мне показывал анализ графиков и формул такого перехвата. Думаю, что, если каждый из вас разберется в сути этих формул, понятие «привычного» круто изменится в пользу «возможного». Одно вам скажу, ребята: знать назубок тактико-технические данные самолета сегодня мало. Плохо, когда летчик берет от машины лишь половину возможного. Современный бой такого не простит. Учитесь свои знания превращать в наиболее выгодные маневры, в скорость, высоту. В правильные решения при выборе тактики воздушного боя. Вошел Волков. Все встали, Чиж лишь кивнул ему с места. – Уже пять минут как перерыв, – улыбнулся Волков, – можно покурить. Летчики шумно повалили в коридор. – Вытащили твоего коня, – сказал Волков Новикову, – погрузили на трейлер. При беглом обследовании обнаружили клочья резины. Похоже, напоролся ты, Сергей Петрович, на какой-то загадочный шарик… «Сейчас отдать или позже? – подумал Чиж и посмотрел на Волкова. – Надо сейчас. Чтобы все сразу поставить на свои места. Давай, Паша, не малодушничай, летчики в класс возвращаются». Он встал и сразу почувствовал, как чертов осколок остро шевельнулся под лопаткой, обдав немеющей болью кисть левой руки. Чиж переждал боль и подошел к Волкову. – Командир… – Голос все-таки подвел его – заскрипел, перешел на свист. – Прими, пожалуйста, рапорт мой. Он уверенным движением захватил во внутреннем кармане сложенную втрое бумагу и подал ее Волкову. Новиков удивленно вскинул глаза. – Не сердись, Петрович, – сказал Чиж, – не хотел я тебя беспокоить своими сомнениями. С Ваней вот вчера поговорили, он поддержал меня. Входившие в класс летчики затихали и вслушивались в разговор. – Хорошо, Павел Иванович, – Волков сложил рапорт по готовым сгибам и сунул в планшет. – Сегодня же ваше решение будет доложено по команде. Продолжайте занятия, Сергей Петрович. Я в первую зону проскочу, надо посмотреть, как идет эвакуация самолета. – Что обещают синоптики? – Летать сегодня не будем. Завтра. Он задержался в дверях, словно что-то хотел сказать, но тут же упрямо мотнул головой и вышел. Летчики мгновенно обступили Чижа. – Павел Иванович, как же мы без вас? – С вами нам этот Север – семечки. А теперь как же? – Да мы его просто не отпустим и все. – Как это не отпустите? – засмеялся Чиж. – По закону положено. Тридцать пять календарных плюс льготные. Служу больше, чем живу. Непорядок. – Павел Иванович, вы послушайте нашего умного совета. – Ну-ну? – Заберите рапорт назад. Не ошибетесь. Вы не все продумали. – Что вы учите меня жить? – Чиж почувствовал, как боль утихает и настроение поднимается. – Не учите, я уже на пенсии. – Это не ответ… – Диалектику, ребята, не перехитришь. Главное, что вы подросли. Башковитые, здоровые, смелые, как черти. Зачем вам нужен старый Чиж? – Чиж, он и в Африке Чиж, – сказал Руслан, и все засмеялись. Чиж встал, распрямил плечи. Летчики поняли это движение и разошлись по своим местам. Он поднял глаза и сразу встретил взгляд Ефимова. И вдруг прочел в этом взгляде привычные слова: «Медовый» я «полсотни седьмой». Разрешите взлет?» Чиж вздрогнул и почувствовал резь в глазах. На его щеках торопливо забегали тугие желваки. Он поправил фуражку, одернул китель. «Полсотни седьмой», взлет разрешаю», – немедленно сложился ответ. Чиж перевел взгляд на Руслана. И опять ему почудился запрос: «Медовый» я «полсотни шестой», добро бы на взлет?» «Взлетай, салага, – улыбнулся Чиж, и мысленно добавил: – Пора бы поменять тебе морскую терминологию на сухопутную». Руслан тоже улыбнулся: «Вас понял». Взгляд Муравко показался Чижу тревожным. «Высокого тебе неба, сынок», – незаметно кивнул ему Чиж и быстро вышел из класса. Новиков догнал его у выхода на первом этаже. Чиж по шагам почувствовал – бежит Сергей Петрович. – Ошарашили вы меня. Не вовремя! Не знаю, что и сказать… – А что говорить, Петрович? – Чиж взял его под руку. – Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Нельзя мне дальше оставаться здесь. Все. Командир вырос, полк в надежных руках. Мешать я ему буду. Скажи мне лучше, как ты себя чувствуешь? – Здоровый я, Павел Иванович, что со мной станется. У Алины дела похуже. Боюсь, как бы мне и в самом деле не остаться здесь. – Трудно будет Ивану. – Он сам позвонил в политотдел и попросил, чтобы проработали вариант с заменой. – Молодец, Иван. – Он действительно стал другим, Павел Иванович. – А ты говоришь – не вовремя. Это если только о себе думать. А тут полк. – Так ведь что получается, Павел Иванович. Вы – в запас, я – при жене. Волков один поведет полк на Север? – Не переживай, – похлопал Новикова по плечу Чиж, – пока все эти приказы о перемещениях и увольнениях пройдут через инстанции, мы с тобой успеем потрудиться и на Севере. Иди, проводи занятия. А то они там одни будут митинговать до вечера. Иди. Когда Новиков вошел в класс и закрыл дверь, Чиж прислонился к стене, оглянулся по сторонам – в коридоре никого не было. Навалилось ощущение потерянности: никому нигде ты не нужен, никто тебя не ждет, у каждого свои дела, свои заботы, ты – отрезанный ломоть. Все… Он понял, куда ему надо сейчас пойти. К Владимиру Ивановичу Красуле, в класс авиационных тренажеров. Красуля надежный хлопец, он правильно поймет Чижа. В свое время он исповедался перед командиром: летать нельзя, а из полка уйти не могу. Уволили его с должности комэска и посадили заведовать тренажерным хозяйством. Тогда здесь была одна кабина и несколько шкафов, начиненных электроникой. Теперь уже две кабины, приборные щиты, стена шкафов, телеустановка с экранным хозяйством, различные имитаторы, агрегаты питания и еще столько всякой всячины, что впору снимать научно-фантастическое кино. – Полетаем, Павел Иванович? – вопросом встретил Чижа Красуля. – Давненько вы к нам не заглядывали. А мы тут новый аппарат смонтировали. Красавец!.. Перед Чижом стоял почти полный фюзеляж нового самолета. Срез за кабиной был прикрыт свисающим от потолка занавесом, и возникала иллюзия, будто за брезентом стоит весь самолет. – Имитаторы – высший класс. Забываешь, что сидишь в тренажере. – Красуля лихо включал на прогрев многочисленные тумблеры щита управления. По тону голоса, по движениям его рук Чиж безошибочно почувствовал, с какой преданностью Красуля относится к своей работе. А был многообещающим летчиком, командиром эскадрильи. И вдруг – гипертония… Нашел призвание здесь, в тренажерном классе с глухо зашторенными окнами. – Полетаешь в этой ступе, – кивнул он на тренажную кабину, – и душа становится на место. На каком полетите? – На новом, – преодолевая подступившую робость, сказал Чиж. Понимая рассудком, что «полет» в тренажере будет всего лишь ловкой подделкой, справиться с волнением он не мог. – Не боги горшки обжигают. Он повесил на вешалку фуражку и надел плотно охвативший голову шлемофон. – По какой программе полетим? – По самой длинной, – сказал Чиж, – мне спешить некуда. – Перехват на «потолке» с перенацеливанием на малоразмерную цель и бой в районе аэродрома. – Годится. – Чиж привычно залез в кабину, защелкнул замки парашютных ремней, подключился к бортовой рации. Чего-то ему не хватало… – Володя, у тебя перчатки есть? – не мог он голыми руками держать ручку. – Есть, Павел Иванович, – полез в ящик стола Красуля, – не вы первый. Некоторые без защитного шлема не могут. Тоже вон держу. – Дай-ка и шлем, – попросил Чиж. И когда надел его и натянул перчатки, сразу почувствовал себя уверенней. Рука сама нащупала необходимые тумблеры, кнопку рации. – Я «ноль тринадцатый», запуск! – «Ноль тринадцатому» запуск! – отозвался в наушниках Красуля. И Чиж уверенно нажал кнопку запуска. Остро звякнули храповики турбины, и Чиж всем телом почувствовал, как она начала раскручиваться в чреве фюзеляжа, которого не существовало. Но имитаторы настолько правдиво воспроизводили звуки и вибрацию, что Чиж почти сразу попал под их гипнотическое действие и напрочь забыл об условностях. Колпак захлопнут, темнота, лишь ровно фосфоресцируют циферблаты многочисленных приборов. Посмотрев на тахометр, Чиж проверил тормоза, закрылки, рули, включил фару и увидел перед собой тускло высвеченную рулежку со щербатыми шестиугольниками бетона. – Я «ноль тринадцатый», подрулить? – Разрешаю «ноль тринадцатому» подрулить. Чиж прибавил обороты и отпустил тормоза. Самолет качнулся и двинулся к старту, вздрагивая на стыках бетонных плит. Чиж почувствовал, как его заполняет смешанное чувство тревоги и счастливой гордости. Это всегда бывало с ним, когда после месячного отсутствия он возвращался из отпуска в полк. Казалось, что за эти дни что-то забыто, потеряны навыки, но во время провозного контрольного вылета он убеждался в надуманности своих тревог, и тогда оставалось только одно чувство – счастливой гордости. Да, он всегда гордился своей принадлежностью к небу и оттого, что даже в мыслях служил ему самозабвенно, был бесконечно счастлив. Вот и взлетно-посадочная полоса. Ровная, стремительная, упирающаяся прямо в горизонт. После списания Чиж не единожды пытался вспомнить в деталях свой последний вылет, но память будто намеренно не хотела отдавать этой тайны, приберегая ее для какого-то особого случая. А вот сейчас воскресила перед ним весь полет до мельчайших подробностей. Запахи керосинового перегара, авиационных лаков, прохладу осеннего ветра и уют самолетной кабины с ее скупым пространством. Он будто вновь ощутил, как могучая турбина, заглатывая максимально возможные порции горючего, мощно подхватывает на острие тяги многотонный аппарат и, словно играючи, выносит его за несколько секунд на такую высоту, откуда звезды кажутся ближе, чем земля. Да, это был обычный пилотаж в зоне. Боевые развороты, петли, полупетли, бочки, горки и прочие фигуры из пилотажной программы летчика-снайпера, или, как его именуют по традиции, летчика-аса. Это раскованное купание между небом и землей, когда вокруг тебя во всех плоскостях и направлениях вращаются горизонт и звезды, города и тучи, когда наваливается перегрузка и вдавливает тебя с беспощадной силой в сиденье или подвешивает на привязных ремнях, сдерживая и дыхание, и работу сердца; блаженство скорости за звуковым барьером и органической слитности с самолетом, предчувствие скорой встречи с землей – это счастье, Чиж был уверен, ведомо только тем, кого однажды и навсегда окрестило небо. – Я «ноль тринадцатый», разрешите взлет? – «Ноль тринадцатый», взлет разрешаю! – Голос Красули был строг и весел. Он догадывался, что сейчас испытывает Чиж, более двух лет не подымавшийся в небо. – Счастливого полета, «ноль тринадцатый»! Рукоятка сектора газа скользит за максимал, и Чиж явственно представляет, как из черного зева сопла с бешеной скоростью вырывается острый язык спрессованного пламени, сопровождаемый громом извергающегося вулкана. Отпускай тормоза, и после короткого разбега небо примет тебя и понесет над лоскутными коврами полей, застекленными змейками рек, паутиной серых дорог, рассекающих на части зеленую пену лесов. Отпускай… Нахлынувшие чувства переполняли Чижа. Побежавшая на экране взлетно-посадочная полоса словно распрямила стремительным дуновением слежавшиеся за спиной крылья, и они, упруго наполнившись встречным потоком, разорвали притяжение земли. Мышцы плеч напряглись до предела, и проклятый металл сорок пятого года злорадно полоснул по живому. Вся в солнечном свете, с распущенной косой, по гальке черноморского берега бежала заплаканная Ольга. В ее синих от южного неба глазах металась растерянность, губы испуганно дрожали. На покатых шоколадных плечах в непросохших капельках воды искрились лучами частички полуденного солнца, тонкие пальцы напряженно комкали резиновую шапочку. В ее голосе, лице, фигуре, во всех движениях было столько неподдельного горя, что Чижу захотелось упасть на колени, обхватить эти родные ноги и просить самыми ласковыми словами прощения. Он чувствовал себя виноватым перед этой заблудившейся в трех соснах женщиной. Виноватым во всем. В том, что, полюбив ее, не сумел разделить себя между самолетами и ею, в том, что оставил ее наедине с ее чувствами, не помог сделать иного выбора, чем сделала она сама, в том, что обокрал ее как мать, эгоистично захватив всю любовь дочери, в том, что насильно гнал ее из памяти, пестуя мстительное злорадство, гнал тогда, когда до боли хотелось обнять ее, окунуться в синь ее неповторимых глаз, навсегда раствориться в их бездонной, как вселенная, глубине. Чиж молил ее о прощении, словно исповедовался в совершенных грехах, навсегда покидая землю. Осколок металла уже вовсю кромсал сердце, и, как Чиж ни напрягал волю, крылья теряли упругость и не хотели держать его на встречном потоке. Боль обволакивала сознание, стремительно приближая его к черному куполу неба, заполняла каждую клеточку, как заполняет воздух резиновую камеру, и он услышал тонкое многоголосие неслыханных ранее перезвонов… 24 На Фонтанке начали ремонт гранитной облицовки, и острое лязганье вибромолота, загоняющего в дно реки металлические шпунты ограждения, мешало сосредоточиться. Ольга поняла, что ей уже сегодня ничего не удастся поправить в докладе, с которым предстоит выступить в Роттердаме на международной конференции, организованной в соответствии со Всемирной стратегией охраны природы. Доклад был давно готов, но она всегда за день до отъезда перелистывала написанное и всегда вносила в текст какие-то принципиальные поправки. В конце дня оставалось время, чтобы отдельные места начисто перепечатать. Закрыв папку, Ольга отодвинула ее в сторону и поняла, что совсем не вибромолот ей мешает сосредоточиться. Из головы не шел вчерашний звонок Юли. «Намечаются серьезные перемены». И таким спокойным голосом сообщает. Ребенок… Не представляет, насколько эти перемены серьезны. Вчера она долго не могла уснуть. Чтиво не лезло в голову, считалки не помогали. Захотелось вдруг сделать уборку в квартире, и она, не сопротивляясь, подчинилась этому желанию. Включила пылесос, обошла с ним все три комнаты, затем поелозила по паркету электрополотером, влажной тряпкой обмахнула подоконники, дверки шкафов, рамы картин. Было около двух часов ночи, когда Ольга почувствовала усталость и свалилась на тахту. Тепло пушистого пледа уютно обволокло, и она быстро заснула. Проснулась от дружного топота бегущих по набережной курсантов военного училища. Этот топот будил Ольгу ежедневно, и она привыкла к нему, как к будильнику. Попытка поработать над докладом на свежую голову к успеху не привела. И она неожиданно для себя решила: надо съездить к Чижу. Заграничный паспорт у нее в кармане, билет на «Стрелу» взят, чемодан собран. Все дела по институту еще вчера переданы заместителю, пусть руководит. Она сняла трубку и набрала номер домашнего телефона водителя. – Отдых, Мишенька, отменяется, – сказала в трубку, – поедем за город на весь день. Заправь полный бак. На машине Ольга еще не ездила к Чижу. Ей казалось, что ему будет неловко: экое начальство на черной «Волге» заявилось. Сегодня она не могла зависеть от расписания поездов: вдруг понадобится уехать раньше или позже, можно прямо к «Стреле». Нет, она ехала не затем, чтобы помочь Чижу утвердиться в своем решении. Когда об этом тебя не просят, лучше не соваться. Сердце подсказывало: в такой час надо просто быть с ним рядом. И опять подступало прошлое… Когда его перевели в свой полк, она в этот год была назначена директором института, готовилась к защите докторской диссертации. Она была откровенно счастлива и не скрывала своей радости от Чижа. – Как видишь, – смеялась она при встрече, – нет худа без добра. Одиночество заставило меня работать. Иначе бы свихнулась. А когда подбиралась к сердцу накопившаяся тревога, она забывала о науке, институте и с мольбой просила: – Скажи только, что не можешь без меня, и я откажусь от института, от диссертации, заберу Юльку и к тебе… – И что будешь делать? – спрашивал он сухо. – Квартиру убирать, обеды готовить, с Юлькой заниматься, книги читать, в театры ходить, музеи. Чиж смеялся: – Обедать мне положено в части. Юлька сама отлично занимается, музеев у нас нет, театр всего один, библиотека тоже небогатая. Уберешь ты квартиру за тридцать минут. Я – на полетах, Юлька в школе. И ты на третий день скажешь: «Зачем ты меня сюда привез?» – Не скажу, – упрямилась Ольга. – Ну хорошо, – обещал Чиж, – я подумаю. Перед отъездом он сказал: – Если одной рукой командовать полком, а другой ласкать любимую женщину – и то, и другое будешь делать плохо. И Ольгу от этих слов не покоробило. Она почувствовала облегчение, потому что подсознательно ждала его согласия со страхом. Она не представляла, как откажется от института, от защиты. Зачем тогда было огород городить? Зачем училась, зачем страдала от одиночества в самые лучшие годы своей жизни? Институт – это все-таки награда. Компенсация за безвозмездные потери. Гавань, в которой можно укрыться от душевных бурь. Ей тогда еще не было сорока, и жизнь, казалось, только начинается. Исследования лаборатории принесли ей всесоюзную известность. На основе сульфоксидов удалось получить композиции для изготовления устойчивых к коррозии изоляционных покрытий магистральных нефтегазопроводов. Экономический эффект от внедрения новых покрытий составлял внушительные цифры. Ее везде поздравляли. Это была серьезная победа. Занимаясь вопросами безотходной технологии, она вплотную подошла к проблеме многотоннажных отходов. В большинстве случаев их можно превратить в ценные продукты. Но не всегда это просто сделать. Сложно складывалась судьба некоторых фракций пиролиза, являющихся прекрасным сырьем для получения синтетических каучуков, эпоксидных смол, лакокрасочных материалов и других ценных продуктов. Получив в свое распоряжение институт, Ольга поверила в успех, хотя отлично понимала, что такую сложную задачу в два хода не решишь. Зрели головокружительные замыслы, открывались заманчивые перспективы. Отказаться в такой момент от института было подобно катастрофе. И Чиж понял, что Ольга по женской слабости сморозила чепуху. Взяв вину на себя, он помог ей примирить душевные противоречия на годы вперед. Работа заполняла ее до предела. И если бы не тетя Соня, помогавшая по дому, она бы частенько оставляла Юлю голодной и неухоженной. – Я перееду к папе, – сказала ей однажды дочь. И Ольга не нашлась, что ей ответить. В день отъезда хотела безотлучно быть с Юлей, но ее срочно вызвали в министерство, и Юля уехала сама. Перестала приходить и тетя Соня. – Нету мне теперь у тебя работы, – сказала она. – Поговорить не с кем. – А со мной? – С тобой неинтересно. Ты шибко ученая. В доме стало совсем неуютно, и Ольга приходила сюда только переночевать. Ну, да еще поработать. В директорском кабинете почему-то не писалось. Вчерашний Юлькин звонок заставил Ольгу взглянуть на минувшие годы глазами женщины, у которой, оказывается, уже почти все позади. В перспективе – мизерный, четко обозримый кусочек времени. И желание попить из чаши, которую она все эти годы видела только в мечтах, утолить накопившуюся жажду вдруг обострилось до такой степени, что удержать ее от поездки к Чижу уже не могла никакая сила. В дороге, когда «Волга» мягко неслась по асфальтовому коридору сквозь хвойный лес, Ольга, заметив в кустах могучего лося, остро почувствовала необходимость поделиться радостью от увиденного. Но человека, который мог бы понять ее чувство в полной мере, рядом не было. Как не было и в те другие мгновения, когда она одерживала свои нелегкие победы, надеясь увидеть гордость в любимых глазах. Время беспощадно нивелировало эти праздники, нанизывая их в один ряд с буднями. И то, что еще вчера казалось значительным и масштабным, сегодня воспринималось ординарно-естественным. Она просто-напросто разучилась радоваться, разучилась чувствовать себя счастливой. Звонок Юли воскресил надежду. Вдруг показалось, что еще не все потеряно. Они еще сумеют не торопясь, заново перебрать все прожитые в разлуке дни, вместе оценить достигнутое, порадоваться друг другу. Рисовались идиллические картинки семейных вечеров, загородных поездок, совместных походов в театры и музеи. С этими благодушными мыслями Ольга подъехала к дому и вышла из машины. Не успела она взять из багажника чемодан, как из подъезда выбежала Юля. – Кто это, думаю, на черной «Волге» подъезжает? Гляжу – маман. А как же Нидерланды? – А Нидерланды подождут! – Ты прямо реактивная, – улыбнулась Юля. – Молодец. – Отец дома? – Ушел чуть свет. – Не передумал? – спросила и напряглась. А Юля, словно нарочно, сделала паузу, вставляя в замочную скважину ключ. – Отца не знаешь? – сказала она, открывая дверь. – Уж если он решил – это железобетонно. Ты завтракала? – Не помню. Кажется, что-то ела. – Кажется… Все, мамочка. Если папка переведется в Ленинград, придется тебе еще одну диссертацию защитить. На звание домохозяйки. Или хотя бы диплом. Мужчину кормить надо, рубашки ему стирать, табак покупать, пепельницу мыть. Трудно будет. – У тебя поучусь. – Ольга села к письменному столу, пытаясь понять, над чем работает дочь. А Юля обняла ее сзади и грустно сообщила: – Не будет меня, мамуля. – То есть? – не поняла Ольга. – Служба! – объяснила Юля. – Попросим Волкова, и все уладится. – Не уладится. Я сама решила. Улетаю с полком. – Ты думаешь, что говоришь? – Ольга с трудом пыталась не выдать закипающего раздражения. – Помешалась на самолетах. Чижа понять нетрудно, а ты? Опасная мужская служба! Вместе с отцом – другое дело. А теперь? – Я так решила, мама. – Юля, доченька, послушай меня. – Ольга не сомневалась, что отговорит Юлю. – Впереди дипломная работа. Понадобится время, литература, консультации. Все это в Ленинграде будет под рукой. А там? И о будущем подумать надо. Не вековать же тебе с дипломом инженера на вышке хронометристкой. – Хронометражисткой, – поправила Юля. – И ты абсолютно права, мама. Но я не могу не поехать с ними. Ты этого не поймешь. Ольга снисходительно усмехнулась: – Объясни, а вдруг пойму. Юля взяла из вазы яблоко, сосредоточенно вытерла его о рукав защитной рубашки и, прежде чем надкусить, сказала: – Я люблю одного человека. И хочу быть там, где будет он. – Яблоко звонко хрустнуло под ее крепкими зубами. – Кого, Юля? – Поверь на слово: хороший парень. Ольге стало не по себе. Отпуская дочь к отцу, она верила, что теряет ее ненадолго. Поехала девочка на каникулы и скоро возвратится. Теперь Ольга ясно поняла: Юля уходит от нее навсегда. – Такая новость, а я ничего и не знаю, – вздохнула Ольга. Юля вскинула брови, впиваясь зубами в яблоко, посмотрела исподлобья на мать и беззлобно упрекнула: – Кроме своего института, мамочка, ты ничего и не хотела знать. Она резко повернулась, колоколом вспучив юбку, и вышла в кухню. Уже из прихожей сказала: – Я сбегаю в гастроном. Все-таки у нас праздник в доме. Грустный, правда, но праздник… Ольга сидела как оглушенная. Ей никогда не приходило в голову, что она в чем-то виновата перед дочерью. Сколько бессонных ночей было проведено возле ее кроватки, когда к девочке цеплялась то одна, то другая болезнь? Как разрывалась она на части, когда надолго слегла в больницу тетя Соня. Лабораторию в те дни лихорадило, надо было корректировать задание, решать кадровые вопросы, под открытым небом портилось новое оборудование, а помещения, обещанного год назад, по необъяснимым причинам не выделяли. Ольга металась в отчаянье. Укачивая на руках измученного болью ребенка, она страдала от своей беспомощности. Ее душила обида на директора, много наобещавшего и почти ничего не сделавшего для лаборатории, на его развеселого заместителя, сумевшего убаюкать Ольгу своими шуточками и побасенками и за месяц ее отсутствия перессорить весь коллектив, на врачей, которые приходили, выписывали рецепты и уходили, не облегчив детских страданий. Однажды она сломалась и дала телеграмму Чижу – у Юли была тяжелая форма воспаления легких. Он прилетел на другой день, с кем-то переговорил, и девочку взяли в детскую клинику Военно-медицинской академии. Простудные заболевания преследовали Юлю до четвертого класса. Ольге уже тогда предлагали интересные заграничные командировки, каждая из которых могла дать новую информацию, открыть новые горизонты в работе. Большинство этих предложений остались нереализованными. В пятом, шестом, седьмом классах Юле трудно давались точные науки, и Ольга старалась использовать каждую свободную минуту, чтобы позаниматься с ней, ненавязчиво открыть простоту сложных химических формул. Ольга считала, что в воспитании дочери не сделала ни единой педагогической ошибки, и поэтому не понимала, почему Юля не была с нею откровенной. Отцу девочка писала длинные-предлинные письма, а при встречах рассказывала такие сокровенные подробности, к которым и близко не подпускалась мать. – Как тебе удается так расположить ее к себе? – опросила как-то Ольга у Чижа. И он удивился. – Я уверен, что это ты делаешь. Конечно, она многое рассказывала дочери об отце, часто ссылалась на Чижа, ставя его в пример ей, и самое удивительное – он ни разу не подвел Ольгу, ни разу не разочаровал дочь. Желание Юли переехать к отцу вызвало у Ольги смешанное чувство обиды и растерянности. Хотелось воспротивиться. Но подумав, Ольга пришла к выводу, что ее дочь приняла верное решение. Рядом с отцом она быстрее обретет самостоятельность, ответственность за близкого человека, научится хозяйничать, ухаживать за собой. У Ольги наконец появится возможность без оглядки окунуться в работу. Ни у матери, ни у дочери не было причин для взаимных обид и упреков. И все-таки упрек прозвучал. Мягкий, деликатный, но тем более обидный. «Кроме своего института, мамочка, ты ничего не хотела знать». Конечно, были такие дни в ее жизни, когда она забывала не только о Юле, но и о себе. Носилась по инстанциям, пропадала в командировках, сутками не выходила из лаборатории, потом спохватывалась и начинала звонить, каяться, обещать, что это в последний раз. Были случаи, когда Юля приезжала в Ленинград, ночевала в пустой квартире и уезжала, так и не повидавшись с матерью. Все было… Еще в студенческую бытность Ольга уловила в спорах об эмансипации наличие глубинных противоречий, хотя именно в те дни эмансипированная женщина всем казалась образцовой, идеальной женщиной своего времени. Позже, когда в подчинении у Ольги появился большой женский коллектив, слово «эмансипация» начало постепенно менять окраску с бодро-голубой на уныло-серую. Она стала убеждаться, что среди эмансипированных женщин встречаются неустойчивые, противоречивые типы. Сильной женщине для удачного брака лучше всего подходил мужчина, способный уступать, во всем соглашаться, не стремящийся к самостоятельным решениям. Именно за таких старались выходить ее сотрудницы, претендующие называться личностью. Но вскоре они жаловались, что мужья у них неинтересные, занудливые, жить с ними скучно и тяжело. И Ольга понимала их как женщина. Ей всегда хотелось быть слабой рядом с Чижом, хотелось его покровительства, совета, даже если она не признавалась ему в этом. Она знала, как эти «идеальные женщины» терзали мужей необоснованными упреками, пеняли им за их никчемность, слабость, которую сами же провоцировали своим характером, поведением. И те, бедняги, как огня начинали бояться своих волевых, сильных женщин, пугаться их гнева, недовольства, еще сильнее тем самым раздражая своих жен. Подобные союзы, как правило, завершались одним финалом: семья распадалась. Некоторые сотрудницы института так и не смогли обрести семейного счастья. Загрубели, свыклись. Те, у которых остались дети, – посчастливее. Некоторые попытались найти гармонию в союзе с мужчинами иного типа: сильными, волевыми, твердыми в своих привычках и решениях. Но гармония, увы, не достигалась. Начиналось острое соперничество, за власть, за авторитет в семье. Как ни обманывала себя Ольга, но в конце концов была вынуждена сознаться, что и сама стала рафинированной «эмансипэ». Ее тяготил быт, и она втайне радовалась, что лишена необходимости ежедневно ухаживать за мужем. Лелеять в себе такую готовность при постоянном его отсутствии куда как легко. Но стоило им побыть хотя бы месяц отпуска вместе, и она, стыдясь признаваться даже себе, облегченно вздыхала, когда Чиж уезжал. Противоречивое чувство жило у нее где-то на самом донышке души и по отношению к Юле. Девочка нуждалась во внимании, заботе, отрывала Ольгу от любимого дела, без которого она не представляла своей жизни. И только благодаря прирожденно-острому чувству материнства она сумела разделить себя между дочерью и работой. Однажды у нее появилась возможность обзавестись вторым ребенком. Ольга строго сказала себе: «Никогда!» – и сохранила это решение в тайне и от Юли, и от Чижа. Упрек дочери, скорее всего, необоснован. Но девочка выросла с более развитым женским началом, чем мать, и чутьем угадала вину Ольги. Эмансипированная женщина не обладает, как правило, способностью вставать на позицию другого человека. Она слишком озабочена собственными проблемами и трудностями. И хотя Юля не лишена заботы и внимания, детское сердце не обманулось, оно разгадало, что в материнской любви преобладает рациональное начало. Подлинную искренность оно нашло в любви отцовской. И откликнулось на эту любовь. Может, и хорошо, что объективные причины мешали им все эти годы собраться под одной крышей. Еще неизвестно, насколько бы у каждого из них хватило нравственных сил, чтобы ежедневно, ежеминутно трудиться душой, создавая в семье атмосферу взаимопонимания и теплоты? Ольга вдруг почувствовала, как в лицо ей ударила горячая волна. А что, если объективные причины совсем здесь ни при чем? Что, если Чиж сразу понял, что никакая она ему не жена и тем более не боевая подруга? Что любит она не его, не работу свою, а себя рядом с ним, себя в работе своей? И, трогательно оберегая свое чувство, глубоко скрывал это кошмарное открытие, терзая сердце невысказанной болью? Она же, зашоренная собственными проблемами, не услышала и не почувствовала его боли даже тогда, когда сердце любимого человека начало давать перебои. Не упрекая ее ни в чем, он застенчиво улыбался, когда ему наверняка следовало рычать от гнева и обиды. Так что Юлины слова – это еще не обвинение, это ласковый шлепок нашалившему ребенку. Ольга заслуживала иной оценки. 25 В гастрономе было безлюдно, и Юля очень быстро заполнила сумку покупками. Сегодня к вечеру в их квартиру набьется народу под завязку. Друзья не оставят Чижа наедине со своими горькими мыслями. Будут пить вино, распевать песни, плясать, будут спорить до хрипоты и тайно вздыхать, пряча сочувствие. Вино пришлось брать в отдельную сумку, и Юля испугалась, что такой груз не сможет донести до дома. – Никак свадьба готовится? – услышала она у выхода знакомый голос и почувствовала, что кто-то забирает у нее из рук обе сумки. – Спасибо, Олег Викентьевич, – обрадовалась она, – вы словно ангел-хранитель. У папы сегодня торжественный день, придут гости. Надо быть во всеоружии. – Кто на «Волге» приехал, командующий? – В юбке! – засмеялась Юля. – Мать прикатила. – День рождения? – Почти. Рождается еще один пенсионер… Папа подал рапорт об увольнении. Булатов посмотрел на небо. Дождь перестал, и облака устало сбавили скорость. Еще недавно цеплявшиеся тяжелыми серыми космами за крыши домов, они, облегченно поднялись и посветлели, как светлеет отжатая и подсушенная ткань. – Где он, дома? – На аэродроме. – Я вам дам совет, Юля, на первый взгляд странный. Но вы не пренебрегайте им. Обещаете? – Если в моих силах. – Немедленно поезжайте на аэродром, найдите отца и ни на шаг от него не отходите. Вы меня поняли? – Да. – Что же вы медлите? – А сумки? – Я сам занесу. – Он поставил авоську на землю, достал из кармана металлический патрончик и протянул Юле. – На всякий случай. Это нитроглицерин. Тревога врача передалась Юле мгновенно. Она зажала в кулаке лекарство и, забыв о Булатове, о покупках, метнулась к стоянке такси. Слава богу, время было не пиковое и у тротуара под шашечной вывеской стояло несколько машин. Булатов, конечно, прав, и Юля удивилась не его проницательности, а своей беспечности. Как она сама не почувствовала, что в такой день должна быть рядом с отцом? Он-то всегда безошибочно угадывал ее душевные прихоти, чувствовал их за тысячи километров. Юля только теперь поняла, как непросто командиру авиационного полка отлучаться из части хотя бы на день. А Чиж прилетел с далекого Севера специально для того, чтобы отвести Юлю «первый раз в первый класс». С какой гордостью шагала она рядом с ним, крепко держась за руку. Соображала, что на нее многие подружки смотрят с завистью, ревниво оценивала других отцов и, не обнаружив больше ни у кого Золотой Звезды на груди, пренебрежительно задирала нос. После уроков отец ее встретил, и они поехали в ЦПКиО на Кировские острова. По дороге Чиж рассказывал Юле о родителях мальчиков и девочек, с которыми она сегодня впервые села за парту. И выходило, что не только у нее отец Герой, но и у всех учеников тоже героические папы и мамы. Один бороздит океаны, сутками не смыкая глаз, другой – самый главный печатник в типографии, где рождаются удивительные детские книжки, бабушка большеглазой худенькой Тани во время войны спасла сто пятьдесят раненых бойцов, а мама хмурого Ванюши работает на «Красном треугольнике», выполняет каждый год два плана, она депутат Верховного Совета. – А еще обрати внимание, – говорил Чиж, – на девочку с голубым бантом. У нее папа – народный артист республики, снимается в кино. Его во всем мире знают, но дочь ведет себя очень скромно. Умная девочка, понимает, что это заслуги ее отца, а не ее личные. Юля сообразила, к чему ей отец рассказал все это. – Вокруг нас, дружок мой, живут удивительные люди. И чем больше мы будем знать о них, тем жизнь наша будет красивее, тем сами будем лучше. Помолчав, он взял Юлино лицо в обе ладони и посмотрел ей в глаза: – Мой фронтовой товарищ Филимон Качев говорил: «Хочешь быть богатым – живи для других. Человек, живущий только для себя, сам себя обкрадывает». Запомни это. Она запомнила. В седьмом классе Юля стала победителем на районном конкурсе юных знатоков Ленинграда. Это было трудное восхождение. Отцу она написала, что победу завоевала благодаря ему и главный экзамен у нее впереди. «С нетерпением жду встречи». И Чиж почувствовал, сколь велико ее нетерпение. Прибыв через несколько дней в Ленинград на служебное совещание, он попросил у командующего разрешения побыть два дня с дочерью. Разговаривал Чиж с командующим по телефону из дома, и Юля видела, как ему трудно было произносить слова просьбы. Когда разговор закончился, отец облегченно вздохнул, вытер платком взмокший лоб и устало плюхнулся на диван. Словно после очень тяжелого полета. Был сентябрь. С неба высевалась водяная пыль. Уныло гасли краски осени. Улицы Ленинграда, несмотря на воскресный день, были по-будничному скучны. Редкие пешеходы кутались в плащи и почти не высовывались из-под зонтов. Город казался монотонно серым. Но Юля видела его солнечным, музыкальным, торжественным. Таким преподносила и отцу. Они обедали в недавно открытом экзотическом ресторанчике «Кронверк», устроенном на старом паруснике. Сквозь круглые иллюминаторы был виден тусклый блеск Петропавловского шпиля, крутые, поросшие цепким кустарником стены крепости, простор Невы. Юля устала, у нее охрип голос, но она еще не выговорилась. – Отдохни, – попросил Чиж. – Я должен переварить хоть частичку рассказанного. – Помолчав, он искренне признался: – Не ожидал. Честное слово, не ожидал. Удивила! Заново влюбился в Ленинград. Он щелкнул Юлю по носу и весело похвалил: – Молодец! Этот щелчок был для нее высшей наградой. Признанием! В день этой встречи с отцом Юля как бы повзрослела на несколько лет. Она почувствовала свою значимость, ощутила миг самоутверждения. И лишь много лет спустя разобралась, насколько проницателен был отец, когда перед отъездом сказал ей: – Знать свой город – мало. Ты должна понять его. Вначале она эти слова пропустила мимо ушей. Чуть позже вспомнила. Потом попробовала раскопать смысл. Стала задумываться над словами отца все чаще и чаще и наконец пришла к выводу, что не доросла до этого смысла. «Если сама пришла к такому выводу, – писал в ответ на Юлино признание Чиж, – значит взрослеешь». И этих слов Юля не поняла до конца. Только почувствовала, что у нее начисто пропала охота выставляться со своими вызубренными знаниями. Стало неудобно слушать похвалы в свой адрес, думать о себе с удовлетворением и гордиться собой. Чувство превосходства перед другими учениками растаяло, как иней на стекле. – Вот и приехали на ваш аэродром, – сказал таксист, притормаживая у железных ворот. Юля расплатилась, вышла из машины и вдруг подумала, что ей следовало одеться иначе. Отцу будет неприятно, что его дочь появится на аэродроме в форменной рубашке без погон и в цветастой юбке. – А, ладно, – сказала она вслух и придумала оправдательную фразу. «Женщины, они и в Африке женщины». На КПП стоял знакомый сержант. Он только удивленно поджал губу и приложил руку под козырек. На траве еще блестели капельки недавнего дождя, а дорожка, покрытая асфальтом, начала уже светлеть, от нее подымался едва заметный парок. Из летного домика с пестрым шумом выходили на перекур летчики. Юлю заметили. От толпы отделилась знакомая фигура. – Юля, какими судьбами? В нелетную погоду? – шутливо-добродушно развел руки Муравко. – Я, между прочим, твердо решил выступить перед твоими студентками. – Вот как? – улыбнулась Юля. – А что? Вдруг какой-нибудь понравлюсь? – Уже, Коля. – Что уже? – А где Чиж? – сменила Юля шутливую тему. И Муравко сразу посерьезнел. – Он рапорт подал, ты знаешь? – Знаю, – сказала она. – Вот такие дела, Юля. – А как ваши космические перспективы? – По-моему, эта тема давно снята с повестки дня. – Он резко сломал в кулаке спичечный коробок. – Как она далека от гармонии, наша распрекрасная жизнь. – Вы жалеете? – Я о другом, Юля. – Он тут же сменил тон: – Хочешь с нами на занятия? – От своих занятий не знаю куда сбежать, – засмеялась Юля. – Вчера курсовую начала, а сегодня пришлось отложить – мать приехала. К летному домику по рулежной полосе неслась на бешеной скорости санитарная машина. Все, кто был в курилке, кто стоял на крыльце, сидел на скамеечке, все, как по команде, вопросительно повернулись к тревожно мчащейся машине: какая беда ее гонит на такой скорости? Юля почувствовала, как безотчетная тревога начала заползать ей в душу. Не спуская глаз с машины, она уцепилась за руку Муравко и крепко ее сжала. Ее начинала бить дрожь. – Это отец, – тихо сказала она. – Ты что? – успокоительно похлопал ее по руке Муравко. – Перестань. Машина свернула с бетонки и прямо по зеленому полю подкатила к подъезду летного домика. Офицеры расступились, пропустили врача с чемоданчиком и двоих солдат с носилками, удивленно зароптали. Никто ничего не понимал. – Это отец, – повторила Юля и рванулась в распахнутую дверь. А про себя подумала: «Опоздала…» Скоротать ожидание Ольга решила за докладом. Она давно приметила: когда хочется поторопить время, надо брать в руки дело, на которое однажды не хватило времени. Эффективность, как правило, наивысшая. Она достала папку и хотела расположиться за кухонным столиком. Не успела развязать тесемки, как в прихожей мелодично ударил звонок. Ольга ждала Юлю и удивилась, увидев перед дверью высокого молодого человека с сумкой и авоськой в руках. – Это Юля просила передать, – сказал он. – Разрешите, я внесу на кухню. Тут тяжесть ого!.. – Да, да, – растерялась она. – А сама где? Он поставил и сумку и авоську на широкую лавку у столика и только тогда ответил: – К отцу побежала. Вы Ольга Алексеевна? – Да. – Булатов Олег Викентьевич. – Он наклонил голову. – Я врач. Павел Иванович – мой пациент. – Доктор, как он? – Ольга сразу вспомнила рассказы и Юли, и Чижа об этом талантливом парне. – Скажите… – Скажу. В обязательном порядке скажу. – Он сосредоточенно помолчал. – Если в эти дни Павел Иванович не сляжет, все будет нормально. Ему нужно помочь поверить. Понимаете, он не знает другой жизни. Ему кажется, что без авиации жить незачем. Его надо отвлечь, не оставлять одного. Хотя бы в первые дни. Месяц-другой, произойдет стабилизация, начнется формирование нового стереотипа. В общем, трудно ему сейчас, Ольга Алексеевна. И хорошо, что вы приехали. – Приехала, – горько хмыкнула Ольга и решительно пообещала: – Хорошо, доктор. Меры примем. Приходите к нам на обед или на ужин, когда сможете. – Спасибо, постараюсь. «Доклад отправлю в институт с Мишей, – решила Ольга, оставшись наедине, – а там кто-нибудь из членов делегации озвучит». Она понимала, что такой беспричинный отказ от загранкомандировки вызовет недоумение у руководства, может быть даже ее упрекнут, но она так долго была исполнительной и безотказной, что может позволить себе поступить один раз, как ей хочется, а не так, как надо. Можно бы сослаться на здоровье, еще на что-то, но она села к столу и написала заместителю, что выехать не может по семейным обстоятельствам. Слишком все привыкли, что у нее давно нет никаких семейных обстоятельств. Теперь пусть знают – они есть. И настолько серьезные, что она даже от загранкомандировки отказывается. Положив письмо в папку с докладом, Ольга позвала из окна водителя и, когда он поднялся, вручила пакет. – В Ленинград, Миша. Вручишь пакет заму или ученому секретарю. Здесь доклад. Я не поеду. Мне надо остаться. – И за границу не поедете? – Не поеду. Миша удивленно вскинул брови. – Тогда я поехал. Ольга разобрала содержимое Юлиной сумки, надела фартук, закатала рукава. Ничего, не такая она белоручка, как Юле кажется. Сейчас вот стол соорудит – все ахнут. В ее чемодане было несколько баночек красной и черной икры, сырокопченая колбаса, крабы – на всякий случай брала, вот и сгодится. Как никогда кстати. Крабы на салат пойдут, колбаску сразу порежет. А пока пусть варится картошка, свекла, морковь. И яйца надо отварить. И вино в холодильник. Минеральную тоже. Придут – а в доме праздник. «Ну, Ольга Алексеевна!..» – удивленно раскинет руки Чиж. «Ну, мамуля», – поддакнет Юля. А Ольга ответит: «Хозяйка, она и в Африке хозяйка». Телефонный звонок оторвал ее от приятных мыслей. Она вытерла о фартук руки и взяла трубку. – Я слушаю. – Мама… – Юля захлебывалась от рыданий. – Отец… 26 Сложенная осьмушкой газета с некрологом и фотографией Чижа уже несколько дней лежала на столе у командующего. Ему все время хотелось исправить слово «скончался» на слово «погиб» – текст некролога писался без него, Александр Васильевич был в командировке. Когда по возвращении сообщили – не мог поверить. Не верит и сейчас. Кажется, сними трубку, попроси СКП – и, как всегда, прогудит: «Слушаю, Чиж…» Вспомнилось, как они вместе выходили из Кремля, косясь друг другу на грудь. Золотые Звезды еще хранили тепло добрых рук Михаила Ивановича Калинина и вообще были такими новенькими и сверкающими на темно-зеленом сукне гимнастерки, что к ним было страшно прикоснуться. В день возвращения на фронт они оба получили задание прикрыть своими эскадрильями полк тяжелых бомбардировщиков, несущих свой смертоносный груз на Берлин. Это был один из последних бомбовых ударов перед победным штурмом фашистского логова. Все уже отчетливо чувствовали – война на исходе. И как было обидно Александру Васильевичу, когда он увидел, что его истребитель уже на выходе из боя попал в ловушку, в смертельные клещи четырех «мессеров». Это был их коронный тактический прием в конце войны – охота группой за одиночными самолетами, и они не торопились, были уверены, что минуты оторвавшегося в пылу боя от своих истребителя уже сочтены. Они хотели расстрелять его наверняка. Лихорадочно соображая, что предпринять, Александр Васильевич не заметил, как к нему на выручку пришла эскадрилья Чижа. Не заметили ее и фашистские летчики. Стремительные ЯКи свалились на них со стороны солнца, ударили неожиданно и неотвратимо. Из четырех «мессеров» ушел только один. После боя Александр Васильевич связался с Чижом по телефону, от души поблагодарил и обещал передать из припрятанного к Победе «НЗ» ящик трофейного рома. Но дальнейшие события так закрутили обоих, что встретились они только через несколько лет после войны. Александр Васильевич еще раз взглянул на снимок в газете и ощутил в себе тревожный толчок вины. Но в чем он виноват? И жестко сказал себе: есть вина. Фронтовики, почти однополчане, почти одногодки. А как жили после войны? Каждый сам по себе. Ведь могли быть друзьями. Отсутствие близкого человека рядом с собой Александр Васильевич особенно остро чувствовал в последние годы. Его тянуло к Чижу, но генеральский чин, должность незримо стояли между ними, сдерживали искренность, как будто при их встречах всегда присутствовал кто-то посторонний. Перебирая в памяти те нечастые встречи с Чижом, Александр Васильевич смотрел на себя со стороны и не жалел сарказма в свой адрес. Ведь только вел себя запанибрата, а внутри никогда, ни на секунду не забывал, что перед ним подчиненный. Снисходительно улыбался, помня о своем чине и власти, похлопывал по плечу. Да, ничто так справедливо не расставляет людей по своим местам, как небо. Но Чиж был исключением из этого правила. Поменяй их жизнь местами, Пашка уповал бы не на эту формулировочку. Он бы не позволил фронтовому другу, Герою, закончить службу руководителем полетов. Разве нельзя было найти ему должность, соответствующую его таланту в полной мере? А сколько было возможностей взять Чижа к себе заместителем? Только немножко настойчивости следовало проявить, доказать начальству, да и Чижу тоже. Все шуточками отделывались: «Пойдешь ко мне замом, Паша?» – «Э, нет, Александр Васильевич, в замах я засохну как летчик. А Чиж, он и в Африке Чиж, ему небо нужно…» – «Ну, смотри». И семейную жизнь можно было поправить. Не спрашивая согласия, назначить в штаб ВВС округа, и все пошло бы по-человечески. И летал бы, и жил как все люди. Тоска по семье, может, и жизнь ему укоротила. А то, что Чиж тосковал, Александр Васильевич знал. Видел, какие он длинные письма домой строчил, фотографию Ольги в планшете носил постоянно, при одном упоминании ее имени вздыхал неожиданно и тягуче. – Прости, Паша, – сказал он вслух, спрятал газету и уже хотел уходить, но вспомнил, что в приемной сидит Волков, встал и распахнул дверь. – Иван Дмитриевич, заходи. Предложил Волкову сесть и плотно прикрыл дверь. – Что надумал, командир? – Срок для размышлений у Волкова истек, и командующий хотел знать его решение. Впрочем, он не сомневался, что Волков согласится. – Я считаю, надо соглашаться, Иван Дмитриевич. Расти тебе надо. Волков встал. – Я вас очень прошу, товарищ командующий, оставить меня командиром полка. – Вот как? – Александр Васильевич искренне удивился. – Я понимаю, это решение не очень убедительно выглядит… – Волков опустил глаза. – Не могу я сейчас передать его полк в другие руки, товарищ командующий. Не прощу себе этого. Да и он не простил бы. Подготовлю замену – тогда в любое место, на любую должность. Командующий внимательно посмотрел на Волкова – искренен… «Такое решение делает ему честь. Чиж не зря верил в него». И еще подумалось командующему, что, если человек живет ясно, открыто и щедро, его жизнь не обрывается с его смертью. Она продолжается в людях, которым он отдал частичку своей души, в делах, которые начал, и детях… Банальные истины, неоднократно повторенные, но вот, поди ж ты, обнаженно дошли до сознания только теперь. – Хорошо, Иван Дмитриевич. На том и порешим. – Вспомнил про Новикова. – Не приглядел нового замполита? – Пока нет. Впрочем, мне все равно. – Что так? – Все равно Новикова сейчас никто не заменит.! Время нужно, пока притремся. Александр Васильевич и с этим согласился. Менять замполита – операция болезненная. Но придется. Начальник политотдела считает, что Новикову лучше остаться, иначе потеряет жену. Краски наверняка сгущены, но, если опасность существует, рисковать нет надобности. Пусть остается. Здесь тоже опытный политработник нужен. – Ну ладно, Иван Дмитриевич. – Вступительную часть можно было закруглять. – Докладывайте, что сделано, что надо сделать. Времени осталось в обрез – через три-четыре дня вылетаем. Полк поведем вместе. Так что давайте о каждом летчике, и поподробней. Волков открыл портфель, достал папку с документацией, развернул сводную ведомость. В пестроте цифр, которые Александр Васильевич сразу охватил взглядом, проглядывало нечто успокаивающее. За минувший месяц главное было сделано. С каждым вылетом летчики все уверенней действовали на новом самолете, запланированный минимум налета в простых и сложных метеоусловиях был фактически перекрыт. – Хотелось бы, товарищ командующий, решить некоторые кадровые вопросы… Ефимов томился в ожидании возле командирского автомобиля. Сегодня утром его неожиданно вызвали в штаб. В разговоре с дежурным он узнал, что командир едет в Ленинград и хочет его взять с собой. Когда Волков появился у выхода, Ефимов доложил о прибытии. Командир лишь кивнул – дескать, хорошо, что прибыл, – и жестом пригласил в машину. Ефимов не стал ни о чем спрашивать Волкова. Надо – сам скажет. Он просто обрадовался, что будет где-то поблизости от Нины. Вдруг удастся увидеть ее. С того дня, когда весь полк напряженно ждал, чем увенчаются поиски Новикова, он ничего не знал о Нине. Несколько раз порывался позвонить, но все время удерживал себя, боялся причинить ей лишнюю боль. Потом свалилась на полк новая беда. Ефимов только в день похорон понял, как он любил Павла Ивановича. И поразился своей близорукости: летал на одном самолете, служил в одном полку, жил в одном городе, дышал одним воздухом и не понимал, как ему в жизни повезло. Не понимал, впрочем как и другие, что рядом с ними живет Человек с большой буквы, что надо беречь его, дорожить каждой минутой, проведенной рядом с ним. Горе было столь велико, что он сутками не вспоминал о Нине. А потом память спохватывалась и брала реванш – мысли врывались в голову напористо и стремительно, причиняли острую боль. Он спрашивал и спрашивал себя, почему у него все так неудачно сложилось в личной жизни, и ответа не находил. Видно, судьбе хотелось до конца испытать его любовь, до конца испытать терпение. Что ж, пусть испытывает. Он все равно счастлив. Нина у него была, есть и будет. Не вместе? Ну и что? Все равно она принадлежит ему так же, как и он ей. Просто обстоятельства ее вынуждают быть в другом доме, рядом с другим человеком. Но рядом – это еще не вместе. Он так и матери ее сказал. Евдокия Андреевна заметно постарела за минувшие десять лет, и, когда она вошла к нему в квартиру, Ефимов не узнал ее. Женщина волновалась и долго не могла собраться с мыслями. Больше всего ее мучило неопределенное положение зятя. Следствие затягивалось, тучи сгущались. Она уже съездила в Москву, консультировалась у больших юристов – никто ей не мог сказать ничего утешительного. – Неужто ж можно так – жить врозь и любить? – старалась понять она, что сближает ее дочь с этим заносчивым летчиком. Ефимов напряженно ждал конкретных вопросов. Он вслушивался в ее рассказ о поездке в Москву, в ее размышления и все не мог понять – чего хочет от него эта женщина? – Такой человек был, – продолжала как бы сама с собой разговаривать Евдокия Андреевна, – и оказался преступником. Отхлебывая поданный Ефимовым чай, она вспоминала Озерное, его родителей. – Где они сейчас-то? – Недалеко от Тюмени, в поселке нефтяников. – Хорошие заработки, наверное? – Наверное, – согласился Ефимов. – Летчики тоже небось хорошо получают? – Хватает. – И одевают бесплатно? – И кормят бесплатно, – поддакнул он. Допив чай, она еще вздохнула несколько раз и стала собираться в дорогу. – Посмотреть я на тебя хотела, – сказала она. – Если и вправду любишь, женитесь после суда. Ковалеву сидеть долго, видать. Сам виноват. А Нинка тут ни при чем. Дите ее тем паче. Вижу, ты мужчина серьезный, Федя. За тобой они не пропадут. Ефимов ждал других слов. Ждал упреков, обвинений, ждал просьб оставить Нину в покое, ждал, наконец, угроз. Он весь собрался, как во время посадки на незнакомом аэродроме, продумывая действия при различных осложнениях. И вдруг – зеленая улица! Что еще можно желать? Материнское благословение в такой час – подарок судьбы. Ведь Нину больше всего беспокоило сопротивление родителей. А где оно, сопротивление? Родители – наоборот – благословляют. Знает ли Нина, что ее мать была у него с такой вестью? Нет, она, конечно, ничего не знает. Она бы не разрешила ей вмешиваться в свои дела. Как Ефимов ждал этого часа, одному богу известно. И радость, казалось, должна была переполнить его через край. Но что-то мешало ей выплеснуться, необъяснимое уныние стягивало грудь, выдавливая из сердца еще не осознанный протест. Хотелось одного – скорее увидеть Нину. Он уже мог десять раз позвонить ей. Но он не знал пока, где будет через час или даже через десять минут. Надо дождаться командира. Волков появился неожиданно. – Вот пропуск, – протянул он Ефимову синий квадратик бумаги, – тебя ждет командующий. Иди. «Если бы что-то хорошее, – подумал Ефимов, – Волков бы сказал. Надо ждать неприятностей». С этим чувством он поднялся на третий этаж и вошел в кабинет командующего. Улыбка на лице генерала сбила его с толку. Плохие новости с улыбкой не сообщают. – Садитесь, Ефимов, – кивнул Александр Васильевич на стул возле приставного столика и расположился напротив. – Волков предлагает назначить вас командиром эскадрильи… Хочу, чтобы вы мне сразу, без раздумий сказали: справитесь с этой должностью или нет? Перед Ефимовым замелькали фамилии всех комэсков, которые в разное время учили его уму-разуму. Это были умные люди, с разными характерами, но все, как правило, отличные летчики, талантливые организаторы и методисты. Каждый – на голову выше Ефимова. Ему до них тянуться, как до Луны. Но и они комэсками не родились. Были и начинающими курсантами, и летчиками. И командирами звеньев, как он. Чему учить – ясно, как учить – подскажут. Главный принцип – «делай, как я». Лучше бы, конечно, остаться на привычном месте, но выдвижение продиктовано необходимостью. Раз надо, значит надо. – Будет трудно, товарищ командующий, но я справлюсь. Александр Васильевич посмотрел Ефимову в глаза. Он выдержал его взгляд. – Трудно будет, Ефимов, – сказал генерал. – Это вы правильно сказали. Бойтесь легких успехов. Относитесь к ним настороженно. Он встал, протянул Ефимову руку: – Поздравляю и желаю удачи. – Служу Советскому Союзу! – эти слова как-то сами вырвались у Ефимова. Он прижал руки к бедрам и напряженно вытянулся. – Женат? – спросил генерал. – Никак нет, – Ефимов сразу расслабился, понял, что Волков ничего не сказал генералу. – Ну, что ж, этот недостаток легко устраняется. Вопросы есть? – Вопросов нет. Командующий улыбнулся, обхватил Ефимова за плечо и подвел к двери. – Самые радужные воспоминания, – сказал он на прощание, – связаны у меня с тем временем, когда я командовал эскадрильей. Хорошая должность. Станете генералом – вспомните мои слова. – Все в порядке? – спросил его на улице Волков. – Поздравил? – Поздравил. – Ну и я поздравляю. Извините, что сразу не сказал. Ефимов только пожал плечами. Так оно, наверное, лучше. – Втягиваться в должность времени не будет, – продолжал Волков, – придется, как говорят, с места в карьер. «Не отпустит», – подумал Ефимов и, заранее смирившись с отказом, бросил пробный шар: – Мы сразу домой? Волков уже распахнул дверцу машины и занес ногу на ступеньку. Услышав вопрос Ефимова, он повернулся к нему и тихо сказал: – Вы меня извините, Федор Николаевич. За что – вы знаете. – Товарищ командир… – Существуют, Ефимов, трудности, которые объективно мешают жить. – Он сделал ударение на слове «объективно». – Смерть, например. Все остальное – субъективно. От лукавого. Все остальное – в наших руках. – И неожиданно предложил: – Можете быть свободным сегодня. Завтра в восемь ноль-ноль на совещание в штаб. – Спасибо. – Ефимов улыбнулся. – Разрешите отбыть? На противоположной стороне улицы его ждал телефон-автомат. А через полчаса он увидел Нину на Университетской набережной. С Невы тянуло свежим ветром, и ее волосы путались, захлестывали лицо, но она не обращала на них внимания, шла быстро, глядела только вперед. Одной рукой Нина придерживала перекинутую через плечо сумку, другой делала быстрые взмахи, откидывая в сторону кисть, словно хотела ускорить свое движение. У гранитного спуска, где здание бывших Двенадцати коллегий торцом выходило к Неве, они встретились. Ефимов остановился, а Нина так стремительно припала лицом к его груди, что ему пришлось сделать шаг назад, чтобы устоять на ногах. – Не знаю даже, как тебе все рассказать, – голос Нины изменился и звучал болезненно сухо. – Я, видно, слишком безоглядно радовалась счастью. В разряд великих грешниц угодила. И ударила меня жизнь, Феденька, наотмашь. Больно-больно. – Я видел Катю, – сказал Ефимов, – все знаю. Не отчаивайся, я с тобой. – Ах ты мой хороший, – она еще крепче вдавила лоб в его грудь. – Не обижайся только, но мне уже не раз приходило в голову: не будь тебя – и не было бы мук моих. Знаю, плохо тебе из-за меня, больно, но будет еще больнее, Феденька. Я не могу оставить его одного. Из-за меня он влип в эту историю. Обо всем, оказывается, догадывался, чувствовал мою измену, нервничал, запустил работу, стал небрежен, утратил осторожность. Погубил девочку, погубил себя. Нет у меня сил его бросить в такую годину. Нет, Феденька. Прожитые вместе годы, дочка наша – все это оказалось сильнее моей любви к тебе. Хотела сказать, что я не способна на предательство. А тебя предала, любовь нашу предала. Побил бы ты меня, что ли? Странное чувство вдруг овладело Ефимовым. Рушились его мечты, гибло такое близкое счастье, от него навсегда уходила любимая, а он, вместо того чтобы грызть локти от отчаяния, хотел гордо крикнуть прохожим, студентам, рассевшимся на гранитном парапете, всему миру: «Вот! Это – Нина! Ну, похвастайтесь, кого еще любит такая женщина?» Только так она и могла поступить. В противном случае он бы не смог ответить на вопрос, за что он любит Нину. – Какой срок может быть у него? – До семи лет, говорят. – Тебе будет только тридцать пять. Впереди вся жизнь. – Ох, Феденька, Феденька, какую же трудную ношу ты берешь на свои плечи. Не сломался бы под ее тяжестью. Я же тогда сразу умру, мгновенно. 27 Новиков перелистывал свою летную книжку и чувствовал, как его обволакивает беспричинная тягучая тоска. Словно подводил итоги прожитого, подводил у той черты, за которой уже останутся только воспоминания. Хотя на самом деле в его жизни, в работе почти ничего не изменится. Просто будут рядом новые люди. В принципе вопрос решен – он не меняет адреса. Осталось уточнить детали: полетит он с полком или нет. Зазвонил телефон, он нехотя снял трубку. – Новиков, слушаю. – Здравствуй, Новиков, – с сердитой нежностью сказала Алина, – ты думаешь меня из госпиталя забирать или хочешь без меня улетать? – Выписывают? – встрепенулся он. – Выписали. Сижу у доктора, слушаю рекомендации. – Я мигом! – пообещал Новиков и, бросив летную книжку в сейф, выбежал во двор. – Здравия желаю, Сергей Петрович, – чуть не столкнулся с ним капитан Большов. – Где твой «мерседес»? – Новиков протянул Большову руку. – Жену из госпиталя надо забрать. Большов улыбнулся. – Я ее туда отвозил, значит надо и назад вывезти. Прошу! – Он сделал картинный жест в сторону стоящих неподалеку «Жигулей». – Чувствуете, как шепчет моторчик? – спросил Большов, когда они выехали за ворота части. – Шведские свечи поставил. Вы пристегнитесь на всякий случай. ГАИ цепляется… Нет, не так. Это инерционные ремни. Тоже шведские. Прямо натягивайте – и в замок. – Да, – нарочно восхитился Новиков, – тачка у тебя – класс! – Так это ж не всем дано оценить, – в голосе Большова звучало огорчение, – вот вы сразу поняли, а другому рассказываешь, показываешь, а он только плечами пожимает. – Многие просто высказать не могут, – успокоил его Новиков, – а хорошее каждый понимает. Он говорил еще какие-то приятные слова водителю, вполне заслуженные, потому что салон его автомобиля и в самом деле свидетельствовал о влюбленном отношении к технике, а сам путано думал о предстоящем разговоре с Алиной. Он должен помочь Волкову обосноваться на новом месте, ну хотя бы месяца три-четыре еще побыть в полку. А уж потом вернется сюда. Но как все это преподнести Алине, чтобы не взволновать ее? Он точно знал: самое действенное лекарство для нее – хорошее настроение, душевное равновесие. Любое прикосновение к запретной теме отзовется болью. Вообще не говорить – тоже нельзя. Алина сразу учует, что за недомолвками скрыто нечто тревожное. – Цветы бы купить, – попросил он Большова. – Понятно, – сказал водитель и включил сигнал поворота. Справа была улочка, ведущая к вокзальному рынку. Новиков вошел в фойе госпиталя с огромной охапкой садовых цветов. Алина, увидев мужа, неторопливо встала с низенькой скамеечки, так же неторопливо подошла к нему, по-деловому забрала букет и лишь тогда прислонилась к его плечу. – По-моему, – улыбнулся Новиков, – в этом госпитале не только лечат. Ты стала просто неотразимой. – Смеешься? – с тихой радостью упрекнула Алина. – Кожа да кости остались. А почему сын не приехал? – У сына уже свои женщины. Музей в школе реконструируют, не до нас ему. Руководит бригадой девочек. – Как быстро время бежит! – Ну-ну, – похлопал ее Новиков по плечу. – Мы с тобой еще поживем. – Когда? – Слушай, – Новиков уходил от разговора, – давай выйдем во двор. Не люблю этих больничных запахов. – Ну давай, – согласилась Алина. Однако уже на крыльце опять спросила: – На службе-то как? – Да как тебе сказать… – Как есть, так и скажи. – Наверное, хорошо. Оставляют меня здесь. – А полк? – А полк летит. – Что ж хорошего? – Знаешь, накочевались мы с тобой, хватит. Тут даже интересней будет. В своем полку уже всех изучил. Вроде прочитанной книги. А тут все новенькие. Каждый – загадка. Ну, что ты на меня так смотришь? Не прав, что ли? – Ну, почему же, все правильно. Полк летит на Север, а замполит остается в обжитом городке. Она посмотрела ему в глаза ясно и добро, провела мягкой ладонью по щеке. – Хватит хорохориться! Убедить себя пытаешься? Звони ты, Сережа, начальнику политотдела. Поедем мы с полком. Будем вместе – это главное. Остальное, как говорит один очень симпатичный ас, – дым. До самого дома они больше не проронили ни слова. Переполненный благодарностью к самому близкому человеку на земле, Новиков нежно придерживал ее за хрупкое плечо своей широкой ладонью. А она уютно жалась к нему под мышку, то и дело бросая исподлобья ласковые взгляды. «Алина права, – думал Новиков, – не заметили, как вырос сын, не заметим, как улетят остальные годы – такая малость по сравнению с вечностью. Разве можно добровольно соглашаться на долгую разлуку? День врозь – и то глупо!» У дома он попросил Большова подождать его минутку. А когда захлопнулась за ним дверь, взял в обе ладони ее лицо и осторожно поцеловал глаза, брови, щеки, губы. Сказал: «Я скоро» – и на Санькин манер – через три ступеньки – сбежал вниз. Когда подъезжал к штабу, сразу увидел: вернулся Волков. Его машина стояла на отведенном еще Чижом для нее месте. Водитель читал книгу. Значит, Волков ненадолго в штаб заскочил. – Вопрос твой, Петрович, решен, – сказал он, увидев входящего в кабинет Новикова. – Трудно мне будет без тебя. Привык, знаешь, что кто-то ежедневно портит кровь. Все время ушки на макушке… – Ну, за это не переживай, – ответил Новиков серьезно. – Чего-чего, а крови я тебе еще попорчу. – Что ты хочешь сказать? – Волков боялся поверить в догадку. – Алина моя унты примеряет, Иван Дмитриевич… Рассказывай лучше новости. Волков улыбнулся, ткнул замполита кулаком в плечо и, застеснявшись нахлынувшей нежности, резко раскрыл папку. – Летим, Петрович… Все наши кадровые предложения командующий утвердил. Результатами работы за минувший месяц, кажется, доволен. – Ты-то как? Насчет повышения? – О чем ты говоришь? Лучше о деле. Звонок телефона прервал разговор. И Новиков, поскольку стоял у самого аппарата, снял трубку. – Сергей Петрович, Маша Волкова беспокоит, – пропела трубка. – Ваня в Ленинграде, а тут сын приезжает. Позвонил, что много вещей, старики фруктов насовали. Если появится мой, скажи, на вокзал поехала. – Как дела у Гешки? – В летное поступил, дали ему неделю отпуска по семейным обстоятельствам. – Женится? – Еще чего? Отца повидать хочет. – Здесь он, Маша, передаю трубку. Волков уже понял, что разговор о сыне, и подошел к телефону. Маша, видно, сразу сказала, что сын поступил в училище, потому что Волков еще больше заволновался. – И кто его, такого разгильдяя, принял? – В голосе Волкова зазвучали ворчливые, но ласковые нотки. – Из него летчик, как из меня балерина… Да нет, сейчас заеду, вместе встретим. Ну перестань, за кого ты меня держишь, встречу как положено. Надо же, шалопут вислоухий, – в летное поступил… Буду сейчас, подожди. – Поздравляю! – сказал Новиков, когда Волков задумчиво опустил трубку на рычаг. – Жизнь продолжается. – Жизнь, она и в Африке жизнь, Петрович, – он хмыкнул, качнул головой. – Пакостник, сюрприз батьке подкинул. Как мне теперь на него сердиться? Как воспитывать? Прав-то он! Кругом прав! Это же полное уничтожение отцовского авторитета! Хоть проси прощения у этого сопляка! Нет, хорошо бы на всякий случай ремнем отодрать. А-а, – Волков махнул рукой, – поехал!.. Они вместе вышли из штаба. Остановились на крыльце. Здесь была тень, и уже ощущалась вечерняя прохлада. Волков рассказал, как по пути едва не наехали на лосиху с лосенком. – Привык зверь к человеку. Вышла, понимаешь, на шоссе и шпарит по обочине, как корова. Психология другая у лесных животных. Поверили человеку. Великое это дело, Петрович, когда тебе верят. Оправдывать хочется. – Давно понял? – Лучше позже, чем никогда. – Волков вдруг с болью посмотрел Новикову в глаза. – Он верил в меня больше, чем я сам. Знал меня лучше, чем я сам. Что это, Петрович, дар природы? – Это труд души, Иван Дмитриевич. Любому нашему слову, любому поступку должен предшествовать труд души. Прежде чем что-то сказать или сделать, взвесь, подумай, представь, к чему твой поступок или слово может привести. Слова ранят, оставляют рубцы, травмируют психику. А он умел бережно со словом обращаться. Умел присматриваться к нам, знал каждого. Из подъезда учебного корпуса шумно вывалила группа молодых летчиков. Заметив командира и замполита, они цыкнули друг на друга, поправили фуражки, подтянулись. Поравнявшись со штабным крыльцом, дружно вскинули к виску напряженно вытянутые ладони. Опустив руку, Волков позвал: – Старший лейтенант Горелов! – Я! – Руслан остановился, подошел. – Где ночуешь, Горелов? – с улыбкой спросил Волков. – Дома, товарищ подполковник. – Руслан облизнул губы. – Давно бы так. – Я же должен ее воспитывать. – В свободное от службы время. – Разрешите идти? Волков спустился с крыльца, поправил на груди Горелова закрутившийся галстук и тихо сказал: – Завтра с утра примешь у Ефимова звено. Понял? – Есть принять звено! – голос у Руслана сорвался, и он несколько раз кашлянул. – А Ефимов? Волков засмеялся: – А Ефимов примет у Пименова эскадрилью. Есть еще вопросы, любопытная душа? – Никак нет! Новиков протянул Руслану руку. – Поздравляю. Выходит, не зря ты ушел из морской авиации?.. Что растерялся? Беги, догоняй… Руслан и вправду растерялся. Не далее как сегодня утром он написал ответ кадровикам о своем решении вернуться в морскую авиацию. Решение далось ему в сомнениях и не принесло желаемого удовлетворения. Какие-то незримые ниточки уже привязали его сердце к этому полку, и любая попытка оборвать их приводила его в напряжение, причиняла боль. Лиза уклонялась от советов. «Как хочешь, так и поступай, – сказала она, – мне все равно». Сегодня он проснулся в пять утра и больше заснуть не мог. Шторы они на ночь не закрывали, и в комнате уже полз по стене яркий солнечный «заяц». Лиза спала безмятежным сном. Какой глупой в эти утренние часы показалась ему отшумевшая ссора. Из-за чего они отравляли друг другу жизнь, из-за чего разжигали ненависть? Разве не проще было в первый же вечер спокойно выяснить все, посмеяться над своими глупыми подозрениями, извиниться, шутливо поползать у нее в ногах, а потом прижать к себе и сказать: «Все потому, что люблю и ни с кем не хочу делить». Или что-нибудь в этом роде. Так нет, нагородили такой огород, что только смерть Чижа их окончательно и примирила. Оба и сразу отрезвели. Словно кончилась в этот день их бестолковая юность и пришло взрослое понимание жизни. Понимание, что под этим небом нет ничего вечного. Ему захотелось сделать что-то хорошее для Лизы, и этим хорошим могла быть какая-то приятная новость. Руслан вдруг решил, что надо соглашаться на возвращение в морскую авиацию. В любом случае это будет не хуже, чем в тундре. Не исключено, что попадут они и какой-нибудь черноморский город, будут жить под южным небом, а ребята в летние месяцы станут к ним ездить в гости. Вот радости будет при встрече! Размечтавшись, он тихонько встал, вынул из стола чистый лист, написал письмо и вложил его в конверт. Заклеивать не стал. На кухне покрутил руками, присел несколько раз, сперва на правой, затем на левой ноге, повращал туловище, размял шею. Перемыл оставленную с вечера грязную посуду и только тогда принял душ. В благодарность за помощь сонная Лиза поцеловала его и крепко обняла. И тогда он сказал ей, что дал согласие на возвращение в морскую авиацию. – Тебе будет лучше там? – Не знаю, – пожал он плечами, – надеюсь, что лучше будет тебе. А мне… Небо, оно и в Африке небо. Он попросил ее опустить письмо в ящик и ушел на службу с тревожным ощущением чего-то непоправимо потерянного, ощущением допущенной ошибки. И вот все его ощущения материализовались в сообщении командира. При всех промахах его здесь ценят, ему доверяют. А он решил драпануть из полка. Тихонько, по-предательски. Еще не поздно было сказать о своем решении сейчас, когда Новиков поздравлял его. Честно рассказать, что мучился, что решение принял непродуманное, что если как-то можно исправить эту глупость, то он очень просит помочь ему… Промолчал. Не хватило духу. Слабак. «Нет, Руслан, не дорос ты еще до командира звена. Рано. Прежде чем других учить, с собой надо справиться». Домой он вернулся, как говорят, чернее тучи. Лиза встревоженно посмотрела ему в глаза: – Случилось что-то, Русланчик? – Знаешь, – выдавил он, – зря я послал это письмо. Лиза улыбнулась: – Оказывается, сегодня я была умнее тебя. Вон оно лежит. Руслан не поверил. Рванулся в комнату, схватил незаклеенный конверт, развернул листок. Да, это было его утреннее сочинение. И первое, что он сразу решил, – сегодня же обо всем рассказать Новикову, Волкову. Ему хотелось немедленно очиститься, как хочется немедленно отмыться после грязной работы. – Спасибо, Лизок. – Он обнял жену и по-деловому поцеловал в лоб. – Ты всегда была умнее меня. Просто сегодня еще раз подтвердила это. Как тебе пришло в голову? – Видела, какой ты потерянный был, когда говорил мне о письме. – Я тоже с новостями: нас назначили командиром звена! – Вот видишь… – только и сказала она. 28 Вечер обещал быть долгим и тихим. Солнце как вкопанное стояло над горизонтом, и Ольга решила, что до ночи еще успеет вернуться в Ленинград. Водитель тоже рвался домой, да и причин, чтобы задерживаться на ночь, не было. Здесь все кричало о нем, все преследовало ее и на каждом шагу отзывалось острой болью. Юля и раньше не очень откровенничала с матерью, а теперь совсем окаменела. «Да, нет, да, нет», – вот и весь разговор. – Поеду я, доченька, – уже вслух решила Ольга. – Еще засветло и вернусь. – Я сварю кофе, – сказала Юля, – все равно термос пустым везешь. Ольга вслед за Юлей прошла на кухню, присела у стола на широкую лавку. Ей хотелось быть рядом с Юлей, смотреть на нее, говорить с нею, Ольга все верила, что сумеет найти какие-то слова, которые заставят Юлю изменить свое решение, остаться в Ленинграде хотя бы до окончания института. Но слова эти так и не отыскались. Личный опыт Ольга не могла призвать па помощь, потому что понимала – он не безупречен, скорее даже порочен. Глядя, как Юля уверенно и ловко орудует у кухонной плиты, как сосредоточенно и гибко склоняется к нижним полкам шкафа, как неуловимым движением головы отбрасывает с лица волосы, Ольга все острее хотела, чтобы Юля была рядом с нею, всегда. И все острее понимала, что этому уже никогда не бывать. Разве что на госэкзамены приедет… – Почему ты эти ложки оставила на стене? – спросила она дочь. – Я их заберу с собой. – Зачем? – Ольга сразу почувствовала, что вопрос глупый. Каждую ложку отец дарил Юле по какому-нибудь случаю. Сам вырезал, сам раскрашивал и торжественно дарил. И она наверняка помнит все, что связано с каждой ложкой. – Привыкла я к ним, – сказала Юля. – В общежитии развешу. Наполнив термос темно-бурым напитком, Юля плотно закрыла пробку, навинтила сверху пластмассовый стаканчик и подошла к матери. – Я буду тебе писать, – сказала она и села рядом. – Постарайся отвечать. Хоть по нескольку слов, на открыточке. Мол, жива, здорова, хожу на работу, письмо твое получила… И постарайся не опускаться, следи за собой. Отец всегда останется с нами. Считай, что он снова улетел на Север. Очень надолго. Со своим полком. Оно так и есть. Тебе к этому не привыкать. В последних словах был откровенный упрек. «Ты считаешь меня виноватой?» – хотела спросить она дочь, но промолчала. Зачем? Разве она сама оправдывает себя? Конечно, виновата. Юля может из жалости и не сказать этого, но Ольга чувствует в каждом ее слове, в каждом жесте справедливый упрек. Звено, которое связывало ее с дочерью, разорвано. Какова будет сила притяжения ее материнской любви, покажет жизнь. У машины Ольга еще раз обняла дочь и содрогнулась от мысли о предстоящей разлуке. Раньше с ней такого не было. Отъезды, приезды Юли – все воспринималось как будничное течение жизни. Сегодня уехала – завтра приедет. А сегодня казалось, что видит Юлю в последний раз, что прощается навсегда. В глазах туманилось от влаги, и она ничего не могла с собой поделать. Когда машина тронулась, Ольга еще раз оглянулась на дом, в котором могла быть очень счастливой и в который уже больше никогда не приедет. И отчетливо поняла, что период обретений прошел, черта подведена, начинается период потерь. Ольга дала себе слово, что уже завтра, нет – сегодня же заедет к тете Соне, и они вместе навестят Розу Халитову, вместе потом съездят на могилу Чижа, вместе поплачут. Ей еще предстояло узнать, что тетя Соня умерла в тот же год, когда Юля уехала из Ленинграда, а семья Розы уже давно живет в другом городе. Глядя, как удаляется черная «Волга», Юля мысленно желала матери мужества. Сквозь свежую боль, сквозь невыразимую тоску она подсознательно чувствовала, что впереди будет еще немало счастливых мгновений. Ее, Юлина жизнь – впереди. У матери – перевал пройден. То, чего она ждала, как награды, не сбылось. Не пожили они всей семьей под одной крышей. Не довелось. Судьба вмешалась в их планы бесцеремонно и неожиданно. И хотя у Юли разрывалось сердце от жалости, она не могла утешить мать каким-то конкретным обещанием. «Буду писать», – это она выполнит. Будет писать. Постарается отпуск провести в Ленинграде. Если удастся – вместе с Колей. Всякий раз, когда Юля мысленно обращалась к Муравко, она успокаивалась, словно обретала после длительной качки твердую под ногами почву. От одной мысли, что он где-то совсем недалеко от нее, что завтра утром она войдет в автобус и увидит свободное место рядом с ним, что до самого аэродрома будет чувствовать сквозь тонкую ткань форменной рубахи его тепло, к ней возвращалась уверенность и надежда. Она уже окончательно поняла, что любит его давно и на всю жизнь. И хотя он ей еще ничего не сказал о своем чувстве, Юля безошибочно знала, что любима им, что признание не за горами. Да если и не будет никакого признания, разве дело в словах? Слова уже ни прибавят, ни убавят. Самое главное – они нашли друг друга и поняли, что предназначены друг для друга. Вернувшись в квартиру, Юля начала упаковывать оставшиеся книги. Часть отцовской библиотеки она раздарила летчикам полка. Пусть читают. Остальные книги загрузила в багажник маминой «Волги». Себе оставила только несколько томиков. Позвонил Булатов. – Ты дома? – спросил он. – Иду в гости. А потом заявился собственной персоной с бутылкой шампанского в руках. Увидев собранную сумку, раскрытый чемодан, он молча поставил бутылку на стол и сел на то место, где еще совсем недавно сидела Ольга Алексеевна. – Все-таки уезжаешь? – спросил он. – Уезжаю, Олег Викентьевич. – Что там хорошего на этом Севере? Тундра, холод, пустота. – А северное сияние? – Юля… А ведь еще не поздно. Распакуем чемоданы, накупим вина, назовем друзей… – Поздно, Олег Викентьевич. – Но почему? Почему, черт побери! – Служба, Олег Викентьевич. – Служба… – Он взял бутылку и начал раскручивать проволочную оплетку на горлышке. – Бокалы еще не упаковала? Надеюсь, выпить со мной на прощание не откажешься? Юля поставила два стакана, нарезала колбасу и сыр. Ей стало жаль Булатова. Юля никогда никому об этом не говорила, но часто думала, что этажом ниже живет интересный мужчина, всеми уважаемый врач, он же лауреат какой-то там премии, и он же – безнадежно влюбленный. В нее! И от этих мыслей ей было радостно. – Самое обидное, – сказала Юля, – что я ни разу не воспользовалась медицинской помощью по блату. – Самое смешное, Юля, в этой истории то, что я тебя люблю. – И молчали… – Сам только сейчас понял. Выпьем? – Выпьем. Она подняла отяжелевший стакан и посмотрела сквозь шампанское на свет. Очертания дома и деревьев, освещенных вечерним солнцем, причудливо исказились. Юля резко повернулась к Булатову и спросила: – При каких-то иных условиях он еще мог жить? – Мог. – При каких? – Этого никто не знает. Люди неповторимы. – Извините, Олег. – Она коснулась краешком стакана о его стакан. – Я вам желаю счастья. От всей души. Она выпила и сразу захмелела. И почувствовала, что после нескольких бессонных ночей сегодня впервые заснет крепко и без сновидений. – Устала я, Олег Викентьевич, – сказала она искренне, – спать хочу. Не сердитесь на меня. Она проснулась от какого-то необъяснимого возбуждения. Было начало шестого, а в квартирах хлопали двери, на улице говорили люди, кто-то неуместно рано смеялся, кто-то кого-то звал. Юля встала и выглянула в окно. У подъезда попыхивал мотором автобус, возле него собирались летчики. С чемоданами, рюкзаками, сумками. Тихо переговаривались женщины, сонно молчали дети. «Вот и все», – подумала Юля и подошла к телефону. Дежурный ответил, что она может пока спокойно спать. Транспортным самолетом отбывает передовая команда. – А почему летчики с чемоданами? – Прилетят, а чемоданы уже там, – засмеялся офицер. И добавил: – Придешь в часть – все узнаешь. Юля знала, что за передовой командой полетит первая эскадрилья во главе с Волковым. Значит, и Коля. И она заторопилась со сборами. Приняла душ, выпила наспех чашечку кофе, расчесала подсохшие волосы и, надевая берет, выбежала на улицу. Захотелось глубоко вдохнуть и задержать в себе утреннюю свежесть. Солнце уже вовсю плясало на стеклах домов, на запыленных листьях деревьев, но лучи его еще не распугали отстоявшуюся прохладу ночи, их тепло было мягким и ласковым, и само утро казалось необычно праздничным, мажорным. Юля шла пешком, радуясь легкости движений, тихому звуку своих шагов, одиноким прохожим. Она любила эти зеленые улочки гарнизонного городка и с легкой грустью думала о прощании с ними. В мире уже произошло какое-то перемещение, и ее мысли, обогнав ее, обживались в новых условиях. Здесь ей было хорошо, но Юля верила, что там, в той новой жизни, будет еще лучше. Увидев выходящего из штаба Муравко, она взволнованно окликнула: – Коля! И удивилась растерянному выражению его лица. Словно он еще не решил, подходить к ней или нет. Юля подошла сама. – Что случилось, Коля? – Понимаешь, я уже и забыл… А тут вон приказ – вылетать немедленно. Юля не понимала, чем он так огорчен. Все вылетают. И она тоже. – Думал, мы еще обо всем поговорим, – продолжал сокрушаться Муравко, – а уже надо прощаться. – Я же с полком лечу, Коля, – удивленно пожала плечами она. – Ты с полком… Зато я в другую сторону… У Юли дрогнуло сердце. – Ах, черт, – махнул он рукой. – Я и думать забыл. А он говорит, молчание – знак согласия, за тобой прилетел самолет. Прямиком в Звездный. – Вы согласились, Коля? – Согласился. Ты огорчена? Вот теперь уже Юле стало не по себе. Она почувствовала, что надвигается самая несправедливая несправедливость, если она за что-нибудь не схватится, ей не устоять. И она крепко взялась руками за его руку, почти повисла на ней. – Я напишу тебе, – сказал Муравко, накрыв своей ладонью ее ладонь. – Ты ведь ответишь мне? – Коля… – Они остановились как раз напротив окон командирского кабинета. – Ты ведь все знаешь. – Знаю, – сказал он. – И ты знаешь. – Да, – сказала она. – И ты согласна? – Да, – сказала она. – Когда? – Когда скажешь. – Сегодня. Сейчас. – Это невозможно. – Она показала глазами на продетую в петлицу траурную ленточку. – Напиши, когда можно будет. Я в тот же день примчусь. Муравко украдкой покосился на часы, но Юля перехватила этот взгляд и тихо спросила: – До свидания? … – Увы, – выдохнул он. На его лице было такое искреннее огорчение, что у Юли от жалости защипало в глазах. – Ну, что ты, Коленька, что ты? – порывисто обвила она его шею. – Не надо, я с тобой. Я скоро… И тут же почувствовала, как по щекам освобожденно покатились слезы. Он целовал ее на виду всего военного городка. Легкие перистые облака были прозрачны и неподвижны, словно кто-то гигантской кистью небрежно мазнул по выгоревшей синеве неба. И эта прозрачность облачности, и эта неподвижность свидетельствовали о наличии глубокого антициклона, захватившего полматерика. Да и синоптики подтверждали: на Севере тоже «миллион на миллион». Значит, перелет будет проходить при вполне благоприятных метеоусловиях. Прежде чем выйти из машины, командующий открыл портфель, вынул из него и развернул сверток. На белой тряпице, размером с носовой платок, тяжело блеснула густо смазанная сталь пистолета. Он извлек обойму, проверил наличие патронов, ударом загнал ее в рукоятку и, обтерев тряпицей смазку, положил пистолет в левый нагрудный карман кожаной куртки. Путь дальний. Все должно быть как положено. Во внутренний карман втиснул удостоверение и партийный билет. Затем обошел самолет, проверил, что ему было положено проверить, и поднялся по стремянке в кабину. Поудобнее уселся, защелкнул замки парашютных и привязных ремней, подключился к бортовой радиостанции, застегнул маску кислородного питания. Замки «фонаря» беззвучно притянули к уплотнителям прозрачный колпак. – «Медовый», «два ноля один», запуск. – «Два ноля один», запуск разрешаю. Генерал непроизвольно насторожился и сразу даже не понял отчего. Мгновенно «прокрутил» последовательность своих действий – все было сделано правильно. Тогда в чем же дело? И понял: не тот в шлемофонах голос. С этого аэродрома его всегда выпускал в небо Чиж. Александр Васильевич привык к интонации, за которой всегда скрывалось немножко больше, чем значили сами слова. И все. Нет ни Чижа, ни его голоса. Только небо… И неразгаданная сила его притяжения. Такая же вечная, как неразгаданно вечно притяжение любви. Львов – Ленинград 1975 – 1981 Книга вторая К своей звезде 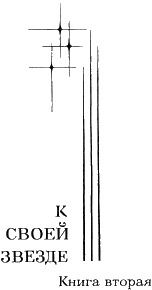 1 Ощущение, что он со всех сторон высвечен бледно-зеленым светом, не оставляло Ефимова даже после того, как он отчетливо понял, что уже не спит и что не во сне, а наяву видит бледно-зеленое небо с пурпурно-красной линией, наискосок перечеркнувшей квадрат окна. Чтобы окончательно избавиться от навязчивого видения, Ефимов встал, подошел к окну и отбросил тюлевую занавеску. Кольца сухо вжикнули по алюминиевой трубке карниза, и его взору открылось нечто ошеломляющее, непостижимое. Откуда-то из глубины Вселенной, из непроницаемой бесконечности, играя и переливаясь неземными оттенками, струился бледно-зеленым водопадом сказочный свет; складки гигантской шторы лениво шевелились, покачивались, меняли насыщенность красок, и в такт этим покачиваниям перемещалась подсвеченная невидимой зарею бахрома. И этот свет – от бледно-зеленых до пурпурно-красных тонов, и этот рисунок теней, и уходящие к звездам складки, и тишина, в которой Ефимов слышал едва уловимые, но грозные звуки Вселенной – все как-то сразу и отчетливо напомнило о существовании вечного и мгновенного. И на душе стало тревожно и неуютно. – Руслан! – позвал он тихо. – Ты только глянь, что творится в мире! Это же надо… Сто раз слышал: северное сияние, северное сияние… А оно, видал, какое! Стояла предрассветная пора. В городке не светилось ни единого окна, ни одного прохожего не было на расчищенных от снега дорожках, и земля торопливо впитывала острый холод, струящийся из межзвездного пространства вместе с этим волшебным светом. Казалось, хлопни дверью, свистни, и все мгновенно улетучится, растворится и навсегда исчезнет. – Что умеет природа, – сказал Руслан. – Представляешь, сколько миллионов киловатт надо, чтобы отгрохать такую иллюминацию? А она – играючи… Любуйтесь, не жалко. Небо продолжало раскачиваться, переливаться холодным блеском складок, озаряться пурпурно-красными сполохами. Это был живой, пульсирующий свет, хотя и отдавал мертвенной бледностью. – Тысячи лет до нас сияло, – сказал Ефимов, – и еще тысячи будет сиять после нас. – Да… Ну, еще пару часиков можно поспать, – Руслан забрался под одеяло. Пружины матраца взвизгнули и затихли. Ефимов вспомнил, как Нина провожала его к метро, как азартно решила ехать с ним на вокзал и как они, ожидая поезд, без стеснения целовались в конце платформы, не обращая внимания на редких полусонных пассажиров. У нее счастливо блестели глаза. – Знай одно, – говорила она, – я всегда с тобой. И если вдруг станет невмоготу, если почувствуешь, что все – больше нет сил ждать, зови… Брошу все и примчусь. Но прошу тебя – не пиши, не жди от меня писем, потерпи. Так будет легче нам обоим. Поверь мне. – Скажи, командир, – Руслан вернул его к реальности, – попляшу я на твоей свадьбе, или бобылем доживать век будешь? Ефимов усмехнулся и задернул шторы. Свечение уже поблекло, потеряло очертания, бесформенно расползлось по небосводу. – Попляшешь, Руслан. Обещаю. – Слышь, Федор… Мне показалось, последнее время ты рискованно летаешь. У спортсменов это называется – на грани фола. – Тебе показалось, – ответил Ефимов, не вдумываясь в смысл вопроса. – Ты спи. – Ну, как знаешь, – обиделся Руслан, и пружины под ним снова нервно взвизгнули. Ефимов лег и укрылся одеялом. «В последнее время ты рискованно летаешь». Полная чепуха! Не рискованно. И не в последнее время. С первых дней, как они перелетели на Север, Ефимов стал летать не посередине ограничительных допусков, а по кромкам пределов. И не только сам. Этого он требовал и от подчиненных. И его понимали. На кой черт, в самом деле, их держат здесь на краю земли? Для чего оторвали от семей, от привычных мест? Зачем доверили эти фантастические ракетоносцы? Чтобы они научились четко взлетать и садиться, чтобы жечь керосин на привычных маршрутах и довольствоваться выполненным планом налета? Мало этого, мало! «Каждый пункт плана, если он качественно выполнен, – скажет подполковник Волков, – есть ступень к высотам летного мастерства, к высотам боевого совершенствования». – «Наш план, Ефимов, – поддержит командира и замполит, – составлен на основе выверенной годами методики. Любые отклонения чреваты нарушением безопасности». А Ефимов видел – правила безопасности за последние годы обросли со всех сторон, словно коростой, таким количеством всевозможных ограничений, что свобода творчества в учебном бою стала похожей на свободу сторожевого пса: вот цепь с кольцом и проволока, в этих пределах твори, что вздумается. Каждый раз, поднимая в воздух дрожащий от избытка энергии самолет, Ефимов заранее знал, что и в этот раз он будет от взлета и до посадки держать поводья туго натянутыми. А желание отпустить их и дать самолету, как боевому коню, возможность свободно рвануться и показать все, на что он способен, жило в нем неукротимо, вопреки логике официальных указаний, вопреки здравому смыслу, вопреки ограничениям, зафиксированным в директивных бумагах. Ефимов не мог отделаться от навязчивой мысли, что если грянет беда, им придется спешно переучиваться, и цена этого переучивания будет очень высокой. Сполна соответствовать своему назначению он мог лишь в том случае, если бы уже сегодня знал предел возможного и к этому пределу приблизился. – На меня тоже иногда находит, – Руслан размышлял о том же, что и Ефимов, на одной волне работали. – Эх, думаю, летать бы, как эти чайки! Парить, не глядя на приборы, забыть об инструкциях, снижаться, срезая гребешки волн, мгновенно взмывать, и не долбить перед каждым полетом, что за чем включать и на каких углах пилотировать. Но самолет – не продолжение твоего организма. Это машина. Механизм. Железо. И летать на нем надо только по правилам. – Прижмут в бою, о правилах забудешь. Метаться начнешь, выжимать из самолета то, чего он дать не в состоянии. Если я летчик, к тому же командир эскадрильи, я обязан знать возможности самолета не приблизительно. Я хочу их знать точно. Руслан нетерпеливо повернулся. – Все пределы проверены испытателями и вписаны в наставления. Что тебе еще надо? – Наставления составляются в расчете на начинающего летчика. А мы – мастера. У нас и допуски должны быть другие. – Ты имеешь в виду мое звено? Так я и сам вижу: но сравнению со стариками, мы недотягиваем. Но дай время – будем летать не хуже твоих асов. Техника пилотирования… – Вот, вот, – перебил Ефимов, – техника пилотирования. Ты чувствуешь, техника пилотирования стала главным критерием. – Естественно, – Руслан сел, не спуская на пол ноги, и включил настольную лампу. – Техника пилотирования – это главное преимущество в бою. Меня так учили. – Хорошо летать еще не значит быть хорошим бойцом. Хотя, ты прав, конечно. – Ну, слава богу, не круглый дурак. – Все время вспоминаю рассказ Чижа. В конце войны к ним в полк пришел летчик-спортсмен. Очень известный воздушный трюкач. Такое, говорит, выделывал над аэродромом, все от восторга замирали. А в первом бою его сбили. На парашюте приземлился. Сбили его и во втором бою. Снова выпрыгнул. А в третьем – погиб. И знаешь, почему? – Война не стадион. – Мне Павел Иванович так объяснил: «Слишком много внимания концентрировал на самом процессе летания, тем самым исключал возможность сосредоточиться на достижении победы». То, что мы понимаем под термином «хороший полет», оказывается во многих отношениях недостаточным для победы в воздушном бою. – Слушай, – сказал после недолгой паузы Руслан. – По-моему, мы начинаем дичать. Ты посмотри на нас со стороны… Два здоровых мужика, среди ночи – про самолеты, про тактику… Ну, про баб – куда ни шло, а то ведь… Тебе не кажется, что мы шизанулись? Ефимов представил себе известных актеров экрана, играющих летчиков, представил их разговор в темноте: «Умело владеть самолетом – значит обладать главным преимуществом в бою…» И неожиданно расхохотался: такому фильму он бы не поверил даже под дулом пистолета. Вот если бы они, как говорит Руслан, «про баб», это нормально. – Давай про баб, – усмехнулся Ефимов. За словом «баба» ему всякий раз виделись располневшие торговки в базарных рядах. – Между прочим, – вспомнил Руслан, – вчера Перегудов привез в летную столовую двух девочек. Одна черненькая, с греческим профилем. Глазищи как сливы. А имя-отчество – умрешь: Нонна Сосипатровна. Вторая – хохлушка. Оксана. Сероглазая, кругленькая. Косы венком. А улыбка – хитрющая, как у кобры. Чего хихикаешь? – Ни разу не видел, как улыбается кобра. – Увидишь. Она замуж хочет, аж пищит. Я сразу усек. Гречанка, которая Сосипатровна, та поскромнее. Еще краснеть не разучилась. А эта… – Тебе не кажется, что ты слишком заинтересованно рассматриваешь этих девиц? – Естественно. У меня в звене два холостяка. Ты бы видел, как они ерзали. Я, конечно, охладил их пыл, о полетах, говорю, надо больше думать. А сам прикинул: не посмотреть ли тебе на этих пташек? Чем черт не шутит. «Смеется или всерьез? – подумал Ефимов и пожалел, что выключил свет. По глазам бы, наверное, понял. – Видимо, всерьез». Объяснить его неестественно затянувшуюся холостяцкую жизнь людям не так-то просто. Можно только строить догадки да пожимать плечами. Им проще поверить, что в один прекрасный момент Ефимов увидит хохлушку Оксану или гречанку Нонну Сосипатровну, женится, и от всей его прошлой любви останется ровно столько, сколько остается от северного сияния – смутное воспоминание. – Хорошо, посмотрим, – сказал Ефимов. – Перегудов свое дело знает. Иван Христофорович Перегудов, начальник продовольственной службы, частенько нарывался на неприятности. И особенно его шерстили командир с замполитом. Держаться подальше от них – было его главным правилом. Маленький, с брюшком, лысый, с глубоко упрятанными глазами, кривоногий и картавый, он был женат на белокурой красавице, родившей ему трех дочерей и называвшей Перегудова не иначе, как «Ванюша» или «милый Ванечка». Летчики, что постарше, не упускали случая пошутить над Перегудовым. Те, которые помоложе, – шутить остерегались. Перегудов был насмешлив, его ярлыки цеплялись к людям, словно репей. И была у него одна необъяснимая, но пламенная страсть – подбирать для офицерской столовой красивых официанток, за что летчики Перегудова втайне уважали и прощали ему служебные огрехи. Этой страсти он отдавал немало личного времени, знакомился с выпускницами специализированных училищ, техникумов и даже институтов, изучал личные дела, присматривался, а выбрав «жертву», настойчиво и, как правило, небезуспешно атаковал ее. – У летчиков должны быть красивые жены, – говорил он, объясняя свое хобби. И, как утверждали старожилы, официантки в полку не задерживались. Они очень быстро осваивались с обстановкой, выходили замуж и увольнялись с работы. Перегудов не печалился и охотно расставался со своими «драгоценными приобретениями», потому что радость ему приносило не «наличие» красивых официанток в летной столовой, а «процесс» их поиска, подбора, азарт охотника. У Ивана Христофоровича была тайная и заветная цель: найти невесту для Ефимова. Впрочем, это была тайна полишинеля. После каждого нового «драгоценного приобретения» Перегудов в первую очередь подкатывался к Ефимову и с надеждой спрашивал: – Ну как? Может, эта?.. – Хороша Маша, да не наша, – всякий раз с улыбкой отвечал ему Ефимов. – Ну что же, еще не вечер, – бодро смирялся Иван Христофорович и продолжал поиски. После перевода на Север активность Перегудова несколько ослабла, и кое-кто стал думать, что Иван Христофорович выдохся, начал стареть. Но коль в полку появились Оксана и Нонна Сосипатровна – курилка жив! – Утром покажешь, – сказал Ефимов. – Закручу роман сразу с двумя. Конкурс называется. Которая победит, на той и женюсь. Руслан расхохотался. А девушки и в самом деле были хороши. Хотя Оксана улыбалась мягко и застенчиво, в серых ее глазах то и дело вспыхивали искорки проницательного любопытства, словно хотела сразу понять – с кем имеет дело. Гибкая, быстрая, внимательная – не потому ли она показалась Руслану коброй? Нонну, конечно, никто и не думал звать по отчеству. В анкете пусть будет Сосипатровной, а в летной столовой – просто Нонной. Неторопливая, ровная со всеми, девушка сразу внесла в летную столовую семейную атмосферу. Ей шла гладкая прическа с прямым пробором, шел белый кружевной воротничок, шли туфли на высоком каблуке. Она претендовала на то, чтобы стать лучшим приобретением Ивана Христофоровича. – Ну что, годится в невесты? – спросил Ефимова подсевший к столу Перегудов. – Ей нужен молодой хороший парень, – серьезно сказал Ефимов, – а не такой, как я, старый прохвост. А вот за Оксаной поухаживаю. Она не даст себя в обиду. – Так и быть, отдаю, – щедро согласился Иван Христофорович. – Ухаживай. А там посмотрим. Ефимов подозвал девушку, поблагодарил за завтрак и предупредил: – На дискотеку сегодня приглашаю вас я. Если нет возражений, ждите вечером в общежитии. Оксана взглянула на Перегудова и сдержанно согласилась. А в полдень, когда асы Ефимова с солидной неторопливостью решали в классе придуманную командиром задачу, на аэродром, пробив сгустившиеся облака, приземлился ТУ-134. И еще не успела затихнуть прогремевшая над гарнизоном новость о прилете заместителя Главкома, командующего войсками и командующего ВВС округа, как «эскадрилье мастеров» была объявлена готовность номер один. Ефимова вызвали в штаб. В коридорах и нижнего, и верхнего этажей скрипели половицы под сапогами офицеров и генералов, с рулонами схем, таблиц и плакатов суетился штабной персонал; промчался, ничего не замечая, не отдавая чести генералам, раскрасневшийся командир ОБАТО. В кабинет Волкова Нонна Сосипатровна несла в сопровождении Перегудова поднос с чайным сервизом и никелированным чайником. «Забегали, – подумал Ефимов, – значит, серьезные дела начинаются». Он подождал, когда выйдет официантка, ободряюще кивнул ей, проводил взглядом (походка легкая, уверенная), вошел в кабинет. Растерялся только на мгновение – кому докладывать о прибытии? Кроме Волкова и Новикова за длинным столом, на котором изломанно бугрилась такая же длинная карта, сидели три генерал-полковника в полевой форме. Александр Васильевич, командующий ВВС, сразу понял затруднение Ефимова, улыбнулся краешками губ и показал глазами на соседей – им докладывай. Командующего войсками округа Ефимов ни разу не видел, но угадал по общевойсковой кокарде на каракулевой шапке. Значит, третий – заместитель Главкома. Ему Ефимов и представился. Пока он отвечал на профессиональные вопросы авиационного генерала, командующий войсками округа молчал и как-то загадочно улыбался, бросая на Ефимова через узкие щелки глаз оценивающие взгляды. Будто хотел понять, чего на самом деле стоит этот летчик. Он так же загадочно посматривал на него и во время разговора с Александром Васильевичем. И только когда Ефимову была поставлена задача и надо было идти готовиться к ее выполнению, командующий войсками встал и проводил его в коридор. – Кроме задания на летно-тактические учения, – сказал он, мягко посматривая снизу вверх в глаза Ефимову, – вам, товарищ майор, необходимо уяснить главное: на этих учениях за вашей эскадрильей будут следить высшее командование ВВС, представители Генерального штаба. Вам доверено защищать не только честь полка, но и честь округа. Прочувствуйте это. Задание у вас трудное. На послабления не рассчитывайте. Учения максимально приближены к условиям реальных боевых действий. Многое будет зависеть от вашего личного мастерства, воли, умения руководить действиями подчиненных. Характеризуют вас хорошо, и я надеюсь на успех. – Вздохнув, он сделал паузу, видимо, решая – говорить или не говорить. – Учения эти неожиданны не только для вас. Цена успеха, а равно и неудачи, будет чрезвычайно высока. Это вы должны знать. И еще… Если эскадрилья справится со всеми задачами учения, пойдете на должность заместителя командира полка. Сразу. Командующий посмотрел на Ефимова: не зря ли сказал все. Тень сожаления мелькнула и в его улыбке. Ефимов не любил выдавать обещаний, но ему захотелось успокоить этого немало повидавшего на своем веку человека: ему-то раньше времени зачем волноваться? И пообещал с искренней интонацией: – Выложимся, товарищ командующий, не подведем. Учения и вправду были усложнены до предела. В сумерках эскадрилью подняли в воздух. Взлетали парами, оставляя за собою длинные снопы форсажного пламени. В воздухе получили задачу на перелет с максимальной дальностью, с посадкой на незнакомом аэродроме. На рассвете было два вылета на полигон. Сперва разведка, а затем бомбометание по малоразмерным целям, бомбометание со сложного маневра, с хитрым тактическим построением, потому что «противник» оказался ушлым и грамотно организовал противовоздушную оборону района. Предполагалось, что на этом этапе учений в эскадрилье будут «потери». Но посредники Главного штаба ВВС оценили действия ефимовских асов как безошибочные, и эскадрилья в тот день улетела на новое задание в полном составе. Посадка предстояла на полевом ледовом аэродроме, созданном в ходе учений на замерзшем озере. В воздухе Ефимова предупредили, что погода в районе посадки на пределе допустимого минимума, метет поземка, ожидаются снежные заряды, ограничительная разметка посадочной полосы просматривается с большим трудом. Ему предлагали на собственное усмотрение альтернативный вариант: пока есть возможность, взять курс на ближайший стационарный аэродром. Ефимов отказался. Ему давно хотелось проверить и себя и своих подчиненных вот в таких экстремальных условиях. И боялся он в те минуты другого: в целях безопасности полетов эскадрилью могли повернуть силой приказа. Нет. Не повернули. Дали возможность всю полноту ответственности взять на себя комэску. И эскадрилья приземлилась на ледовом аэродроме исключительно четко. Однако, накапливалась усталость. Летчикам был нужен отдых, но их после дозаправки снова подняли в воздух и поставили задачу перехватить на дальних подступах групповую цель. После этого перехвата эскадрилья приземлилась на родном аэродроме с минимальным остатком топлива. Летчики только качали головами: в таком режиме жесткости они работали впервые. После торопливого ужина все буквально попадали на кровати профилактория. Задолго до рассвета эскадрилья вылетела на разведку полигона, где предстояло отыскать тщательно замаскированную малоразмерную цель. Отыскать и уничтожить. В условиях активного противодействия фронтовой истребительной авиации «противника». Двое суток ушло на решение этой задачи. Воздушные схватки завязывались на разных эшелонах, в самых неожиданных ситуациях. Анализ пленок объективного контроля все больше повергал Ефимова в уныние – эскадрилья «теряла» самолет за самолетом. И когда, наконец, удалось найти и разнести в клочья макет этой чертовой цели, среди боеспособных асов остался только один штык – командир эскадрильи майор Ефимов. На аэродроме уже чувствовался запах весны. Ефимов отстегнул замки привязных ремней и, опершись на острые края кабины, перекинул ноги на красную стремянку. Пока самолет будут готовить к вылету, можно посидеть вон на том ящике. Учения не закончены, все антенны локаторов еще вертятся, надо держаться до конца. Небо посветлело, хотя и оставалось каким-то заляпанным, небрежно замазанным грязно-серыми полосами. Типичное северное небо. – Был у нас в училище случай, – травили неподалеку изнывающие от безделья молодые летчики. – Двое курсантов летели на «спарке» в зону. И заблудились. Один предлагает: давай по железной дороге найдем станцию, ты снизишься, а я прочитаю название. А потом сориентируемся по карте. Так и сделали. Один снижается, второй смотрит. На станции форменный переполох. «Ну что? – спрашивает первый. – Прочитал?» – «Не, – говорит второй, – только две буквы разобрал: БУ». Развернули карты, ищут станцию с первыми буквами «БУ», а станции такой нет. Сделали второй заход – опять только «БУ». Первый рассердился. «Пилотируй, – говорит, – ты, а я буду читать, а то горючее на нуле». Пикируют, снова набирают высоту. «Прочитал?» – спрашивает второй. «Прочитал, – отвечает первый, – буфет». Летчики ржут, а у Ефимова нету сил даже улыбнуться. На душе муторно как никогда. За один день потерять всю эскадрилью! Правда, потери «противника» неизмеримо большие, но разве это оправдывает его командирскую несостоятельность! Полный провал. А начали-то не слабо. Ловко вывернулись от наземных средств ПВО, быстро нашли и разнесли вдребезги наземные цели. И никаких потерь! А все потому, что Ефимов лично сам, ножками исходил не один километр полигонной земли, когда его эскадрилья отрабатывала задачи по боевому применению. Не полагаясь на полигонную команду, сам проверял установку мишеней, их маскировку, сам следил за сменой тактической схемы. Привыкшие летать на полигон как на прогулку, его асы при первых же стрельбах оскандалились. Роптали на командира, мол, рубит сук, на котором сидит. Кому приятно ходить в двоечниках? Заело. Зато потом доказали, что умеют и в сложных условиях находить и поражать цели. Такое умение не исчезает бесследно. Как умение плавать, ездить на велосипеде – один раз научился, и на всю жизнь. Поэтому и в «бою» вышли победителями. В учебном, правда, но максимально приближенном к реальному. А вот в воздушных поединках – полный конфуз. И дернул его черт за язык давать обещания командующему. «Выложимся. Не подведем». Выложились… Смотрите все, какие мы красивые. Эскадрилья мастеров! Позорище на все военно-воздушные силы! Стремительно катившийся по рулежке уазик вдруг повернул к Ефимову, резко затормозил. Из него вышел улыбающийся Новиков. Ефимов поднялся ему навстречу и сразу оказался в крепких объятиях. От его куртки пахнуло знакомыми запахами стартового командного пункта. – Все здорово, – торопливо бросал прямо в ухо Ефимову Сергей Петрович, – это победа! Вы даже не знаете, как удивили заместителя Главкома. Был расчет, что эскадрилью выведут из строя наземными средствами ПВО еще на первом этапе учений. А вы живете и действуете. Две эскадрильи перемолотили. Генерала заело. Готовит какой-то каверзный сюрприз. Так что держите ухо востро. Но в любом случае – здорово! – Сергей Петрович, – Ефимов уже садился в кабину, расправляя лямки парашюта, – считайте, что вы поддержали мой угасающий моральный дух. Но когда от войска остается один командир, это пиррова победа. Утешения тут… Он не успел договорить. В небо взвилась зеленая ракета, и Ефимов тотчас услышал в наушниках команду: – «Полсотни седьмой», вам – воздух! Ефимов кивнул Новикову и повернулся к приборам, будто нырнул на глубину. Все земное осталось за тяжелым прозрачным колпаком кабины. Здесь – другие звуки, другие ощущения, другая жизнь. Вот эту силу, которую ты чувствуешь каждой клеточкой от набирающей обороты турбины, с чем ее сравнишь? Или вот это ощущение власти над умной, почти все понимающей машиной, когда ты едва заметным движением руки заставляешь ее проделывать немыслимые фигуры. Послушная твоей воле, она может, как живая, стонать от перегрузок и петь от радости, когда ей все легко удается. Кабина самолета по-прежнему оставалась для Ефимова тем убежищем, где он мог надежно укрываться от житейских забот, оставаясь наедине с небом и техникой. «И еще… Если эскадрилья справится со всеми задачами учения, – вспомнились почему-то слова командующего, – пойдете на должность заместителя командира полка». Эскадрилья не справилась, значит назначение не состоится. И слава богу. Ефимов однозначно отметил, что мысль о несостоявшемся назначении ничуть не огорчила его. Скорее обрадовала. Он не исчерпал себя и на должности комэска, а тут в заместители к Волкову. Зачем? «Затем, что Волков не всегда будет командовать полком». По заданному с КП эшелону и курсу перехвата Ефимов понял: цель идет с моря. Ему уже объяснили: предстоит встреча с радиоуправляемой мишенью, которая будет стремиться во что бы то ни стало прорваться к аэродрому. Это, пожалуй, и есть тот каверзный сюрприз, о котором говорил Новиков. Но в чем его каверзность? Уж чего проще сбить над морем видную со всех сторон мишень. Вот и знакомая прибрежная гряда. Укутанная северными снегами, она грозно предостерегает об опасности острыми выступами разломов. За ней – простор. Ефимов включил нужные тумблеры и почти сразу увидел на экране электронный всплеск. – Цель наблюдаю, на запрос не отвечает, – доложил он на командный пункт. – Работу разрешаю, – последовал ответ. Но метка от цели начала быстро уходить вправо, набирать высоту. Ефимов повернул самолет вправо и включил форсаж. Цель снова была в секторе захвата. Дистанция до нее стремительно сокращалась. Цель опять попыталась резким маневром оторваться от преследования, но Ефимов довернул самолет и снова загнал метку в прицел. Ну все, можно пускать ракету. Он нажал боевую кнопку и почувствовал, как облегченно вздрогнул самолет. Теперь можно отворачивать. Он уже хотел докладывать на КП об уничтожении цели – ракета безукоризненно сделала свое дело, – но сначала по привычке осмотрелся и увидел под собой стремительно несущуюся на встречном курсе вторую радиоуправляемую мишень. Она шла низко над водой и на фоне белопенных гребней хорошо просматривалась. Так вот он, «каверзный сюрприз». Пока Ефимов играл в кошки-мышки с первой целью, вторая, прикрываясь высоким берегом, незамеченно приближается к объекту. Если самолет «противника» пройдет невредимым и нанесет удар по аэродрому, все предыдущие усилия будут перечеркнуты. Ефимов взял ручку на себя и убрал обороты двигателя. Самолет полез вверх и почти остановился, как вздыбленный от натянутых вожжей скакун. – Врешь, милая, не пройдешь, – Ефимов перевернул самолет на спину, дал ему возможность набрать скорость в свободном падении. Самолет-мишень, сверкнув в лучах выглянувшего из-за облаков солнца, стремительно пролетел под ним. – Цель-два наблюдаю… Атакую! – доложил он на КП. Там произошло короткое замешательство, то ли не ждали второй мишени, то ли не думали, что Ефимов так быстро в нее вцепится. Но через несколько мгновений офицер боевого управления разрешил атаку. Не спуская глаз с мишени, Ефимов на какое-то мгновение упустил из вида приборы. А когда скользнул глазами по высотомеру, понял, что проскочил запрещенный эшелон. Его предупреждали: ниже тысячи метров не снижаться, на высоте до восьмисот метров идет активная миграция пернатых. Он же вывел в горизонтальный полет машину значительно ниже. Можно, конечно, выскользнуть из опасного эшелона, резко набрав высоту, но за эти секунды мишень выскользнет из сектора огня. А сейчас она была перед ним как на ладошке. Ефимов, не глядя, переключил органы управления вооружением на режим пушечного огня и аккуратненько «завел» мишень в сетку прицела. Стрелка вариометра уже подбиралась к восьмисотметровой отметке. «Пронесет, – подумал Ефимов, – неужто они тучей висят в стылом небе. Должно пронести». Он нажал боевую кнопку. Показалось, что не самолет, а сам летчик вздрогнул от пушечной очереди. Ефимов отчетливо почувствовал, что не промахнулся, и почти сразу увидел разлетающиеся куски металла от разрубленного снарядами фюзеляжа радиоуправляемой мишени. Теперь обороты и на высоту! Как можно скорее! Как можно стремительнее! Но он не успел. Как это обычно и бывает, услышал сперва глухой удар, потом треск, вибрацию. Сразу спрятал голову за прицел. Он знал, столкновение с крохой воробьем на такой скорости равно удару силой более тонны, если с вороной или уткой – примерно четыре тонны. Здесь, как правило, летают тяжелые особи. И, как правило, стаями. В такую стаю и угодил самолет Ефимова. Несколько птиц напоролись на крылья. Ударили, словно неразорвавшиеся снаряды. Машина выдержала этот многотонный удар, но уже в следующее мгновение самолет затрясся и затрещал страшным треском. Ефимов перевел ручку управления двигателем на «стоп». Стрелка указателя температуры метнулась в красный сектор и там осталась. Вспыхнул транспарант, предупреждающий о пожаре. Очередь из пушки, взрыв мишени, столкновение, пожар – все произошло в одно мгновение. Понимая, что самолет надо покидать, Ефимов доложил сначала об уничтожении цели, а затем о столкновении с пернатыми. – …Двигатель остановился. Пожар. Высота… тысяча метров. – «Полсотни седьмому» – прыгать! – властно приказала земля, и Ефимов, убрав с педалей ноги, рванул на себя держки катапульты. Заряд пиропатрона тяжелым ударом вышвырнул его из кабины, а когда раскрылся парашют, Ефимов поднял козырек светофильтра на шлеме, осмотрелся и замер от острой боли в груди. Его самолет… на его глазах… объятый пламенем… беспорядочно падал в море. Ефимов видел, как взметнулся фонтан брызг, смешанных с паром, как черные волны сомкнулись над местом падения игривыми белыми гребешками. И только косой хвост черного дыма неподвижно-грозно указывал своим острием место катастрофы. Не только самолета, но и катастрофы его, Ефимова, как летчика и как командира. Катапультирование – не такое уж частое явление в военной авиации. И независимо от того, кто виноват – летчик или техника, – каждое покидание самолета помнится в войсках стихийно долго. Ефимов даже не пытался искать себе оправдания. С детского сада приучал его отец к технике, растил среди механизмов и других «железок». Показывал и объяснял, сколько надо вложить труда, чтобы построить простенькую лебедку для подъема воды из колодца. Первый свой велосипед Ефимов собрал из деталей, выброшенных на свалку. Первую радость управления автомобилем испытал на отцовском «Запорожце» класса «мыльница». Эту машину в их семье бережно холили, любили, много говорили о том, как непросто создать даже такое простое средство передвижения. А самолет? Разве можно хоть отдаленно сравнивать современный истребитель с «Запорожцем»? Самолет, конечно, поднимут, но в небо ему подняться уже не дано. Через полчаса закоченевшего в ледяной воде Ефимова выловил вертолет поисково-спасательной службы и доставил в авиагородок. Винтокрылая машина приземлилась рядом с медпунктом. И хотя Ефимова уже успели и переодеть, и растереть, и привести в чувство, выносили его из вертолета на носилках. – Я сам могу. Зачем на носилках? – пытался протестовать Ефимов. – Не хочешь на носилках, – улыбнулся полковой врач, – на руках понесем. Ты у нас герой дня. «Если даже такой интеллигентный человек, как доктор, не удержался от шпильки, дело – труха», – подумал с горечью Ефимов. Потом в палату к нему вошел Перегудов. Показал большой палец, пожал руку. – Молоток! Орден получишь. – И ты, Брут… – «Молния» висит. «Заместитель Главкома благодарит мастеров». Враг разбит, победа за нами! Мои девки готовят вашей эскадрилье такую встречу – фейерверк! А тебе… – Не будет фейерверка, Иван Христофорович, – перебил его Ефимов. – Я самолет утопил. – Ну и что?.. При чем здесь ты? – При том, Иван Христофорович… Хреновым я летчиком оказался… Самолет на моей совести. Если бы не знал, что ниже тысячи нельзя, а я знал, последствия предвидел и все-таки влип. – Не будь дураком, Федор, – Перегудов посмотрел на дверь и снизил голос. – Твой последний доклад записан на пленку. Там четко: высота – тысяча метров. Ты лучше помалкивай. Понял? А я – могила. Будь! Как бы это было просто… Никому ни слова, и ты чистенький. А как потом жить с этим грузом? Как людьми командовать? Как требовать от них быть честными? У лжи короткие ноги. Далеко не убежит. Принесли какие-то таблетки, проверили давление, измерили температуру, сняли кардиограмму. Врач удовлетворенно сказал: есть признаки физического переутомления, но других отклонений от нормы не наблюдается. – Попить чайку и спать. Но ни попить чайку, ни тем более поспать ему не дали. В палату шумно вошел подполковник Волков и, чего за ним никогда не водилось, по-мужски крепко обнял Ефимова. – Сработали блестяще. – Он был радостно взволнован. – Когда в воздух подняли эскадрилью, замглавкома мне сказал: «Вернется домой хоть один самолет, уже будет хорошая оценка». А вернулись все. – Но эскадрильи нет… – Зато есть победа, да еще какая звонкая. И будет отличная оценка. Ты даже не представляешь, что это значит. Уже заготовлен проект приказа – пойдешь ко мне заместителем. А там не за горами и полк. Как чувствуешь себя? – Нормально. – Тебя хочет видеть заместитель Главкома. И командующий войсками округа ждет. Сможешь сейчас поехать? Ефимов понимал, что своим признанием напрочь испортит командиру праздничное настроение. Он попытался найти хотя бы какие-нибудь оправдательные аргументы для молчания, пытался хоть как-то убедить себя, что нет необходимости именно сейчас, сегодня выкладывать истинные обстоятельства гибели самолета. Тайна укрыта толстым слоем воды. Когда еще поднимут затонувший самолет. Не заглянув в «черный ящик», теперь не определишь, до какой высоты он снижался. К тому времени страсти улягутся, можно будет удивленно пожать плечами, прикинуться дурачком, небрежно спросить: «Разве семьсот? А я и не заметил, за целью следил. Вы же помните, какая горячая обстановка была? Честь полка, честь округа…» Честь, завоеванная бесчестием. Нет, Ефимов, это не для тебя. Лучше на голгофу. Волков выслушал его исповедь, не перебивая. Молча походил по палате, постоял у окна. Взял в углу легкую белую табуретку и с размаху, так что задребезжали мензурки в шкафчике, пригвоздил ее к полу возле ефимовской кровати, сел. – Мы с тобой, Федор Николаевич, служим вместе не первый год, – начал он, не отводя взгляда. – Честность и что она значит для летчика понимаем правильно. Твое признание – это норма. Я понимаю и ценю. Теперь давай посмотрим на все происходящее объективно. Поставленные учениями задачи эскадрилья решила? Решила! И решила блестяще. Проверяющие разводят от удивления руками. Ведь перед вами были поставлены, по мнению некоторых специалистов, невыполнимые задачи. А когда ты сшиб последнюю мишень, замглавкома чуть стол кулаком не расшиб: «Значит, говорит, можно!» Уже завтра результаты учений будут доложены на самом высоком уровне. Натяжка здесь есть? Никакой! Все железно! А теперь представь себя на месте руководителя учений. Расставлены все точки над «i», отзвучали фанфары… И тут, здравствуйте, тебе докладывают о чрезвычайном происшествии: самолет погиб не от случайного столкновения с птицами, а по вине летчика, по вине того самого комэска, которого заслуженно поставили всем в пример. Что ему остается делать в такой ситуации? За подобные ЧП, как ты знаешь, отличных оценок не ставят. Да и вообще… Как же быть? Я считаю, что тебе о случившемся – можно не говорить. Ты просто не уверен, на какую высоту снизился. В такой напряженной обстановке все могло показаться. Твои предположения надо еще проверить, надо поднять самолет. Проще всего – бухнуть в колокола, не заглянув в святцы. – Волков пожал плечами, утвердительно потряс головой. – До поры до времени помолчать, это будет честно, Федор Николаевич. И по отношению к товарищам, и по отношению к себе. Ефимов все понял: Волков подсказывал ход. Бросал ему спасательный круг, вооружал аргументами для усыпления совести. Все логично, все убедительно. Но дело в том, что Ефимов не сомневался в случившемся. И ни черта ему не показалось. Он был на все сто уверен о своей вине. Подсказанные Волковым аргументы могли быть убедительными для кого угодно, но только не для Ефимова. Что бы он ни думал, что бы ни говорил, он всегда будет знать истину и будет знать, что любое отклонение от нее – это ложь. Бесчестие остается бесчестием, в какие бы одежки его ни рядили, какими бы румянами ни подкрашивали. Правда одна. – Одежду тебе принесли, одевайся. – Волков открыл дверь, кивнул, и медсестра внесла в палату повешенный на плечики повседневный мундир, который Ефимов оставил перед вылетом в раздевалке. – Поедем сначала к командующему войсками, затем к заместителю Главкома… Не говори сейчас ничего. Подумай. Как только они сели в машину, уазик круто развернулся и набрал скорость. За время пребывания высоких гостей в гарнизоне все дороги и дорожки были выровнены бульдозером, укатаны катком. Никаких колдобин, никаких ям. «Оказывается, можно…» Возле столовой в машину подсел Новиков. Волков заволновался, видимо, почувствовал какую-то слабину в своей позиции, неуверенность. Знал, что комиссар не поддержит его в сомнительной ситуации. – Как самочувствие? – поинтересовался замполит. – Неважное, Сергей Петрович, – сказал Ефимов, глядя на Волкова. – Надо было лежать, – твердо сказал Новиков. – Зачем вставал? Начальству нужен? Сами придут. – Не пыли, Сергей Петрович, – остановил его Волков, – Ефимов о другом… Сомнение у человека появилось. Ему, видишь ли, показалось, что наскочил он на птиц, промахнув запрещенный эшелон. Казнится, считает себя виноватым в гибели самолета. – Подымем самолет, проверим, – сказал Новиков, не отводя взгляда от лица Ефимова. – Вот и я о том же! – обрадованно повернулся на переднем сиденье Волков. – Потерпи. Установим наличие факта, тогда и переживай. Тогда и повиниться не грех. – Да нет у меня сомнений, – устало сказал Ефимов и умолк. Ему расхотелось все объяснять сначала, расхотелось вообще говорить с кем бы то ни было. – Вот и хорошо, – удовлетворенно кивнул Волков. Он слова Ефимова понял как отказ от намерения раскрыть руководству правду о гибели самолета. Из машины вышли у свежевыкрашенного одноэтажного домика. В нем когда-то жили командир и его заместители. Потом все они переселились в новый двухэтажный дом, а старый щитовой отремонтировали, обставили изысканной мебелью, и теперь здесь принимают высокое начальство. – Подожди, – придержал Волков Ефимова, – я доложу командующему. Как только он скрылся, Новиков взял Ефимова под руку, промял ногою снег у крыльца. – Я не знаю, что тебе посоветовать, – сказал он. – Если сомневаешься… – Да нет же, Сергей Петрович. Никаких у меня сомнений нет. – Тогда не знаю… Жаль, конечно. Такое совершили, и коту под хвост. Жаль. – Новичку простительно, – Ефимову хотелось найти для себя слова побольнее, – а тут летчик-снайпер, командир эскадрильи… Обделался, как младенец. По самые уши… Не сочувствуйте мне, Сергей Петрович. Все, что заслужил, я должен получить. Новиков поморщился, как от зубной боли. – Я и о других думаю. Им-то за что? О других и Ефимов думал. И – это было мучительно. Он вошел в комнату, где его ждал командующий поисками округа. Изразцовая печка щедро источала тепло, пахло новыми обоями. Бесшумно ступая по мягкому ковру, генерал поздоровался за руку, справился о самочувствии, высказал удовлетворение по поводу благополучного катапультирования. – Говорят, летчики не любят катапультироваться? – Хорошего мало, товарищ командующий. – Это верно, – согласился генерал и сразу переключился. – Чем вы объясняете причину успеха вашей эскадрильи? Ефимов разочарованно вздохнул. После слов «чем вы объясняете причину» он ждал иного продолжения и уже готов был к тому ответу, который сразу освободил бы его от двусмысленности. Но командующего интересовала причина успеха. – Я не считаю, товарищ командующий, этот успех полным. – Ефимов заметил, как напрягся Волков. В глазах командующего, наоборот, что-то помягчело и сменилось искренним интересом. – Мы могли и в воздушных поединках сохранить самолеты. – «Противник» превосходил вас втрое, – возразил генерал, – тут уже объективный фактор… – Простите, товарищ командующий, но я не согласен. В данном случае сказалась недоученность личного состава. – Заметив, как командующий посмотрел на Волкова, Ефимов не стал вдаваться в подробности методики обучения, не стал говорить о наслоившихся за многие годы элементах перестраховки, сдерживающих стремление летчиков к инициативе и творчеству, объяснил просто: – Нам не хватило времени, не все успели сделать, что задумали. Командующий помолчал, достал из кармана миниатюрный футлярчик для лекарства, вытряхнул из него какую-то таблетку, бросил в рот, запил водой из стакана. «Если не спросит, говорить не буду», – решил Ефимов, увидев гримасу на лице генерала. Видимо, лекарство было не очень приятным на вкус. – Как вы считаете, – заговорил командующий снова, – можно обучить весь полк летать на таком уровне, как ваша эскадрилья? – Можно, товарищ командующий, – тут Ефимов не лукавил. – Если кое-что поменять в методике обучения, задачу эту можно решить в короткий срок. Командующий повернулся к Волкову. – Разделяете это мнение? – Так точно, – отчеканил Волков. – В таком случае, готовьте обстоятельный доклад. В канун летнего периода заслушаем вас на военном совете. – Есть, готовить доклад, – вытянулся Волков. – Завтра с утра разбор, – командующий протянул руку Волкову, затем Ефимову. И снова, как при первой встрече, посмотрел на него хитровато-сощуренными глазами: мол, мы-то с тобой знаем все, а они пусть думают, что хотят. – Разрешите, товарищ командующий, доложить? – Ефимову показалось, что он нашел пусть не самый лучший, но хоть какой-то выход из создавшегося положения. – Пожалуйста, говорите, – разрешил генерал. – В успехе эскадрильи, товарищ командующий, меньше всего моих заслуг. – Он сделал вид, что не заметил жестов Волкова. А тот и глазами и бровями приказывал молчать. – Еще и года не прошло, как я назначен на должность комэска. Я у подчиненных учился больше, нежели они у меня. И если нам что-то удалось на этих учениях, это их заслуга, а не моя. – В заслугах мы как-нибудь разберемся, – улыбнулся командующий и кивнул: всё, свободны… Заместителя Главкома они нашли на командном пункте. Вместе с другими генералами и офицерами он прослушивал магнитофонные записи, на которых были зафиксированы команды, поставленные в воздухе задачи, доклады о боевой работе, другие переговоры. Слушая записи, члены проверочной комиссии одновременно просматривали разложенные на столах материалы объективного контроля. Как понял Ефимов, здесь шла интенсивная подготовка к разбору учений. Волков что-то шепнул одному из офицеров, тот подошел к заместителю Главкома и тоже что-то шепнул ему на ухо. Генерал кивнул, дослушал до конца записанную на пленку перебранку летчика с офицером наведения и объявил «перекур». – Держись как с командующим, – сказал Ефимову Волков. – Курс ты выбрал правильный. Если не спросит, сомнения свои оставь при себе. Был «бой». При таком напряге что хочешь может показаться. Слова Волкова не пробивались к сознанию Ефимова. Повторяя придуманную версию, Иван Дмитриевич, видимо, сам в нее поверил и уже не сомневался, что именно так думает и Ефимов, поэтому говорил бесстрастно, бубнил на одной ноте: – Сомневаться каждый волен, но пока наши сомнения не станут убеждением, пока не подтвердятся доказательствами, их надо держать при себе. – Иван Дмитриевич… У меня нет сомнений, – тихо, но твердо повторил Ефимов. – Я четко зафиксировал высоту снижения. Волков кашлянул и растерянно посмотрел на заместителя Главкома, тот встал из-за стола и шел в их сторону. – Ефимов, я прошу тебя… – только и успел сказать Волков, потому что генерал был уже рядом и, по-доброму улыбаясь, протягивал руку. Заговорил он ровно, спокойно: – Вы нам несколько перепутали замысел, товарищ майор. На заключительном этапе мы рассчитывали вместо вашей эскадрильи ввести свежие силы. Предполагалось, что наземные средства ПВО доконают вас… Потом переиграли замысел и те самые свежие силы бросили против вас. Решили до конца испытать вас на прочность. Справились вы с этой задачей успешно. Хотя признаюсь: грешен. Не верил. Не в вашу пользу была обстановка. Так что честь и хвала. Подробнее обо всем мы поговорим завтра на разборе. Как себя чувствуете после катапультирования? – Нормально, товарищ генерал-полковник. – Степень усталости нас тоже интересует. Работа была нелегкая. Вам следует отдыхать. Я бы не стал беспокоить, но возникла необходимость уточнить детали последнего перехвата. Некоторые показатели объективного контроля не стыкуются с докладами наземного наблюдения. А что, если не птицы виноваты в аварии самолета? У нас есть данные, что ни одна стая, ни одна особь в районе полетов не превышала эшелон в восемь сот метров. – Разрешите доложить, товарищ генерал-полковник? – Больше Ефимов не считал нужным молчать. И так уже… Сразу надо было, с порога, чтобы не ставить заслуженного и уважаемого человека в глупое положение. Ведь ему сейчас придется резко менять оценки, отношение, тон в разговоре. Сразу надо было, сразу. Не откладывая. И Ефимов заговорил, не ожидая разрешения. Заговорил торопливо и, как ему казалось, путано. Словно боялся, что его остановят и не дадут высказаться. На самом деле это был профессиональный доклад с безошибочно отфиксированными параметрами полета – высота, обороты двигателя, скорость, тангаж[5], дальность до точки, время. Он называл все цифры настолько точно и уверенно, что для сомнений не оставалось ни малейшей лазейки. За время, прошедшее после катапультирования, его подкорка, подобно компьютеру, подсознательно проанализировала не только причину катастрофы, но и возможные варианты ее предотвращения. Не задумываясь, будто перед ним лежал учебник, Ефимов пункт за пунктом доложил, как обязан был действовать в сложившейся ситуации. – Что помешало вам сделать все это своевременно? – В голосе генерала угадывались досада и раздражение – нормальная реакция нормального человека. – Я полагаю, самоуверенность, – не стал щадить себя Ефимов. Хотя мог сослаться на усталость, на увлечение боем, на желание во что бы то ни стало сбить мишень. Все это действительно было, но ни в коей мере не оправдывало его. Он мог, но не сделал. Генерал грустно и расстроенно качнул головой – все эти сведения не укладывались в его сознании. – За откровенность – спасибо. Завтра доложите проверочной комиссии. А сейчас – в медпункт. Воздух в помещении КП был прокуренным и спертым: здесь никогда не скапливалось столько народа. Даже вентиляционная система не справлялась с плавающим под потолком дымом. И когда вышли на свежий морозный воздух, Ефимов остановился и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. До головокружения. Волков молча прошел мимо него к машине и громче обычного хлопнул дверцей. Поскольку приглашения сесть в кабину не последовало, Ефимов задернул молнию до самого подбородка и пошел пешком. Но Волков окликнул его и уже не пригласил, а приказал сесть в машину. До медпункта он не проронил ни слова. И Ефимову сейчас меньше всего хотелось заново начинать объяснения. Дело сделано. Слова уже ничего не могли ни убавить, ни прибавить. Когда машина притормозила у медпункта, Волков все-таки не сдержался. – Вы сами подписали себе приговор, Ефимов, – бросил он через плечо. – Способный летчик, толковый командир… Такие перспективы открывались… Глупо. «Наверное, глупо», – думал Ефимов, лежа с закрытыми глазами. На тумбочке стыл ужин, красовался огромный апельсин (откуда он здесь?), лежали свежие газеты. Ничто не волновало. Не было никаких желаний. Даже думать не хотелось. Вертелись, правда, какие-то обрывки старых мыслей. Но они уже были бесформенные и холодные, как остатки сгоревших листьев – не обжигали, не вызывали тревоги. Пепел былых костров. «Хорошо, что Нина ничего об этом не знает… Хорошо, что ее нет рядом…» Вспыхнуло и угасло некое подобие радости. Потом он увидел Нину во сне. Летнюю, солнечную, и свободном сарафане с обнаженными плечами, с букетом полевых цветов. Она, осторожно балансируя, шла по железнодорожному рельсу, шла, не глядя под ноги, нащупывая босыми ногами блестящую поверхность металла, и улыбалась, ожидая похвалы за ловкость. А он не торопился хвалить ее, просто любовался и манил за собой. Но оказалось, что Нина идет по бегущей резиновой дорожке Пулковского аэропорта. И эта дорожка не приближает ее к нему, а уносит все дальше и дальше… – Подожди! – крикнул он. – Я сейчас! Крикнул и проснулся от звука собственного голоса. Возле койки с раскрытой газетой в руках сидел Руслан. – Силен ты спать. Я уже полчаса жду, – сказал он. – Я что – вздремнул? Который час? – Девять вечера. – Хорошо вздремнул. Несколько часов кряду. Спал он, видимо, крепко – не слышал, когда из палаты убрали застывший ужин, переставили в другой угол кислородный баллон и штатив для капельницы. Значит, спал нормальным здоровым сном. – Не знаешь, зачем меня держат медики? – спросил Ефимов. – Обычное дело. После катапультирования положено полное обследование. Не будет жалоб, завтра выпустят. Иначе – в госпиталь. Руслан сложил газету. Интересно, он уже все знает или признания Ефимова пока еще не стали предметом всеобщего обсуждения? Поймет или не захочет понять? Несмотря на то, что Руслан раньше всех своих ровесников стал командиром звена, чем-то он был все равно не удовлетворен, чувствовалось, что его постоянно что-то гложет. – Чего нахохлился? – спросил Ефимов напрямую. – Чем недоволен? Говори. – Завидую Коле Муравко, – Руслан грустно улыбнулся и знакомым движением пятерни закинул упавшие на лоб волосы. – По-доброму, конечно, завидую. Я, знаешь, написал письмо флотскому кадровику. Во сне вижу корабль, море, по вертикали взлетаю… Все время думаю: если не вернусь в морскую авиацию, что-то главное в моей жизни пройдет мимо. Мой однокашник, который остался на крейсере, письмо прислал. Уже орден получил. А летал он слабее меня. С вопросами ко мне все бегал… Хочу вернуться на корабль. Как думаешь, отпустят? Так вот в чем дело. Вот чего ему недостает. Морской романтики. А может, ордена? Может, думает, что там ордена вешают всем подряд? – Кажется, Чиж или кто-то другой – не помню – говорил, что счастье не в награде за доблесть, а в самой доблести. – Коля Муравко тоже будет выдавать такие сентенции, когда станет Героем Советского Союза. Однако не отказался от предложения стать космонавтом, хотя с полком был связан покрепче нашего. И дело свое любил самозабвенно… – Руслан помолчал и убежденно закончил: – Да нет, стать в очередь за Золотой Звездой никто не откажется. Даже если годами ждать надо. – Упрощаешь, Русланчик. – Хочешь сказать: «А вот я же отказался?..» Ты, Федя, уникум. Ты не в счет. – Он резко подвинулся к Ефимову и посмотрел ему в глаза. – Ходят слухи, что ты и за самолет взял вину на себя. Это правда? Значит, все-таки слухи ходят. Кто-то из тех, кто присутствовал на КП? Или Перегудов? Впрочем, теперь и сам Волков мог сказать. – Да, Руслан, я виноват. – А наземные посты наблюдения не подтверждают. Момент катапультирования теодолиты зафиксировали выше тысячи метров. Не обижайся, но ты свалял крупного дурака. Зачем? Ради чего? Обидно. Говорят, когда ты сбил вторую радиомишень, заместитель Главкома при всех сказал: «Этот парень заслуживает самой высокой награды». Чем теперь все кончится – никто не знает. Угроблен такой самолет. За это по головке не гладят… – А ты бы на моем месте?.. – По крайней мере, подождал бы. Поднимут самолет, проверят показания… Виноват так виноват. Никто бы тебя не упрекнул за это. – Это всего-навсего отсрочка на несколько дней. Что изменится? – Не скажи. Сейчас это выглядит, как вызов всем, как выходка самовлюбленного эгоиста: плевал я на ваши заботы, лишь бы не пострадала моя честь. Все так думают. – Врешь! – Ефимов почувствовал, как в нем закипает злость. Он знал людей, с которыми летал в одном небе, любил их за честное отношение к своему делу, верил и сам дорожил доверием, которое оказывали ему. Слова Руслана звучали оскорбительно по отношению к товарищам. Да, Ефимова многие не поймут. Но не за то, что он признал свою вину. Не поймут, как мог допустить такую банальную ошибку, как мог так бездарно загубить самолет. За это он готов принять и гнев товарищей и осуждение. – Врешь ты, Руслан. Все летчики так не могут думать. Ты знаешь. Есть же что-то более важное в жизни, чем наши амбиции. – Ладно, поговорили. – Руслан встал и бросил на тумбочку скрученную в трубку газету. – Куда нам, дуракам, со своей клешней… Будь здоров. Спокойной ночи. – И тебе того же. Чувствовал ли Ефимов радость, когда был назначен командиром эскадрильи? Гордился ли оказанным доверием? Считал ли заслуженной высокую честь возглавлять коллектив мастеров? Да, гордился. Но феерической радости не испытывал, потому как честь считал незаслуженной – в полку были летчики более авторитетные. Гордился он доверием летчиков. Они приняли его власть над собой спокойно и с пониманием: командовать труднее, чем подчиняться. Ответить на это доверие Ефимов мог только повышенной требовательностью к себе, повышенной ответственностью. Он не сомневался, что легко и быстро освоит формальную часть своих обязанностей, но боялся, что ему не хватит опыта и житейской мудрости постичь ту глубинную суть командирской должности, обрести те убеждения, которые, собственно, и делают командира Командиром с большой буквы, дают ему нравственное право повелевать от имени Родины. Теперь он знал, что это право не завоевывается в одночасье. Его заслуживают каждым днем своей жизни, каждым поступком, каждым словом. 2 – Скажи, Марго, куда пишут заявление, когда на развод подают? – спросила Нина подругу, перешагивая через свежую лужицу у подъезда лаборатории. Она постаралась вложить в сказанное как можно больше игривой беспечности, но Марго сразу все поняла и настороженно посмотрела на Нину. – Ты что задумала? – Господи, уж и слова сказать нельзя. Марго зябко шевельнула плечами и поправила у подбородка свой неизменный оранжевый шарф. Хотя в Ленинграде и запахло весной, и у Петропавловской крепости появились первые любители загара, март уходил нехотя. По ночам он давил морозами, и довольно чувствительными – до десяти-пятнадцати градусов, а днем до костей прошивал ледяным ветром, даже через многочисленные одежки. Марго же во все времена года, за исключением трех летних месяцев, носила одно и то же пальто из тонкой, потертой на сгибах темно-коричневой кожи, такого же цвета изящные, но холодные сапоги и легкомысленную вязаную шапочку. Ей сейчас хотелось поскорее к себе в кабинет, а не бродить ради праздной болтовни по стынущей набережной. – Если просто так, то заявление надо писать в загс, – сказала она безразлично, – поскольку развод есть акт гражданского состояния. – А через несколько шагов добавила: – При наличии детей заявление рассматривает суд. По месту жительства. И не надо глупых вопросов. – Не злись, Марго, – улыбнулась ей Нина. – Ты же сама говорила, что отрицательные эмоции сказываются на пищеварении. А мы с тобой только-только пообедали. – Зайдешь ко мне после работы, – неожиданно требовательно бросила Марго, прежде чем они переступили порог лаборатории. В машинном зале Вычислительного центра Нина прошла к своему шкафчику, неторопливо стянула пальто, подаренное в прошлом году свекровью, теплые сапоги, купленные в январе свекром, норковую шапочку, презентованную Олегом при возвращении из «длительной командировки», и усмехнулась горько и безысходно: повязана. Но, вспомнив слова Марго, ее глубокую убежденность, что Нина действительно давно и прочно повязана «тысячью невидимых пут», упрямо сжала губы и, поправив перед зеркалом волосы, с вызовом сказала: «А это мы еще поглядим». Нина не лукавила, когда, прощаясь с Ефимовым, просила его не напоминать о себе. Тогда ей казалось, что его исчезновение избавит их обоих от лишних страданий, поможет быстрее обрести душевное равновесие, а все, что было между ними, она постарается вспоминать лишь иногда, как вспоминают детство: с тихой радостью и светлой грустью. Она просила искренне, надеясь, что и Ефимову тем самым облегчит существование. И это будет избавлением, быть может, избавлением вечным. – Не пиши, не звони, ничем не напоминай о себе, – говорила она, прижимаясь щекой к его груди. В комнату, после короткой, как вздох, ночи уже вползал хрупкий рассвет, вяло проявлял очертания предметов. На тумбочке мягко тикал заведенный на пять утра будильник. По Тихорецкому, лязгая тяжелыми бортами, пошли первые самосвалы. В сумраке комнаты его загорелое лицо на белой подушке казалось Нине таким неповторимо дорогим, таким единственно родным и милым, что мысль о расставании била ее ознобом, и она в исступлении целовала его лоб, глаза, мягкие белые волосы, целовала нос, щеки, ощущая на губах соленый привкус собственных слез. – Придет время, и я тебя найду, сама… Найду, где бы ты ни был. – Веришь? – Верю. Иначе бы все потеряло смысл. Она была счастлива, что получила у судьбы в подарок эту ночь, что на несколько часов забыла про мужа, про Ленку и даже про себя. Дорога ей предстояла дальняя и трудная, и эта ночь – как последний полустанок для передышки. И когда потом, позже, Нина ловила на себе сочувственные взгляды подруг и знакомых, она возвращалась в эту ночь, убежденно говорила себе: у тебя было это, тебя любили возвышенно и чисто, и ты отвечала тем же безгранично искренне. Ты была на этой высоте, значит, ты счастливый человек, и жаловаться тебе на судьбу грех. Ковалева прямо в зале суда взяли под стражу. Его родители в тот же день приехали к Нине и сказали, что не оставят ее без внимания. Свекор положил на стол конверт с деньгами, предупредив, что будет ежемесячно приносить на Ленку, а свекровь как бы вскользь высказала желание забирать девочку к себе хотя бы на субботу и воскресенье. Виктор Федорович и Тамара Захаровна работали в снабженческом Главке и пользовались государственной дачей в Солнечном. Причем пользовались круглогодично, уезжая вечером в пятницу и возвращаясь утром в понедельник. Нина понимала, что для здоровья девочки эти еженедельные поездки на двое суток за город были бы очень нужны, но ответила свекрови уклончиво: – Посмотрим, Тамара Захаровна, может, мы с Ленкой будем вместе приезжать к вам. И они действительно приезжали. Иногда в субботу, иногда в воскресенье, гуляли вдоль залива. А когда Виктор Федорович купил «Волгу», Ленка бесцеремонно требовала, чтобы ее везли на озеро Красавица, где независимо от погоды непременно лезла купаться. Нину и впрямь не оставляли без внимания. Чуть ли не каждую неделю свекровь привозила ей продукты: то вырезку говяжью, то авоську с апельсинами, то дефицитные консервы. Виктор Федорович тоже наезжал, как правило, с подарками. Задерживался недолго, оставляя на тумбочке в прихожей то духи, то пакет с колготками, то баночку черной или красной икры. Накануне больших праздников они приходили вместе, торжественно приглашали Нину в гости и так же торжественно вручали ей и Ленке подарки: подороже, попрактичнее, одежду, обувь. До определенного времени Ленка верила, что ее папа уехал «в очень долгую командировку», и все, что ей дарили, якобы присланное папой, принимала с неизменным восторгом. Но однажды Нина заметила, как девочка перед уходом в школу торопливо переложила книги и тетради в старенький, купленный мамой ранец, а красивый «папин портфель» сунула за зеркало. Через несколько дней то же самое было проделано с «папиными туфельками» и «папиным передником». Нина терпеливо ждала вопросов от дочери. И вскоре Ленка спросила: почему ее обманывают и говорят, что папа в командировке, когда на самом деле он в тюрьме? Тщательно заготовленный и продуманный ответ вылетел у Нины из головы, будто его выдуло ветром. И у нее вырвались слова, которые она ни в коем случае не должна была говорить, тем более выкрикивать. – Какой дурак тебе это сказал?! Ленка не по-детски серьезно посмотрела на мать, посмотрела с упреком: – Я же тебе верю, мама… «А ты не суйся во взрослые дела», – хотела выкрикнуть Нина, но голоса хватило только на болезненный всхлип. Она почувствовала, что копившиеся годами слезы освобожденно хлынули наружу. Испуганная Ленка обнимала ее за шею, целовала, шептала что-то в утешение, а Нина от этих слов, от поцелуев и теплых детских рук еще больше раскисала и ревела, даже не пытаясь себя сдержать. Ей не хотелось больше контролировать свои поступки, слова и даже мысли, ей вообще не хотелось жить. Ну, на кой черт ей такая жизнь, если она вся построена на лжи? Лгала сначала себе, когда Ковалев звал ее в жены, потом лгала ему, что любит, лгала его родителям, своей единственной подруге Марго, лгала матери, и вот докатилась – начала лгать ребенку. Еще хорошо, что удержалась от вранья Ефимову, и говорила ему хотя и неприятную, хотя и жестокую, но правду. Хотелось только одного: еще разочек его увидеть, услышать густой рокот неповторимого голоса, прикоснуться к его мягким волосам, заглянуть в глаза – вот только ради этого, может быть, и стоит еще цепляться за жизнь. Да еще ради Ленки, этого теплого, прильнувшего к ней родного существа, ее умницы-разумницы… Откинув плед, Нина встала с дивана, умылась, припудрила опухшее от слез лицо, потом прошла на кухню и поставила на газ чайник. Готовя вечерний чай, она хотела собраться с мыслями, чтобы, разговаривая с Ленкой, не сфальшивить снова. Девочка уже все понимает, и говорить с нею надо всерьез. – Сейчас мы с тобой устроим настоящий пир, – сказала Нина, вспомнив, что, выходя из метро, купила и положила в морозилку две порции любимого Ленкиного пломбира. – Кофе гляссе! Пировали, сидя за столом друг против друга. Нина вглядывалась в лицо дочери, пытаясь определить, на кого она становится похожей, и неожиданно для себя стала обнаруживать все больше черт своей матери Евдокии Андреевны: та же припухлость у глаз, такой же вздернутый нос, такие же выпяченные губы и такой же овал лица. А вот глаза не бабушкины. Разрез отцовский, а коричневые крапинки вокруг зрачков – ее, Нинины. И ресницы, пожалуй. А уж про шею и говорить нечего, вытянулась, как у гуся. Нинина шея. И плечи Нинины: покатые, никакой угловатости, присущей девочкам такого возраста. Да, разрез глаз, брови и лоб – отцовские. И оттопыренные уши его… – Раз ты спросила, доча, я расскажу тебе все… – Нина ошиблась, думая, что говорить правду просто. Как мучительно заметались ее мысли, как вдруг сузился круг знакомых понятий, как полезли на язык самые неточные и самые неубедительные слова. – Твоего папу осудили не за преступление… Брови девочки удивленно поползли вверх. – Ну, не в том смысле, что он сам совершил убийство или еще что… Просто, случайно погиб человек… Ленкины зрачки недоверчиво сузились, и Нина не выдержала: – Скажи сначала: что ты об этом слышала? – Я знаю все, мама. Папа осужден на семь лет, по его вине погибла лаборантка. И не надо его выгораживать. – Он твой отец. – Неожиданно жестокая правда в словах дочери испугала Нину. – Ты же знаешь, как он любит тебя. – Если бы любил, – по-взрослому кусая губы, сказала Ленка, – не было бы такого… – Но ведь это несчастный случай, понимаешь? «Чего же я опять изворачиваюсь? Зачем опять пытаюсь лгать? И когда все это вообще кончится?» – спрашивала себя Нина, загнанная в угол собственным ребенком. И неожиданно сказала себе: «Хватит! У тебя есть один способ сохранить дочь – ломай ногти, цепляйся зубами, но из трясины этой вылезай». Убрав со стола посуду, она подсела к телефону и позвонила родителям Олега. Трубку снял свекор. – Виктор Федорович, – сказала Нина твердо (Ленка стояла рядом), – ваша внучка знает, что ее отец осужден. Не приносите ей от него подарков, она не будет их принимать. – И добавила, пока на том конце не пришли в себя: – Мне тоже больше не приносите ничего. Мы сами. – Я сейчас приеду, – только и сказал свекор. Голос у него был взволнованный и хриплый. Нина хотела возразить, но там уже звучали короткие гудки. – Ну и пусть! – отчаянно сказала Нина, подумав, что если обрубать концы, то лучше сразу. Ленка обняла ее и, уткнувшись носом в живот, шептала какие-то слова, из которых Нина поняла, что дочь поддерживает отчаянное сумасбродство матери. Виктор Федорович разговаривать при Ленке категорически отказался и попросил Нину одеться и выйти на улицу. Стоял декабрь, на промерзшую землю падал лохматый снег. В сквере возле Политехнического черным комком на белом ковре метался лохматый спаниель, все время пытаясь благодарно лизнуть своего неторопливо прогуливающегося хозяина. Тот ласково отмахивался и каждый раз говорил одни и те же слова: «Тишка, вперед…» И в его голосе угадывалась спокойная доброта человека, знающего абсолютно все про свою жизнь и про свое время. И Нине вдруг подумалось, что когда у нее все это кончится и когда она будет с Федей Ефимовым, они обязательно заведут вот такого же лохматого спаниеля, с которым вот так же неторопливо будут гулять в заснеженном сквере. – Я приехал не затем, чтобы упрекать тебя или задавать вопросы, – начал Виктор Федорович, наблюдая, как и Нина, за шалостями Тишки. – Человек ты достаточно самостоятельный, отчетливо понимаешь, чего хочешь… Не желаешь принимать подарки – мы навязываться не станем. Деньги на Леночку я буду переводить почтой. Ребенок ни при чем. Она не должна испытывать трудностей, ей положено по закону. Но речь не об этом… Вчера я вернулся из Москвы. Дело Олега пересмотрено Верховным судом. На днях будет принято решение о его освобождении. – Его признали невиновным? – быстро спросила Нина, чуть не захлебнувшись от противоречивых чувств – это же как обрадуется Ленка, и как трудно станет опять ей, Нине… – Не совсем так, – в голосе свекра звучала плохо скрытая боль, – просто остаток срока будет условным. Помогло доброе письмо от родителей погибшей лаборантки, был хороший адвокат, ходатайство из колонии… Хотя я и отец Олега, но не оправдываю его. Мне он тоже напортил… У вас свое… Хочу только об одном попросить: помоги ему стать на ноги. Оттуда возвращаются с тяжелым грузом комплексов. Некоторые несут этот груз до самой смерти. Он любит дочь. Подготовь ее, убеди, чтобы Олег не почувствовал того, что ты сказала мне по телефону. Он порядочный человек, отскребется. Ему только надо помочь… – Тишка, назад! – неожиданно громко позвал хозяин собаку, кинувшуюся на проезжую часть. Там надвигался, дребезжа разболтанными окнами, старый автобус, и пес мог угодить под колеса. Команду он исправно выполнил, за что в награду получил из рук хозяина сухарик. «Олег порядочный человек. Ему надо помочь. Поможешь – получишь сухарик». Нина тут же пристыдила себя за черную неблагодарность. С нею как с человеком, деликатно, мягко, искренне, а она – со злобой. Ведь разговор с Виктором Федоровичем мог быть совсем иным, она и готовилась к иному – к упрекам, к жесткому выговору, а он с нею, как врач с пациентом. Мудрый у нее свекор, и все, что он говорил, говорил мудро. – Конечно, Виктор Федорович, – пообещала Нина, – и встречу, и помогу. Иначе зачем все было?.. – Что все? – насторожился свекор. «Да нет, ничего, просто так», – хотела сказать Нина, но мысль, что она снова должна будет лгать, поклявшись полчаса назад об очищении, словно стегнула ее плетью. – Все, что могла, Виктор Федорович, я уже сделала ради вашего сына. Не случись той трагедии, мы бы, наверное, разошлись. Так что не беспокойтесь. Виктор Федорович был удивлен этой новостью и своего удивления не скрывал. – Ты что же… любила другого? – Да, Виктор Федорович. Я люблю его и теперь. – Он что же… ждет? – Не знаю. Мы не переписываемся, думаю, что да. Но это ровно ничего не значит. Суть не в том, будем мы с ним вместе или нет… Я вам сказала… потому что уважаю вас. Насколько огорчила она своими откровениями свекра, Нина не думала. Ее даже угрызения совести не мучили, скорее – наоборот: ей стало неожиданно легко и хорошо. Так бывает, когда отступает затяжная болезнь, и человек, однажды проснувшись, начинает понимать, что началось выздоровление. Мучила Ленка. Она требовала однозначного ответа: виноват ее папа или нет? Нина уходила от прямых объяснений – раз освобождают, значит, не виноват. Ленка задавала новые и новые вопросы: почему не освободили его раньше, кто на самом деле виноват в смерти лаборантки и так далее, и так далее. – Не знаю, – говорила Нина. – Я не была в Москве. Спрашивай у дедушки. Дедушка уверенно внушал Ленке, что ее отец стал жертвой случая, приводил известные ему примеры, и девочка постепенно начала успокаиваться, верить тому, чему ей хотелось верить. Нина не раз порывалась рассказать Ленке про Ефимова. Порывалась, но в самый последний миг решимость покидала ее: все, что так понятно ей, что сумел понять свекор, Ленке может быть недоступным. Для нее поведение мамы может означать только одно – предательство. А Нине больше всего хотелось, чтобы ее поняла дочь. О, как бы Нине стало хорошо! Но для этого Ленке надо подрасти. Подрасти хотя бы до двадцати, когда мама станет никому не нужной старухой. Верила ли Нина, что все, о чем ей мечталось в бессонные ночи, сбудется? А бог его знает… Не могла она ответить себе на этот вопрос. Не верила, пожалуй, хотя где-то в подсознании надежда не угасала. Олег вышел в конце января. Он позвонил из Москвы по телефону Нине на работу. Она была задерганная и злая. Заказчик требовал расчетов, а программа, как назло, не шла. Вокруг Нины ходили на цыпочках и разговаривали полушепотом. И в это время зазвонил телефон. Трубку сорвала Марго и нервно сказала: «да». Потом виновато обмякла, заулыбалась и позвала: – Ниночка, тебя… Сердце у Нины так и оборвалось – неужели Федя? Но по лицу Марго поняла, что это не Федя, что свершилось то, чего она так ждала и так боялась. – Здравствуй, Нина, – по-деловому сказал Олег. Сказал так, будто и не было трех с половиной лет разлуки, не было этой знобящей неизвестности, тревоги, этого всего наслоившегося и накопившегося между ними. – Я из Москвы. Завтра утром приеду «стрелой». У меня шестой вагон. Ты меня слышишь? – Да. – Тогда до встречи, – и повесил трубку. Нина потерла занемевшую щеку и молча подошла к своему столу. И сразу увидела ошибку, из-за которой не шла программа. Тихо попросила девочек внести поправки и, не реагируя на их восторги, подошла к окну. Сквозь заиндевелые стекла жизнь улицы виделась затуманенной и запорошенной. Вяло двигались люди, пряча лица в теплые воротники и шарфы, вяло ехали машины, зажатые с обеих сторон сугробами неубранного снега, тускло светилось в дымке у самого горизонта отяжелевшее солнце. «Вот и все», – сказала себе Нина. Что «все», она еще не знала. Только догадывалась, что с завтрашнего дня у нее начнется другая жизнь. Будет она лучше нынешней или хуже – тоже не знала. Что будет сложнее – догадывалась. – Что же ты приуныла, дура ты этакая, – осторожно обняла ее Марго. После внесенных поправок в железных шкафах вычислительной машины весело завертелись бобины с пленкой, замигали лампочки, повеселел заказчик. – Радоваться надо. Муж вернулся. От счастья ошалела? На Московский вокзал Нина пришла минут за двадцать до прибытия «стрелы», боялась опоздать. На перроне зябко поеживались встречающие, вдоль пустых путей январский ветер гонял обертки от мороженого. Оделась Нина, прямо скажем, легкомысленно: на такой холод в демисезонных сапогах – курам на смех. «Никак, понравиться хочешь Ковалеву?» – спросила она себя перед зеркалом в вестибюле вокзала. И легкомысленно ответила: «А пусть…» Письма от Олега сначала пугали Нину. Настораживали несоответствием содержания и случившегося. Они были исполнены оптимизма, иронии, какого-то наигранного бодрячества. Для Ленки он сочинял смешные стихи про всяких лягушек и зверюшек, для Нины – метеорологические сводки в стихах. Ни в одном письме не проговорился, что скучает, что любит, что ему одиноко. Ни в одном письме не попросил, чтобы вспоминала о нем или ждала… И Нина, встречая Олега, была уверена, что через несколько минут из вагона выйдет на перрон знающий себе цену мужчина, а не сломленный обстоятельствами человек. И без всяких слов, одним своим видом скажет, что жертва, которую принесла ему Нина, совершенно была напрасной. Вот с такими думами, с таким настроем она и пошла навстречу бесшумно вползающему под чешуйчатый навес поезду. Шестой вагон, в котором ехал Олег, поплыл мимо. Сквозь узкие щели зашторенных окон было трудно кого-то рассмотреть, но Нине показалось, что она увидела Олега, и стала неотрывно следить за продвигающейся к выходу дубленкой. И когда ее кто-то тронул за плечо, она, даже не обернувшись, сбросила нетерпеливым движением руку. – Нина, это я… Она посмотрела, и душа ее вздрогнула от боли и жалости. Вместо пышущего здоровьем бодрого мужика перед Ниной стоял человек, отдаленно похожий на Олега. Теплое пальто, видимо, заранее купленное московскими родственниками, висело как на плохом манекене, болтались рукава. На голове – какая-то лыжная шапочка, моток веревки в руках, сверток под мышкой… «Что же с тобой сталось!» – хотела сказать Нина, но у нее только и хватило сил, чтобы слепить на лице жалкое подобие радостной улыбки. Олег обнял ее, коротко вздрогнул и сразу же отпустил. – Все потом, потом… Все, домой! Он подхватил одной рукой чемодан, стоявший у его ног, сжал ее локоть и торопливо зашагал к выходу. – Ты моим не сказала? – Я думала, ты сам… – Ну правильно, так проще. «На такси сейчас очередища, – подумала Нина, – а в метро… Будут смотреть все, как на пришельца». – Дай мне этот пакет, что ты мучаешься, – Нина видела, что Олегу неудобно, – у меня рука свободная. – Только бы эти муки… – А веревка зачем? – Потом, потом. Давай на выход, левака возьмем. И действительно, поставив на снег чемодан, Олег подошел к черной «Волге», что-то сказал водителю и сразу же вернулся за чемоданом и Ниной. Вещи положили в багажник, а пакет он взял с собой, и когда машина тронулась, положил на колени Нине. – Это тебе. Багульник. Оттуда вез. А это… – он кивнул на моток веревки, – ладно, это потом… Расскажи про Ленку. Большая? – До подбородка мне достает. – Надо же… Как учится? – Отличница. – Ну, спасибо тебе. А Ленинград-то… Будто и не уезжал. Старики мои как? – По-прежнему… Только Тамара Захаровна стала часто болеть, щитовидка беспокоит. – Это у нее и раньше… А ты, как твое здоровье? Нина не уловила в этом вопросе искренней заинтересованности и ответила, как приличествует – «нормально», хотя чувствовала, что здоровье ее не столь безупречно, как бы ей того хотелось. Она плохо спала, беспричинно теряла аппетит, быстро уставала за рабочим столом. Марго заметила происходящее и однажды безапелляционно заявила: – Сейчас поедешь со мной к врачу. Это мой знакомый профессор. Я договорилась. Профессор долго вертел ее, выстукивал и выслушивал и заключил: надо отдохнуть и хорошенько успокоить нервы, а если не поможет, – лечь в клинику на углубленное обследование. Когда они вышли из кабинета профессора, Марго невесело пошутила: – Все болезни от нервов, и только одна – от удовольствия… Она же ей и профсоюзную путевку выхлопотала в один из сочинских санаториев, но Нине жутко не повезло с погодой, почти все двадцать дней лили дожди, штормило море, и все ее лечение заключалось в приеме мацестинских ванн. Остальное время – отдых: кино да чтение книг. За четыре дня до окончания срока Нина уехала в Ленинград. И очень жалела, что не сделала этого раньше, потому что здесь стояло настоящее лето, на прилавках было полно тех же, что и в Сочи, фруктов, только много дешевле, а в озерах на Карельском перешейке купальный сезон был в самом разгаре. К тому же Нина могла почти каждый день видеть Ленку. Пионерский лагерь, куда ее на две смены устроила тоже Марго, был в сорока минутах езды от Ленинграда на электричке. «Теперь будет легче», – думала Нина, прощупывая сквозь плотную коричневую бумагу пакета тонкие прутики багульника. Она слышала, что цветет он нежным фиолетовым цветом, но сама ни разу этих цветочков не видела. Года два назад она писала ему об этом. И вот, не забыл, привез… – Кто был у телефона? – спросил вдруг Олег. – Не Марго ли? Замуж не вышла? – Нет, не вышла. На Песочной набережной Олег попросил водителя на минуту остановиться возле серого, похожего на общежитие дома, проворно взбежал на крыльцо, посмотрел по сторонам и быстро юркнул в подъезд. Нина не успела и подумать как следует – зачем Олегу понадобилось бегать в этот дом, как он так же быстро выскочил и, снова посмотрев по сторонам, сел в машину. Нина сразу заметила, что веревки, которая была в руке Олега, не стало. – Вперед, шеф, на Тихорецкий. – А когда отъехали, он посмотрел сквозь заднее стекло на окна здания и с несвойственным ему злорадством потер руки. – Хороший я ей подарочек, стерве, подбросил. Перехватив настороженный взгляд Нины, он тут же притушил гнев в глазах и успокоил ее: – Потом, потом… Все потом расскажу. Нина по-разному представляла ту его жизнь. Иногда Ковалев ей виделся заросшим, укутанным в серый балахон, иногда в полосатых штанах и такой же полосатой куртке. И почему-то непременно в узкой холодной камере, как в Петропавловской крепости. – Глупенькая, – сказала ей всезнающая Марго, – живут они, конечно, не в гостиничных номерах, но вполне терпимо, с соблюдением всех норм гигиены. И кормятся нормально. Без разносолов, но с учетом затраченных калорий. Самое трудное там – отсутствие свободы. Судя по письмам Олега, предположения Марго подтверждались. Но Нина была не столь наивна, чтобы представлять себе его жизнь чуть ли не идиллической. И вот сейчас, сидя рядом с приехавшим оттуда человеком, она утверждалась в своих догадках и понимала, что он привез с собою все, что пережил в этой жизни, и это пережитое никуда не денется, оно останется с ним до смерти. Вот и отец его сказал: «Оттуда возвращаются с тяжелым грузом комплексов… Помоги ему стать на ноги». Конечно же, он имел в виду не материальную помощь. Олегу нужна опора духовная, он должен почувствовать искреннюю радость от его возвращения, искреннюю любовь жены и дочери. А где ее взять, искреннюю? Когда они поднялись в квартиру, Олег небрежно выпустил из руки чемодан, снял лыжную шапочку и подошел к зеркалу. На голове у него был совсем коротенький ежик пепельного цвета. Такие же пепельные волоски пробивались на скулах и подбородке. На улице, в полутьме рассвета Нина не заметила, что Олег небрит. – Поставь багульник в воду и можешь идти на работу, – сказал Олег. – Я буду отмываться и отскребаться. Долго отмываться и долго отскребаться. Пусть хотя бы дочь узнает отца. «Вот и первый упрек, – подумала Нина. – А за что?» И тут же одернула себя, вспомнив слова Виктора Федоровича о грузе комплексов. Конечно, если даже у нее от всей этой пертурбации пошатнулись нервы, то что говорить о нем? Уж Ковалев-то не из Сочи приехал, что ясно, как божий день. Так что придется и потерпеть, не обращать внимания. – Отмывайся и отскребайся, – как можно беспечнее сказала Нина, – у меня сегодня отгул. Буду готовить праздничный обед. Олег бросил на Нину быстрый взгляд, и, не уловив в ее словах фальши, попытался улыбнуться. Но улыбка получилась чужая. «Господи, неужели так будет всегда?» – с ужасом подумала Нина и снова вспомнила просьбу свекра… Развернув пакет с багульником, Нина разочаровалась – сухой веник. Но поставила в самую большую, подаренную к свадьбе вазу. Без пальто и пиджака Олег показался ей похожим на малорослого мальчика. Усиливали это впечатление стриженая голова и оттопыренные уши. И Нина дрогнула. – Ну-ка, – сказала она решительно и начала так же решительно сдирать с него чужую, пропитанную незнакомыми запахами одежду. Олег сразу обмяк и принял предъявленную власть. А Нина, ни капельки не стесняясь, словно сына, раздела его до трусов и грубовато втолкнула в ванную. – В карманах ничего нет? – спросила через тонкую дверь. – А что? – Выкину все в мусоропровод. – В пиджаке документы! Нина брезгливо свернула всю одежду в один узелок и перевязала бумажной шпагатиной от торта. Пойдет и магазин – выбросит прямо в помойку. Потом достала из шкафа его белье, спортивный костюм и все это принесла в ванную, повесила на крючки. Олег повернулся спиной, и Нина увидела прямой рваный шрам у пояса. Тронула пальцем. – Что это? – Зацепило… Зацепило так зацепило, все равно всех тайн, которые привез Олег из той жизни, ей не узнать. Да и пытаться не надо. Захочет – расскажет, а нет – значит нет, ни к чему ей. Она должна помочь ему стать на ноги, освободиться от комплексов. А уж потом уедет туда, на тот аэродром, где служит Ефимов… «Жить больше так не хочу и не буду». Когда прошли минуты неловкости, вызванные встречей Олега с Ленкой, улегся полунервный, полувеселый разговор за обеденным столом, и когда Олег вместе с дочерью поехал к своим родителям, а где-то после программы «Время» возвратился, попахивая коньяком, домой, уговорив Ленку заночевать у бабушки, Нина почувствовала, что не может перебороть себя, и постелила Олегу отдельно. – Отвыкла я от тебя, – попыталась она объяснить, когда Олег посмотрел на нее обиженно и тоскливо. – Дай время прийти в себя. – У меня нет оснований упрекать тебя, – сказал Олег. – Все эти годы ты вела себя безупречно. Нина смутилась, стояла молча. – Видела, веревочку в подарок завозил? Это оттуда. Мой кореш своей неверной жене передал. Чтобы она к его возвращению повесилась на этой веревке. У Нины по спине поползли холодные мурашки. – А с дочкой мы так и не узнали друг друга, – жалобно произнес Олег, – хотя держалась она вполне… Спасибо тебе и за это… Далеко отошел паром от причала. Не знаю, допрыгну ли… – Не думай ты… Ложись и спи. – Отдыхай, – сказал он, – не обращай на меня внимания. Самому надо ко всему привыкнуть. Страх прошел, и Нина легла. Она еще слышала, как он осторожно, на цыпочках, выходил в коридор, как открывал и закрывал форточку, искал что-то на книжной полке, вздыхал. На следующий день Марго выспрашивала подробности встречи, сочувственно кивала и уверенно говорила: – Но я все равно рада за тебя. Все теперь наладится, все утрясется. Вы же вместе прожили лучшие годы своей жизни. Да и как прожили! В любви, в согласии! Утрясется! А Нина чувствовала – не утрясется. Утром все, как в сказке: веселые сборы, шутки за завтраком, прощальные поцелуи. Ленка в школу, мама в лабораторию, папа по инстанциям. Вечером тоже нормально: ужин, телевизор, обмен новостями. К полуночи струна натягивается и начинает тонко звенеть даже от движения воздуха. Олег ждет, и терпение его на пределе, а Нина ничего не может с собой поделать. Вот почему она сегодня и поинтересовалась у Марго насчет заявления о разводе. Олег осмотрелся, повеселел, почувствовал под ногами родную землю. Его берут младшим научным сотрудником в лабораторию одного из ленинградских заводов, берут с четкой перспективой. Ленка к нему относится хотя и сдержанно, но хорошо, и сдержанность ее можно объяснить скорее возрастом, нежели какой-то неприязнью. Так что Нина сейчас может и о себе подумать. Она то и дело поглядывала на часы – скоро ли кончится рабочий день. Ей уже и самой не терпелось поговорить с Марго. Подруга у нее практичная и опытная. Будет много ругаться, но обязательно посоветует что-то дельное. Познакомились они с Марго в гостиничном номере Пскова. Была какая-то зональная конференция, посвященная, кажется, проблемам внедрения вычислительной техники в маломасштабном производстве. Нина любила такие командировки, когда не надо добиваться деловых встреч, высиживать длинную очередь в приемных, терпеливо выпрашивать резолюцию или обыкновенную, ни к чему не обязывающую подпись. Она тогда сразу настроилась погулять по старому городу, посмотреть новые фильмы, пошнырять по магазинам. Предложила свой план и соседке по номеру. – С утра не жрамши, – сказала та, – идем-ка сначала в ресторан, как следует заправимся. А потом и погулять не грех. В ресторане к ним подсели два майора, начали знакомиться, напропалую ухаживать. Нина настороженно подобралась, но Марго ей шепнула: «Не куксись, ты в командировке, надо расслабиться». И Нина расслабилась. Чего, в самом деле, разыгрывать синий чулок? Ребята ничего от них не требовали, такие же, как и они, командированные, киснут от скуки, а в компании всегда интересней… И все, действительно, получилось здорово. После ужина за майорами пришла «Волга», и они всей компанией поехали смотреть Печерский монастырь. Пока ехали, из Пскова от кого-то кому-то в Лавру последовал звонок, и компания была принята, как говорится, на высшем уровне. Наместник настоятеля, тридцатилетний красавец с черной окладистой бородой и такими же черными вразлет бровями, ждал уже гостей и встретил их с доброй улыбкой и с подчеркнутым чувством собственного достоинства. Печерский монастырь, в отличие от других культовых сооружений, построен не на возвышенности. И если ехать к нему со стороны Пскова, то кажется, что он вообще стоит в овраге. Это ощущение осталось у Нины еще и потому, что ее поразили своей красотой вдруг выплывшие из-за горизонта густо-синие, усыпанные звездами луковицы собора. В ровном свете угасающего дня они были настолько неожиданны в окружении современных зданий, настолько гармоничны в своем сочетании, что Нина остановилась и обмерла. – Господи, – сказала она, прижав ладони к лицу, – какая сказка! И то ли благодаря этому непосредственному восклицанию, то ли своей внешности, она сразу завоевала внимание святого отца, сопровождавшего гостей по достопримечательностям Лавры. Рассказывая о соборе, о том, сколько было затрачено сил и средств на восстановление его убранства после фашистского нашествия, наместник уже обращался только к Нине, даже подавал ей руку, когда они спускались в прохладное подземелье для осмотра вековых захоронений. – Нинка, поздравляю, – шептала ей Марго, – у тебя бешеный успех: святой монах втрескался по уши. От той экскурсии в памяти осталось несколько разрозненных деталей: заваленная гробами, как дровами, внаброс, земляная ниша; рассказ наместника о художнике, который после войны пришел в монастырь «с тридцатью наградами на груди» и всю оставшуюся жизнь посвятил воссозданию уничтоженных полотен и фресок в соборе; ужин в монастырской трапезной… Был конец мая, а их угощали свежими пахучими помидорами, сладким стрельчатым луком, редисом, пупырчатыми ароматными огурчиками. И шампанским, из которого несколько дней назад святые отцы выпустили газ, потому как «воздушные пузыри в вине не чревоугодны». В гостиницу они вернулись за полночь, еще долго говорили, рассказывая друг другу про свою жизнь, а на следующий день, захватив места в последнем ряду зала, беззастенчиво спали под монотонный голос докладчика. – Такой начальницы, как я, – любила говорить Марго, – у тебя никогда не было и не будет. Начальница занимала две комнаты в коммуналке на 8-й Красноармейской. С нею жила престарелая тетка, сестра ее матери, у которой после гибели мужа и сына на войне отнялась речь. Марго была ее единственной родственницей, поэтому забрала тетку к себе. В Тбилиси на одну пенсию она бы не протянула долго. А здесь, при Марго, живет и живет. Уже восемьдесят третий год старушке. А она еще и готовит, и убирает, и даже вяжет крючком симпатичные белые кружева. Живут они мирно, и чувствуется, что племянница любит свою тетку. Дважды Марго уходила от нее замуж и дважды нозвращалась – не выходило с замужеством. В третий раз муж сам поселился на 8-й Красноармейской, но невзлюбил тетку и, не получив от Марго согласия отправить ее в дом престарелых, сбежал. А начальница она действительно редкая. Шумная, грубоватая, но никогда никого не оскорбила и даже не обидела. К тому же, знает дело и умеет с вышестоящими разговаривать: с одними интеллигентно, кротко, с другими по-крестьянски грубовато, а с третьими может не чикаться и даже кулаком по столу грохнуть. Нина всякий раз восхищается ее способностью к перевоплощению, нередко ссорится с начальницей, но еще ни разу не пожалела, что работает с Марго. Вздрогнув от неожиданного телефонного звонка, Нина сняла трубку и услышала голос Марго. – Особого приглашения ждешь? Посмотрела на часы: действительно, прошло двадцать минут, как закончился рабочий день. Задумавшись, она даже не заметила, что перестали гудеть металлические шкафы и тихо, словно белые тени, исчезли девочки. – Ну, рассказывай, что ты надумала, – без всяких предисловий спросила Марго. – Не люблю я его. – Ты его никогда не любила. И жили. И вон какую девочку приобрели. Для чего тебе надо разводиться? Нина поглядела Марго в глаза и вздохнула. – Не мучь ты меня, Маргоша. У меня нет больше сил изворачиваться и врать. Тошно мне от всего этого. Все может плохо кончиться, если мы не разойдемся. – Ну хорошо, разойдетесь. А дальше что? – А ничего. Будем жить вдвоем с Ленкой. – Где? Ведь квартира нужна. – Разменяем. Я уже почитываю объявления. Выписала один очень приличный вариант: однокомнатная и комната в коммуналке. – Он что, приезжал или звонил? – Кто? – не поняла Нина. – Ну, кто же? Твой единственный. – Нет, Марго. С тех пор – ни звука. Впрочем, я сама его об этом просила, так что все правильно. Марго тяжело вздохнула. – Нина… Прошло столько времени. Здоровый мужик, красавец. Ты думаешь, он до сих пор ждет, когда ты развяжешь узы Гименея? Да не будь же ты, ради бога, такой наивной! Может, его и в живых уже нету… Нину словно ударили: – Что ты такое говоришь, Марго? – Говорю, что думаю. Я бы на твоем месте сначала возлюбленного отыскала, убедилась, что нужна ему, а уж потом бы бракоразводные процессы устраивала. Нина чуть не заплакала. Такая всегда понятливая, Марго говорила с нею на каком-то чужом языке. – Ведь я совсем не потому, что хочу за другого, пойми наконец. Мне жалко Олега, но я не могу себя пересилить. Надо прикидываться, обманывать, а я не могу, кончились мои силы. Не хочу жить двойной жизнью. Знаю, будет трудно, но я буду говорить дочери правду, буду говорить себе правду… – Э-э, как тебя крутит! – Крутит, Маргоша. Я перестала уважать себя. А теперь вот подумала: может, не столь велики грехи мои, может, отпустит? И его хочу увидеть. Знаю, он приедет… Пусть женатый, пусть с детьми, только бы счастлив был. Знаю, не заслужила… Сколько горя ему принесла… Но благодаря ему узнала что-то настоящее. Так что я счастливая, Маргоша… Помолчав, Марго вскинула на Нину заблестевшие глаза и решительно предложила: – Махнем в ресторан?.. В «Корюшку». – Ты что? – удивилась Нина. – Закадрим каких-нибудь моряков и в загул! – Снег пошел, – сказала Нина, глядя в окно. Она подумала, что март еще покажет характер, потому что снег летел быстро и с большим наклоном. Так обычно начинаются все метели в Ленинграде. И впервые за три с половиной года остро почувствовала потребность знать, где сейчас Федя Ефимов, что делает, о чем думает, как чувствует себя? Знать все, все. …Разве ей могло прийти в голову, что Ефимов в Афганистане? Да если бы Нина знала? Если бы хоть догадывалась, что подобное возможно? Да она бы каждый день слала ему телеграммы, говорила о своей любви, каждый день просила Всевышнего уберечь его от беды и напастей, вернуть ей живым и невредимым. Но, к своему счастью или несчастью – кому это ведомо? – Нина пребывала в глубоком убеждении, что ее Федюшкин по-прежнему служит на том северном аэродроме, куда она его проводила три зимы назад, в той же самой части, номер которой он собственноручно написал ей карандашом на предпоследней страничке паспорта, и стоит ей перенести эти магические числа на конверт, как через несколько дней в ее руках будет ответное письмо. Разве ей могло прийти в голову, что ее любимый Федюшкин в Афганистане? 3 Кто-то из летчиков вычитал в «Неделе», что эвкалиптовая настойка, предназначенная для полоскания горла, если ее умеренно брызнуть на раскаленные камни, придает великолепный аромат парилке. Но Голубов страдал как раз отсутствием умеренности. – Чикаться тут, – сказал он, выливая в ковш весь пузырек. – Париться, так париться. – И ковш на камни. Ефимов и глазом моргнуть не успел, как под потолок ударила ядовито-синяя струя испарившегося спирта. – Ну, барбос! – заорал кто-то, скатываясь с верхней полки. – Последние волосины выжжет! – Мало того, кожу спустит! Ты в своем уме, Голубов? – Мне этот пузырек что слону дробина, – пробасил Голубов и полез на освободившееся место. Доски мостков жалобно заскрипели под его стодвадцатикилограммовым весом. – Давай, командир, после такой обработки три дня будешь цвести и пахнуть. Ефимов с подозрением посмотрел на плавающие под потолком пары эвкалипта и махнул рукой – была не была! Голову и грудь разом спеленало горячим туманом, а в легкие, словно под давлением, хлынул расплавленный поток экзотического настоя. Паша Голубов блаженствовал, хлопал по волосатой груди огромными ладонями, кряхтел и ахал, всем своим видом показывая, как хорошо здесь, под раскаленным потолком. Ефимова тянуло вниз, но он в последние дни эту баньку и эту парилку видел уже во сне. Они летали днем и ночью, возили воду и цемент, боеприпасы и медикаменты, высаживали в горах десанты и привозили раненых афганцев. В ушах, даже в часы передышек, не умолкал пульсирующий грохот вертолетных двигателей. Стоило прикрыть веки, как перед взором возникали плывущие пейзажи унылых безжизненных хребтов, черные провалы разломов. Только за последнюю неделю им раз двадцать пришлось спускаться в ущелья, отыскивать между лобастых скал в темноте и тумане маленькие квадратики охраняемых площадок. И каждая такая посадка на пределе нервного напряжения, каждый взлет на пределе возможностей вертолета. Не только комбинезон и белье, вся кожа покрылась соленой пленкой. И эту пленку не брало ни мыло, ни теплая вода. Вот разве что пар со спиртом. Надо только первый приступ вытерпеть, а потом можно и веничком, который привез из Джелалабада Коля Баран. Обещал принести к помывке. – Еще бы пузырек настоечки, – хрипел Голубов, довольно ухмыляясь, – да без примесей, да не в печку, а во внутря! Ух, распарился бы! – Да с соленым огурчиком или квашеным кочаном, – поддакнул кто-то из темного угла – в парилке горела только одна лампочка, прикрытая синим сигнальным колпаком, снятым с разбившегося в прошлом году вертолета. – А где майор Ефимов? – послышался наконец дискант Коли Барана – через две двери, похоже, пробился. – Кто ближе к выходу, – попросил Ефимов, – возьмите веник у Коли. Но Коля уже сам прошмыгнул в парилку. В шапке, и сапогах, в меховой куртке. Без веника. И настроение у Ефимова сразу покатилось к нижней отметке – попариться и в этот раз не дадут. – Что скажешь, друг мой Коля? – спросил Ефимов, не покидая полок и все еще надеясь, что его не тронут, уж больно хороша была банька. Но Баран снял шапку и спрятал за спину. Значит, вести нерадостные. – Подполковник Шульга вызывает вас, – лицо у Коли стало печальным, как высохший колодец. – Прими мои соболезнования, командир, – сказал Голубов, млея от удовольствия. – И вас тоже, товарищ капитан, – несколько бойчее добавил Коля и сразу нахлобучил шапку. Значит, миссия исполнена и сказано все. – А меня за что? – Голубов сурово уставился на Колю. – Ты что, не мог ему объяснить, что человек в парилке? Да пусть хоть бомбят… Все, кто был в парилке, настороженно притихли: вдруг этот щупленький, похожий на мальчика лейтенант назовет еще чью-нибудь фамилию. Но Коля, бросив виноватый взгляд на Ефимова, ловко выскользнул в дверь. И все сразу заговорили, высказывая возможные и наиболее утешительные причины неожиданного вызова. – Будет уточнять план на завтра. – Да нет, прибыли афганские офицеры. Совместные мероприятия готовят. – А может, за ранеными? – В такую погоду? – А вдруг приказ о замене? – Вполне. Срок поджимает. – Гадаете, гадаете, чего тут гадать? – начал проворно спускаться с верхотуры Голубов. – Опять какое-нибудь скверное и почти невыполнимое задание. Иначе чего бы нас дергали из парной. До упора налетались. К тому же есть дежурные экипажи. В моечном отделении было прохладнее, и Ефимову показалось, что Голубов не прав. Куда их могут послать в такую темень и непогодь? Последний вылет сегодня заканчивали при жестком минимуме. И это здесь, и долине. А в горах вообще черт знает что творится, заряд за зарядом, а тучи, как грязная шерсть в чесалке, – летят, пластаясь вдоль острых хребтов мокрыми космами снега. – Слышь, Паша, – позвал он Голубова, растирая спину вафельным полотенцем. – А вдруг и в самом деле приказ о замене? – Командир, не надо, – Голубову не хотелось шутить. – Потом будет трудно перестраиваться. Я сегодня письмо получил от жены: пишет, что дочь из дому убежала, в аэропорту обнаружили. Думаешь, куда лететь собралась? К папке, в Афганистан! Шесть лет крохе. Паша, конечно, прав – лучше не настраиваться на мажорную волну. В последнее время Ефимов начал особо остро чувствовать странные провалы в настроении, какие-то беспричинные, абстрактные приступы тоски. И если бы не напряжение работы, если бы не дело, властно требующее полной отдачи всего себя, он бы, наверное, не выдержал. – Если действительно приказ, – Паша все-таки думал об этом, – куплю своей Таньке шубу. Самую шикарную. В счет прошлых грехов. – Он основательно застегивал ползунки, подтягивал ремешки на унтах, одевался в полет, а не для того, чтобы перебежать от бани до жилого домика. То же самое подсознательно делал и Ефимов и подсознательно радовался чистому белью на чистом теле. – Я, знаешь, был не из верных мужей, – продолжал Голубов, затискивая в спортивную сумку грязное белье. – Любил поволочиться, особенно в командировках, на чужих точках, где тебя никто не знает. Девки ко мне липли. И главное, не врал им, сразу говорил, что у меня красивая жена, что люблю ее, что встреча будет первой и последней… И ничего, не обижались, провожали с улыбкой и без слез. Бабы – народ темный. Они сами себя не знают. А Танька у меня действительно красивая. Тут я все и передумал, и переоценил. Виноватым, понимаешь, себя чувствую. – Он затянул на сумке шнур и забросил ее на плечо. – Потопали? – Пора, – Ефимов взглянул на свои электронные с компьютером часы, подаренные афганским летчиком в благодарность за обучение, нажал одну из кнопок. На табло выскочило московское время. В Ленинграде еще светло. Нина сейчас могла зайти по пути домой в гастроном на Большом проспекте, а может, уже спускается по эскалатору в метро. В чем одета? Пальто, шуба, меховая шапочка, сапоги? Или уже в туфлях? Март в Ленинграде иногда бывает по-весеннему мягкий. О чем думает? Какие оценки получила дочь? Что приготовить на ужин? Или перебирает в памяти служебные неприятности? А может, вспомнила… Нет, стоп! Табу. – Пора, мой друг, пора, – Ефимов зажал под мышкой сверток, позавидовал Пашиной сумке и толкнул дверь. Погода, как ни странно, резко прояснилась. На черном небе, перемигиваясь, голубовато пульсировали звезды, ветер почти не чувствовался. Ефимов осмотрелся и пошел к штабному домику. Сзади стеклянно повизгивала щебенка, ну прямо пищала под огромными Пашиными ступнями. Ефимов уже привык к непроницаемой темноте здешних ночей, привык к далеким взрывам в горах и к неожиданным цепочкам трассирующих пуль, беззвучно ползущим по небу и гаснущим среди звезд, привык по двадцать раз в сутки мыть руки и пить только кипяченую воду, привык без содрогания глядеть на окровавленные бинты и страдания раненых, привык сутками, если надо, работать и сутками спать, если над аэродромом зависал непроницаемый туман. Не мог только привыкнуть вот к этим сосущим душу ностальгическим приступам. Ну, ладно, тянуло бы в Большаково, туда, где перерезали пуповину, где бегал по росной околице со «змеем» и где впервые прикоснулся губами к нецелованным девичьим губам. Такое притяжение и объяснимо, и понятно – родина! Ну, в Ленинград. Там Нина. На худой конец, в город, где прошли годы учебы в авиационном училище, где он обрел крылья, радость полета, мечту, или в тот уютный городок под Ленинградом, где они бродили у озера с Ниной, и где он, пусть недолго, но был очень счастлив. Ан, нет! Во сне и наяву он видел чахлый стланик, ржавые озера, выветренные гольцы, безжизненный берег Ледовитого океана, в общем – тундру, в общем, все, что видел из кабины самолета, летая в зоны и по маршрутам, все, что постоянно и неизменно окружало тот злосчастный северный гарнизон, где командир лучшей эскадрильи полка майор Ефимов был с позором и треском изгнан из истребительной авиации. Он не раз и не два зарекался, что вытравит из памяти и тот последний перехват, и ту нечеловеческую нагрузку многодневных учений, и заслуженно обидные слова командующего, и сочувственные взгляды товарищей, клялся все вырвать из сердца, не возвращаться к тем дням никогда, а память, словно в насмешку, вновь и вновь возвращала его на Север. На холодный Север с висящей в зените Полярной звездой. В кабинете Шульги было накурено и душно. Душно – понятно. Комэска любил тепло. Еще когда звал Ефимова с собой «послужить интернационалу в Ограниченном контингенте», уверял, что там, почти у самого экватора, можно не только отогреться от северных стуж, но и на оставшуюся жизнь запастись теплом. А вот то, что в его кабинете накурено, могло означать одно: командиру сейчас не до принципов. В спокойной обстановке Шульга сам в кабинете не курил и другим не позволял. Принципиально. Ефимова неприятно кольнула безысходность в глазах командира. Всегда уверенный, четко знающий, что надо делать не только в ближайший час, но и в ближайшую неделю, месяц, год, склонившийся над картой Шульга выглядел растерянным и беспомощным. Впрочем, похожие чувства были написаны и на лицах всех присутствующих в кабинете. Ефимов это увидел сразу, потому что на скрипнувшую дверь все одновременно повернули головы и в каждом взгляде затеплилась надежда. – Подсаживайтесь, – сказал Шульга, выслушав доклад о прибытии и освобождая рядом с собою место. Первым сел Голубов, но, тут же поняв, что для Ефимова места уже не осталось, встал и шагнул командиру за спину, и в кабинете Шульги стало тесно, как в пилотской кабине. В другое время Шульга не позволил бы никому стоять у него за спиной и «дышать над ухом». Он любил, чтобы все лица присутствующих «были пред очами, дабы видеть, кто и как его слушает». В этот раз он даже не заметил, что нарушено еще одно его принципиальное требование. – Беда, Федя, – тихо сказал Шульга. И потому, что голос командира был с хрипотцой, и потому, что он назвал своего подчиненного по имени, да еще в уменьшительной форме – не Федор, а Федя, Ефимов понял, что беда серьезная и расхлебывать эту беду предстоит ему. На мгновение всколыхнулось смешанное чувство обиды и досады: как что самое опасное или трудное – Ефимову, а восстанавливать в должности – три года обещаний. – Знаешь это ущелье? – кивнул Шульга на карту и ткнул оттопыренным мизинцем в знакомый квадрат. – Должен помнить, ты ведь летал туда. Еще бы не помнить. В этом ущелье на нескольких площадках северного склона посты десантников, которым Ефимов подвозил летом воду. Ночью. Зависал над площадкой, подсвеченной ракетами. Днем там ни сесть, ни зависнуть. Во-первых, с противоположного склона могут пальнуть, и довольно точно, а во-вторых, воздух на высоте трех тысяч, да еще в жару, такой жиденький – не держат винты. Воду спускали в резиновых емкостях на подвеске, вертолет дрожал и жалобно постанывал от напряжения, потому что режим приходилось задавать «за левое ухо правой рукой». – Значит, помнишь, – сказал после паузы Шульга. – Поэтому и позвал. Посоветоваться надо. Сегодня, на исходе дня, в этом ущелье обстреляли наш вертолет. Повредили гидросистему. Вывозили они раненых бойцов афганской армии. Пришлось идти на вынужденную. Какие там возможности для посадки – сам знаешь. Сели чудом. На маленьком уступчике отвесной скалы. Над пропастью. Обрыв – свыше тысячи метров. При посадке пострадал весь экипаж. – Кто? – Ты не знаешь. Экипаж не из нашей эскадрильи. Соседи. Обстановка критическая. Там раненые, воды и пищи нет. К утру, утверждают синоптики, ожидается резкое ухудшение погоды. Буран, снегопад. Кроме того, душманы засекли место аварийной посадки. Не исключено, что на рассвете могут напасть. Сосед просит помощи. – А сам он не может помочь себе? – Не может. У него в эскадрилье сплошняком молодежь. Что посоветуешь? Голубов тихо, как тень, сместился в сторону и замер напротив Ефимова. Теперь он стоял за спиной капитана Скородумова, замполита эскадрильи, и пытался что-то взглядом подсказать Ефимову. «Ни в коем случае не соглашайся», – говорили его глаза сквозь хитрый прищур век. А по лицу и губам, по гордому и самолюбивому повороту головы Ефимов читал другое: «Без нас, командир, им не справиться». – Только вы не спешите с ответом, Федор Николаевич, – сказал Скородумов. – Не вам объяснять… Ефимову и нравилось и не нравилось, что замполит перед ним робел и всегда подчеркивал опыт и старшинство Ефимова в звании и возрасте. С одной стороны, его, конечно, можно понять. Скородумову двадцать семь, а Ефимову – за тридцать. Опять же – капитан и майор, летный опыт. С другой стороны – при чем здесь все это, если тебя назначили заместителем командира по политчасти? Дело есть дело. Требуй, и тебя поймут. «Не спешите с ответом…» Спеши не спеши, ответа от него ждут одного. Хотя могли и не ждать. У Шульги есть право приказывать. И коль скоро он не счел нужным воспользоваться этим правом, обстановка и в самом деле критическая. Телефонный звонок с непривычно рваными интервалами заставил всех вздрогнуть. Шульга с досадой окинул взглядом сидящих, покривился, как от зубной боли, дескать, дождались – досиделись, и взял трубку. – Слушаю, подполковник Шульга… Никак нет, товарищ генерал, думаем… Решение доложу через… – Шульга выразительно посмотрел на Ефимова. – Десять минут, – тихо сказал Ефимов. Шульга тут же громко заверил в трубку: – Через восемь минут, товарищ генерал. Положив трубку, Шульга уже требовательно сказал, не глядя на Ефимова: – Говори, Федор, Москва волнуется. – У них осветительные ракеты есть? – спросил Ефимов. – Есть. – Связь? – Была. Теперь нет. На подлете, полагаю, свяжетесь. – Надо на всякий случай поставить в мой вертолет громкоговорящую установку. Шульга взглянул на Скородумова, и тот без слов встал и вышел. – Координаты аварийной посадки… – Успели передать. У штурмана. Ефимов посмотрел на Голубова. – Давай, Паша, считай. – Мы тут всяко думали, – все еще в чем-то сомневаясь, сказал Шульга, – и решили, что лететь, как обычно, парой нет смысла. – Могут быть сложности со связью, – не то возразил, не то предложил Ефимов. – Вышлем на маршрут экипаж. Несколько позже. – Да и моральная поддержка не помешает, – вставил Скородумов. – Обойдемся, – буркнул Голубов, сосредоточенно рассматривая карту. – Еще вопросы есть? – спросил Шульга, посмотрев на часы. Все сосредоточенно молчали. – Надо готовить машину, – сказал Ефимов. – Готова давно. – Шульга посмотрел на инженера и спросил: – Может, борттехника дадим поопытней? Инженер неопределенно пожал плечами. Ефимов подумал, что в предложении командира есть резон, но тут же представил лицо Коли Барана, обиду в его глазах и твердо возразил: – Полетим своим экипажем. – Все. Время истекло, – Шульга снял с руки и положил на стол часы. И сразу же зазвонил аппарат дальней связи. Комэска доложил решение, назвал фамилию командира экипажа, подчеркнув, что Ефимов – самый опытный летчик в эскадрилье, фамилии штурмана и борттехника, время вылета (через пятнадцать минут), подлетное время и пообещал подробно информировать. Закончив разговор с генералом, Шульга попросил Ефимова остаться, остальным выразительно кивнул головой: по своим местам, и за дело! Расходились быстро и молча, аккуратно расставляя стулья у приставного стола. Шульга распахнул форточку, с удивлением рассматривая переполненную окурками пепельницу из желтого стекла. Выбросив ее содержимое в печку, ополоснул над урной водой прямо из графина и поставил в шкаф, где хранилась служебная документация. Мол, покурили – и хватит. – Сам хотел лететь, – Шульга сел напротив Ефимова, – генерал не разрешил. – Он раскрыл и пододвинул Ефимову знакомую «амбарную книгу». – Посмотри, это варианты режимов зависания в различных метеоусловиях при различных нагрузках. Считал с помощью малой электроники. У тебя есть, – он бросил взгляд на часы, – еще десять минут. Встал, подошел к шкафу, достал пепельницу, вынул из нагрудного кармана смятую пачку сигарет, зажигалку, закурил. Над столом потянуло свежим запахом табачного дыма. На вертолетной стоянке, набирая обороты, загрохотали двигатели. И Ефимов сразу почувствовал дефицит времени, стремительное ускользание секунд и минут и полную невозможность постичь глубину предложенных Шульгой расчетов. Схватить хотя бы суть; Шульга не стал бы совать ему свои изыскания за десять минут до взлета, если бы не чувствовал, что это может пригодиться. Хотя бы вот это: удержание вертолета с опорой на одно колесо. Что тут нового придумал Шульга? Ефимов еще до Афганистана отработал такое удержание. Пятнадцать минут стоял на печной трубе полигонного домика. «Зачем?» – спросил тогда Ефимова командир части. «А если наводнение и придется снимать людей с крыши?» Отделался строгим выговором. А теперь и Шульга подобный вариант просчитывает. Он вводит коэффициент на восходящие и нисходящие потоки. Резонно. Здесь горы. Надо запомнить. Шаг винта… Обороты… Загрузка. – Мелева много, да помола нет? – спросил Шульга без обиды в голосе и сжал губы. И они сразу напомнили Ефимову «птичку» авиагоризонта: по центру острый уголок вниз, по краям плавные загибы. Сжатые у переносицы брови синхронно копировали рисунок губ. И эта поговорка, которой Шульга обычно обрывал говорунов, и сжатые к переносице брови, и губы «по авиагоризонту» – все свидетельствовало о глубоком и резком недовольстве собой. Человек редкого здоровья, он неожиданно для всех переболел каким-то острым кишечным заболеванием, провалявшись около месяца в госпитале. Потом реабилитация, отпуск, восстановление навыков. Так что запрет командования – не какой-то там случайный каприз. Все по науке. И Шульга это понимает, оттого и недоволен собой. – Мне пора, Игорь Олегович, – мягко сказал Ефимов, ему хотелось хоть как-то подбодрить командира. – Все будет, как учили. – Что ты меня утешаешь? – взорвался Шульга. – Ты что, не понимаешь, на что идешь? – Понимаю, командир. – Ни хрена ты не понимаешь! Ты идешь в самую пасть к дьяволу! У всей этой операции – успеха один шанс из ста! Один из ста! Понимаешь теперь? – Ну уж один… Вы меня совсем ни во что… – Не обижайся, Федя. Они висят на уступе, над пропастью. Сесть, как я понял, некуда. Добавь к этому ветер и ночь. На полметра ошибешься и все: или лопастями по скале, или кувырком в пропасть. «Чего он, в самом деле?» – с обидой подумал Ефимов и уже хотел огрызнуться, но сдержал себя и твердо сказал: – Не буду я ошибаться, Игорь Олегович. Я дал слово любимой женщине, что со мной ничего не случится. Шульга удивленно посмотрел Ефимову в глаза: всерьез ему такое говорят или с издевкой? Ефимов выдержал взгляд, и губы командира сложились птичкой. – У богатого телята, у бедного ребята, – сказал он. – Иди. Буду докладывать. Москва ждет результатов. Он подал Ефимову руку, потом неожиданно обнял, похлопал ладонями по спине и повторил: – Иди. У вертолета, в тусклом свете стояночного фонаря, копошились технические специалисты, проверяя с переносками в руках, все ли закрыты лючки, все ли сняты контровки. Как только Ефимов и Голубов вошли в полосу света, от вертолета отделилась щупленькая мальчишеская фигурка в аккуратно надетой шапке, хорошо подогнанной куртке и брюках – Коля Баран, борттехник ефимовского экипажа. Родом Коля из села Баламутовки, и это обстоятельство дает Паше Голубову неисчерпаемую пищу для словесных каламбуров и добродушных шуток в адрес неунывающего борттехника. – Те же и Баран из Баламутовки, – сказал Паша, когда борттехник уже вскинул руку к головному убору. Коля выждал паузу, покосившись на Голубова, затем четко, как положено по уставу, доложил о готовности вертолета к выполнению поставленной задачи. Места заняли быстро и без суеты. Ефимов запросил разрешение на запуск и тут же получил его. Мягко вздрогнули провисшие лопасти винта, стали набирать скорость, а вместе с нею упругость, превращаясь в свете прожектора в жесткий сверкающий диск. По мелкой вибрации, идущей от причудливо изогнутой рифленой ручки, Ефимов, не глядя на приборы, почувствовал момент приближения режима взлета и едва заметным поворотом головы дал понять экипажу – «Взлетаем!» Оторвались легко и, погасив бортовые огни, стремительно растаяли в темноте. Теперь, до самой посадки, все в руках Паши Голубова. И он, словно прочитай мысли командира, весело сказал: – Гори, гори, моя звезда… Помолчав, спросил у борттехника: – Нравится такое название города – Баграм? – Ничего, – сказал Коля Баран, не отрывая глаз от приборной доски. – Естественно, – в голосе Голубова было разочарование. – Баламутовку не переплюнешь. Коля самодовольно ухмыльнулся. Непривычно звучащие названия афганских городов, рек, долин и хребтов быстро и естественно вошли в обиход вертолетчиков. Стали привычными ориентирами и маршрутами на полетных картах. Огромная страна в глубинной части Азии фактически лишена дорог, сказано в справочнике. Кольцевая трасса, связавшая Кабул с Кандагаром, Гератом и Мазари-Шарифом, да две ветки – на Джелалабад и Шерхан. Вот и все дороги. Двадцати тысяч километров не набирается в сумме. Из них покрыто асфальтом две с половиной тысячи. Рельсовых путей почти не существует, водный транспорт – в зародыше. А жить-то надо. Ефимов сразу понял – не только умом, но и сердцем – всю значимость своей работы, официально именуемой интернациональной помощью, когда доставлял в селения Ханбадского ареала полиэтиленовые мешки с удобрением. По глазам крестьян прочитал, какую помощь оказал им: дехкане знали цену удобрениям. Темные и неграмотные, отрезанные от мира селений, они быстро смекнули, что стрекот вертолета – это божья благодать. Коль летит к ним шайтан-арба – в кишлаке появится что-то доброе, что-то очень необходимое. Ефимов знал: в чреве вертолета свежие продукты, промышленные товары, медикаменты, строительные материалы, инструмент. «Шурави» – значит, советские – могут привезти бесплатно врача, а то и целую группу медиков, поставят палатку, будут лечить стариков и детей, без денег дадут лекарство. Получалось, что каждый рейс вертолета становился конкретной агитацией за новую жизнь. Душманы, естественно, не дураки, они тоже понимают и экономическую, и политическую значимость вертолетной авиации. Вот и злобствуют, устраивают засады на оживленных трассах, стреляют не только из крупнокалиберных пулеметов. И, как правило, сзади, вслед, так, чтоб не всякий раз и заметить можно было. Обнаружив однажды рваную дырку рядом с пилотской кабиной, Ефимов зримо почувствовал холодное дыхание опасности. А народ в Афганистане талантливый. Только голубая мечеть в Мазари-Шарифе чего стоит. Историю зодчества Ефимов изучал без дилетантства. Собрал целую библиотеку. За свою жизнь насмотрелся всяких архитектурных шедевров. Был уверен, что удивить его уже не так-то просто. А тут, среди глинобитных дувалов, неказистых серых домов и двориков его взору открылась такая глазурованная роскошь мозаики, такая гамма цветов и узоров, такая точность линий и пропорций, что Ефимов даже замер от неожиданности: не во сне ли он видит это сказочное творение? – Доверни, командир, на любимую звезду, – ворвался в размышления Ефимова голос Паши. – Ориентир как на блюдечке. – Запроси аварийный, – Ефимов мягко довернул вертолет на Полярную звезду, едва выглядывающую из-за горного хребта. Там, на Севере, она висела почти вертикально над макушкой. – Аварийный не отвечает, – сказал Голубов и, переключив канал, начал рассказывать Барану свою очередную «байку». – Мы тогда готовились к первенству округа. Мой кореш по команде, по фамилии Хомчик, дострелял серию и к мишеням. Нет, чтобы всех подождать. Ну, а я, дурак желторотый, взял и выстрелил в свою мишень. Хомчик в гвалт: «Убили, убили!» – «Кого убили?» – испугался тренер. «Меня убили!» – орет этот балбес. «Ты же живой!» – «Так вин промахнувся!» – «Кто?» – «Та Голубов!» – «Это ты брось, – говорит тренер, – Голубов мастер спорта. Он промахнуться не мог…» Ну, а потом и поперли меня за этот выстрел из команды, мастерского звания лишили. – Не восстановили? – А я на стенд перешел. По тарелочкам. Тоже был случай… Ефимов улыбнулся, сверил курс и включил автопилот. Пашкины побасенки он уже знал наизусть. Судьба их свела в одном экипаже два года назад. Еще в отделе кадров. В приемной, на столике, втиснутом между двумя креслами, лежали внаброс журналы, и они молча листали их, ожидая вызова. – На каких летал? – спросил Голубов. Ефимов улыбнулся: – На всяких. Хотел даже перечислить все самолеты, которые пришлось осваивать, но, подумав, что потом придется давать объяснения, промолчал. – А у меня вся служба на одном аппарате, – вздохнул Голубов. – Предлагали командиром звена, а я сюда, в Афганистан стал проситься. Настаивал, требовал, доказывал. Мне и говорят: послать можем, но с понижением, вторым пилотом. А я говорю – посылайте! Не за чинами прошусь. – Застеснявшись своего пафоса, Пашка торопливо сменил тон, улыбнулся. – Они и поверили, послали. А у меня выхода не было. Любовь с одной вдовушкой закрутил. И такая стойкая оказалась, кошмар! Ну, я и сорвался, ла-ла-ла, ла-ла-ла… Дескать, брошу жену, возьму тебя. Убедил, понимаешь. А когда начал назад сдавать, она в меня впиявилась. В партком, говорит, пойду, жену твою изувечу. Жену я, на всякий случай, отправил к родителям, а этой говорю: прости, убываю в длительную командировку. А когда Голубову в отделе кадров сказали, что будет вторым пилотом у Ефимова, он, выйдя от кадровика, искренне смутился и расстроенно взмахнул рукой: – Во балаболка! Сам себе такую аттестацию выдал. Теперь вы, товарищ майор, наверняка от меня откажетесь. Я сам был командиром… Вот дуралей! Всю жизнь учусь на собственных ошибках. – Ладно, Паша, – примирительно сказал Ефимов. – Не откажусь. И не «выкай» мне. Когда они вышли из отдела кадров, Паша Голубов некоторое время сосредоточенно молчал. Демонстрировал свою серьезность. Но уже к вечеру он снова стал самим собою. В троллейбусе начал заигрывать с контролершей – молодой симпатичной женщиной, нарочно подсунув ей старый билет: «Как не годится? Целую неделю ездил – годился, а тут – не годится?..» Увидев на улице стюардессу, радостно вскинул руку и торжественно продекламировал: «Рожденные ползать, летайте самолетами Аэрофлота!» Когда обедали в ресторане, по секрету спросил у официантки: «Где взять тысячу рублей, чтобы заиметь сто друзей?» В гостинице ошарашил дежурную администраторшу доверительным тоном: «Вода кипит при девяноста градусах?» – «При ста», – сказала та, смутившись. Паша подумал и, не меняя выражения лица, согласился: «Правильно, это я с прямым углом спутал». Когда администраторша вернула ему анкету и попросила заполнить графу, где и когда родился, Паша с неподдельной грустью сказал: – Я не рождался, у меня мачеха. – Извините, я не знала, – смутилась дежурная, но, чуточку подумав, взорвалась. – Вы что себе позволяете, молодой человек? Думаете, круглая дура? – Ни в коем случае! Вы такая красивая. Клянусь! – У Паши были чистые глаза, ему нельзя было не поверить. – Вы неотразимая женщина. И я вообще не понимаю, как вас супруг отпускает на работу в этот мужской гарем? – Я не замужем, – отрезала администраторша. – И вас никто не украл?! – удивился Паша. – Я первый месяц здесь работаю. – Ну, так это же совсем другое дело, – удовлетворенно сказал Паша, самодовольно улыбаясь. До самого рассвета он дежурил вместе с этой администраторшей – Марианной, а утром, поспав не более двух часов, навязался к ней после пересменки в провожатые. Следующую ночь Паша в гостинице не ночевал. На молчаливый вопрос Ефимова небрежно бросил: «Гуляли по Ташкенту, красивый город». В аэропорт Марианна пришла провожать Голубова с огромной авоськой, заполненной продуктами. Лицо ее было зареванным и уже не таким целомудренным, как при первом знакомстве, – губы распухшие, под запавшими глазами синеватые полукружья. – Я ничего от тебя не требую, – говорила она Паше, – только останься живым. Ефимов не считал нужным вмешиваться в Пашины амурные дела. Удерживала и какая-то неловкость, и уверенность, что Паша сам во всем разберется – давно не мальчик. И еще – сочувствие. Как-то Паша рассказал, что женился на своей Татьяне на спор. Приехали на соревнования, то ли в Киев, то ли во Львов, гуляли командой по городу, «приставали к девочкам», знакомились. Одна из них оказалась «крепким орешком», и Паша заспорил на ящик шампанского: «Танька будет моя!» Шампанское ребята принесли на свадьбу. – Первое время, – вспоминал Паша, – пока мы изучали друг дружку, меня не тянуло на сторону. А потом затосковал. До того пресно стало, аж в зубах ломило… «Может, у меня с Ниной такое случится?» – спросил себя Ефимов и оттого, что ответ на этот вопрос был для него предельно ясен, он по-новому почувствовал, что счастлив. Надавив на курок переговорного устройства, Ефимов неожиданно для себя спросил: – А Марианна пишет, Паша? Паша бросил на командира быстрый взгляд, помолчал и расстроенно вздохнул: – Затосковала Марианна… Срок мой истекает, а обещать ничего не могу. Если бы не дочка… Такое существо… Умру без нее. Они шли в ночи на высоте примерно четыре тысячи метров с потушенными бортовыми огнями, невидимые, как летучая мышь, и если бы не этот звук, равномерно разрубленный лопастями несущего винта и сыплющийся из поднебесья на крутые хребты, дробясь и отражаясь усиленным эхом ущелий, об их полночном рейде никто бы и не подозревал. А звук выдавал и кого-то нервировал. В левом блистере Ефимов отчетливо увидел ползущую в их сторону цепочку малиновых фонариков. Это трассирующие пули крупнокалиберного пулемета. Хорошо – не прицельная очередь. Прямо по курсу, на дне ущелья, река круто изгибалась, прижимаясь к скале и четко отражаясь в лунном свете. Ефимов произвел сверку маршрута в реальных координатах времени и удовлетворенно посмотрел на Пашу: штурман вел корабль точно по курсу и минута в минуту. Но Паша не заметил поощрительного взгляда командира, он думал о Марианне, о жене, о дочери… – Возьми ручку, – сказал Ефимов. – Половину пути прошли, – Паша, хотя и отвлекся в нечто глубоко личное, не служебное, но дело свое знал: ввел поправку к курсу и доложил свои координаты на точку. Все его движения и действия были настолько естественны и профессиональны, что Ефимов невольно позавидовал. Он еще не дошел до такого автоматизма, чтобы не глядя, как Паша, попадать пальцами на нужный тумблер или переключатель. Он все еще подсознательно контролировал правильность своих действий и подсознательно, с быстротой компьютера, проецировал проделанное на формулировки инструкций и наставлений. И хотя всякий раз убеждался в безошибочности своей интуиции, от самоконтроля, от этого иссушающего душу недоверия к себе, отказаться не мог. Ему казалось, что если он хотя бы единожды бездумно щелкнет каким-то тумблером, это и будет тот единственный непоправимый шаг в биографии, который лишит его не только неба, но и самой жизни. «И все-таки однажды этот шаг ты сделал», – опять потянуло Ефимова, как перелетную птицу, на Север, потянуло стремительно и неумолимо. Через Гиндукуш и Туранскую низменность, через Средний Урал и Восточно-Европейскую равнину, через тундру к берегам Ледовитого океана. Два года отлетели, два длинных года – как один день. И хотя он всякий раз настороженно противился этим неожиданным залетам, экскурсам в прошлое, ретроспективным самокопаниям, они, вопреки его воле, бесцеремонно подхватывали Ефимова и несли, несли тем стремительнее и неотвратимее, чем он упорней сопротивлялся. Что он хотел найти там, у пустынных скал, где ночью и днем жил только тяжелый прибой, напоминающий о вечности, да крикливое племя птиц? Что хотел понять? – Командир, – вернул его Паша Голубов с северных широт в тревожное небо Афганистана, – цель по курсу, высота три тысячи, связь с базой теряем – горы. – Понял, – Ефимов поправил шлемофон и крепче взял ручку. – Будь на связи с базой, я беру аварийный. – Прямо по курсу – вспышка, – торопливо сказал Коля Баран. Ефимов и Паша одновременно подняли головы, но ничего уже не увидели. От выбеленных луной хребтов темнота сползала в узкое отвесное ущелье, накапливаясь и сгущаясь до смоляной черноты. Даже горная речка, помогавшая своими бликами угадывать летчикам глубину и ширину распадка, теперь пробивалась словно из туманной мглы. – Тебе вспышка не померещилась, Коля? – спросил Голубов. – Ты не стесняйся, это бывает. У страха знаешь какие очки – в десять диоптрий. В следующее мгновение Ефимов увидел, как в липкой тьме, где-то на краю света, трепетно и рвано мигнул два-три раза размытый расстоянием проблеск, и темнота снова сомкнулась плотно и зловеще. – Это они, – Голубов наклонился к Барану и протянул широкую, как лопата, ладонь. – Извини, Паша был не прав. – А я что, – смутился борттехник, – я и в самом деле боюсь. В такой темноте, в горах… Машина почти новая. – Без паники, – строго цыкнул Ефимов. Заработала аварийная радиостанция. 4 Весь вечер, по несколько раз зачеркивая и заново переписывая фразы и абзацы, Владислав Алексеевич сочинял служебную записку. За окном в дрожащем свете круглого фонаря бесновалась февральская метель, хлестала под разбойничий посвист снежной крупой по мокрым стеклам, и в паузах, когда спадал тугой гул ветра, сухо позванивала обледеневшими ветками. В другое время он не упустил бы возможности вслушаться в эти звоны и посвисты, сравнить их со звуками некоторых музыкальных инструментов, попытался бы даже отыскать закономерность и смысл в многообразии звуковой палитры, рождаемой природой, но сейчас его внимание сфокусировалось на документе, в котором он должен был лаконично и без эмоций, с убедительной логикой и доказательностью изложить итоги коллективных раздумий и напряженных поисков. Должен. Ибо вчера еще можно было не концентрировать внимания на отдаленной перспективе, слишком много было дел насущных, неотложных для решения. Но незаметно он подошел к рубежу, когда сразу почувствовал: пора! Почувствовал сам, без видимых на то причин. И если бы Владислава Алексеевича спросили, что его подтолкнуло к этому решению, он бы скорее всего ответил одним словом – опыт. Сколько помнил себя Владислав Алексеевич, он всегда боялся одного: догонять бездарно упущенное время. – Слава, скорее, – заглянула в приоткрытую дверь жена, не церемонясь и не думая, что может непоправимо помешать ему, – ваших показывают! Голос Шуры звучал с сердитой настойчивостью, и он, бросив ручку на стол, вышел из кабинета. По телевидению передавали какую-то юбилейную передачу, прокручивали старую пленку. На комплексном тренажере работали еще не летавшие в космос ребята, а теперь известные космонавты. Как они были тогда все чертовски молоды и счастливы! И волновало их только одно неотступное всепоглощающее желание: скорее в космос! Беспокоил только один вопрос: когда же, наконец, свершится? И вот все свершилось, все ушло, отдалилось в прошлое. На мгновение подступило смешанное чувство обиды и зависти. Зависти к тем дням, когда единственной и главной его заботой была одна конкретная задача: конструкция аппарата, безотказность его систем, а проблемы, перспективы пусть беспокоят начальников. Чувство обиды однозначному объяснению не поддавалось… Наплывало беспричинно, бередило душу, туманило мозг. Вспомнил разговор со знаменитым столичным киноактером, ушедшим на склоне лет в областной театр, его оправдание «тяжело, брат, без аплодисментов» – и жестко сказал себе: счастье, Владислав Алексеевич, не в аплодисментах. Соловей поет, не думая о вознаграждении. Умеет и поет. Счастье в том, наверное, чтобы вот так, как соловей, добросовестно делать то, что умеешь, делать для людей. Вон какое тебе оказано доверие. Оправдаешь – тут тебе и награда, и аплодисменты, сфальшивишь – и имя твое будет предано забвению. – И все-таки хорошее это было время, – не скрывая грусти, сказал он, глядя на экран телевизора. – Помнишь, как мы радовались парной путевке в санаторий? Впервые вместе в отпуск, в санаторий, да еще в какой? Сочи! Бархатный сезон! – Дети были маленькие, – с грустью сказала Шура. Владислав Алексеевич промолчал. Дети были их общей болью, и разговаривать на эту тему все равно, что сыпать соль на незажившую рану. Были дети – нет детей. К этому надо привыкать. Он имел возможность все сделать так, чтобы и сын Анатолий, и дочь Саня жили с ними. Ну, не в одной квартире, так хотя бы где-то рядом. Но сын, всегда тихий и послушный мальчик, неожиданно проявил твердый характер. После службы в железнодорожных войсках в Москву не вернулся, застрял в Беркаките, работает, как и работал в армии, на экскаваторе, женился, получил квартиру. Во время отпуска домой заехал на неделю, но не пробыл и трех дней. – Твои Золотые Звезды смущают Клавдию, – сказал он о жене. – Человек не представляет, как себя вести в присутствии таких авторитетов. И укатили в Белоруссию, под Минск, в какое-то махонькое село на реке Птичь. Анатолий потом прислал несколько снимков с пасторальными сюжетами, и Владислав Алексеевич разглядывал их не без зависти, ему остро хотелось вот так же поваляться на сене, потрепать гриву лошади, покормить с ладони корову… Санька и вовсе отчебучила номер. Будучи студенткой первого курса университета, вышла замуж за выпускника пограничного училища и укатила с ним на одну из застав северо-западной границы. Родителей утешала тем, что перевелась на заочное отделение и во время сессий будет жить в родной квартире. Когда дети были маленькие, Шура жаловалась перед его длительными командировками, что дом без него превращается в бедлам. Ни днем, ни ночью не затихает магнитофон, ни утром, ни вечером не закрываются двери – то к Толику друзья, то к Саньке подруги. Теперь Шура жалуется, что без Владислава Алексеевича в квартире становится тихо, как в могильном склепе. Она ищет любой повод, чтобы вытащить его из кабинета. «Мало, не вижу во время командировок, так ты и дома ухитряешься исчезать», – говорит она, когда Владислав Алексеевич просит не беспокоить его. Конечно, ей скучно вечерами одной сидеть у телевизора, но что он может поделать, если рабочего дня до смешного мало, чтобы переделать все, не терпящие отлагательства, дела. Как лед у водоразборной колонки, растет наслоение нерешенных вопросов, и никто, пока Владислав Алексеевич живой, за него их решать не станет. Поэтому и приходится прихватывать не только вечера, но и выходные, а то и в отпуск что-то брать с собой. – Все, Шурок, не дергай меня, – сказал Владислав Алексеевич решительно. – У меня серьезное дело. Надо сосредоточиться. Шура обиженно кивнула, мол, у тебя всегда только серьезные дела, и ничего не сказала. Он набросил ей на плечи теплый платок и тихо прикрыл за собой дверь кабинета. Заново перечитал исчирканные вкривь и вкось страницы. И сразу понял, почему в таких неимоверных муках рождается этот нужный, не терпящий отлагательства, документ. Потому что очень уж хочется автору и правду сказать, и никого не обидеть. «Традиционная инерция, присущая техническому мышлению…» Ишь, как витиевато закрутил простую и ясную мысль. Проще, Владислав Алексеевич, проще излагайте свою позицию, без оглядки на авторитеты. Авторитеты, увы, не ясновидцы и тоже способны заблуждаться. И «традиционная инерция технического мышления» сама по себе не исчезнет. Чтобы ее нейтрализовать, необходимо равнозначное усилие, а чтобы изменить направление – усилие дополнительное. Элементарно, как дважды два. Ничто само по себе не меняется, пока кто-нибудь не начнет менять. Когда автоматам доверять легче, чем людям, это тоже инерция технического мышления. А ведь в итоге, все, что выводится на орбиты, призвано служить людям, и только людям! Следовательно, любое изделие, существующее сегодня в замыслах, чертежах и даже поставленное на космическую верфь, должно обладать тенденцией приближения к человеку. Как бы ни хороши были автоматы, как ни надежны, они все равно бездушны, и, при всей видимости прогресса, они не приблизят космос к человеку в той степени, в какой он нуждается, скорее отдалят, ибо пространство неотделимо от времени. На каждом корабле хозяином должен быть человек, которому служат автоматы, а не наоборот. – Упрощаете, Владислав Алексеевич, – сказал ему сегодня в институте уважаемый академик. – Только время покажет, что надежнее на путях в незнаемое – автомат или человек. Рисковать техникой, во всяком случае, гуманнее. Его не смущали снисходительные улыбки ученых специалистов. Слишком хорошо он помнил ощущение своей беспомощности, когда ждал мгновения остановки тормозного двигателя, проработавшего несколько лишних секунд; помнил ту необъяснимую тревогу за людей, жизнь которых поставлена в полную зависимость от автоматических систем. Сколько было поломано копий, пока космонавтам доверили первую ручную стыковку, сколько приводилось «убедительных аргументов» в пользу автоматов, «обоснованно» говорилось, что космонавт не в состоянии проанализировать мощный поток информации, вызываемый новыми скоростями. А в результате космонавту оказалось значительно легче состыковать корабль со станцией или с другим кораблем вручную, чем быть беспристрастным свидетелем при автоматике. Этот вывод подтвердили после анализа телеметрии и врачи: расход нервной энергии космонавта при ручном управлении уменьшился в несколько раз. Сегодня уже полным ходом идет отработка принципиально нового пилотируемого космического аппарата. Время идет, а полного единодушия у создателей и эксплуатационников нет. Кто прав – не ясно. Стычки, хотя и благопристойные внешне, становятся все более резкими. И та, и другая сторона ссылаются на государственные интересы. Во время последней встречи в Главке один из Ведущих Конструкторов не пожелал подать Владиславу Алексеевичу руки, лишь издали кивнул головой. Конечно, обидно! Столько сил было потрачено, столько времени, проект казался весьма удачным, претендовал на премию, и вдруг – возвратить на доработку. Тут не просто досада возьмет, волком завыть впору. Владислав Алексеевич мог не выносить замеченной недоработки на обсуждение Президиума, мог указать на нее во время предварительных обсуждений проекта. Но вся в том и беда, что некоторые Ведущие не желают знакомить широкий круг заинтересованных лиц со своими детищами на стадии предварительных обсуждений. Вот и пришлось вмешаться прилюдно. Зазуммерил телефон, и Владислав Алексеевич снял трубку. Звонили из Центра управления полетом. – Владислав Алексеевич, по данным телеметрии обнаружено повреждение внутри одного из топливных баков объединенной двигательной установки станции… Память мгновенно воскресила конструкцию топливных баков станции «Салют». Конструкцию внешне простую, но по-своему «хитрую». Еще в замысле Владислав Алексеевич про себя сравнил устройство герметических отсеков с двухкомнатной квартирой, где одна из комнат располагается внутри другой. Наружный объем – для жидкого постояльца, внутренний – для газообразного; раздуваясь, он активно теснит соседа. Металлические стенки внутреннего отсека сложены гармошкой, и, когда в него подается сжатый азот, отсек расширяется и выдавливает жидкое топливо из бака в магистрали, ведущие к двигателям. По замыслу конструкторов, жидкий и газообразный состав всегда должны быть разделены металлическими стенками. Но вот «гармошка» где-то дала трещину (станция функционирует на орбите около двух лет), и оба «постояльца» вступили в прямой контакт. Какие нежелательные последствия может принести эта «нештатная» ситуация? Несимметричный диметилгидразин – эффективное топливо, но обладает весьма агрессивными химическими свойствами. Просочившись во внутренний отсек, оно в первую очередь нанесет удар по компрессорам, перекачивающим азот, выведет из строя систему многократной дозаправки. А там, как в пословице: пришла беда, открывай ворота. – Какие приняты меры? – Выдали команду перекрыть соответствующие клапаны и изолировать опасный бак от остальной системы. – Нормально, – подумал он вслух, – но отнюдь не кардинально. Сейчас приеду. Он вызвал машину и подошел к окну. Метель слабела, истратив, видимо, запасы снега, и обледенелые ветви уже не раскачивались на деревьях, а лишь изредка пугливо вздрагивали, вспыхивая в темноте хрустальными бликами. Небо, однако, было по-прежнему закрыто серой пеленой туч, несущихся с северо-запада прямиком к Байконуру. – Что случилось, Слава? – спросила Шура, приоткрыв дверь кабинета. Его всегда поражала способность жены чувствовать надвигающуюся опасность. Ведь кроме телефонного звонка она сейчас ничего не слышала, дверь была закрыта, а параллельный аппарат стоял на так называемой «секретарской» схеме – если здесь снималась трубка, там он отключался. – Почему ты решила? – Не знаю, показалось, – уже спокойнее ответила Шура. – Звонок поздний. – Подошла, стала рядом. – Когда мы слетаем в Ленинград? – По дочери затосковала? – Он обнял жену и почувствовал, как податливо она прильнула к нему. Словно в молодости. – Отпустят на работе? – У меня есть отгулы. – Хорошо. Слетаем. – К подъезду беззвучно подкатывала его черная «Волга» с желтым глазом у радиатора. – Ехать вот надо. Твое предчувствие тебя не обмануло. – Нюх, как у кошки перед землетрясением, – сказала Шура с улыбкой и строго посмотрела в глаза мужа. – И не засиживайся там. Александр Македонский тоже был великий полководец, но зачем работать на износ. Вчера и позавчера ты спал по четыре часа, сегодня опять… Все выходные в январе проработал. Полагаешь, это нормально? – Да уж какое там нормально! Скорее бы на пенсию. – Он чмокнул Шуру в висок и вышел в прихожую. Достал из шкафа дубленку, но вспомнил, что в машине ее все равно придется снимать, ибо для дороги это не самая удобная экипировка, и надел легкую спортивную куртку. Несолидно, зато здорово. Из комнаты на него тоскливо смотрела Шура, и Владиславу Алексеевичу захотелось как-то успокоить ее, сказать, быть может, что-то смешное или ласковое, немножко постоять с нею рядом. Но у подъезда ждала машина, а в Центре управления, он отчетливо все представил, нарастала тревога. Да и там, на орбите, ждали его голоса. Не потому, что он сразу всех рассудит и все решит, просто ребята должны знать: он «в курсе» и сейчас вместе с ними. Для экипажа, конечно, прямой опасности не было в том, что случилось на орбите, потому что вся объединенная двигательная установка с топливными баками расположена в негерметичном агрегатном отсеке, который надежно изолирован от жилых помещений. Но система дозаправки под угрозой. Рассчитанный на работу с газообразным азотом клапан недолго сможет сдерживать натиск горючего. Если оно прорвется в систему наддува азота, к компрессорам, переключающим клапанам, существование станции на орбите окажется под большим вопросом. Это ясно как божий день. Но еще наверняка объявятся отдаленные последствия, которые угадать вот так, с первого приближения, почти невозможно. Как только машина вышла на пустынный проспект и набрала скорость, Владислав Алексеевич связался по радиотелефону с Главным залом Центра управления. – Разработчиков объединенной двигательной установки надо проинформировать, – сказал он на всякий случай, не сомневаясь, что Сменный руководитель это сделал еще до звонка к нему. – Само собой. – Я что думаю?.. Нужна математическая модель ситуации, а на ней уже будем вести поиски оптимального варианта. Время есть. – Ну, так, – сказал с задумчивой улыбкой в голосе Сменный. – Ребята из группы то же самое предлагают, я подумал и согласился. Так что, видишь, не зря тут штаны протираем. Мокрый снег лип к лобовому стеклу, и «дворники» с трудом расчищали свои секторы, наметая к уплотнителям стекла целые сугробы. Шипованная резина цепко держала заснеженную дорогу, хотя стрелка на спидометре замерла у цифры «100». По такой погоде можно бы и тише ехать, но водитель, опытный раллист, знал свое дело, и Владислав Алексеевич никогда не вмешивался в его работу, не сдерживал, не подгонял, был уверен, что профессионал без подсказки определит безопасную скорость. Сам бы он в таких условиях вел машину, наверное, осторожней, хотя и его водительский стаж исчислялся не месяцами, еще на отцовской «Победе» сидел за рулем. Из-за поворота ударил встречный луч и водитель сбросил газ. Машину тут же повело, но он легко справился с заносом и снова прибавил скорость. – Сбрось-ка, Женя, обороты, – сказал Владислав Алексеевич, – на орбите ждут нашей помощи, рисковать не имеем права. – Что-то серьезное? – взволнованно спросил водитель, мягко снижая скорость. Его острый, как у Мефистофеля, профиль вытянулся вперед и казался еще острее. Не первый год работая на этой машине, он наслушался всяких разговоров, но вопросов, выходящих за рамки его обязанностей, никогда не задавал. Почему же сейчас спросил? Не потому ли, что первым нарушил установившийся порядок сам начальник. Владислав Алексеевич попытался представить, сколько бы радости он принес Шуре, если бы выкроил денек-второй и вместе с ней заскочил на заставу к дочери. От Ленинграда, как говорится, рукой подать. Но где ему взять этот денек? Он отстраненно контролировал ход своих размышлений и понимал, что думает совсем не о том, о чем ему по должности положено думать. Пока он едет, в Центре управления уже будь здоров какой пасьянс разложат. Сменный руководитель, конечно же, «зря штаны протирать» не станет. «Шуршит извилинами», небось, на максимальном режиме. Владислав Алексеевич снова снял трубку радиотелефона и нажал на пульте кнопку с красной надписью «ЦУП». В этот раз ответил один из помощников Сменного – Муравко. – Сколько там горючего, Коля? – спросил Владислав Алексеевич. – Около двухсот килограммов. – А если его перекачать в другие баки? – Только часть можно. Совсем немного. Проще бы слить в космос, но Сменный считает… – Он правильно считает, Коля. Двести килограммов, это будь здоров какое одеяло. Залепит все: иллюминаторы, приборы, телекамеры, начнет разъедать наружные антенны. Да и тепловой изоляции не поздоровится. Сменный прав. Надо думать. – Думаем, Владислав Алексеевич. Этого Муравко Владислав Алексеевич заприметил с первых дней его появления в отряде. При встречах тот держался в стороне, вопросов не задавал, начальство «глазами не ел», мягко улыбался, вроде он случайный человек в этой компании, но всю информацию впитывал мгновенно и запоминал крепко. На первой экскурсии в музее космонавтики кто-то из группы спросил, почему стыковочный узел «Союз» – «Аполлон» получил название андрогинного периферийного. – Андрогинный, значит обаполый, – шепнул соседу Муравко. – А периферийный… – Кто из присутствующих может ответить на этот вопрос? – спросил выполнявший обязанности экскурсовода начальник Дома культуры. Муравко промолчал. Хотя имел шанс сразу показать себя. И Владислав Алексеевич отметил это, а паренька с густой челкой и мягкой улыбкой запомнил. Спустя некоторое время, на занятии, тема которого касалась проблемы информационной совместимости, Муравко опять «показал характер». Размышляя о перспективных моделях в эрготической системе, руководитель занятия, молодой доктор технических наук строил свои доказательства в основном на сведениях, получаемых из теории информации. – Я не могу согласиться с вашими выводами, – заявил Муравко. Профессор снисходительно улыбнулся, выжидательно поднял бровь. Ох, как знакомы Владиславу Алексеевичу эти улыбки. И еще не зная, как этот «тихий капитан» будет аргументировать свое возражение опытному теоретику, он был в тот миг на его стороне и заинтересованно ждал продолжения. – Вот вы сказали, что с точки зрения теории связи, – Муравко спокойно поднял глаза на профессора, – два сообщения одинаковой длины равноценны. В аудитории воцарилась тишина ожидания. – Если они равновероятны… – Ну да. Например, «родился мальчик» и «умер дедушка». – Аудитория дружно улыбнулась. – Но для человека, получателя этих сообщений, разве они равноценны? – Хотя и равновероятны, – не удержался от нейтралитета и Владислав Алексеевич. – Еще пример, – продолжал Муравко. – Человек по радиоканалу получил сообщение на незнакомом для него языке. Это сообщение ему по существу ничего не дает, его операторская значимость равна нулю. А с точки зрения теории информации, тут все в порядке – специалист может подсчитать количество информации. Профессор, разумеется, не остался в долгу и, сославшись на то, что категория операторской значимости, к сожалению, наукой в достаточной степени не исследована, углубился в новые дебри, подтверждая свои выводы результатами различных экспериментов. А Владислав Алексеевич с еще большим интересом стал присматриваться к новичку. Мысли Муравко о роли человека в эрготической системе «космонавт – космический корабль» были весьма созвучны с его собственными мыслями. Обживая космос, люди будут постоянно совершенствовать гибридную человеко-машинную систему, и от того, насколько удачно они сумеют «подогнать» технику к человеку, а человека «подобрать» к технике, будет во многом зависеть и ритм нашего движения, и ширина шагов во Вселенную. Двигая научно-техническую мысль, уже нельзя упускать из виду тот непреложный факт, что появилась новая, четыре тысячи первая профессия – космонавт. У людей ученых, привыкших к осторожности в выводах, эта профессия – все еще объект всесторонних исследований. И если есть альтернатива, кому доверить ту или иную операцию в космосе – человеку или автомату, – ученые чаще отдают предпочтение автомату. Психологически это объяснимо. На заре развития авиации от каждого воздушного пассажира требовали медицинскую справку. При полете первого человека в космос на ручном управлении корабля стоял кодированный замок, «ключ» к которому хранился в опечатанном пакете. Чтобы получить право на первую стыковку с помощью ручного управления, космонавтам пришлось провести восемьсот стыковок на Земле. «Примерно два-три раза в год, – рассказывал ему кто-то из космонавтов, – вижу один и тот же сон: на корабле возникает нештатная ситуация, отказывают системы, и благополучное возвращение на Землю зависит только от меня, от возможности устранить возникшие неисправности. Но я сразу заставляю себя проснуться, потому что возможность ремонта в корабле не предусмотрена». Подобные сны видит и он – Владислав Алексеевич. Они – своеобразное напоминание в суетном водовороте повседневности: думай, тебе доверено, ты несешь ответственность. Проблема обеспечения исправности систем космического аппарата, казалось бы, однозначна: надо обеспечить максимум надежности. Но что стоит за этим понятием – максимум надежности? Надежность сама по себе проблема довольно сложная и трудно поддающаяся расчетам. При конструировании пассажирского самолета «Локхид» расчетная надежность электросистемы выражалась астрономической цифрой – лишь за триллион часов полета может произойти ее полный отказ. Это в сто тысяч раз превышает время ежегодного налета всех самолетов мира. Однако за время эксплуатации этого самолета произошло пять случаев, когда электросистема полностью отказывала за миллион часов налета. Расчетная надежность космического корабля «Джемини» была равна 0,999. В то же время за один лишь полет было зарегистрировано 19 различных отказов и неполадок. Когда проходили первые испытания «Аполлона-9» в составе основного блока и лунного отсека на околоземной орбите, за десять суток полета было зарегистрировано почти сто пятьдесят неполадок и отклонений от расчетных режимов. Тем не менее, оценка надежности систем корабля в целом была высокой. Уже не гипотезы, не теоретические обоснования и расчеты, а опыт убеждает, что в случае отказа системы корабля благополучное возвращение на Землю будет главным образом зависеть от способности членов экипажа устранить возникшие неисправности. В 1966 году американские астронавты Нил Армстронг и Дэвид Скотт из-за возникших неисправностей в автоматике совершили ручной аварийный спуск. Короткое замыкание в электроцепи прожгло кислородный баллон на корабле «Аполлон-13». Взрыв баллона поставил корабль на грань катастрофы. Но члены экипажа, проявив хладнокровие и мужество, возвратили аварийный корабль на Землю. На «Восходе-2» отказала система ориентации. Ее вручную произвел командир экипажа. Но к проблеме обеспечения исправности систем по-прежнему существуют два различных подхода: один преследует цель облегчить человеку операции по устранению неисправностей, а второй – обеспечить максимум надежности. Рождается новый космический корабль. Надо принимать ряд важнейших решений в этой области. Какие способы обеспечения надежности будут предусмотрены? То ли все технические неисправности будут купироваться переключением на резервные системы, то ли будет производиться замена целых узлов, или же космонавту придется заниматься отдельными компонентами? А какова тенденция? «С развитием техники количество систем ручного управления будет уменьшаться». – «Зачем?» – «Чтобы освобождать экипаж от непроизводительных затрат времени и сил. Человека на борту надо использовать наиболее эффективно. Незачем ему поручать простые задачи или те, с которыми лучше справится автоматика. Рабочее место в космосе пока еще слишком дорого». Что ж, это прекрасно, что автоматика совершенствуется. Пусть. Она позволит во многом высвободить человека от выполнения рутинной работы, во многом «усилит» его, предоставит возможность в максимальной степени отдаться решению творческих задач. Вопросы правильного разделения функций между человеком и автоматом, объединения их в единую эффективную систему, становятся предельно актуальными. Их надо решать безотлагательно и кардинально. «Владислав Алексеевич! Нельзя эти вопросы решать кардинально и безотлагательно. Для этого нужно четко представлять возможности человека и автомата, а также все расширяющийся круг задач, которые необходимо решать в космических полетах! Идет накопление опыта!» Накапливайте, на здоровье. Но с неизменным условием: ведущая роль в управлении кораблем должна быть предоставлена человеку. Уже вполне достаточно накопленного опыта, чтобы убедиться – участие человека в управлении кораблем повышает его надежность. «Ну, так…» А раз так, то руководители Центра подготовки космонавтов, сами космонавты, должны быть подготовлены в такой степени, чтобы компетентно контролировать работу создателей космических кораблей. Следить за разработкой и созданием, принимать участие в испытаниях всех систем корабля, заботиться об удобстве эксплуатации, привлекательности интерьера. Они должны давать реальную оценку каждому объекту. И у них должно быть неотъемлемое право требовать от создателей внесения любых изменений, которые они сочтут необходимыми для дела. Главный зал встретил его смешанным гулом деловых переговоров и приглушенных команд, шумящих вентиляторов и цокающих щелчков переключателей, миганием мониторов на вытянутых рядами пультах и завораживающим покоем большого экрана. – Повезло тебе, – сказал он Сменному. – Веселое дежурство. – Ну, так, – Сменный отвинтил пробку украшенного голубыми драконами термоса, снял белую салфетку с такого же расписного сервиза, компактно разместившегося на «раздраконенном» подносе, и наполнил две хрупкие чашки густым темно-бурым напитком. – Угощайся, просветляет мозги. Владислав Алексеевич осторожно, двумя пальцами взял чашку за тонкую, замысловато закрученную ручку, посмотрел на свет. Фарфор просвечивал загадочными водяными знаками, чем-то тоже напоминающими драконов. – Во Вьетнаме мне про твой чай рассказывали. Приоткрой секрет? – Да все просто: не жалей заварки. Хорошей, естественно, – добавил Сменный и перешел к делу: – Предлагается такой вариант – пойдет «Прогресс» с пустым баком. Туда сольем все, что не войдет в емкости «Салюта». – По-моему, дельно. – Вот, Коля придумал. Только есть два «но»… К ним подошел Муравко. – Здравия желаю, Владислав Алексеевич. – Здравствуй, Коля. Я смотрю, ты сегодня нафарширован идеями. – Муравко не отреагировал на похвалу, словно не слышал ее. И Владислав Алексеевич перешел к делу. – Значит, два «но»?.. Для такой ситуации не так уж и много. Давай, выкладывай, – сказал он Сменному. – Следи… После математических расчетов сделаем физическую модель. В барокамере проиграем все операции, отработаем методику. Без помощи космонавтов эту операцию не провести. Но космонавтам нужна тренировка на Земле. Значит, надо готовить экспедицию посещения. А сколько времени пройдет? «Какой вкус у этого напитка? – подумал Владислав Алексеевич. – Горький? Терпкий? Пресный? С привкусом березовой коры? Ну, так!»… – Знаешь, в чем секрет твоего чая, старина? – сказал, отхлебнув глоток. – Он весной отдает. Сменный вскинул бровь. Густая и широкая, она у него взлетала в момент удивления, как журавлиное крыло, не сразу вся, а изгибалась волной. И тут же опускалась. – Сказал кто, или сам?.. – Кора березы? – Почки. Собираю весной и сушу. – Я должен подумать над твоим «но». Экипаж у нас готов, а как там корабль? – Я убежден, – сказал Муравко спокойно, – что ребята на орбите сами все сделают. Надо только познакомить их с методикой. «Он рубит сук, на котором сидит, – подумал Владислав Алексеевич. – Зачем? Ведь его мнение в таком деле может быть решающим. Скажет, без тренировки им не справиться, и члены госкомиссии поверят ему. Полетит экипаж. Очередь продвинется. Цель станет ближе. И все-таки настаивает на другом». – Ты понимаешь, что говоришь, Муравко? – Естественно. – Тебе придется это доказывать практически. В барокамере. С первого раза. Если допустишь хотя бы одну ошибку, придется лететь экипажу. Муравко улыбнулся. – Подсказываете, Владислав Алексеевич, как школьнику на экзамене. Я обо всем подумал. Ребята сами справятся. Я убежден. – Ну, так… – Сменный одним глотком допил чай, поставил чашку на поднос. – Знаешь, Слава, Коля прав. Экспедиция посещения – удовольствие дорогое. И если ребята действительно справятся… – Чего им не справиться… Владислав Алексеевич почувствовал подступившую досаду и, поймав себя на этом, не сразу понял ее причину. Нужно радоваться, ведь Муравко подсказывает («он действительно нашпигован идеями») упрощенный вариант, чему же тут огорчаться! «Обидно, что этот юный майор мыслит шире, чем ты, руководитель? Что так легко раскусил твою подсказку? Но не каждому захочет подсказывать учитель на экзамене. А Муравко мне симпатичен, и в этом весь фокус». – Да, Муравко прав. Если толково объясним, – Владислав Алексеевич уже обрел душевное равновесие, – такие ребята черту рога сломают. Давай, старина, твое второе «но». Пока Коля в ударе, он нас из любого тупика выведет. – Второе «но» посложнее, – Сменный переставил поднос с сервизом на другой столик, вынул из выдвижного ящика лист бумаги и грубо набросал фломастером схему подачи топлива к объединенной двигательной установке. – Горючее в аварийном баке уже перемешалось с азотом. Невесомость. Начнем его перекачивать, пузыри попадут в другие баки. А для двигателя такой пузырь, что воздушный тромб для сердца. Отсюда вопрос: как отделить в поврежденном баке горючее от азота? Владислав Алексеевич невольно сунул руку за борт кителя, начал массировать грудную мышцу. Вот они, отдаленные последствия. Потерять уверенность в работе двигательной установки, значит потерять право на дальнейшую эксплуатацию станции в пилотируемом режиме. Слить все горючее в грузовой корабль? Тогда в дополнительных баках останется мизер, и чтобы продлить жизнь станции, потребуется вслед за первым посылать второй «Прогресс». Будет ли стоить овчинка выделки? – Может, у разработчиков есть идеи? Давайте вместе подумаем. – Ну, так, – согласился Сменный, – и пусть хорошенько все просчитают. Глядишь, что-нибудь и определится. Генеральный просил уже завтра, – Сменный посмотрел на часы, – то бишь – сегодня, представить к исходу дня наши предложения. «Он здорово постарел», – подумал Владислав Алексеевич, впервые обратив внимание на глубокие складки в уголках добродушно-полных губ, на черноту под глазами. Они вместе когда-то работали в КБ у Королева, вместе пережили многие неудачи, которые их сдружили, со временем выявили непримиримые противоречия. Сменный и до сих пор убежден в том, что главная цель полета – исследования. Все остальное играет вспомогательную роль. По его мнению, надо максимально высвобождать человека для главной цели, сводить к минимуму вспомогательную работу, предоставив это поле деятельности автоматам. «Они не устают, ничего не забывают и не делают ошибок». «Космонавтов надо готовить главным образом из специалистов, – говорит он, – хорошо знающих технику, либо хорошо владеющих какой-то областью знаний, скажем, астрономией, физикой, геофизикой, медициной…» А Владислав Алексеевич видит космонавта не только пассажиром-исследователем, но и летчиком-испытателем самого высокого класса. Любая профессия оставляет свои «зарубки» в памяти, навыки, которые организм может автоматически выдать в критической ситуации. Из летчика-профессионала легче всего сделать космонавта. Он уже привык видеть Землю сверху, привык к вибрации, перегрузкам. И поскольку пилоты всегда будут в составе экипажей, им надо предоставить максимум ручного управления, чтобы в космическом корабле они чувствовали себя хозяином, как и в самолете. А решать исследовательские и другие задачи толкового человека всегда можно научить. Оперативка, на которую были приглашены представители от групп специалистов по основным бортовым системам, разработчиков станции и двигательной установки, ясного ответа не дала. То ли все устали (время шло к утру), то ли острота ситуации не казалась опасной, во всяком случае, активность присутствующих уверенности в скором решении задачи не внушала. Слушали, что-то чиркали в блокнотах, повторили лежащие на поверхности предложения, чтобы тут же их отвергнуть. В принципе задача ясна, а в частности нуждается в проработке. Владислав Алексеевич хотел еще связаться с экипажем станции, но пока здесь совещались, там легли спать. Муравко, выполняющий как оператор-космонавт связь с экипажем, открыл на закладке томик бунинских рассказов. Владислав Алексеевич подсел рядом. Расслабился, почувствовал подступающую усталость. – Ничего, – подумал вслух, – минут на тридцать в бассейн – и все станет на свои места. – Посмотрел на Муравко, улыбнулся. – Ты словно вратарь перед броском… Расслабься. Муравко закрыл книгу и откинулся на спинку вращающегося кресла. Руки его действительно расслабились, свободно повисли на подлокотниках. Усталое напряжение во взгляде сменилось живым любопытством. – Ну, другое дело. – Владислав Алексеевич расстегнул пиджак, причесался. – Не сегодня завтра, Коля, будет утверждена методика подготовки экипажей по новой программе. На космической верфи собирается принципиально новый корабль, следовательно и принципы пилотирования будут новые. Понадобятся люди с высоким уровнем летной подготовки, с широким диапазоном мышления, умеющие пилотировать все, что так или иначе способно летать. Поэтому львиная доля учебы будет отдана реальным испытательным полетам. – Реальным? – Именно так. Учеба будет перемежаться с реальной работой на самой разнообразной технике. Пойдут молодые ребята, прошедшие общекосмическую подготовку, возьмем, наверное, несколько талантливых летчиков из войск. Учеба предстоит тяжелая, требующая предельного напряжения, ну и, естественно, с повышенной степенью опасности… Почти все время в отъездах. Дома придется бывать в лучшем случае два воскресенья в месяц. Задача такая: стать классным летчиком-испытателем. А там – новые задачи. Пойдешь? Муравко улыбнулся: – Не худший вариант. И в некотором смысле – голубая мечта. – Значит, так, – Владислав Алексеевич взял томик Бунина, открыл на закладке, пробежал по диагонали страницу, одобрительно кивнул (не то Бунину, не то Муравко) и повторил: – Значит, так… С ответом не тороплю. Считаешь нужным, посоветуйся с Юлей. – Он резко переменил тон. – На твоем месте я бы крепко подумал. Программа «Союз» – «Салют» не снимается. Очередной экипаж может быть твоим. Ты имей это в виду, понял? – Так точно. – «Так точно»… Улыбается еще. Я мог тебе ничего не говорить. Но признаюсь: хочу, чтобы ты прошел это. Будущее за летчиками с универсальными навыками, способными мыслить категориями высококлассного испытателя. Вот в чем фокус. По всем параметрам ты смотришься в этой программе. Не хмурься, знаю, что говорю. – В нашем наборе все ребята хорошие. Да и старики нам не уступят. – Через пять-шесть лет старики на пенсию собираться будут… Хотел сказать «и я вместе с ними», но побоялся, что это может прозвучать кокетливо, поэтому промолчал и снова вернулся к высказанному: – Конечно, можешь и отказаться. Синица в руках, а журавль – в небе. Подумай, прежде чем соглашаться. – Я согласен, Владислав Алексеевич. – Экий ты скорый. Вопросы есть? – Отсутствуют. – Желаю удачи. – Владислав Алексеевич встал, протянул руку. – Проснутся, – кивнул на большой экран, – проинформируй о наших задумках и пусть сами помозгуют. Им там в невесомости легче думать. – Владислав Алексеевич, – сказал Муравко, после паузы. – Если будете из войск брать… Я могу предложить кандидата… – Сейчас решил? – Давно хотел сказать. И если бы готовился набор… Владислав Алексеевич достал записную книжку, снял с «Паркера», подаренного американским астронавтом, золотую с рубином крышку. – Давай. – Он был стопроцентно убежден, что Муравко в данном случае руководствуется не только чувством приятельской солидарности. – Записываю. – Ефимов Федор Николаевич, четыре года назад был командиром эскадрильи. Служили в одном полку. Летчик – божьей милостью. И человек… Возьмете – не пожалеете. Я бы с ним хоть на Марс. – Записал. Знакомая фамилия, – сказал Владислав Алексеевич и спрятал «Паркер». Он и в самом деле где-то встречался с этим именем. Но где? При каких обстоятельствах? Когда? Они уже ехали прямиком к Москве, и Владислав Алексеевич, глядя на возрастающий поток машин, попытался настроиться на рабочую волну предстоящего дня. Получасовой заплыв в бассейне Звездного не принес желаемой бодрости, скорее наоборот, еще больше расслабил его, и сопротивляться подступающей сонливости становилось все труднее. «А почему бы и не придавить до Москвы?» – подумал он и, поудобнее подняв меховой воротник куртки, прижался затылком к пружинящему подголовнику сиденья. День предстоял плотный. К половине девятого он обещал побывать в одном из «космических» КБ, в десять совещание у Генерального, в двенадцать заседание городского Совета народных депутатов, в пятнадцать ноль-ноль – мероприятия по Интеркосмосу… Вывернув на прямой отрезок шоссе, Женя резко придавил педаль акселератора, и машина стремительно, как истребитель со старта, рванулась вперед. Владислава Алексеевича вдавило в сиденье, словно при взлете на форсаже. «Такой бы разгончик дать станции», – подумал он, отчетливо представляя, как горючее в аварийном баке, сохраняя инерцию покоя, жмется к стенкам, освобождаясь от пузырей азота. В этот момент включается система перекачивания, и жидкий «постоялец» в чистом виде переселяется на другую жилплощадь. «А станция от полученного ускорения – на другую орбиту». Нет, для решения такой задачи нужны свежие мозги. А какая может быть свежесть после бессонной ночи? Максимум, одна извилина… И та – пунктиром… Поворот надвигался стремительно, но Женя газ не сбрасывал, верил, чертяка, в шипы и свое мастерство, и вписался-таки… Но если бы, не дай бог, открылась дверца, Владислав Алексеевич летел бы из салона через кювет со скоростью, равной… Он с ходу представил формулу для определения центробежной скорости и не поверил, что именно сейчас нашел решение. Станцию надо закрутить вокруг поперечной оси, создать искусственную гравитацию. Под действием центробежной силы горючее прижмется к стенкам бака, полностью освободившись от азота. – Женя, разворачивайся! В Центр управления! 5 Пока была связь, пока массивный динамик, приколоченный над дверью, хрипло транслировал короткие доклады с борта ефимовского вертолета, Шульга чувствовал себя относительно спокойно. Отчетливо представлял происходящее. Он верил в Ефимова и его экипаж. Необстрелянным там был только лейтенант Баран. Так ведь и не первая он скрипка. Подсознательно уловив провал в радиопереговорах, Шульга сразу насторожился и потерял интерес к бумагам, которые минуту назад изучал – Скородумов попросил ознакомиться с перспективным планом политико-воспитательной работы. «Все нормально, – попытался он успокоить себя, – горы, распадок, вошли в теневую зону». По времени вертолет Ефимова приближался к цели. Но успокоение не приходило, в голову лезли тревожные мысли, и Шульга, потушив одну сигарету, закурил другую. Глубоко затянулся, раздавил ее в переполненной окурками пепельнице и сорвал с вешалки меховую куртку. Если он кому понадобится – найдут на СКП. Ему необходимо быть там. В лицо колюче вонзились невидимые кристаллики поземки, хотя небо все еще глазасто подмигивало разнокалиберным набором нахально ярких звезд. Все здесь не так, в этой стране, все шиворот-навыворот. Как бывает дома?.. Сперва затянет дымкой горизонт, нахмурятся небеса, посереет и потемнеет вокруг, а уж потом и метель пожалует. А тут поди угадай, что тебя ждет через час, не говоря о завтрашнем дне. «Ну, чего ты суетишься? – спросил себя Шульга, подсвечивая фонариком заледеневшую тропинку к стартовому командному пункту. – Не веришь, что ли, до сих пор в его способности? Так ведь уже сам не раз признавался, что Ефимов давно переплюнул тебя в мастерстве. Про себя, конечно, признавался, не афишируя, но признавался же? Обидно, разумеется, констатировать сей факт, но куда денешься, факты – вещь упрямая. Поэтому не дергайся, не мельтеши, он сделает абсолютно все, что возможно сделать в тех условиях. И лучше тебя». – «А вот это еще вопрос». – «Да уйми ты свою гордыню. Молодые просто обязаны быть лучше нас. Это диалектика. Иначе жизнь умрет». – «Молодые – да. Которые придут на смену и продолжат наше дело. А этот разве на смену пришел? Ворвался в жизнь Шульги, как бандит с большой дороги. Всю его теорию, все методические установки, все убеждения в непогрешимости выводов Шульги взломал, как бульдозер». – «Так ведь ты сам пошел на эксперимент. Сам хотел иметь феномена. Вот и радуйся. У всякой пташки свои замашки. А ведь каким скромнягой прикинулся при первой встрече!» Знакомство их состоялось в приемной командующего. В кабинете Александра Васильевича шел, как сказал адъютант, кадровый разговор, а это всегда надолго, и Шульга, по обыкновению, сделал попытку найти общих знакомых. Тем более, что из приемной даже адъютант ушел, а сосед и лицом и статью прямо так и располагал к разговору. Особенно запомнилась Шульге спокойная уверенность во взгляде этого высокого, светловолосого майора. Будто человек знал что-то такое, чего никто никогда не знал и не узнает. – Из каких мест? – спросил Шульга. – Заполярье. – Будем знакомы, – Шульга протянул руку. – Игорь Олегович Шульга. – Ефимов. – А звать? – Федором Николаевичем. – Кто у вас командир? И оказалось, что чуть ли не каждая фамилия, кого называл Ефимов, была знакома. – И Волкова знаю, и Новикова, – радовался Шульга, – и Чижа знавал. А помнишь, как Новиков ваш в болото сел? Мои ребята нашли! А Чиж-то… Во, летчик! Мы с ним в одной хитрой командировочке встретились. Недолго, правда, были вместе, я прилетел, лейтенантом был, а он уже на Большую землю собирался. Но один его вылет запомнил. Навел шороха. Силен, бродяга! Потом все три года легенды про него слушал. Как он погиб? – Сердце сдало. Прямо в тренажере умер. – М-да… Смерть не свой брат, разговаривать не станет. Их разговор оборвал командующий. Он появился и проеме внезапно распахнувшейся двери, цепко посмотрел на Ефимова, затем на Шульгу, решая, видимо, кого из них первым пригласить в кабинет, потом мягко взмахнул кистью, будто сгреб фигуры с шахматной доски: – Оба заходите. – Сказал и, не оглядываясь, прошел на свое место за рабочим столом. Шульга не знал причины вызова. Но ему и в голову не могло прийти, что она связана каким-то образом с этим белобрысым майором из истребительной авиации. И даже когда командующий сказал ему: «Вот, принимайте, Шульга, пополнение», – он с недоверием перевел взгляд на Ефимова, – какое отношение мог иметь летчик-истребитель к вертолетной авиации? И не просто летчик, а летчик-снайпер, командир эскадрильи. И не простой эскадрильи, а мастеров боевого применения. Уж не на место ли Шульги его метят? Командующий поправил на столе бумажки, посмотрел на Ефимова, улыбнулся. – Даже года не прошло, как я вас поздравлял в этом кабинете с назначением на должность комэска. И вот, пожалуйста, рядовым на вертолет. На правое сиденье. Бешеная карьера! То, о чем говорил командующий, никак не вязалось с его тоном и улыбкой на лице. Похоже, Александр Васильевич не только не сердился на Ефимова, а скорее сочувствовал ему, нес какую-то вину за случившееся. – Небось, обижен на весь белый свет? – Командующий редко с кем переходил в разговоре на «ты». – Я отчетливо понимаю свою вину, товарищ командующий, – сказал Ефимов спокойно и не отводя глаз. – Ладно, – вздохнул командующий, – что поделаешь, если ты такой уродился. Контрольную пленку я лично анализировал. Иначе ты не мог, Ефимов. У техники свои пределы. – Простите, товарищ командующий, – Ефимов упрямо смотрел в глаза Александру Васильевичу, – я тоже анализировал пленку. Как профессионал я не имел права на такую ошибку. Возможности техники позволяли. То ли у командующего не было убедительных аргументов, то ли надоело говорить на эту тему, – он грустно покивал головой и повернулся к Шульге. – Возьмете его, Игорь Олегович, правым летчиком. В свой экипаж. Приказ я подписал. Думаю, что с вашей помощью он быстро освоит вертолет. Через месяц доложите, как идет переучивание. – И опять к Ефимову. – Сам заварил кашу… По каким-то неуловимо домашним ноткам в голосе командующего Шульга понял, что Александр Васильевич симпатизирует Ефимову, и сделал для себя вывод, что к этому парню надо относиться несколько иначе, чем к рядовому летчику. Заслужить у командующего симпатию не так-то просто. – Не родственник? – спросил Шульга, кивнув в сторону кабинета командующего, когда они вышли в коридор. Ефимов улыбнулся: – И, как видите, даже не однофамилец. Машины, которая должна была отвезти их на аэродром, у подъезда штаба не было, и Шульга достал сигареты. Ефимов с улыбкой покачал головой, вместо «не курю», сказал «я позвоню». Сказал просительно и Шульга согласно кивнул – «звони» – телефонная будка стояла рядом. Но разговор, видимо, не состоялся, Ефимов вышел быстро. На лице была едва уловимая гримаса досады. Желание расспрашивать, почему этого парня турнули из полка, у Шульги сразу пропало. «Расскажет со временем», – решил он и заговорил сам. Он любил свое винтокрылое хозяйство, искренне верил, что без вертолетов нет и не может быть авиации, и так же искренне пропагандировал все известные и неизвестные преимущества своей техники. Но Ефимов слушал его рассеянно. То и дело он вглядывался в ленинградское небо, затянутое серым войлоком туч, из которых словно нехотя летели редкие хлопья снега. По грязному месиву, покрывающему асфальт, приглушенно шли «Волги», «Жигули», «Рафы», торопливо сновали прохожие. Ефимов провожал их взглядом, думал о чем-то своем. – Неинтересно говорю или не веришь? – спросил Шульга с обидой. – Ведь вы, истребители, нас летчиками не считаете. – Ну, это вы напрасно, – серьезно ответил Ефимов. – Просто я вспомнил тот день, когда меня поздравлял командующий… Разве мог знать Шульга, что в «тот день» Ефимов последний раз виделся с Ниной, что звонил из автомата именно ей, а услышав голос, быстро повесил трубку. Тогда Шульге казалось, что перед ним избалованный судьбою летчик, временно попавший в опалу, которого надо на всякий случай научить держаться за ручку вертолета, потому что не сегодня завтра командующий сменит гнев на милость и возвратит его, как блудного сына, в истребители. Возвратит комэском, а то и на должность повыше, и службу свою в эскадрилье Шульги Ефимов будет вспоминать не более как недоразумение, как грустный и смешной эпизод. Когда они приехали на аэродром, Шульга за предполетными хлопотами на какое-то время забыл о Ефимове. Передавая после набора высоты управление правому летчику, вдруг вспомнил, что уже с завтрашнего дня на этом месте согласно приказу командующего должен сидеть Ефимов, и на всякий случай спросил у Свищенко: – Чем пассажир занимается? Техник осторожно прыснул: – Инструкцию читает. Шульга выглянул в салон. Действительно, свесив голову и упершись локтями в широко расставленные колени, Ефимов увлеченно, как детектив, читал наставление по эксплуатации вертолетов. «Демонстрирует усердие или в самом деле не так прост этот снайпер», – с неожиданно подступившим уважением подумал Шульга, но тут же и позлорадствовал: «Но спесь с него наш тихоход собьет, не такие обжигались». Шульга был свидетелем, как один испытатель спортивных самолетов побился об заклад, что через три дня сможет самостоятельно поднять и посадить вертолет. Поднять поднял, а при посадке не совладал с машиной, к земле она пошла с большой вертикальной скоростью, ударилась о грунт и подогнула носовую стойку. – Не понял, – сказал испытатель. А Шульга понял. Опытного летчика подвела самоуверенность: кажущаяся простота управления вертолетом штука весьма коварная. Вроде уже все тебе ясно, ко всем сюрпризам готов, и вдруг, ни с того ни с сего – тряска, раскачивание. Откуда, почему? А все оттуда – не по тверди земной скользим, а по воздуху. Хотя и на тверди некоторых водителей заносит. Воздух не однороден и коварен, порой выскальзывает из-под винта, как ртуть из-под пальца. Такие сюрпризы иногда у земли преподносит, хоть падекатр, хоть па-де-де танцуй. Шульга был уверен, что Ефимов уже в этом полете попросится ручку попробовать. И даже немного разочаровался, что новичок не проявил никакого интереса к пилотской кабине. Как сел на откидной стульчик в салоне, так и просидел до самой посадки. Сам Шульга не удержался бы. Зато когда сели и зарулили на стоянку, когда Шульга смачно потянулся, предвкушая отдых – впереди была суббота и воскресенье, а значит и подледная рыбалка, – к нему подошел Ефимов и попросил разрешения посидеть в кабине. – Валяй, – сказал Шульга, а технику тихонько поставил задачу понаблюдать и доложить. Вечером спросил у Свищенко: «Ну, как он?» – Да он знает вертолет не хуже нас с вами, – ответил тот ничтоже сумняшеся. – Видать, летал уже. – Ты что, проверял его? – насторожился Шульга. – Да он сам попросил. – Ну и что? – На все вопросы ответил. – Знаю я твои вопросы, – не сдавался Шульга. – Небось спрашивал: где колеса, а где несущий винт. – Какие там колеса? – Техник суетливо расстегнул замок портфеля и достал из него общую тетрадь. Так же суетливо перебросил несколько страниц и протянул тетрадь Шульге. – Почему, говорит он мне, фазовый угол между максимальной подъемной силой лопасти и максимальным ее взмахом на этой формуле меньше девяноста градусов? Ведь несущий винт имеет горизонтальные шарниры лопастей на оси вала, и фазовый угол должен быть равным девяноста. – А ты? – Шульгу уже просто заинтересовало, достойно ли вышел из положения его техник. Все-таки лучшим в эскадрилье считается. – Что ты ему ответил? – А я так сказал: сами, товарищ майор, залезли и джунгли теории, сами и выбирайтесь. Ось вин и почав малюваты. – Свищенко, когда волновался, всякий раз переходил на родной украинский, хотя в спокойной обстановке мог говорить даже без акцента. – Неужели сам допер? – Шульга не мог поверить, что Ефимов за два часа полета мог успеть проникнуть и такие теоретические тонкости. – Залез наверх и сразу обнаружил регуляторы взмаха, – самодовольно подвел итог техник, будто в проницательности Ефимова была его личная заслуга. – Тут, говорит, разнесенные шарниры, и в этом весь фокус. В понедельник, прибыв в эскадрилью, Шульга и первую очередь направился в профилакторий. Он подумал, что Ефимов еще спит, – часы показывали начало седьмого и только-только выбежали на зарядку солдаты; вчерашний ледок ритмично хрустел под подошвами тяжелых сапог. Без стука вошел в одноместную комнату, где распорядился поселить новичка, и приятно удивился: Ефимов, обложившись плакатами и книгами, что-то усердно записывал в рабочую тетрадь. – Всерьез, что ли, решил стать вертолетчиком? – искренне удивился Шульга. – Неужели все это тебе интересно? Ефимов выпрямился, улыбнулся. – А почему бы и нет? Я летчик. Профессионал. Коль скоро назначен на вертолет, обязан знать его, как профессионал. Отличия от истребителя есть, но ведь тоже летательный аппарат. Если не будете торопить, теорию я вам сдам в полном объеме. «А почему бы и не сделать из него отличного вертолетчика? – азартно подумал Шульга. – За полгода. И – на левое сиденье. Вот это будет рекорд». А вслух спросил: – Сколько месяцев просишь? – Ну, уж месяцев, – мягко возразил Ефимов. – За неделю, полагаю, управлюсь. У Шульги было правило: с хвастунами много не разговаривать, а учить их, как учат в деревне котят – мордой об пол. Поэтому сразу потерял интерес к Ефимову и жестко сказал: – Зачет в следующий понедельник. Провалишь – сроки сдачи назначу сам. – И вышел. Решив, что имеет дело с человеком недостаточно серьезным, Шульга тут же выбросил его из памяти, тем более что работы в эти дни хватало – эскадрилья готовилась к весенней проверке, а план по налету трещал по всем швам. Нужен был «минимум», нужен был «сложняк», молодежь с надеждой прислушивалась к сводкам метео, но почти над всем континентом лениво распластался устойчивый антициклон. И ни одного прорыва, ни с Севера, ни с Атлантики. Днем – мороз и солнце, а ночью – луна и мороз. И единственное, что мог в этих условиях сделать командир, это полеты под шторкой. «С паршивой овцы – хоть шерсти клок». Тем не менее в следующий понедельник он с утра собственноручно написал приказ о приеме теоретических экзаменов у майора Ефимова, не забыв в состав экзаменационной комиссии вписать собственную фамилию. Знает он своих сердобольных замов. Расчувствуются от умиления, разохаются, подсказывать начнут. Нет уж, голубчик, экзамен будет настоящий, как перед допуском в рай. Или – или. Первым высказал удивление инженер эскадрильи. В приказе он значился председателем экзаменационной комиссии. – Это авантюра, Игорь Олегович. – А если человек рвется в бой? – Он сам? Тогда это авантюра в квадрате. Штурман эскадрильи только ухмыльнулся: – Нахалам везет. Инженер ТЭЧ досадливо крякнул: – У меня работы, хоть на голове ходи, а я должен самодеятельностью заниматься. Настроением комиссии Шульга должен был прямо-таки восхищаться – эффект будет феерическим. Но Шульга потому и был Шульгой, что в его крови жил неистребимый дух противоречия. – А кто вам дал право обсуждать приказы?! – прикрикнул он. – Человек, может, ответственностью проникся, в строй хочет быстрее войти. А где хотенье, там и уменье. Чтобы мне без амбиции. Строго, честно, но по-товарищески. – И не удержался от шпильки перед расставанием. – Вам самим не помешает в учебники заглянуть. Стыдно будет, если ученик уличит в промашке. А он такой, этот Ефимов… Стартовый командный пункт встретил Шульгу напряженной тишиной. Он стряхнул снег с воротника и замер над картой штурмана. Потрескивающий в динамиках эфир только усиливал томительное ощущение неизвестности и, как показалось отчего-то Шульге, не предвещал ничего хорошего. Да еще эта не прикрытая абажуром лампа над картой. Расчет СКП сегодня был подобран из самых опытных людей. Кроме его заместителя – руководителя полетов и штурмана, здесь сидел инженер эскадрильи – «круглый, як глечик», говорит про него Свищенко, и замполит. Скородумов не раз летал над горами Афганистана, и его совет мог в любую минуту пригодиться. Но Шульга тоже летал. И зримо представлял условия: узкий извилистый каньон, отвесная голая скала, едва различимый уступ, заросший ползучим кустарником. Аварийный вертолет зацепился за этот уступ от безвыходности положения. Это была последняя соломинка. И хватались они за нее в светлое время дня. Шлепнулись с ходу и весь фокус. Посадить же туда второй вертолет, даже днем – задача из области фантастики. А как это сделать ночью, Шульга даже представить не мог. Прикидывая и так и эдак, подлаживался и задом и боком, и маневр с просадкой примерял, и о зависании думал, и тут же все отвергал. Ночь. Искусственное освещение в горах искажает все расстояния, а там необходим ювелирный расчет. Ошибка в несколько метров может стать роковой. Там скалы, потоки воздуха крутит, как в подворотне, в любой миг можно получить непредсказуемый сюрприз: или качнет в сторону, или подбросит вверх, а то и в пустоту провалит. В общем, куда ни кинь, всюду клин. На Скородумова Шульга не хотел смотреть. Комиссар сидел рядом с дежурным синоптиком и невидящими глазами смотрел на испещренную изобарами кальку. Под обветренной кожей щек все еще перекатывались налитые обидой желваки. Этот юный капитан никогда так смело и так упрямо не говорил с командиром, как сегодня. Нет, он не отрицал необходимости попытки выручить товарищей из беды. Это святой закон. Он категорически возражал против Ефимова. – Надо послать такого, кто трезво оценит обстановку, – говорил он, – и если убедится, что возможность посадки исключена, вернется на точку. Ефимов скорее погибнет, чем пустым прилетит. И его гибель будет на вашей совести, Игорь Олегович. Шульга ничего не мог возразить своему замполиту. И хотя в его словах звучала какая-то двусмысленность, по сути этот мальчишка был прав. Шульга подсознательно верил, что если там, в той ситуации, есть хоть один шанс из тысячи, использовать его может один-единственный летчик – Ефимов. Верил, хотя и понимал все возможные последствия. Звякнул аппарат прямого провода, и все одновременно вздрогнули, зашелестели одеждами, задвигались. Руководитель полетов взял трубку, представился и, выслушав вопрос, ответил с едва уловимым упреком: – Связи с экипажем нет. – И тут же передал трубку Шульге: – Генерал. Шульга куснул от досады губы и чертыхнулся. Ему нечего было сказать генералу, нечем утешить, сам бы с радостью послушал утешения. Но генералы утешать не любят. Стружку снять, сделать вливание, продраить с наждачком – это в любой момент и в любых количествах. – Я вижу, Шульга, – недовольно сказал генерал, – вы заняли позицию выжидания. Случай чрезвычайно сложный, но своей пассивностью вы усугубляете его. Раненых бойцов и терпящий бедствие экипаж мы обязаны эвакуировать во что бы то ни стало. На рассвете афганские товарищи высадят в этот район десантную роту. – Если позволит погода, – вставил Шульга, прикрывая глаза от яркого света лампы. – Вот именно, – подхватил генерал. – Идет буран, и к утру мы носа не высунем. Поэтому надо действовать, а не сидеть сложа руки. Десять минут вам. Доложите решение. – И повесил трубку. – Вы можете колпак на лампочку надеть?! – прорычал Шульга неизвестно кому и, толкнув ногою тяжелую металлическую дверь, вышел наружу. «Через десять минут решение». Какое? Хоть пой, хоть плачь, хоть вплавь, хоть вскачь. Под унтами тяжело заскрипел снег, а чистый морозный воздух сам хлынул в легкие. «Сидят там, как в парилке, – подумал о дежурной смене СКП, – а тут такая благодать, как весной». И сразу понял, что действительно потянуло сыростью, талым снегом, что это совсем не к добру, потому что где-то уже совсем близко обширный фронт влажной облачности. А это в сто раз хуже сухой метели – и мокрый снег тут, и обледенение, и даже грозовые разряды не исключаются. Загнав кулаки в боковые карманы меховой куртки, Шульга даже не замечал, что ходит вокруг СКП по проторенной связистами тропинке. В некоторых местах на ней лежали желтые квадраты света, падающего из окон. Вдруг один из квадратов погас, и Шульга вскинул глаза. Так и есть – надели колпак на лампочку. И тут же созрело решение. Он посмотрел на часы – после разговора с генералом прошло девять минут. «Генерал – молоток, – подумал с благодарностью Шульга, поднимаясь на СКП. – И не простой молоток, а отбойный. Не позвони он, так бы и сидели, мигая глазами». Он с ходу подошел к аппарату, снял трубку и попросил на провод «первого». – Прошу утвердить решение, товарищ генерал, – сказал Шульга, нисколько не сомневаясь в том, что нашел единственно верный выход. – В район бедствия вышлем еще два вертолета. Один – специально оборудованный для спасательных работ в режиме висения, второй – в качестве ретранслятора. Будет барражировать в квадрате… – Утверждаю, – сухо сказал генерал. – Действуйте. – Если с колпаком неудобно работать, – сказал Шульга штурману, – можешь снять. А вы, – повернулся он к инженеру, – на стоянку. Готовить машину Скородумова и мою. Экипажи – на постановку задач. – И добавил: – Ко мне в кабинет. В большом разлинованном блокноте, который положила Шульге в портфель во время отпуска дочь, остался один лист. «Надо же, как рассчитала, чертовка», – подумал он, вспоминая Олин наказ: «Одно письмо в неделю и как раз до замены хватит». Ведь на этой неделе действительно могут приказ прислать. Посмотрел на часы – еще успеет до вылета – и написал: «Здравствуй, доченька, здравствуй, мой единственный дружочек!» И сразу представил этого дружочка: худенькую, сутулую семиклассницу, с хриплым неуверенным голосом и болезненным взглядом запавших глаз. Бог мой, в каких она только клиниках не обследовалась, каких диагнозов ей не ставили, какими лекарствами не лечили. И ни черта! То вдруг повеселеет, оживет, ест все, что попадется, в общем ребенок как ребенок. То начинает угасать, терять аппетит и настроение, становится вялой и жалкой. «Ну неужели наша медицина так беспомощна, что не в силах поставить ребенку диагноз?» – спросил однажды Шульга уважаемого профессора. «Значительно беспомощнее, чем мы все думаем, – сказал профессор грустно. – В человеке загадок еще на тысячи лет». Оля уже ходила в пятый класс, когда Шульга однажды не на шутку поссорился с женой. Запахло разрывом. В один из вечеров Оля обняла его за шею и рассудительным шепотом сказала: «Я без тебя пропаду, папуля». И эти ее слова решили все. Девочку он любил как единственное и самое стоящее в его судьбе. Дочь ему платила тем же. Ее недетскую тоску по близкому человеку он особенно остро почувствовал здесь, в Афганистане. Девочка писала ему длинные письма, называла его то «Игорь Олегович», то «мой бедный рыцарь», то «верный дружочек», а где-то в конце обязательно прорывался крик души: «Папочка мой, папуленька, ну когда же я смогу тебя увидеть и обнять!» И Шульга сразу раскисал, чувствуя неудержимую резь в глазах. По срокам, «оговоренным высокими сторонами», это письмо он мог бы написать через три дня. Но Шульга знал, куда и зачем летит. И не сказать последних слов дочери он просто не мог. Письмо это отправят, если он не вернется, а если вернется – напишет новое. А это… Это он сохранит и вручит ей… ну, скажем, в день свадьбы. Или при окончании школы. А то и на совершеннолетие. Чем не подарок! Лизнув клеевую полоску конверта, Шульга запечатал его, разгладил на шершавом походном столе ребром ладони, надписал адрес. Подержал, дав высохнуть чернилам, и положил в сейф. Здесь, если что, – найдут. – Свищенко, признайся, – попросил Шульга техника, осматривая вертолет, – какой ты приберег эпитет для командира? – Какой там еще эпитет, – застеснялся Свищенко. – У вас имя и отчество краше любого эпитета – Игорь Олегович. Это же придумать надо, Игорь да еще и Олегович. Прямо сказание о граде Китеже. – Не финти, Свищенко. Инженер у тебя «круглый, як глечик», замполит «застенчивый, як девственница», штурман «упертый, як бугай», заместитель мой «ни то ни се», кого я там еще забыл? Начальник ТЭЧ? Как ты его? – Да никак. Это ж аксиома, а не человек. – Во-во – аксиома. Прилипло уже. Ну, признайся, что для меня сочинил? – Нет, вы – начальство. Не можно. – Начальства бояться – на службу не ходить. И для чего ты на свете живешь, Свищенко? – Для демографии, наверное. – Во-во! Шульга любил во время осмотра вертолета вот так беззлобно поворчать на техника. Свищенко это ворчание воспринимал как похвалу за четкую работу, потому что если командир замечал хоть самый безобидный промах техника, он переставал балагурить и бросал только одно слово: «Зазнался!» Вертолет и в этот раз был подготовлен без замечаний. Когда набрали высоту, Свищенко неожиданно сказал то, о чем давно все думали, но никто не решался произнести: – Не смог он сесть там. Наверное… – Ты уже один раз накаркал, Свищенко, – одернул его Шульга. – Помнишь, предрекал Ефимову, что он не сдаст экзамена по теории? Или забыл? – Уси каркали. Уси предрекали. Особенно члены комиссии. Накинулись на хлопца, як осы на сахар. Вы вспомните, Игорь Олегович? Да, вспомнить следует, это был красивый спектакль. Смешались все страсти. Амбиция с удивлением, недоверие с восторгом, подозрение с упрямством. Надо признаться, что и Шульга в тот раз вел себя не идеально. Сперва его потешало, как члены комиссии снисходительно кивали в такт ответам Ефимова, многозначительно переглядывались; потом он слегка позлорадствовал в адрес начальника ТЭЧ, который неточно назвал один из узлов подвески, и Ефимов тактично поправил его; потом начал подозревать, что новичок дурачит не только «высокую комиссию», но и его, командира эскадрильи. Когда Ефимов спокойно и уверенно изложил принцип работы гидроусилителей, нарисовал схему их взаимодействия с тягами управления, Шульга не выдержал и спросил: – Скажите по правде, Ефимов, тут у некоторых товарищей есть подозрение, что вы ранее служили вертолетчиком. Признайтесь, мы не обидимся. Ефимов удивленно вскинул брови. – Я никогда не говорю неправду. – Ни в каких ситуациях? – Ни в каких. А что вас так удивляет? – Ну, не хотите же вы сказать, что за неделю освоили весь этот материал? – начал злиться Шульга. – Я специальное училище окончил, курсы, летаю пятнадцать лет, столько же лет занимаюсь в системе командирской подготовки. И далеко не на все вопросы, которые тут задавали, смог бы так исчерпывающе ответить. А вы… Не дурачки же мы круглые. Ефимов не то с укором, не то с хитрецой посмотрел на Шульгу. Мягко улыбнулся. – Мне все это в новинку, интересно. А когда интересно, сами знаете. – Вертолет – не швейная машина! – Но машина. А у меня авиационно-инженерное образование… Несколько другая терминология, а так – летательный аппарат. – Хотите сказать, что и лететь можете сразу? – Нет, сразу нельзя. А через неделю полечу. Если, конечно, дадите несколько провозных. – Отлично! – прямо выкрикнул Шульга, прихлопнув ладонью лежащие на столе бумаги. – Провозные дадим. По теории вам зачет. А пилотаж сам приму. Идите. Когда Ефимов вышел, «высокая комиссия» погрузилась в раздумье. Долгое молчание нарушил инженер. Пожав плечами, он сказал: – А что? Бывает. В авиации все может быть. – Да пошел он к фенькиной маме! Морочит головы, – махнул рукой начальник ТЭЧ. – Я Жуковку кончил, а он меня поправляет. Брехня! Развесили уши, как лопухи. – Ну, а если?.. – Тогда не знаю. Это что-то из ряда вон. Инженер стоял на своем: – Он же правильно сказал. Если человек технически подкован, в любом механизме разберется в два счета. А терминологию освоить за неделю – вполне. – Только мы с вами одолевали ее почему-то шесть лет в академии. Брехня! Не верю! – Мы начинали с нуля. А он уже, слава богу, комэска, летчик-снайпер. Кстати, почему его к нам перевели? По здоровью, что ли? – Самолет утопил, – спокойно сказал штурман. На минувшей неделе он был в штабе ВВС и, видать, что-то прослышал. – Нарушил меры безопасности. Так что держите с ним ухо востро, Игорь Олегович. Наша эскадрилья уже девять лет без «предпосылок». Можем не дотянуть до юбилея. Буквально на следующий день пришла к ним «нужная» погода. Раскручивался солидный циклон, захвативший своим крылом зону аэродрома, и видимость снизилась до минимума, в общем, как по заказу. Полеты пошли ежедневно в две смены, с особой нагрузкой трудились инструкторы, и заниматься с Ефимовым, конечно же, было некому, да и некогда. И лишь в конце недели, когда утих снегопад и совсем истаяли облака, когда спало напряжение на аэродроме, Шульга вспомнил о Ефимове. Попросил найти его и доставить к вертолету. Ему почему-то не хотелось выглядеть трепачом в глазах опального майора, создавать ему искусственные трудности. Хватит с него и естественных. Шульга ни на минуту не сомневался, что Ефимов будет посрамлен и тем самым наказан за бахвальство и самонадеянность. А пять провозных он ему обеспечит по всем правилам. Пока искали Ефимова, Свищенко сидел верхом на двигателе и ковырялся в роторном механизме. Шульга курил в рукав и издали наблюдал за техником. Это был первый техник из всех, известных Шульге, который не страдал, что у него нет роста в званиях и должности. Достигнув определенного возраста, многие офицеры-техники начинали стесняться лейтенантских звездочек, переживать, что им некуда выдвигаться, уходили от любимого дела на любую должность, только бы подняться на очередную ступеньку армейской карьеры. Свищенко таких людей не понимал. – Мой сосед, – говорил он, – до самой пенсии младшим лейтенантом в милиции проработал. И ничего – уважаемый человек. А я уже и так сделал карьеру – до старшего дослужился. Держать в готовности такую машину – на всю жизнь радость. – Не опозоришься, Свищенко? – спросил Шульга, тщательно загасив сигарету. – Ефимов будет проверять готовность. – А може, не треба, шоб вин? – заволновался техник. Он явно симпатизировал новичку. – Вин на полет настроився. – Треба, Свищенко, треба. Сразу увидим, как он настроился. «Почему он не переживает свое отлучение от истребителей?» – спросил себя Шульга, когда увидел весело идущего к стоянке Ефимова. Вспомнил его лицо в кабинете командующего – спокойное, уверенное, задумчиво-насмешливый взгляд, мягкий располагающий тон в разговорах, скупые жесты… Да если такое случилось бы с Шульгой, он бы метался, как загнанный в угол волк. Рычал, кидался на всех, белый свет ненавидел бы. Когда однажды Шульга схлопотал от командующего строгача за аварию, он дошел до Главкома. Приехала комиссия, разобралась, подтвердила наличие скрытого заводского дефекта в турбине, чем полностью реабилитировала инженерно-технический состав эскадрильи, а с ним и командира. И только когда Александр Васильевич вынужден был отменить свой собственный приказ о взыскании, Шульга немного успокоился и притих, продолжая ворчать по инерции. А этот, как скала. Видимо, действительно, виноват. Но в чем? Что в горячке боя проскочил запрещенный эшелон? Разве за это могли отстранить? Да еще такого летчика. Какая-то в этой истории есть скрытая пружина. – Небось обиделся, что я забыл про тебя. – Обида, товарищ командир, уставом не предусмотрена. – Чем занимался эти дни? – Сидел в тренажере. Читал. – Тогда принимай вертолет у техника. «Чем он берет? Почему заставляет считаться с собой? Почему у меня такое ощущение, что мы знакомы уже сто лет? В чем тут дело? Во внешности? В характере? В поступках? Так ведь еще ни характера, ни поступков…» – Товарищ командир, вертолет принял, все в порядке. – Свищенко! А ты что скажешь? Не стесняйся, если что – ему на пользу. Это учеба. Ну? – Строго приняв, – хмуро сказал техник. – Никак в чем-то уличил? – засмеялся Шульга. – И на старуху бывает проруха. «Вот они, поступки, – подумал Шульга. – И вот он, характер». Вслух сказал: – Первый полет пилотирую я. Взлет, проход и маневрирование над аэродромом, посадка. Ты только наблюдаешь. Второй – разрешаю после взлета держаться за ручку, ноги на педалях до захода на посадку. Третий полет… По результатам второго. Все ясно? – Так точно, товарищ командир! – улыбнулся Ефимов, и у его светлых глаз разбежались веером насмешливые морщинки. «Да он просто издевается над всеми нами!» – подумал Шульга, и желание наказать Ефимова, унизить поднялось в нем мутной волной. – А может, сразу сам, а? – Можно и сразу, – сказал Ефимов обиженно, словно услышал командирские мысли. – Но с условием, – разозлился и Шульга, – наколбасишь – еще месяц будешь летать на тренажере. – А если не наколбашу? – Молодцом будешь, – бросил Шульга, забираясь в вертолет. – Нет, товарищ командир, пари не честное. Я должен знать, ради чего иду на риск. – Я не допущу риска. – Это понятно. Но я рискую своим именем. – А чего бы ты хотел? Чтобы я тебе после первого полета машину доверил? – Не надо после первого, – уже мягче сказал Ефимов. – Я вам скажу, когда буду готов. – Когда же? – обернулся Шульга. – У тебя, я вижу, все давно рассчитано. Через неделю, через год? Ну? Ефимов опустил глаза. – Да вы не сердитесь на меня, Игорь Олегович, – сказал он примирительно. – Готов я буду через месяц. Иначе мне нельзя. Иначе накладно будет держать меня в эскадрилье. Я и так государству влетел в копеечку. Надо делом оправдывать. – Ладно, пошли, – мягче сказал Шульга. – Просто любопытно уже. Когда Ефимов безошибочно включил все системы, отдал команды и серебристый диск над головой упруго распрямился, Шульга спросил: – Не передумал? – Нет, – отрезал новичок и запросил разрешение на взлет. «Нахал!» – только и подумал Шульга, и ни с того ни с сего показал кулак Свищенко: мол, смотри у меня! Техник даже не удостоил его жест вниманием, напряженно следя за командами Ефимова, будто не Шульга здесь командир, а этот… Поразило Шульгу даже не то, что новичок поднял и повел машину без ошибок, он все-таки был летчик и неделю провел на тренажере. Поразила спокойная уверенность даже в тех ситуациях, когда бы любой летчик заволновался. После того, как Ефимов проделал комплекс горизонтальных фигур, Шульга попросил его перевести вертолет в пикирование и вывести с правым креном. Он знал – на этом вертикальном маневре обжигались даже опытные летчики. При выводе вертолета из пикирования на него действуют не только аэродинамические силы, но и гироскопические, источником которых являются быстровращающиеся роторы несущего винта, двигателей, рулевого винта. Под их действием вертолет стремится развернуться и накрениться влево. И если летчик не знает этого, он неизбежно запоздает парировать разворачивающий и кренящий моменты. Здесь ручку управления надо отклонять с упреждением. То есть, надо иметь определенный опыт. Но когда Ефимов все это проделал, даже не превысив на выводе максимальной скорости, Шульга усомнился в его искренности в третий раз: «Он уже летал на вертолете». О чем и сказал Ефимову, когда тот мягко посадил машину на бетонку и зарулил на стоянку. – Нет, Игорь Олегович, – усмехнулся Ефимов. – Я не умею врать. Но вертолет мне нравится. Думаю, у этой птички удивительные возможности. Шульга обиделся и ушел со стоянки не простившись. Он не мог, даже привлекая на помощь всю фантазию, поверить, что вертолет, которому он посвятил всю службу, можно вот так, с первого раза, взнуздать и заставить делать все, чего от него потребует такой, как Ефимов, наглец. «Этого не может быть, даже если и было на самом деле». Через два дня его вызвали на совещание в штаб ВВС. Примчавшись за час до начала в актовый зал, Шульга начал искать командира авиаполка, в котором служил Ефимов. Но в коридорной суете, когда к тебе может подойти кто угодно и зачем угодно, разве поговоришь толком? – Иван Дмитрич, – перехватил он за рукав Волкова. – На два слова. Ты знаешь, что твоего Ефимова ко мне перевели? – Ну и как он? Волков безразлично сказал эти слова, и Шульгу почему-то задела такая незаинтересованность командира в судьбе своего бывшего подчиненного. У командующего куда как больше забот, а он и участие проявил, и сожаление высказал. – Он-то вполне нормально, – сказал Шульга, – а вот твою позицию я бы хотел знать. – При чем тут моя позиция? Это решение командующего войсками округа. Ефимову все говорили: не строй из себя святого. Просили даже – помолчи. Большие люди просили. – Что все-таки произошло? – Долго рассказывать. Извини. – Постой, один короткий вопрос. Он летал когда-нибудь на вертолетах? Волков оживился. – Уже летать просится? – Уже летает, – с удовольствием сказал Шульга. – Да еще как. Почему и спрашиваю. – Это на него похоже, – в голосе Волкова зазвучали предупреждающие ноты. – Не летал он никогда на вертолетах. Не верь. И держи с ним ухо востро. Летчик он не просто способный, талантливый. За что и обидно. А наказан правильно. – Ну, посмотрим. От наказания, говорят итальянцы, хороший улучшается, а плохой ухудшается. «Нет, к черту эмоции, симпатии и антипатии, – думал Шульга по дороге домой. – Есть порядок, есть проверенная годами методика обучения, есть руководящие документы. Не дай бог, случится что, нас никто не поймет. Никто даже слушать не станет. На смех подымут. Летать пусть летает, но так же, как и все: два-три года на правом сиденье, а там – посмотрим». Уже через несколько минут, когда Шульга, казалось, обрел окончательное душевное равновесие от твердо принятого решения, его радужное настроение начало потихоньку гаснуть, и вскоре он стал напоминать грозовую тучу. Первый ее разряд принял на себя ничего не понявший Свищенко. – Чего ты все улыбаешься? – набросился вдруг на него Шульга. – О чем ты думаешь в полете? Обленился, как старый кот! Мышей перестал ловить! Нет, я за тебя возьмусь. Через неделю будешь мне сдавать на классность по полному объему. Я посмотрю, как будешь отвечать. Ишь, устроился… Учиться не хочу, выдвигаться не желаю. Ты не в колхозе на тракторе. Это армия. Без желания выдвигаться здесь делать нечего. Потому и обрастаем жирком благодушия, что думаем только о своей заднице – как бы уберечь ее от ремня. А дело – хрен с ним. Люди, которые думают о деле больше, чем о себе, нам как кость в горле. Неудобны они нам, совесть бередят. Вот мы их и давим. Где приказом, где инструкцией, а где и просто самолюбием. Чтобы не высовывались, не показывали, что лучше нас. Нет, Свищенко, этот номер не пройдет. Понял? – Так точно, товарищ командир, – сказал тот спокойно, всем видом показывая, что разряд гнева он благополучно пропустил в песок. – Нет, ты еще ничего не понял, – уже тише сказал Шульга. – Но поймешь. И эта тихая реплика встревожила техника больше, чем весь обличительно-гневный монолог. Он посмотрел на командира, беспокойно заерзал, пожал плечами, махнул рукой: – Хочь стреляйте, хочь вешайте. Я не знаю, чим провинився. «Нет, – думал Шульга, – я все сделаю, чтобы Ефимов показал вам, как надо служить, как надо летать и как вообще к делу относиться. Это чушь собачья, что в наши дни перевелись Чкаловы. Просто тогда было больше людей, которые не боялись брать на себя ответственность, которые давали таким, как Чкалов, возможность проявить свой талант». Шульга безусловно знал, что и Чкалова отчисляли за недисциплинированность из истребительной авиации, но это не вписывалось в его гневно-обличительные размышления, и он о «таких мелочах» даже вспоминать не хотел, не то что полемизировать с самим собой. А вот идея вырастить своего Чкалова захватила его своей возвышенной привлекательностью. А что? Страдать, так за святое дело. Пусть знают наших! Официально он летчик-снайпер, значит и полеты ему будем планировать на подтверждение классности. Под завязку! А потом еще знакомому корреспонденту позвоню, пусть распишет… – Товарищ командир, – вернул его к реальности штурман, – подходим к контрольной точке. Я предлагаю входить в ущелье восточным маршрутом. Шульга все еще был в воспоминаниях, будто заново переживал приятные волнения тех далеких дней, и этот нелепый вопрос задал штурману механически, чтобы выиграть время и сообразить что к чему. – Такой крюк давать? – Зато быстрее будем в зоне прямой радиовидимости. С восточной стороны ущелье более широкое, без изгибов. Скоро рассвет, зайдем со стороны солнца. – И безопаснее, – добавил Свищенко. – Ежели стрельнут со склона, не достанут. – Так бы сразу и сказали, что дрейфите, – буркнул Шульга, но предложение штурмана оценил: сейчас главное установить связь. – Добро, идем восточным. Никогда и ничего Шульга так не хотел, как благополучного завершения этой операции. Если вернется Ефимов со своими хлопцами, если они сегодня, как всегда, всей эскадрильей живые и здоровые, соберутся в столовой на завтрак, ей-богу, это будет лучший день в его жизни! – Только бы все вернулись, – сказал он вслух и как будто не к месту, но ни штурман, ни техник не переспросили его. Их мысли были созвучны с мыслями командира. 6 В начале апреля морозы отпустили и на ленинградских улицах начали неторопливо таять скопившиеся у поребриков толстые наледи, растекаясь по асфальту черными потоками. Наезжая на эти потоки, машины выстреливали из-под колес веерами грязных брызг, окатывая тротуары, стены домов, прохожих. Водители, конечно, понимали, что причиняют пешеходам неприятности, но даже не пытались притормозить или объехать опасную зону. Попал под такой «шприц» и Волков, когда стоял в толпе на переходе, ожидая зеленого света. Маслянисто-ржавые пятна проштамповали брюки, летнее пальто, попали даже на фуражку. «А чтоб тебе слезами облиться», – бросила вслед самосвалу пожилая женщина, смахивая ладонью с плаща брызги грязи. «Ни стыда ни совести, – поддержал ее интеллигентный мужчина. – За границей за такие фокусы рублем бьют. А тут обнаглели до предела». – «Допустим, не рублем, а фунтом или долларом. Рублем такого не проймешь…» – хохотнул молодой парень и посочувствовал Волкову: – Придется вам прямо в химчистку, товарищ полковник. На службу с такой расцветкой не сунешься. Волков досадливо вздохнул и пошел к троллейбусной остановке. Явиться в таком виде в штаб он, ясно, не мог. Надо только позвонить, чтоб к девяти не ждали. На остановке Волков зашел в будку телефона-автомата, порылся в кармане, не найдя «двушки», бросил в щель гривенник. Позвонив дежурному по штабу, Иван Дмитриевич снова вернулся на остановку. Народу, естественно, поднакопилось, и Волкову пришлось поработать локтями. Сдавленный в проходе чужими телами, прижатый бедром к спинке сиденья, Иван Дмитриевич вспомнил былые дни, когда к его услугам была и персональная машина, и телефон, и лихача этого на самосвале он бы отыскал в своем гарнизоне, уж это будьте уверены. Не рвался он на новую должность. Знал, штабная работа – не его удел. Держался до последнего, ссылаясь на необходимость поставить полк на крыло. Впрочем, необходимость эту никто не брал под сомнение: перебазирование полка на необжитый аэродром потянуло непредсказуемый поток проблем. Обживать пришлось не просто новый аэродром – новые условия жизни и службы, новые принципы боевой учебы, новую психологию. Должность у Волкова в штабе ВВС округа и по званию, и по окладу почти равноценная. Хотя масштабы, конечно, не сравнишь. Размах, будь здоров! И если учитывать перспективу, нынешняя школа ему пригодится. Опять же – Ленинград, нормальный рабочий день, если не в командировке. Маша воспрянула, лекции в Политехническом читает по промышленному дизайну. В театр стали ходить, в музеи, в кино бегать, как студенты. Впервые Иван Дмитриевич добрался до книжных полок. Не жизнь – сказка. А какую квартиру на Ржевке дали! Мечта! Вот только телефона нет, а так – полный комфорт. И все-таки в глубине души Иван Дмитриевич завидовал своему бывшему замполиту. Именно Новикову он и передал полк. Случай, можно сказать, беспрецедентный, но командование прислушалось к доводам Волкова, и Алексей Петрович стал командиром полка. И ничего, командует. В гости приглашает. Знает, черт эдакий, где у Волкова болит. Почти полтора года в Ленинграде, а душа по-прежнему там, на Севере. Только Алексей Петрович и не догадывается, как скоро к нему нагрянет Волков. Инспекционная поездка во главе с командующим утверждена в плане на конец апреля. Осталось внести последние штрихи в программу проверки, и группа инспекторов свалится в полк к Новикову, как снег на голову. У Волкова было желание хотя бы намеком предупредить друга, но, зная характер Алексея Петровича, не рискнул. Наверняка обидится. И хотя ничего не скажет, но подумает о Волкове с иронией: спасибо, дескать, Иван Дмитриевич, за шубу с барского плеча… Волков не сомневается в этом, потому что сам точно так же думал, когда его кто-нибудь из приятелей предупреждал о грядущей проверке. И думал, как правило, вслух, в присутствии всех, кто в эту минуту стоял рядом. А Новиков был почти всегда рядом, и волковскую фразу про шубу конечно же помнит. Маши дома не было, и Волков попытался самостоятельно отчистить пятна на пальто. Из затеи этой, естественно, ничего не вышло. Не помогли ни пятновыводитель, ни мыльный раствор, ни утюг. Пришлось лезть на антресоли и доставать старое, основательно выгоревшее на солнце летнее пальто. К тому же с подполковничьими погонами. – Что я вижу, Ваня? – всплеснула руками вернувшаяся из магазина Маша. – Это какая же сила заставила тебя взяться за иглу? – Не задавайся и не думай, что твой муж был всегда полковником, – спокойно парировал Иван Дмитриевич. – Будучи курсантом, я это делал по высшему пилотажу. Заметив пятна, Маша сочувственно покачала головой и засмеялась. – Дай-ка, у меня это быстрее и лучше выйдет. В коридоре прошепелявил звонок. Маша кивнула, мол, потом доделаю, и вышла из гостиной. И уже из коридора громко позвала: – Иван Дмитриевич, к тебе! Волков вышел. На пороге переминался помощник оперативного дежурного голубоглазый старший лейтенант из комсомольского отдела, которого в штабе все добродушно-уважительно называли по имени и отчеству – Иваном Ивановичем. – Что случилось, дорогой тезка? – Командующий послал за вами и сказал, что время не терпит. В Москву полетите. Иван Дмитриевич быстро переодел брюки, бросил в портфель бритву и туалетные принадлежности. Непришитые погоны сунул в карман старого пальто, перекинул его через руку и подошел к Маше. – Что тебе привезти из Москвы? – Будет возможность, узнай, как дела у сына. Поцеловались, и Волков, не вызывая лифт, по ступенькам сбежал с четвертого этажа. У подъезда стояла «Волга» командующего. «Ого, – подумал Иван Дмитриевич, – дело серьезное». – Не знаешь, что за командировка, Иван Иванович? – спросил в машине Волков. – Никак нет, товарищ полковник. Волков попытался, как говорится, вычислить цель поездки: совещание, методический совет, инструктаж перед инспекцией… Да нет, такие мероприятия в пожарном порядке не делаются. Может быть, срочно получить какие-нибудь документы? Так сам командующий только вчера вернулся из столицы, мог получить. Скорее всего, другое – Главком на днях подписал новую директиву по обеспечению безопасности полетов. Видимо, к ней последуют еще и устные разъяснения, вот и вызывают. И это, как правило, не надолго – два дня, от силы – три. Командующий был краток: вот командировка, там указано, куда и к кому, остальное – на месте. И вперед, в Пулково. Билет на ближайший рейс у помощника военного коменданта. – Желаю успеха, – улыбнулся Александр Васильевич на прощанье, – и верю, что оправдаешь наши надежды. Почему нужен успех в этой командировке и какие надежды необходимо оправдать, Волков так и не понял. Впрочем, не надо гадать и ломать голову. К вечеру все разъяснится. И если у него останется время, он обязательно позвонит в часть, где начинал службу сын. Когда Гешка поступил в авиационное училище, Волков впервые очень искренне порадовался за сына. Ведь был шалопай из шалопаев, маменькин сынок, и вдруг – курсант училища. Отцовское направление, истинно мужское дело. Никак только не мог понять Волков, почему сын выбрал вертолет; допытывался, но Гешка темнил и отделывался пустыми фразами, мол, за вертолетами будущее. Разгадка объяснилась значительно позже, когда Гешка позвонил матери по телефону и сообщил, что военный летчик-штурман лейтенант Волков получил назначение для прохождения дальнейшей службы в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Маша прямо с переговорной позвонила в штаб Волкову и чужим перепуганным голосом сказала, что немедленно едет к нему. Волков впервые видел Машу в таком паническом состоянии. Опухшие от слез глаза, незнакомые складки в уголках губ, покрасневший нос – все это в одночасье состарило ее, сделало некрасивой и жалкой. Они прошли на набережную Мойки и спустились по каменным ступенькам к воде. Здесь было прохладно, здесь их никто не видел, можно говорить и плакать, не привлекая внимания прохожих. И Маша вновь дала волю слезам. – Ну неужели ничего нельзя сделать, чтобы он туда не ехал? – сквозь рыдания спрашивала Маша. – Это я, понимаешь, Ваня, я виновата. Я его убедила стать вертолетчиком. Была уверена, что на этой машине летать безопасней. И вот, помогла… У тебя же есть друзья, в конце концов попроси Александра Васильевича, он добрый, он поможет… Волкову впервые хотелось наорать: с какими это глазами он пойдет к командующему, о чем будет просить? Не посылайте моего сына туда, где опасно, потому что он у нас единственный. Смешно. Как будто в других семьях дюжины сыновей. Да если бы и дюжины, какая разница для матерей. – Он не один, – говорил Волков спокойно, – и надо не плакать, надо гордиться, что твоему сыну сразу после училища оказали такую честь. Интернациональный долг – самый святой долг… – Ваня, что ты говоришь, – не унималась Маша, – они летают над горами, где прячутся бандиты. А те стреляют. Я ведь тебя никогда ни о чем не просила, всем пожертвовала ради тебя, но сын – это выше моих сил. Если с ним что случится, я не переживу. Ты сразу потеряешь нас обоих. Сделай что-нибудь, Ваня. Сделай, пока не поздно. Я умоляю тебя. Волков понимал, ему не переубедить Машу. Ей надо успокоиться, прийти в себя, без эмоций осмыслить случившееся, тогда его слова о чести, долге, возможно, и достигнут цели, а пока… Зареванное и сильно подурневшее лицо Маши вызывало у него болезненную жалость. Он гладил волосы и тихо просил: – Ну, будет… Поплакала и перекрывай стоп-кран. На форсаже долго не протянешь, не хватит керосина. Я тебе обещаю разведать обстановку. Позвоню в часть, поговорю. Если будет удобно, попрошу. – Нет, Ваня, – требовала Маша, – ты мне обещай сделать все возможное. – Это обещаю. Все, что в моих силах, сделаю. Он обещал и сразу знал, что просить за сына никого никогда не станет. Не так воспитан. И он действительно на другой день дозвонился по спецсвязи до Гешкиного командира и очень обрадовался, узнав, что разговаривает с Юрой Боровским, однокашником по академии. – А это, случайно, не твой сын ко мне из училища прибыл? – поинтересовался тот. – Случайно или нарочно – не знаю пока. А что мой – это точно. – Слушай, Иван, – сказал тот доверительно, – отличного ты парня вырастил. Могу только поздравить. Мой дуралей в институт пошел. А как я просил поступать в училище. Потом он спохватился и спросил: – А ты по какому поводу звонишь? – С сыном хотел поговорить. – Опоздал ты, Иван, самую малость. Вчера вечером группа пилотов улетела в Кабул. И он там. Только не переживай, я в Афганистане два года отлетал, и как видишь – все в норме. Вернется с орденом. «Вот и хорошо, что улетел, – подумал тогда Волков, – я сделал все, что мог, позвонил, поговорил, и будь Гешка на месте, попросил бы старого приятеля повременить с отправкой. А коль сын улетел, тут сам бог не поможет». Все это он сказал Маше, искренне сожалея, что не смог поговорить с Гешкой. Перебирая позже в памяти разговор с Боровским, Волков с запоздалым страхом ругал себя за слабость – зачем вообще звонил, – ведь Юра Боровский мог предложить оставить Гешку в своем полку, а Волков, чтобы успокоить Машу, мог согласиться. Потом бы горел от стыда и перед Боровским, и перед сыном, и перед Машей тоже. Не зря ведь говорят в народе, что за минуты слабости люди расплачиваются годами. От Гешки шли скупые, однообразные, но бодрые письма. «Летаем, помогаем братьям по классу строить новую социалистическую республику, возим народнохозяйственные грузы по хорошо протоптанным трассам…» «Питаемся отлично, отдыхаем хорошо, есть у нас клуб, баня и даже свой бассейн…» «Мне повезло с командирами, с друзьями, с учебой – летаю много и с удовольствием…» «Были на экскурсии в Кабуле, были в гостях у афганских летчиков, говорили с ними на русском языке, выучил несколько слов на языке пушту…» «Провели соревнование по волейболу между звеньями, наше вышло победителем…» Писал он письма аккуратно и в конце концов уверил мать, что его служба там ничем не отличается от службы в стране. И Маша стала отходить. Но, не получив под Новый год от сына поздравительной открытки, она снова заволновалась, почти не спала, подолгу и тихо плакала. Волков стал беспокоиться за ее здоровье и как-то после работы привел домой врача-психиатра, представив его своим старым приятелем. Врач предупредил, что длительное состояние тяжелой депрессии может оставить необратимые последствия. Волков снова позвонил Боровскому: – Сын не пишет, а жена с ума сходит. Тот посопел в трубку и как-то буднично сказал: – Болен он, Иван Дмитриевич. Желтуху подхватил. А это надолго. Лежит в нашем гарнизонном госпитале. – К нему можно приехать? – Думаю, можно. Когда встречать? – Маша полетит. Я не могу. Придя домой, Иван Дмитриевич положил перед Машей авиационный билет: – В госпитале он, гепатит. Глаза у Маши испуганно расширились, и она обеими руками сдавила шею. – Ничего страшного, к свадьбе поправится. Полетишь завтра утром к нему и сама убедишься. Боровский встретит и все устроит. Я, к сожалению, не могу, служба. Волков, наверное, мог полететь вместе с нею, его бы отпустили, но он решил, что Маша сама обо всем поговорит. Это ее успокоит. И Маша действительно вернулась из Ташкента успокоенной, подробно рассказывала, какие хорошие врачи в госпитале, как ее хорошо принимали, каким галантным кавалером оказался Юра Боровский, его жена даже приревновала, потому что «Юра за ней так никогда не ухаживал…». – Ну, а сын? – Поправляется. Теперь вот поняла, что не зря ты его высечь ремнем собирался. Был шалопай, шалопаем и остался… Смысл этой реплики Волков понял позже, когда Гешка расстроенно писал, что его хотят оставить служить на Большой земле. По довольной усмешке Маши он сообразил, что она его ближайшую перспективу обеспечила, как могла. Оттого и врачи необыкновенно хорошие, и Боровский лучший в мире кавалер… Перед тем, как получить назначение к новому месту службы, а прочили Гешку в один из внутренних военных округов, он приехал в отпуск. Пожил дней десять в Ленинграде и укатил в Сызрань. Хотелось парню побывать в училище, с друзьями повидаться. Ну, а скорее всего – с той глазастенькой с кудряшками на висках, фотографию которой Иван Дмитриевич видел у сына под обложкой удостоверения личности. Гешка много шутил, высмеивая свою неуклюжесть, рассказывал всякие байки об афганских ростовщиках и торговцах, говорил целые фразы на дари и пушту, весело изображал, как молятся мусульмане, как кричат с минаретов зазывалы. Его поведение радовало и забавляло Машу. Однажды, когда матери не было дома, Гешка подробно, без прикрас рассказал отцу, какая обстановка в ДРА, рассказал, какие задачи решают вертолетчики, под большим секретом сообщил, что он возвращается к себе в часть в Афганистан. А письма просил писать на Ташкент. Ребята перешлют. – Маме ничего не говори. Она не должна знать. …В общем, и опасения, и радость Маши были небезосновательны. Письма от него теперь идут редко, но Маша спокойна, даже посмеивается, дескать, ему теперь есть кому изливать свои чувства. Фотографию глазастенькой с кудряшками она тоже видела у сына. Рано или поздно Маша узнает, что они с Гешкой вступили в сговор и надули ее, как «глупую дурочку». И уж тогда Волкову несдобровать. Ну да только бы все хорошо кончилось. И все-таки зачем его вызывают в Москву? Может быть, поделиться опытом организации летно-тактических учений с использованием ледовых аэродромов. Перед самым уходом Волкова из полка они с Новиковым лихо провели эти учения. Сам Главком присутствовал. И ни одного замечания. Похвалил, руку пожал, сказал, что надо всем вот так же освоить площадки, созданные природой. Но почему так неожиданно? Волкову понадобятся цифры, схемы, диаграммы. Он мог бы прихватить их с собой. Цифры Волков почти все помнит, но все же… Самолет пошел на посадку. Когда в салоне потемнело (вошли в облачность), буквы на табло засветились ярче. Волков автоматически отметил, что верхняя кромка облаков где-то под восемь тысяч, ближе к земле есть плотные образования. Нижняя кромка метров пятьсот-шестьсот. Можно сказать, по сложному варианту работает Аэрофлот. Однако на посадочный вышли точно, никаких доворотов, и посадили без замечаний. Смотреть на такую работу приятно. Когда самолет замер на стоянке и к нему начали подавать трап, Волков выглянул в иллюминатор. И водитель трапа, и технический персонал, и даже сопровождающая девица из поданного к самолету «Икаруса» были одеты по-зимнему. Над бетонкой летели редкие, но стремительные «белые мухи». Так что «плотные образования» дают о себе знать. А Волков, растяпа, совсем забыл, что надо пришить погоны. Больше часа бездельничал! «Ну ничего, – решил он, – от аэропорта езды минут пятьдесят, успею». Однако и этим благим намерениям сбыться было не суждено. У входа в здание аэропорта, где нетерпеливо толпились встречающие, к Волкову подошел молодой подполковник и тихо спросил: – Иван Дмитриевич? Волков кивнул. – Прошу в машину. «Вот это сервис, – улыбнулся Волков, – наверное, я им очень нужен». Когда сели в черную «Волгу», он хотел спросить у подполковника, куда и зачем его везут, но тут же посмотрел на ситуацию со стороны и понял, что его нетерпение может показаться неприличным. – Как-то вы легко оделись, – нарушил молчание подполковник, когда они выехали на магистральное шоссе. – В Ленинграде тепло. – Обычно в первой половине апреля бывает наоборот. Я когда-то служил в Ленинграде. Как себя чувствует Александр Васильевич? – Нельзя сказать, чтобы отлично. К тому же переживает – Главком запретил ему летать. – Да, я представляю. Надежды на то, что подполковник похвастается своей осведомленностью и проговорится о причинах такого внимания к Волкову, не оправдывались. Офицер сообщил, что номер Волкову заказали в гостинице на площади Коммуны, и замолчал, углубившись в свои мысли. За окнами машины уже мелькали разноцветные балконы новых построек, почерневшие за зиму старые дома, нарастал гул моторов, сливаясь в одну могучую ноту. Туча их догнала на одном из бульваров, и снег повалил настолько густо, что забелели деревья и водитель включил «дворники». Возле одного из перекрестков они попали в затор, и Волков залюбовался работой двух юных девушек. В джинсах, заправленных в сапоги, в толстых спортивных куртках ярко-красного цвета, в таких же красных шапочках с огромными помпонами, они цепко стояли на прислоненных к деревьям стремянках и, о чем-то весело разговаривая, ловко орудовали садовым инструментом: одна большими ножницами, другая – короткой ножовкой. Красным помпонам было наплевать, что уходящая зима судорожно цепляется за деревья снежными лапами, они ждали весны и ни секунды не сомневались в ее скором приходе. Сначала Волкова провели в небольшой кабинет, безвкусно увешанный портретами в солидных золоченых рамах, устланный ярко расцвеченным толстым ковром. За большим полированным столом, с зеленой суконной вставкой, сидел лысеющий генерал в очках с хромированной оправой, что-то неторопливо писал в толстой тетради и совсем не замечал, что к нему пришли. Заметив, показал на стулья у приставного стола, дескать, можете садиться, а сам, закрыв тетрадь, положил ее в сейф, похожий на платяной шкаф, и достал из него тонкую бордовую папку со скрученными тесемками. Волков сразу узнал свое личное дело. Кивком головы генерал отпустил подполковника и, подобно часовому у входа, цепко сверил помещенную в кармашек обложки фотографию с сидящим перед ним оригиналом. Полистал страницы, задержался на последних аттестационных материалах. – Как здоровье жены? – голос у генерала был мягкий, участливый, но сам вопрос прозвучал для Волкова несколько неожиданно. – Спасибо, товарищ генерал-майор, – сказал он, – сейчас ее здоровье не вызывает никаких опасений. Генерал и дальше задавал неожиданные вопросы – что из себя представляет такой-то командир полка, когда завершат реставрацию Спаса-на-крови, как Волков оценивает выступление ленинградского «Зенита», что думает по поводу визита американского президента в Японию, – но Волков уже отвечал спокойно и собранно. «На командира полка можно положиться, хотя и чересчур педантичный, по своей инициативе не пойдет ни на малейший риск, если на то не будет вышестоящего указания». «Если учитывать темпы, то реставрацию собора завершат лет через десять». «Зенит» в минувшем году показал стабильную игру и, если не сменят тренера, в наступающем сезоне будет бороться за медали». Что касается визита американского президента, Волков не считает нужным пересказывать оценки, опубликованные в нашей прессе, а другими сведениями он не располагает. Примерно в таком же духе были сформулированы ответы и на другие «неожиданные» вопросы. Генерал закрыл личное дело, завязал тесемки. В кабинет бесшумно вошел все тот же моложавый подполковник. Генерал вышел из-за стола, подал ему папку с личным делом и вежливо попросил: – Проводите, пожалуйста, Ивана Дмитриевича к заместителю Главкома. Посмотрел на стоящие в углу кабинетные часы и подал Волкову руку. По этому жесту можно было догадаться, что беседою он остался доволен. «Хорошенькое начало, – иронично подумал Волков, шагая по ковровой дорожке солидного коридора. – К чему вся эта многозначительность, к чему эти «неожиданные» вопросы?» Когда они остановились у нужного кабинета и Волков услышал в приемной знакомую фамилию, он подобрался, почувствовал легкое волнение. У самого входа в кабинет его встретил радушной улыбкой генерал, который три года назад проверял с комиссией его полк на северном аэродроме. Это была комплексная и жестокая проверка – генерал знал свое дело. Но и полк, несмотря на непривычные условия Заполярья, показал класс. Летно-тактические учения от подъема до отбоя проходили в условиях погодного минимума. И ни одной ошибки. И если бы не упрямство Ефимова… – Знакомьтесь, Волков, – указал генерал на невысокого седого человека, со Звездой Героя Социалистического Труда на лацкане серого пиджака. – Владислав Алексеевич. Волков улыбнулся: – Вроде уже знакомы. Владислав Алексеевич был в составе той проверочной комиссии как представитель фирмы. И то, что он оказался в кабинете заместителя Главкома, Волкова не удивило. Обычное дело. – У вас хорошая память, – улыбнулся Владислав Алексеевич. – Говорят, что я за эти четыре года сильно сдал. – Я бы не сказал, – без лукавства ответил Волков. – Скорее наоборот. На морозе вы тогда были не очень… – Вы беседуйте, – сказал генерал, – а я на совещание. – И, не прощаясь, вышел. Владислав Алексеевич показал на кресло у приставного столика и, садясь, спросил: – Не тяжело было с полком расставаться? Что мог ответить Волков? Полк – это лучшие годы его жизни и службы. Школа летного и командного мастерства, школа Чижа. Разве в нескольких словах объяснишь, что стоит за этими словами. Он все-таки попытался объяснить, но скоро понял, что рассказ не передаст и десятой доли того, что он чувствует. Горько вздохнул и сказал: – Порой такая тоска подступает, что плакать хочется. Владислав Алексеевич сочувственно покивал головой, улыбнулся: – Полк у вас был лихой. Да и сами вы… Но поговорим о другом. О делах космических. Лицо его как-то сразу стало строгим и волевым. – Вы знаете, Иван Дмитриевич, космонавтика уже выросла из пеленок и, как тот сказочный мальчик-богатырь, не по дням, а по часам набирает силу и рост. Перспективы использования космоса уже в обозримом будущем потребуют от нас создания новых служб, осуществления новых проектов. И каждый шаг – по целине. Аналогов, к сожалению, нет. Потребуются кадры. Опытные, но сравнительно молодые; инициативные, но без авантюрных замашек; умеющие рисковать, но оправданно. Люди, зрелые политически и нравственно. Сегодня еще не могу сказать конкретно, какую мы вам работу предложим, но случиться это может очень скоро. Как вы посмотрите на такое предложение? «Значит, вот в чем дело, – взволнованно подумал Волков, – значит, опять все сначала». Он понимал, что надо обязательно поблагодарить за доверие, за столь лестную оценку его труда, но на языке вертелась иная фраза: «К чему это, дорогой Владислав Алексеевич, вы мне комплименты за давно прошедшие дела говорите, уж не хотите ли убедить, что без самолетов жить тоже можно? Так вот знайте, что я на эту приманку не клюну». – Это будет связано с летной работой? – спросил Иван Дмитриевич вслух, сделав ударение на слове «будет». – Разумеется. – Я готов, – уже без раздумий согласился Волков. И сразу добавил: – За доверие – спасибо. Владислав Алексеевич улыбнулся. – Рад, что мы договорились, – сказал он и спросил: – А помните, у вас в полку был майор Ефимов? – Разумеется, – сухо ответил Волков. Не понимая, почему его вдруг спросили о Ефимове, Волков напрягся и сразу вспомнил, что когда заместитель Главкома расспрашивал Ефимова, подсказывая ему, как вести себя перед комиссией, Владислав Алексеевич был единственный, кто встал на защиту летчика. – Честь коллектива, – сказал он тогда, – складывается из чести каждого его члена. И еще неизвестно, где надо больше мужества: когда борешься за честь коллектива или когда за свою собственную. – Что вы можете сказать о нем? – напомнил Владислав Алексеевич. – О ком? – не понял Волков, все еще думая о своем. – О Ефимове, естественно, – улыбнулся Владислав Алексеевич. – Я знакомился с его личным делом… Там есть какие-то недомолвки и в вашей последней аттестации. – Есть, – охотно согласился Волков. Слово «недомолвка» его устраивало. – Летчик он хороший, а как человек… Иван Дмитриевич тормознул. Сказать, что Ефимов плохой человек, он не мог. Как человек Ефимов ему даже чем-то нравился. Хотя объяснить, чем именно, он не мог. – Как офицер… Владислав Алексеевич терпеливо ждал, пока его собеседник сформулирует свое пояснение к собственноручно подписанной аттестации. И это молчаливое терпение, этот улыбчивый взгляд, затаивший насмешку, подхлестывали мысли Волкова. Он понимал, что не имеет права долго испытывать терпение человека и транжирить его время. – Понимаете, – наконец сказал Иван Дмитриевич, – как человек и офицер, со странностями он… Иван Дмитриевич замолчал, решая, рассказывать или не рассказывать ту давнюю историю, когда стоял вопрос – быть или не быть Ефимову в отряде космонавтов. – Я вас слушаю, – подтолкнул Владислав Алексеевич, – продолжайте. И тогда Иван Дмитриевич, отбросив сомнения, рассказал все: и почему именно Ефимова он хотел послать в Звездный, и какое условие ему поставил, и как был удивлен, когда тот с неожиданной легкостью променял свое будущее на какую-то эфемерную любовь. – Понимаете, человек с нормальной психикой не мог так поступить. В полку Ефимова никто не понял. – Никто? – как-то неожиданно поднял голову Владислав Алексеевич. Волков почувствовал себя неуютно, в голосе его стали проскальзывать заискивающие интонации. Ну какого рожна он катит на парня бочку? Ведь сам у него просил прощения, сам признал его правоту. И тут же твердо сказал себе, словно ухватился за подвернувшуюся под руку соломинку: «Это объективная информация, а выводы пусть сами делают». Он помолчал, пытаясь найти в своих оценках изъяны, но сказанное ему показалось вполне стройным и убедительным. – Я слушаю вас, Иван Дмитриевич, – опять напомнил Владислав Алексеевич, что-то записывая в блокнот. – Мы его потом на эскадрилью назначили. Ну, были стычки по мелочам, где он показывал свой характер, но это так… Командир он был грамотный, эскадрильей мастеров боевого применения командовал отменно. Зубры! К нему с вопросами инженер полка обращался, штурман, прибористы… Привыкли – Ефимов все знает. Когда он только успевал эти знания копить – понятия не имею. Ну, а на учениях, которые проводил заместитель Главкома, вы были и все видели… Волков помолчал, переживая заново все перипетии тех учений, и, то ли пытаясь как-то оправдать Ефимова, то ли подчеркнуть свою мысль о странностях его характера, добавил: – Потом его многие спрашивали: зачем ты лез на рожон, зачем говорил о своей вине? «Ну как я мог сказать, что не виноват, если я виноват?» Вот весь ответ. Себя подвел, полк, командующего. Ради чего? Правда, когда самолет подняли, пленка подтвердила снижение самолета за недопустимый предел. Что такое несколько сотен метров для истребителя? Миг! Ни один нормальный летчик так бы не поступил. Честь полка, округа! Конечно, свою честь тоже надо беречь, – поправился Волков, почувствовав, что зарывается, – но это уже какое-то гипертрофированное понимание, ненормальное. Рассказать все это в аттестации я не мог. И ничего не сказать об этом тоже не мог. Вот и получились недомолвки. – Да, история, – задумчиво и неопределенно сказал собеседник. – Разрешите вопрос, Владислав Алексеевич! – Да-да, пожалуйста. – В связи с чем возник вопрос о Ефимове? – Думаем взять его в отряд. Как считаете, не ошибемся? Волков пожал плечами. – Специалист он способный. Говорят, за полмесяца освоил вертолет. А как человек… Не знаю… Боюсь… Он непредсказуем в своих поступках. Затрудняюсь советовать. От последних слов Волкову самому стало противно. Но он успокоил себя: «Я все сказал честно». Надеялся, что Владислав Алексеевич как-то прокомментирует его рассказ, даст какую-то оценку поступкам Ефимова, но тот лишь помолчал дольше обычного. Затем крепко сжал подлокотники и встал. – Больше не смею задерживать, – сказал он, подобрался, построжал, протянул руку. Уже в гостинице, пришивая к пальто погоны, Волков спросил себя: кто он такой, этот Владислав Алексеевич? Представитель фирмы? Но какой? И что его в таком случае интересовало тогда в полку – самолет или люди? Однако, привычка знать не больше положенного притормозила разгулявшееся любопытство: придет время, и все узнаешь. Если придет. Мы предполагаем, а начальство располагает. На беседу всегда приглашают нескольких претендентов, а на должность назначают одного. Закончив шитье, Волков надел пальто и вышел из гостиницы. Выпавший днем снег растаял, асфальт подсох. Афиши Центрального Дома Советской Армии приглашали на турнир шахматистов, посетить выставку молодого художника, послушать популярную певицу, посмотреть новый фильм. По другую сторону площади, отражая окнами вечернее солнце, ждал своих зрителей Центральный академический театр Советской Армии. Когда Волков учился в академии, они с Машей частенько посещали этот театр. Он им нравился прежде всего своей доступностью. Сюда не надо было заранее доставать билеты, покупали в тот же день, если не в кассе, то с рук, если не в большой, то в малый зал обязательно. Но Волков уже знал, что не пойдет он ни на шахматный турнир, ни в театр. Ему давно хотелось навестить одну милую женщину. Возле телефонной будки он достал из кармана записную книжку, монетку, прикрыл поплотнее дверь и набрал номер. Ответил женский голос. – Наташа? – Да, а кто это? – Иван Волков. – Ой, Ванечка, ты в Москве? – Хочу приехать в гости. Разрешаешь? – О чем ты говоришь? Конечно, приезжай. …Случилось это в тот год, когда Волков осваивал на Севере новый аэродром. С экипажем попутного самолета Маша переслала ему телеграмму, полученную из Москвы. Самолет по погодным условиям не приняли, и телеграмма попала к Волкову только на пятый день. Распечатав Машин конверт, он вынул бланк с наклеенными строчками и не поверил: умер Костя Фролов… Судя по названной дате, похороны состоялись примерно три дня назад. Известие потрясло Волкова. Он не мог сказать, что с Костей Фроловым они были закадычными друзьями. Вместе учились в Суворовском, встречались, когда носили курсантские погоны, не забывали друг о друге в годы офицерской юности. Когда Костя служил в Прикарпатье, Волков с Машей дважды бывали у него в гостях, познакомились с женой Наташей. Они почти одновременно приехали учиться в Москву. Волковы жили в общежитии, Фроловы – у Наташиных родителей. У Волковых рос мальчик, у Фроловых девочки. При встречах это обстоятельство служило непременным поводом для полушутливых, полусерьезных (чем черт не шутит) разговоров: – А что же вы нашего зятя не взяли с собой? – Двойку по чистописанию получил. Сидит и упражняется. А как у нашей невестки успехи? – Танечка! – звала мама. – Демонстрируй дневник. – Там тоже не очень, – хмуро улыбался Костя, – тройка по рисованию. Явно не в папу. Папа действительно рисовал прекрасно. Волков всегда смеялся, глядя на рисунки, сделанные Фроловым. Он умел несколькими штрихами передать любое состояние живого существа. Корова у него могла хохотать до упаду, червяк страдать от радикулита, сурово насупленный человек утверждать, что смех – дело серьезное, а кошка Матильда мудро улыбаться, чем-то неуловимо напоминая знаменитую Джоконду. Костя любил рисовать и рисовал много. В блокнотах, на картонках, отдельных листках, делал наброски в записных книжках. У Волкова до сих пор хранится дружеский шарж, сделанный на почтовой открытке, где Костя изобразил самого себя пытающимся пролезть сквозь игольное ушко. Он очень хотел тогда остаться в академии на преподавательской работе. Когда Волков приезжал в Москву, это было перед утверждением его в должности командира полка, Костя Фролов гордо возил его по улицам столицы на собственных «Жигулях». Как-то вскользь сказал, что защитил диссертацию и его направили на какую-то ответственную работу. Какую – не уточнял. Значит, нельзя было. Это была их последняя встреча. Днем, когда они гоняли на «Жигулях» по Москве, Костя был задумчив и чем-то подавлен. Вечером, дома, в окружении своих девочек он снова мягко улыбался, пряча счастливые глаза. Волков не скоро узнал причину смерти Фролова. А все оказалось просто. Получив приглашение на традиционную встречу суворовцев, он взял отпуск, посадил в «Жигули» Наташу, обеих девочек – Таню и Леру и выехал из Москвы. Ночевать в дороге не хотелось, и он торопился. Примерно за сто километров до цели его ослепил встречный мотоциклист, и Фролов, боясь зацепить его, съехал в кювет. Машина перевернулась, все остались целы, а Костя сломал позвоночник. Через несколько дней его не стало. Умом Волков понимал, что Костю он больше не увидит, а сердце не верило. Только тогда он и почувствовал, как дорог и близок ему был этот человек. Едва-едва Иван Дмитриевич начал приходить в себя после смерти Чижа, и тут – Фролов. Он впервые вдруг осознал, что и сам не вечен под этим небом. Все время он торопился жить, спешил заглянуть подальше и поскорее дотянуться до того, что видел у горизонта. Вперед и вперед! Как можно скорее! Даже не успевал оглянуться и осмыслить сделанное. А тут вдруг оглянулся. Отрезвление началось с боли. Волков отчетливо вспомнил последний год совместной службы с Павлом Ивановичем Чижом, как вел себя в его присутствии, как разговаривал с человеком, которому обязан всем, как вызывающе не понимал, какую причиняет ему боль. И ему стало мучительно стыдно, и стыд этот не оставил его до сих пор. Переоценивая свое отношение к другим людям, Волков всегда приходил к выводу, что жесткость, которую он неизменно оправдывал интересами службы, на поверку оборачивалась не чем иным, как интересами собственного благополучия. В те дни он очень близок был к тому, чтобы подать рапорт с просьбой об увольнении в запас. Но он нашел в себе силы для трезвой оценки ситуации. «От себя не убежишь, – сказал он, – а жизнь, как видишь, не вечна, так что отмывайся там, где запачкался, если хочешь считать себя человеком». Всплыл сегодняшний разговор о Ефимове. Не совершил ли Иван Дмитриевич очередной ошибки, опустив шлагбаум на пути Ефимова в космос? Второй раз он становился поперек его судьбы. А вдруг не прав? Нет-нет, лукавить он не мог, не имел права. Сказал все, что думал. Непредсказуемость поступков Ефимова всегда его настораживала. Сколько раз было – полк готовился летать в сложных метеоусловиях, а для Ефимова они простые, синоптик определяет посадочный минимум, а Ефимов летит на доразведку и опровергает это утверждение. Впоследствии, чтобы выполнить план по налету, его эскадрилья работала в погодных условиях на грани допустимого. Ефимов никогда не пользовался проверенными маневрами в воздушных боях, он всегда импровизировал и делал это опять же на грани допустимого. Кто-кто, а Волков знал, как остра эта грань. – Вам, наверное, в Северное Чертаново, товарищ полковник? – вывел Волкова из раздумий водитель такси. – Мне на Чертановскую улицу, второй дом. – А-а… Я думал в Северное, там сейчас военные получают квартиры… Хороший район, экспериментальные дома, гаражи в подвалах. Именно об этом районе и об этих домах говорил Волкову Костя Фролов, когда они, укрыв брезентом «Жигули», смотрели на заросшую кустарником лощину. – Красивый будет массив, – сказал он мечтательно, – только жаль, не нам в нем жить. – Как знать, – возразил Волков, ничего за этими словами не подразумевая. – Ты, возможно, и поживешь здесь, – сказал Фролов, – а мне не придется. Пустые, ничего не значащие фразы, но, вспомнив их, Волков почувствовал суеверный холод между лопатками. Предсказания Фролова наполовину сбылись. А могут и на все сто сбыться. Рассчитавшись с водителем, Иван Дмитриевич поднялся на площадку перед домом, где когда-то стояли фроловские «Жигули», остановился на том месте, где они говорили с Костей, посмотрел на Северное Чертаново, засветившееся в вечерних сумерках огненными сотами окон, очерченное строгими рядами уличных фонарей. «Этот прекрасный массив – тебе как памятник, Костя, – сказал про себя Волков. – Так, по крайней мере, буду считать я. И сына своего об этом попрошу. И внука, если будет…» Наташа встретила Волкова радостно. Поверх строгого платья был повязан фартук, на ногах – нарядные туфли. Руки ее были в муке. Убрав тыльной стороной ладони прядку со лба, она смущенно подставила для поцелуя щеку и громко позвала: – Лерочка! Займи, пожалуйста, гостя. – И Волкову: – Раздевайся, Ваня, чувствуй себя, как дома. Сейчас с пельменями разберусь… Вышла из своей комнаты улыбающаяся Валерия, весело поздоровалась, напомнив и лицом, и голосом отца. В гостиной со стены на Волкова посмотрел своими добрыми и ясными глазами полковник Фролов. Волкову стало немножко обидно за Костю: и Наташа, и Лера ни словом, ни жестом не выказали своей печали, были веселы, никакой траурной грусти. Портрета, от которого Волков не мог оторвать глаз, не замечали. Неужели так скоро забыли? Глупости, конечно. «Это – жизнь, Иван Дмитриевич». Что Костю в этом доме помнят и любят, Волков понял позже. Он просто-напросто не уходил отсюда. Жил с ними во всем – в мыслях, в разговорах, в вещах. Жил в памяти таким же, как в жизни, – добрым, остроумным, мудрым. Здесь была «папина комната» и «папины полки», ничего не забывалось, что любил Костя и что ненавидел, из алфавитной книжки не вычеркивался ни один адрес, ни один телефон, которыми пользовался при жизни Фролов. Вот бы с кем сегодня Волков мог поговорить обо всем. Да что мог? Хотел бы! Желание излить душу именно Косте Фролову подкатило так остро не потому, что Кости нет, просто он занимал в сердце у Волкова такое вот свое собственное место. – Мне его не хватает, – сказал Иван Дмитриевич, глядя на снимок в металлической рамке. – Многим его не хватает, – просто подтвердила Наташа. – А пока человек кому-то нужен, значит, он не умер. «Скажет ли кто-нибудь такие слова о тебе? – строго спросил себя Волков и не смог со стопроцентной уверенностью назвать хотя бы одну фамилию. – Разве что Маша… Простой и мудрый критерий – быть кому-то нужным. Не в этом ли смысл человеческой жизни?» Вернувшись в гостиницу, Волков зашел в почтовое отделение. Обычно он никогда не извещал Машу о времени своего прибытия, считал пустой блажью всякие встречи и проводы. А тут подступило. Набрасывая текст телеграммы, Волков представил, как приятно удивит жену. Примчится завтра в аэропорт как миленькая, будет шутить, подтрунивать и незаметно заглядывать Волкову в глаза – что произошло? А произошло обыкновенное дело. Как и двадцать лет назад, Волков почувствовал, что любит Машу, что у него нет на земле человека более близкого и более дорогого, что сердце его, как и двадцать лет назад, вновь наполнилось трепетной нежностью. 7 Когда показалось, что на них надвигается не просто густая беспросветная тьма ущелья, а скалистая, кое-где припорошенная снегом, стена гор, вмазаться в которую было бы глупо и непростительно, Ефимов приказал включить поисковую фару. – Есть включить фару! – поспешно ответил Коля Баран уже после того, как луч света бледным пучком вонзился в непробиваемую темноту. Нет, скалы еще были далеко. Грохот двигателей еще был чист – близость скал обычно напоминает о себе причудливо искаженным эхом. – Баранчик, – сказал Паша Голубов, – у твоей фары какой-то луч бледный. Ты, может, с перепугу не тем тумблером шлепнул. А? – Я все правильно включил, – ответил Коля. – Тогда мы весело живем, при таком свете только в жмурки играть, а не машину сажать. – Попроси, Паша, пусть аварийный обозначит себя, – распорядился Ефимов, увидев оторвавшуюся от противоположной стороны ущелья цепочку малиновых огоньков. Пулеметчик видимо бил по фаре, потому что трасса прошла почти под самым вертолетом. – Выключи свет, Коля. Впереди дважды, с интервалом в несколько секунд, мигнула яркая вспышка. По тусклым бликам оставшейся слева и внизу реки Ефимов понял, что место аварийной посадки прикрыто от пулеметчика крутым выступом распадка. И это его обрадовало – можно будет хорошо осветить площадку и без нервотрепки посадить вертолет. – Пусть обозначат посадочную площадку факелами. Передав по аварийной связи команду, Голубов посмотрел на Ефимова и переключил связь на него. – …говорить с командиром. Попросите на связь командира, – услышал Ефимов в шлемофонах хриплый взволнованный голос. – Мне надо говорить с командиром. Прием. – Командир слушает, – он даже сам удивился спокойствию своего голоса и подумал, что именно ему надо обязательно выглядеть спокойным, хотя чувствовал, что рука, лежащая на рукоятке «шаг-газа», неестественно напряжена, что спина под кожанкой мокрая, а все вибрации машины, гул двигателей он воспринимает не только на слух, но каждой клеточкой мозга, учащенно бьющимся сердцем, вибрирующим желудком. – Говорите, командир слушает. – На связи лейтенант Волков, – заговорил тот же хриплый голос. – Наш командир потерял сознание… у борттехника сломаны ноги… мы ударились при посадке кабиной в скалу… в грузовом отсеке около двадцати раненых… санинструктор… тоже травмирован… возможность посадки для вашего вертолета исключена. Как поняли, прием? «Обстановочка, – подумал Ефимов, окидывая взглядом приборы, – ни одного здорового человека. Даже если использовать систему внешней подвески, там некому с нею работать». Надо было что-то решать. Судя по блеклым вспышкам, похожим на проблесковый маячок, до места аварийной посадки оставалось около километра. – Возможность посадки, – жестко сказал Ефимов, – мы определим сами. Обозначьте факелами площадку. – Некому это сделать. – Чем вы мигаете? – Фотоаппарат. Вспышка. Ефимов посмотрел на Голубова – тот был на связи и все слышал. – Обстановочка, – повторил Паша вслух любимое слово командира. Он напряженно вглядывался в темноту. – Но если они зацепились и не упали, значит, там какое-то пространство имеется. Подойдем, посветим. – Поисковую фару! – решительно скомандовал Ефимов и еще больше напрягся. Вот теперь и понадобится все то, что он наработал за минувшие три года и за штурвалом, и за рабочим столом, и даже в часы ночных бессонниц. Ефимов многое умел. И если брался за что-то, любое дело делал хорошо. Все, что его так или иначе интересовало, становилось Ефимову доступным и подвластным. Это он понял еще мальчишкой. Когда учился в седьмом классе, знакомый инструктор райкома комсомола в шутку поручил Ефимову отремонтировать пишущую машинку «Ундервуд». – Можешь ты выполнить такое комсомольское поручение? – спросил тот, ни на что не надеясь. – Надо попробовать, – сказал Ефимов и взял машинку домой. Когда родители ушли на работу, он внимательно осмотрел ее, затем быстро разобрал, раскладывая снятые детали на полу комнаты. Цепочка получилась от стены до стены. Вскоре обнаружил, что сломана пружина каретки. Извлек ее из барабана, «отпустил» над пламенем свечи сломанный конец, сделал фигурный изгиб, снова «закалил» сталь, разогрев и опустив в машинное масло, вставил в барабан. Собирал отвинченные детали строго в обратном порядке. Удивился, что машинка заработала. В райкоме тоже удивились. Позже Ефимов убедился, что все, сделанное руками человека, не так уж загадочно, как кажется на первый взгляд. Если строго логически, от начала до конца, проследить взаимодействие деталей в механизме, в нем никаких неожиданностей не будет. Только нельзя упускать ни малейшего звена. Понять логику взаимодействия – значит постичь суть механизма, принципы его работы. Когда его мать однажды пожаловалась на боль в боку, Ефимов взял в библиотеке учебник анатомии для медицинских вузов, внимательно изучил функции и расположение органов человека и поставил диагноз – заболевание почки. Родители посмеялись, но, оказалось, зря: при углубленном обследовании врачи клиники подтвердили диагноз самозваного доктора. Отец только удивленно развел руками. В спорте Ефимов тоже нередко одерживал победы не столько за счет силы, сколько за счет глубокого и логического анализа движений спортсмена. Потом и сила приходила, но это была не та слепая сила, которую накачивают многократным повторением движений, это была умная, зрячая работа мышц, отдающих только то, что необходимо отдать в нужный миг борьбы. Взявшись однажды за кисти и краски, Ефимов сделал несколько пробных этюдов, постигая принципы смешения цветов, затем натянул на подрамник полотно, и прямо без подмалевка начал писать училищный аэродром со всеми его постройками, с парой взлетающих истребителей. Встретив три года назад одного из выпускников этого училища, поинтересовался, висит ли его картина в курсантской столовой? Висит, оказывается. Из литературных героев Ефимов больше всех любил Дон-Кихота, Гамлета и Егора Булычева. Прочитав однажды рассуждения Полония о безумии Гамлета: «Хоть это и безумие, но в нем есть своя последовательность», Ефимов решил во что бы то ни стало разгадать, в чем заключается эта «своя последовательность». Он брал в библиотеках, покупал у букинистов порой такие книги, что удивлял не только друзей-авиаторов, но и старых библиотекарей, многоопытных продавцов: «Зачем вам эти книги, молодой человек? Они для узких специалистов». А ему, не узкому специалисту, было просто интересно. За свою, пусть и не очень долгую, жизнь он прочно уверовал в простую формулу: захочешь – постигнешь. Любое умение начинается с хотения, ум человека, жаждущего что-то постичь, мгновенно активизируется, становится изобретательным и проницательным, призывает себе на помощь удивительные резервы памяти. Надо только очень захотеть. А он сейчас больше всего на свете хотел во что бы то ни стало приткнуться к этим бесцветно-серым скалам, уцепиться когтями за трещины, помочь потерявшим надежду людям. Ему достаточно было лишь на одно мгновение представить себя на месте потерпевших, представить, как сам бы он ждал этой помощи, и все сомнения, все страхи отступили. Он обязан был сделать не только все, что мог, но и хотя бы чуточку больше, чуточку лучше. Уцепиться любой ценой за любой выступ или хотя бы зависнуть вертикально над этим чертовым КПМ (конечным пунктом маршрута). – Ни фига себе! – вырвалось у Паши Голубова, когда луч поисковой фары выхватил из мглы потерпевший аварию вертолет: погнутую и нелепо торчащую вверх хвостовую балку со сломанным рулевым винтом, смятое о камни остекление кабины, погнутые лопасти несущего винта. – Вмазались красиво. А Ефимов, убирая вниз рукоятку «шаг-газа» и прислушиваясь к работе несущего винта – нет ли качки и провалов, – сразу заметил, что аварийный вертолет шлепнулся не так уж плохо. С поврежденной гидросистемой можно было до этого выступа и вовсе не дотянуть. Кроме того, идя на посадку с ходу, вертолет хоть и помял физиономию, зато проскочил на несколько метров от обрыва и, зацепившись за острые обломки скал, не свалился в пропасть. – Видишь, и для нас, кажется, оставили местечко, – сказал Ефимов, осторожно поворачивая вертолет вправо-влево и нащупывая лучами посадочных фар пригодное для приземления место. – Не сядем, командир, – твердо сказал Голубов. – Если правее возьмешь – рубанем лопастями по хвостовой балке. Видишь, как она торчит. – Вижу, не слепой. – Левее – еще опасней, скалу заденешь. – А мы хитрые и поэтому поступим просто – сядем в середке. Как думаешь? – Разве что на одно колесо, – сказал молчавший до сих пор Коля Баран. – Учись, Паша, – заметил с улыбкой Ефимов. – Молодой, а мыслит, как ЭВМ. Единственно верный вариант подсказывает. Голубов помолчал, посмотрел на Ефимова, быстро затряс головой. – Нет, командир. Вслепую, над пропастью, на одно колесо не сядешь. Это самоубийство. Ефимов и сам понимал, что это самоубийство. Стоит им снизиться к выступу, как может сразу образоваться рваное вихревое кольцо, потому что часть воздушного потока из-под несущего винта свободно уйдет в пропасть, а часть ударит в камни и отраженно увеличит плотность, создавая опрокидывающий момент. При высоте около двух тысяч метров над уровнем моря тяжелый вертолет может перевернуться в воздушном потоке, как бумажный кораблик в водовороте. – Что ты предлагаешь? – Работать в режиме зависания. «Нет, Паша, ты не все учел», – сказал про себя Ефимов и мягко предложил: – Обсудим и быстренько подсчитаем. Где твой калькулятор, Коля? Есть? Давай. Сколько там раненых? Около двадцати? – В режиме зависания больше десяти не возьмем, – жестко отметил Голубов. – За остальными – вторым рейсом. – Это минус, Паша. Идем дальше. Время на погрузку и расход топлива? Коля потюкал пальцем в клавиатуру калькулятора и показал выскочившие цифры. – Не хватит на обратный путь. – Это второй минус, Паша. А теперь ракету, Коля. В зенит. Посмотрим, что над нами. В небо вертикально взвилась осветительная ракета и от ее дрожащего белого света на каменистый уступ, где лежал разбитый вертолет, упала густая тень от нависшей сверху скалы. Прямое зависание исключалось. – Прав, командир, – вздохнул Голубов. – Это третий минус. Решай сам. Ефимов прибавил обороты и начал круто набирать высоту. Вертолет задрожал, и, как показалось Ефимову, не столько от напряжения, сколько от многократно отразившихся в скалах звуков грохочущих двигателей. Ожила аварийная радиостанция. – Сообщите, какое приняли решение? Нужны медикаменты и вода. Прием. – Соблюдайте спокойствие, – сказал Ефимов. – Будем садиться. – Зря, – сочувственно сказал голос в шлемофонах. – Погибнете. Угадав расширение в каньоне по проступившим на фоне неба гребням забелевших гор, Ефимов стал набирать высоту кругами, так и быстрее, и экономичнее. – Экипаж, слушай приказ, – сказал он, посмотрев на притихших товарищей. – Выбрасываем светящуюся авиабомбу и спускаемся на выступ левым колесом. Работаем в режиме полузависания. Думаю, что я смогу продержаться минут двадцать – тридцать. За это время вы переносите всех раненых в наш вертолет, и мы отваливаем. Вопросы? – Всех? – удивленно вскинул брови Голубов. – Решим на месте. – Ефимов не хотел спорить раньше времени, хотя не представлял, как сможет оставить здесь хотя бы одного нуждающегося в помощи человека. Бросив взгляд на прибор высоты, он сказал «Все, хватит» и кивком головы дал команду на сброс светящейся авиабомбы. И сразу расступились заснеженные вершины, стальным отливом заблестели скалистые склоны, на дне ущелья засеребрилась ломаная лента бурлящей реки. «Запомнить широту и глубину каньона, все изгибы, – приказал себе Ефимов, – и так удержать в памяти, чтобы помнить и видеть в темноте». С противоположного склона яростно ударил пулемет. Цепочки трассеров стремительно потянулись к свету. «Как бабочки ночные на костер», – еще успел подумать Ефимов и уже в следующий миг все внимание переключил на снижение вертолета. Уступ, на который он целил левым колесом, был хорошо высвечен и контрастно очерчен на фоне провала. Так же хорошо была высвечена и шершавая стена, в нескольких метрах от которой со снижением ввинчивался в морозный воздух прозрачный диск вращающихся лопастей. И уж не дай бог, чтобы воздушным потоком качнуло машину в сторону. Соприкосновение этого нарядного диска с угрюмым камнем высечет поминальный фейерверк. «Ну, девочка моя, – попросил он мысленно Нину, – молись за своего Федюшкина. Помоги ему, вспомни…» И вслух сказал: – Внимание, все замерли! Вертолет просел рывком и стал крениться. Ефимов среагировал не только рычагом «шаг-газа», но одновременно и педалями и ручкой управления, и машина выровнялась, зависла. Чертовски хотелось передохнуть и осмотреться, но время работало против них: уже и о горючем следовало думать, и «фонарь» через несколько минут сгорит. Еще манипуляция и еще один короткий провал. На беспорядочно разбросанные острые камни упала резкая тень от вертолета. Еще несколько метров, и можно будет опереться хотя бы одним колесом, выровнять режим. Еще провал, еще остановочка, последняя. – Командир, разреши, я выпрыгну и поруковожу, – попросил Голубое, – с земли виднее. – Сидеть! – грубо оборвал его Ефимов, вслушиваясь в машину, как вслушиваются в работу собственного сердца. Почти неуловимым движением рук он снова снизил вертолет. До земли оставалось не более полуметра. – Вот теперь – вперед! И живо! И как только Голубов и Баран выпрыгнули на камни, он мягко уменьшил режим и почти сразу почувствовал, что вертолет пружинисто ткнулся в скалу колесом. Ефимов ручкой поправил наклон конуса несущего винта, так, чтобы уравновесить крен, и выровнял машину. Через левый блистер увидел, как Голубов и Коля Баран вошли один за другим в грузовой отсек аварийного вертолета. Вот они осторожно вынесли первого, перебинтованного прямо поверх летного комбинезона раненого, втащили в салон. – Правый летчик! – крикнул Голубов. – Лейтенант Волков. В живот. Остеклением кабины. – Сюда его! – жестом показал Ефимов. Летчика приткнули у входа в кабину, надели на голову шлемофон – перекричать грохот двигателей и при полном здоровье не просто. Бледное лицо лейтенанта было измазано засохшей грязью, на потрескавшихся губах блестели сухие чешуйки лихорадки. Он все пытался облизнуть их, но разбухший язык не повиновался и клеился к губам, словно к промерзшему металлу. – Пить, – попросил лейтенант, с трудом открыв глаза. – Нельзя тебе пить, – сказал Ефимов, – потерпи. Скоро будем дома. – Как вы сели? Здесь нельзя было сесть! Ефимов улыбнулся. – Если нельзя, но очень хочется, то можно. Волков тоже попытался улыбнуться, но и губы его уже не слушались. Он только резко вытолкнул из груди воздух: – Не поверю, если даже живой останусь. Ефимову показалось, что он уже где-то видел этого парня. Этот лоб, скулы, подбородок. – За сиденьем фляга со спиртом, – сказал он, – глоток для дезинфекции, легче станет. Лейтенант отрицательно качнул головой. – Воды бы… «Да, это лицо мне знакомо», – вновь подумал Ефимов и показал лейтенанту глазами на термос. – Только пить запрещаю. Намочи платок и приложи к губам. Можно сполоснуть рот. Но не глотать, понял? Лейтенант кивнул и со стоном потянулся к термосу. Проделал все точно, как сказал Ефимов. Только вместо платка намочил рукав комбинезона и уткнулся в него губами. – Дикая боль, – сказал глухо. – Если погибну… мать жалко… она не перенесет. – Держись, дружок, держись, – бросил Ефимов, меняя режим работы винтов. Голубов и Баран уже внесли в грузовой отсек несколько раненых и вертолет повело к обрыву. Двигатели зарокотали гуще, а конус несущего винта еще больше склонился в сторону опорного колеса. Идущий с очередным раненым Голубов даже подозрительно посмотрел на винт – не зацепило бы. Догорающая САБ начала стремительно падать, рассыпая вокруг себя искры горючей смеси. Раскаленные осколки корпуса авиабомбы пролетели в нескольких метрах мимо и, осветив в последний раз пропасть, угасли где-то в отстоявшейся тягуче-густой тьме. Коля Баран развернул поисковую фару на аварийный вертолет и, спотыкаясь о камни, снова побежал на помощь Голубову. А Ефимов вдруг почувствовал, что теряет ориентировку, что его руки уже не так чутко улавливают вибрации, что ноги почти одеревенели от напряжения. – Больше нельзя брать, – сказал раненый лейтенант, не открывая глаз. – Не взлетите. В воздухе закружились первые снежинки. Значит, прогноз метео верный, близок рассвет. А с ним и обещанный буран. Он может продлиться и сутки, и трое. И в эти дни сюда уже никто не прилетит и не сядет. Не будет сил и у Ефимова на повторный вылет. Значит, оставлять никого нельзя, это верная смерть. А умирать, зная, что тебя бросили, особенно обидно. Значит, надо грузить всех и во что бы то ни стало взлетать. – Где я тебя мог видеть, лейтенант? – спросил Ефимов только для того, чтобы что-то спросить. – С таким грузом невозможно взлететь, – сказал тот, едва шевельнув запекшимися губами. Он опять поднес ко рту смоченный водою рукав, будто поцеловал материю, и добавил: – С таким грузом можно только падать. «А мы и будем падать», – хотел успокоить его Ефимов, но в грузовой отсек вошли Голубов и Коля Баран, поддерживая под мышки раненого солдата, и вертолет, тяжело заскрипев, начал сползать к пропасти. Ефимов с трудом удержал себя от резких манипуляций, резкость в движении рычагами – это все, конец; он очень осторожно погасил крен, успев удержать вертолет от сползания, и тут же прикинул режим взлета. – Оставьте меня здесь, – снова сказал раненый лейтенант. Ефимов покосился на него и отметил, что повязка на его животе стала еще темнее. «Он может умереть от потери крови, надо спешить». – У меня был командир Волков Иван Дмитриевич, – сказал Ефимов. – Не родственник? – Это мой отец, – с трудом промолвил лейтенант. – А вы Ефимов?.. Он мне рассказывал про вас. – Представляю, – усмехнулся Ефимов. – Нет, не представляете, – возразил лейтенант. – Все сложнее… Мы много говорили. Оставьте меня здесь. Не взлетите. – Узнает отец – подумает, что я нарочно тебя бросил, – уже весело сказал Ефимов. – Назло «духам» взлетим. Мне нельзя погибать. Я слово дал. Тяжело дыша, ввалился Голубов, устало взял шлемофон, приложил ларинги к горлу и тихо сказал: – Осталось трое. Члены экипажа. Летчик так и не пришел в сознание, у борттехника – обе ноги, а санинструктор подозревает, что у него раздроблена ключица. Вертолет уже перегружен. – Берем всех. – Понял. – Он бросил на сиденье шлемофон и нырнул в темноту. «Все-таки в воздухе грохот двигателей не действует так на нервы», – подумал Ефимов и снова покосился на раненого лейтенанта. Даже искаженное болью, его лицо хранило черты воли и мужества. Волков-младший вырос настоящим мужиком. При таком ранении, при такой потере крови сохраняет полное самообладание, способность анализировать обстановку, принимать решения, действовать. Нет, Ефимов не считал Волкова ни глупым, ни самодуром. Даже, наоборот, нередко говорил себе, что именно таким и должен быть командир: компетентным, жестким, до самозабвения преданным делу. Ему нельзя вникать в психологические тонкости, опускаться до сочувствия. Размякший душой руководитель в экстремальной ситуации не сможет совладать с людьми. Сегодняшний командир полка – это комок воли. И энергию этой воли люди должны чувствовать постоянно, на расстоянии. «А как он с тобой обошелся?» Ефимов сперва хотел ответить самому себе, что «нормально, по заслугам обошелся», но понял, что будет не прав. Волков по достоинству оценил тот нестандартный перехват радиоуправляемой мишени, его неожиданный маневр. И если бы не это роковое совпадение – напороться на стаю птиц как раз на той высоте, ниже которой работать было запрещено, – его бы действительно отметили по заслугам. Волков простил ему и риск, и утопленный самолет. Он не простил Ефимову упрямое желание «остаться чистеньким». «На карте честь полка, а вы лишь о себе печетесь». А Ефимов не только лично для себя, но и для своего полка не хотел чести, завоеванной ценой подлога. Эта нравственная раздвоенность Волкова всегда вызывала в душе Ефимова протест и желание высказаться: «Разберитесь в себе, Иван Дмитриевич, и вы станете не только таким великим командиром, каким был Чиж, вы пойдете значительно дальше, у вас все для этого есть». Но давать советы старшим Ефимов считал себя не вправе. Лучше быть битым, чем смешным. «Надо же, какие зигзаги вычерчивает жизнь, – удивленно думал Ефимов. – Будто специально помог Иван Дмитриевич стать мне вертолетчиком, чтобы спустя три года встретиться вот в такой ситуации с его сыном». Думалось об этом где-то во втором слое сознания, потому что первый слой уже расчетливо перебирал один за другим варианты взлетного режима, вгонял их в известные формулы, выстраивал в пространстве векторы сил, влияющих на маневрирование, как можно точнее вычерчивал возможную траекторию полета. И как он ни считал, выходило, что с таким грузом можно только падать. А ему необходимо лететь. И он полетит. Наперекор законам аэродинамики. – Все, командир, – снова протиснулся в кабину Голубов. Он хотел напрямую объясниться, но работающие двигатели извергали на скалы такой остервенелый грохот, что казалось, вертолет вот-вот не выдержит и развалится на куски. Голубов снова достал лежащий на его сиденье шлемофон и приладил к шее ларингофоны. – Такая мысль, командир. Только не перебивай. Выслушай и оцени. Разбитый вертолет можно эвакуировать. Мы с Баранчиком останемся и подготовим его к транспортировке на подвеске. Надо кое-что снять с этой машины. Да и взлетать без нас будет легче. Это добрых триста килограммов. Скажи, ты справишься без нас? – Справиться я справлюсь, только… – Тогда решено. Для центровки пусть этот лейтенант сядет на мое место. Все веселей. – А если я не смогу? Если буран? – Буран не вечен. Прилетит Шульга. – А если «духи» спустятся? – Справимся. Мы тут кучу оружия оставили, чтобы не утяжелять тебя. Все. Ни пуха, командир. Пробуй. Удачи тебе! Ефимов до боли стиснул зубы. Знали бы только, как ему не хотелось оставлять ребят в этом ласточкином гнезде, но Голубов был прав по всем статьям. Триста килограммов в такой ситуации – ангельский подарок. Да и разбитый вертолет надо эвакуировать. Эта машина еще полетает. Бросать такую технику преступно. – Лейтенант, – Ефимов тронул раненого летчика за плечо. Тот с трудом разлепил веки, шевельнулся и гримаса боли исказила его бледное как мел лицо. – Попробуй сесть на правое сиденье. Волков-младший лишь глазами показал, что понял, сжал зубы, обхватил левой рукой живот и довольно резво пересел на указанное место. Застегнул привязные ремни. – Правильно сделали, – сказал он. – Не взлетим мы. Хоть они останутся. Ефимов пропустил мимо ушей эти слова. Теперь, когда машина стала легче на триста килограммов, он просто не имеет права не взлететь. Прибавил обороты, еще, еще… Вот уже и взлетный режим, но вертолет вибрирует, будто его посадили на крепкий якорь, и ни с места. В шлемофонах сначала тихо и прерывисто, затем все чище и чище стал звучать знакомый голос: «Полсотни седьмой», я «ноль-одиннадцатый», ответьте, как слышите». Ефимов обрадованно придавил до упора курок переключателя связи и весело ответил: «Ноль-одиннадцатый», слышу вас! Я «полсотни седьмой», на связи!» И забился, запульсировал эфир. Путая позывные, Шульга торопливо сообщал, что и он, «ноль-одиннадцатый», и Скородумов, то есть «ноль-двенадцатый», спешат к нему, Ефимову, то есть «полсотни седьмому» на выручку, что очень рады слышать, что… – Связь прекращаю, – перебил Ефимов, – взлетный режим. – И коротко доложил обстановку. Шульга заорал перепуганно: – Не смей взлетать, слышишь. Продержись полчаса, разгрузи половину людей, мы поможем. – Конец связи, – сказал Ефимов и отпустил палец на подпружиненном переключателе. Убедившись окончательно, что взлететь обычным способом ему не удастся, решил использовать последний шанс, рискованный, но единственный – падать в ущелье. Падать по рассчитанной траектории и постепенно выгребать на высоту. Только бы благополучно свалиться со скалы, не задеть лопастями несущего винта эти острые камни, хотя бы чуточку взмыть, оторваться не по прямой вниз, а по дуге… И вот уже двигатели взревели во всю свою мощь, и вертолет, мелко вибрируя, стал крениться в темный провал. Чуточку, самую малость вверх и набок. «То, что и требовалось доказать!» А затем – невесомость и… полет перешел в покатое скольжение. Повернутая к отвесной стене каньона поисковая фара стремительно выхватывала из мрака зловеще острые ребра вековых скал, извилистые трещины, отполированные ветрами тысячелетние каменные лбы. «А днем здесь чертовски красиво». Стрелка высотомера неудержимо шла к роковой черте. Вертолет падал. Вот уже четыреста метров… пятьсот… А глубина ущелья – около тысячи. Пятьсот пятьдесят… шестьсот… И тут Ефимов уловил в звуках двигателей новую ноту, они словно перевели дыхание, хватанув свежего кислорода, заработали напористей и равномерней. Стрелка высотомера замерла, вертолет перешел в горизонтальный полет. Ефимов чувствовал, что пот заливает ему глаза, но даже на секунду боялся отпустить рычаг «шаг-газа» и ручку управления. Раненый лейтенант неподвижно сидел на месте Голубова с закрытыми глазами. На сиденье Коли Барана пристроился санинструктор. Его лицо, руки, униформа – все было перемазано кровью. В тусклом свете плафона оба казались мертвыми. Траектория полета стала мягко загибаться вверх, и Ефимов, выключив наружные приборы освещения, заметил, что клин неба, врубившегося в скалы, уже совсем светлый, и он подумал, что теперь, когда вертолет обрел наконец уверенную устойчивость, даже выгоднее как можно дольше держаться в распадке, потому что там, над вершинами, уже наверняка гуляет обещанный синоптиками буран. А здесь, в тени, его даже обстреливать прицельно не смогут. Ефимов вышел на связь и попросил «ноль-одиннадцатого» извинить его за резкость, за невыполнение его приказа, за нарушение режима радиообмена. – Когда прилетишь домой, за все получишь сполна, – сказал Шульга строго, – а теперь подробно объясни обстановку. Ефимов впервые за весь этот полет позволил себе чуточку расслабиться. Теперь он уже не сомневался, что выберется из этого каньона. Доложил курс, высоту, остаток топлива. Попросил заранее прислать на аэродром санитарные машины и продумать методику эвакуации пострадавшего вертолета. – У тебя не хватит горючки, – сказал Шульга. – Будь готов к аварийной посадке в квадрате… Туда вызовем и санитарные машины. – Машины в этот квадрат придут через сутки. А тут каждая секунда кому-то может стоить жизни. Я попытаюсь дотянуть. – А я бы не стал рисковать. Хватит. – Понял вас, «ноль-одиннадцатый». Сесть в квадрате… после всего случившегося и потерять такой ценой выигранное время – абсурд. Нет, лучше ничего не объяснять. Молчать и лететь. В особых случаях он как командир вертолета имеет право на самостоятельное решение. Неожиданно и запоздало его опеленал страх пережитого. Может, действительно хватит? Даже у фортуны может иссякнуть терпение. Позволить себе такой риск, такое сущее безумие! Буквально все – посадка, погрузка, взлет – все не просто на грани, на бритвенном лезвии. Любая, самая незначительная неожиданность могла нарушить равновесие. «А ведь впереди еще самая прекрасная часть твоей жизни, Ефимов. Ты обещал Нине остаться целым и невредимым. Она верит тебе. И ждет. Подумай, Ефимов». – Подумай, «полсотни седьмой», – в тон сказал и Шульга. – Не искушай судьбу. Мне наказать тебя надо. А если разобьешься – кого наказывать? «А что, – оценил шутку Ефимов, – уж в этот раз, пожалуй, и вправду накажет». Он представил, как сейчас сошлись на переносице и сломались у стыка брови Шульги и как их рисунок в точности повторил линию плотно сжатых губ – две птички авиагоризонта. Сама строгость и неподкупность. …Когда Ефимов во времена переучивания на вертолет уже в первом самостоятельном полете выполнил целый комплекс фигур на пределе эксплуатационных возможностей вертолета, Шульга, многое позволявший ему до этого, буквально взбеленился. – Чтобы так летать, – кричал он, – надо съесть пуд соли! А у тебя молоко на губах не обсохло. – Но я не вышел за ограничения, – пытался успокоить его Ефимов. – Это еще ничего не значит! Надо знать не только ограничения, но и их причины, физическую сущность, чувствовать возможность непреднамеренного выхода за ограничения. Этого в книжках не вычитаешь! Это спиной постигается! О-пы-том! – Но я же летчик! Я это чувствую… – Все так думают, Ефимов! Все. Даже водители машин. А потом, когда перевернется вверх колесами, разводит руками: не знаю, что и откуда взялось. Право на такое маневрирование нахальством не возьмешь. Его надо завоевывать шаг за шагом. – Шульга обидчиво покачал головой. – Убедишься. Если не свернешь шею. С тех пор Шульга прекратил душеспасительные разговоры с Ефимовым. За самовольную посадку с помощью авторотации – на десять дней отстранил от полетов, за посадку одним колесом на печную трубу полигонного домика – объявил строгий выговор, когда же Ефимов нарушил установленную высоту, летая с фотокорреспондентом «Красной Звезды» над позициями ракетчиков, во время учений, Шульга предупредил его о неполном служебном соответствии. – Вот так, – подводил он черту, прежде чем распустить строй. Как-то очень поздно вернувшись из штаба ВВС, Шульга зашел к Ефимову в общежитие и без всяких предисловий спросил: – В Афганистан поедем? – Поедем, – не задумываясь согласился Ефимов. – Хоть отогреемся там ближе к экватору. И на оставшуюся жизнь теплом запасемся. Помолчав, добавил: – Работа боевая. Все, за что здесь наказывал, там будет оцениваться иначе. Три вылета, и все взыскания сняты. Лафа? – Лафа, – засмеялся Ефимов. – А посему – с завтрашнего дня в отпуск. В ту ночь Ефимов так и не уснул. Прикидывал, где ему лучше провести отпуск, думал о предстоящей службе в Афганистане, вспоминал Север. А если к Нине? «Прости, не сдержал слова, но я больше не мог. Ситуация изменилась, и я решил, что имею право нарушить запрет…» А что, собственно, изменилось? Она уже развелась с мужем? «Ефимов! – упрекнул он себя. – Прошло чуть больше года, а ты вибрируешь, как овечий хвост». Решение созрело к утру – ехать к родителям, в Озерное. Нельзя быть Иваном, не помнящим родства. Уж сколько просят, особенно бабуля. К тому же – август, время летних отпусков, глядишь, кого-то из однокашников встретишь. Да и просто побродить по знакомым пролескам разве плохо… Сколько раз, глядя на кудрявые лоскуты зелени из-под голубых небес, он давал себе слово в первый же выходной уехать подальше от аэродрома, в незнакомый лес, послушать щебет птиц, шум ветра в сосновых кронах, выспаться на сухом мху, как это он делал в детстве. Но ведь не зря говорят, что благими побуждениями вымощена дорога в ад. А тут, пожалуйста, сама судьба предлагает такой подарок. Поскольку путь к дому лежал через Ленинград, Ефимов не удержался и позвонил Кате Недельчук. Они изредка обменивались поздравительными открытками. Ефимов не хотел признаваться даже себе, что звонит он Кате с одной-единственной целью: услышать в разговоре с нею что-нибудь случайное о Нине. Кто-кто, а Катя обязательно выскажется. – Алле-у, – как всегда жизнерадостно ответила Катерина. – У телефона. – Да уж не у плиты, – подхватывая тон, сказал Ефимов. – Как живешь-то? Несколько секунд в телефоне только потрескивало. Как песок на зубах. – Это ты, – сказала Катя утвердительно. – Прямо какая-то телепатия. Ведь только подумала про тебя. И – пожалуйста: явление Христа народу. – Врешь, поди? – Да нет, Федя, не вру. – И к чему бы это? – К дождю, наверное. Какими же судьбами ты в Ленинграде? Может, в гости зайдешь? Хоть одним глазом поглядеть на тебя. – Я завтра в Озерное еду. Отпуск. – Катя тихо засмеялась. – Где ты? – спросила она. – На Московском вокзале. – Спускайся в метро и до «Звездной». Здесь я тебя встречу. Возражения не принимаются. Чао. – И повесила трубку. Она ждала его у выхода, по-прежнему стройная и эдакая контрастно-модная дама: белые брюки, черная, мужского покроя рубаха, с закатанными рукавами, роскошные белые волосы. Красные розы, которые ей вручил Ефимов, сразу бросили пунцовые блики на ее лицо, на некрашеные губы. – Ты с каждым годом хорошеешь, – сказал он, целуя подставленную щеку. – Никак, замуж вышла? – Ты же знаешь, Ефимов, что замуж я могу выйти только за тебя. А ты меня, увы, игнорируешь. Так что не будем возвращаться к этой теме. – Она бесцеремонно взяла его под руку, посмотрела своими черными глазищами снизу вверх, засмеялась. – Знаешь, почему смеюсь? Я тоже еду в Озерное. И тоже в отпуск. И не хмурься, пожалуйста. Это тебе ничем не грозит. Будет желание повидать меня, свистнешь – прибегу. А нет – и не увидишь, и не услышишь. – И билет уже взяла? – Ефимов хотел удостовериться – не сейчас ли Катя решила ехать в Озерное. – А ты взял? – испугалась она. И когда Ефимов ответил, что будет брать завтра, она чуть не запрыгала от радости. – Вот, Ефимов, – показала Катя на припаркованную у бровки тротуара машину. – Я купила «Жигули». И в Озерное мы с тобой поедем своим ходом. Если ты сейчас придумаешь какую-нибудь дурацкую причину и откажешься, я тебя просто-напросто убью. Понял? – А ты ее водить умеешь? – только и спросил он, глядя на сверкающую шоколадным лаком «шестерку». – Есть у тебя удостоверение? – На, проверяй, – Катя небрежно, но гордо вытащила из сумочки целлофановый конвертик, где лежали тесно прижатые друг к другу технический паспорт и удостоверение водителя. Дата выдачи свидетельствовала, что за рулем Катя первый месяц. – Ну, что теперь скажешь? Уже темнело, и на улицах Ленинграда зажгли вечернее освещение. Вспыхнувшие над ними белые шары отразились в темных Катиных глазах. Она торжествовала. Ефимов хотел было позлорадствовать насчет стажа и опыта, но не стал портить женщине праздника. Сказал с восторгом: – Сразила! Наповал! – То-то же, Ефимов. Теперь будешь знать, какую женщину потерял. – Катя открыла ключом правую дверцу, широко распахнула ее. Прямо царственным жестом. – Садись! «А красивая она, чертовка, – подумал он вдруг. – И, видимо, знает это». Усевшись поудобнее за руль, Катя еще раз победно взглянула на Ефимова и, включив стартер, сказала: – Я тебя немножко покатаю по городу, потом мы поужинаем. Ты где остановился? – Пока нигде. – Значит, у меня. А где твои вещи? – На вокзале. В камере. – Вот и поедем за ними. А рано утром позавтракаем, и в путь. Утверждаешь? У Ефимова не было причин возражать. Все Катины предложения ему нравились. Чем не отдых – неторопливо ехать на машине, глазеть на мир, болтать чепуху, ни о чем не думать… – Утверждаю. Годится. – Ты начинаешь меняться положительно в лучшую сторону, Ефимов. Никакого сопротивления. Я могу разлюбить тебя. – Ты лучше на светофоры смотри, – сказал он, застегивая привязной ремень. Катя скептически усмехнулась. – Авиационная привычка, – Ефимов не стал говорить, что ремни безопасности не для инспектора ГАИ. Они для безопасности. – Застегнул, и все на месте. – А мне они мешают, – беспечно бросила Катя и наподдала скорости. Они выскочили на проспект Гагарина, и стрелка спидометра сразу перевалила за сотню. – Лихачка! – заметил Ефимов. – А какой русский не любит быстрой езды? – Отберут сейчас права, и никуда мы завтра не поедем. Катя сразу сбросила скорость и ветер в косо поставленном стекле форточки мгновенно сменил регистр. – Умеешь, дружочек, убеждать, – улыбнулась она, бросив на Ефимова взгляд. Катя за рулем смотрелась. Гибкие линии рук, покатые плечи с белыми пуговками на черных погончиках, роскошные локоны, перекинутые на грудь, плавно вздернутый носик. Осторожно подкрашенные брови и выпяченные от напряжения губы гармонично завершали портрет избалованной вниманием женщины. – Как ты живешь? Катерина? – Не видишь, что ли?.. Еще в Озерном надо пыли напустить. Пусть охают. Машина, Ефимов, гениальное изобретение. В какие-то минуты заменяет и мужа, и детей, и даже друзей. Теперь в числе моих поклонников – автослесари, мотористы, электрики, продавцы запчастей и тэ дэ. А что делать? – Выходить замуж и рожать детей. – Одинокая женщина, Ефимов, нынче благо. Одинокие – они отличные работницы, активистки профсоюза, отдыхающие турбаз, законодатели мод и возмутители спокойствия благополучных браков. А как же! На то и щука в пруде, чтобы карась не дремал. У красного светофора Катя открыла перчаточный ящик, невзначай коснувшись грудью его плеча, порылась среди бумаг, «дворников», туалетных принадлежностей, наконец извлекла кассету и сунула в щель магнитофона. И прежде чем грянул в динамиках оркестр Поля Мориа, Ефимов с обреченной тоскою понял: еще одно такое прикосновение, и Катин триумф неминуем. У Московского вокзала остановились и вместе пошли в камеру хранения. Катя по-хозяйски висла на его локте, болтала всякую чепуху, замечала, какими глазами на них смотрят, то и дело заглядывала Ефимову в лицо. Укладывая в багажник чемодан, они снова соприкоснулись плечами, потом руками, потом взглядами. И Катя, смутившись, будто ее уличили в недозволенном, захлопнула крышку багажника, быстро села за руль. Лиговский был почти пуст, и Катя не сдерживала резвого нрава машины. В открытые окна вместе с чадом бензинового перегара и остывающего асфальта врывались запахи то свежеиспеченного хлеба, то круто заваренного кофе, и изголодавшийся Ефимов, вспомнив о близком ужине, неожиданно запел. Катя удивленно взглянула на него, засмеялась, склонившись к рулю, а в следующее мгновение оба увидели стремительно выезжающую из переулка сине-белую поливальную машину. Еще возле метро «Звездная», осматриваясь в салоне «Жигулей», Ефимов отметил, что рукоятка ручного тормоза находится почти под его левой ладонью. И теперь он, не думая и не глядя, рванул ее вверх до отказа. Заблокированные колеса взвизгнули, но инерция неудержимо продолжала нести машину вперед, и в следующее мгновение приглушенный шум вечерних улиц раскололся от ломающего металл и стекло удара. В последний миг Ефимов понял, что «Жигули» влетели капотом под водоналивную бочку за задним скатом и весь удар пришелся на ту половину кузова, где сидела Катя. Водитель поливалки прибавил газу и скрылся в переулке. «И не с кого спросить будет», – подумал Ефимов, пытаясь прочитать номер на синей цистерне. Но треснувшее стекло закрывало от него переулок сеткой белой паутины, а из-под капота вдобавок валил густой пар. «Можно догнать!» Он рванулся в открывшуюся при ударе дверцу, но тут же был отброшен назад впившимся в грудь ремнем безопасности. «Стоп! – сказал он себе. – Действовать по аварийному варианту. В первую очередь – перекрыть «стоп-кран», то бишь выключить двигатель. Второе…» Он просунул под рулевое колесо руку и повернул ключ зажигания против часовой стрелки. Двигатель захлебнулся. И в наступившей тишине Ефимов услышал Катин стон. «Катя! Вот что главное!» Он отстегнул свой ремень, обежал машину и рванул дверцу водителя. Но ее заклинило. Позже он удивился своему хладнокровию и сообразительности. Нащупав под Катиными ногами рукоятку, регулирующую наклон сиденья, отжал ее, опрокинул спинку и аккуратно вынес Катю через заднюю дверь. Возле разбитой машины уже толпились случайные прохожие, вздыхали и охали, и Ефимов попросил кого-то взять на заднем сиденье меховую подстилку и разостлать у витрины магазина, там было посветлее. Какому-то парню не терпящим возражения тоном приказал вызвать по автомату «скорую» и ГАИ. А сам положил потерявшую сознание Катю на подстилку и сразу бросился за аптечкой. Кровь у нее сочилась пульсирующими толчками из рваной раны на левом виске, и Ефимов быстро наложил повязку. Бинтуя голову, увидел рану и на предплечье. Он уже заканчивал перевязку, когда подъехала «скорая». Осмотрев пострадавшую, врач взглянул на Ефимова: – Себе перевязку сделайте. – Я не ранен. – Вы по уши в крови. Ефимов автоматически тронул ухо и почувствовал на затылке липкую теплоту. Значит, и его достало стекло. Повязку ему сделали во время объяснений с подъехавшим инспектором ГАИ, а Катю тем временем унесли на носилках в санитарный автомобиль. – Где ее искать? – спросил он уходящего врача. – Позвоните в справочное. Потом, пока составлялся протокол, пока отгоняли машину на площадку ГАИ, перевозили Ефимова вместе с его и Катиными вещами на ее квартиру, наступил рассвет. Ефимов забылся в каком-то кошмарном сне на час-полтора, потом умылся, заварил кофе, дозвонился до справочного и, узнав, что Катя попала в клинику травматологии, вынул из чемодана военную форму (брал в отпуск на всякий случай) и поехал по указанному адресу. Он беспрепятственно прошел до дежурной медсестры и, наклонившись к ней, тихо спросил: – Ну, как она? – Кто? – не поняла дежурная. – Катерина, жена моя. – Сразу бы так и сказали. Вы Недельчук? – Естественно. Катя находилась в реанимационной палате, считалась тяжелой – кроме открытых ран у нее обнаружили несколько сломанных ребер, – но была в сознании. И дежурная сестра провела «на минутку» Ефимова к ней. – Я рада, что ты уцелел, – сказала она тихо. – Так что поезжай в Озерное, ладно? Только позвони моим хахалям и скажи, чтобы машину привели в полный порядок. Телефоны их в книжке на букву «р» – ремонт автомобиля. – Больно? – с искренним участием спросил Ефимов, взяв ее маленькую кисть в свои огромные лапы. – Ерунда, Ефимов, выживу. Меня никакая зараза не берет. Жаль только, отпуск не удался. – А мы с тобой в следующем году возьмем и сделаем еще одну попытку. – Не обманываешь? – Катя смотрела на него с надеждой. – Слово офицера. – Спасибо. Теперь мне точно все нипочем. Поцелуй меня и уезжай. Он дотронулся губами до ее пересохших губ. Через три дня Кате сделали операцию, и она несколько дней была без сознания, а когда пришла в себя и снова увидела в палате Ефимова, долго смотрела на него, пыталась улыбнуться и только кончиком языка слизывала стекающие к губам слезы. В следующий раз она попросила его больше не приходить. – Мне уже лучше, а я такая некрасивая. Но он пришел и в следующий раз, и еще, и еще. Приносил цветы, сласти, консервированные компоты. Ходил, пока не подошло время возвращаться в часть. Рассказал, что машину восстановили, что водителя поливалки нашли – он был в тот вечер пьяным, что с ее хахалями, дабы у них не было повода приставать к ней, он рассчитался за ремонт до копеечки, что как только приедет к новому месту службы, напишет ей. – Ты проявил такое трогательное участие, Ефимов, что я эту аварию буду до конца жизни благословлять, как лучший подарок судьбы. Прощаясь с Катей, он искренне верил, что напишет ей. Но служба в ограниченном контингенте навалилась сразу неограниченным объемом работы, и когда он вспомнил о своем обещании, то сразу решил, что писать после такого длительного молчания уже стыдно. А свой очередной отпуск он впервые провел (по совету врачей – потерял вдруг сон) в санатории. Была ранняя весна, но на Сухумском побережье уже с утра и до вечера пульсировала пляжная жизнь, на склонах гор желтыми облаками цвела магнолия, в городском театре гастролировал «Современник», а в клубе санатория каждый вечер играл эстрадный оркестр – танцуйте до упаду. И Ефимов не стал сопротивляться захватившей его волне курортной вакханалии. Ему, видимо, давно не хватало такой вот безалаберной жизни. Слишком серьезными были все предыдущие годы. Плавал в бассейне, играл в волейбол и в карты, флиртовал на пляже с какими-то девицами из Дома отдыха «Актер», ходил с ними к какому-то частному виноделу дегустировать вина, воровски пробирался через балкон к актрисам в комнаты, застревал у них до утра, в общем отдыхал. Перед Катей он чувствовал себя виноватым, но утешался тем, что по возвращении из Афганистана обязательно заедет к ней, и если она еще не передумала и если у нее еще нет повода послать его ко всем чертям, то обязательно попросит ее отвезти его на машине в Озерное. И вот сейчас, с трудом удерживая от болтанки перегруженный вертолет, посматривая то на приборы, то на потерявшего сознание лейтенанта Волкова и застывшего в проходе в неудобной позе санинструктора (не умер ли?), он думал о Кате, о том, как они все-таки прикатят в Озерное, как будут вместе ходить в лес за малиной. Он думал о Кате, чтобы не касаться той, другой, о которой без боли и тревоги вспоминать не мог. Он знал, что ей горько и трудно, что она вспоминает о нем так же часто и нежно, как он, и так же, как он, запрещает себе расслабляться, потому что их время еще не пришло, оно где-то плутает в пути. – «Полсотни седьмой», доложите остаток топлива. Он доложил. На командном прикинули и попросили уточнить. Он уточнил. Тогда ему сказали, что остаток вместе с аварийным ниже минимума. Посадка на промежуточном исключена. Он его уже прошел и находится теперь примерно на одинаковом расстоянии от того и другого аэродрома. Садиться на неподготовленную площадку в горной местности с таким грузом немыслимо. Значит, что ему остается? «Падать, – сказал бы Паша Голубов, – благополучно падать». – «Ноль-одиннадцатый», – устало запросил Ефимов, – что от Паши? – Было радио, – ответил Скородумов, – их обстреляли «духи». Вот этого Ефимов больше всего и боялся. Если насядут сверху, а там, видимо, есть возможность просочиться к месту аварии, не только вертолет, а и ребята могут остаться в этих горах навсегда. Каким-то бесконечно долгим, бесконечно затянувшимся показался Ефимову полет, похожий на тяжелый кошмарный бред. – Лейтенант, ты живой? Лейтенант кивнул, не открывая глаз. Его тело расслабленно обвисло. Другой бы стонал, хныкал, а этот, как кремень, держится из последних сил. Отцовский характер. Перегруженный вертолет ныл и дрожал от натуги. Он тоже крепился из последних сил. Разреженный горный воздух был зыбкой и ненадежной опорой для несущего винта, и стрелка прибора, показывающая наличие топлива в баках, отклонялась к нулю значительно быстрее, чем ей следовало. Ефимов собрался, просчитал расход горючего, подлетное время, сверил с остатком… Пересчитал все в обратном порядке. И так и так выходило, что до аэродрома ему не дотянуть. Оставалось единственное – выключить один из двух двигателей, лететь на одном. Но с таким грузом, при такой бедности кислорода в воздухе и на одном двигателе горизонтальный полет был практически невозможен. Ефимов запросил у командного пункта точную дальность и высоту. Сверил ее с показаниями своих приборов, прикинул скорость снижения и решил рискнуть: по его расчетам получалось, что глиссада вынужденного снижения должна оборваться почти у посадочной площадки. Он перекрыл кран подачи топлива в один из двигателей и доложил свое решение руководителю полетов. На стартовом командном пункте замолчали, видимо, подсчитывали. А паузой воспользовался Шульга, «врубился» в связь: – Решение правильное. Держись. Минуты снижения Ефимову показались часами. Сел он с прямой у самого краешка аэродрома, не дотянув до посадочной площадки метров шестьсот-семьсот. Сел грубо, как никогда не садился, хотя перед самой встречей с землей и попытался создать посадочную скорость снижения, выровнять машину. Когда к вертолету беспорядочно подъехали санитарные, пожарные, транспортные машины, подбежали люди, Ефимова сразу спеленала оглушающая тишина. Лопасти несущего винта уже потеряли свою упругость и, свисая все ниже и ниже, вращались в полном безмолвии. То ли двигатель сам остановился, то ли Ефимов его выключил, он не помнил. Его о чем-то спрашивали – он не понимал, помогали выйти из кабины – не сопротивлялся, что-то говорили о раненых, суетились, он ничего не слышал. Уловил только одну фразу, удивленно брошенную техником: «Баки совсем пустые». «Ну и что? – хотел сказать он, – главное – долетел». Но подступило полное безразличие ко всему, даже к тому, куда его везут. Словно весь он застыл, закоченел душой и телом. И только в воспаленном мозгу продолжала вариться кошмарная смесь из видений кровавых бинтов и запорошенных снегом скальных разломов, Пашкиной улыбки и доверчивых глаз Коли Барана, расплывающихся стрелок на щитке приборов и разбитого вертолета с нелепо торчащей вверх хвостовой балкой… 8 Вечер получился суетливым, переполненным какими-то непредвиденными делами. Откуда что бралось? Сначала Юля решила наделать вареников, думала, что за час управится, но увязла, в буквальном смысле слова, в этом тесте и в этой начинке более, чем на два часа. Потом затеяла постирушку Федькиных маек, рубашек, трусиков, штанишек, колготок, носков (господи, сколько у трехлетнего ребенка одежды!), и во всех этих делах сын хотел быть помощником, суетился, путался под ногами, делал не то, что надо. Она терпеливо объясняла ему, как делать вареники, как смывать с рук муку (а не вытирать о рубашку), сколько брать теста, чтобы вареники получались красивыми; откладывала в отдельный тазик самые мелкие вещи, чтобы он мог стирать, не мешая ей, а ему все время казалось, что возле маминых рук интереснее. Более получаса ушло на ритуал отхода ко сну: купание, переодевание, прогревание постели с помощью фена, обязательная сказка про Муху-цокотуху, которая сходила на базар… – …И купила бабазар, – подхватил он сонно и попросил еще опять про коня, на котором ездят по радуге. В такие минуты Юля отдыхала и душой, и телом, вглядывалась в лицо засыпающего ребенка и обнаруживала в нем все новые и новые черты своего отца – Павла Ивановича Чижа. Вспоминала его деланно сердитое лицо и слова: «Состарился, а дедом так и не стал, нормально это?» Глаза начинало жечь, и она ощущала, как по щекам, оставляя мокрые следы, скатываются слезинки. Юля не противилась им, потому что всегда, вот так тихонько поплакав, испытывала очищающее облегчение. Отца она любила глубоко и преданно. А «внуки, они и в Африке внуки…» Занявшись переделкой Колиных брюк (он уже давно просил вместо пуговиц вставить «молнию»), Юля не заметила, как наступила полночь. Она никогда раньше двенадцати не засыпала, и Коля, зная это, всегда во время своих отлучек (на день или на месяц) старался позвонить ей в такое время. И когда раздался телефонный звонок, она вздрогнула, не зная, как ей держаться после того нервного разговора, который случился между ними при расставании. – Как жизнь, о несравненная? – как всегда бодро спросил Коля, но она сразу уловила в его голосе скрытое напряжение. – Наследник вел себя прилично? – Какая тут к черту жизнь? – Юля хотела сказать эти слова наигранно весело, но получилось ворчливо и без всякой наигранности. – Копаюсь вот, как сонная муха, одна-одинешенька, а настоящая жизнь летит мимо. – Ну-ну… – Голос у Муравко потеплел. – Федя спрашивает, когда папа вернется? – А какой у нас завтра день? – Пятница. – Вот в пятницу вечером и прилечу. Так и передай ему. Юля почувствовала, как сердце, словно поперхнувшись, дало перебой, и у нее вместо слов вырвалось невнятное бормотанье. – Не понял, – сказал Муравко. Она наконец справилась с дыханием и спокойно пообещала: – Так и передам, говорю. – Значит, до встречи? – Значит, до встречи. – Между прочим, ходят слухи, что тебя любит какой-то майор Муравко. – Слухам не верю, пусть докажет. – И можно ему это передать? – Можно, даже нужно. Когда Коля «убывал» в свои командировки, Юля стелила себе на диване в гостиной. Почему-то здесь было не так одиноко и тоскливо, как в спальной комнате, где одна из кроватей оставалась неразобранной. Она включала торшер и хотя бы несколько минут читала. Другого времени для чтения, кроме разве езды в электричке, не было. Выписывали они четыре толстых журнала. И когда скапливались стопкой ни разу не раскрытые ежемесячники, у Юли портилось настроение – когда же она сможет вволю почитать? Мартовскую книжку «Невы» Юля взяла в руки с добрым предчувствием. Взглянув на обложку, улыбнулась: на гравюре была изображена набережная реки Фонтанки с массивными воротами и решеткой Измайловского парка, со старым четырехэтажным домом, в котором она провела детские годы, в котором и по сей день живет мама. «Бедная мамуля, как ей, должно быть, одиноко», – подумала Юля с сочувствием и стала припоминать, когда в последний раз писала ей. Выходило, что в первых числах марта. Поздравительную открытку. Несколько слов. К Женскому дню. Она твердо решила, что завтра утром, как только проснется, сразу позвонит. Именно в это мгновение зазвонил телефон. «Мама меня опередила», – уверенно подумала Юля и, нащупав на полу аппарат, сняла трубку. – Юлия Павловна, – зарокотал знакомый мужской голос, – если я тебя разбудил, прости грешного эскулапа. Это Булатов Олег Викентьевич. Приехал, понимаешь, в столицу, а в гостиницу попасть не смог. Содом и Гоморра. Ну и решил – махну к Николаше. Пока не стал знаменитостью, переночевать пустит. А главное – захотелось встретиться, на вас, чертей, поглядеть, сына вашего узреть… – Где же вы находитесь, милый доктор? – У ваших ворот, в вестибюле КПП. – Что же из Москвы не позвонили? Я бы пропуск заранее заказала, а теперь не представляю, где искать коменданта. Ну, да ничего, найдем. Коля только что звонил, завтра вечером обещал приехать. Вот радость будет! – Его, значит, нет?.. Знаешь, Юлия, не хлопочи с пропуском. Я успею на последнюю электричку. – Почему, Олег Викентьевич? – Ты еще спрашиваешь? Во-первых, что скажет Марья Алексевна? Ночью, когда муж в командировке, в дом к Муравко пришел незнакомый мужчина и заночевал. Такие пассажи, я думаю, в вашем ведомстве не поощряются. Жена космонавта, как жена Цезаря, – должна быть выше подозрений. А во-вторых, стеснять друзей нынче не модно. – Не говорите чепухи, Олег Викентьевич, – перебила его Юля. – У нас трехкомнатная квартира, никакого стеснения. – Нет, Юленька, я знаю, что говорю, – Булатов хмыкнул. – И себя знаю. Я старый развратник, начну приставать, пользуясь случаем, в любви объясняться, тем более, что я по-прежнему люблю тебя, хотя ты и выбрала моего друга. – Олег Викентьевич, вы – прелесть. – Вот-вот… Еще несколько ласковых слов, и я буду повержен. Нет, Юленька, пошел я на электричку. Если не уеду завтра в Ленинград, позвоню. Целую, спокойной ночи. И, прежде чем Юля успела предложить ему переночевать в гостинице Звездного, Булатов повесил трубку. Она сразу же набрала номер дежурного по КПП, но тот сказал, что «звонивший вам товарищ в дубленке уже исчез». Разговор с Колей, этот рисунок на обложке «Невы», звонок Булатова – все сразу, все неожиданно – на какой уж тут сон можно было рассчитывать, на какое чтение. Не только буквы, строки и целые абзацы расползались. Или надо идти гулять, или снова стиркой заниматься, или хотя бы принять хвойную ванну. Иначе все – до утра, как на посту. Юля набросила халат, заглянула в детскую кроватку. Федя спал тихо, неудобно откинув голову к плечу. «Бабазар мой», – шепнула Юля, успокаиваясь, и пошла в ванную. Открыла кран, бросила в воду брикет хвойного экстракта, прислонилась к стене… Разве она могла поверить в тот день, когда улетала с полком на Север, что Олег Булатов способен всерьез влюбиться? «Ах, Юлия Павловна, ах, Юлия Павловна». А потом вдруг: «Самое смешное, Юля, в этой истории то, что я тебя люблю». Она на другой день забыла этот разговор, потому что после расставания с Колей, несправедливого и радостного, несправедливого своей неожиданностью – ведь она из-за него осталась в полку, и радостного потому, что они все-таки сказали друг другу самое главное, она могла думать только о своем Муравко. Да еще Север… С неожиданными впечатлениями, которые все чаще и чаще воскрешали в памяти рассказы Чижа, с круглосуточной работой, потому что полярный день одаривал их на редкость теплой и ясной погодой. В промежутках между работой она писала Коле длинные письма, оставшееся время корпела над учебниками. Она даже не замечала бытовых неудобств, живя в одной комнате с официантками летной столовой. Девочки допоздна шептались, рассказывая о своих ухажерах, пытались втянуть в свои сердечные тайны Юлю, но она или отмахивалась, уткнувшись в конспект, или сразу засыпала, если в комнате гасили свет. Все эти «как он на меня посмотрел» да «как он хотел меня поцеловать» казались ей такой суетностью, что уделять этому хотя бы толику внимания было преступлением. Она лишь однажды всерьез вмешалась в девичий разговор, потому что услышала фамилию Федора Ефимова. Ей сразу вспомнился приезд Нины, вечеринка, его глаза, полные обожания, ее голос, звенящий счастьем. Юля тогда впервые увидела настоящую любовь и остро позавидовала Нине, хотя понимала, что завидовать ей грешно. И Ефимова она тогда увидела совсем другим и поняла каким-то женским чутьем, что он однолюб и именно поэтому счастлив. А эти вертихвостки обсуждали его взгляды, брошенные на ходу комплименты, уверяли друг дружку, что это неспроста и за этими словами последует обнадеживающее предложение, если та же Оксана не будет дурой и перестанет строить из себя недотрогу. – Забудьте вы Ефимова, глупенькие, – сказала однажды Юля, и девочки сразу затихли, видимо, считали, что она спит. – Ефимов в ваши игры не играет. – Он что, святой, – спросила одна, – или не мужчина? – Любит он, понимаете? Любит. Женщину, которая живет в Ленинграде. – Ленинград далеко, а мы рядом. – Ну, как знаете. Я предупредила. И больше она ни разу не заговаривала с ними на эту тему. В конце сентября выпал снег и над городком уже круглые сутки сияла поднятая на металлической мачте мощная ультрафиолетовая лампа. «Наше северное солнышко», – говорили про нее жители авиационного поселка. Уходя на лыжах в тундру, Юля возвращалась домой, ориентируясь на этот свет, как моряки на маяк. Она быстро втянулась в лыжные прогулки, любила их за возможность побыть в полном одиночестве, за то, что они компенсировали ту усталость, которая приходила во время длительных дежурств на стартовом командном пункте, за радость, полученную от физических нагрузок. С каждым разом ее вылазки становились все длиннее и длиннее, и, возвращаясь в городок, Юля падала в изнеможении. Как-то в начале ноября, почувствовав попутный ветер, она решила «махнуть» на предельную дальность – так приятно идти по затвердевшему насту, когда твоя спина, словно парус, принимает и передает лыжам дополнительное ускорение. Когда начала подкатывать усталость, она остановилась и оглянулась. Маяка не было. И сразу похолодела от страха: перед глазами стояла сплошная чернильная тьма, остро бьющая невидимыми снежинками, и куда теперь двигаться, она совершенно не представляла. «Если ты шла все время по ветру, то теперь надо идти против него». Эта мысль ее успокоила, и Юля, пряча лицо, пошла в обратном направлении. Она понимала опасность, понимала, что сюда бежала со свежими силами, да еще при попутном ветре, а обратно идет усталой, подавленной, преодолевая нарастающее сопротивление вьюги. Поэтому все время твердила себе: «Только без паники. В подобных ситуациях люди погибают не от изнеможения, а от страха. Дорогу осилит идущий. Главное – без паники». Но страх овладевал тем сильнее, чем менее уверенными становились ее движения. От одной мысли, что рассвет придет только через несколько месяцев, а чтобы замерзнуть, надо несколько часов, у нее подкашивались колени и предательски слабели руки. Если бы она видела лампу! Пусть за двадцать, за пятьдесят километров, она бы дошла во что бы то ни стало. Доползла бы. Но идти вслепую по ночной тундре, натыкаясь на замерзшие кустарники и кочки, идти только потому, что надо двигаться, она не могла. Все чаще и чаще получались остановки, все чаще хотелось повернуться спиной к ветру, присесть. Наконец, споткнувшись, Юля упала и уже не захотела вставать. Подумала о маме, о Николаше, представила, какое горе они испытают, когда узнают о ее смерти, и ей стало так горько и обидно, что она затряслась от рыданий. Нет, Юля боролась до конца. Падала, полежав, вставала, шла, сколько могла, снова падала и снова вставала. Сколько времени продолжалась эта борьба, она не знала, потому что часы оставила в общежитии, а звезды и Луна, по которым хоть как-то можно было определиться, были глухо зашторены снежной круговертью. Очнулась Юля в полковом медпункте. Как она потом узнала, ее хватились лишь потому, что пришла телеграмма от Муравко. На почте знали, что Юля давно ждет писем, и хотели ее обрадовать. Кто-то видел, как незадолго до ужина Юля ушла на лыжах в сторону тундры. Соседки по комнате не встревожились, попросили телеграмму оставить на подушке, мол, вернется, увидит. Они привыкли к отсутствию Юли, к ее длительным катаниям на лыжах. Тревогу забил Ефимов, случайно узнавший, что Юля ушла в тундру. – В такую метель она заблудится, – сказал он командиру. – Надо искать. Волков приказал выгнать три гусеничных вездехода, взять побольше осветительных ракет и ехать на поиски. Почти полностью израсходовав горючее, вездеходы вернулись в поселок. Синоптики обещали улучшение погоды через два-три часа, и Волков принял решение подождать с поисками, пока уляжется метель. Ветер действительно стал слабеть. Ефимов не согласился с решением командира, надел лыжи и пошел на поиски в одиночку. Наткнулся он на замерзшую Юлю в двух километрах от аэродрома, который она обошла с юга и уже уходила в сторону сопок, взял на руки и принес в часть. Обморозиться Юля не успела, но воспаление легких схватила опасное, ее жизнь висела на волоске. И вот однажды в палату, где она металась в жару, вошел доктор Булатов, положил на лоб прохладную руку, потом взял ее запястье, и Юля сразу поверила, что теперь все будет хорошо. Проваливаясь в забытье, слышала гул метели и запах лекарств, в минуты бодрствования видела лица Булатова и Ефимова. – Олег Викентьевич, каким образом, за тысячи километров? – спросила она, когда миновала опасность и начало отступать безразличие. – Сердце подсказало, – улыбнулся он. – Взял отпуск и вот приехал. На самом же деле ему по военному проводу позвонил Ефимов, попросил связаться с Колей Муравко и передать, что тяжело заболела Юля. С Муравко Булатов связаться не мог, тот был в отъезде, а сам примчался на другой день, благо на Север летел военный транспортный самолет. Привез нужные лекарства, а главное – твердое решение победить болезнь, и он это сделал. – Чем я с вами расплачусь, Олег Викентьевич? – Назовешь сына моим именем. – Второго, – сказала Юля. – Первого назову Федором. Уже зарок дала. В декабре, когда Юля завела разговор об отпуске на подготовку дипломной работы, Волков сказал: «После отпуска лучше тебе не возвращаться. Оставайся в Ленинграде». – «А как же контракт?» – спросила Юля обрадованно. «Не твоя забота». На проводах Юля расчувствовалась. Она видела и раньше, что в полку ее любили, но относила эту любовь на счет своего отца. Чиж здесь не умер, его имя звучало во всех разговорах, его любимый каламбур по поводу Африки с удовольствием подхватывали новички, употребляли к месту и не к месту, на его авторитет ссылались, как на последнюю инстанцию. А тут, у самолетного трапа, Юля поняла, что у нее уже есть и собственные заслуги перед летчиками и перед полком. Оказывается, она для них была и «путеводной звездой», и «примером целомудрия», и даже «символом женской верности». Многие ее по-дружески целовали, троекратно, в губы, и она не уклонялась и не прятала слез. Самолет приземлился на том самом аэродроме, где Юле был знаком каждый домик, каждое деревце, каждая заплата на взлетно-посадочной полосе. Глядя в иллюминатор, она и узнавала, и не узнавала места, где прошли ее лучшие годы, где впервые в жизни поняла, что такое большая любовь и что такое большое горе. Встретил Юлю Олег Викентьевич, усадил на «Жигуленка» («не знал, куда премию деть, купил вот машину»), завез к Гореловым, чтобы передать Лизе посылку от Руслана, потом в школу к Алине Васильевне, потом на воинский мемориал, где был похоронен Чиж. – Кто же такой памятник поставил? – удивленно спросила Юля, разглядывая косо спиленный, стремительный, как крыло МИГа, лабрадоритовый камень с золотой надписью: «Герой Советского Союза заслуженный военный летчик полковник Чиж Павел Иванович». Сверху – Золотая Звезда, снизу – две даты. – Это город, Юля. Чижа здесь знают и помнят. На открытие памятника пришли чуть ли не все жители. Тут некоторые шутники требовали, чтобы художник обязательно на обратной стороне камня написал: «Чиж, он и в Африке Чиж». – А это откуда знают? – В городе много его сослуживцев, уволились, осели… Ей не хотелось уходить с этого места, но Булатов напомнил: «Тебе опасно долго быть на холоде». Она и вправду почувствовала, что коченеют ноги. В квартире Олега Викентьевича почти ничего не изменилось, впрочем, Юля и не присматривалась особенно. Ее больше занимало, как сейчас выглядит точно такая же квартира этажом выше, где Юля прожила вместе с отцом свои лучшие годы. И Булатов, точно догадавшись, показал глазами на потолок и сказал: «Там живет молодая семья. Он – летчик, она – врач. У нас в госпитале работает». Помолчав, добавил: «Он ей сцены ревности устраивает. Из-за меня, естественно». – А вы, естественно, ни при чем? – А ты допускаешь? – Ни в коем случае! – Вот это зря… Я такой… Угостив Юлю ромом и крепким чаем, Булатов сказал: – Право выбора за тобой: или останешься у меня на ночь, или я везу тебя в Ленинград. Юля понимала, что оставаться на ночь в квартире холостяка – вариант во многих смыслах не лучший, но на улице было темно и морозно, а здесь тепло и уютно, у нее от самолета гудело в ушах и все куда-то летело, а тут еще в машине маяться, да по скользкой дороге… – Остаюсь до утра здесь, – сказала Юля. – Мужественное решение. – Я такая, Олег Викентьевич, – бесшабашно улыбнулась Юля, повторив его интонацию. Он быстро, прямо-таки профессионально приготовил ей постель, попрощался и, сказав, что до утра будет в госпитале, поспешно исчез. Вернулся среди ночи, осторожно снимал верхнюю одежду, что-то делал на кухне, позвякивая посудой, заглянул на цыпочках к Юле, постоял возле дивана, пытаясь рассмотреть ее лицо, и так же осторожно ушел в другую комнату. Юля и до сих пор не знает, чем объяснить свою уверенность, но она тогда могла биться об заклад, что у Булатова хватит такта и воспитанности, чтобы не приставать к ней. Утром, когда они пили чай, она уже настолько осмелела, что на его вопрос «не страшно ли было?» ответила по-женски дерзко: – С вами мне ничего не страшно. И была еще одна встреча, которую Юля всегда вспоминает с запоздалым раскаяньем: ведь могла, могла совершить непоправимый шаг. Примерно год спустя Коля перестал писать. Каждый день Юля начинала с торопливой пробежки вниз к почтовому ящику, а затем тяжелого подъема на четвертый этаж. Тяжесть наваливалась сразу, как только она открывала ящик и ничего, кроме газет, в нем не находила. Мать успокаивала – он же военный человек. – Папа твой годами мне не писал… Сперва она решила, что с Муравко что-то случилось. Думала об этом по ночам. «Тебе бы сообщили», – пыталась она сама себя успокоить. И тут же сама себе возражала: «С какой стати? Кто я ему?» Потом сразу, как в неожиданное открытие, поверила в новую версию: «Он полюбил другую». В метро, на улицах, у себя в институте стала вглядываться в женские лица, сравнивать с собой, и с ужасом обнаруживала, что ну буквально каждая вторая красивее ее, интереснее, привлекательнее. Она уже панически боялась смотреть на себя в зеркало, на эти тяжелые, как из проволоки, волосы, на дурацкие веснушки, ручьями сбегающие от переносицы по щекам, на пухлые, как у школьницы, губы. Как же, нужна ему такая красавица. У Юли все валилось из рук, досада застилала глаза, копившееся напряжение требовало разрядки. И в эти дни в Ленинграде объявился Булатов. – Слушай, Юлия Павловна, – как всегда с улыбкой в голосе гудел он в трубку, – плюнь ты хоть раз на свои учебники, отбрось затворничество, все равно Муравко не оценит, присоединяйся к нам, махнем в «Европу», стол заказан. «И в самом деле, – подумала она, – сижу, как дура последняя, в центре Ленинграда, а люди живут как люди». И сразу сказала: – Я согласна, Олег Викентьевич. Где вы? – Что значит, где? Через десять минут буду на Фонтанке, собирайся. Олег представил ее своим товарищам по компании картинным наклоном головы и четким жестом ладони: – Юля. Моя любовь, моя печаль. Была шумная вечеринка, Юля много выпила вина, захмелела, болтала чепуху, выставляя себя многоопытной женщиной. Когда расходились, друзья Олега обнимали ее, пытались целовать, говорили банальные комплименты. Прощаясь у дома с Олегом, Юля спросила, где он остановился, и, узнав, что тот собирается искать гостиницу, безапелляционно сказала, что ночевать он будет у нее. – Мама в командировке, так что можете чувствовать себя как дома. Приготовив Олегу постель, она рядом положила плед. – Если будет холодно, дополнительный обогреватель. – Если будет холодно, – сказал Булатов, – я приду к тебе. – Тоже вариант, – бездумно согласилась Юля и пошла в свою комнату. «А ведь твои слова похожи на прозрачный намек», – подумала она и впервые в жизни изменила правилу ложиться в постель нагишом. Она слышала, как Булатов беспокойно скрипел пружинами дивана в мамином кабинете, как встал и подошел к ее двери, как замер в нерешительности. «Что же ты, намекнула и в кусты? – иронизировала в свой адрес Юля. – Давай, зови. Говорят, это совсем не страшно. Чем Булатов хуже твоего Коленьки?» – Олег Викентьевич, – позвала Юля громко, и он сразу открыл дверь. – Я понимаю, вас гложут сомнения: что подумает женщина о мужчине, если он даже не сделает попытки? Так вот я снимаю с вас этот тяжкий груз. Спите спокойно. Я буду думать о вас хорошо. Договорились? Булатов хмыкнул: – Это же совсем другое дело, Юля, а то у меня даже умыться сил нету. И уже из другой комнаты весело добавил: – Э-эх! Как я сейчас хорошо высплюсь! А письмо от Коли пришло на следующий день. Сумбурное, полное каких-то насмешек в свой адрес, письмо-предложение, потому что в постскриптуме была одна серьезная, долгожданная фраза: «Если не разлюбила, телеграфируй. Я прошу тебя стать моей женой». Она сразу же побежала на почту и дала ему телеграмму из двух слов: «Люблю. Юля». Муравко приехал через неделю, позвонил с Московского вокзала. – Устроюсь в гостинице и сразу к тебе. – Сразу, слышишь? Сразу ко мне. И никаких гостиниц. Потом, когда он вошел в дом, они порывисто прижались друг к другу и так, у открытой на лестничную площадку двери, простояли молча несколько минут. От его одежды неуловимо пахло аэродромом, холодным ветром, пахло теми запахами, которые всегда приносил домой отец. – Если у нас родится сын, – сказала она так, будто они уже муж и жена, – мы назовем его Федей. Это я такой зарок дала. – Хорошее имя, – согласился Муравко. Они в тот же день подали заявление, потом побродили по набережной, замерзли, потому что весна была только на календаре, а на самом деле еще стояла настоящая зима с пронзительным колючим ветром. Снежная жижа на мостовых, образовавшаяся от обилия соли, размачивала обувь, оставляя на коже белые разводы, и сыростью обволакивала ноги. Зашли в Манеж, не столько на выставку (отчитывались театральные художники), сколько хотелось согреться. По дороге домой накупили продуктов. И когда поднялись в квартиру. Юля совсем застыла и потому решила сразу принять горячую ванну. Уже совсем раздевшись, она вспомнила, что не захватила большое полотенце. Попросила, чтобы Коля взял его на верхней полке в платяном шкафу и подал ей. Понимала, что занавеска в ванной тонкая и прозрачная, что она может поставить себя и Муравко в неловкое положение, но чувствовала совсем другое: он мой, родной и близкий человек, пусть… Утром, за чаем, она спросила: – Расскажешь, почему не писал? – А, ерунда, – сказал он. – Значит, я угадала. У тебя была другая женщина. Муравко засмеялся. – Ты всерьез могла так подумать? – Я даже чуть замуж не вышла. За твоего друга Олега Викентьевича. С горя. Он очень настойчиво ухаживал. Честное слово, не смейся. – Все-таки я его зря из проруби вытащил. Муравко подошел к Юле, обнял за плечи, прижался щекой к ее волосам. – Хорошо, когда все тревоги позади, – сказал он. – Мое профессиональное будущее, Юля, по-прежнему весьма неопределенно. Впереди годы учебы, и завершатся ли эти годы полетом на орбиту, будет зависеть не только от меня. Но я все равно теперь спокоен. Главное, что ты со мной, что мы будем вместе. Он помолчал и снова заговорил каким-то сочувственно-печальным голосом: – Там, в Звездном, я заметил… Некоторые женщины живут исключительно ожиданием полета. Будто настоящая жизнь у них начнется только потом, а до полета, сегодня, это не жизнь, это прелюдия. Как на вокзале. А ведь каждый день нашей жизни – это день нашей жизни. – Перебросив акцент со слова «каждый» на слово «нашей», он заставил Юлю принять эти слова как жизненное кредо. Юля пообещала Муравко, что с нею подобное никогда не случится. Пообещала не потому, что хотела сделать ему приятное, она искренне разделяла точку зрения Муравко и так же искренне верила в свое обещание. В Звездный он привез ее сразу после окончания института. Юле выдали «свободный диплом» без назначения на работу. Коля уверял, что работы для инженера-прибориста с авиационным профилем в их ведомстве навалом. И Юля не сомневалась. За этой таинственной аббревиатурой – ЦПК – ей виделось нечто фантастически масштабное: многокорпусное высотное здание с бесчисленными переходами и коридорами, огромные лаборатории, производственная база, бетонированные подземелья для испытательных программ и многое другое. И когда они, миновав КПП, вышли к центральной аллее и Коля у памятника Гагарину показал ей рукой на служебную зону Центра, Юля даже растерялась. – Вот это и все? – Вот это и все, – улыбнулся он. – Если не считать, конечно, что где-то есть еще ЦУП, то есть Центр управления полетом, есть космодром со всеми службами, разбросанные по стране и по всем океанам пункты командно-измерительного комплекса, всякие разные КБ и предприятия, где делаются космические корабли и ракеты, институты… – А вот в этом здании, – Юля показала на круглую кирпичную башню, – конечно же, гидробассейн? – Центрифуга. Идем. – Он взял ее под руку, и они пошли к пруду, который Юля сразу узнала. Здесь обычно космонавты дают интервью телевидению. – Жить пока будем в американской гостинице. – Почему в американской? – Американцы здесь жили, когда готовилась программа ЭПАС. – Коля засмеялся. – Это так, неофициальное название. Идем, потом все разглядишь и все узнаешь. Машина ждет, надо вещи разгружать. Двухкомнатный номер Юле понравился, но дернул ее черт за язык задать этот дурацкий вопрос: – А квартиру когда дадут? Когда слетаешь в космос? Коля нахмурился, что-то буркнул в ответ, долго распаковывал чемоданы, развешивал одежду, и когда Юля, почувствовав угрозу ссоры, начала к нему подлизываться, он сел на кровать, растерянно опустил руки и, как бы сам себя, обреченно спросил: – Неужели это неизбежно – все время жить ожиданием? – Покусал губы, тряхнул головой. – Это ужасно, Юля. Сквозь распахнутое окно гостиницы доносились писклявые голоса девчонок, катавшихся у пруда на велосипедах, где-то недалеко начали гонять на форсаже авиационный двигатель, и Юля подумала, что никакая она не особенная, здешняя жизнь, обычная служба с гудящими турбинами (совсем как на Северном аэродроме), обычные дети, обычная гостиница, хотя и называется «американская», и жить надо обычно, как везде. По мере возможности – интересно. Все это Юля спокойно сказала Коле, сидя у него на коленях, и, чтобы окончательно убедить его, что она искренне так думает, взяла его руку и положила себе на живот. – Слышишь? – сказала ему впервые, хотя сама о своей беременности знала давно. – Федор Муравко. Так вот в его присутствии заявляю тебе, что самое главное для нас с ним – твоя любовь, а не твоя слава. И я клянусь, мы будем делать все, чтобы эту любовь заслужить. Он поверил. Благодарно и нежно целовал ее, опрокинув на неразобранную кровать, сам раздевал, ласкал, вглядываясь в лицо, носил в постель чай с вареньем, и все шептал и шептал ей в ухо, что самый счастливый человек на Земле, это он – Муравко Николай Николаевич. На следующий день Коля рано умчался на занятия. А Юля, проспав до одиннадцати часов, неторопливо выпив чашку кофе, надела свои видавшие виды джинсы (надо поносить, пока нет живота), какую-то спортивную кофточку из своего девичьего гардероба, сунула под мышку целлофановый пакет (на всякий случай) и отправилась знакомиться с городом Звездным. «Ну, что – чистенько и уютно, – говорила она себе, – зелено и тихо. А все остальное, как в обычном ленинградском микрорайоне». И действительно. Обычные магазины, привычный ассортимент, заурядная столовка со стандартным набором блюд в меню, такие же, как везде, незаинтересованные в покупателе продавцы, такие же шумные официантки в кафе. Единственным человеком, кто ее заметил, как новенькую в этом городке, был начальник Дома культуры, который здесь назывался Домом космонавта. Увидев, как Юля внимательно разглядывает летящую бронзовую фигуру человека в скафандре, он подошел, поздоровался, назвал себя и уверенно спросил: – А вы, наверное, жена моего тезки, Коли Муравко? – Да, – сказала она и протянула руку. – Юля. – Это вы для Муравко Юля, – засмеялся офицер, – а для меня, как и для всех – Юлия… – Павловна, – подсказала она. – Юлия Павловна. Очень приятно. С прибытием вас в нашу дружную семью. Сегодня вечером в Доме космонавта встреча с мастерами искусств Таджикистана – День Таджикской республики проводим, так что милости просим. А для начала вам надо обязательно посмотреть наш музей. Он провел Юлю в кабинет первого космонавта, сказав, что начинать осмотр музея лучше всего отсюда, спросил: – Сами будете или нужен экскурсовод? – Сама попробую, – смущенно сказала Юля. – И правильно. Первый раз надо самостоятельно. Он кивнул и оставил Юлю наедине с кабинетом Гагарина, с предметами и вещами, которые, казалось, еще хранили тепло его рук, помнили гагаринские глаза и заразительно открытую улыбку. Вместе с тем на Юлю пахнуло и холодом музейной вечности, который она ощущала всякий раз, когда слышала слово «мемориальный». В кабинете не было таких экспонатов, которые требовали особо длительного изучения, но уходить Юле отсюда не хотелось. И она вдруг поняла почему: своею скромностью и рациональностью интерьер этой комнаты напомнил ей рабочий кабинет отца, когда он командовал полком. Музей на Юлю не произвел какого-то ошеломляющего впечатления. Спускаемый аппарат «Союза» показался даже примитивным в сравнении с современным истребителем. Позабавили эти всякие тубы с соками и пастами, баночки, пакетики, составляющие рацион космонавтов. И только парашют Юля рассматривала долго и внимательно, ткань, тесьму, стропы. И когда дошла до массивной стальной стреньги и убедилась, что она так же надежна, как в тормозном парашюте самолета, начала с интересом изучать космический скафандр. Пока Муравко был кандидатом в космонавты, пока занимался общекосмической подготовкой, Юля не думала ни о его, ни о своем будущем. Работать она устроилась в одном из космических КБ в группе разработчиков программно-временного устройства. Немного утомляли ежедневные поездки на электричке и она как-то подумала, что хорошо бы Коле скорее купить, как все космонавты, свою машину, заезжал бы за ней хоть изредка. Но, посчитав, сколько понадобится времени, чтобы скопить необходимую сумму, решила о машине даже не заикаться. Когда родился Федя, заботы о нем оттеснили на второй план все остальное. Ей стало трудно надолго отлучаться в магазины, и она решила воспользоваться столом заказов Звездного. Но, то ли она не в ту дверь вошла, то ли неточно объяснила свою просьбу, ей сказали, что на квартиру продуктовые заказы не доставляются. «Ну и ладно, – подумала Юля, – справимся сами». Теперь ей, по крайней мере, стало окончательно ясно, что жизнь в Звездном городке в бытовом отношении не имеет никаких преимуществ перед жизнью обычного авиационного гарнизона. «Как все». Юля не огорчилась, утверждаясь в мысли, что Звездный живет такой же жизнью, как все. Она даже почувствовала прилив гордости за свою причастность к коллективу маленького городка, который славен великими делами его жителей, а не особыми привилегированными условиями. Пришло успокоение, и Юля вскоре забыла, что ее тревожил какой-то душевный разлад, преследовали неотвязные мысли. После завершения общекосмической подготовки Колю включили в состав группы, закрепленной за определенным типом космического корабля. И хотя впереди еще предстояла подготовка в составе экипажа по конкретной программе, которая является общей для двух-трех экипажей, и абсолютно никто не мог предсказать, какой из них станет основным, а какие дублирующими, Юля, узнав эту новость, почувствовала нетерпеливое волнение. Она возбужденно поздравила Колю, весь вечер висла на нем, целовала и втайне пыталась представить, как он будет выглядеть, когда вернется из космоса. Коля терпеливо улыбался, беззлобно отшучивался, а перед сном спросил: – Разлюбишь, если не стану знаменитым? Юля поняла, что «бытие» опять захлестнуло ее «сознание». Она прижалась к нему, обвила шею руками и сказала, как это умела говорить только она: «Дурачок ты мой…» Два последних года Юлю совершенно не тревожили честолюбивые мысли. Почти ежедневно они вместе относили Федю в ясли, и Коля нередко провожал ее до электрички. Когда позволяла обстановка, приходил встречать. Оставляя Федю под наблюдением соседки, ездили в московские театры, смотрели спектакли, на которые удавалось достать билеты. Да и в городке чуть ли не каждый вечер выступали в Доме космонавта заезжие звезды. Жизнью своею Юля была довольна. Она так и матери говорила, когда та звонила из Ленинграда или заезжала на несколько часов в Звездный. Муравко не попал даже в дублирующий экипаж. Юля восприняла это известие без огорчения. Понимала – рано ему. Искренне успокаивала Колю, просила смотреть на все философски, убеждала, что все, что ни делается в этом подлунном мире, – к лучшему. Юля уже верила, что окончательно выздоровела и полностью избавлена от той болезни, которую Коля называл «томительным предвкушением». – Хворь эта, – говорил он, – не проходит бесследно, если ее не задавить в зародыше. Она обязательно даст осложнение: или головокружение, или разочарование. И вот опять рецидив. Неожиданный, неуправляемый, оставивший, мутный осадок в душе. Коля в тот день вернулся из Центра управления полетом после ночного дежурства, перед самым ее уходом на работу. Юля уже наводила, как говорится, последние штрихи туалета – аккуратно подкрашивала губы. – Отставить! – скомандовал он весело. – Крашеными губами целовать не разрешу. Подхватил на руки с улыбкой бегущего по коридору Федю, подбросил, прижал к себе. – Краску вытерла? Целуй. – Он с ходу подставил Юле губы. – Есть за что? – поддерживая шутливый тон, спросила Юля и вытерла салфеткой губную помаду. – Сначала целуй, а вопросы потом. – Так что произошло? – спросила Юля, поцеловав мужа. Муравко опустил на пол сына и посмотрел на часы. – Сегодня улетаю на Байконур. Юля заволновалась. – Тебя включили в экипаж? Улыбка на лице Коли погасла. – Полагаешь, что это единственный повод для радости? Ох, Юлия Павловна… – Муравко перешел на какой-то театрально-шутливый тон; он всегда таким образом прятал свою обиду. – Человеку дали первое самостоятельное задание, определенные полномочия. И куда? На Байконур! На первый космодром страны! Разве это не свидетельство высокого доверия твоему благоверному? Только вслушайся, как звучит: кос-мо-дром! – Кос-мо-дром! – четко повторил Федя. – Во! – обрадовался Муравко. – Дитя понимает. – Просто ты такой сияющий вошел, что я подумала… Юля понимала, что своим вопросом выдала глубоко упрятанные сокровенные надежды, понимала, что Коля все понял, и ей стало стыдно. Захотелось оправдываться, просить прощения, но нужных слов она как-то сразу не нашла и от досады лишь глухо вздохнула. А Коля этот вздох расценил по-своему и еще больше расстроился. Чтобы как-то замять образовавшуюся натянутость, он стал рассказывать о своем разговоре с Владиславом Алексеевичем, о том, что скоро у них начнется новый этап подготовки, где будет преобладать летно-испытательная работа – дело конкретное, интересное и, главное, – полезное для авиации и космонавтики. – Видеться будем в основном по выходным, – уже всерьез сказал Муравко. – А может, и реже. Это, конечно, грустно. Но зато после Байконура будет Ленинград. Ольге Алексеевне уже давно пора показать внука. Верно, Федор Муравко? – Верно! – обрадовался Федя. Юля сняла с вешалки Федькину курточку и, поймав сына за руку, начала одевать его. Новости, которые Коля выложил одним махом, требовали осмысления. И особенно эта: «…будет преобладать летно-испытательная работа». Вся сознательная жизнь Юли прошла под звуки авиационных двигателей, под нескончаемые разговоры о самолетах, их достоинствах и недостатках, история реактивной авиации перед ней раскрывалась в живых лицах. Что такое летно-испытательная работа, она представляла. – Коля… А это обязательно? – Что ты имеешь в виду? – Ну, что только по выходным? – Что тебя смущает? – Я не забыла еще ту твою посадку. При одном воспоминании останавливается сердце. Муравко обнял одной рукой Юлю, другой притянул к себе Федю, обоих легко встряхнул. – Вы же военные люди. И прекрасно знаете – приказы не обсуждаются. Их надо четко исполнять. Правильно я говорю, Федор Муравко? – Правильно, папа, – убежденно согласился Федя. – По выходным и даже реже, – Юля думала о своем, – веселенькую перспективу нам папа готовит. – Ну, Юля… – Я с ума сойду. – Все, – сказал Муравко решительно, – закрываем тему. Программа это, понимаешь? Не пройду – полета в космос не будет. А ты ведь хочешь… – Да ничего я не хочу, – нервно оборвала его Юля и стала молча одеваться. Она понимала, что провожать Колю в командировку с таким настроением нельзя, что надо как-то разрядить сгустившуюся атмосферу, но как – не знала. И брякнула первое, что пришло на ум: – Лучше бы мы остались с тобой в полку. Муравко удивленно посмотрел на жену. – Что-то новое в нашем репертуаре. – Думаешь, я не вижу ничего? – Юля смотрела мужу прямо в глаза. – Думаешь, не понимаю? Который год ты здесь, а все в учениках, в приготовишках. И перспектива в абсолютном тумане. Легко, думаешь, слушать, как ты по ночам вздыхаешь? Нет, Коля не поверил, что эти ее слова были продиктованы заботой о нем, о его настроении. Он остался при убеждении, что у его жены появился зуд нетерпения. Он ничего не сказал Юле, ничем не упрекнул, но она чувствовала его мысли безошибочно. И понимала, если станет оправдываться, еще больше усугубит свое положение. – Да, – сказал Муравко убежденно. – Нам действительно пора отдохнуть. Идите, на работу опоздаешь. Да и мне пора собираться. Поцеловал сына, чмокнул в щеку Юлю и быстро прошел в спальню. Все это очень походило на первую семейную ссору, хотя никто из них не произнес ни одного грубого слова, не оскорбил ни взглядом, ни жестом. На работе Юля впервые узнала, что скрывается за фразой «все валится из рук». У нее в буквальном смысле валились из рук карандаши, она уронила на пол флакон с тушью, трижды начинала чертеж схемы и трижды выбрасывала его в корзину, пыталась выполнить простейшие расчеты, но палец упрямо путал клавиатуру, не желая попадать на нужные цифры. Предельно ясные формулировки справочника не могли пробиться к сознанию, хотя Юля перечитывала их по нескольку раз подряд. Такого с нею еще никогда не было. Даже в те жуткие дни, когда от Коли перестали приходить письма и она убедила себя в непоправимом. «Может, ты разлюбила его, Юля?» – спросила она жестко самое себя. И вместо ответа вспомнила ту первую ночь, когда сама пришла к нему в комнату, когда держала в ладонях его лицо, вглядывалась в темные зрачки, держала нежно и бережно, словно боялась расплескать подаренное судьбою счастье; вспомнила, как тихо радовалась своей и его неопытности, подсознательно удивляясь полному отсутствию стыдливости; как отрешенно вслушивалась в новое чувство, пронзившее каждую ее клеточку, и как сказала ему в ту ночь слова, похожие на клятву: «Что бы ни случилось, знай – моя жизнь принадлежит тебе». Они потом целые сутки провалялись в постели. Коля сам кухарничал, сам привозил ей на сервировочном столике какие-то закуски, кофе, готовил бутерброды. Они бы наверняка провалялись и вторые сутки, если бы из аэропорта не позвонила мать. Ольга Алексеевна поняла все, и сразу. По-матерински взъерошила упрямый чуб на голове Муравко, посмотрела ему в глаза, попросила: – Побереги ее. Хотя бы до моей смерти. Другую руку положила на голову Юле. Словно благословляя, сказала: – Она не огорчит тебя. «Ах, мама, моя мама. Ах, моя многоопытная мамуля! И на каком же основании ты не скупилась на такие рискованные заверения? Что виделось тебе за этими словами?» Скорее всего, Ольга Алексеевна была убеждена, что ее дочь сделала правильные выводы, наглядевшись на непутевых своих предков. Это ж надо было ухитриться вступить в брак и не прожить вместе даже одного года! Может, знала про Юлю какой-то материнский секрет? Не могла она просто так бросить такие важные слова – надо знать Ольгу Алексеевну. «Могла, не могла – дело не в этом. Почему ты смогла огорчить его? Тем более, что знаешь – только с ним ты и можешь быть счастливой». Она уже была готова к полному раскаянию, уже представляла, как расслабленно повиснет на его шее и будет покаянно плакать, радуясь очищающим душу слезам: «Я люблю тебя, значит, все пусть будет так, как лучше тебе». В последующие дни она приходила в свою «контору» собранной и успокоенной, думала о предстоящей встрече и тихо радовалась: «Конечно же, я люблю его. И конечно же, пусть все будет так, как лучше ему». Сегодняшний звонок Булатова что-то нарушил в привычной схеме ее логических построений. Юля уже не сомневалась, что за шутливыми признаниями Олега в любви скрывается нечто серьезное, и, хотя сочувствовала этому взрослому и достаточно самостоятельному человеку, выслушивала его с затаенной радостью. «Он бы, – думала Юля, – делал все, как лучше мне…» И неожиданно спросила себя: «А почему Коля не хочет делать так, как лучше мне? Почему только о себе думает?» Она стала искать в памяти хотя бы один случай, когда Муравко хоть чем-нибудь поступился ради нее, что-то сделал вопреки своему желанию только потому, что так хотела Юля, и с неизвестным ей ранее удовлетворением убедилась: таких случаев не было. И не потому, что Коля твердолобый упрямец или, хуже того, семейный тиран, узурпировавший власть. Нет, просто она сама всегда и во всем шла за ним. Сама. Даже ради шутки не проявила характера и не попыталась хотя бы раз настоять на своем. «Приучила – теперь расплачивайся. Так тебе и надо». И тут же справедливо подумала, что подчинялась и шла за ним не без радости, что рабство это было сладким и счастливым, а желание «бунтовать» показалось бы самой смешным. Конечно, ей не стоило заводить разговора о его работе. Она и в полку не одобряла поведение женщин, которые слишком рьяно вмешивались в служебные дела своих мужей. Это всегда кончалось плохо. Знать, чем живет близкий тебе человек, надо. Какая же без этого семья? Но вмешиваться – тут нужны максимальная чуткость и осторожность. Почему же, понимая это, она все-таки наделала глупостей? Да потому что, кроме понимания еще необходимо иметь что-то за душой. Полет в космос хотя и праздник, но сопряжен с большим риском и еще большим трудом. Орбита венчает годы работы и ожидания. Но жизнь никогда не состояла из праздников. Главное, чтобы радостью были наполнены будни, чтобы праздники их не заслоняли своей ослепительной тенью. Праздники – это станции и полустанки на длинной дороге будней. Вот Чиж Павел Иванович, ее отец… Ольга Алексеевна, ее мать… Как они жили? «Ты, Паша, поезжай один, мне надо закончить учебу». И Чиж безропотно ехал один на Север. «Ты, Паша, потерпи, я защищусь». И Чиж терпел, ждал. «Мне, Паша, лабораторию дали, такое случается один раз в жизни». И Чиж молчал, надеялся. Потом она институт возглавила, важной птицей стала, а бедный Чиж все ждал и ждал. И, не дождавшись, – умер. Так что же, он был вовсе несчастливым человеком? Ерунда. У него было меньше, чем у других, праздников, но зато значительно больше прекрасных будней. Именно буднями он и был счастлив. Муравко волей обстоятельств поставлен в условия нелегкого ожидания, в своеобразную очередь на полет, который по своей сложности и государственной значимости приравнен к подвигу. Однажды он признался Юле, что его смущает существующее положение о награждении космонавтов. «Человек всегда должен жить и поступать в соответствии со своими убеждениями и возможностями. И если он совершает нечто по приказу души и сердца и ему за это присваивают звание Героя, тут все мне понятно. Когда же человек заранее знает, что идет на героический подвиг, им может двигать не убеждение, а корысть. Есть тут какая-то безнравственность». Был момент, когда Коля хотел просить об откомандировании его в авиаполк. Юля активно воспротивилась. Что безнравственного в том, что полет на орбиту имеет заранее известную цену – Золотую Звезду Героя? И в годы войны многие летчики, ставшие Героями, знали, что могут быть удостоены этого звания за определенное количество сбитых самолетов. А при форсировании Днепра? Те, что шли первыми, были предупреждены: переплывешь, закрепишься, станешь Героем. Прецеденты, которые никогда ни у кого не вызывали даже тени сомнения. Потому что всем заранее было известно, какие требуются усилия духа и воли. Случайности исключались. То же и в космонавтике. Само ожидание полета достойно награды. Юля, слава богу, знает не понаслышке, сколько работают обыкновенные летчики в обыкновенном полку, чтобы постоянно поддерживать себя в форме. Объем работы космонавта, особенно в период подготовки по конкретной программе, если не вчетверо, то втрое, наверняка, больше. Так какого черта казнить себя и выдумывать несуществующие сложности? Разве каждому по плечу такая ноша? Разве все желающие попадают в отряд? «Дурачок ты мой, – сказала она ему, – я знаю, что говорю, поверь моему женскому чутью…» И он поверил. Так почему же она сама теперь проявляет нетерпение? Глупеть стала, что ли? Завернувшись в банное полотенце. Юля выдернула за цепочку пробку от ванны и, глядя, как тает зеленоватая вода, снова вспомнила звонок Булатова. И снова пожалела, что не смогла поговорить с ним. Кто-кто, а Олег Викентьевич мог бы одним махом рассеять все ее сомнения. «Какой разговор, какие вопросы! – сказал бы он. – Надо все подчинить одному: полет в космос во что бы то ни стало! И как можно быстрее! Я же на каждом перекрестке буду рассказывать, как я его из проруби вытащил и спас для человечества Героя! Что? Не я его, а он меня? Ну какая разница, кто кого вытащил? Важно, что вытащил!» Она еще раз заглянула в кроватку к Федору, поправила одеяльце и вспомнила другого Федора – Ефимова. Человека с редкой способностью быть всем нужным и при этом оставаться в тени, однолюба с броской наружностью блондина-сердцееда, мягкого и наивного добряка, умеющего постоять за свои убеждения. Нет. Ефимов не одобрил бы ее поведения. И в разговоре с нею не стал бы лукавить. Сказал бы, как тогда на Севере, жестко, убежденно: «Любить – значит, верить. И никаких сомнений, слышишь? Ни под каким видом!» Юля поставила будильник поближе к дивану и натянула одеяло к самому подбородку. Где-то неподалеку пролетел тяжелый самолет, и снова повисла звонкая тишина, было даже слышно, как ветер тугими толчками пробует крепость оконных стекол, как тихо щелкает невесомой снежной крупой по водосточной трубе. Уже засыпая, Юля остро пожалела, что Ефимова нет рядом с ними. Зато с удовлетворением похвалила себя за обещание, и сына родила, и Федором назвала. И все-таки заснула с тревожным чувством надвигающейся беды. И снился ей разлившийся пруд у Американской гостиницы, и бегающий по берегу Федя. Она не заметила, как мальчик поскользнулся на мокром склоне, увидела только пузырем вздувшуюся на воде его желтую курточку и беспомощные движения детских ручонок. Она рванулась, падая, протянула руку, чтобы схватить уходящую под воду куртку, но опоздала и попыталась нырнуть, потому что Федя уже неподвижно лежал на дне пруда вверх лицом с открытыми глазами. Юля отчетливо поняла, что нырять надо с разбега, потому что шубка, которую она надела для прогулки по Звездному, очень легкая и будет ее держать на поверхности, как спасательный жилет. И еще поняла, что, пока она выберется на берег, пока снова нырнет, Федя захлебнется. Она проснулась с бешеным сердцебиением, и заплакала от счастья, что все случившееся – всего лишь только сон. 9 Паша Голубов неплохо знал и теорию, и практику вертолетной авиации. Он понимал, что взлететь с такой загрузкой да еще в разреженном горном воздухе Ефимов не сможет. И когда вертолет, набрав максимальные обороты, начал валиться в пропасть, Пашка почувствовал леденящую душу тоску. «Ну, все», – сказал он про себя. Тьма сомкнулась, как океанские волны над утопающим кораблем. Пашка ждал удара, взрыва, треска. Но из невидимой глубины ущелья неслись какие-то приглушенные, булькающие звуки двигателей. «Как из преисподней», – подумал Пашка и начал считать мгновения до удара. Он считал до десяти, до двадцати… И когда досчитал до ста, окончательно понял, что Ефимов не падает, а летит. И не просто летит, а уже набирает высоту, выгребаясь из опасной зоны. – Ты слышишь, Коля, – спросил он стоящего за спиной борттехника, – они летят? Они летят, Баранчик! Летят!.. Ах, черт меня задери, последние секунды я им отсчитывал. А они летят. Понимаешь? Теперь – все! Долетят. Зря остались, надо было с ними. Дураки. – Не надо, товарищ капитан, – в голосе Коли Барана прорезались повелительные нотки – так он еще никогда не позволял себе говорить с Пашей. – Что не надо? – Вы же сами приняли решение. И правильное, как видите. Там каждый килограмм мог стать решающим. Зачем опошлять… – Не делай из меня героя, Баранчик. Я согласен, вертолет подняться с таким грузом не мог. Может, поэтому я и не захотел в нем лететь. А ты вообразил… Сели бы – и прямиком на тот свет. А тут, хоть темно и сыро, но шанс остается. В вязкой темноте заскрипели под подошвами камни. Коля Баран не стал слушать Пашу. Ушел подальше. «Ишь, телок, характер показывает, – подумал Голубов, – взял и послал старшего товарища. Про себя, конечно, но послал. К Фенькиной маме. Потому как родился парень не где-нибудь, а в самой Баламутовке». Эхо скал еще доносило оборванные всплески вертолетного клекота, но тишина диких гор уже начинала давить на перепонки. И когда затих последний, едва к ним пробившийся звук то ли пулеметной стрельбы, то ли перегруженных турбин вертолета, тишина сомкнулась и зазвенела в ушах на одной тревожной ноте. Голубов почувствовал, как быстро остывает вспотевшая спина, как вдруг заныли от дикого напряжения плечи. – Слышь, Баранчик, а ловко мы их загрузили! – крикнул он в темноту. Но Коля Баран не отозвался. И Голубов с тревогой метнулся туда, где только что слышался скрип щебенки – не сорвался бы дурачок в пропасть! Сделав несколько шагов, Паша споткнулся, выругался, присел на какой-то железный ящик – самому бы не загреметь. Снова подступило чувство радости за Ефимова, подступило спокойно и осмысленно, второй волной. Порадовался и за себя, что вовремя сообразил остаться здесь, хотя уже отчетливо стал понимать, в какую ловушку они угодили, а ну разразится буран… Остро захотелось курить, и он вспомнил, что сигареты где-то в брошенной меховой куртке. Там и зажигалка, и фонарик. Пока светила фара ефимовского вертолета, фонарик был ни к чему, да и курить некогда было. А вот теперь – захотелось. Теперь в самый раз. – Слышь, Баранчик, ты где? И почему молчишь? Я потерял ориентировку. – Здесь я, – как-то тихо и надтреснуто ответил техник. Паша догадался, что Коля Баран плачет. Это худо. У мальчика не выдержали нервы. Первый раз в такой передряге. Пока работали, как сумасшедшие, держался. А чуть расслабился, и нервишки пошли шалить. Увидеть сразу столько боли и крови и не дрогнуть, тут может выдержать только такой твердокожий, как он – Пашка Голубов. И все-таки надо как-то налаживать жизнь. В кромешной тьме, в тишине, в холоде, но жить. «И, по возможности, хорошо». – Фонарь есть? – Потерял. Паша сделал несколько шагов на голос и чуть не свалился на бедного Баранчика. «Такая каланча на такого шкета. Никакие косточки не выдержат». Сел рядом, обнял, потрепал как ребенку загривок. – Задача номер один – костер. – Засекут… – Если «духи» поблизости, давно засекли. Ночью они не полезут. В таких скалах сам черт не рискнет. А без огня нам каюк. Ни тепла, ни света. Я добываю из баков керосин, ты собираешь тряпье, деревяшки. – Он нащупал у ног несколько острых камней и начал швырять их в разные стороны. Глухое цоканье в темноте подтвердило наличие с правой стороны вертикальной скалы. Впереди, в нескольких метрах, разверзлась пустота – камешки улетели беззвучно. Даже тяжелый осколок гранита, прошелестев в воздухе, вдруг словно испарился. А слева сразу отозвался знакомый звук дюраля, стекла и стали. – Вот и сориентировались. В грузовом отсеке вертолета Паша стал на ощупь искать куртку, ударился обо что-то лбом, наткнулся на какой-то острый предмет, рваный металл, нащупал рукой на полу что-то липучее. И сразу догадался – кровь. Воображение нарисовало сюжет: будто он ранен и лежит в луже крови без всякой надежды на помощь… Представил, как испуганно вскрикнет Марианна, как подурнеет от горя ее лицо и покраснеют от слез великолепные доверчивые глаза, услышал траурные звуки оркестра, засмеялся и жестко прохрипел, сложив пальцы в фигу: – Вот вам, выкусите! Такого подарка от Паши не дождетесь. В конце концов он нащупал свою куртку и нашел в ней фонарик. Включил его и в первую очередь поднял с пола два автомата, проверил исправность, присоединил магазины с патронами. Один автомат отдал подошедшему на свет фонарика Коле Барану. – Умеешь пользоваться? – Умею. – Баран обиженно забросил оружие за спину. – Возьми сумку. Запасные магазины к ней. И не снимай. Усек? – Усек. – Только без обид. С этой минуты назначаю себя начальником гарнизона. Конечно, это далеко не Баламутовка, но… Любой мой приказ – закон. Ясно? – Так точно. Битое стекло поблескивало в тусклом свете фонаря на каких-то войлочных подстилках, на окровавленных бинтах, на ранцах с боеприпасами. – Это на топливо, – отбрасывал Паша к выходу всякую рвань, – а это прибережем на всякий пожарный, – говорил, бережно разбирая оружие, патроны, гранаты. Фонарик выдыхался и свет его становился все слабее. А за разбитыми иллюминаторами вертолета стоял такой плотный мрак, будто искореженную машину запеленали в черное суконное одеяло. Не дожидаясь команды, Коля Баран попытался включить аварийный свет в грузовом отсеке, но электропитающая линия где-то была повреждена. Он вынул из плафона лампочку, сорвал свисающий с потолка пилотской кабины кабель и, попросив посветить, полез в аккумуляторный отсек. Фонарик вдруг погас. Голубов выключил его и включил снова. Лампочка лишь на секунду откликнулась слабым накалом и тут же погасла окончательно. Чертыхнувшись, Паша сунул фонарик в карман и ощутил под пальцами зажигалку. Снова захотелось закурить. Несколько глубоких затяжек одурманивающе расслабили тело, но зато просветлили мозги. Он разом охватил все случившееся, представил отвесную километровую высоту, глушь и еще острее понял, в какую ловушку угодили они с Колей Бараном. «И заметьте, по собственной инициативе». Звезды на небе не просматривались, вершины и хребты провалились во мрак. Значит, синоптики (научились, черти!) не ошиблись, в горах наверняка начиналась метель. К ним на уступ долетали пока лишь отдельные, самые легкие снежинки, тяжелые хлопья, видимо, проносились мимо. Пока не прояснится небо, пока поблизости не высадится десант, никто за ними прилететь не сможет. Ефимову после этого полета «предложат» отдохнуть (если долетит). Других просто не пустят. Разве что сам Шульга. Сколько же они с Баранчиком сумеют продержаться? Сутки, двое? Воды – ни капли. Жратвы – тоже. Плюс холод собачий и эта дурацкая неизвестность. – Давай-ка разведем костерчик, – сказал Паша. – Хоть махонький. Найдем сумку с инструментом и будем до аккумуляторов добираться. На-ка, вот, носилки. Тут жердь сломана, в огонь ее. В левой руке Голубов держал газовую зажигалку, подсвечивая длинным языком пламени, а правой торопливо выбирал все пригодное для огня, все, что осталось от одежды раненых, потому что среди табельного имущества вертолета, кроме керосина в баках, другого пригодного для костра топлива почти не было. Керосином заполнили цинковую коробку из-под патронов, пропитали в ней тряпье, обложили дощечками от какого-то ящика, кусками картона, щепками от сломанной жерди носилок, добавили несколько лохматых кусков черной резины от разлетевшегося в клочья колеса, и костер запылал с яростным треском, отхватив у ночи вполне приличный плацдарм. Нелепо смятая громада вертолета нависала над костром искореженной лопастью несущего винта, напоминая о разыгравшейся здесь трагедии. – Несущий винт придется снять, – сказал Коля Баран. – Да и рулевой тоже. Горючее слить. Иначе не поднять его. Работы на день. – Самим бы выбраться живыми. – Выберемся. Вывезли взвод, двоих как-нибудь вытащат. Паше хотелось думать так же. Но он приучил себя в любой ситуации готовиться к худшему. И, может быть, поэтому ему всегда удавалось сохранять оптимизм и избегать разочарований. Разочарования разъедают душу, превращают человека в безвольную скотинку. А если ты всегда готов сойтись лицом к лицу со смертью, а она тебя обойдет, это уже в твоей жизни потрясающий праздник. – То, что сделал Ефимов, можно сделать один раз в жизни. – Говоря эти слова, Паша не лукавил. Это было близко к правде. – Да и то… Если не знаешь, что именно тебя подстерегает. Он потому и уцелел, что ни хрена не видел в темноте. Ва-банк шел. А увидел бы, начал дергаться, суетиться… И все. Кранты. Понял? – Никак нет. – Баран остро зыркнул на него глубоко провалившимися глазами. – Чего ты не понял? – Ефимов не вслепую шел на риск. Он все рассчитал. – Много стал понимать. Не вслепую… – Да уж кое-что понимаю. – Ну-ка, ну-ка… Бунт на корабле? Ну нет! – решительно рубанул воздух Паша. – Я слагаю с себя обязанности начальника гарнизона. Товарищ Баран, принимайте командование. – Есть принять командование, – спокойно согласился Коля, поправляя тлеющие тряпки. Пауза затягивалась, и Паша напомнил: – Командуй, я жду распоряжений. Коля подумал, осмотрелся. – Возьмите, товарищ капитан, войлочную подстилку, – сказал он, – ложитесь отдыхать. Через два часа смените меня. – А ты не заснешь? – Прошу без пререканий. – Автомат держи на коленях, понял? – Разберусь. – Со снятым предохранителем. – Спокойной ночи, товарищ капитан. – Раскомандовался… Салага. Дорвался до власти. Смотри, как выдвинул, так и задвину. Баран не ответил на его выпад, и Паша, подложив под щеку согнутую руку, попытался заснуть. Но стоило ему закрыть глаза, как снова возвратились только что пережитые виденья, завертелись путаной каруселью, наползали одно на другое. Он вдруг удивился своему бесстрашию, когда почти бегом заносил раненых в висящий над пропастью вертолет. Ведь один неверный шаг в темноте и лететь ему туда не долететь… Но Федя-то, Федя! Будь Пашка на левом сиденье, озолоти – не рискнул бы. Да и чего там темнить, хотел бы – не смог. Вертолетчики знают, особенно здесь, в Ограниченном контингенте, что теоретически такой прием возможен: сваливание перегруженного вертолета вниз с последующим набором высоты. Но теоретически и петлю Нестерова на вертолете можно выполнить. Только кроме основательно поднаторевших спортсменов никто пока на это не решился. А вот Ефимов, если понадобится, и петлю крутанет. Этот все может. Паша посмотрел на часы. Ему казалось, они с Колей уже целую вечность торчат на этом диком утесе среди безлюдных скал. Но часы были бесстрастны: после отлета Ефимова прошло около пятидесяти минут. «Многовато он здесь керосинчика сжег». Закинув за спину автомат, борттехник опять полез в затемненное чрево разбитого вертолета, на ощупь там звякал какими-то железками, вынес смятую коробку, ручной пулемет, сумки с магазинами. У подножия скалы выложил из камней нечто похожее на бруствер. «Пусть складывает, – подумал Паша. – Вряд ли кто их тут достанет, но быть готовыми надо. Для душманов эти скалы дом родной, через любую щель пролезут». Он закрыл глаза и представил Марианну. Круглолицую, застенчивую и бесстрашную. Как она не хотела, чтобы он уезжал в Афганистан. Как хорошо ему было с нею! А какие письма девчонка шлет – обалдеть! Какие слова! Невероятно – чтоб так влюбиться! Голову теряет, ждет не дождется. А просит только об одном: останься живым. Свихнулась девка. Но хороша, чертовка курносая, – мягкая, уютная и, что больше всего тронуло Пашу, деликатная. Многих он знал, вот таких скорых на любовь, и в общем-то не высоко их ставил, забывая чуть ли не на следующий день, а эта забрала. И не отпускает. Говорят же, что у каждого человека где-то мается на земле только ему предназначенная половинка. Найдет ее – будет счастлив всю жизнь. Схватится не за свою – так до смерти и промучается. Может, она, Марианна, и есть именно его половинка? Недоработал в этом деле Всевышний. На самотек пустил. Установив на каменный бруствер пулемет, Коля Баран еще раз подбросил в костер смоченное в керосине тряпье и опять полез в разбитый вертолет. Он отдавал должное командиру машины, сумевшему разглядеть на отвесной скале высотой в несколько километров крохотную ступенечку и точно попасть на нее почти неуправляемым вертолетом. И относительно благополучно за нее зацепиться. Это высокий класс работы. Будь площадка на несколько метров шире и чуточку ровнее, экипаж мог не пострадать. Но то, что сделал сегодня ночью Ефимов, Колю потрясло. Помогая Голубову вносить в грузовой отсек раненых, он всякий раз, выходя из вертолета, заглядывал к Ефимову в кабину, хотел навсегда запомнить лицо командира, чтобы потом, после, написать о нем стихи. Нет, лицо Ефимова не было красивым. Оно заострилось от перенапряжения, к потекам пота клеились мятые пряди светлых волос, в глазах была злость и тревога. Левая рука намертво держала рукоять «шаг-газа», правая – ручку управления. Капли пота текли по вискам, скапливались на бровях и блестели в тусклом свете плафона, будто осколки стекла в разбитом вертолете. И все-таки это было красивое, одухотворенное болью лицо. «Ни шевельнуться, ни дохнуть – нет мочи. На тонкой ниточке висит над бездной жизнь. И смерть из темноты – очами в очи… Но верный двигатель работает, дрожит». Рифма не очень, но он потом поправит, отыщет нужное слово. Он обязан написать об этом стихи. И послать их Алене. Если бы его сейчас спросили, чего он больше всего хочет в жизни, он не задумываясь ответил бы: переучиться на летчика и летать так, как Ефимов, – вдохновенно, дерзко, бесстрашно. На ощупь обнаружив за командирским сиденьем планшет, Коля выбрался к костру и проверил его содержимое. Кроме карты с небрежно прочерченным маршрутом (видимо, больше полагался на штурмана), здесь лежала мятая газета, тонкий блокнот с карандашными пометками, несколько конвертов… И фотография молодой женщины с близоруко прищуренными глазами. Эта близорукость придавала лицу какую-то милую беспомощность, и Коле вдруг стало страшно за эту незнакомую женщину: что, если ранение у мужа окажется смертельным?.. Было даже трудно представить, какая боль ослепит горем эти близорукие глаза. А сколько сил понадобится и мужества, чтобы выстоять, поверить в случившееся. Об этом тоже надо написать стихи. И не откладывать. Прямо сейчас в этом блокноте, у костра. Коля отыскал на дне кармана короткий, грубо заточенный карандаш (такие грубо заточенные огрызки он носил во всех карманах, чтобы в любую секунду, на любом подвернувшемся клочке бумаги записать взволновавшую мысль, подвернувшуюся рифму). И сразу вывел первую строку: «Женщины не верят похоронкам…» Смысл ее показался неточным. Он подумал и написал иначе: «Кто влюблен, не верит в похоронки». И снова остался недоволен написанным. Влюбленными могут быть и мужчины, а ему хотелось о женщинах… О таких женщинах, которые способны вечно нести в своем сердце память о любимом, ждать его, несмотря на официальное извещение о смерти, жить этим ожиданием. И написал: «Сошлись две женщины у роковой черты. Любовь и Смерть, глаза в глаза…» Это было ближе. Любовь не понимает, зачем понадобилось Смерти отнимать у нее того, кому не пришел срок уходить из жизни. А Смерть ей скажет, мол, хочу проверить, достаточно ли ты сильна. И поставит Любовь перед выбором: «Его я возвращу, но заберу тебя – согласна?» И рассмеется ей в глаза Любовь: «Какая же ты дура, Смерть, нам порознь не бывать! Иль возвращай его, иль забирай обоих!» Коля закрыл блокнот и впервые подумал о том, что эти стихи могут быть последними в его жизни. Отчетливо представил, как с рассветом их обложат душманы, бросят сверху гранату или просто возьмут в перекрестье снайперского прицела. Стреляют они здорово, не отнимешь. Раскаленная пулька легко пронзит его сердце, и оно навсегда остановится… Долго ли будет горевать его Алена? Мать ее лишь вздохнет для приличия, а в душе и порадуется, это однозначно. А как она сама? Сколько дней будет плакать? И вообще – что он знает о своей жене? Как должен думать о ней? В какой степени верить? Не выдумал ли он себе любовь? Огонь выдыхался, и Коля снова нацедил в цинку керосина. Обмакнул в нем вытащенные из пепла обгоревшие и еще тлеющие тряпки, бросил в костер. Пламя вспыхнуло высоко и ярко, вырвав из мрака вертолет и спящего на куске грязного войлока Голубова. Коля проводил взглядом взлетевшие к небу искры и прямо над собой увидел рассеченную ржавыми трещинами скалу. Она тяжело висела над площадкой, готовая в любой миг осесть, сползти, отколоться. А что? Запросто. И все… Никаких проблем… Сколько же они нагородили с Аленой заборов, сколько глупостей наделали! В литературное объединение Колю привел его друг – Сашка Коротков. И там познакомил с Аленой. – Вы тоже поэзией увлекаетесь? – спросил ее Коля Баран. – Больше поэтами, – вставил Сашка. Сашка потом признался, что давно знает Алену, что его родственники считают их не просто друзьями-товарищами, а чуть ли не женихом и невестой, и все пристают с вопросом, когда у них свадьба и что они себе думают? – Но никакие мы не жених и тем более не невеста, – сказал убежденно Сашка, – до случая. Она прилипчивая, как дворняжка. Сам убедишься. Как только влюбится в другого, тут и конец моему жениховству. Сашка был ясновидящим. Сначала они ходили везде втроем – в кафе, кино, на занятия литературного объединения. Затем у Сашки все чаше обнаруживались поводы куда-то исчезать, а перед выпуском из училища он и вовсе перестал видеть Алену. Это встревожило его отца – Платона Степановича, преподававшего в их училище историю. Задержав как-то Колю Барана после занятий в аудитории, он напрямик спросил: – Ты что же это отбиваешь у своего друга невесту? – Так он мне сам сказал, что между ними никогда ничего… – бойко начал Коля. – А ты и обрадовался, поверил. Да он ради друга от чего хочешь откажется. Эх ты, Коля… Никогда ничего… Он приходит из училища и часами сидит над ее фотографиями. Это только я знаю. А теперь и ты… Разговор с Платоном Степановичем потряс Колю. И он перестал встречаться с Аленой, хотя уже отчетливо понял, что любит ее. – Алена переживает, что ты избегаешь ее, – сказал как-то Сашка. – Да пошла она, – зло бросил Баран, – не хочу ее видеть! Он был убежден, что таким нехитрым приемом вернет своему другу невесту, реабилитирует себя в глазах Платона Степановича, которого глубоко уважал как бывшего военного летчика и как преподавателя. А со своим чувством, был уверен, как-нибудь совладает. Но затея его обернулась непредсказуемой бедой. Алена погрузилась в состояние тоски и безразличия и неожиданно для всех дала своим родителям согласие выйти замуж за человека, которого матушка ей безуспешно прочила в мужья уже несколько лет. И завертелось колесо предсвадебной кутерьмы: подарки, свадебные костюмы, поездки на «Волге» жениха, разговоры, вздохи… В день регистрации брака, когда свадебные машины катились по широкому мосту над рекой, невеста попросила остановить машину, чтобы бросить в воду «на счастье» цветы. Подойдя к металлическому ограждению, Алена перегнулась через него, взмахнула букетом, присутствующие и глазом моргнуть не успели, как невесту поглотила темная вода. Всем запомнилось только, как мелькнуло над перилами белое платье и как раскачивалась на волнах усыпанная блестками фата. При полной растерянности свадебной компании не потерял самообладания только Сашка Коротков. Разделся и прыгнул в воду. Жених от участия в спасении невесты отказался, сослался на то, что совсем не умеет плавать. Сашка почти с первого погружения отыскал на дне реки Алену. Белое платье, как он объяснял, было видно под водой за километр. И хотя Сашка родился у реки и неплохо плавал, справиться с безжизненно отяжелевшей ношей на быстром течении оказалось для него совсем не простым делом. Стараясь держать лицо Алены над водой, он мог грести только одной рукой; работать ногами мешало ее свадебное платье. Когда к ним подошел спасательный катер, Сашка уже до тошноты нахлебался речной водички. В больнице Алена пролежала больше месяца. Она никого не хотела видеть, просила врачей никого к ней не пускать. Первым разрешение на свидание получил Сашка Коротков. – Я тебе обязана жизнью, Саша, – сказала она, – и знаю, что ты любишь меня. И если ты захочешь, я стану твоей женой. Но только знай – люблю я другого. И всегда буду любить. – Можно ему к тебе прийти? – спросил Сашка. – Я буду рад, если вы… – Да, – сказала она. – Пусть придет. Было это накануне выпускных экзаменов, но Коля Баран упросил командира и в тот же день прибежал к ней. Алена лежала на высокой подушке, бледная, сильно похудевшая. Она беззвучно плакала и все время пыталась сквозь слезы улыбаться. Коля говорил ей, что она самая красивая, самая лучшая, что он любит ее, как никто никогда никого не любил, что жизни своей без нее не представлял и не представляет. А она только изредка шептала пересохшими губами: «Ты говори, говори еще…» Они все решили. В тот же день. Но неожиданно и очень активно их замыслам воспротивилась мать Алены. Будучи сама женой военного, промаявшись всю жизнь по отдаленным гарнизонам, она твердо решила не допустить повторения своей судьбы в судьбе дочери! Женское счастье она представляла совсем по-другому, и уж если себе его добыть не смогла, то для дочери ничего не пожалеет! «Если ты станешь женой военного, – пригрозила она дочери, – тебе придется перешагнуть через мою смерть». Мать есть мать, и Алена, с детства подмятая напором ее воли, дрогнула, предложила Коле не спешить, выждать момент. Тем временем родители возобновили подготовку несостоявшейся свадьбы, в дом к ним зачастил с подарками тот самый жених, который не умел плавать. А когда в училище гремел и бурлил выпускной вечер, на который Алена пришла в сопровождении матери, Колины друзья организовали классический побег, купили билеты на самолет, заказали такси, отвлекли «охрану». Через несколько часов юные влюбленные приземлились в Ленинграде. Приютил их брат Колиной мамы, попросту дядька. Он с интересом выслушал рассказ о побеге, но признался, что верит во все случившееся с трудом: – В наше прагматичное время и такие шекспировские страсти, увольте… Но когда через неделю в Ленинград прилетела мать Алены и начала буквально по пятам преследовать дочь, дядька возмутился. Отвез племянника с невестой к знакомому заместителю председателя райисполкома, объяснил, что молодой лейтенант через несколько дней убывает служить в Афганистан и что надо помочь ему в порядке исключения срочно зарегистрировать брак. Зампредрика оказался азартным мужиком, с кем-то созвонился, кого-то уговорил, и уже к концу дня Коля Баран перестал быть холостяком. Молодожены поехали в гостиницу, чтобы показать матери Алены брачное свидетельство, успокоить ее. Но в ответ последовала истерика, и Коля вернулся к дядьке один. Через неделю Алена вместе с матерью уехала домой, а Коля Баран – к месту дальнейшего прохождения службы. Летая над этими дикими горами, над выгоревшими пустынями, над зелеными плодородными долинами, Коля все время думал об Алене, рассказывал в письмах ей о том, что видит здесь, посылал короткие стихи. Дни, проведенные в Ленинграде, обрели в его воспоминаниях романтическую окраску, желаемое в них перемешалось с действительным, все, что было наяву, казалось фантастикой. Каких он только не напридумывал сюжетов их первой после разлуки встречи. Ему до сегодняшнего дня и в голову не приходило, что встреча может не состояться. Понимал, что Алена по-прежнему подвергается обработке со стороны матери, женщины вздорной, упрямой и самолюбивой. Она никогда не смирится, что дочь ослушалась ее и поступила по-своему. «Жизни лишусь, – сказала она Коле при последней встрече, – но сделаю так, как я решила». Он знал, вода и камень рушит. Но письма Алены были переполнены спокойной нежностью, надеждой на скорую встречу, ожиданием того дня, когда не надо будет разлучаться на долгий срок. После каждого такого письма он обретал душевное равновесие, с особым старанием выполнял служебные обязанности, писал стихи, полные то грусти, то оптимизма. Сегодня он впервые подумал о том, что его Алена, не узнав по-настоящему того, что связано со словом «жена», может неожиданно испить всю чашу горечи, сопутствующей слову «вдова»… И он приказал себе: собраться в кулак, быть осторожным и хитрым, ничего не делать наобум, но и не уронить достоинства. Теперь у него был пример для подражания на всю жизнь – майор Федор Ефимов. Мигнув лохматым языком пламени, костер внезапно задохнулся и угас. И Коля сразу увидел, как на противоположной стороне ущелья черный гребень гор отхватил изломанной чертой половину посветлевшего неба. Обрисовался профиль разбитого вертолета, верхний срез, тяжело нависший над уступом каменной скалы. Рассвет набирал силу. Надо будить Голубова, надо браться за работу. Дел у них невпроворот, и хорошо бы сейчас хоть пару глоточков чая. Но где взять воды, если в этот каменный мешок даже снег не залетает. И как здесь смог зацепиться Ефимов, да еще при таком освещении, – уму непостижимо. Коля даже не успел дотронуться до Голубова, как он совсем не заспанным голосом спросил: – Который час, начальник? Коля сказал. – Значит, они уже дома, – буркнул Голубов. – Или где-нибудь грохнулись. А мы с тобою, как видишь, еще хвункционируем. – А я и не сомневался, что будут дома, – твердо сказал Коля Баран. Голубов сел и потянулся: – Блажен, кто верует. Впрочем, Голубов и сам не сомневался, но все-таки предпочитал держаться своего железного правила – быть готовым к худшему. Ему сейчас остро захотелось умыться и сбрить колючую щетину. Но чем умоешься? Чем, если во рту все склеилось, а кругом одни только камни. «Воды, воды! Полцарства за глоток!» – Что прикажете делать, товарищ начальник? – Я думаю, надо попытаться оживить рацию. – Смотрите, соображают. – Да уж не совсем под циркуль. – И чувство юмора не потеряно. Значит, гарнизон живет и борется. – Хвункционирует, – повторил Коля любимое словечко старшего лейтенанта Свищенко. И спросил: – Как вы думаете, товарищ капитан, сможет сегодня прилететь за нами вертолет? – Может, этот отремонтируем? – Голубов сделал несколько движений руками, присел, встал, снова присел. – А что мы, хуже других, что ли? Отремонтируем и полетим. Паша попытался представить, в каком сейчас состоянии Ефимов, способен ли на повторный вылет. Но как он ни обожествлял своего командира, выходило одно – не сможет. Даже если захочет. Врачи не пустят. Шульга не разрешит. Генерал не даст согласия. Во-первых, силы человека не беспредельны, во-вторых, небо забелело не просто от рассвета, над горами уже пурга. А к ним сюда не долетает снег по одной простой причине – из ущелья поднимается теплый воздух. С такими фокусами в горах Паша встречался. – Снег! – вдруг выкрикнул Коля. – И чему ты радуешься? – Паша поднял лицо и почувствовал, как на лоб села холодная мушка. Значит, они здесь крепко заперты. И надолго. – Вода будет, – объяснил свой восторг Коля Баран, – чай согреем, умоемся. – Он кинулся искать посуду, не понимая, чем грозит им разыгравшийся буран над горами. «Телок молочный», – ласково подумал о нем Паша и осмотрелся. Светлело быстро, стали различаться камуфляжные пятна на фюзеляже вертолета, уходящий к небу скалистый склон, черный изгиб каньона. Паша сделал несколько шагов к тому месту, где ночью висел (именно висел – другого слова и не придумаешь) их родной вертолет, но остановился на полпути. Провал был столь страшен, что в животе захолодело, будто за пазуху сыпанули горсть сухого снега. А ноги обмякли, словно из них выпустили силу… Ему чудилось, что здесь любой камень может предательски выскользнуть из-под унтов, и тогда уже ни за что не схватишься и никто тебя не удержит. Мгновение на воспоминания, и долгий, долгий путь к прабабушкам. Пока долетишь до дна, несколько раз умрешь. Паша отвернулся и осторожненько отошел подальше от обрыва. Теперь он понимал, что фактически никакой посадки не было, что вертолет Ефимов держал все время в режиме висения, а колесами лишь пробовал грунт, чтобы не потерять контакта с кромкой провала и не оторваться от берега. Зависни он хотя бы на шаг в сторону, на полметра от скалы, и греметь бы им с Колей «под фанфары». Они же тут бегали, как наскипидаренные, из вертолета в вертолет, все внимание – раненым. Поисковая фара жгла и ослепляла так, что перед глазами только зеленые пятна. – Ох, ночка, господи помилуй, – сказал Паша и полез в пилотскую кабину. Хорошо бы, конечно, наладить связь. Хорошо бы… Примерно через час они с Колей обнаружили и исправили повреждение антенного входа, так называемого фидера. Но рация не оживала. Аккумуляторные батареи были сорваны с креплений, все соединения перепутаны, весь отсек забрызган электролитом, на клеммах следы черной копоти. – Они чудом не загорелись, – сказал Коля Баран, профессионально оценив обстановку. – Аккумуляторы надо снимать в первую очередь. Если замкнет, взорвемся. Стало совсем светло. Но видимость из-за падающего снега уменьшилась, противоположный склон ущелья словно растворился в белой густой кисее. К ним на площадку заносило лишь отдельные снежинки. Приземляясь, они мгновенно таяли, даже не оставляя следов. А пить, как назло, хотелось все сильнее и сильнее. Паша чувствовал, что пересохли не только губы, липкой коркой обложило небо, язык, гортань. Даже не было желания говорить, потому что каждое слово давалось с трудом. Выбраться бы только из этой мышеловки. Без еды, он знал, человек держаться может долго. Без воды – уже через сутки в его сознании начинаются нежелательные сдвиги. По фазе. А пурга в горах бушует неделями. Дернул же его черт… А вдруг и долетели бы. – На аварийной рации питание есть, – доложил Коля Баран. – Главная сдохла. Без тестера не разобраться. – Включи аварийную на прием. – Паша в глубине души верил, что, несмотря на «жесткий минимум», кто-то попытается к ним пробиться. – Будем снимать несущий винт. Жалко все-таки бросать машину. Может, удастся вытащить. Горючее сольем в последний час. Где-то высоко над ними ухнуло, пророкотало, тягуче прогудело и стихло. Голос гор. – Сошла лавина, – сказал Коля. Паша осмотрелся. Если и лавина, то где-то далеко. Прикинул – какова возможность выбраться из плена сухопутным путем? При наличии альпинистского снаряжения и умения пользоваться этим снаряжением, не исключено. Но… Можно сигануть с парашютом вниз. Но опять же неизвестно – где сейчас лучше? Здесь, на неприступном пятачке, или на дне ущелья, где в любой миг можно угодить в лапы к душманам? …А так ли неприступен их пятачок? Ведь Шульга вчера не зря предупреждал, что «духи» засекли место аварийной посадки и могут организовать нападение. Нет, бдительности терять нельзя. И автомат, который он приготовил, должен быть рядом, а не вон там, на войлочной подстилке. С самого утра Шульга настойчиво просил у командования разрешения на вылет. Объяснял запальчиво и упрямо: – Пусть не увижу, пусть не смогу, но они хотя бы услышат звук вертолета, будут знать, что мы пробиваемся. – Скорость ветра в горах ураганная, – возражали ему, – разобьетесь. Пусть потерпят сутки, буран скоро уляжется. – У них ни воды, ни еды. Хорошо, сидя здесь, говорить – сутки. Вас на их место, небось, по-другому бы заговорили. – Давайте, товарищ Шульга, делать то, что положено каждому на своем месте. – Я буду генералу звонить. Но генерал сам позвонил. Поинтересовался самочувствием Ефимова («Спит? Это хорошо»), выслушал предложения Шульги («До завтра воздержимся, риск не оправдан»), распорядился одну из машин готовить к подъемно-транспортной работе («Попробуем снять аварийный вертолет»). – Соседи-вертолетчики, – сказал в заключение генерал, – благодарят за операцию по спасению раненых. Они восхищены мужеством и мастерством экипажа. – Спасибо, товарищ генерал, за добрые слова. Но экипаж пока в опасности. А может, и вообще… – Давайте без эмоций, Игорь Олегович. Лучше подумайте, кто полетит на задание по эвакуации пострадавшего вертолета. – Сам полечу. Генерал помолчал, и Шульга обрадовался, приняв это молчание как одобрение. – Полетите парой, – сказал генерал, – будете ведущим. Руководить будете. Саму операцию выполнит ведомый. – Но, товарищ генерал! Тут же… – Я не закончил, – оборвал его генерал, – с вами полетит еще пара боевых вертолетов. Ее задача – обеспечить безопасность операции. Все ясно? – Так точно. – Ведомым у вас должен быть опытный летчик. На Ефимова не рассчитывайте, он измотан и лететь не готов. Но его опыт использовать надо. Решение подработайте и позвоните. Шульга попытался вспомнить, что ему докладывал Ефимов по радио, когда они установили связь. Доклады были лаконичные, «на нерве», но главное Шульга уловил: над площадкой, где лежит разбитый вертолет, нависает выступ. Возможность вертикального зависания исключена. Значит, канат внешней подвески надо значительно удлинять, надо хоть ненадолго, но приткнуться к скале, чтобы высадить людей, передать им конец и крепежный такелаж, снять Голубова и Барана. Если, конечно, они еще живы. Кто в эскадрилье способен повторить то, что сделал сегодня ночью Ефимов? Если не сам Шульга, значит Скородумов, его комиссар. Проснется Ефимов, пусть побеседуют. Скородумову необходимо из первых рук получить информацию по обстановке. Сам Ефимов провел бы эту операцию надежнее, но генерал прав. Есть предел человеческим возможностям. Любой риск, даже за шахматной доской, вызывает перенапряжение организма. А Ефимов ходил в эту ночь по лезвию, и не единожды. Рисковал, что самое трудное, жизнями других людей, не говоря о своей жизни. И нервы, естественно, не выдержали. Посадив вертолет, он через минуту потерял сознание. В медпункт Ефимова доставили на носилках. Скородумов сам зашел в кабинет Шульги, спросил, есть ли новости. Не получив ответа, сел к приставному столу, забарабанил пальцами по разостланной газете. – Что будем делать, товарищ командир? – У нашего комиссара есть предложения? – Я считаю, надо лететь. – С печи на полати, на кривой лопате. Кроме наших желаний, есть дисциплина. – Разрешите, я позвоню генералу. – Я только что с ним говорил. Дадут погоду, полетим двумя парами. Тебе хочу поручить главное – эвакуацию машины. Скородумов с недоверием посмотрел на Шульгу: шутит или всерьез говорит? Так уж у них сложились взаимоотношения. Как Шульга ни уговаривал себя, как ни заставлял относиться к замполиту серьезно, равноправия не получалось. Не мог командир подавить в себе эту дурацкую снисходительность, вызванную разницей возраста. И чем больше Скородумов проявлял самостоятельности, тем снисходительнее на него смотрел Шульга. Пробовал хвалить замполита, ссылаться во время совещаний на его мнение, но все эти похвалы и ссылки всегда походили на подначки. Чувствовал эти «нюансы» не только Скородумов, вся эскадрилья видела: Шульга не принимает всерьез замполита. Даже такие горделивые слова, как «наш комиссар», в устах командира звучали, будто кличка. «А вот и наш комиссар». «А что скажет наш комиссар?» «Спросите у нашего комиссара». «Как скажет наш комиссар, так и будет». Поначалу Скородумов злился, даже написал рапорт, чтобы его перевели в другую эскадрилью, терялся, обиду пестовал. Но потом плюнул на все и засучил рукава. А кто работает, того видно. Скородумов во всем гнул свою линию, несмотря на шульговское пренебрежение. Это в эскадрилье заметили и оценили. Оценил и Шульга. Как-то штурман эскадрильи, подчеркивая свои заслуги, отпустил в адрес Скородумова снисходительную реплику. Шульга резко оборвал его и пристыдил: чем нос задирать, лучше под ноги смотреть. Правом на снисходительность к молодому замполиту командир ни с кем не желал делиться. В этот раз Шульга разговаривал со Скородумовым без подначек. Не до шуток было. Он начал вслух прикидывать план операции, делать наброски схемы. Скородумов не выдержал, вмешался. Они заспорили, склонились над столом. Забыв о разности в возрасте и званиях, замполит вырвал из рук Шульги карандаш и начал запальчиво рядом со схемой писать формулы. Шульга попытался сделать расчет по-своему, достал справочник из сейфа, электронный калькулятор. Но у Скородумова получалось надежнее, хотя и считал с помощью карандаша. Вызвали инженера эскадрильи, начальника ТЭЧ. Расчеты показывали, что отдельные узлы и механизмы внешней подвески необходимо переоборудовать, ибо основное усилие в момент подъема груза будет не прямолинейным, а смещенным. Всю обедню портила нависшая над площадкой скала. – А ты лететь спешил, – зазвучали в тоне Шульги знакомые нотки. – Что ни делается, все к лучшему. Передав расчеты и схемы инженеру, Шульга, одеваясь, шепнул на ухо Скородумову: – Ефимова навестим. Лежа в мягкой постели, Ефимов смотрел на задернутое занавесками окно и слушал, как метель остервенело расшатывает сборно-щитовой домик санчасти. В палате было тепло и тихо, пахло валерьянкой и свежими простынями. Ощущение покоя и благости наполняло каждую клеточку тела, размягчало волю и притупляло желания. Хотелось вот так лежать и лежать, вытянув поверх одеяла руки, слушать удары ветра, ни о чем не думать, а только наслаждаться покоем и теплом. Сколько же он валяется здесь? Часов на руке не было. И почему попал к медикам? Ранен, что ли? Так никакой боли не чувствовал, никаких бинтов не видел. Положили на обследование? Почему? Переутомление? А может, ему только показалось, что он благополучно посадил вертолет? А как чувствуют себя раненые? Как этот, лейтенант Волков? Его товарищи по экипажу? Где они все? Он точно помнил – сел нормально. Потом… Да, что было потом? Почему он не может вспомнить, что было после посадки?.. А что может вспомнить? Как ослушался командира? «Не смей взлетать!» А он взлетел. «Садись на промежуточном!» А он тянул до основного. Еще что-то… Ах да, – бросил в горах Пашу с Колей. Вот этого не следовало делать. Это сволочной поступок. Они там на голых камнях, а он в теплой постели. А может, их Шульга подобрал? Может, они уже дома? Так, значит… Он прилетел на рассвете. Сейчас середина дня. Выходит, полдня спал? Или был без сознания? Это похоже. Значит, мог и в полете вырубиться. Без второго пилота. Совсем ни к черту. Нет, такое Шульга не прощает. Никому. Даже самому себе. Ну и ладно… Пусть. Только бы Паша с Колей вернулись. Ефимов готов за ними лететь. Хоть сейчас. А там будь что будет. Только бы живы остались ребята. Ефимов закрыл глаза. На одно мгновение. А когда открыл, у кровати сидели Шульга и Скородумов, в дверях белело юное румяное личико медсестры. Сложенные розовым сердечком губы выражали недовольство. – Отоспался? – спросил Шульга. – Что-нибудь от Паши? – Связи нет. Буран. – Надо лететь. Шульга согласно тряхнул головой, губы его плотно сжались, короткие торчащие волосы как бы подчеркивали упрямую решительность командира. – Нельзя лететь, Федя. В лучшем случае, завтра. Утром. Ефимов все-таки уловил в поведении командира надежду и приподнялся, уперевшись локтем в подушку. Тело было послушным, мышцы просили работы. Значит, все идет, как надо. – Надеюсь, доверите? Шульга опустил глаза. – Я бы не возражал. Но генерал категорически против. Обижаться не надо. Он опытнее нас. Считает, что тебе надо отлежаться. – Ну, я лучше знаю себя… А кто? – Комиссар полетит. И мне разрешили. Шульга коротко посвятил Ефимова в план по спасению пострадавшего вертолета, попросил подумать, внести свои предложения. – Ты был там, все видел. Расскажи. Вошла сестра и позвала Шульгу к телефону. Ефимов посмотрел на Скородумова. Молод, конечно, опыта в сложном пилотаже кот наплакал, но парень рисковый и думающий. – Не знаю, что посоветовать, – сказал Ефимов. – Там сложное перемещение воздушных потоков. Есть опасность образования вихревого кольца. К урезу площадки подходить надо левым бортом, создать горизонтальное скольжение. Иначе никак. – Если я почувствую, что не уверен, – сказал Скородумов, – на рожон не полезу. Ефимов посмотрел на дверь. – Весь фокус в том, что рисковать надо. Там не может быть стопроцентной уверенности. У меня ее тоже не было. Скородумов помолчал, что-то записал в блокнот. Ответил уверенно, убежденно: – Если не найдем другой возможности, чтобы спасти людей, будем рисковать. Полагаю, мы не все как следует продумали. Рисковать людьми и новой машиной ради спасения разбитого вертолета не стоит. Я докажу это. – Может, вы и правы, – Ефимов почувствовал усталость и снова откинулся на высокую подушку. Вошел Шульга. Он загадочно улыбался. Присел у кровати, взял руку Ефимова. – Все, Федя… Есть приказ о замене. На тебя. На меня. На Голубова и на Свищенко. Сменщики наши уже в Кабуле. Завтра будут здесь. «Вот и все, – как-то безразлично подумал Ефимов, – еще две зимы позади». – Не рад, что ли? – спросил Шульга. Ефимов посмотрел Шульге в глаза. – Вывезти Пашу с Колей, это мое, Игорь Олегович. И пусть не обижается комиссар. Я их там бросил, я и лететь за ними обязан. Не сделаю этого, всю жизнь вот здесь болеть будет. – Он постучал пальцами по груди. – Вы всегда меня понимали. Придумайте что-нибудь. – Есть дисциплина, Федя. – Игорь Олегович!.. – Черт с тобой! – Шульга обреченно махнул рукой. – Полетишь вторым пилотом со Скородумовым. Но пока об этом молчок. Лежать и набираться сил. 10 Задачи группы, в составе которой Муравко вылетел на Байконур, на первый взгляд, были довольно простые – принять участие в подготовке к запуску космического транспортного корабля «Прогресс». Задача Муравко выглядела и того проще: познакомиться с космодромом, посмотреть глазами космонавта на подготовку «Прогресса»: как уложены в отправляющихся на орбиту контейнерах приборы, научная аппаратура, кинофотоматериалы, запасы пищи, воды, регенерационные установки, в каком порядке контейнеры размещены в грузовом отсеке, удобно ли будет экипажу вести разгрузку и какие могут встретиться неожиданности. Все-таки, тысяча триста килограммов. Все это ребятам придется таскать через узкий лаз стыковочного узла. Разместить, закрепить. Конечно, невесомость, она и в Африке невесомость. Но когда ты сам постоянно в безопорном положении, когда тебя закручивает в сторону, противоположную прилагаемому усилию, а грузы надо перемещать с максимальной осторожностью – ничего не задеть, ни во что не врезаться, не стукнуть – такой работе не позавидуешь. Разгрузка «Прогресса» на орбите – целая наука. Кажется, отработаны порядок и методика транспортировки каждого контейнера, каждого прибора. Перед полетом экипаж провел не одну тренировку на земле. Есть инструкция. Неожиданности, как будто, исключены. Но вот на станции возникла нештатная ситуация, как сейчас – часть горючего придется слить на грузовой корабль. И пошло-поехало: поскольку нужна пустая емкость на «Прогрессе», будет нарушена центровка корабля, следовательно, меняется и отработанная система укладки грузового отсека – центровку необходимо сохранить за счет перераспределения других грузов. Значит, экипажу необходимо подготовить не только новый план-схему укладки контейнеров, но и дать некоторые чисто практические советы. Муравко впервые на Байконуре, но ему все здесь кажется знакомым: по рассказам товарищей, по любительским фотографиям, по программным документам. Сложившийся образ космодрома в чем-то совпадал с реальным комплексом, а чем-то и удивил Муравко. Совпало почти все, что связано с жилой частью космодрома: телецентр, стадион, клуб, школы, техникум, институт. Зона для предстартовой подготовки космонавтов: классы, лаборатории, медицинский и спортивный комплексы, бассейн. Летом в бассейне спасение от жары, зимой – от морозов и жгучих ветров. «Учкудук» – шутят старожилы. Люди, которые знают о космодроме по телевизионным передачам, представляют Байконур однообразно: монтажно-испытательный корпус, от него небольшая ветка к стартовой позиции и где-то в отдалении – командно-наблюдательный бункер. Представление это зафиксировалось благодаря упорному повторению телеоператорами одних и тех же картинок: вот тепловоз вывозит ракету-носитель, вот она уже курится дренажными клапанами на старте, а вот и знакомые команды – «ключ на старт», «зажигание», «подъем». А космодром, который увидел Муравко, удивил его, в первую очередь, дорогами. Они исполосовали казахстанскую степь замысловатыми узорами в самых разных направлениях: железные, бетонные, асфальтовые. Только по одним этим дорогам можно судить, какое здесь сложное и многоотраслевое хозяйство. Сколько уникальных агрегатов, устройств автоматических систем и инженерных сооружений. Не столько размерами, сколько технической вооруженностью поразил воображение Муравко монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя. Заводище! Здесь Муравко как бы заново открыл для себя истину, что подготовка ракеты-носителя начинается не тогда, когда она замирает над степью, нацелившись острием в зенит, она начинается с проверки поступающих на Байконур специальных вагонов (а идут сюда они, между прочим, со всех концов страны), с перегрузки отдельных ступеней на участки сборки, с укладки портальными кранами на ложементы сборочной линии, выверки, сборки, контроля. И главное – с людей, которые сутками торчат на монтажных площадках, переходных мостках, у агрегатов и приборов. Муравко отметил одну присущую здесь всем черту: озабоченные, отрешенные, ничего и никого, кроме ракеты, не видящие. Муравко не без любопытства наблюдал, как после автономных испытаний каждой ступени ракеты-носителя в отдельности их соединяют, стыкуют и испытывают в комплексе. Не заметил, как протекло время в монтажно-испытательном корпусе космических объектов, где собирался и испытывался грузовой корабль. Куцый, без основного отсека и без развернутых антенн, он и на корабль-то не похож – обрубок, кофемолка. Таким его загрузили в специальный вагон и отвезли на заправочную станцию космодрома. Корабль принял компоненты топлива, сжатые газы. Снова в цех, снова проверки, соединение грузового отсека со стыковочным агрегатом, опять проверка, и только после нее был одет «колпак», то бишь, головной обтекатель. Собранный блок состыковали с ракетой-носителем и теперь уже провели испытания ракетно-космической системы в целом. И вот ракета с пристыкованным кораблем выезжает на транспортно-установочном агрегате и со скоростью пешехода идет на стартовую позицию. Муравко, увидев машиниста тепловоза, не удержался от улыбки: на его лице выразительно читалось убеждение, что благодаря исключительно ему, и только ему – машинисту этого тепловоза, через некоторое время состоится очередной старт на орбиту, сбудется все остальное: стыковка со станцией, многомесячная работа экипажа, возвращение на землю, награждение космонавтов. А вот если машинист захочет и вернется сейчас в МИК, ничего этого не состоится – ни старта, ни награждений. Муравко поделился своим наблюдением с Владиславом Алексеевичем, который присутствовал при транспортировке космической системы на стартовую позицию. Тот внимательно посмотрел на усатого, белобрового машиниста в лихо заломленном берете и засмеялся. – А ведь действительно: именно все это у него и читается на физиономии! – Добавил: – Да и прав он. Если человек вот так относится к своему делу, это счастливый человек. Конечно, на космодроме живут и работают не только счастливые люди. Но, наблюдая за ними в предстартовые дни, в дни очередных проводов ракеты в космос, Муравко мог дать голову на отсечение, что видел счастливых, одухотворенных трудом людей. Нигде, пожалуй, так не чувствуется глобальная масштабность дел, связанных с освоением космоса, как на Байконуре в дни подготовки и пуска ракет. Конечно же, водителю тепловоза есть чем гордиться. Что бы там ни говорили, а движение ракеты начинается всякий раз от движения его руки. Один из машинистов, уходя на пенсию, признался, что сколько раз вывозил ракету к старту, столько раз повторял гагаринское «Поехали!». Хотя всегда накануне давал себе слово, что не будет повторять того, что принадлежит единственному в мире человеку. И не мог совладать с собой. Ощущение причастности к такой грандиозной работе захватывает, как стихия. Один и тот же человек, способный в другом месте к расхлябанности и разгильдяйству, здесь не может позволить себе вольностей. Несовместимо здесь разгильдяйство с масштабом происходящего. Ни товарищи, ни руководители не поймут и не простят тому, кто по каким-то, даже самым объективным, причинам сработал спустя рукава. Здесь можно работать только самозабвенно и только с полной самоотдачей. На пределе возможного. Потому что недобросовестность одного перечеркивает труд сотен. Когда транспортно-установочный агрегат, беззвучно поскрипывая своими мощными гидродомкратами, привел ракету в вертикальное положение и опорные фермы приняли в свои ладони все триста тонн ее веса, бережно поддерживая ракету над бездонным газоотражательным лотком, ландшафт казахстанской степи мгновенно изменился. Она словно замерла в ожидании чего-то грандиозного, фантастически необыкновенного. Вот транспортно-установочный агрегат облегченно опустил свою стрелу в горизонтальное положение и, торопливо свистнув, быстро смотался восвояси: его дело сделано. А к ракете вплотную придвинулись фермы обслуживания, кабельные и кабельзаправочные мачты с толстыми, как бревна, и гибкими, как змеи, шлангами. Начался процесс азимутального наведения ракеты и установки ее в строго вертикальное положение. Сколько раз Муравко видел все это в специальных фильмах на видеопленках, сколько слышал рассказов. Казалось, уже ничего нового. Но ведь не зря говорят, что эффект присутствия нельзя заменить ни рассказами, ни фильмами. Звуки, запахи, реальные масштабы – все это надо увидеть и почувствовать. Вот включается воздушная система термостатирования космического корабля – под головной обтекатель ракеты-носителя подается воздух, чтобы компоненты топлива не охлаждались и не нагревались выше определенной температуры. Над степью разносится мощное шипение, не замирающее до самого старта. Звучат команды на опрессовку-проверку герметичности мест соединений сжатым воздухом. За опрессовкой начинаются испытания бортовых систем, тестовый контроль приборов, системы телевидения, связи, командной радиолинии, бортовых источников питания. И наконец – проходит команда на заправку носителя компонентами топлива и сжатыми газами. И хотя методика всех этих предстартовых дел давно отработана и проверена, Муравко смотрел на лица людей, слушал их разговоры, улавливая в интонациях необыкновенное напряжение и самоотрешенность, и ему казалось, что весь комплекс операций они выполняют первый раз в жизни. Трещал мороз, степняк нес колючую поземку, рядом стоял автобус с горячим чаем – но люди ничего не видели, ничего не слышали. Интересовало их только одно – кабельные разъемы, лючки, шланги, стрелки манометров, цифры на электронных табло. Ну, казалось бы, все сделано: заправка, дозаправка, дренаж коммуникаций, все отсоединено и убрано, автоматика уже начала необратимый отсчет и оператор установил ключ в положение «На старт». Внутри ракеты начали работать турбонасосные агрегаты, включилось зажигание… Казалось бы, все – вы, дорогие друзья, свое сделали, успокойтесь и смотрите, как сейчас сработает пирозажигающее устройство в камерах двигателей, ударит острый клин пламени и ракета – предмет ваших забот и волнений – уйдет в небо, чтобы уже оттуда никогда не возвратиться. Смотрите, грустите и радуйтесь. Так нет, они и теперь суетятся, в сотый раз перепроверяют друг друга, не забыл ли кто-то сделать дополнительный полуоборот шлицевым винтом, в ту ли сторону загнуты контровочные усики на креплении антенны, весь ли инструмент в гнездах упаковки, и еще десятки и десятки вопросов находят друг другу. Ракета уже отработала третьей ступенью, корабль выведен на орбиту, а они продолжают экзаменовать один другого, все еще «крутят шестернями». И только, может, на второй или третий день после старта заметят, что морозы отчего-то стали слабее (неужели весна?), что под карнизами МИКа чирикают воробьи (надо же – устроились), что на афише клуба заключительный просмотр нового фильма (во дают – еще не шел, а уже заключительный). Заметят, что дети вроде подросли, что жены похорошели, что вообще есть в этой жизни и еще что-то достойное, кроме ракет, спутников, космоса… Неужели нечто подобное происходит и с Муравко? Привык, втянулся, почувствовал ответственность? Или незаметно пришла любовь? Вопросы не праздные. Долгое время его не покидало чувство потери, утраты чего-то главного в своей жизни. Умом понимал, что впереди захватывающе интересная работа, новая, насыщенная всевозможными событиями жизнь, новые друзья, а сердце ныло и болело по прошлому, душа тосковала по самолетам и аэродромам. Ему чуть ли не каждую ночь снился городок, где он встретил Юлю, снился Чиж Павел Иванович, живой, веселый, с хитроватым взглядом из-под лохматых бровей, снились Горелов Руслан и Федор Ефимов. Просыпаясь, он начинал всерьез подумывать, а не лучше ли ему, пока не поздно, вернуться в полк и положить конец всем сомнениям и ностальгическим приступам? Особенно эти чувства обострились, когда его почти на два месяца уложили в Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь. И это после того, как он выдержал все испытания и проверки, которым здесь подвергают каждого кандидата в космонавты. Врачи пришли к выводу, что гланды у Муравко при каких-то обстоятельствах могут спровоцировать воспалительный процесс. Поэтому, решили они, лучше их удалить сразу. «Ну, все, – подумал тогда Муравко, – причина, чтобы отчислить меня из отряда, есть. И хорошо. Все к лучшему». Тогда он еще не знал, что врачи госпиталя как раз очень хотели, чтобы Муравко остался в отряде. Его организм, по их убеждению, отвечал самым строгим критериям. После лечения в госпитале его почти на год откомандировали в ЛИИ – летно-исследовательский институт. И хотя вопрос о зачислении Муравко кандидатом в космонавты оставался открытым, и он почти никому в это время не писал, в том числе и Юле, потому как не представлял, о чем можно писать, если ничего не ясно, занимался он в этот год все-таки привычным и понятным делом – летал. Потом был вызов в Звездный, праздничная суета вокруг нового пополнения, знакомства, поздравления, и почти сразу – занятия. Теоретические основы космонавтики, конструкции основных типов пилотируемых космических кораблей и станций, бортовые системы. Между ними – тренировочные полеты на самолетах и прыжки с парашютом, специальная медико-биологическая подготовка. Серьезно и много – физическая. До пота, до изнеможения. Учеба захватила Муравко, сомнения развеялись. Занятия с будущими покорителями Вселенной проводили академики и конструкторы, мастера спорта и специалисты-практики, опытные инструкторы и космонавты, побывавшие по два-три раза на орбите. Каждый новый день Муравко ожидал как праздника, потому что содержание дней не повторялось. Даже дни специальных экзаменов были как праздники, а календарные праздники, когда в занятиях наступал вынужденный перерыв, тянулись долго и занудливо, хотя в Звездном всегда умели организовать досуг. Когда были объявлены списки групп, закрепленных за определенным типом космического корабля, фамилии Муравко среди них не оказалось. – Что случилось, Коля? – спрашивали его те, кому с завтрашнего дня предстояло начать подготовку к полетам на ПКА – пилотируемых космических аппаратах. Он пожимал плечами и виновато улыбался. Необъяснимая обида жгла душу – за что с ним так? – Может, что-то в анкете раскопали? А что у него могли раскопать? Мать – пенсионерка. Отец погиб в шахте. Дед – на Курской дуге в танке сгорел. Сестер и братьев у Муравко не было. – Значит, опять медики, черт бы их побрал… Муравко вторично пережил ностальгический криз. В полк! Вернуться в полк, где все так понятно и надежно! Где никаких гаданий и лотерей, где все в твоих руках, все зависит только от тебя. Он написал рапорт с просьбой отчислить его из отряда космонавтов и откомандировать в авиационный полк для дальнейшего прохождения службы в качестве летчика-истребителя. Решил прямо с утра отдать его по команде. А утром, направляясь в административный корпус, он остановился возле круглого, добротно сложенного из красного кирпича здания, где установлена центрифуга, и вспомнил, как, на зависть друзьям, легко переносил самые критические перегрузки, как удивленно качали головами лаборанты и показывал большой палец сам начальник Центра… И почувствовал, что ему уже не хочется расставаться ни с этим городком, ни с этими корпусами космической академии, ни с людьми, которых успел здесь узнать и полюбить. «На кой черт с рапортом высовываться, – подумал он трезво. – Если меня отчислили, то полка все равно не миновать, а если что-то другое – буду выглядеть с этим рапортом смешным. Доживем, как говорится, до понедельника». Однако, понедельника ждать не пришлось. Буквально через час всем стало известно, что кандидатура Муравко рассматривалась отдельно, что его хотели перевести сразу на второй этап летно-космической подготовки в составе экипажа по конкретной программе предстоящего полета. И хотя он не попал ни в основной, ни в дублирующий экипаж, факт обсуждения его кандидатуры взволновал Муравко не на шутку: значит, возможность полета вполне реальна. До этого дня он не мог представить себя в качестве космонавта. Космический скафандр существовал сам по себе, Муравко – сам по себе. И вдруг отчетливо представил себя в космическом корабле и сразу поверил, что такое вполне осуществимо. Это были прекрасные, счастливые дни. Юля жила им, дышала им, в ее глазах не исчезало удивление от переполняющих ее чувств. Она могла проснуться среди ночи и, включив ночник, подолгу разглядывать его лицо, осторожно перебирать волосы, разглаживать кончиком пальца брови. Могла с удивлением и обожанием смотреть, как он ест, как бреется, как переписывает конспект. Она с непреходящим восторгом принимала в доме новых Колиных друзей, и ребята, почувствовав искренность ее гостеприимства, бывало, заваливались в дом, не предупреждая, – иногда среди буднего дня, а порой и в полночь. Сосед, Николай Яковлевич, специалист по каким-то системам комплексного тренажера, приходил к ним, как к себе домой. Мог забежать, ничего не объясняя, сказать «привет-привет», заглянуть в холодильник, забрать бутылку вина и, снова сказав «привет-привет», быстренько исчезнуть, будто его здесь и не было. Их приглашали на дни рождения, на праздничные застолья, на торжества по случаю возвращения на Землю новых космонавтов. Крепло чувство, что Муравко и Юля окончательно вписались в космическую семью Звездного, сроднились по духу, завоевали любовь и признание. Но главным все-таки было дело. Учеба. Муравко до приезда в Звездный учебу космонавтов представлял до смешного примитивно. И если бы ему тогда убедительно объяснили, какой объем знаний необходимо освоить, он бы ни за что не согласился уходить из авиации. Оглядываясь сегодня назад, он с трудом верит, что сумел постичь такие дебри высшей математики, теоретической механики, химии, астрономии. А сколько освоено конкретных приборов и механизмов, сколько наработано самых неожиданных навыков! Постигая сложнейшие программы, Муравко не переставал удивляться мудрости людей, сумевших в такой короткий срок отработать программы обучения, методики тренировок, создать тренажеры и другие тренировочные агрегаты. Вон центрифуга. Казалось бы, простой агрегат: мотор с осью, на оси – стрела с сиденьем, на сиденье человек. Включаешь мотор, человек начинает вращаться, испытывая от центробежной силы перегрузки. Но сколько сложнейших задач пришлось решить конструкторам и тем, кто делал эту адскую машину, чтобы сконструировать и построить только что принятую в эксплуатацию центрифугу с восемнадцатиметровым плечом. Страшно подумать – способна создавать перегрузки до тридцати единиц. При этом градиент нарастания может быть до пяти единиц в секунду. Это даже не баллистический спуск, а центростремительный полет. Здесь уже не просто сиденье на конце стрелы, а герметичная кабина. Поворот рычажка, и можно сориентировать тело испытателя в любом направлении к вектору перегрузки. Муравко не раз сам управлял скоростью вращения, превращал кабину в миниатюрную термобарокамеру, регулировал температуру, давление, относительную влажность, газовый состав. Для контроля и сравнительного анализа в кабине стоит вычислительная машина, есть все виды связи, газоанализатор. Конечно, и оператор, и врач, и лаборанты ведут наблюдение, здесь все параметры работы выведены на специальный пульт, а потом еще придирчивый, скрупулезный анализ по магнитным и графическим записям. Машинка еще та – чуток фантазии, чуток воображения – и ты уже в кабине космического корабля, в условиях реального полета. После тренировок на центрифуге Муравко по нескольку часов приходил в себя. Но эти тренировки всегда любил. Они давали возможность во многом проверить свои возможности. Здесь, конечно, было мужское дело. Если во время общекосмической подготовки приходилось усилием воли заставлять себя продираться через лес формул, копать и копать, чтобы достичь до корневища, то на втором этапе главным стало изучение корабля и станции, их бортовых систем, накопление навыков управления этими почти фантастическими аппаратами. В эти дни будущие космонавты много летали, прыгали с парашютом, тренировались принимать оперативные решения в самых неожиданных ситуациях. Появились новые дисциплины: космическая навигация, медико-биологическая подготовка. Такие занятия, как тренировки в самолетах-лабораториях, в гидросреде, в различных климатогеографических зонах, их и занятиями-то нельзя было назвать. Первые встречи с невесомостью превращали взрослых мужиков, солидных отцов семейства в шаловливых мальчишек. Каждому хотелось «полетать» по кабине как можно дольше; беспричинно смеялись, строили рожи, показывали языки. Инструкторы, видимо, понимали состояние своих подопечных и давали им, особенно на первых уроках, вволю порезвиться. С каким-то необъяснимым азартом они проводили дни в глухой заснеженной тайге или в раскаленных песках пустыни. Тренировались на выживаемость. Конечно, это были не увеселительные пикники. Приходилось и мерзнуть, и от жажды изнывать, и вкалывать до изнеможения, но все равно было весело, все равно они знали, что находятся под неусыпным наблюдением. Нажми тангенту рации, скажи несколько слов, и тут же из-за горизонта появится вертолет. Зная это, и терпеть легче, и ждать веселее. Командировки становились длиннее и интереснее, возвращения желаннее и радостней. Муравко начали привлекать к управлению космическими полетами. Он выполнял и научно-исследовательские работы. Вот послали на Байконур с конкретным заданием. И Муравко понимал: его участие было не формальным, с ним советовались, к нему прислушивались. В конце командировки Муравко почувствовал острое желание скорее вернуться домой – к Юле, к Федору, в Звездный. Еще никогда ему не казался городок таким родным и уютным, как в этот раз. Запорошенные снегом елочки, стремительно ровные аллеи, сверкающий фасадом Дом космонавтов… Муравко словно впервые видел окутанные полумраком корпуса служебной зоны, затемненные витрины магазинов, бронзового Юрия Гагарина со спрятанной за спину рукой… И этот пьянящий чистотой воздух почувствовал словно впервые, и эту странную тишину, осторожно нарушенную сначала звуками проходящей электрички, а затем отдаленным гулом авиационных двигателей расположенного по соседству аэродрома. Наверное, без такого соседства, без гула двигателей и не родилось бы это неповторимое чувство уюта и родства, которое так неожиданно и так пронзительно обожгло сознание: приехал домой. Свои окна в высотном доме Муравко отыскал среди сотен других светящихся окон, как говорится, навскидку. Попытался сразу угадать: что там сейчас происходит за этими окнами, чем заняты два его родных человечка? Читают сказку? Играют в кубики? Пьют чай? Смотрят телевизор? «Ну и фантазия у вас, Николай Николаевич, – сказал Муравко сам себе, – на уровне детского сада». Одиннадцатый час вечера. Федька, наверняка, спит, а Юля, потеряв надежду и сегодня дождаться мужа, как всегда, поставила телефон поближе к дивану в гостиной и читает на сон грядущий какой-нибудь детектив. А то и вообще могла уйти к кому-нибудь поболтать от скуки. Муравко знал: и в этот раз все будет не так, как он представляет, все будет неожиданней и радостней, будет теплее и трогательнее, чем в придуманных им сюжетах, но именно за эти неожиданные радости он больше всего и любил свои возвращения домой, возвращения после долгих и изматывающих командировок. Поднимаясь лифтом на свой этаж, Муравко приготовил ключи. Но, когда подошел к двери, ключи спрятал и нажал кнопку звонка. Дважды по два удара: динь-бом, динь-бом. Если он знал, что Юля дома, дверь своим ключом не открывал, ему нравилось, чтобы его встречали у порога. Позвонив, он представил, как Юля откладывает журнал, как надевает свой любимый длинный халат, как поправляет волосы перед зеркалом, прикрывает дверь в детскую и вот идет к двери… – Дрянь такая, а ну немедленно в угол! – услышал он строгий голос за дверью. – Сейчас папа увидит, какой у него сын растет. До чего докатился! Когда на Федю повышали голос, он обычно отвечал тем же: или громко плакал, или еще громче кричал. В этот раз Муравко голоса сына не услышал. Зато Юля разошлась не на шутку. Распахнув дверь, она, вместо привычных объятий и поцелуев, показала рукой в глубь прихожей и заговорила таким тоном, будто Муравко не из командировки вернулся, а бегал за подсолнечным маслом в магазин: – Полюбуйся, какой подарочек растет! Ничего уже знать не желает. Ни слов, ни уговоров! Федя стоял в углу прихожей. Его рот был заклеен крест-накрест широкими полосками лейкопластыря, в испуганных глазах дрожали вот-вот готовые сорваться прозрачные слезины. – Плюет на стены, плюет на книги, в тарелки плюет, на детей и даже на маму. – Юля присела на корточки и, помахав перед носом сына пальцем, предупредила: – Еще раз плюнешь, зашью рот нитками. Навсегда. – А как же он есть будет? – сказал Муравко, пытаясь шуткой разрядить сгустившуюся над Федей атмосферу. – А пусть как хочет, – не сдавалась Юля, – хоть через нос. Или дырку в щеке прорежем. Муравко встал между сыном и женой и положил на головы обоим свои холодные ладони. Под одной почувствовал нежные пряди золотистого шелка, под другой – упругую и тяжелую гриву. Федька еще больше напрягся в ожидании наказания, Юля расслабленно замерла. – Я полагаю, что сын наш глубоко раскаивается в содеянном, – Муравко представил, с каким удовольствием Федя плевал на стены (человек освоил новое дело), как радовался каждому удачному попаданию, и невольно засмеялся. – Ты ведь больше не будешь? Да, Феденька? Ребенок хотел обрадованно заверить отца, что он действительно раскаивается и больше не будет, хотел что-то не просто сказать, а крикнуть, но из заклеенного рта вырвался только глухой стон. И этот беспомощный детский стон отозвался в сердце Муравко неясной обидой, будто не Феде, а ему самому заклеили рот лейкопластырем. – Ну, знаешь, – бросил он жестко и, отвернувшись, начал снимать шинель. Обида нарастала беспричинно. – Как можно такое? – У меня уже нет сил объяснять ему, – сказала Юля расстроенно. – Попробуй ты. Полагаю, это цветочки. «Не так я представлял нашу встречу», – хотел сказать Муравко, но, посмотрев, как Юля осторожно отдирает пластырь, как болезненно морщится, чувствуя боль ребенка, сказал по-домашнему мягко: – Я грязный как черт. Приму душ. – Я с папой хочу! – рванулся Федя, как только почувствовал рот свободным. – Я тоже грязный как черт! – О господи! – перехватила его Юля за штаны. – Дай же отклеить пластырь. Федя снова дернулся, но, почувствовав, что держат его крепко, повернулся к матери и плюнул. И тут же, почти молниеносно, получил по губам. Он плюнул еще раз и, вырвавшись, обхватил колени Муравко. Этот маленький несмышленыш отчетливо понимал, что не совладал со своим характером, что наделал глупостей – дальше некуда, и от заслуженного наказания его может спасти только отец или какое-то чудо. – Ну, все, – сказала Юля, – сейчас беру иголку с ниткой и… хватит мне мучиться. Муравко быстро открыл дверь в ванную комнату, втолкнул туда Федю, сам шагнул следом и закрыл дверь на защелку. Юля дернула ручку, отчаянно стукнула в дверь кулаком и навзрыд заплакала. – Видишь, что ты наделал? – сказал Муравко поникшим голосом. – Что теперь будет? Федя испуганно снизу вверх смотрел ему в глаза. – Скажи ей, – шепнул Муравко, – мама, не плачь, я больше не буду. Федя отрицательно покачал головой. – Почему? – У меня само получается, – сообщил он шепотом. – Я не хочу, а оно плюется. – Вот, оказывается, в чем дело. Оно само. Слышишь, мама, – повернулся он к двери. – Это совсем не Федя плюется, это Оно – Само. Юля шутку не приняла и продолжала жалобно всхлипывать. И Муравко понял, что плачет она совсем не от Федькиных безобразий. Все дни после того разговора она прожила в напряжении, с тревогой думала о его испытательной работе, мучительно искала альтернативный выход и, конечно же, не находила его. Ей сейчас просто необходимо и покричать, и поплакать. И он решил: пусть разрядится. Зачем такой хрупкой женщине носить в себе это напряжение. Не так уж она в своем убеждении эгоистична, а следовательно, и не так далека от истины. Он открыл дверь и вышел, оставив испуганного Федю в ванной. Обнял Юлю, пригладил волосы. Поддел указательным пальцем ее круглый подбородок и осторожными поцелуем осушил от слезинок глаза. Юля всхлипывала и не сопротивлялась. Сказав «ну, здравствуй, я приехал», он поцеловал ее в губы, крепко обнял. И она молча и податливо прижалась к нему. – Мы обо всем поговорим, – шепнул он ласково, – и сделаем так, как лучше тебе. У нас впереди – целая ночь. – Как лучше нам всем, – поправила Юля. – Угу, – согласился он. – Краснеть тебе не к лицу – все веснушки куда-то исчезают. Готовь ужин, а этого разбушевавшегося хулигана я сейчас остужу под душем. Пройдет. Человек открытие сделал, должен освоить его, а когда надоест – сам перестанет… Нет, я, конечно, поговорю с ним. Но, поверь, не стоит так нервничать. Ага? – Ладно уж, мойтесь… Почуяв каким-то своим детским чутьем, что гроза миновала, Федя расхулиганился без удержу. Он шлепал по воде ладонями, подставлял открытый рот под струи душа, надувал щеки, пуская сквозь щелку рта тонкую струю, нырял, садился на плечи отцу, что-то орал воинственное, прыгал, в общем, мешал, как умел и насколько хватало сил. Но Муравко с удивлением ловил себя на мысли, что все эти Федькины выкрутасы не только не раздражают и не утомляют его, наоборот – успокаивают, возвращают уверенность. То, что Юля так близко к сердцу приняла сказанные им слова о переходе на новую программу, Муравко считал нормальным. И он бы волновался, если бы Юля уходила на опасную работу. Если любишь, за жизнь близкого человека всегда беспокоишься больше, чем за свою собственную. Это же как дважды два… Значит, он обязан внушить ей, что опасность Юля преувеличивает, что она просто не знает… «А если дело в другом? Если все из-за того, что он слишком долго стоит в очереди? Так ведь другие ждали своего часа значительно дольше. Нет, Юля должна понимать». Муравко сам, без помощи Юли, отнес Федю в детскую, растер мягким полотенцем, затолкал в пижамку и уложил спать. И пока рассказывал ему на ходу придуманную сказку про богатырей, живущих на космодроме, пока брился и ужинал, поглядывал тайком на присевшую у туалетного столика Юлю. Сквозь приоткрытую дверь спальни, приглушенно освещенную торшером, он видел, как Юля разбирала постель, как переодевалась, как рассматривала в зеркале свое лицо, разглаживая припухлости под глазами, и чувствовал, как в нем укрепляется убеждение, что все идет хорошо, что Юле он сейчас все объяснит, она все поймет. Как же иначе? Риск во все времена сопутствовал большим делам. Но ведь и риск бывает разным. Смерд боярина Лопухова Никита на самодельных крыльях полетел с вышки царского дворца в Александровской слободе. «За сие содружество с нечистой силой» выдумщику Никите отрубили голову. Знал, на что шел. Но знал, и ради чего. Человек полетел, человек набирает высоту. В шестидесятые годы для космонавтов были жестокие ограничения по массе и росту. Об этом уже забыли. Однако и сегодня не каждый жаждущий стать космонавтом может попасть в Звездный. Не так уж высоко до вершины ракеты. Однако забраться на нее не проще, чем на знаменитую Джомолунгму. Там все решает закалка, смелость, навыки да кое-какое снаряжение. А здесь? Еще сотни других качеств надо иметь! И главное – знание сложной современной техники. Число космических альпинистов едва перевалило за сотню. На всей планете. И он, Муравко, уже близок к этой вершине. Отдал четыре года жизни на подготовку. В связке идет и шаг за шагом подымается вверх. Почти у цели. Но последние шаги всегда самые трудные. Они требуют наивысшей подготовленности, наивысшего мастерства. А раз надо, значит надо. Сворачивать некуда. Только вперед или назад. Третьего не дано. А если действительно дело совсем не в этом? «Муравко, – пристыдил он себя, – недостойно мужчины подозревать любимую женщину в несуществующих грехах. Да если и действительно она хочет, чтобы скорее сбылась твоя мечта, грех невелик. Она женщина. Так что будь великодушен». Погасив свет на кухне и в коридоре, Муравко облегченно вздохнул (до чего же все-таки хорошо возвращаться домой, где тебя ждут и любят) и вошел в спальню. Юля поднялась ему навстречу, и он снова увидел в ее глазах радостное удивление. Не такое, может, восторженное, как раньше, не с таким откровением, как когда-то, но искреннее: неужели дождалась? Она вскинула руки, отчего рукава халата скользнули к плечам, и обвила шею Муравко, прижавшись к нему всем телом. – Ох, Коленька, – только и выдохнула. – Что? – шевельнул он губами возле уха. – Как долго тебя не было. – А слезы почему? – Все никак не пойму – за что мне все это? …Потом, когда она, расслабившись, положила ему голову на грудь и обняв за плечи, отдыхала, он осторожно попросил: – Рассказывай, что тебя мучит. Только все без утайки. Я пойму. Сквозь клинышек неплотно задернутой шторы в спальню пробивался свет луны, передвигался косым треугольником по стене. На фоне этого бледного треугольника Муравко отчетливо видел, как тонкое одеяло повторяет все изгибы по-детски трогательной позы Юли, ощущал идущее от нее тепло, только ей принадлежащие запахи. Почему-то подумалось: не может быть у него более горькой и более страшной потери, чем любовь и доверие вот этой прижавшейся к нему женщины. И как бы ни складывалась в будущем его судьба, что бы ни пришлось ему делать, он обязан жить и поступать так, чтобы сохранить ее любовь, ее веру, чтобы быть достойным этой любви. – Измучилась я, Коленька, – говорила Юля, не меняя позы. – Сто раз задаю себе один и тот же вопрос: зачем я встреваю в твое служебное дело, чего добиваюсь? И не нахожу убедительного ответа… Очень не хочется признаваться, что я обыкновенная баба. И желания у меня чисто бабские: быть всегда рядом с тобою, чтобы все-все смотрели и завидовали мне… Не перебивай, ты знаешь, я боюсь за тебя. Как вспомню, что пережила и перечувствовала, когда ты в грозу сажал самолет с пустыми баками, меня до сих пор колотун бьет. Если ты пойдешь на испытательную работу, такие полеты станут для тебя обыденным делом. Я каждый день буду умирать от черных мыслей. Ты же знаешь, какая я фантазерка. Не перебивай, выскажусь, тогда пожалуйста. Я не знаю, смогу ли вынести такую долгую разлуку. Ты ведь сказал, что будем встречаться один или два раза в месяц. И это на протяжении нескольких лет? Разлука – ветер. А он не только разжигает пламя, но и задувает его. Разлука разрушительна, Коленька, я это знаю. Нагляделась на своих непутевых родителей. Видел, что твой сын откаблучивает? Мальчику нужен отец. И не по выходным дням, а ежедневно. И потом, скажи мне, ты не устанешь ждать? Не разочаруешься? Столько времени отдаешь, столько сил, а вдруг все зря? Я боюсь за тебя. – Твои «убедительные доводы» не настолько убедительны, чтобы из-за них расстраиваться, – сказал Муравко с улыбкой в голосе. – Вот первый, насчет опасности. Космос – не Большой проспект на Васильевском острове. Это очень враждебная человеку среда. Он способен на непредвиденные сюрпризы. Там еще столько опасностей подстерегает нас, даже предположить трудно. Так что… – Я знаю. Но отмучаюсь один раз… – Ишь ты… Я ведь не старик, на пенсию мне рано. Если будет один полет, будет и второй, и третий… Вот твой отец. Войну прошел, горел, с парашютом выбрасывался, освоил после войны все новые истребители, через какие только испытания не прошел. А умер в кабине тренажера. На земле. В классе. Уровень опасности во многом зависит от уровня профессионализма. Обратная пропорциональность. Самолеты, как ты знаешь, летают ближе к Земле. – Ну, что ж… Пожалуй. – Что там у нас на второе? – Разлука, – вздохнула Юля. – Семечки. Моя мать ждала отца с фронта три года. А сколько у нас в стране геологов, всяких первопроходцев, арктических и антарктических экспедиций. Будут расставания, но зато будут и встречи. Как сегодня. Счастье, говорил наш замполит, измеряется не количеством прожитых вместе дней, а силой пережитых чувств. Третий твой аргумент – как бы я не пожалел. Это гадание. Знаешь сама. Вон Витя. Уже более десяти лет в отряде. Вечный дублер. И неизвестно – удастся ему слетать или нет. Возраст на пределе. А он и по здоровью, и по знаниям, и по характеру – не мне чета. Где гарантия, что я не повторю его путь? Никто мне этого не может сказать. Но такова уж профессия, выбравшая нас. Ожидание – один из нелегких барьеров, который надо преодолеть на пути в космос. Так что наберемся терпения. Да если полет и не состоится, все равно не зря. Я не только брал, но что-то и отдавал. Дальше – больше. – А Федя? – Голос Юли поскучнел. – А Федя – это серьезно. И тут, пожалуй, мне нечего сказать. Хотя… – Ну-ну, интересно. – Марию Романовну помнишь? Жену нашего командира полка, Ивана Дмитриевича. – Ну что ты спрашиваешь?.. – Так вот она однажды сказала, что роль отца в воспитании детей главным образом состоит в том, чтобы подавать пример высокой гражданственности и нравственности. Чтобы дети могли гордиться своим отцом. Отец должен быть для них высшим авторитетом… Это, конечно, относится к более взрослым детям. А Федя… Юля глубоко вздохнула. – Разгромил по всем статьям. – Но не сдалась. – А почему вдруг ты должен работать летчиком-испытателем? У других совсем не так было. И раньше ты не говорил. – Меняются задачи – меняется программа. Время не стоит на месте. И потом, знаешь, все-таки каждый день реальная авиационная работа, реальное испытание техники. Владислав Алексеевич сказал, что скоро понадобятся космонавты с большим опытом летчика-испытателя. – А если не понадобятся? Муравко помолчал, хотя мог уверенно сказать, что, как бы ни сложилась конъюнктура, он останется при деле, он будет летать, испытывать технику. – Слушай, – сказал он, прижимая Юлю, – ты хоть представляешь, как я тебя люблю? Или не представляешь? – Дурачок, – шепнула она и отыскала губами его губы. …Когда Юля заснула, он осторожно укрыл ее плечи, высунувшуюся из-под одеяла ногу, прошел в детскую. Федя, как и мать, любил спать на боку, подтянув одно колено почти к самому подбородку. Муравко и на нем поправил одеяло. На кухне нашел надрезанный пакет с кефиром, осушил его, подошел к окну. Звездный спал. Лишь кое-где тусклыми пятнами светились зашторенные окна да горели дежурные фонари наружного освещения. Более отчетливо выделялись в темноте корпуса служебной зоны. Подсвеченные где прожекторами, где мощными лампами (охраняемые объекты!), они казались недоступно-таинственными и солидно-внушительными. И хотя Муравко знал каждый закоулок в этих корпусах, каждую лабораторию, даже каждый прибор, уважительная почтительность к создателям этого уникального учебного комплекса не притупилась с годами, скорее наоборот, углубилась. – Ты почему здесь полуночничаешь? – с упреком спросила Юля, заглянув на кухню. – Да вот, кефира глотнул. – Я уже полчаса тебя жду. Глотнул он. А ну, марш в постель! Поставлю вот, как Федю, в угол. Только теперь он почувствовал, что весь закоченел. А в постели было так уютно, так пахло Юлиным теплом, что Муравко не удержал легкого стона. Юля обняла его, потерлась щекой о плечо, прижалась, и он, как тогда, в тесном автобусе на шоссе под Ленинградом, услышал, как ему в грудь стучится Юлино сердце. – Как хорошо, когда ты дома, – сказала она. Разбудил его Федор. Забрался на кровать, сел поперек груди, зажал пальцами нос. Стоило Муравко открыть глаза, как он закатился веселым смехом. В квартире пахло жареным луком, из кухни доносилось глухое позвякивание посуды, в коридоре на одной ноте верещал трехпрограммный динамик «Маяк». – Кто это мне спать не дает? – деланно сурово спросил Муравко. – Я не даю, – сказал Федор. – А ты кто таков? – Я Федор Муравко из Ленинграда. – Из Ленинграда? Разве не из Звездного? – Нет. Я родился в Ленинграде. – Родился в Ленинграде, а где живешь? – В нашем доме живу, – категорично заявил сын и потянул Муравко за руку. – Идем, будешь смотреть, как я строю поезд. Муравко взял Федора под мышки, бросил к потолку, поймал, опустил на пол. Вместе побежали в детскую, посмеялись над кривым паровозом, вместе начали делать зарядку. Заглянувшую к ним Юлю тоже заставили приседать и прыгать; с хохотом и визгом свалились в «кучу малу», получили от мамы по шлепку, еще немного побегали и пошли умываться. Когда Муравко закончил бриться, зазвонил телефон. – Коля, здравствуй, – сказал в трубке знакомый голос. – Чувствую, что не узнаёшь. Ну помучайся… Некто Булатов. Олег Викентьевич. Он же лауреат и он же твой вечный соперник. – И где ты? – Да вот тут, на проходной Звездного. – Понял. Через пять минут буду. Он опустил трубку и, схватив на вешалке меховую куртку, мигом вылетел на лестничную площадку. – Кто? – догнал его Юлин вопрос. – Олег! – крикнул он уже из лифта. Булатова он увидел через две стеклянные загородки, еще из-за угла КПП. Распахнув дубленку, тот стоял посреди зала ожидания с развернутой газетой, сосредоточенно что-то читал. Из-под сдвинутой на затылок каракулевой шапки-пирожка выбивались серебристые пряди мятых волос. Белели и виски. Словно присыпанные пудрой. Четыре года назад на его голове не было ни одного седого волоса. «Так кто здесь ожидает знаменитого космонавта?» – хотелось пошутить Муравко, но в зале сидели молодые ребята, прохаживался какой-то полковник, жевала бутерброд пожилая женщина, и он без всяких слов обнял Булатова, крепко прижал к себе. – Ну, как ты тут? – спросил Олег, когда они миновали турникет и оказались за дверью КПП. «Как видишь, нормально», – хотел привычно ответить Муравко, но ответилось неожиданное: – Слушай, я чертовски соскучился по тебе. К чему бы это? – К старости, друг мой, к старости. В определенном возрасте все мы становимся сентиментальнее. Меня вот одна брюнетка в гости тянула, а я отказался, друзей повидать захотел. – Скажи, какими судьбами? Седой весь, сутулый какой-то. Случилось что? – Сдаем, значит? – отрешенно щелкнул языком Булатов. – Так что радуйся – шансов у твоего соперника поубавилось. Но я оптимист и не теряю надежд. Самым великим достижением буду считать, если отобью у тебя Юлю. Муравко засмеялся и, кивнув махнувшему ему рукой офицеру, напомнил Булатову: – Не забывай, что я тебя из проруби вытащил. Обратно суну. – Вижу, окреп. – Так что у тебя? – Обо мне потом. Ответь мне, Коля, пока нам не помешали, на один мучающий меня вопрос. Ты варишься в этой каше и должен знать. Вот я читал, пока ты пришел, статью вашего командира. К юбилею пилотируемых космических полетов. У нас действительно все так хорошо, как он пишет? – Ничего себе вопросик. Такие вопросы надо знаешь кому задавать? А я всего-навсего кандидат в космонавты. – Я понимаю, что ты не можешь знать цифр, планов и прочей конкретики. Но быть не может, чтобы вы между собой не обсуждали. Обязаны. Должны. Мы были первыми в космосе. Почему теперь не первые? Почему американцы обошли нас с высадкой на Луну? В чем дело? Слабая техническая мысль? Нет светлых голов? Низкий уровень технологии? Или обычная рутина? Скажи мне, что ты сам думаешь по этому поводу. Эти вопросы сегодня волнуют многих. Не хлебом единым живем, нам не безразлично. – Первые на Луне не значит, что первые вообще. – Конечно, Муравко и думал об этом не раз, и спорил с друзьями. И отвечал он Булатову искренне. – Освоив орбиту, мы сразу поставили задачу извлечь из космоса народнохозяйственную пользу. И пошли путем наращивания результатов, наращивания времени пребывания на орбите. Американцам, с их гипертрофированным самолюбием, надо было во что бы то ни стало решить престижные задачи. Вот они и бросили все силы и средства на проект «Джемини». – А «Шатл»? – А что «Шатл»? На несколько дней взлетел – и на Землю. А мы месяцами держим планету под наблюдением. И еще неизвестно, что лучше, многомесячный полет троих или взлет шестерых, но на несколько дней. А ссылки на наши возможности, на уровень технологии, на общую культуру производства – бред. Нам по плечу такое, что и не снилось американцам. – Вешаешь ты мне лапшу на уши. Муравко засмеялся. – Ты же знаешь все сам. Чего спрашивать? Конечно, Америка богатая страна. И техническая мысль у них высокая. Но мы же с тобой русские, Олежка. И нам ли шапку перед ними ломать? Я верю: и дело сделаем, и престиж попутно восстановим. Попутно, понял? – Ладно, понял. Пропагандист. Как Юля? Небось ждет не дождется, когда Героем станешь? – А какая женщина не хочет, чтобы ее муж был знаменит? – Не скажи. – Булатов поправил шапку-пирожок, затолкал выбившийся шарф. – Ты просто не знаешь женщин. Они могут самозабвенно любить скатившегося на дно алкаша или ворюгу и люто ненавидеть преуспевающего талантливого мужа. Радоваться известности мужа, делить с ним успех – это могут только очень талантливые женщины. Бездарные не прощают успеха даже самому близкому человеку. Муравко посмотрел на Булатова с недоверием. Он уже не раз слышал о такой вот необъяснимой женской ревности, но относил ее больше к парадоксам, нежели к закономерному явлению. Однако не верить Булатову у него не было причин. – Как простой советский человек, не вдающийся в подробности, я завидую тебе, Коля. – Булатов помолчал, пока их обгоняли небольшой стайкой вооруженные букетами пионеры. – Стоит, понимаешь, человек одной ногой на пороге всемирной славы, у него счастливая семья, любящая жена. Э-эх, да что там… – Знаешь, а я почему-то с тоской вспоминаю те времена, когда был в полку. Булатов поправил шарф и жестко закончил: … – Все мы тоскуем об ушедшей юности. Но ее не вернешь. Даже если вернешься в те места, где тебе было когда-то очень хорошо. – Откуда седина? – А бес ее знает. – Они проходили мимо витрин промтоварного магазина. – Тут у вас курточку приличную к весне можно купить? – Завозят иногда, – пожал плечами Муравко. – У нас в Гостиный двор тоже иногда завозят. – Мы ведь не заграница. Как говорится, плоть от плоти. – Тогда что у вас есть такое, чего нету в Москве или в Ленинграде? – Москва – город. А здесь – городок. Лес близко. Прямо у дома лыжня начинается. Гаражи рядом. Правда, меня эта проблема пока не колышет. – Ты же не хочешь сказать, что и Герои ваши живут, как все? – Для Героев, доктор, и в Ленинграде предусмотрены льготы. Законом нашим. – Ладно, понял. Тему закрываем. Но городок ваш красивый. Не пойму только, от чего исходит эта красота. Эффект легендарности, что ли? Во всяком случае, я бы не отказался здесь жить. Да и работать тоже. – А что, давай, прорывайся. У медиков здесь поле деятельности довольно просторное. Рапорт по команде, обоснование… Давай, Олежка. – Быстрый ты… В лифте Муравко спросил: – А как Чижа, помнят в городке? – Памятник поставили. Юля не говорила? – Я не об этом. – Видишь ли, Коля, память – категория не постоянная. У каждого она своя. Уходят люди – уходит память. И ты прав: памятник – это еще не память. Но Чижа, мне кажется, еще помнят многие. Яркая личность. Дверь им открыла Юля. Она нарядилась, успела даже подкрутить концы своих тяжелых и упрямых волос. Теперь они были загнуты вовнутрь и упирались в лицо, четко обрамляя его ото лба до подбородка. Веснушки Юля слегка припудрила. Из-за ее расклешенного черного платья настороженно выглядывал Федор. – Вот и мы, Юлия Павловна, – сказал Булатов и, осмотрев Юлю, покачал головой. – До чего хороша, просто жуть! Муравко отметил, что Юля взволнована и, вспомнив ее рассказ о встречах с Булатовым, почувствовал короткий, но болезненный укол ревности: ведь ночевала у него, и он у нее… Но тут же устыдил самого себя и улыбнулся. Он верил Юле без оговорок, тайн у них друг от друга не было. В прихожей стало шумно и тесно. Олег обнимал и целовал то Юлю, то Федора, то снова Юлю, и делал это искренне, не боясь, что Муравко его в чем-то заподозрит. Федора рассматривал, вертел, тискал, шлепал и тот терпел, позволял, сразу приняв над собой власть этого шумного гостя. Муравко улыбнулся. – Не боишься холостым состариться? – Все может быть, Коля. – Булатов вздохнул и грустно улыбнулся. – С нетерпением жду лета, когда студенты-заочники на сессию приедут. Жду одну юную особу. Если простит, может, и мне, старому хрычу, что-то перепадет от этой жизни. Но боюсь – не простит. Булатов выразительно замолчал, и Муравко не стал развивать эту тему: на лице Булатова отразилась боль. 11 Все, о чем умолчал Булатов, случилось летом прошлого года. Над Ленинградом плыл тихий, по-летнему теплый вечер. Белые ночи уже прошли, но солнце еще не спешило за горизонт и скатывалось с небосвода нехотя, будто жалея о минувших днях весеннего разгула. В такой бы вечер не в клинику на дежурство, а на Карельский перешеек, на Красавицу, с палаткой, с любимой женщиной… Найти тихое местечко, костер разжечь, удочки забросить, чтоб потихонечку магнитофон играл… Маниловские мечты. Ни завтра, ни послезавтра, ни в обозримом будущем Булатов не мог рассчитывать на такую поездку, потому что с переездом в Ленинград, в одну из клиник Военно-медицинской академии, он по уши завалил себя научной работой, завалил добровольно и сознательно, будто спешил наверстать упущенное за годы практики в гарнизонном военном госпитале. Хотя на самом деле не так уж много он упустил и ничего не надо было наверстывать. Просто подошло время для более дерзких замыслов, пришла пора решать более сложные задачи. Обстановка в клинике тому способствовала. Выйдя из дома, Булатов не торопясь обошел разрытый участок дороги, перешел Институтский проспект, и, чтобы срезать путь к гаражу, пошел напрямик через прилегающий к студенческому общежитию скверик. На траве, на редких скамейках, группами и поодиночке занимались абитуриенты – в вузах Ленинграда шли приемные экзамены. Группировались, как правило, вокруг магнитофона или приемника, что-то бубнили над раскрытыми книгами, не обращая внимания ни на прохожих, ни на щебет птиц, ни даже на музыку, ради которой, собственно, и собирались у магнитофонов. «Не музыка им нужна, а ее наличие». Рыженькую в вельветовых брюках Булатов выхватил из пестрой компании сразу. Она была несколько в стороне, смотрела в книгу, как все, а сидела на скамейке скорчившись и подтянув к животу колени. Ее почти детские губы кривились от боли, взгляд был отсутствующим, а лоб покрыт мелкими бисеринками испарины. – Плохо? – спросил Булатов, присаживаясь рядом. Он располагал временем и мог позволить себе небольшую задержку. Рыженькая, не посмотрев, кивнула. Он профессиональным жестом взял ее за запястье левой руки, засек время. Боковым зрением заметил, как у рыженькой гримаса боли сменилась гримасой удивления и растерянности – что, мол, за географические новости? Пульс обгонял секундную стрелку примерно в два раза. Глаза возбужденно блестели. – Покажите язык. Рыженькая выполнила его просьбу с вызовом. – Где болит? – Вы чего пристаете? – пришла она в себя. – Я врач. – Я не вызывала врача. – Не валяйте дурака. У вас лихорадка. – Но вам-то какое дело? Идите, куда шли. – А если у вас инфекционное заболевание? Это мой долг. Рыженькая спрятала лицо в колени, и от покрытого пушком затылка под вырез кофточки побежал детский гребешок позвонков. – Откуда вас принесло на мою голову? – плаксиво сказала она. – Ну, поболит и отпустит. Было у меня уже такое. Отстаньте от меня. Идите, куда шли. «Иначе вас могут послать гораздо дальше, – в тон ей подумал Булатов. – Потому как филантропы во все времена были объектом насмешек». И все-таки не удержался, посоветовал: – Вызовите «скорую». Телефонная будка за углом. Рыженькая даже не посмотрела в его сторону. Он ей отплатил тем же. Гараж, который Булатову на время командировки сдал уехавший за рубеж офицер академии, стоял на противоположном конце кооперативного блока. Там был свой выезд на Институтский проспект, более близкий и более удобный, но Булатов, не раздумывая, свернул в сторону сквера и поехал почти тем же путем, что и шел к гаражу. Мягко переваливаясь из колдобины в колдобину, «Жигуль» выбрался на ровный асфальт и уже готов был рвануть, как пришпоренный конь, и понести своего седока цепко и накатисто – машину Булатов любил и содержал в порядке. Но седок не торопился со шпорами. Скамейку со скорченной фигуркой уже взволнованно окружили абитуриенты. Булатов притормозил и вышел из машины. Рыженькая выразительно-враждебно посмотрела на него снизу вверх и снова спрятала лицо с заплаканными глазами в вельветовые колени. По расширенным зрачкам ее голубых глаз Булатов понял, что боль терзает человека уже не на шутку. – Почему вы не хотите «скорую» вызвать? Девушка вздохнула и бросила на Булатова испепеляющий взгляд. – У меня завтра последний экзамен. Можете вы это понять? Да? – Голос ее был жестким. – Могу, – сказал Булатов. – Тем более вам необходима медицинская помощь сейчас. Иначе вас упекут в изолятор. Боль не тетка, свалит в обморок и привет! Толпа загудела. Кто-то осторожно спросил: – Вы что, действительно врач? – Действительно, действительно, – сказал Булатов сердито. – Что же ей делать? – Надо немедленно в клинику. Осмотрим, сделаем анализ крови, боль снимем. Если жизни не угрожает опасность – отпустим с богом домой. Вы где живете? – В общежитии. – Дом ваш где? – Далеко. – Очень точный адрес. Ладно, потом поговорим. Поехали. Она отрицательно покачала головой. – Ну что ты, в самом деле? – зашумели в толпе. «Бог ты мой, – стал злиться Булатов, – какого дьявола я уговариваю эту дурочку? Трачу время и силы. Не хочет, не надо. Пусть корчится. Жалко только, что дитя… Не представляет, как порой бывают дороги вот эти зря потерянные минуты. – А что у меня такое? – не поднимая головы, наивно спросила Рыженькая. – В животе больно. Что это? – Что угодно может быть, – начал успокаиваться Булатов. Брал верх профессионализм. – Острое отравление, заворот кишок, прободная язва. Возможен обычный гастрит. Осмотреть надо. Нельзя терять времени. Как вы этого не понимаете? Она вдруг выпрямила колени и резко встала, но тут же вскрикнула, побледнела и, схватившись за живот, расслабленно села. Виновато посмотрела на Булатова, сказала: – Спасибо, конечно, вам за внимание, но я потерплю. Пройдет. Должно пройти. Если я не поступлю, мне нельзя возвращаться домой. Я обещала. – А если умрете? – …Умру… и взятки гладки. А если жива останусь? И не поступлю? Прикинулась, скажут. Не поеду. Спасибо. Булатов подумал и махнул рукой. – Ну и помирайте, черт с вами. Он подошел к машине, рванул дверцу и привычно плюхнулся в сиденье. Мотор взревел, и «Жигуль» весело (наконец-то!) сорвался с места. Ну не глупо ли навязывать помощь, когда тебя о ней никто не просит? Десятки больных с благодарным нетерпением ждут, когда их «соизволит посмотреть сам Булатов», с надеждой следят за каждым его жестом, с подобострастными улыбками встречают и провожают при каждом обходе. А эта… красавица рыжая… принцесса с кошачьими глазами, нос картошкой… губы поварешкой… Он резко затормозил и включил заднюю передачу. Не одни же красавицы, черт побери, имеют право на его внимание. Машина нехотя поползла к тому месту, где от тротуара начиналась едва заметная тропинка, ведущая в глубину сквера. – Я вам даю слово, – сказал Булатов как можно доверительнее, – если вашей жизни в ближайшие сутки ничто не грозит, завтра вы будете сдавать экзамен. Я врач и не могу вас оставить на улице. Сидеть с вами тоже не могу. У меня дежурство. – В больницу не поеду, – упрямо заявила рыженькая. – Хорошо, – согласился Булатов, – обойдемся без больницы. – Ладно, – неожиданно согласилась она, – только я обопрусь на вашу руку… И потихоньку. Да? – Да, да, – повторил Булатов в тон. – И не задавайте лишних вопросов. Он усадил ее на сиденье рядом, пристегнул ремнем. – А мы куда? – опять насторожилась девушка. – Ко мне на квартиру. Это недалеко. – А как вы докажете, что вы врач?.. Я сильная, вы не думайте. Булатов достал из нагрудного кармана пропуск в Военно-медицинскую академию, подал ей, не поворачивая головы. – А может, вы истопником работаете? Да? Должность здесь не указана, – сказала она, разглядывая документ. Булатов засмеялся. – Похож на истопника? – Разве теперь поймешь? Ученые одеты, как дворники, а дворники – как министры. – Покажу дома диплом. – Это другое дело. Держась за живот, она придирчиво осмотрела салон, проверила замок ремня, подняла стекло. – Знобит, – сказала. И спросила: – «ОВ» – это Олег Васильевич? Да? – Викентьевич, – поправил Булатов, припарковывая машину у трансформаторной будки. Запас времени начал быстро таять. Хорошо, что пораньше из дому вышел. Он надеялся еще заскочить в магазин, продающий автомобильную косметику. Теперь все, не успеть. – Вас как зовут? – Евгения. Или просто Женька. Булатов отстегнул привязные ремни, открыл дверь. – Прошу, просто Женька. И не оглядывайтесь. Я же дал вам слово. Лифт уныло проскрипел дверью и мягко повез их на десятый этаж. Женька смотрела под ноги, и ее темно-рыжие волосы мягкими волнами спадали по щекам на грудь, на покатые плечи. Ладони рук она спрятала под свободно спадающей голубой кофтой. «Держится за живот. Значит, болит». Лифт притормозил и, плавно дотянувшись до площадки, распахнул створки. Квартиру в этом доме Булатов выменял у офицера, прибывшего в гарнизонный госпиталь, где работал Булатов, служить начальником отделения. Обмен обоих устраивал. Провернули они его в несколько дней. И хотя в авиационном гарнизоне у Булатова была квартира из двух больших комнат, огромной кухней, он отдал свои хоромы за однокомнатную девятнадцатиметровку без сожаления. Часть книг, правда, пришлось сдать в комиссионку, не хватило места для полок. Захлопнув дверь, Булатов показал Женьке, где надо лечь, а сам пошел мыть руки. – Разденьтесь до пояса, – командовал он из ванной, – расстегните брюки и ложитесь на спину. Только без резких движений. Но команды, которые всегда и везде его пациенты выполняли беспрекословно и с радостью, в этот раз были оставлены без внимания. Женька сидела на краешке широкого дивана и, то ли от боли, то ли от страха, затравленно глядела снизу вверх на Булатова. – Так, – раздраженно начал он рыться в ящике стола. – Диплом показать? Да? На, смотри, глупое дитя. – Он подал ей сразу три диплома. Об окончании института, о присвоении звания кандидата медицинских наук и диплом Лауреата. Женька уважительно прочла текст во всех трех дипломах, также уважительно положила их на стол, попросила отвернуться и быстро зашелестела одеждами. Когда она сказала «пожалуйста», Булатов подошел к дивану, присел, улыбнулся: «В чем только душа держится и откуда характер такой берется? Ребрышки, как у воробья, сквозь кожу просвечивают. Живот под одной пятерней упрятался». И только бугорки грудей с вызывающе торчащими сосками свидетельствовали, что перед ним не ребенок, а зрелая женщина. Пальпация патологии не выявила. Булатов вдавил пальцы в пах и резко отпустил их. Женька вскрикнула, обессиленно закрыла глаза, расслабленно выпрямила колени. При повторном нажатии она побледнела и покрылась испариной. – Все ясно, мадам, – Булатов успокаивающе разгладил ладонью кожу живота, поддернул за резинку трусы с вышитым на них цыпленком, застегнул на ее брюках молнию. – У вас аппендицит. Надо немедленно оперироваться. И привычно пошел мыть руки. – Олег Викентьевич, – в Женькиных глазах смешались растерянность и мольба. – У меня уже было так, через сутки прошло. Может… – Не может! – перебил он. – Да и непонятно, ради чего. Смертельный риск. Вы что? Вам еще любить не перелюбить, детей рожать, матерью быть, а вы… Черт знает что! – Но до утра ведь можно, да? – теперь уже и в голосе была мольба. – Если не пройдет, сама приду в больницу. Но до утра… Да? Вы же вон какой знающий врач. – Она кивнула на стопку дипломов. – Должен же быть какой-то выход, да? Какие-то интонации в голосе Женьки растрогали Булатова, и он стал думать, как помочь ее просьбе, а не ее болезни. Под наблюдением, конечно, можно потерпеть до утра. Но кто наблюдать будет? В клинику ее калачом не заманишь, это он уже понял. Оставить здесь? Или все-таки вызвать «скорую»? – Ну, так, – Булатов присел, взял Женьку за запястье, посмотрел в глаза. – Если вы даете мне слово, что будете вести себя честно, попробуем. – Я даю… честное слово. Верите, да? – Да. Теперь слушайте. Я вас оставлю здесь. У телефона. Буду звонить. Вы мне будете точно докладывать свое состояние. Без вранья, объективно. Да? – «Заразился словечком», подумал он, набрасывая на бумажке номер служебного телефона. – Если почувствуете ухудшение или изменения какие-то, ну, скажем, жар, озноб, немедленно звоните вот по этому телефону мне. Хорошо? – Хорошо. Я обещаю. Булатов посмотрел на часы: время поджимало, он не любил опаздывать. Открыл шкаф, подал Женьке подушку, чистую наволочку, шерстяной плед. Телефон поставил на стул рядом с диваном. – А вы не боитесь оставлять меня в квартире? – спросила она, бросив исподлобья быстрый взгляд. Булатов не ответил. – Моя фамилия Авдеева. Я в Гидрометеорологический поступаю. На заочное. Паспорт у коменданта. Я покажу потом. – Главное – лежать. Есть ничего не надо. – Я могу что-нибудь почитать? – Женька показала глазами на полки с книгами. – Читайте, но вставать осторожно. Обещаете? – Обещаю. – Женька впервые улыбнулась, и Булатов отметил, что у нее красивые крупные зубы и заразительно добрые огоньки в глазах. «Филантроп несчастный, – сказал он себе, садясь в машину. – Мало что на дежурство опоздаешь, так еще и приключений на свою голову накличешь. А случись что-нибудь?.. Затаскают!» Он стремительно пересек Каменный остров и повернул на Песочную набережную. Здесь по широкому тротуару всегда гуляли парочки, и Булатов всегда посматривал на них с тихой грустью. Он мог бы жениться. На Юльке. Но слишком долго раздумывал. Верочка почти женой была, но осталась там, в авиационном гарнизоне. Расставание не огорчило Булатова, скорее наоборот – принесло чувство облегчения. А ведь уже за тридцать перевалило. На ребятишек с интересом засматривался, своего иметь захотелось. Сорванца задиристого. Он позвонил ей сразу, как только вошел в ординаторскую. Хотя Женька и не могла похвастать отличным самочувствием, но в голосе проскальзывали оптимистичные ноты. Ей лучше, она читает рассказы Джека Лондона, хотя следовало бы читать совсем другое, она чувствует себя виноватой перед Олегом Викентьевичем и бесконечно благодарна за его бескорыстную доброту. – Если Всевышний милует и не приберет меня к себе, я вам обещаю: вы никогда не пожалеете о потраченном на меня времени. Добрые порывы души возвращаются с процентами… Видали, какая изысканность слога: «Если Всевышний милует»… После обхода больных Булатов, уже не стоя, а поудобнее усевшись в кресло, без спешки, набрал свой номер. – Ну и как наши дела? – Спасибо, Олег Викентьевич. Боль утихает. Мне стыдно признаться, но я очень хочу есть. – Придется, милая моя, потерпеть. – Да уж куда денешься… По голосу Булатов угадывал, что Женька все время улыбается. Сразу представил мягко очерченный овал рта, крупные белые зубы, искорки в глазах и улыбнулся сам. – И что вы интересного вычитали у товарища Джека Лондона? – Товарищ Джек Лондон большой жизнелюб. Он пишет о суровых краях Севера. Мне это очень близко и знакомо. – А кстати… – Где эти края? – Да. – Представьте север Якутии, Индигирку. Так вот неподалеку от того места, где она впадает в Северный Ледовитый океан, есть поселок Устье. А неподалеку от того поселка – метеостанция. Там живут и работают мои родители, там живу и я. С самого рождения. В неэлектрифицированной тундре. Так что некоторые мои дикие поступки можете объяснить условиями воспитания и недостатком витаминов. «А она не лишена чувства юмора», – решил Булатов, продолжая болтовню в том же ключе. Во время следующего телефонного диалога они попытались разобраться в причинах столь затянувшейся холостяцкой жизни Олега Викентьевича. Выслушав пространный и витиеватый монолог Булатова о сложностях взаимоотношений современных мужчин с современными женщинами, расцвете эмансипации, она заразительно рассмеялась и убежденно сказала: – Ларчик, Олег Викентьевич, открывается просто: вы не любили еще по-настоящему. – Браво. Диагноз с первого взгляда, – насмешливо сказал Булатов. – Большой опыт? – Я понимаю, что в моих устах это звучит смешно, – Женька говорила серьезно. – Но ехидничать не советую. Да? У вас все впереди. И если станете жертвой неудачной любви, зовите на помощь. Я знаю якутские наговоры. – Ну да?.. И действуют? – Еще как! «Молодец девчушка, – думал Булатов, – позабавила. Не зря он потерял с нею время. А как держится, как размышляет. Откуда?» – Мои родители, – рассказывала Женька после очередного булатовского звонка, – очень влюбленные люди. От них и мне что-то перепало. – Влюбленные? – не понял Булатов. – Да. В работу, в книги, в жизнь, друг в друга. Они собрали отличную библиотеку. – Друг в друга? По сколько же им лет? – Маме за пятьдесят. Отец на десять лет старше. Но они влюблены, как Ромео и Джульетта. И чем старше становятся, тем больше это заметно. – Это не шутка? – Что вы! Без всяких шуток! Вы бы видели, как они умеют нежно смотреть друг на друга, как предупредительны. Нет, с родителями мне повезло. Только отцу уже трудно работать. Мне предстоит заменить его. Аппаратура на станции все сложнее, без высшего образования не одолеть, вот я и решила… – После экзамена вам все равно надо лечь на операцию. – Хотите убедиться в правильности диагноза? – улыбнулась Женька. – Вскрытие покажет. Так у вас говорят? Телефонные беседы с Женькой внесли какое-то разнообразие в скучное ночное дежурство. Набрав в очередной раз номер и не услышав сразу ее ответа, он не на шутку заволновался. Вдруг ей плохо, вдруг потеряла сознание. Слушая длинные гудки, Булатов стал лихорадочно прикидывать, сколько времени у него займет поездка по ночному Ленинграду домой и обратно, кому из медсестер поручить свои обязанности, как объяснить причину отлучки, что сказать… – Да, да, я слушаю, – оборвал его размышления сонный голос. – Ой, простите, Олег Викентьевич, мне стало так хорошо, что я замертво провалилась в сон. Как ненормальная: отлично слышу звонки, а проснуться не могу. Еле уговорила себя открыть глаза. Ну и ладно, ну и слава Всевышнему, что он миловал… Домой Булатов вернулся в начале восьмого. Утренний дождь оросил зеленую волну лесопарковой зоны, и вдохновленные чистой свежестью рассвета пернатые прямо-таки надрывались, демонстрируя друг перед другом силу своих голосовых связок. Тронутый солнечными лучами асфальт неторопливо дымился и незлобливо шипел под колесами автомобилей. Такими мажорными рассветами Ленинград не часто баловал горожан, и Булатов подумал, что сегодня, хоть он ночь и не спал, можно было бы уехать на Карельский перешеек. И прихватить с собою Женьку. Если бы, конечно, не ее дурацкий экзамен. На всякий случай он не стал загонять машину в гараж и поставил ее на привычное место у трансформаторной будки. Дверь в квартиру открыл ключом и тихо, на цыпочках, вошел в прихожую. Чтобы не разбудить, если спит. Наступая поочередно носком на задники туфель, не расшнуровывая, осторожно снял их и так же осторожно вошел в комнату. Женька спала, заложив за голову ладони. От вчерашней настороженности, от болезненной бледности лица не осталось и следа. На щеках мягкий румянец, с приоткрытых губ готова была в любую секунду вспорхнуть удивленная улыбка. И совсем она не была рыжей, какой показалась Булатову в скверике, скорее – золотистая, и нос не картошкой. Да, широкий нос, и не совсем правильной формы, но у нее и глаза широко расставлены. Тонкий классический нос тут мог все испортить. А уж насчет того, что губы поварешкой, так это он явно для красного словца ляпнул. Губы у нее просто красивые. Особенно, когда она улыбается. Булатов присел возле дивана на корточки и положил Женьке на лоб свою ладонь. Сон, конечно, лучшее лекарство, но у нее экзамен. Жара как не бывало. – Жень, – позвал Булатов осторожно. Но Женька только шевельнула губами. – Женька, – сказал он громче и с напускной строгостью, – пора на экзамен. Слышишь? – Ну что за люди, – сонно упрекнула Женька, – человек ночь не спал, где у вас сердце? Но открыв глаза, сразу все поняла. Попросила Булатова отвернуться, а еще лучше – выйти, засуетилась, ища расческу и одновременно кутаясь в плед. Ее вельветовые брюки висели на спинке стула, который стоял у книжной полки, метрах в трех от дивана. Булатов хмыкнул и вышел на кухню, плотно притворив за собою дверь. Поставил на плиту чайник, приготовил бутерброды с сыром, вскрыл непочатую банку с растворимым кофе. За долгие годы холостяцкой жизни он наловчился делать всякие завтраки-ужины с ловкостью фокусника. Когда Женька, умывшись и причесавшись, просунула голову в щель кухонной двери, она не смогла удержаться от восторженного удивления. – А мне можно? – Можно, садитесь. – Вы не чувствуете угрызений совести, – спросила Женька, уплетая бутерброд, – что хотели раньше времени зарезать меня? – Чувствую, – в тон ей сказал Булатов. – Врачу-профессионалу с таким, как у меня опытом, должно быть очень стыдно, что он пошел на поводу у девчонки. Якутские наговоры? Женька застенчиво улыбнулась, отводя глаза. – Продолжаете настаивать на операции? – спросила она. – Чего уж теперь… – Ну не печальтесь. Я не подведу вас. – Когда экзамен? – В десять. – Я подвезу? – Ни в коем случае. И так я перед вами вечная должница. Здесь где-то рядом станция метро. Она бросала на Булатова изучающие взгляды и мягко улыбалась каким-то своим мыслям. Заглянувший в кухню солнечный луч запутался в ее волосах, высветил детский пушок на затылке, бугорки позвонков. И Булатов уже твердо и однозначно объяснил подступившую нежность к этому существу – она все-таки ребенок. Он проводил ее к лифту. Войдя в кабину, ребенок осмотрелся, порывисто шагнул к Булатову, также порывисто обхватил его шею и на миг прижался гладкой щекой к его колючей небритой щеке. Булатов успел только догадаться, что на его губах тает вкус ее теплых губ, но дверь лифта уже закрылась и кабина с мягким гулом поползла вниз. «Вот тебе и ребенок…» На лестничной площадке остался легкий запах ее волос. «Не очень-то гордитесь, Олег Викентьевич, – придя в себя, подумал Булатов. – Это мог быть вполне уместный в данной ситуации поцелуй благодарности». Отоспавшись, Булатов вторую половину дня провел в клинике. Работал со слушателями, готовил диапозитивы для очередной лекции, сортировал рабочие бумаги, консультировал больных. И странно, ни на минуту не забывал, что должна позвонить Женька. Она не обещала, но он знал – позвонит. Ждал звонка и дома. До глубокой ночи перечитывал Джека Лондона, поставив рядом с диваном телефон. Плохо спал. Утром набрал справочный номер «Скорой помощи» и спросил, не поступала ли к ним Авдеева Евгения с острым аппендицитом? Нет, через «Скорую» такая не проходила. «Что же это я? – попытался успокоить себя Булатов. – Проявил внимание, помог, получил благодарный поцелуй. Все. Тема закрыта. Чего еще тебе надобно, старче?» Проще всего было бы заехать в институт и узнать: поступила Женька Авдеева или нет. Списки наверняка вывешены. Только зачем? Да и где он, этот Гидрометеорологический? А у него с самого утра лекции. Три пары. Времени осталось позавтракать и доехать. Хотя завтрак один раз и пропустить не грех. «Олег Викентьевич, не суетись, – приструнил он себя еще раз. – Несолидно. И где-то даже смешно». Сидя уже за рулем, он попытался проанализировать мотивы своего ненормального поведения, но аналитического анализа, которым он успешно владел в диагностике, не получалось. Улицы захлестнул транспортный поток, и приходилось бдительно следить за дорожной обстановкой, то и дело перекладывая ногу с газа на тормоз и наоборот. Машины, выбрасывая клубы перегара, волной летели к перекрестку, боясь опоздать на зеленый светофор, а если опаздывали, то нетерпеливо рычали и по желтому свету срывались с места, словно участвовали в раллийной гонке. В такой обстановке надо заниматься совсем другими анализами, если не хочешь влипнуть в ДТП – дорожно-транспортное происшествие. Однажды Булатов прочитал на кузове идущего впереди грузовика надпись: «Чтоб не влипнуть в ДТП, соблюдайте ПДД». Правила дорожного движения. Он засмеялся и чуть не врезался в этот грузовик, без предупреждения затормозивший у обочины. Оказалось, огни стоп-сигнала у этого поборника ПДД просто-напросто не работали. Женька позвонила в середине дня. Из аэропорта. Экзамен она сдала на отлично, ее зачислили в институт, через сорок минут самолет улетает в Якутск. Женька благодарила судьбу, что в трудную минуту Всевышний послал ей хорошего человека, что память о нем она будет хранить всю жизнь, и если когда-нибудь у нее будут дети, она и детям расскажет про сильного, доброго, умного доктора Олега Викентьевича Булатова. – Если у вас появится желание очень интересно провести свой отпуск, – говорила Женька с грустью, – прилетайте к нам в Устье. Там вы увидите такое, чего не увидите нигде и никогда. А уж как бы я была рада, и говорить страшно. Да? – Послушай, малыш, – голос Булатова сдавило волнением, – я хочу тебя видеть. Не улетай. – Он даже не заметил, что перешел на «ты». Было ощущение, будто он звал ее на «ты» все время. – Сдай билет, слышишь. – Не могу, Олег Викентьевич. Телеграмму родителям отстучала. Да и вообще… – Через двадцать минут я буду в аэропорту, – он бросил трубку, сорвал с себя халат и, на ходу надевая пиджак, побежал вниз. Знал, будет неприятный разговор с начальником клиники (Булатов срывал лабораторные занятия), будет и сам потом жалеть, но остановиться уже не мог. Какая-то необузданная, незнакомая ему ранее сила безотчетно гнала его незнамо куда и незнамо зачем. Положим, «куда» Булатов знал. В Пулковский аэропорт. А вот «зачем» – тут и в самом деле стоило задуматься. Чего он хочет? Чего ждет от этой встречи? На кой ляд сдалась она ему, эта полуженщина, полуребенок? «Ларчик, Олег Викентьевич, открывается просто, – вспомнил вдруг сказанные Женькой слова. – Вы не любили еще по-настоящему». Вспомнил и насмешливо хмыкнул. Уж не она ли решила восполнить этот пробел в его биографии? Ведь не случайно говорила, что знает якутские наговоры. Взяла и воспользовалась. Так сказать, в корыстных целях. Пожалуй, с этого можно и разговор в аэропорту начать. Перекресток Московского проспекта и Бассейной улицы закрыли для ремонта. Стелили дымящийся, исходящий жаром асфальт. Транспортный поток повернули в объезд на узкие, забитые припаркованными машинами улицы. Скорость снизилась до пешеходной. Взглянув на часы, Булатов понял – опаздывает. Он метнулся в один переулок, в другой – все перекрыто дощатыми щитами строительно-монтажных управлений. Снова втиснулся в поток и сразу почувствовал его наэлектризованный нерв. Тут дергаться и суетиться опасно, затрут. Лучше, как все. Время дорого каждому. Наконец-то опять прямой проспект. Обогнув площадь Победы, Булатов рванул, не глядя на спидометр. У КПП инспектор поднял жезл, но Булатов не остановился. Он надеялся, что вылет самолета на Якутск задержится хотя бы на несколько минут, и тогда он успеет ее увидеть и все сказать. А штраф, просечка, бог с ними, только бы успеть. Булатов не притормозил даже перед въездом на пандус. Взлетел наверх, как ураган, и с визгом замер у входа в зал. Он еще не успел закрыть машину, как услышал объявление диктора: закончена посадка на рейс, следующий до Якутска… Булатов выругался, обозвав Женьку соплюхой и психопаткой (не могла позвонить раньше?), прошелся по залу, уточнил по радиосправке, действительно ли закончена посадка на Якутск, вышел к парапету, где стояли автобусы «Интуриста». Почти от самого аэровокзала могучий «КРАЗ» потихоньку оттаскивал поблескивающий свеженьким лаком ТУ-154. И Булатов (надо же такое!) увидел прилипшее к продолговатому оконцу Женькино лицо. Она тоже увидела его, радостно кивала, показывала, что напишет, что-то еще объясняла, но самолет уже описал полную дугу на развороте и, показав хвост, неторопливо покатился на взлетно-посадочную полосу. Булатов подождал, пока он взлетит, и вернулся к машине. Впереди его «Жигуленка» стоял «Жигуленок» ГАИ. Неприступно-строгий лейтенант терпеливо ждал нарушителя. Булатов сам подал ему удостоверение и технический паспорт. – Вы превысили скорость, – сказал инспектор. – Превысил, – не стал возражать водитель. – Умышленно? – Да. – Значит, на всю катушку. С просечкой. – Сколько? – Булатов сразу заметил возле правого глаза инспектора небольшую базалиому-опухоль. Указав на нее глазами, спросил: – Лечить не пробовали? Инспектор уже занес над вкладным талоном компостер, но, услышав вопрос, задержал миг возмездия. – Говорят, лучше не трогать. – Чепуха. Базалиому сейчас прекрасно лечат лазером или криодеструкцией – жидким азотом. Как правило, никаких следов. – Где лечат? – В нашей клинике тоже. Я врач. – А-а, – сказал инспектор и с удовольствием прошпандорил талон. Видимо, с медициной у лейтенанта были свои счеты. Булатов не почувствовал огорчения. Болело другое. Потом как отрезало. Бежали дни, складывались в недели. В конце августа начальство предложило ему догулять свой отпуск, пока не начались занятия. Он берег эти десять дней на всякий пожарный: в публичку зарыться или махануть на южный берег Крыма, мало ли… И тут всплыло. «Если у вас появится желание очень интересно провести свой отпуск…» Появилось, малыш, появилось! «А уж как бы я была рада…» Будешь, малыш, будешь! И он помчался правдами и неправдами добывать билет на якутский авиарейс. Добыл. И уже на следующий день вылетел. После полусуточного полета с двумя посадками и со сменой нескольких часовых поясов он с неожиданной гордостью ощутил, какая огромная у него страна. Не то что взглядом, мыслью не охватишь! «Далеко же ты забралась, милая подружка». На прямой рейс в район Алайхи он опоздал, но был самолет до Вихреямска, ему советовали лететь, там есть местные авиалинии. Булатов рискнул. Даже не заезжая в Якутск, улетел дальше, перехватив на ходу черствый бутерброд в буфете. Решил, что столицу республики посмотрит на обратном пути. АН-24 не ТУ, шел на небольшой высоте и вздрагивал, как на кочках телега; можно было вдоволь любоваться пейзажами. А пейзажи, надо сказать, открылись Булатову довольно-таки унылые и однообразные. Рваные дырки озер среди бесконечной плеши вечной мерзлоты, редкие пятна серой растительности. Когда на пути вздыбились горы со своими неожиданными провалами и взлетающими под самое брюхо самолету хребтами, сразу стало интересно, в салоне оживился народ. Заерзали, заговорили, стюардесса с миндальными глазами вынесла на подносе минеральную воду, предложила пассажирам якутские сувениры. Булатов в сердцах ругнул себя. Называется, едет в гости! Ни подарка, ни сувенира, «ни даже хусточки», как любила говорить его мать. Ах, балда, балда! А у стюардессы выбор был до обидного скудный. Какие-то кошельки, брелочки, маникюрные наборы. Вот разве что розетка из чароита стоила внимания. Камень не драгоценный, но в нем была какая-то убедительность, глубина цвета и загадочность оттенков. …Вылет на Алайху задерживался в связи с неприбытием самолета. Когда самолет прибудет, Булатов не смог узнать ни у кого. «Ждите, будет объявлено». Вот и весь сказ. Он решил на попутке съездить в Вихреямск. Даже если самолет прилетит через два часа, а это как раз и есть подлетное время, он вполне управится. Городок был уныл и однообразен. Деревянные дома стояли на высоких сваях, ветер неистово гонял под ними пожелтевшие газеты, тряпки, пустые консервные банки. Банками были завалены канавы, ямы, они блестели в мусорных кучах, возле крылечек домов, под окнами. Можно было подумать, что здесь, кроме консервов, больше ничего не едят. В промтоварном магазине ему понравились женские сапожки из оленьей шкуры. Нет, не пимы, именно сапожки. На толстой резиновой подошве с небольшим каблучком. Женьке они бы пошли. Но какой размер нужен? Продавщица предупредила, что надо брать на номер больше. – В этих сапожках невысокий подъем, да и лишний носок не помешает. Вещь зимняя. На номер больше, на номер меньше, была не была. Его спортивная сумка с фирменным знаком Ади Даслера разбухла и потяжелела. Пора было возвращаться в аэропорт. Булатов вышел на центральную улицу, попробовал договориться с местными водителями, но желающих везти его за тридевять земель (каких-то сорок километров!) не нашлось. Все ему советовали выходить на трассу и ждать попутку. Какой-то сердобольный мужичок даже подбросил до развилки. Попутка в конце концов нашлась, но когда Булатов прикатил в аэропорт, самолет на Алайху улетел. Переночевав на скамейке зала ожидания, Булатов смог продолжить свое путешествие только на следующий день, тем самым рейсом, которого он не захотел ждать в Якутске. Аэропорт и речной порт в Алайхе были разделены примерно двумя километрами. Полчаса ходу пешком. Так объяснили ему попутчики. Но только открылась в самолете дверь, как Булатов понял, что прилетел совсем не в Крым. Если в Якутске было плюс двадцать пять, то здесь, в Алайхе, всего плюс два. Булатов сразу понял, что в своей курточке на рыбьем меху, да еще без головного убора, он недалеко уедет. Узнав в порту, что катер на Устье пойдет лишь на следующий день, Булатов попросил показать ему, где располагается районная больница. Вдруг кто-то знакомый отыщется. Улицы Алайхи выглядели не чище Вихреямских. Те же деревянные двухэтажки, те же сваи, те же консервные банки. – А что делать? – скажут ему потом в больнице. – В земле всю эту дрянь не зароешь. Вечная мерзлота. Все вылазит из нее наружу. Ничего не держит она в себе. Коллеги приняли Булатова неожиданно гостеприимно, жадно расспрашивали о Ленинграде (почти половина врачей больницы училась когда-то в Первом медицинском), интересовались всем: что в театрах, какая мода, есть ли колбаса в гастрономах, правда ли, что началось строительство дамбы в заливе, почему уехал Райкин в Москву и так далее… Булатов даже успел проконсультировать нескольких больных, а на следующий день из-за него на два часа задержали катер, потому что столичный доктор ассистировал на операции, которую делали капитану рефрижератора местного порта. Операция оказалась сложной, и Булатову пришлось несколько раз корректно поправить местного хирурга. Тот не обиделся, скорее наоборот – искренне выражал свою признательность. Здесь Булатову дали напрокат черный полушубок и меховую шапку. Путешествие по Индигирке запомнилось монотонным однообразием. Тундра справа, тундра слева. Редкие холмы. Двухметровые берега, поблескивающие черным льдом вечной мерзлоты. Полуразвалившиеся зимовья местных рыбаков. И насколько хватает глаза – белые и ярко-синие пятна цветов. Самым, конечно, удивительным мгновением его долгого путешествия была встреча катера в Устье. Пассажиры сходили по узкому пружинящему трапу, держась за тонкую веревочку. Сходили не вниз, как это обычно бывает, а вверх, на черный айсберг берега, покрытый тонким травяным ковром. По отвесному срезу вечного льда струились черные потоки. Возбужденно тявкали огромные северные чайки, им лениво вторили грязные кудлатые собаки, встречающие восторженно принимали в объятия чуть ли не каждого пассажира. У Булатова учащенно забилось сердце, когда он увидел среди встречающих Женьку. Ее красные варежки суетливо теребили у подбородка концы пушистого платка, овалом перехватившего золотистые волосы, она никак не могла расстегнуть крючок мохнатого овчинного воротника. Из-под короткого, плотно облегающего Женькину фигуру тулупчика выглядывали знакомые вельветовые брючки, и Булатов обрадовался им, будто затем и отмахал несколько тысяч километров, чтобы увидеть не Женьку, а эти брюки. А она смущенно улыбалась и боялась поднять на него глаза, все норовила отвести взгляд в сторону. Булатову остро захотелось, чтобы Женька бросилась к нему, обвила его шею руками, прижалась щекой к щеке. Как тогда, возле лифта. Но она не шевельнулась, сдавив подбородок красными варежками. – Вот я и прилетел к тебе, – сказал Булатов, остановившись в двух шагах от Женьки. – Здравствуй, малыш. – Я очень рада, Олег Викентьевич, – Женька смотрела наконец ему прямо в зрачки, словно хотела сразу все понять, или хотя бы поточнее угадать мотивировку этого неожиданного для нее визита. – Вот мои друзья. – Она потрепала загривки двум собакам. – Чук и Гек. Они братья. Лобастые лайки подозрительно вскинули глаза на незнакомого человека, чутко шевельнули острыми ушами в ожидании команды. Женька погладила их и мягко сказала: – Нет, нет, это свой. Да? – Случайно здесь или знала? – спросил Булатов. – Из Алайхи было радио. Вся округа уже знает, что ленинградский профессор Булатов спас жизнь нашему капитану рефрижератора. Да? – Ну звонари, – улыбнулся Булатов. – Я всего лишь доцент и на операции только ассистировал. Он повернулся и с удивлением заметил, что разговаривающие на каком-то необычном диалекте люди, и те, что встречали, и те, что плыли вместе с ним на катере, внимательно разглядывают их с Женькой. Булатов осмотрел себя. – Видишь, как меня одели в Алайхе? – Это я виновата, не предупредила. – Не верила, что прилечу? Женька не ответила. Лишь покосилась глазами и застенчиво улыбнулась. Тут же кому-то стоявшему за спиной Булатова кивнула, с кем-то попрощалась, коротко махнув варежкой, кому-то пообещала заглянуть. – Идемте, Олег Викентьевич, – Женька подтолкнула собак и они, закинув хвосты-колечки на спину, неторопливо побежали вдоль берега. – Здесь быстро смеркается, а нам еще топать да топать. В руках у нее была тяжелая хозяйственная сумка, из которой выглядывали бутылки с подсолнечным маслом, какие-то пакеты, хлеб, консервные банки. Булатов молча забрал сумку, Женька так же молча приняла эту заботу. – Как врач я обязан знать самочувствие моей пациентки? – Бодрое, вашими молитвами. Да? – Родители здоровы? – По возрасту. Нащупывая тональность разговора, Булатов не мог понять причины возникшей вдруг скованности. Не свататься же он в конце концов приехал. Было бы неприлично взрослому человеку так легкомысленно вести себя. Полчаса знакомства, несколько телефонных звонков, один полудетский поцелуй в благодарность за ночлег, и готово – я без вас жить не могу. Он действительно мечтал побывать в этих краях, по Лене собирался проплыть, до Тикси добраться. Так что Женькино приглашение было лишь тем последним толчком, который помог реализовать давно задуманный план. Вот в соответствии с этой диспозицией должна строиться и линия поведения. Ума у Женьки и чувства такта вполне достаточно, чтобы не делать ложных выводов из его визита, а следовательно, не надо кукситься и вымучивать фразы, больше раскованности и непосредственности. – Родители твои не переполошились? – Олег Викентьевич, – засмеялась Женька, – что вы, ей-богу? В Ленинграде я восхищалась вашей уверенностью и независимым поведением. Да здесь рады каждому новому человеку. Как родному. А вы мой спаситель. И прилетели сюда не бедным родственником, а въехали на белом коне. Вас здесь в любом доме будут сажать в красный угол. Кормить отборными сортами рыбы, спиртом поить. Вот это единственное, от чего бы я вам рекомендовала воздержаться. Да? Тут умеют уговаривать. На сколько вы дней к нам? – Первого сентября должен вернуться. Женька нахмурилась и вздохнула. – Как вам не стыдно, – сказала она строго, но с плохо скрытым удовлетворением, – лететь за несколько тысяч километров всего на какую-то недельку. Да? – Главное, что я долетел. Тундра мягко погружалась в сумерки и в тишину. За бугром остался поселок с лаем собак и стуком дизеля, там же, за бугром, только уже беззвучно, кружили тяжелые чайки, а впереди, где-то очень далеко, ритмично сотрясал землю едва уловимый гул. Булатов прислушался, и Женька сразу объяснила: – Это океан. Я покажу вам. К утру шторм уляжется. Под ногами похрустывал сухой ягель, а в стороне от натоптанной тропки собаки смачно шлепали лапами по невидимой воде. Приглядев бугорок посуше, Булатов поставил сумки на землю и нарвал каких-то незнакомых ему темно-синих цветов. Подошел к Женьке, вытянулся, наклонил голову и галантно преподнес букет. Женька молча приняла подарок, прижалась к цветам улыбающимися губами, и быстро отвернулась. – Я что-то не так? – смутился Булатов. – Да нет, ничего, – сказала Женька. – Мне никто никогда не дарил цветов. – Ну, малыш, – Булатов почувствовал толчок в грудь, будто сердце расширилось и вздрогнуло, – только ради этого мне стоило лететь за тысячи километров. Плоский домик метеостанции с различными антеннами, пристройками, приборной площадкой вырос в сумерках сразу и неожиданно. Чук и Гек весело заскулили, посмотрев на Женьку, и стремглав рванули к высокому, как самолетный трап, крыльцу. – Вот мы и дома, – сказала Женька. И прошептала: – Вы даже не представляете, как я рада. – Жень, – вспомнил Булатов, – я без разрешения на «ты» перешел. Это ничего? – Считайте, что сделали мне подарок, – шепнула она торопливо, увидев на крыльце отца. Булатов поклонился, представился, назвав фамилию, имя и отчество, сообщил, что он доцент Ленинградской военно-медицинской академии и что сейчас сам не верит в то, что отважился на такое путешествие. – Заслуга вашей дочери. Сумела убедить. Дмитрий Дмитриевич (Митрий Митрич – представился он Булатову) удивленно хмыкнул в густую бороду и посмотрел на Женьку. Мол, раньше мы таких способностей за ней не замечали. Пригласил в дом. Если отца Женьки Булатов примерно таким и представлял, то Ангелина Ивановна удивила многим: и изысканно уложенной прической, и строгим вечерним платьем, прикрывающим легкие туфли на тонком высоком каблуке, и больше всего – своей непосредственностью. – У хозяйки как в театре перед премьерой, – говорила она Булатову. – Последний гвоздь на сцене забивают перед самым подъемом занавеса. Если бы Булатов не знал, что Ангелина Ивановна мать Женьки, мог подумать, что они сестры. С разницей в десять – двенадцать лет. Сходство было во всем, даже в голосах. Стопроцентная мамина дочка. – Маман, ты сегодня превзошла себя, – сказала Женька с восхищением. – Привыкли, понимаете, видеть меня в джинсах да в ватнике, – апеллировала Ангелина Ивановна к гостю, – оделась, как женщина, – не узнают. – И заговорщицки подмигнула Булатову. – Пусть знают наших. Эти ее реплики, доверительная манера обращения с Булатовым, сразу определили тональность и его поведения. Он почувствовал, что находится среди близких людей, где можно безбоязненно шутить, откровенно высказывать свои мысли, задавать любые вопросы. Женька видела, что ее гость пришелся родителям по душе, и тихо повизгивала от счастья. Постелили Булатову в комнате Женьки, на ее же кровати. Вспомнили по этому поводу старинное поверье о вещих снах, посмеялись, пожелали гостю спокойной ночи. Где-то в отдалении стучал движок местной энергоустановки, маленькие окна вздрагивали от ударов вдруг налетавшего ветра. Булатов закинул за голову руки и стал рассматривать искусно скроенные из кусочков шкур аппликации, вправленные в небольшие самодельные рамочки. Он знал уже – это работы Женьки. Отпуск, можно сказать, только начинался, а впечатления уже захлестывали. Впрочем, нынешний вечер затмил все, что было вчера и позавчера. Перед глазами Булатова продолжали стоять спокойно-мудрое лицо Дмитрия Дмитриевича, не сказавшего за весь вечер и десяти фраз, возбужденно-азартные глаза Ангелины Ивановны, наговорившейся до хрипоты в горле, и застенчиво-добрая улыбка Женьки. Разглядывая ее лицо, Булатов понял, что девочка взяла от своих родителей все самое лучшее, потому что родилась от большой любви и выросла в атмосфере большой любви. Какой-то мизерный клочок этой атмосферы перепал сегодня и Булатову. С тех пор, как он остался без отца, а было ему в тот год семь лет, Булатов не знал ни семейного тепла, ни семейной любви. У матери всегда хватало своих проблем, бабушки и дедушки жили в недосягаемой глубинке. Став студентом, он получил от матери полную самостоятельность с отдельной квартирой в придачу. Повезет ли Женьке, как повезло ее матери? Обидно будет, если такое чистое существо попадет в руки какому-нибудь охламону. Воспользоваться ее доверчивостью охотники найдутся. Впрочем, так ли она проста и доверчива? Булатов вспомнил, какими колючими и неприступными были глаза Женьки при первом знакомстве, как она цепко изучала его дипломы, как была напряжена – рысь перед прыжком! И от этого воспоминания ему стало покойно и хорошо. Он провалился в сон и никогда не узнал потом, что к нему заходила в комнату Женька, долго смотрела на него, беззвучно шевеля губами, даже поправила подушку, вплотную приблизив к нему лицо, и, выключив свет, тихо вышла. Утром она сама и разбудила его, сказав, что пока не испортилась погода, надо побывать у хозяина Хрустальной горы. На вопросы, где это и что это, Женька не ответила, лишь мотнула головой и сказала: «Терпение, мой друг, терпение». Она сама и кормила его, с проворной ловкостью убирая и выставляя тарелки на стол. На ней были все те же вельветовые брюки и пушистый свободный свитер, за мягкими складками которого угадывалась тонкая гибкая талия, по-девичьи узкие бедра. «И живот, – вспомнил Булатов, – умещающийся под одной ладонью». Он поймал себя на желании хотя бы еще раз прикоснуться к ее чистой прозрачной коже. На крыльце Булатов задержался, опершись руками о перила. Окинул взглядом тундру и ораторским голосом обратился к замершим внизу собакам: – Уважаемые товарищи чукчи и гекчи! – Здесь чукчи не живут, – поправила его Женька. – Тем более гекчи. И потянула за рукав тулупа. Булатов уже давно не чувствовал себя таким беззаботно озорным. Они шли хорошо натоптанной тропой к реке, смеялись, вспоминая подробности своего знакомства. Вокруг них кувыркались в игре и беспричинно весело лаяли Чук и Гек. Хмурилась Женька, лишь присматриваясь к небу. – Чем оно тебе не нравится? – Родители в Заимке. А дорога – морем. Как бы волна не поднялась. – Тихо ведь. – Ага… Это не та тишина. – Впервые, что ли? – Океан не спрашивает. У пристани, сколоченной из неотесанных бревен, стояла на сваях цистерна для горючего, несколько металлических бочек, небольшой навес, дощатая будка. – Здесь горючее подвозят для нашей силовой установки, в кладовке запасные приборы, детали к аппаратуре, расходные материалы, – пояснила Женька. – Ящики с консервами. – А почему не заперто? – От кого? – Ну мало ли? Женька весело засмеялась и уверенно шагнула в покачнувшуюся «Казанку» с подвесным мотором. Чук и Гек немедленно последовали ее примеру. Женька жестом позвала Булатова. Когда он сел на жесткую скамью, она сняла с мотора чехол, дернула шнур и, как заправский рулевой, вывела моторку к противоположному берегу, держа ее нос против течения. – Здесь не так бьет волна, – крикнула она Булатову, – скорее доберемся к Хрустальной горе. Женька знала, чем удивить Булатова. Они пристали к причалу, взошли по пологому трапу на берег. Прямо от берегового настила к подножию кургана тянулась проржавевшая узкоколейка. На дальнем ее конце стояла небольшая вагонетка с низкими бортами. Булатов взял Женьку за руку и, балансируя, пошел по узкому рельсу. Метров через десять Женька потянула его к небольшому домику, похожему на строительный вагончик. – Визит хозяину надо нанести. У домика валялись бутылки, ржавые банки, дрова, уголь, старое тряпье. На смятой телогрейке живой кучкой жались друг к другу слепые щенки. Женька присела возле них, сняла варежку, погладила каждого по спинке. Булатов тоже протянул руку, но из-за вагончика раздался негромкий, но выразительно предупреждающий рык. – Нет, нет, не трогайте, – испугалась Женька, – Марта может руку отхватить. – Тебя же не тронула. – Меня она знает. Они вошли в домик. На металлической плите жарилась в огромной сковороде рыба. Дощатый стол был завален остатками еды, какими-то копиями накладных, бумажными гильзами от охотничьего ружья и еще черт знает чем. Из-за ширмы вышел худой и заросший, как Робинзон, мужчина. Примерно сорокалетнего возраста. В телогрейке на голое тело, в фирменных, хотя и изрядно потертых джинсах. – Здравствуйте, Евгения Дмитриевна, – учтиво сказал он, не замечая Булатова. – Здравствуй, Сева, – Женька взяла под руку Булатова. – Это мой друг из Ленинграда. Олег Викентьевич. – Тот самый? – Покажи нам хрустальный дворец, Сева, – неудостоила Женька его ответом. – Покажу, Евгения Дмитриевна, только надо сначала рыбки попробовать. – Мы завтракали, Сева. – Тогда идите наверх. Я скоро. От жареной рыбы шел тонкий аромат, и Булатов был не прочь отведать ее. Но Женька осторожно потянула его к выходу, и он послушно вышел. Ей лучше знать, как здесь вести себя. Они снова вернулись к узкоколейке. – Жень, – Булатов взял Женькину руку, предварительно сняв с нее варежку, – а ты бы не могла и меня, как Севу этого, просто Олегом называть и на «ты»? – Нет, Олег Викентьевич, – смутилась Женька, – с Севой у нас такие взаимоотношения установились, когда я была совсем маленькой. Он меня ботанике обучал, зоологии, другим естественным наукам. Женька рассказала, что Сева у этой горы живет и работает уже лет двадцать, приехал сразу после окончания биофака в МГУ, и никуда с тех пор не уезжал. Даже в отпуск. Читает лишь то, что ему случайно перепадает от местных рыбаков; раньше пользовался радиоприемником, а теперь и радио слушать не хочет. – Чем же он живет? – Принимает от рыбаков уловы, потом передает рыбу на рефрижератор. Два-три раза за сезон. Охотится. Только на уток. Зимой промышляет песца… Одни говорят, – продолжала Женька, – что у него неразделенная любовь, другие считают его блаженным, третьи подозревают, что скрывается от правосудия… Он добрый, никому не сделал зла, если просят помочь – не отказывает. Был очень хорошим учителем у меня. Государственные интересы блюдет как свои. Его тут пытались обмануть – не вышло, пробовали подкупить – тоже ничего не получилось, угрожали расправой – не испугался. Даже женить хотели. Так он отговорил невесту. Вход в ледяной холм, так называемую «линзу», напоминал вход в блиндаж. За тяжелой дверью, над которой висела брезентовая занавеска, начинался пологий спуск по дощатому пандусу, потом еще одна брезентовая штора, а вот уже за нею – открылся действительно хрустальный дворец. Ослепленный сверкающей радугой отраженных огней, Булатов сразу и не понял, куда он попал. Потом пришел в себя, осмотрелся. Хрустальный дворец был обыкновенным холодильником, который вырубили в промерзшем до основания озерце. Вправо и влево от центрального коридора в сплошном льду были вырублены сводчатые залы, где хранилась выловленная в Индигирке рыба самых ценных сортов, а поскольку лед был чист и прозрачен, через него пробивался свет ламп из всех помещений, играя в гранях кристаллов самыми причудливыми оттенками. В одном из таких залов Женька вдруг исчезла. Стояла рядом и как испарилась. Неожиданно Булатов увидел ее за толстой стеной льда в торце зала. Как она туда попала? Так же вдруг Женька появилась с ним рядом. На лице играла плутоватая улыбка. – Чудеса, да и только, – качнул головой Булатов. – Этот дворец я дарю вам на память, – сказала Женька и хитровато посмотрела на него. – Спасибо. Я в долгу не останусь, – Булатов вспомнил, что и у него есть в Ленинграде любимый дворец, который он сможет подарить Женьке – Петергофский Монплезир. Когда они снова поднялись наружу, Булатов мгновенно почувствовал разницу температур: внизу трещала морозами зима, наверху буйствовало цветами лето. Хотя наружный градусник показывал всего плюс пять. – В тундре таких вот замерзших озер много, – рассказывала Женька, – говорят, что им миллионы лет. Когда здесь вырубали камеры, находили вмерзших в лед диковинных рыб. И вообще, тундра хранит еще много загадок. Недалеко от Алайхи есть, например, кладбище мамонтов. Правда, правда. Вечная мерзлота – прекрасный консервант. Говорят, что покойники на местных кладбищах сохраняются столетиями. Женька замолчала, потом тихо спросила: – Вам не страшно, когда вы пытаетесь думать на столетия вперед? – Страшно подумать, что у меня всего четыре дня осталось до возвращения в Ленинград, – отшутился Булатов. – Что будет через сто лет, лучше не думать. Да? – Да! – сказала Женька, поняв, что ее дразнят. На пристани их ждали Дмитрий Дмитриевич и Ангелина Ивановна. С ними был еще какой-то бородач. Женька заволновалась. – Что-то случилось… Дмитрий Дмитриевич встретил Булатова и Женьку виноватым взглядом. Ангелина Ивановна взяла Булатова под руку и на правах хозяйки представила бородачу. Тот назвался Зуевым, руководителем изыскательской экспедиции, и подал Булатову сложенную вчетверо бумажку. Прочитав записку, Булатов хотел сразу и наотрез отказаться. Но, встретив умоляющий взгляд Зуева, задумался. – К первому сентября я должен быть в Ленинграде, – сказал он. – Мы отправим вас в Алайху вертолетом. И далее обеспечим «зеленую улицу». – Хорошо. – Булатов повернулся к Женьке, взял ее за плечи, посмотрел в глаза. И в голубой их глубине увидел свое отражение. – Извини, малыш, там человеку худо, коллега просит помощи. Не огорчайся. Я надеюсь, что мы еще и океан с тобой посмотрим, и пирогов поедим, которые обещала Ангелина Ивановна. Женька смотрела снизу вверх, не отводя глаз, и было в этом взгляде что-то по-взрослому тревожное. – Помните только, это Север, – сказала она, – ведите себя благоразумно. Хорошо? – Хорошо. Зуев пригласил его в свой катер – аппарат со стационарным мотором, высоким лобовым стеклом, полумягкими креслами. Сразу вырулил на стремнину и взял курс в сторону океана. Коллега из Алайхской больницы, которому Булатов ассистировал в день приезда, писал, что не может справиться с открывшимся кровотечением у больного и просил его срочно приехать в лагерь изыскателей. Письмо тревожное, даже несколько паническое. – Когда это случилось? – спросил Булатов Зуева. – Вчера ночью. Больной оказался не транспортабельным. Врача к нам доставили вертолетом, и вчера он сделал операцию. А сегодня утром попросил меня отвезти вам записку. Вертолета нет, пришлось морем. За разговорами о Севере, о местных промыслах, о живущих здесь людях время летело быстро. Но вскоре Булатов затосковал по тверди земной, захотелось ступить ногами на что-то более устойчивое, чем днище катера. Хотя волна в море была и не очень высокая, но каждый ее удар по металлическому каркасу катера отдавался болью в позвоночнике. Не спасало даже полумягкое кресло. И Булатов большую часть пути простоял в буквальном смысле на полусогнутых ногах. Пять часов пути показались вечностью. Потом была работа. Трудная и тревожная. Коллега из Алайхи выполнил смелую и мастерскую операцию. Но из-за отсутствия стационарной аппаратуры просто физически не смог предотвратить неприятного сюрприза. Вдвоем они все-таки нашли выход, кровотечение остановили, организовали прямое переливание крови, и, когда жизнь больного была уже вне опасности, Булатов взглянул на календарь. Оказывается, прошло почти двое суток. Он заторопился, потребовал как можно скорее отправить его на метеостанцию. Зуев виновато опускал глаза. Над тундрой висело неподвижное одеяло тумана, причем такого плотного, что стоящие в тридцати метрах друг от друга домики не просматривались. Было ясно без слов, что в такую погоду не только вертолеты, даже чайки летать не могли. – Пойдем морем, – настаивал Булатов, хотя понимал, что проявляет то самое неблагоразумие, от которого хотела предостеречь его Женька. Зуев связался с метеостанцией, выяснил прогноз и, убедившись, что в ближайшие сутки перемен к лучшему не будет, пообещал Авдеевым доставить Булатова через пять часов морем. Вода в океане была тихой и шли они на катере быстро и уверенно. Порой Булатову казалось, что катер скользит не по воде, а в облаках, в каком-то нереальном мире. Навалилась накопленная за двое суток усталость и он, поудобнее привалившись к борту, уснул. А когда проснулся, понял, что катер сидит на мели. Зуев в тумане потерял ориентировку и сбился с фарватера, вошел не в тот рукав. Положение усугублялось тем, что вместе с густым туманом землю начала укутывать темнота застигшей их ночи… Натянув повыше голенища резиновых сапог, Булатов и Зуев покинули катер и начали искать на каменистой отмели сорванный с гребного вала винт. На поиски ушло часа два. Потом по очереди, в свете фонарика, напильником точили из гвоздя шпонку, потом выбивали старую, срезанную. Насадить гребной винт под водой тоже оказалось непростым делом, но они справились и с этой задачей. А еще предстояло снять катер с отмели и снова выйти в море, не наскочив на другую отмель. Катер толкали в полной темноте, нащупывая ногами ускользающее дно. Свет фонаря упирался в белое молоко и вяз в нем в двух-трех шагах. Уткнулись то ли в берег, то ли в островок. Решили ждать рассвета, заодно обсушиться. Зуев насобирал сухих веток, обмытых дождями белых корешков, каких-то щепок, намочил в бензине старое вафельное полотенце, сложил все в кучу и поджег. Костер занялся дружно, от мокрой одежды повалил густой пар. Стало несколько веселее, хотя говорить ни о чем не хотелось, оба считали себя виноватыми в этих злоключениях. Булатов вспомнил, что на метеостанции их ждали еще вчера к концу дня, а теперь, наверное, волнуются, особенно Женька. И он еше больше почувствовал себя виноватым. Но слово «волнуются» и на сотую долю не отражало состояния, охватившего жителей метеостанции. И если Дмитрий Дмитриевич и Ангелина Ивановна переживали пропажу моторки с присущей взрослым сдержанностью, подбадривали друг друга, то Женька сходила с ума. Она навзрыд плакала, проклинала себя и ту минуту, когда отпустила Булатова от себя, требовала от родителей принимать какие-то экстренные меры и хоть что-то делать. – Разве вы не понимаете, что они в океане заблудились? – спрашивала она сквозь слезы. – У них давно кончился бензин, они просто-напросто замерзнут! Но что могли сделать родители, если над устьем Индигирки распластался эпицентр антициклона, и наполненная туманом атмосфера застыла, как желе в тарелке. Все надежды возлагались на Зуева, человека опытного и знающего Заполярье с детских лет. – Не дай бог с ним что-то случится, – ревела Женька, – я себе этого никогда не прощу. Измучив себя всякими предположениями, она на рассвете заснула. И во сне услышала стук мотора. Вскочила, засобиралась. – Это катер! Я слышала катер! Схватила старый бубен в сенях, звук его хорошо слышен в тундре, свистнула собак и побежала к берегу, спотыкаясь и падая. Когда в белом месиве тумана и вправду застучал мотор, она стала неистово колотить по пересохшей коже бубна. Женька просила у бога чуда и боялась поверить, что Всевышний прислушивается к ее мольбам. Но когда из тумана сначала расплывчато, а затем все более четко вырисовался корпус знакомого катера, а в нем силуэт живого и невредимого Булатова, она сказала: «О господи!» – и, закрыв лицо ладонями, обессиленно опустилась на колени. Мокрый, усталый, заросший, Булатов торопливо спрыгнул на берег, подошел к Женьке и наклонился над нею, чтобы заглянуть в глаза, утешить, успокоить ее. Но Женька мгновенно обвила его шею руками, уткнулась лицом в грудь, начала целовать его и, обессиленно ударяя по его спине кулаком, упрекать сквозь слезы: – Совсем ненормальный… Разве так можно?.. Да? Я же чуть не умерла… Как бы ты жил без меня?.. А он и сам не знал, как ухитрился прожить без нее целых шесть месяцев. Ел, спал, работал, даже в театр ходил. Впрочем, нет, неправда, он не жил без нее. Просто никому про Женьку не рассказывал, но она была все время с ним. С ним по утрам просыпалась, помогала готовить завтрак, бежала рядом в метро, с ним читала лекции, ассистировала на операциях, подсказывала неожиданные решения в трудных ситуациях, даже ходила с ним в театр, сопровождала в командировках. Она была с ним и в этой поездке в Москву, когда Булатов гостил в Звездном у Коли Муравко. Чего он только не рассказывал своим старым друзьям, но о Женьке – лишь несколько слов намеком. – Так откуда седина? – интересовался Муравко. – В самом деле, кто вас, Олег Викентьевич, такою краской? – спрашивала и Юля. – Север, Юленька, Север, – говорил он, имея в виду Заполярье, а Юля с расспросами не приставала, Ленинград для нее тоже был Севером. Не мог он еще говорить вслух о том, что случилось с ним минувшим летом. Не пришло время. Он знал, сколь обманчива бывает надежда, и все-таки жил ею, верил. 12 Осматривая себя в зеркале, Нина с сочувствием подумала о женщине, стоявшей напротив в стеклянной глубине. Незамаскированный помадой синяк на нижней губе напомнил события минувшей ночи: случилось то, чего Нина ждала и что должно было случиться давно. Свою вину она ни на кого не перекладывала и оправданий себе не искала. Смиренное послушание Ковалева уже давно ее не обманывало. Атмосфера в доме с каждым днем становилась все более наэлектризованной и сегодня, наконец, произошел разряд. Ковалев вернулся домой, как обычно, поздно и, как обычно, в подпитии. Где и с кем он проводит вечера, Нина не знала, да и не хотела знать. Ей это было на самом деле безразлично. Она ловила себя все чаще на мысли, что думает о муже как о человеке-невидимке – вроде он есть и вроде его не существует. На вопрос – «А почему ты не спрашиваешь, где я бываю вечерами и почему не спешу домой?» – ответила искренне: – Мне безразлично. Ковалев заглянул в комнату дочери и, убедившись, что Ленка спит, взял Нину за руку и втащил в спальню. Грубо взял и грубо втащил. Такого он не позволял себе никогда. Нина не хотела скандала, все надеялась, что ей удастся объясниться с Ковалевым по-хорошему, поэтому попросила его сесть и спокойно ее выслушать. Однако он не сел и слушать ее не пожелал. Суетливые движения его рук и жадное дыхание в затылок – все показалось Нине чужим и страшным. На мгновение оцепенев, она начала лихорадочно думать – что делать? Не драться же ей, хрупкой и слабой, с озверевшим мужиком? Но вместе с тем чувствовала, что маленькие хитрости, которые она использовала раньше – ссылаясь на усталость, недомогание, – сегодня ей не помогут. Ковалев пошел напролом. Не помогут и ласковые просьбы, скорее – подстегнут. И тогда она сказала то, что ей захотелось сказать: – Свинья. Ковалев замер на секунду, словно хотел осмыслить услышанное, затем развернул Нину лицом к себе и наотмашь хлестко ударил запястьем по губам. Вволю наревевшись – не от боли, от безысходности, – Нина заснула только к утру. Проснувшись, испуганно вскочила. Проспала, опоздала на работу! Одиннадцатый час! Потом вспомнила: сегодня же выходной. Ленка собиралась с подругами к десяти часам во Дворец пионеров на встречу с актерами ТЮЗа. Значит, она давно убежала. Ковалева тоже нет. Постель на диване убрана. Нина умылась, выпила чашку кофе и взялась за уборку квартиры. Худа без добра не бывает. Завтра же она подаст на развод. И уедет из дома. Поживет у Марго. Маргоша ее не покинет в беде. С возвращением Ковалева все чаще и чаще стало приходить к ней неотвратимое желание написать Федору, все ему рассказать. Какой смысл теперь быть им врозь. Ковалев вернулся. Живой и здоровый. Работает, гуляет, веселится. Совесть Нины перед ним чиста. В самые трудные годы она себя «блюла», хотя сердцем рвалась к другому, а теперь все обеты снимает сама жизнь. Убедив себя, что время наступило, она написала Федору письмо. Боже, как она ждала ответа, как волновалась! По два раза в день выскакивала на почту. Недели, месяцы, годы летели мимо – жила как-то. А тут, словно ее подменили, стала считать не только дни, но и часы, минуты. Ей было страшно. Нина не хотела признаваться в этом даже самой себе, но чего уж там грешить – боялась Нина письма от Федора. Боялась возможных и вместе с тем невозможных его слов: «Прости, я не мог так долго ждать, я полюбил другую…» Вскоре посланное ею письмо вернулось с пометкой: «Адресат выбыл». Почувствовав на миг облегчение, Нина снова заволновалась: где же ей теперь искать своего любимого? Марго лишь пожала плечами – обратись к командиру части, ответят. Действительно, чего проще. Но написала Нина не командиру, а Юле, той девушке, что служила в воинской части, у которой Нина однажды ночевала и с которой немножко подружилась. Только второе письмо тоже вернулось с отметкой: «Адресат выбыл». Нина вспомнила: в Ленинграде живет Юлина мать. Она разыскала номер телефона и позвонила. Смело назвалась подругой Юли, объяснила, что очень хотела бы с ней поговорить. – Приезжайте в воскресенье ко мне домой, – сказала Ольга Алексеевна. И вот воскресенье наступило. Прежде чем выйти из дому, Нина взглянула на себя в зеркало. Взглянула и расстроилась: какой она стала? Задерганная, растерянная, прибитая… Нос заострился, глаза провалились. Вместо ямочек на щеках какие-то морщинистые провалы. «Да ты ли это, Нина Михайловна?» Нет, надо быстрее кончать с такой жизнью. На воздух, на солнце, на свободу! Дышать! Радоваться весне! Ждать! Расправить крылья и лететь! Хватит пресмыкаться и хитрить, забиваться в угол. Довольно заискивать перед дочерью. Все, пусть видит и знает: ее мать счастливая женщина. Пусть осуждает, пусть не понимает, но пусть обязательно видит ее счастливой, гордой. А синяк на губе пройдет. И морщины разгладятся. Главное, чтобы душа не сморщилась. Ей бы только найти дорогого человека, только бы услышать от него единственное слово: «Люблю». Тогда она станет совсем другой – и расцветет, и помолодеет. Только бы он нашелся, только бы отозвался. А у Нины еще хватит и нежности, и любви, и веры, чтобы сделать его самым счастливым. У входа в метро Нина купила журнал мод и уже на эскалаторе с интересом раскрыла пахнущие краской страницы. Прибалтийские модельеры наперебой предлагали одежды для весны и лета, халаты и купальники, удобные и красивые кофты ручной вязки для дома и для прогулок по взморью. А что? Нина давно не брала в руки спицы. И свитера для себя и для Ленки свяжет мигом. И вот такую кофту может связать, двубортную, с воротником-шалью, с карманами. Только бы найти его, только бы отозвался. Утешая и успокаивая себя, Нина перелистала журнал и, как бы зарядившись тем настроением, которое демонстрировали своими улыбками, жестами и позами юные манекенщицы, вышла из метро повеселевшая и уверенная в себе. Когда покупала на цветочном базаре тюльпаны, почувствовала, как ее цепко окинул взглядом молодой мужчина. Ну, не совсем молодой, но и не старше сорока. В мохнатой лисьей шапке, в дубленке. Из-под шарфа выглядывал белоснежный воротник. Он подошел вплотную к Нине и начал выбирать тюльпаны покрупнее, складывая их один к одному. – Какие, на ваш взгляд, красивее, – спросил он у Нины, – одноцветные, или вот эти, с белыми прожилками? – На мой взгляд, – кокетливо улыбнулась Нина, – лучше одноцветные. Свидетельство твердости характера. Уж если красный, так красный. Без всяких прожилок. – Пожалуй, – улыбнулся мужчина. Он взял еще три цветка и протянул Нине. – За добрый совет. И за то, что умеете хорошо улыбаться. – Спасибо, – кивнула Нина, принимая цветы и краснея. Внимание незнакомого и такого респектабельного мужчины укрепило сознание, что она еще «ничего», что «в тираж» ее списывать рано. И уже шагая по Московскому проспекту, Нина почувствовала, что у нее даже походка стала пружинистей, и вся она стала легче и стремительнее, как в тот год, когда они с Федором во второй раз обрели друг друга. У дома Ольги Алексеевны уверенности у Нины поубавилось. Подруги они с Юлькой никакие. Один раз в кафе посидели на Васильевском острове, да одну ночь Нина провела в квартире у Юли. Единственное свидетельство о каких-то отношениях – старый барометр, подаренный Нине в день рождения: «Чтобы всегда показывал „ясно“». Не случись необходимости разыскать Федора, наверное, и не вспомнила бы о Юле. Хотя девочка славная, и Нине искренне хотелось знать, как сложилась ее судьба. Парень, что был с нею, Нине понравился. И звали его Колей, это она помнила хорошо. Переводя дыхание – четвертый этаж был, как восьмой в новом доме, – Нина нажала кнопку звонка. Открыла ей вовсе не старушка, какой представляла Нина Ольгу Алексеевну. Сбили с толку старые, добела застиранные джинсы и военного покроя защитная рубашка. Хотя седина в модной стрижке выдавала возраст с безжалостной откровенностью. – Ольга Алексеевна? – на всякий случай спросила Нина. – А вы – Нина, – утвердительно ответила хозяйка дома. – Проходите. – Я думала, вы старше, – смущенно призналась Нина, снимая сапоги. – Сегодня проспала, – призналась Ольга Алексеевна, – а коль гости, надо квартиру убрать, завтрак приготовить. Спасибо Юле, оставила мне очень удобный костюм для домашней работы. В нем и чувствуешь себя соответственно. Располагайтесь, я рада вам. Переоденусь, и мы позавтракаем вместе. Не торопитесь? – Нет, нет. – Ну и отлично. Сейчас приготовлю кофе. Она ушла в спальню переодеться, а Нину провела к себе в кабинет. В глаза здесь бросался письменный стол. Нина не сразу разглядела стоящие среди книг, папок, блокнотов, журналов фотографии, но именно к ним она и прилипла взглядом. Подойдя ближе, почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. На одном из снимков Юля сидела в обнимку с Федором, сидела такая счастливая, так крепко прижималась щекой к его щеке, что Нина чуть не вскрикнула от боли. Она вскочила и метнулась к выходу. «Бежать! Немедленно бежать! Или случится нечто непредвиденное. Надо только еще раз посмотреть…» Она вернулась к столу, схватила снимок и шагнула к окну, к свету. Все верно. Такие счастливые глаза бывают только у влюбленных. – Вам тоже понравился этот снимок? Я его утащила у Юли, – сказала вошедшая Ольга Алексеевна. – Здесь Юлька как в детстве. Искренняя и счастливая. Вы, наверное, не знаете, что этот летчик спас ей жизнь. Полузамерзшую нашел в тундре и на руках принес в часть. Она даже сына своего назвала в его честь – Федором. Очень славный мальчишка. Вот, посмотрите. Ольга Алексеевна взяла со стола вторую фотографию и показала Нине. Здесь Юля была уже с тем парнем, с Николаем, а между ними стоял двухлетний мальчик, чем-то неуловимо похожий на Юлиного отца, портрет которого висел в кабинете на самом видном месте. – Это ее муж, – словно о чем-то догадываясь, показала Ольга Алексеевна на Николая. Нина почувствовала, как внутри у нее что-то ослабло и резкой болью стрельнуло в спину, как раз между лопаток. В глазах все поплыло. Она вцепилась в подоконник и каким-то невероятным усилием воли удержала себя от падения. Ольга Алексеевна обхватила Нину за талию, руку ее перекинула через свое плечо и, придерживая запястье, подвела к тахте. Осторожно уложила, подсунув под голову подушку, села рядом. Когда увидела, что в глазах у Нины появилось осмысленное выражение, спокойно спросила: – Сердце? – Не знаю. Полгода назад у меня было нечто похожее. – Вспомнила хлопоты Марго и свою поездку в санаторий. – Вы меня извините, напугала, наверное, мне уже лучше, честное слово. Она почувствовала, как тяжесть у сердца начала спадать, дышать стало легче. Хотя страх новой боли удерживал ее от движений. Нина накрыла руками лежащую у нее на груди ладонь Ольги Алексеевны и начала сбивчиво рассказывать: – Разве я могла подумать, что увижу его здесь? А мы, оказывается, чуть ли не родственники с Юлей… Я о Федоре, Ольга Алексеевна, о Ефимове. Преодолевая внезапно возникшую застенчивость и одновременно радуясь возможности выговориться, Нина рассказала Ольге Алексеевне и о Федоре, о том, как, поддавшись соблазну «благополучного брака», предала свою первую любовь, и как пришло прозрение, когда судьба случайно свела их в одном поезде, в одном вагоне, в одном купе. Перебравшись на кухню, они вместе накрыли стол, сварили крепкий кофе. Ольга Алексеевна заказала междугородный разговор и вскоре связалась с дочерью. Юля обрадовалась Нине, пообещала узнать адрес Федора и немедленно позвонить. – Вы, наверное, знаете, что он в Афганистане служит? – спросила Юля. Нина обмерла. Она уже не раз встречала фразы в центральных газетах о том, что, выполняя интернациональный долг, кто-то был ранен, а кто-то и голову сложил. Может, и Федя?.. – Кто вам это сказал? – Булатов, Колин друг. Он заезжал к нам. Да вы позвоните ему. Он в Ленинграде. Запишите телефон… Нина сразу же набрала названный номер. Длинные гудки. Она позвонила по служебному. Дежурная сестра сказала, что Олег Викентьевич «будут завтра». «Будут»… Авторитетный товарищ. Допив, не чувствуя вкуса, остывший кофе, Нина засобиралась домой. Придет Ленка, а обеда нет. …Олег и Ленка сидели в обнимку на диване перед включенным телевизором и оба хохотали, глядя на экран. Демонстрировался очередной сборник мультфильмов. На журнальном столике стояли бутылки с пепси-колой, пирожные, конфеты – любимый Ленкин изюм в шоколаде. Семейная идиллия. И Нина дрогнула. Еще минуту назад она представляла свой уход как естественное продолжение ночного скандала. Соберет самое необходимое, напишет записку, возьмет за руку Ленку и – до встречи в суде. Дочери все объяснит потом. Теперь же было ясно, что объясняться надо сейчас, в присутствии Ковалева. А он сегодня совсем не похож на того Ковалева, который вчера вечером заламывал ей руки и часто дышал в затылок сивушным перегаром. Глянув на Нину, Ковалев сразу перестал смеяться и виновато опустил глаза. Суетливо достал платок, вытер губы, лоб. Ясно! А когда поднялся и пошел ей навстречу, Нина поняла причину его волнения. Ковалев готовился к покаянному разговору. Ну уж нет, говорить с ним она не будет. Поговорили. Решение ее окончательное. На время их с Ленкой приютит Марго. А там будет видно. Нина, не снимая верхней одежды, прошла в спальню и, встав ногой на спинку кровати, достала со шкафа запыленный чемодан. Пока самое необходимое. Позже станет ясно, чего недостает, заедет еще. – Нина, – Олег стоял в дверях, голос его неузнаваемо осип. – Если можешь, прости… Или хотя бы поверь: ничего подобного больше никогда не повторится. Даю тебе слово… Клянусь тебе. Нина почувствовала окутывающую духоту, щека ее занемела и тут же загорелась огнем, лоб покрылся густой испариной. Она сняла пальто, шапку, бросила на кровать поверх покрывала. Рывком стащила сапоги. Вместе с наступившим облегчением пришло желание зареветь. В голос, навзрыд. Но Нина усилием воли подавила это желание. Не удостоив Ковалева взглядом, она распахнула шкаф и так, держась за его створки, замерла. – Я понимаю, – продолжал виновато Ковалев, – я сам все загубил… Мне эту каинову печать носить до смерти. Но ради Ленки… Пусть без любви… Можем остаться друзьями… Я обещаю… В твою личную жизнь вмешиваться не стану. Только чтобы Ленка… Чтобы я… Нет, без разговора расставания не получалось. Без объяснений тут не обойтись. Но только бы не сорваться, выстоять, сохранить достоинство. – Ухожу я от тебя, Олег, – сказала Нина как можно спокойнее. Пусть чувствует, что это давно решенное дело. – Ушла бы еще четыре года назад, да пожалела тебя. А теперь не могу больше. Нельзя нам под одной крышей. Уйду вместе с Леной. Заявление о разводе подам завтра же. Квартиру разменяем. – Но почему? – Ковалев побледнел. – Я же тебе обещаю! – Ноты смирения в его голосе сменились нотами раздражения. – Ленке нужен отец. – Если она захочет, будете встречаться. Но жить мы отныне будем врозь. – Ты нашла другого? – Эти слова Ковалев произнес с деланным удивлением и скрытым сарказмом. Отвечать Нина посчитала излишним. Она не могла сказать «нет», потому что решила больше не лгать, не могла сказать «да», потому что продолжение начатого разговора могло ее больно ранить недобрым словом. – Если ты хочешь сохранить дружеские отношения, – Нина даже сама удивилась, насколько она спокойно держится, – сохранить ради дочери, дай мне возможность спокойно уехать. Лучше всего уйди. Мы тут сами. – К чему эти жертвы? – Ковалев усмехнулся. – И зачем создавать неудобства ребенку? Я по-прежнему люблю вас обеих и сделаю все, чтобы вам было хорошо. – Он захлопнул пустой чемодан и ловко забросил его на шкаф. – Если, конечно, ты просто хочешь уйти, если не к другому, если только из-за меня… Не надо. Я сам. Мне проще. Поживу у родителей. Если, конечно, тебя не ждут. – Он достал из кармана два ключа на отполированном колечке и, взвесив их на ладони, бросил на кровать. – С Ленкой мы будем встречаться у бабки. Ковалев вышел в коридор, надел дубленку, постоял, открыл дипломат, бросил в него взятые в ванной комнате туалетные принадлежности, в спальне вынул из шкафа две рубашки и два галстука, защелкнул замки и помахал Ленке. – Пока, дочка! – Ты скоро вернешься? – спросила Ленка, не отрываясь от экрана телевизора. – Я позвоню тебе, будь умницей. – Заглянув в спальню, Ковалев искренне попросил. – Объясни ей все сама. Пожалуйста. Мне трудно. Он смотрел на Нину, ожидая от нее каких-то слов. Но какие она могла сказать ему слова. – С Ленкой я поговорю, – пообещала Нина, – я сделаю все, чтобы она сохранила к тебе прежнее отношение. У нас одинаковое право на ее любовь. Подрастет, сама во всем разберется. – Ну, ладно, – сказал Ковалев, отводя взгляд. – Если что, звони. Входная дверь захлопнулась со звонким щелчком. Нина вздрогнула, словно эта дверь защемила ей сердце. Почувствовала острую физическую боль, подкашивающую слабость. Она присела на кровать, услышала заливистый смех Ленки и снова почувствовала боль. Будет ли девочка вот так беззаботно хохотать, когда Нина расскажет ей о разрыве с отцом? Будет ли такой же искренней и откровенной, какой была всегда? Попытается ли понять Нину? Простит ли? Боль в груди не проходила. Ее обжигающая тяжесть требовала покоя. И Нина легла. Прямо на покрывало. Ноги укрыла пледом. Марго не зря повторяет, что все болезни от нервов… Права подружка, права. Вернуть бы те золотые денечки, ту последнюю школьную весну. Господи, как она была счастлива, когда Федя Ефимов самый первый в их школе смастерил дельтаплан и на виду у всего класса, тайно собравшегося в пристанционном карьере, взмыл в воздух с высокого обрыва. Взмыл и… полетел. По-настоящему, как птица! Класс замер. Это было совсем не то, что они видели в кино и по телевидению. Там летали какие-то неизвестные им люди, а тут их одноклассник, только что сидевший с ними в классе на уроке. Парил недоступный, как бог, словно они уже распрощались с ним, и он переродился из человека в птицу. Когда Федя все-таки опустился из поднебесья на грешную землю, вдребезги поломав дельтаплан, Нина плакала не столько от страха за его жизнь, как плакали другие девчонки, она плакала от счастья, что он вернулся, что не остался там навсегда. В ту весну он щедро одаривал ее счастливыми мгновеньями. Восьмого марта ребята приносили девчонкам традиционные самодельные цветы, живых в Озерном никто не выращивал. Те, что цвели в глиняных горшочках на подоконниках, дарить почему-то считалось дурным тоном. За пять минут до звонка женская половина класса занимала парты, где каждую девочку ждали бумажные цветы. У Нины в тот раз лежали живые. Где смог их добыть Федя, для всех осталось загадкой. Ефимов шел на золотую медаль. И класс, и учителя воспринимали его успехи как должное. Учился он легко, с каким-то взрослым азартом и жадностью. Больше всего ему нравились как раз те предметы и темы, которые традиционно считались неинтересными и занудными. Федя всегда по-своему решал уравнения, безошибочно рисовал на доске ортогональные проекции и разрезы деталей, обнаруживая идеальное чувство пространства. Он совершенно самостоятельно осмысливал литературные образы, не соглашаясь зачастую с общепринятым мнением. Нина помнит, словно это было вчера, тот теплый солнечный день, когда они писали свое последнее, самое главное сочинение. Федя сидел у открытого окна, то и дело поглядывая на голубей, склевывающих с жестяных козырьков хлебные крошки. Нина глазами спрашивала у него – как дела? Он глазами успокаивал: все хорошо. А когда класс, возбужденно галдя, собрался у скамеечки в школьном сквере, Федя вдруг хлопнул себя ладонью по лбу и весело признался: – Ну дурак! Две ошибки вкатил. «Гостиную» через два «н» написал, а «Территорию» – через одно «р». Только сейчас дошло. – Плакала твоя медаль, – сказал кто-то из ребят. Однако на следующий день, когда были объявлены оценки за сочинение, все узнали, что Ефимову поставлена «пятерка». Кто-то похлопал его по плечу, мол, заучился дружок, кто-то ехидно улыбнулся. Нина счастливо пожала ему под партой руку. А он встал и ляпнул: – Оценка неправильная, я допустил две ошибки. И точно назвал, в каких словах и в каких предложениях. Директор школы раскрыл сочинение, нашел эти слова и, сняв очки, удивленно сказал: – Вы же исправили эти ошибки. – Я не исправлял их, – возразил Федя, – я вспомнил о них, когда сдал сочинение. – Но ты же хотел их исправить, – сказала «русичка» Анна Николаевна и густо покраснела. – Мы разберемся, – директор дочитал ведомость и объявил перерыв. – Зря ты высунулся, – упрекнули Федю одноклассники. – Если тебе наплевать на медаль, зачем Аннушку под удар поставил? Ее просто выгонят из школы. Пенсионный возраст. Федя не оправдывался, молчал. Он только Нине сказал, что иначе поступить не мог. Накануне выпускного вечера все узнали, что в школе состоялся бурный педсовет, присутствовали представители роно, «русичке» объявлен строгий выговор и принято решение отозвать представление на звание «Заслуженный учитель». Класс бурлил и негодовал. Аннушку любили. Федя на выпускной вечер не явился. Нина не выдержала, пошла к нему домой. И узнала: уехал на Волгу к каким-то родственникам. Вернулся он, когда одноклассники сдавали вступительные экзамены в разных городах, – и сразу в военкомат. Тогда поступок Феди вызвал у Нины раздвоенное чувство. Ей, как и всем, было жалко Анну Николаевну и обидно за пижонский жест Ефимова. Он по праву заслуживал золотой медали. Тут ни у кого не было сомнений. И в том, что честнейшая Анна Николаевна сама исправила его случайные ошибки, греха большого никто не увидел. Она любила Федю, самого способного ученика, любили его все преподаватели. Отвечать таким коварством на любовь было, по мнению одноклассников, за гранью принципиальности. Сейчас-то Нина понимает, что Федя, ее родной Федюшкин, действительно иначе не мог. Уж если он отказался пойти в отряд космонавтов из-за того, что не мог дать какого-то условного обещания, то присвоить на глазах у всего класса не принадлежавшую ему медаль он не мог тем более. Вот такого Нина его и любила. За бескомпромиссную честность, за мужскую надежность, за преданную верность. Ее разбудила Ленка. – Ты плакала во сне, – сказала она. – Тебе что-то страшное приснилось? Нина пожала плечами. Она не помнила, что ей снилось. – А почему ты такая бледная? – Нездоровится что-то… – Бабушка звонила и просила, чтобы я приехала к ним. «Ну вот, начинается, – подумала Нина, – для них уже ее дочь – сирота». Она смотрела на Ленку и решала: как лучше поступить? Рассказать сейчас о разрыве с Ковалевым или позвонить свекрови и попросить, чтобы они Ленке ничего пока не говорили? Да нет, девочка быстро все поймет. И будет хуже, если потом уличит мать в неискренности… – Так я могу поехать к бабушке? Ленка смотрела на Нину грустными Олеговыми глазами, худенькая, длиннорукая и длинноногая, с тоненькой шеей и оттопыренными ушами. Милое и бесконечно родное существо. Почему она должна страдать за грехи родителей? Ей-то за что? – Сядь, – показала Нина рукой рядом с собой, – я тебе должна кое-что сказать. Лена подошла и охотно присела, обхватив Нину рукой за талию. Она любила вот так тереться о ее плечо щекой. Как котенок. – Не хотела я тебя огорчать, – честно призналась Нина, – но и не хочу, чтобы ты меня упрекала. Нина замолчала. Опять подступили сомнения. Для детского ли сердца эти взрослые страсти? Способна ли ее душа переварить всю несуразность случившегося: папа и мама расходятся? – Ну, говори, – напомнила Ленка, – я тебя слушаю. – Голова у меня что-то кружится, – Нина почувствовала, что ей не хватает слов. А голова действительно была как чужая. – Случилось, Леночка, доченька моя, то, что должно было случиться. – Ты заболела? – Не знаю. Наверное. Но дело не в этом. Дело в том, что я… что мы… что папа… В общем, мы с папой больше не будем жить вместе. Он от нас ушел. Совсем. – Он больше не придет? – Нет, не придет. – У меня больше не будет папы? «О господи! Ну как ей все объяснить понятно?» – Ну почему не будет? Для тебя ничего не меняется. У тебя будет и мама, и папа. Только не вместе, понимаешь? Каждый сам по себе. Понимаешь?… – А почему папа ушел? – в голосе появились враждебные нотки. – Он нашел другую женщину? Он нас предал? Нина вздрогнула. Ее дочь, оказывается, достаточно хорошо понимает, почему расходятся взрослые. Для нее, если кто-то уходит к кому-то, оценка поступка однозначна – предательство. – Нет, доченька, – Нина изо всех сил старалась говорить спокойно. – Нет у него другой женщины. Он ушел, потому что мы с ним так решили. Подумали и решили: лучше нам жить врозь. Не получается у нас вместе. Разучились. Ленка встала и подошла к окну. – Дядя Юра Тишку вывел на прогулку, – сказала она и вдруг спросила: – Можно, я поиграю с собачкой? – Только надень спортивную курточку. Этот разбойник запачкает тебе своими лапами пальто. Спустя несколько минут Нина почувствовала себя так, словно ее маленькую спальню основательно проветрили. «После грозы всегда легче дышится», – подумала она и встала. Внутри что-то еще ныло, но та тяжелая, пригибающая к земле боль отпустила ее, ушла. Нина пересекла комнату и выглянула в окно. В оранжевой, как апельсин, курточке Ленка бегала среди заиндевелых тополей, а рядом, то опережая ее, то умышленно отпуская, метался лохматый черный комок – спаниель Тишка. Его хозяин, Юрий Сергеевич, держа в руках свернутый поводок, неторопливо прогуливался по аллее и лишь изредка бросал на расшалившихся «детей» всепонимающий и мудрый взгляд. Почти каждый день Нина встречает Юрия Сергеевича гуляющим в сквере со своим четвероногим другом. Иногда видит и утром, и среди дня, и вечером. Она не раз ловила себя на желании поговорить с ним, разузнать – чем живет человек в таком вот возрасте. Неужели круг его интересов замыкается только прогулками с собакой? А что между прогулками? О чем он думает, глядя на мелькающих, куда-то вечно спешащих людей? А больше всего ей хотелось рассказать ему о себе, о своих метаниях, о вопросах, на которые она не может найти ответа. Есть же на этом свете хоть один мудрый человек, который все-все знает и который может ответить на все вопросы. Ведь за его плечами такая долгая жизнь… Без десяти одиннадцать доктора Булатова пригласили к телефону. – Олег Викентьевич, – сказала Нина заготовленные слова, – вам поклон от Юли Муравко. Мы с ней вчера говорили по телефону. – Спасибо. – Меня зовут Нина Михайловна. Я разыскиваю адрес Федора Ефимова, а Юля говорит, что вы знаете, где он служит. – Вы та самая Нина? – Он замолчал, и Нина растерялась – что он знает о ней? Булатов прокашлялся, видимо, что-то обдумывая. – Вы бы могли подойти к нам в клинику? – Разумеется, – не задумываясь, согласилась Нина. 13 Проснувшись, он посмотрел на часы. Фосфоресцирующий циферблат светился в темноте по-праздничному ярко, Булатов мог еще спать да спать. Почему же проснулся? Лег на спину, вытянулся, закрыл глаза. И в это время затарахтел телефон. Звонил Аузби Магометович. Он извинился за вынужденный звонок и попросил поскорее одеться и выйти из дома. «Машина к вам пошла, ехать надо немедленно». – Удивительные вещи происходят, – сказал Булатов, – ваш звонок я вычислил во сне. – Ничего удивительного, – спокойно ответил профессор. – Вчера вечером я вам говорил, что спецрейсом из Ташкента сегодня ночью будет доставлен раненый офицер, что ехать за ним придется вам. Самолет через полчаса приземлится. Доставите больного в клинику. Вы уж пожалуйста… – Я понял, Аузби Магометович. Все правильно. Вчера он не придал значения разговору о самолете, а там, в извилинах, работа продолжалась. Кому же еще ехать на аэродром, если не Булатову? Холостяк, самый молодой в клинике. Звонить глубокой ночью Аузби Магометович без крайней нужды не станет. С виду суровый и нелюдимый, он отличался неброской скромностью и даже застенчивостью. Наблюдая за ним, Булатов всякий раз удивлялся, как в этом человеке благополучно уживались высокое профессиональное мастерство и полное пренебрежение к карьере, неутолимая тяга к знаниям и совершенное отсутствие честолюбия, смелость у операционного стола и паническая боязнь популярности. Однажды его всей кафедрой уговаривали позировать фотокорреспонденту центральной газеты. Отказался. И очень просил, чтобы его имя не упоминали в печати. – Ну зачем? – сердито пожимал он плечами. – Делу это не поможет. А говорить будут… Нет-нет, я прошу. И под насупленными бровями на мгновение вспыхивали лукавые искорки. Они нередко сбивали собеседника с толку: издевается он, что ли? На самом же деле, Аузби Магометович и сердился, и хмурился искренне. Просто такие у него глаза – мудрые и чуточку лукавые. Познакомился с ним Булатов несколько лет назад. Аузби возглавлял группу слушателей из Военно-медицинской академии, прибывших на стажировку в госпиталь, где работал Булатов. И если будущие врачи тогда не докучали Булатову особым любопытством, то их руководитель совал свой нос буквально во все щели. Его интересовала организация приема больных, методика диагностики, подготовительный и послеоперационный периоды, он присутствовал на командирской и специальной подготовке, не пропускал ни одной операции, нередко оставался на ночь, когда Булатов дежурил, охотно выступал перед госпитальным персоналом с лекциями о медицинских новинках. Аузби Магометович знал английский и систематически знакомился с зарубежной медицинской литературой. Он никогда не давал оценок действиям Булатова во время операций. Но наблюдал за его руками очень цепко. И однажды, осторожно поправив коллегу, подсказал неожиданное решение. Он потом долго извинялся и казнил себя, хотя Булатов принял совет старшего товарища с благодарностью. Накануне своего отъезда Аузби Магометович полушутя, полусерьезно спросил Булатова: – Не хотели бы, Олег Викентьевич, у нас в академии работать? – Думаю, что работать у вас – мечта любого молодого врача. Тем более в Ленинграде. А что, – спросил он в свою очередь, – есть такая возможность? – Для вас не исключена возможность даже полететь в космос. Вы еще завидно молоды. – Все понятно, – поддержал шутку Булатов и сразу забыл об этом разговоре. А спустя месяц его пригласили в Ленинград на беседу. Аузби Магометович познакомил его с руководством клиники. Булатову льстило на равных разговаривать с известным на всю страну академиком. Генерала интересовало все, связанное с научной работой Булатова, с его лечебной практикой в военном госпитале. И это был не формальный интерес, когда беседа носит какой-то обязательный характер; разговор шел скорее профессиональный, когда мастеру действительно хочется знать, как другие делают такую же работу, которую выполняет он. – Направление вашего научного поиска весьма оригинально, – сказал академик, – практика у вас богатая, и если есть желание, переходите к нам. Вакансия у нас есть. Еще через месяц Булатов работал в Ленинграде. Вполне естественно, что Аузби Магометович стал для него и советчиком, и консультантом, и старшим товарищем. Он не отказывал Булатову ни в чем, особенно на первых порах. Помогал готовить лекции, давал советы по диагностике, присутствовал на операциях. За дружбу, как известно, платят дружбой. При своем тихом нраве и рафинированной скромности Аузби Магометович любил иногда «поговорить на вольные темы». И когда был убежден, что собеседник не заподозрит его в хвастовстве, рассказывал о своих личных удачах, о больших и маленьких победах, о своей проницательности. Таким доверенным лицом для него стал Булатов. И то, что именно Аузби Магометович поднял его с постели среди ночи, Булатов принял как должное. Он поставил на газ чайник и принял душ. Чашка крепкого кофе взбодрила и сняла остатки сна. Булатов осторожно притворил двери и вызвал лифт. Весна нынче не торопилась. И если днем по асфальту текли потоки вешних вод, ночами дули пронзительные ветры и температура воздуха падала до семи-десяти градусов мороза. Вот и сейчас Булатов почувствовал, как нехотя поддалась напору ветра парадная дверь. Стоило ему выскользнуть из подъезда, как она захлопнулась с пушечным гулом. В тусклом свете дежурных фонарей стремительно летели редкие снежинки. В двадцати метрах от дома темнел силуэт санитарного фургончика, обозначенный вялыми угольками габаритных огней. Сидевший справа от водителя сержант уступил Булатову место в кабине, а сам перешел в салон и вытянулся на подвешенных носилках. – На аэродром, – сказал Булатов, откинувшись на спинку сиденья. Когда не надо управлять машиной и постоянно следить за дорожной обстановкой, он любил поглазеть по сторонам, задержать на чем-то неожиданном взгляд, или просто безучастно сидеть и думать под шум мотора. Женька, Женька, милая Женька… С какой неудержимой силой выплеснулось у нее первое чувство, с какой первородной чистотой и естественностью. Не обращая внимания на стоящих рядом родителей, не стесняясь набежавших людей, она смотрела ему в глаза, касалась руками небритых щек, разглаживала пальцами слипшиеся от грязи и копоти брови, верила и не верила, что он живой, что ничего с ним не случилось, обнимала, терлась щекой о щеку и шепотом просила об одном: – Только ничего не говори. Молчи. Не надо ничего говорить. – Отпусти человека, – сказал ей мягко отец. Он словно будил ребенка после долгого сна. – Слышишь, дочка, отпусти его. Олегу Викентьевичу надо умыться, отдохнуть. Женька никого не видела и ничего не слышала. Висела на шее и терлась о его колючие щеки. Выбившиеся из-под пухового платка густые волосы мягко щекотали Булатову губы. Ему тоже стало безразлично – смотрят на них или не смотрят, хотелось, чтобы Женька дольше висела на шее, касалась его щеки, шептала бессвязные слова. Оглушенный этим взрывом чувств, он постепенно начинал понимать, что в его жизни случилось то самое чудо, которое люди называют любовью. – Теперь ты без меня ни шагу, – говорила Женька, не отпуская его перепачканную сажей и ржавчиной руку, – теперь я тебя никуда не отпущу, как бы они ни просили. Только со мной. Булатову хотелось взять ее на руки и унести в тундру, подальше от пристани, от дома, от людей, унести, и там, где синим морем цветов раскинулась нехоженая земля, зацеловать эти бездонные глаза, эти румяно-нежные щеки, эти полуоткрытые детские губы. Хотелось, но силы его были на пределе. Женька взяла его крепко под руку и повела к дому. Чук и Гек ревниво посматривали на них и уныло плелись по целине. Дома Женька бесцеремонно раздела его до пояса, наклонила над большим медным тазом и, поливая на спину и на голову теплую воду, терла намыленной мочалкой и весело приговаривала: – Теперь-то я тебя отстираю по первому сорту. Всю грязь отскребу, все отпарю. Вечером пойдешь в баньку и смоешь все свои прежние грехи. А пока терпи, пока я сама. Ангелина Ивановна готовила завтрак и посматривала на дочь удивленно-испуганно. Иногда она пыталась обратить внимание Дмитрия Дмитриевича на поведение Женьки, но тот лишь походя пожимал плечами, мол, дело обычное, и нечего на них глазеть. А Женька готова была кормить Булатова из ложечки. Когда он пил чай, сидела напротив, подперев кулаками подбородок, смотрела ему в глаза и улыбалась, как умеют улыбаться счастливые дети. Засыпая на Женькиной кровати, Булатов слышал, как она принесла стул, села рядом и взяла в свои ладони его лежащую поверх одеяла руку. Разбудил его Дмитрий Дмитриевич. Извинился и попросил подойти к радиостанции. Коллега из изыскательской экспедиции нуждался в совете по каким-то послеоперационным назначениям. Булатов посмотрел на часы и не поверил – он проспал чуть ли не круглые сутки. – Ты почему меня не разбудила? – спросил он у Женьки после радиопереговоров. Она кинула быстрый взгляд на родителей и сказала с плохо скрытой обидой: – Мне запретили к вам подходить, Олег Викентьевич. Тем более вешаться на шею. И демонстративно вышла из дому. Вышел и Дмитрий Дмитриевич, оставив Булатова наедине с Ангелиной Ивановной. Булатов понимал родителей, понимал их боль и опасения. – Мы ей ничего и никогда не запрещали, – взволнованно говорила Ангелина Ивановна. – Воспитывать старались исподволь, ненавязчиво, главным образом своим примером. Росла она на воле. Мы и сейчас ей ничего не запрещаем. Просто я попросила Женю подумать: а вдруг это чрезмерное внимание вам неприятно? Ангелина Ивановна еще больше заволновалась. – Вы поймите нас, Олег Викентьевич. Ей хоть и девятнадцать, но она девочка. Вы видели, она непосредственна, эмоциональна. Вы сильный, мужественный человек, прекрасный врач, крепко стоите на ногах… Вы для нее воплощение идеала. Я знаю свою дочь, она способна влюбиться и будет верна своему чувству до конца жизни. И у меня, и у Димы все в роду однолюбы. Мне бы очень хотелось уберечь ее от разочарований. Не сердитесь на меня, Олег Викентьевич. Счастье дочери – это и наше счастье. Десять лет разницы! Сейчас вы терпите ее внимание из вежливости, может, из любопытства. Но ведь очень скоро она надоест вам, как жужжащая муха. Булатов вспомнил Верочку, ее восторженные взгляды после первого поцелуя, то навязчивое преследование, когда Верочка возникала «случайно» перед его очами в самых неожиданных местах… Вспомнил ее признания и слезы, упреки в длинных письмах, которые он в конце концов начал рвать, не читая. А ведь вначале казалось, что Верочка как раз и есть то сокровище, о котором он мечтал с юношеских лет. Стройная, спортивная, лицом недурна, одной профессии… И нет, не склеилось. А если Ангелина Ивановна права? Если Женька и вправду наскучит ему своим детским щебетом, своей прилипчивостью? Ведь жалко будет девчонку. Булатов неуверенно спросил: – Что я должен сделать? – Олег Викентьевич, – Ангелина Ивановна стала торопливо вытирать о передник руки, – я бы не хотела… Я бы прокляла себя… В колыбели удушить счастье собственной дочери… Может, я и не права, может, мой совет не лучший. Вы способны точнее оценить происходящее… Да что там говорить, что скрывать? Мы с Димой лучшей доли не желаем для Женьки. Но я об одном прошу: не спешите с выводами, не торопите событий, не гоните коней. Не давайте пока ей повода, она потеряет голову… Подождите до следующего года. Она приедет на сессию, вам, я думаю, все к тому времени станет ясно. Ангелина Ивановна замолчала, покусала губы, прошлась по комнате, тронула Булатова за плечи и тихо спросила: – Наверное, мои слова звучат пошло? Скажите правду! – Вы мать, и я вас понимаю, – сказал Булатов. И признался: – Женька ваша… Она необыкновенная. Но я даже себе не могу объяснить, что чувствую… Во всяком случае, такого со мной еще не было. Я готов выполнять ее капризы, идти, куда она скажет, делать все, чтобы ей было хорошо. Чтобы сияли глаза, чтобы не гасла улыбка, чтобы никакая тень не коснулась ее лица… И ради нее, да-да, ради нее я готов принять ваш совет. Может, это и правильно. И вдруг испугался, тряхнул головой, словно хотел от чего-то липкого освободиться. – Она все поймет. Она не простит нашего сговора. – Но что же делать? – А ничего не делать! – сказал решительно Булатов. – Вечером будет катер. Я уеду… Ангелина Ивановна выглянула в окно, похлюпала носом и махнула рукой – будь, что будет. – Идите погуляйте, ждет уж не дождется. Женька встретила его плутовской ухмылкой. – И чем завершились переговоры высоких сторон? Смотрела исподлобья, в глазах метались темные бесенята. Так же настороженно-выжидательно смотрели на Булатова застывшие у Женькиных сапог Чук и Гек. – Какие переговоры? Она мать, – сказал Булатов. – И ее можно понять. – Браво! – Женька три раза хлопнула в ладоши. – Тогда я вам расскажу, о чем вы говорили. Можно? Булатов взял ее за руку и попросил показать местные достопримечательности. – Через несколько часов придет катер, а я даже тундру как следует не увидел. – В тундру так в тундру, – согласилась Женька. – Но вы еще не ответили на мой вопрос: могу я пересказать ваш умный взрослый разговор? – Валяй. – Олег Викентьевич, я не узнаю вас. Такая неучтивость… – И я не узнаю вас, Евгения Дмитриевна. Такая учтивость… И главное – неискренность. – Вот и первая ссора! – обрадовалась Женька. – Неправда, – уличил Булатов. – Вторая. Первая была при знакомстве. В скверике на Институтском. Женька уловила в интонации Булатова нечто импонирующее ее настроению и улыбнулась с открытой благодарностью. – Так я начинаю? – сказала она вопросительно. Не получив ответа, продолжила: – Мама, конечно, в ужасе. Как же! Ее дикая собака Динго посмела полюбить кого-то кроме своих хозяев. Да еще и не скрывает своих чувств. Кошмар! «А если она вам, Олег Викентьевич, наскучит своей прилипчивостью? Вы же отмахнетесь от нее, как от назойливой мухи! Не кажется вам, что причинять ребенку такие страдания жестоко?» – Подслушивала? – спросил Булатов. – Вот! – прямо-таки взвилась Женька. – В точку попала! Я же знаю мамулечку, как пять своих пальцев. А что вы ей ответили? Ну да, вы сказали, что для беспокойства пока нет повода, что еще сами не разобрались в своих чувствах и что ни при каких обстоятельствах не позволите обидеть Женьку. Булатов остановился, взял ее за плечи и повернул к себе. – Ты что? В самом деле ясновидящая? – Я же вас предупреждала, Олег Викентьевич. – Шаманские штучки? – Угу. – И мысли читаешь? – Читаю. – Ну и что? – Вы решили согласиться с моей мамулей. «Уеду, а там будет видно». – С ума сойти. – И это будет, Олег Викентьевич. Сначала я свихнусь, а потом и вы. – Послушай, Женька… – Не надо. Только ничего не надо говорить. Я вам сама скажу. У диких собак исключительное чутье. Они никогда не навязываются тому, кто не нуждается в их преданности. И никогда не отдают больше, чем у них могут взять. И не казнитесь, Олег Викентьевич, решение вы приняли правильное, ибо другого принять не могли. Другого решения просто не существует. Молчите! Не надо ничего говорить. Если бы вы знали, что я передумала за те сутки. Если бы слышали, как просила я вас вернуться… – Потому и вернулся, – сказал он и заправил под платок ее мягкие кудряшки. Этот жест сразу стер в глазах Женьки недоверие. Губы ее вздрогнули, по щекам полыхнул румянец. Она опустила глаза и быстро отвернулась. – Пойдемте, – сказала примирительно, – я покажу вам местное кладбище. И, не ожидая его согласия, зашагала по густой зеленой траве к поселку Устье. Потом Булатов не раз вспоминал это мгновение. И не мог ни ответить, ни объяснить себе – что помешало ему взять ее лицо в ладони и прямо сказать: «Я люблю тебя, Женька! Люблю больше всего на свете! Больше жизни!» Она все это знала и видела. Но ей было необходимо услышать признание. Поздно вечером Женька проводила Булатова на катер. Пришли Дмитрий Дмитриевич с Ангелиной Ивановной, высыпало почти все население поселка. Женька сдержанно шутила. – Оркестра, к сожалению, у нас нет, – говорила она, заглядывая ему в глаза, – но если бы был, сами понимаете… Тем не менее ваше пребывание в Устье, Олег Викентьевич, станет для аборигенов событием историческим. Нас не часто балуют своим вниманием такие великие люди. Отныне время в Устье будет делиться на «до Булатова» и «после Булатова». Это факт. – Спутаю я вам это летоисчисление, – сказал он, – возьму и прилечу еще раз. Как тогда? – Думаю, что устьинцам не грозит ваш повторный визит, – ответила Женька с вызовом, хотя угроза Булатова показалась ей любопытной. Прощались сдержанно. Дмитрий Дмитриевич пожал Булатову руку, и сказав «спасибо вам за все», быстро растаял в толпе. Ангелина Ивановна всплакнула, обняла его за голову и поцеловала в лоб. Попросила за что-то прощения, посмотрела на притихшую дочь, на него, вытерла платком глаза и, обращаясь то ли к одному Булатову, то ли к нему и Женьке, тихо сказала: – Будьте счастливы… Когда мать отошла, Женька сняла варежку, выпростала из рукава полушубка руку. – Желаю вам, Олег Викентьевич, хорошей погоды и мягкой посадки. Он взял ее узкую теплую ладонь, осторожно пожал и потянул на себя. Женька отрицательно качнула головой. – Я могу заплакать, – сказала она тихо. – Не надо. Мы ведь больше не увидимся. – А ты не можешь использовать свои шаманские фокусы? С катера поторопили, и Женька вдруг сама потянула его за обшлага полушубка, сомкнула на шее руки и крепко поцеловала в губы. Булатов не успел опомниться, не успел ничего сказать, как она растворилась в толпе провожающих. Катер шел по ночной Индигирке, утыкаясь лучом прожектора то в один, то в другой берег. Кругом была девственная тьма, и только бортовые иллюминаторы иногда бросали на маслянисто-черную воду блики. Дул холодный встречный ветер, и Булатов спустился в салон. Здесь, на одной из банок, обтянутых потрескавшимся дерматином, ему была приготовлена постель. Ворочаясь от бессонницы, он впервые почувствовал какую-то неясную тревогу. Еще не затронув его, она, подобно летучей мыши, лишь прошелестела невидимыми крыльями в темноте ночи и бесследно растаяла. Во второй раз эта птица напомнила о себе, когда он прощался у самолета со своими новыми друзьями из районной больницы. Возвращая с благодарностью полушубок и теплую шапку, Булатов увидел у трапа молодую женщину в пуховом платке и красных варежках, и подумал, что здесь могла быть и Женька. Ему надо было только попросить ее, чтобы проводила до самолета. И она с радостью проводила бы. Но он не попросил. И даже не подумал попросить, дубина стоеросовая. На душе снова стало тревожно, будто судьба о чем-то предупреждала его. Самолет из Якутска на Ленинград уходил вечером, и Булатов решил познакомиться со столицей этого далекого и удивительного края. Жара стояла, как в Сочи, плюс двадцать шесть. Представляя себя в меховой шапке и полушубке, Булатов улыбался: действительно ли было с ним такое четыре года назад. Оставив в камере хранения сумку и куртку, он налегке поехал в город. И вот тут с ним начало твориться нечто необъяснимое. Всю жизнь Булатов любил ходить в музеи, на выставки, в картинные галереи один. Необходимость с кем-то обсуждать увиденное, подстраиваться к ритму передвижения, от кого-то зависеть всегда раздражала его, мешала восприятию. Он не получал того удовлетворения от встречи с художественными творениями, какое мог получить гуляя, как кошка, сам по себе. Тут же он сразу почувствовал, что ему остро не хватает Женьки. Не хватает ее глаз, ее голоса. Вот он подошел к Восточной надвратной башне бывшего Якутского острога. Взобрался наверх по скрипучим ступеням. Ветхая старина. Семнадцатый век… Ну и что? Вот если бы с ним была Женька, если бы она удивленно трогала пальчиком старые бревна, так же удивленно качала головой, что-то говорила… Если бы он мог показать ей на уходящие в дымку берега Лены и спросить: «Правда, красиво?» Если бы мог подать ей руку и бережно поддерживать при спуске в подземелья института мерзлотоведения, если бы мог… Булатов побывал в Музее истории и культуры народов Севера, в Доме-музее Емельяна Ярославского, в республиканском музее изобразительных искусств, заглянул даже в юрту, где родился и вырос известный якутский революционер Платон Ойунский. Все это было неожиданно и любопытно, но вместе с тем и пресно, вроде того обеда в ресторане гостиницы. «А не вернуться ли мне в Устье?» – подумал Булатов, но сам же и высмеял свое сумасбродное желание. Завтра надо быть на работе, да и как расценят его поступок родители Женьки? Все равно ее не отпустят, да и сама она не решится. Куда, скажет, зачем? И в самом деле, зачем? Булатов понимал, что, подбирая успокоительные слова и аргументы, он обманывает себя. Обманывает и понапрасну теряет время, теряет что-то такое, чего и осознать не в силах. И от этого бессилия растет его неосознанная тревога. Во время посадки самолета в Братске один из пассажиров свалился в проход, потерял сознание, и юная, очень хорошенькая стюардесса испуганно заплакала, стала звать на помощь. Булатов сразу понял: сердечная недостаточность. В аптечке лайнера был и стерильный шприц, и необходимое лекарство. Остальное – дело техники. Пассажира привели в чувство, а после приземления передали на подъехавшую к самолету машину «скорой помощи». – Я буду благодарна вам, доктор, до конца жизни, – сказала стюардесса. Она уже припудрилась, восстановила растрепавшуюся прическу. – Вы не представляете… В первом рейсе и такое ЧП. Если вам понадобится моя помощь, может, билет на самолет или еще чего, звоните. Вот мои координаты. Она написала на листочке фирменного блокнотика свое имя – Арина Родионовна, номер ленинградского телефона, аккуратно вырвала листок и подала Булатову. Прочитав вслух «Арина Родионовна», он улыбнулся, качнул головой. – Ну и ну… – Все по этому поводу улыбаются и качают головой, – сказала стюардесса. – Я привыкла. – А как ваш муж относится к звонкам посторонних мужчин? – Булатов входил в привычную роль старого холостяка. – Я не замужем. – А жених? – Пусть это вас не беспокоит. Честное слово, я очень вам признательна. Вы спасли мою репутацию. Ведь он мог помереть. «Вполне», – подумал Булатов и снова почувствовал укол тревоги. «Ты, братец, становишься шизиком», – сказал он себе. И, глядя на грациозно удаляющуюся стюардессу, стал прикидывать, куда бы ее лучше пригласить. Санитарный фургончик притормозил у КПП аэродрома. Булатов назвал дежурному сержанту цель приезда, показал путевой лист. Тот козырнул и разрешил дневальному открыть ворота. – Самолет только что совершил посадку, – сказал дежурный, – вы к вышке поезжайте. Там покажут стоянку. Под колесами санитарного «УАЗа» глухо хрупнул лед во вчерашней луже, и машина остановилась у командного пункта. – За раненым? – спросил кто-то в темноте. – Держитесь за нашим автобусом. Через минуту из-за здания выехал чистенький «ПАЗ» и, включив дальний свет, покатился по рулежной дорожке. Угрюмо-темный армейский АН-8 уже зарулил на стоянку, но его винты еще стремительно вращались, сверкая в свете фар острыми дисками, и к самолету никто не подходил. Затем в турбинах оборвалось что-то, и они на одном длинном выдохе затихли. Очень громко открылась в салоне дверь, еще громче звякнул откидной трап, и сразу все заговорили, смешались. К Булатову подошел невысокий человек в летной куртке, уточнил, кто поможет вынести носилки, передал Булатову папку с документами, большую спортивную сумку с личными вещами раненого. Сержант с водителем ушли в самолет, а Булатов перво-наперво заглянул в историю болезни: нет ли срочных назначений. – Лейтенант Волков Геннадий Иванович, – прочитал он вслух и сразу подумал – не сын ли Ивана Дмитриевича Волкова? Ведь у него был сын. В авиационное училище поступал, Булатов точно помнил. Еще какие-то страсти на этой почве кипели. «Итак, что мы имеем?» Булатов пробежал историю болезни. Картина была не очень веселая, но и не безнадежная. В результате проникающего ранения брюшной полости повреждены некоторые жизненно важные органы и, что особенно опасно, – задет один из магистральных артериальных сосудов. При первичной операции парня подлатали и помогли ему выползти из смертельной опасности. Теперь необходимо закрепить достигнутое и не только поставить больного на ноги, но вернуть в строй полноценного офицера. А там артерия. Такой участок не заштопаешь. Придется ставить протез. Значит, еще одна операция, еще один рубеж опасности. Волков лежал на носилках, укутанный теплым шерстяным одеялом. На голове офицерская ушанка, завязанная у подбородка. Темные носилки, темное одеяло, темная ушанка. И только лицо, как вылепленная из гипса маска. Но стоило Булатову склониться над ним, как веки дрогнули, распахнулись и в живых глазах затрепетали аэродромные огни. – Ага, живой, – обрадованно сказал Булатов. – Живой, – согласился лейтенант. – Помирать нам рановато. – Это верно. Как путешествие перенес? – Я же летчик. – Ну да, конечно. А как самочувствие? – В пределах обусловленных параметров. – Исчерпывающе. Меня зовут Олег Викентьевич. Фамилия – Булатов. – Лейтенант Волков. – Прекрасно. Иван Дмитрич Волков не родственник вам? Лейтенант посмотрел на Булатова настороженно. – Вы его знаете? – Он был начальником гарнизона, я в госпитале работал. – Отец знает? Ну, что меня… – Я его давно не видел. Лейтенант помолчал, закусив губу и кивком головы попросил Булатова наклониться. – Я вас прошу, – сказал он совсем тихо, – не говорите пока отцу обо мне. Лучше потом, когда я встану на ноги. Я прошу вас. – Хорошо, – пообещал Булатов. Судя по словам раненого лейтенанта, Иван Дмитрич где-то недалеко служит. Не исключено, что в самом Ленинграде. Надо еще раз заглянуть в историю болезни, там адрес родителей указан. – Делайте, лейтенант, глубокий вдох, едем дальше. Дорога не гладкая, будет трясти. Придется потерпеть. – Ничего. Вытерплю. Вы не беспокойтесь. – Сказано это было уверенно, но без бахвальства, даже с заботой о тех, кто вынужден возиться с ним, беспомощным человеком. Булатов улыбнулся. Ему был симпатичен этот лейтенант. Да и вообще он любил иметь дело с больными, умеющими мужественно держаться, не теряющими присутствия духа даже в самых критических обстоятельствах. Такие, как правило, легче переносят сложные операции, быстрее выздоравливают. Лейтенант Волков был явно из этой породы. Носилки внесли в фургончик, закрепили на амортизирующих ложементах. Булатов пересел в салон, а свое место в кабине уступил сержанту. Водителя попросил вести машину с максимальной осторожностью. Булатов позвонил этой белокурой стюардессе Арине Родионовне примерно через неделю. Была пятница, конец дня. Прежде чем уйти из клиники, он нашел в кармане мятый листок из фирменного блокнота, разгладил его на холодном стекле стола, набрал номер, на всякий случай, ни на что не надеясь. Узнав в трубке ее голос с характерным грассирующим «р», спросил: – Это няня Александра Сергеевича? Девушка, видимо, привыкла к подобным шуткам. – Кому-то требуется няня? – спросила она. – Совершенно точно, – весело согласился Булатов. – Приходящая по вызову. Оплата по соглашению. Для уточнения условий контракта необходима личная встреча. Сегодня. У меня колеса и я могу приехать в любую точку земного шара. Называйте место и время. Хоть Братск, хоть Якутск. – Ах, вот это кто, – сказала она потеплевшим голосом. – Придется ломать планы. – Что вы! – Булатов не рвался на это свидание. И когда звонил, больше надеялся, что телефон не ответит. А тут прямо все как по маслу. – Только не надо жертв. Я могу не оправдать их. – Да нет уж, – возразила Арина Родионовна. – Во второй раз вы не позвоните. Записывайте мой адрес и приезжайте. Здесь и обговорим условия контракта. – А это удобно? – спросил он, записывая адрес. – Удобно, – заверила она. – Жду вас не позже девятнадцати. Домой, так домой. Булатов развернул карту города, нашел улицу Васи Алексеева. Почти рядом с метро «Кировский завод». Направление знакомое, он уже не раз ездил в Петродворец, гонял машину в Красное Село на техобслуживание. Он любил сидеть за «баранкой», и будь у него время, с удовольствием мог поехать до Якутска и дальше в тундру. Воспоминание о тундре мгновенно отозвалось неясной тревогой. Представил уходящую в дымку горизонта сине-бело-зеленую равнину, поблескивающие в прозрачном воздухе пятна озер, парящую над устьем Индигирки розовую чайку, и Женьку… Заправленные в сапоги джинсы, руки в карманах полушубка, подбородок в лохматом воротнике, печальная улыбка и крутая обида в золотисто-карих глазах. И поездка к Арине Родионовне показалась ему бессмысленной и нелепой. Зачем? То, что он почувствовал и открыл для себя туманным утром на берегу Индигирки, ничем и никогда подменить не удастся. Но машина уже катилась по улице Васи Алексеева. Дом под номером одиннадцать оказался в глубине двора, и Булатов, попетляв вокруг детских площадок, наконец припарковал «Жигуля» у нужного подъезда. С тополей дружно опадали желто-коричневые листья, покрывая землю унылым двухцветным ковром. Как быстро, черт побери, промчалось лето. – Ого, какая точность! – искренне сказала Арина Родионовна. На ней было легкое платье, похожее на пляжный сарафан, волосы перехвачены небрежным узлом на затылке, на ногах хотя и нарядные, шитые золотой канителью, но старые стоптанные штиблеты. «Домашняя кошечка», – подумал Булатов. Такой Арина Родионовна совсем не походила на ту строгую стюардессу. О чем он не преминул высказаться. – Униформа в какой-то степени защищает, – сказала Арина, – но все равно пристают, спасу нет. – Считайте, что одним приставалой стало больше. – Ну нет, – засмеялась она. – Тут все наоборот. Ваша жена знает, куда вы поехали? – спросила вдруг. – Разумеется, – храбро солгал Булатов. – Мы не скрываем друг от друга ничего. – И она спокойно отнеслась?.. – Даже обрадовалась. Говорит, я хоть позанимаюсь. Она у меня студентка. На первом курсе. – Вам повезло, – совсем по-доброму улыбнулась Арина. – А я ревнивая. Я бы через пять минут следом примчалась. Мне лучше неправду говорить: поехал на симпозиум или… срочно вызван в управление. Я вся в мать. Отец сегодня сказал, что задержится на сдаточном объекте, он строитель, а мать не поверила, поехала на объект, хочет сама убедиться. Час на электричке в один конец. «А как Женька будет относиться к его вынужденным задержкам, дежурствам?» – спросил Булатов себя. И ответил однозначно: она будет верить каждому его слову, как и он ее. Первая неправда между ними станет началом конца. – Только не зовите меня по отчеству, – говорила Арина, – отчество свое я вам для интереса назвала, чтобы вы меня лучше запомнили… Сейчас будем ужинать. Я приготовила отбивную. А что вы пьете?.. Сухое? Ах, я совсем забыла, что вы за рулем. А сухое можно?.. Тоже нельзя? Тогда будем есть, я люблю готовить, только редко приходится… Замуж?.. Кто обжегся на молоке, на воду дует. Я попробовала. Два месяца длилось мое замужество. Разлетелись, как в небе самолеты. И слава богу. Такие оба дурачки были… А меня все время тянуло путешествовать. Вот и стала стюардессой… Нет, мне нравится. Я сначала в порту работала. А теперь вот получила разрешение… Знаете, как испугалась? Первый самостоятельный рейс, и вдруг такое… Что вы, я прямо обалдела, как вы ловко все это сделали. У меня же чуть речь не отнялась. Гляжу, а у него губы синеют, глаза под лоб, изо рта пена. Жуть! А вы сразу… Булатов слушал незатихающую болтовню Арины, что-то сам говорил, а в сознании неотступно вертелся и вертелся один вопрос: «Зачем я здесь?» – Жизнь человека – хрупкая вещь, – продолжала рассуждать Арина, – и хорошо, если рядом с тобой в нужный момент окажется человек, способный оказать необходимую помощь. А если его не окажется? Вот тебе и все. Не будь вас в самолете, и этот гражданин летел бы совсем в другую сторону… А еще есть люди, которым не хватает решительности. Я узнала, кроме вас, среди пассажиров была еще одна женщина, тоже врач. Она потом призналась: «Я бы ни за что не решилась взять на себя ответственность». Он, дескать, мог умереть, и врача, сделавшего укол, могли привлечь. А вы решительный, не побоялись взять ответственность. Да, конечно, он решительный. Особенно там, где ничего не надо решать. Взял и не побоялся сделать укол умирающему человеку. Женьку такими штучками не проведешь. Она сразу его раскусила и сразу поняла, какой он решительный, когда Булатов вышел из дома, поговорив с Ангелиной Ивановной. «И чем завершились переговоры высоких сторон?» «Какие переговоры? Она мать…» Олимпийское спокойствие. А должен был выбежать, схватить на руки, прижать к груди и заорать на всю тундру: «Не отдам!» Тогда бы и Женька поверила, что он решительный, что не боится брать ответственность. Любовь, какой мы ее представляем в высшем проявлении духовности, это прежде всего умение взять ответственность за судьбу близкого человека. Взять решительно, без рассуждений и колебаний, потому что любые взвешивания и сомнения оскорбительны для искреннего чувства. – Когда вы снова летите в Якутск? – спросил Булатов девушку. – Сегодня ночью. В ноль часов, пятьдесят пять минут. – А сейчас? – Только восемь вечера. Булатов встал. – Вам отдохнуть надо. – Я уже на трое суток вперед отоспалась. Вам чай или кофе? – Пожалуй, кофе. А вы не могли бы прихватить меня с собой? – вдруг пришло сумасбродное решение. – Это серьезно? – обрадованно удивилась Арина Родионовна. – Вполне. – Он уже начал считать: сегодня пятница, в его распоряжении два дня, полсуток туда, полсуток обратно, сутки там. Если не уложится, у него есть два отгула. Надо только предупредить Аузби Магометовича. – Вполне серьезно, милая Арина. Если, конечно, найдется свободное местечко в вашем корабле. – Вы отчаянный человек, – сказала Арина и подошла к телефону. Из ее разговора Булатов понял, что на Якутский рейс все места проданы, но Арина берет пассажира на свою ответственность и, если мест не окажется, решит проблему с командиром экипажа. Пусть только у пассажира будет билет. Опустив на аппарат трубку, она сказала: – Не помню случая, чтобы кто-нибудь не отказался от полета. Ну, а если все явятся, полетите на моем месте. Я найду, где приткнуться. Заскочить к Аузби Магометовичу, собраться в дорогу было делом одного часа. Аузби посмотрел на него странным тягучим взглядом. Будто что-то переоценивал. – Для такого рандеву надо, как минимум, иметь неотложную причину. – Причина есть, – Булатову не хотелось говорить о Женьке, он суеверно оберегал ее имя и все, что с этим именем связано. – Прилечу, расскажу. Пока на слово поверьте – надо. Лейтенанта Волкова поместили в реанимационную палату и сразу начали готовить к операции. Пока Булатов ездил на аэродром, Аузби Магометович собрал в клинике всех необходимых специалистов, теперь они, изучив историю болезни, обсуждали стратегию и тактику предстоящей операции. При первичном вмешательстве сшить подвздошную артерию не удалось, разрыв был слишком велик; сделали временное шунтирование. Аузби Магометовичу предстояло заменить поврежденный участок сосуда силиконовым протезом. Операция не самой высокой сложности, но требующая опыта и ювелирного мастерства. Булатову Аузби Магометович поручил подготовить больного «по части морально-психологической». Лейтенант знал, какая ему предстоит операция, «подковался», видимо, еще в Афганистане. Спросил лишь, сколько времени его продержат под наркозом и сколько будет длиться постельный режим. И еще раз попросил ничего не сообщать родителям. – Как только я смогу подойти к телефону, – сказал он, – я сам позвоню отцу. – Я полагаю, что отцу можно и сейчас позвонить, – сказал убежденно Булатов. – Ивана Дмитриевича я помню. Ему лучше знать правду. Лейтенант отрицательно покачал головой. – Он не сможет долго обманывать маму. Она сразу почувствует. Булатов вспомнил, что где-то в Афганистане служит Ефимов. Спросил у лейтенанта, не встречал ли его? Волков заволновался, побледнел, глаза его настороженно взблеснули. – А вы что-нибудь знаете о его судьбе? – спросил он вдруг севшим голосом. – Я ему жизнью обязан. И не только я… Я вам сейчас расскажу про этого летчика. Меня увезли, когда ему предстояло лететь… Я расскажу вам… Сейчас… – Ты не волнуйся, подожди, – остановил лейтенанта Булатов, – за тобой экипаж пришел (в палату, толкаемая двумя санитарами, бесшумно въезжала каталка), договорим после операции. – Хорошо, – согласился лейтенант, – только не звоните отцу. Когда Булатову позвонила Нина и спросила у него о Ефимове, он сразу подумал, что лучше всего этой женщине узнать о любимом из первых рук. Прикинув все «за» и «против», решил пригласить ее в палату к лейтенанту Волкову. После операции прошло три дня, больному эта встреча может стать психологической поддержкой: раз к нему пускают посетителей, значит его здоровью ничего не угрожает. И он сказал: – Приезжайте к пятнадцати часам. Операцию Аузби Магометович провел, как всегда, мастерски. Иногда Булатову начинало казаться, что он, как хирург, уже постиг почти все тонкости своей профессии. Но всякий раз, ассистируя Аузби Магометовичу, Булатов убеждался, что ему еще до совершенства – топать и топать. Ножками. И он потихонечку, про себя, благодарил судьбу, что она послала ему такого учителя. А ведь вначале, греха таить нечего, Булатов отнесся к своему патрону снисходительно. Показался он ему эдаким робким мужичком, спустившимся с гор. Даже удивился, узнав, что Аузби Магометович – профессор, заместитель начальника кафедры, имеет около сотни научных публикаций. Потом, от операции к операции, шеф рос в его глазах, пока Булатов не сказал сам себе: «гигант». Нина пришла в клинику ровно в три часа дня. Позвонила из проходной, и Булатов вышел ее встретить. Он бы не смог объяснить, по каким таким особым признакам выделил ее в вечно неиссякающей очереди гардероба. Выделил и все. Глянул и сразу решил: эта. – Здравствуйте, Нина Михайловна, – сказал он, пересекая вестибюль. – У меня такое ощущение, что я давно вас знаю. – Физиономия у меня такая узнаваемая, – сдержанно улыбнулась она. – Некоторые даже спрашивают, не работала ли я директором на телевидении. «Чем она привлекает?» – думал Булатов, рассматривая Нину, пока та поправляла перед зеркалом прическу, стряхивала с платья невидимые пылинки, набрасывала на плечи белый, отороченный длинной бахромой, кружевной платок. «У нее правильные, тонкие черты лица, хорошо ухоженные волосы (Нина сделала едва уловимое движение головой и они свободно рассыпались по плечам), выразительный, готовый в любой миг раскрыться в улыбке рот и глубокие глаза». Именно эта глубина глаз в сочетании с легкой статью… да, зрелая женственность. «Вот этим она и привлекает», – решил Булатов, жестом приглашая Нину к лифту. – Наверное, думаете, зачем меня зазвали в это заведение, если существует телефон? – сказал Булатов, когда они вошли в ординаторскую. – Угадали, – призналась Нина, – чего только не передумала. – Все просто, Нина Михайловна. К нам вчера поступил раненый офицер… Летчик. – Лицо женщины начало мгновенно бледнеть, и Булатов поспешил ее успокоить. – Нет, нет, это не Ефимов, выпейте воды, пожалуйста. Нина растерла щеку, глотнула из поданного Булатовым стакана, нервно вздохнула. – Молодой лейтенант, Волков Геннадий, – продолжил Булатов, доставая из шкафчика белый халат, – он видел Ефимова несколько дней назад. Так что вы всё узнаете из первых рук. Недавно его прооперировали, он еще слабенький, поэтому вы не очень его утомляйте. Нина благодарно посмотрела на Булатова, и он отметил, что боль за близкого человека сделала ее еще более женственной и еще более привлекательной. В сердце шевельнулась зависть к этому счастливчику Ефимову. – Прошу вас, – сказал он и повел гостью в после операционный блок. Лейтенант Волков лежал на высокой, как пьедестал, койке, обставленный со всех сторон штативами и аппаратурой, опутанный шлангами и проводами. Скользнув взглядом по строчкам цифр, Булатов отметил, что все идет «штатно», и жестом разрешил Нине подойти к больному. – Нина Михайловна, – представил он ее лейтенанту, – можешь рассказать ей о Ефимове. Волков встрепенулся и пытливо посмотрел Булатову в глаза: разве мне можно говорить? Булатов понял его взгляд и обрадованно улыбнулся. Значит, расчет был верным. – Можно, можно, – сказал небрежно, – у тебя все о'кей, – и показал соединенными пальцами «очко». Волков помолчал, собрался с мыслями и начал неторопливо рассказывать, как их обстреляли, как они аварийно сели («какое там сели, мы зацепились на отвесной скале, над километровой пропастью»), как прощались с жизнью и как их спасал Ефимов. Булатов не уловил, какие именно слова лейтенанта стали причиной случившегося. Он увидел, как у Нины вдруг безжизненно сорвалась с подлокотника рука, лицо поблекло, и она, прижав другую руку к груди, начала, как в замедленном кино, клониться вперед. Булатов рванулся и успел подхватить ее. По обмякшему телу профессионально почувствовал – сердечная недостаточность. Провел в соседнюю палату, уложил на кушетку. Помогла палатная сестра, кто-то из врачей. Такой реакции Булатов никак не ожидал. Конечно, от всех этих реанимационных атрибутов, капельниц, от рассказа Волкова эмоциональная нагрузка получилась высокая. Но для здорового человека вполне переносимая. Значит, с сердечком у женщины не все в порядке. Булатов отнял судорожно прижатую к груди руку и привычно нащупал пульс. Это был пульс больного человека. Видимо, он не сумел скрыть огорчения, и Нина заметила его, потому что, когда их взгляды встретились, она испуганно сжалась, будто ждала удара. Булатов с трудом заставил себя улыбнуться. – Не думал, что вы настолько чувствительны. – Мне страшно, доктор, – тихо сказала Нина. – Что со мной? – Переволновались. – Булатов развел руками. – Все близко к сердцу приняли. Вот оно и возмутилось. Полежите тут, с вами сестричка побудет. Через несколько минут вас посмотрит профессор. – Лейтенант? – встревоженно спросил Аузби Магометович, увидев Булатова. – Нет, нет, с Волковым все в норме. – Что же вы меня пугаете своим видом, голубчик? – Простите, Аузби Магометович, тут другое. Он перевел дыхание и попросил шефа выслушать его. Говорил Булатов, как показалось ему самому, несколько путано, хотя и кратко. Он ждал вопросов, но Аузби Магометович докурил свою «беломорину», раздавил ее в пепельнице и сказал: – Идемте, посмотрим. Заглянул к лейтенанту Волкову, вернулся и сел на стул напротив Нины Михайловны. Поинтересовался какими-то пустяками, попросил раздеться. Нина послушно выполнила его просьбу. – Попросите сюда лаборантку с электрокардиографом, – быстро сказал Аузби Магометович и, секунду подумав, добавил: – И Танечку пригласите. Танечку – значит, нужен анализ крови. Аузби Магометович был задумчив и немногословен. Голос его не внушал ни тревоги, ни оптимизма. – Вы сейчас в таком состоянии, – говорил он Нине Михайловне, – что вам необходимо быть под наблюдением врачей. Нужна интенсивная терапия. Мы можем отправить вас в районную больницу, можем оставить здесь. Не можем только отпустить домой. Так что выбирайте. – Спасибо, профессор, я останусь у вас. А в Якутск тогда Арина Родионовна его лихо доставила. О чем они только не переговорили за восемь часов полета. Уже и пассажиры, и члены экипажа стали посматривать на свою стюардессу с любопытством: не в меру оживлена, возбужденно-смешлива, к каждому с ослепительной улыбкой, с готовностью… Сумела выяснить через радиста, что через час после их прибытия в Якутск, на Алайху будет спецрейс, посоветовала найти какую-то Антошу в отделе перевозок, которая устроит его как миленького на этот самолет. Арина очень хотела, чтобы Булатов обернулся в Алайху за двое суток, и ждал ее в Якутске, когда она вернется из Петропавловска-Камчатского. Ей «ужасно» хотелось возвратиться в Ленинград вместе с Булатовым. Антошу он нашел, и она действительно посадила его на самолет спецрейса. В Алайхе в аэропорту Булатов лицом к лицу столкнулся с одним из знакомых врачей местной больницы. Искренне удивившись появлению Булатова в этих широтах, тот сообщил, что через несколько минут летит в Устье за больным. И если Булатову нужно именно туда, его могут взять. Ему подозрительно везло. Судьба просто вела его за руку. В салоне вертолета дико грохотало, ни спросить, ни ответить. А когда люди вынуждены кричать, на сокровенные беседы не потянет. – Забыли что-нибудь?! – прокричал в ухо коллега. – Примерно так! – ответил Булатов. И на этом беседа иссякла. Он даже был рад, что может помолчать: наговорился с Ариной. Боялся, как бы только коллега не втравил его в работу. Ведь не откажешь, если попросит помочь. И когда вертолет, сделав круг над Устьем, пошел на посадку, Булатов устроился подальше от выхода. Ему хотелось выйти из салона незамеченным, выскользнуть из толпы и сразу по шакомой тропинке к метеостанции. Вертолет опустился несколько в стороне от собравшихся в кучку жителей Устья. И как только замерли обвисшие лопасти несущего винта, и дверь салона открылась, народ торопливо двинулся к винтокрылой машине. Двое мужчин несли на носилках кого-то укутанного черными тулупами. В Устье морозило и над землей летели редкие белые мухи. Булатов обошел вертолет и, почти никем не замеченный, быстро зашагал по той самой дорожке, где полмесяца назад они гуляли вместе с Женькой. Он попытался представить, как она его встретит? Обрадуется? Или сдержанно вскинет брови и небрежно спросит: «Что сие значит, Олег Викентьевич?» – «Сие значит, Евгения Дмитриевна, – скажет он, – что я люблю вас и прошу вашей руки и сердца». Булатов улыбнулся: какая ерунда. Да если Женька увидит, что он идет к их дому, она ветром вылетит навстречу, повиснет на шее, как тогда после туманной робинзонады, будет размазывать по щекам счастливые слезы. Это ведь Женька – дикая собака Динго. Она любит его, и в этом весь фокус. Булатов постучал, затем нажал ручку и толкнул дверь. Она была не запертой. Минуя сени, он постучал в следующую дверь. И снова, не услышав ответа, надавил на нее плечом. В прихожей на всю катушку гремел радиоприемник, по «Маяку» транслировали интермедию Аркадия Райкина «В Греческом зале, в Греческом зале…» То ли услышав стук двери, то ли вопрос Булатова – «Есть ли кто в доме?» – из лаборатории вышел Женькин отец, Дмитрий Дмитриевич. Не удивившись появлению Булатова, он протянул ему руку и, сдвинув на лоб очки, тихо спросил: – Вы их не встретили? Булатов не понял, о ком речь. – Евгения наша тяжело заболела, – сказал Дмитрий Дмитриевич. – Вчера за живот схватилась, все успокаивала нас, пройдет, мол. А ночью начался жар, температура под сорок, бредила, вас звала… Пришлось радировать в Алайху, сегодня прислали вертолет. Ангелина Ивановна с нею, а мне нельзя, кто-то должен быть здесь. – Температура прошла? – Плоха она, Олег Викентьевич, – сдерживая боль, сказал Дмитрий Дмитриевич. – Значит, вы разошлись в поселке? Наш фельдшер подозревает аппендицит. Вот ведь беда какая. Ребенок, а уже аппендицит. Уж хоть бы все обошлось. Булатов увидел, как по ложбинкам глубоких морщин на его лице извилисто блеснула влага. И в тот же миг в нем самом что-то дрогнуло внутри, обожгло недобрым предчувствием: вот она, расплата за беспечность! Он сразу понял, и почему она за живот схватилась, и почему так подскочила температура, и какие непоправимые последствия могут быть. – Мне надо немедленно туда, – решительно сказал Булатов. Он уже проклинал свою необъяснимую эгоистичность, проклинал тот миг, когда удержал себя от вопроса коллеге: «За кем летит вертолет в Устье?» – Подскажите, Дмитрий Дмитрич, как мне быстрее попасть в Алайху? – Катера ни сегодня, ни завтра не будет. Вертолет за вами не пришлют. Не знаю. – А изыскатели? Зуев? – Зуев в Москве. Без него не получится. Только разве на моторке. Но уже вечер. В ночь идти по Индигирке нельзя на таком суденышке. Севу надо попросить. На рассвете выйдете, к вечеру будете в Алайхе. Через час Булатов был на пристани у Хрустальной горки. После переговоров с Дмитрием Дмитриевичем Сева хмуро посмотрел на Булатова и показал на широкую застланную тулупом лавку. – Пока поспите. Выйдем рано. Дорога будет трудной. Он лежал с закрытыми глазами, не понимая, спит или бодрствует. Пропало ощущение времени, смешались сон и явь, смешалось виденное с придуманным; он куда-то летел и плыл, болтал с Ариной и слышал угрюмое ворчание Севы. И словно пневматический молот, забивающий сваи в грунт, в сознание стучалась собственная мольба: успеть, успеть, успеть… Уже не раз и не два Булатов потихоньку (чтобы не сглазить) благодарил судьбу за то, что она вела его по жизни легкой стезей. Она и вправду была благосклонна к нему, прямо потворствовала в большом и малом: увлекла любимой работой, не отягощала бытом, помогла встретить таких друзей, как Коля Муравко и Аузби Магометович, обеспечила приличную карьеру и, наконец, одарила любовью. Конечно же, на судьбу ему плакаться грех. Тогда почему она так жестоко отвернулась от него? За что наказала? Ведь без единой задержки, прямо за руку тащила тогда его в Устье, а когда он был в трех шагах от Женьки, вдруг отступила и оставила одного. Почему?! Почему не позволила быть с нею рядом в тот момент, когда больше всего на свете ей нужен был именно он? Что это – грозное предупреждение или расплата за беспечность? Скорее – и то, и другое. Разве он имел право забыть, что болезнь только отступила, только дала небольшую передышку? Забыть, что он врач, и эгоистично пройти, не услышав крика о помощи? Конечно, такого права он не имел. Просто рядом с Женькой он напрочь забыл вообще обо всем. Вот за эту забывчивость, наверное, судьба и не пощадила его. Сколько уже времени минуло, а перед глазами так и стоят те черные тулупы на носилках. И не их ли черная тень выбелила его буйную головушку? Он ждал лета. Ждал его со страхом и надеждой. Ждал и мучился только одним вопросом: простит ли Женька его, захочет ли простить? 14 Самолет вошел в густую облачность, и ощущение скорости исчезло. Сплошная серая масса пеленала крылья, клубилась возле иллюминаторов, волосяными струйками выписывала узоры на стеклах. И вдруг, как взрыв, как чудо – ослепительный солнечный свет, ярко-синее небо, а под самолетом – сверкающие белизной, рельефные, как скирды хлопка, облака. Они с реактивной стремительностью отлетали назад и вниз, меняя свои причудливые, как в фантастическом кинематографе, очертания и размеры, возвращая пассажирам чувство полета на скоростном современном лайнере. – Летим, братцы-кролики, домой, – сказал безрадостно Паша Голубов, будто хотел на слух проверить, соответствует ли звучание сказанных слов скрытому в них смыслу. «Летим домой», – повторил Ефимов про себя. И странно, еще секунду назад молчаливо упрекая Пашу Голубова за печальную интонацию, сам тоже не почувствовал радости возвращения. На сердце была грусть. Необъяснимая, похожая на возрастную усталость. А на языке все вертелся вопрос: а где твой дом? Где он, тот причал, к которому человек всегда привязан невидимыми нитями родства, всегда с нетерпением ждет часа, когда ступит на его скрипучие доски, припадет грудью к теплой земле? Через час самолет пересечет невидимую границу, и Паша снова скажет не без грусти – вот мы и дома. Но это их общий дом. А где тот, единственный и неповторимый, дом, принадлежащий только тебе? Может, в авиационном гарнизоне, где у Ефимова были Муравко и Юля, Новиков и Чиж, где он пережил счастливейшие мгновения от возвращенной любви, от встречи с Ниной? Но в гарнизоне этом он уже никого не встретит, ничего не найдет. Разве только обелиск над могилой Чижа. А интересно, как идут дела у Коли Муравко? Как сложилась его жизнь в отряде космонавтов? Ефимов внимательно следил за каждым новым взлетом в космос, внимательно перечитывал биографии космонавтов, прикидывая, сколько времени каждый из них готовился. Получалось, что у Коли Муравко полет не за горами. Мог бы у Ефимова быть свой причал и на Севере. Во сне Полярную звезду видит. Неповторимый по суровости, полный тайн и загадок, красивый строгой красотой, этот край проверял на прочность и обещал богатое продолжение. Там Ефимову интересно жилось и так же интересно леталось. Там вырисовывалась служебная перспектива, о которой он мечтал еще в курсантские годы. Не о карьере речь, о настоящем профессионализме, о мастерстве, когда в небе рядом с тобою только асы, умеющие делать абсолютно все. Все, на что способна современная техника, на что способен человек. Мог бы… Но кто виноват, что мечта не реализована? Александр Васильевич – командующий ВВС округа – доказывал с цифрами в руках, что у Ефимова не было физической возможности сбить мишень, не опустившись за предел ограничений. Но Ефимов, как летчик, не снимал вины с себя. Его личные расчеты убеждали в другом: пока идет бой, летчик не имеет права на расслабление. Знания, сила, эмоции – все в кулаке, все в узде. А он расслабился, сбив первую мишень, упустил контроль за приборами, подсознательно перестраховался от запредельных перегрузок. Сказывалась, конечно, усталость, но против усталости есть воля. С ее помощью летчик обязан в критических ситуациях извлекать из своего организма неприкосновенный запас физических и духовных сил. Мог это сделать и Ефимов. Мог. Но не сделал. Воли не хватило. Тянуло ли его в тот затерянный среди лесов и озер поселок, что причудливо разбросал по холмам свои домики вокруг аэродрома, где стояла вертолетная эскадрилья Шульги? Там была последняя перед отлетом в Афганистан пристань Ефимова. И будет первой после возвращения в Союз. Там он обрел новых друзей, новую летную профессию. Шульга обещает по возвращении приложить все усилия, чтобы Ефимова назначили заместителем комэска. Нет, перспектива такого роста не согревала. Вертолеты – временное дело в его летной биографии. Душа Ефимова рвалась за звуковой барьер. Причалом родным ему все более мнился Ленинград. Что с того, что в этом красивом и гордом городе Ефимову ни жить, ни служить не выпало. Он его чувствовал каждой своей клеточкой, каждой кровинкой. В этом городе жила Нина. И Ефимов уже решил для себя окончательно: он не будет больше ждать, когда Нина сама его разыщет. Ему положен по возвращении отпуск. В Ленинграде он позвонит ей и скажет: все, дружок мой милый, больше без тебя не могу. Ефимов уверен – его звонок и его слова станут для Нины долгожданным и счастливым праздником. Он не знает, откуда эта уверенность, но она в нем жива. Предельно ясно одно – и краем родным, и причалом ему станет тот дом и тот город, в котором они будут жить с Ниной. Нет, мучил его не только день завтрашний, но и вчерашний. Ведь ноет душа. Ноет от какой-то невосполнимой потери. Но какой? Изнуряюще напряженные дни. Тяжелая мужская работа… Постоянный риск на истонченной грани возможного и невозможного… Мужские слезы, кровь… Не надо думать об этом, тем более сожалеть. Рассудок активно сопротивляется, но победить ощущение потери не может. Ефимов стал перебирать в памяти наиболее яркие эпизоды службы в Ограниченном контингенте. И ничего такого, о чем бы следовало грустить, не вспомнилось. Всплывали трогательные встречи с дехканами в далеких кишлаках, их растерянные перешептывания, когда экипаж отказался от баранов, приведенных в благодарность за своевременно доставленные мешки с удобрением… Вспомнил, как спасали мальчонку от астматического удушья, поднимая его в вертолете над горами; поднимали бездыханный трупик, а вернули живого ребеночка. Продышался будущий гражданин свободной республики. А как исхитрились погасить огонь на подожженной душманами машине с зерном? Сперва прижали пламя воздушным потоком винта, а потом вскрыли несколько синтетических емкостей с водой – только пар, подобно взрыву, шарахнул по сторонам. И все, пожара как не бывало. Участвовал Ефимов и в операции по спасению захваченных «духами» сотрудников царандоя[6]. Надо было внезапно доставить ребят из ХАДа[7] на небольшой высокогорный пятачок, расположенный перед входом в пещеру. Но как обеспечить внезапность, если двигатели вертолета слышны за десятки километров? Ефимов взялся это сделать. Подняв вертолет повыше к солнцу, он три четверти спуска прошел с выключенными двигателями, на авторотации. И запустил их уже у самой земли. Эффект внезапности был ошеломляющим. Десантники ХАДа бросились в пещеру, вынесли связанных царандоевцев, кажется, их было четверо, да еще и заминировали вход в это осиное гнездо. Взлетели под аккомпанемент беспорядочной стрельбы неожиданно появившейся банды. Короче, вспоминать есть что. Были у них минуты военного счастья. Мужские минуты. Обстоятельства иногда просвечивают человека, словно рентгеновским аппаратом, один костяк да сердцевина на виду. А все одежды, в которые он рядится в обычной жизни, вместе с кожей и накопленным жирком становятся неузнаваемо прозрачными. Как стекло. И разве не высшее счастье неожиданно убедиться, что рядом – настоящие парни, твои единоверцы и единомышленники, с которыми можно все разделить и которым можно все доверить. Даже жизнь. Не оттого ли так грустно, что этих острых мгновений теперь будет гораздо меньше? Бездумно глядя в иллюминатор, томился душою и Паша Голубов. Там, в каньоне, когда они ждали с Баранчиком помощи, он сказал себе: «Живой останусь – все шашни побоку. Хватит. Буду Анютку воспитывать, Таньку ублажать. Когда чует, что Пашка только ей принадлежит, бывает и ласковая, и горячая». Пашка не сомневался, что решение принимает окончательное. Он даже представил, как раскроет чемодан и выложит Таньке шубу из ламы, которую во время отпуска приглядел в чековом магазине Ленинграда. А для Анютки там прямо сказочные одежды имеются. Вот он и заявится к своим женщинам, как старый барахольщик. Берите, хватайте, торжествуйте! Что поделаешь, если баба даже в шестилетнем возрасте баба. Пусть порадуется. Все-таки обе ждут Пашку. Уверенности, что именно так все и будет, у Пашки поубавилось, как только за ними прилетело звено спасателей. А узнав по дороге домой о приказе на замену, сразу же вспомнил Марианну. В Ташкенте пересадка, если Пашка на сутки задержится, земля не станет вращаться в другую сторону. Теперь до посадки осталось около часа. Пашке совсем уже тошно. Ведь все равно не выдержит долго; не вынесет его душа ругани жены, ее мелочных упреков. А то, что упреки от Таньки он услышит уже в первый день («Своим «прости господи», небось, каждый день писал?»), Пашка не сомневался. Разве способна Марианна на что-нибудь подобное? Пашка для нее все. И странно, Пашка писал ей такие письма, что поражался собственному красноречию. Откуда только бралось? Слова какие сердечные придумывал: «Компас моего счастья», «Моя приводная станция». Он писал ей о своих многосерийных широкоформатных снах, в которых Марианна всегда выступала главной героиней, писал о боевых друзьях – добрых и отчаянных ребятах, писал о своей работе, которая, в его изложении, была однообразно-скучной и совершенно безопасной. Стараясь изо всех сил остаться в глазах Марианны не совсем законченным подонком, Пашка ничего ей не обещал. Говорил, что влюбился, как восьмиклассник (было у него такое в восьмом классе), что без нее, как без кислорода, что горит она для него яркой и недосягаемой звездой на темном и скучном небосклоне. Он не знал, как поступит, увидев Марианну, и от этого своего раздвоенного состояния испытывал душевный дискомфорт. А в том, что надо увидеть Марианну, Пашка не сомневался. Судьба прямо за ручки ведет. Не железный же. – Слышь, Федор, – толкнул он в бок Ефимова, – у меня есть гениальное предложение. – Погостить у Марианны? – спросил Ефимов. Пашка удивленно развернулся. – Ты как догадался? – Шульге предложи. Без него как? Шульга сидел от них через проход и делал вид, что дремлет. Пашка наклонился через колени Ефимова и сказал: – Игорь Олегович, есть гениальное предложение… – Принимается, – согласился Шульга, не открывая глаз, – все равно вечером деться некуда. – Откуда все знают мои мысли? – удивленно возмутился Пашка. – Сплошные экстрасенсы. Шульга усмехнулся: – Твои мысли, Паша, у тебя на лбу написаны. Пашка совершенно серьезно достал из кармана зеркальце и осмотрел свой лоб. Все засмеялись, даже Иван Свищенко не выдержал. – Щенячий восторг от собачьей жизни, – серьезно сказал Паша. – Приятно чувствовать себя человеком, когда кругом ржут, как жеребцы. Нет, он любил этих людей. Каждого по-разному, но любил преданно, по-мужски. И от мысли, что скоро с ними предстоит разлука, у Пашки резко снижался тонус. Он уже знал, что возвращается в Союз не «праваком», как называют между собой вертолетчики правого пилота, а аттестованным на должность командира звена. Но он бы согласился полетать еще и на правом сиденье, лишь бы вместе с Ефимовым. И под руководством Шульги. Разве забудет Паша Голубов свои последние часы на том уступе в каньоне? Вода ему мерещилась не только среди камней и скал, он стал видеть ее в воздухе; будто летят такие прозрачные-прозрачные пленочки; если подойти к краю обрыва и подставить ковшиком ладони, тут они и наполнятся холодной сверкающей влагой. Захотелось проверить, но Коля Баран решительно одернул его. – Работать надо, товарищ капитан, дел по горло, – выговаривал он Голубову, – а вы иллюзиям поддаетесь. Чем мы оправдаем свою бездеятельность, если через час прилетят наши? – Как же, прилетят, – ворчал Паша, – открывай рот пошире. Чаёк попивают и ждут у моря погоды… Убедившись, что снайпер их достать не может, Паша с Баранчиком подналегли на демонтаж. И когда по аварийному каналу услышали знакомые голоса, а затем и шум вертолетных двигателей, у них все было готово для эвакуации аварийного вертолета. Коля нарисовал даже схему крепления строп. Пашка все время думал о воде. Смотрел на снижающийся вертолет и представлял, как ему подадут белый армейский термос с широким горлом, как он будет огромными глотками пить и пить прохладную вкусную воду, весь термос опорожнит до дна, без передыха. Но вот вертолет нащупал одним колесом зыбкий край обрыва. Шатаясь и падая под напором воздушного потока, Паша кинулся помогать прилетевшим механикам заводить оснастку, крепить ее к аварийной машине. Когда упал, потеряв силы, вспомнил, что умирает от жажды. Вспомнил, увидев в руках у Коли Барана тот самый инвентарный термос с широким горлом. И странно Пашке теперь… Подержав в руках прохладный алюминиевый сосуд, он отдал его Коле и требовательно приказал: – Сам сначала. Коля Баран отвинтил плоскую крышку и дрожащими руками поднес к пересохшим губам край термоса. Пашке стало чертовски хорошо. А еще запомнилась встреча с Ефимовым. Они не сказали друг другу ни слова. Только обменялись взглядами через проход, соединяющий салон с кабиной. Пашка увидел в глазах Федора слезы и тут же сам почувствовал резь в глазах. Слова были лишними. Они все поняли без слов. Когда мужчины переживают минуты душевной солидарности вот такого накала, это не забывается, это на всю жизнь. Не выходила из головы у Пашки просьба Коли Барана: дозвониться до его Алены. Конечно, Пашка дозвонится и привет передаст, и все ей о Коле расскажет. Но Коле нужно совсем другое, ему необходимо точно знать, что его любят и ждут. А разве по телефону поймешь такое? Надо бы в глаза посмотреть человеку. А как? Лететь за тридевять земель? Хотя почему бы и не слетать? Сувениры, которые Коля просит отослать бандеролью, можно самолично отвезти, а заодно и места сибирские посмотреть. Все-таки просьба друга. За те сутки в горах они стали самыми близкими друзьями. Пашка не сомневается. – Игорь Олегович, – Пашка снова наклонился через колени дремлющего Ефимова, – а, Игорь Олегович? – Какая еще гениальная идея пришла в твою не менее гениальную голову? – спросил Шульга. – Почему бы вам не взять меня к себе в эскадрилью? Буду вам сапоги каждый день чистить, за сигаретами бегать. Ей-богу! Шульга усмехнулся. – Всяк кулик в своем болоте велик. – Я не шучу, Игорь Олегович. – Плоха та шутка, в которой нет хотя бы половины правды. – Все у меня наперекосяк пойдет без вас. Ей-богу. И замена не прямая, в распоряжение отдела кадров. А кадры, я знаю, пошлют, где семья и квартира. Если вы лично попросите начальство, разве откажут такому заслуженному, как вы, командиру? – Не лей, Паша, елей. Ты же начнешь всякие бракоразводные дела. Жена твоя жалобу накатает в инстанции, начнутся разборы, разговоры. Вырос лес – будет и топорище. С квартирами опять же проблема. Где я вам наберусь жилплощади? – Понимаю, – Паша придал своему голосу глубокую трагичность, – нет некрасивых собак, есть нелюбимые. Конечно, хорошо, что Голубов сам завел этот разговор. Когда человек чувствует перед кем-то обязанность, он добровольно надевает на себя узду. А такому, как Голубов, она нужна непременно. Талантливый летчик, прекрасный человек, верный товарищ, но в отношении к женщинам – непредсказуем. Тут от него можно ждать любых сюрпризов. А всякие семейные дрязги и неурядицы – это предпосылки к летному происшествию. Если летчик не сумел навести порядка в семье, он и к полетам не совсем готов. Ему лучше сидеть на земле. И все-таки Шульга хотел иметь в своей эскадрилье такого летчика, как Голубов. В человеке важен не чин, а начин. На Ефимова он не рассчитывал. Чутье подсказывало: не засидится этот хлопец у него. Правда вокруг Ефимова все же продолжалась какая-то нездоровая возня. Видимо, у кого-то из больших начальников его фамилия все еще вызывала отрицательные эмоции. Почти небывалое дело – три года держат в черном теле такого летчика. Шульга сам писал на Ефимова представление. Была команда от генерала: всех, отличившихся в операции по спасению раненых афганцев и подбитого вертолета, представить к государственным наградам. Представили оперативно. Пока собирались домой, пока Шульга передавал эскадрилью, пришли ордена. Скородумов и Свищенко получили Красную Звезду, Коля Баран и Паша Голубов – ордена Красного Знамени. Наградили этим орденом и Шульгу. А на Ефимова начали запрашивать какие-то уточнения и дополнительные характеристики. Видимо, всплыли старые грехи. А он больше других заслуживал награды. Вся тяжесть операции была на плечах Ефимова. Шульга возмущался не только про себя. Он звонил и телеграфировал о своем несогласии в вышестоящие инстанции, но его резко щелкнули по носу и предупредили, что если и впредь будет лезть не в свое дело, в вышестоящих инстанциях встанет вопрос о его служебном соответствии. Шульга замолчал, но не успокоился. «Эта ворона нам не оборона». Во время отпуска он будет с дочкой в Москве, а там есть кому пожаловаться. Не может того быть, чтобы не восторжествовала справедливость. – Ну что ж, Паша, – сказал Шульга с оттенком угрозы в голосе, – коль сам просишься, похлопочу. Только может случиться, что вакантной должности командира звена не окажется. Ведь обидишься, а? – Было бы правое сиденье. – Да нет, командиром машины возьму железно. – Так это же мечта моя, Игорь Олегович. – Хорошо тому жить, кому бабушка ворожит. Самолет мягко приземлился на аэродроме Ташкента. Иван Свищенко первым заметил в толпе встречающих Марианну. Она была точь-в-точь, как на той карточке, которую Свищенко видел у Голубова. И он неопределенно сказал: – Кого-то из наших встречают. Така гарна дивчина може буты тильку у капитана Голубова. Пашка кинулся к иллюминатору, возле которого сидел Свищенко, и тут же виновато оглянулся на своих друзей. – Вот режьте на месте, – приложил он руку к груди, – ничего не сообщал. Как она узнала – убей бог, не пойму. Но как заволновался капитан Голубов, как заерзал. А Свищенко, пока подавали трап к самолету, любовался Марианной. И впервые позавидовал другому мужчине – есть же везучие, которых любят такие красивые женщины. Он попытался поставить рядом с Марианной свою Валентину, и она показалась ему еще более серой и сутулой, совсем без шеи, полногрудая, широкобедрая и толстоногая. Каких только ей Свищенко одежек не покупал. И все на ней, как на корове седло. Любит, чтоб было и дорогое, и модное, а носить не умеет. Идут, бывало, в офицерский клуб на концерт столичных артистов или на праздничное собрание, так он уже сам выбирает, что ей надеть и как украсить. Пока молодая была, так еще ничего, молодостью брала. А теперь обабилась, дальше некуда. Правда, Свищенко отдавал ей должное, дом Валентина умела держать в порядке. Прежде чем уйти на свой коммутатор, а уходит она рано, все успеет переделать. И тетрадки Ромке сложит в портфель, и завтрак приготовит, и постели уберет, и даже Ваньку в садик забросит. Да и после работы не сидит сложа руки. То стирает, то с Ромкой уроки учит, то что-то шьет, что-то убирает – не умеет без дела, томится. К мужниным ласкам как к домашней работе относится. Надо – пожалуйста, не надо – и слава богу. Так что про всякие там любовные страсти и переживания Иван Свищенко знает из книжек, да еще из кинофильмов. И то убежден, что в книжках и кинофильмах все это выдумывают – было бы интересно читать и смотреть. А в жизни все так, как у него с Валентиной. Приглядываясь, как Марианна обхаживала капитана Голубова и его друзей, Свищенко все сравнивал, а как бы в подобной ситуации вела себя Валентина. Уж цветы она точно не стала бы покупать к встрече. Тем более такой здоровенный букет. И в дом к себе звать на ужин не стала бы такую ораву почти незнакомых ей людей. А эта знала, чем Пашке потрафить, всех пригласила. Да так душевно, что не откажешься. И застольем так управлять Валентина не сумела бы. Толчется вечно на кухне, а с толком или без толку, никто не поймет. А у этой все горит в руках. И тарелки незаметно меняются, и новые закуски, как в сказке, на столе вырастают, и песни с мужиками поются, и для каждого доброе слово находится. Иван Свищенко не знал, какая у капитана Голубова жена, но эта его «коханка» среди известных Ивану Свищенко женщин вышла на первое место. С такой кралей и он бы не устоял от греха. – Как это вам удалось узнать, что мы летим в Ташкент? – спросил Свищенко Марианну. – Сердце подсказало, – смеялась она. И только когда они поздно вечером пришли в гостиницу и увидели у дежурного администратора заявку на прибывающих из Афганистана летчиков, все вспомнили, что и Марианна работает в этой гостинице. – Ось, плутовка, – сказал взволнованно Свищенко, вспоминая глаза Марианны, – так заморочить мозги. А дивчина гарна. Проснулся Ефимов от яркого света. Ему показалось, что среди ночи пришел Пашка Голубов и включил в номере все лампочки. Но Пашкина койка стояла нетронутой, и в номере никого не было. Яркий свет ворвался сквозь шторы апрельским солнцем, квадратным зайчиком позолотил старые обои на стене, теплым лучом уселся на руке Ефимова. Сквозь открытую форточку вместе с отдаленным гулом машин долетали звонкие детские голоса, глухие удары по мячу и неистовое, какое-то базарное пение птиц. Ефимов потянулся и ощутил огромную радость от того, что ему никуда не надо спешить. За окном буйство весны, за стеной спят друзья-товарищи, все они, наконец, дома. Да, дома! Вчерашняя тоска о каком-то мифическом причале сегодня выглядела смешной. Дома он! И вся страна, любой ее уголок, любой город и поселок ему и край родной, и причал. Ефимов легко поднялся и раздернул шторы. Распахнул створки окна. Настоянный на молодой зелени, на утреннем солнце воздух хлынул теплой волной в легкие. Дыши, не надышишься. Глядя на убегающие в солнечную дымку крыши домов, на пенные верхушки изумрудно-молодой зелени, на играющих во дворе ребятишек, Ефимов твердо поверил, что с сегодняшнего дня у него начнется действительно новая жизнь. – Все хорошо, – сказал он вслух и решил, что после завтрака сразу отправится на поиски букинистического магазина. От разных людей Ефимов слышал о богатствах Ташкентского букинистического, о необыкновенных раритетах. Ни Пашки, ни Свищенко, ни Шульги в гостинице не было. Все куда-то умотали. Ефимов спустился в буфет, выпил чашку кофе, зашел в парикмахерскую. Увидев в вестибюле будку с междугородным таксофоном, наменял монет и позвонил в Ленинград. Нинин домашний телефон не ответил. Чувствуя, как у него начинает взволнованно биться сердце, Ефимов набрал номер рабочего телефона. Трубку снял мужчина. На просьбу позвать к телефону Нину Михайловну веселым басом сказал: – Болеют они. – Давно? – спросил Ефимов. – С неделю, пожалуй. – А что случилось? – Грипп, наверное, – бодро пророкотал бас и повесил трубку. «Болеет…» Совсем непредвиденный поворот. «Нина болеет». Ему, здоровому человеку, как-то и в голову не приходило, что Нина может болеть. «Грипп, простуда?..» Впервые подумалось, что, может, она уже не раз болела, звала его в горячечном бреду, а он не слышал, даже мыслей таких не допускал. Утренняя беззаботность уступила место тревожному нетерпению. Надо скорее туда, к Нине, в Ленинград. Свищенко он увидел на улице. Обвешанный обувными коробками, универмаговскими пакетами и свертками, он неуклюже вываливался из такси, подхватывая и вновь роняя рулон с ковровой дорожкой. – Весь универмаг закупил? – Как же без гостинцев? И это надо, и то… Скажут, приехал из-за границы и ничего не привез. – А где Шульга? – спросил Ефимов. – В штабе, наверное. Ну конечно же, Шульга пошел решать Пашкину судьбу. Самолет на Ленинград будет только завтра. Места уже забронированы. И тут, как ни напрягайся, выше головы не прыгнешь. Ефимов взял такси и покатил к букинисту. В гостиницу вернулся с увесистой пачкой одинаково переплетенных книг – годовой комплект «Нивы» за 1912 год. Он не без радости предвкушал, с каким интересом проведет остаток дня. Но его планам не суждено было сбыться. Вскоре прибежал вспотевший Шульга и по-командирски кратко распорядился: – Всем сбор. Через час за нами придет машина. Летим военным транспортником. Посадка прямо на нашем аэродроме. Ефимов взял у дежурной по этажу номер домашнего телефона Марианны и позвонил Пашке. – Вы что, офонарели?! – заорал тот. – Я вообще никуда не полечу! Я в распоряжении отдела кадров! – Ты уже в распоряжении Шульги, – сказал Ефимов, и Пашка надолго замолчал. Прокашлялся, вздохнул. – Не идиот я, а? – спросил он. – Расчувствовался, напросился. А теперь куда бедному хрыстиянину податься? Ох-хо-хо… Только начала проявляться картина моего счастья и все, салям алейкум. Ладно, гут, через час буду. До свидания. – Через пятьдесят минут. – Успею. Как говорит Свищенко, це дило не довге. Ефимов помчался в универмаг. Переступив его порог, понял, что здесь ему Свищенко до вечера не отыскать. В первой же кассе узнал, где находится справочное бюро. Попросил объявить по радио: «Товарищ Свищенко, вас срочно ждут в гостинице». Представил, как всполошится бедный Иван, решил подождать у входа. И точно, Свищенко через минуту после объявления вылетел из универмага с перепуганными глазами, крепко зажимая под мышкой фуражку с голубым околышем. Выслушав Ефимова, облегченно чертыхнулся. – Думав, землетрус! В герметической кабине грузового транспортника, где висели зимние одежды экипажа, хранились ЗИПы, приборы, где ядовито-зеленая обивка говорила о неприспособленности самолета для пассажирских перевозок, Паша Голубое развалился на стеганых чехлах и по секрету рассказывал Ефимову свой хитроумный план. – Угол я сниму в поселке, в какой-нибудь самой зачуханной хате, чтоб все удобства были за сараем, чтоб ни воды, ни газа. И приглашу в гости Таньку. Квартиры, скажу, нет и не ожидается в обозримом будущем. Она, конечно, к командиру побежит. А Шульга что ей скажет? Надо ждать. Я буду давить со страшной силой: не могу больше один, измучился без семьи, переезжай. Она, конечно, будет цепляться за свою квартиру, за город. Хитрить будет, уговаривать. А я останусь твердый, как скала. Если тебе квартира дороже, чем муж, скажу, можешь там оставаться, мне такая жена не нужна. Развод. – А если не станет цепляться? Скажет, хорошо, переезжаю. И переедет. – Думал, – твердо сказал Пашка. – Такой вариант я не исключаю. Если переедет, значит какой-то зверь в лесу дал дуба. Значит, Танька стала другой. Люди меняются под грузом обстоятельств. Могла и она перемениться. Тогда все. Наступаю на горло собственной песне и становлюсь добропорядочным семьянином. Ухожу из большого спорта и начинаю делать военную карьеру. Все-таки на звено аттестован. Конечно, Марианну жаль. Но она понятливая. Сама сказала: ничего не обещай, будешь мучиться. Помолчав, Пашка задумчиво спросил: – Почему она мне не встретилась до Таньки, а? Никаких проблем, никаких страданий. – А может, потому и любишь, что через страдания, через проблемы пришел к своей любви. Пашка хотел что-то ответить, но к ним подошел Шульга. – Твои наградные дела, – сказал он Ефимову, – заместитель Главкома тормознул. Но не вернул. У него они. Так что еще не все потеряно. Не отчаивайся. – С меня еще взыскания не сняли, – улыбнулся Ефимов. – О какой награде может идти речь? Отстранен от должности и назначен с понижением. Восстановят – уже будет награда. – Не знаю, – буркнул Шульга, – у богатого телята, у бедного ребята. Восстановить мы тебя сами восстановим. Побудешь у меня замом, а потом и на эскадрилью. Мне предлагают должность инспектора в штабе ВВС округа. Через год, говорят, освободится. Замену вот только подготовить надо. А ты, как тот волк, все в лес смотришь. – Во замена, Игорь Олегович, – Ефимов хлопнул по спине Пашку Голубова. – Классный летчик с боевым опытом. Орден опять же на груди. Звание вышло. – Ты что? – засмущался Пашка. – Я и звеном еще не командовал. Не, это ни к чему. – Видите, Игорь Олегович, скромный к тому же. – Скромный, – покосился Шульга на Голубова, – пусть сперва в своем гареме порядок наведет. В салон вышел из пилотской кабины штурман. – Погодка там у вас, – сказал он недовольно, – как бы не пришлось садиться у черта на куличках. – Туман? – спросил Шульга. – Буран. Нулевая видимость. Есть, правда, надежда, что пронесет. Апрель, называется… – Это вам не Ташкент, – весело вмешался Свищенко, – это Север. Все посмотрели на Свищенко с удивлением. – Чему ты радуешься? – не понял Шульга. – А что, за Гиндукуш снова не полетим. Где ни сядем – дома будем. Все здоровы, с наградами, почему же не радоваться? Я только сейчас и понял, что живым возвращаюсь. Аэродромов хватит. Не на этом, так на другом сядем. Оптимизм Свищенко внес веселую разрядку. Заговорили о кознях погоды, поудивлялись размаху своей страны (от плюс тридцати до минус сорока в один и тот же день), стали прикидывать, какой аэродром ближе… Слова Свищенко успокоили и Ефимова. В самом деле, ведь живой летит к Нине. Без ордена, но живой. А в том каньоне все могло случиться. Когда Ефимов, лежа в санчасти, анализировал свой полет за ранеными, еще раз убедился, что поступал правильно и расчетливо на всех этапах. Только одной ошибки не прощал себе: не имел он права оставлять членов экипажа в горах. Не потому, что мог один не долететь, на истребителях все летают в одиночку, он просто не нашел бы себе оправдания, если бы с ребятами случилась беда. И то, что они оба живы, для Ефимова самая лучшая награда. Совесть чиста. Конечно, орден получить – большой праздник. Для Ефимова он мог стать вдвойне прекрасным – не ждал он наград. Но искренне радовался, что наградили Пашку и Колю. Ведь это их заслуга, что Ефимов раненых вывез. И разбитый вертолет благодаря им эвакуировали из-под носа у душманов. Ордена заслуженные. И Ефимову эту работу зачтут, когда взыскание снимать будут. Так что каждому свое. Какие могут быть обиды? – Садимся дома, – весело сказал выглянувший из кабины летчик, – синоптики слово сдержали. Самолет резко пошел на снижение, сделал два доворота. И хотя на землю упала ночь, Ефимов по очертаниям светящихся населенных пунктов узнал посадочный курс. – Дальний! – весело сказал Шульга, и в кабине у летчиков коротко звякнул звонок. – Ближний! – засмеялся Свищенко, и звонок повторился. Самолет прошел точно над приводными станциями и через несколько секунд окунулся в голубоватый свет лежащего на бетонке луча прожектора. Тяжело задрожали крылья, звучно взвыли турбореактивные двигатели. – Вот теперь уже можно точно сказать – дома! Дверь самолета распахнулась, борт-техник с грохотом выбросил металлическую стремянку. В салон покатил холодный воздух. И стоило пассажирам высунуться наружу, как по лицам хлестнул острыми кристалликами ледяной ветер. Параллельно земле стремительно неслась снежная взвесь. – Да, это не Ташкент, – сказал Паша, ступая на заснеженную бетонку. – Тут не позагораешь. И неожиданно звонко запел: О Марианна, моя Марианна, Я никогда не забуду тебя. О Марианна, моя Марианна, Я никогда, никогда не забуду тебя… В этот вечер Шульга позволил себе расслабиться. Пока Ксения готовила ужин, он сходил в баньку, благо в ОБАТО ее протапливают ежедневно, попарился, помылся. Заснули они с Ксенией глубокой ночью, за несколько минут до телефонного звонка. Потому он его и не услышал. Первой Олька вскочила. Она и разбудила отца. – Дежурный по части тебя требует, – чуть ли не со слезами говорила дочь. Сообразив, наконец, в чем дело, Шульга поставил аппарат себе на живот, взял трубку и сказал: – А ну-ка признайся, дежурный, тебе не стыдно звонить человеку домой среди ночи? – Стыдно, товарищ подполковник, – торопливо заговорил дежурный, боясь, что его прервут, – но есть распоряжение, чтобы вы лично… – Чье распоряжение?! – гаркнул Шульга. – Я не принял часть! Я в отпуске, согласно приказа командующего. Кто распорядился? – Командующий и распорядился. Лично звонил. – А ты не напутал спросонья? – Никак нет. Сам генерал-полковник… – Высылайте машину. – Уже выслали. Действительно. У подъезда слабо светились габаритные огни «уазика». Шульга окончательно проснулся и, как положено военному человеку, оделся за несколько минут. Поцеловал сонную Ксению, чмокнул дочь и выбежал на улицу. За рулем сидел незнакомый водитель, на заднем сиденье – незнакомый прапорщик – помощник дежурного по части. «Два года, и почти вся эскадрилья обновилась», – с грустью подумал Шульга. – Приказано немедленно готовить звено вертолетчиков, оборудованных внешней подвеской, – стал рассказывать прапорщик. – И три лучших экипажа. – Откуда я знаю, кто тут у вас лучшие? – буркнул Шульга. – И куда в такую погоду? – К нам вылетел командующий ВВС округа, – продолжал информировать прапорщик, – и еще какое-то начальство из Москвы. Они своим самолетом летят. – А что случилось-то? – Пока неизвестно. – Давай на СКП. Машина, не сбавляя скорости, проскочила в заранее открытые ворота и пошла по рулежной дорожке к стартовому командному пункту. В лобовое стекло лепило мохнатыми хлопьями сырого снега. «Дворники» с натугой разгребали его, но справиться не могли. Снег клеился жирно и цепко, мгновенно примерзал к настывшему стеклу. Ослепленный водитель съехал с рулежки и со скрежетом зацепил крылом сугроб. Испуганно остановился, выскочил, протер старым полотенцем стекло и снова дал газ. «В такую погоду мы налетаем», – тоскливо подумал Шульга и начал перебирать фамилии знакомых командиров машин, которые остались в эскадрилье. Все они хорошие летчики, знают дело, но чтобы работать с внешней подвеской в такую погоду, мало быть просто хорошим летчиком, надо быть Ефимовым. «Ну, что ж, – решил Шульга, – один экипаж поведу сам, второй – Федя. А третий… Третий возглавит Голубов. Приказом отдан, опыта не занимать». У СКП водитель тормознул, и машина пошла юзом. В другой обстановке Шульга надрал бы уши водителю за такую работу. А тут подождал, пока автомобиль уткнется в бровку, и сказал: – В профилакторий. Там майор Ефимов и капитан Голубов. Сюда их. Дежурная смена уже вовсю трудилась. Самолет командующего был на подлете. Его заводил начальник радиолокационной системы посадки, четко выдавая поправки к курсу и высоте. – Они знают, какая погода над точкой? – спросил Шульга, ни к кому конкретно не обращаясь. – Знают, – бросил руководитель полетов, – сказали, будут садиться. – Приспичило, значит, – Шульга обнаженно почувствовал приближающуюся опасность. И если бы подняли весь гарнизон, мог бы подумать, случилось черт знает что. А три вертолета с внешней подвеской – это спасательные работы. Но где и кого спасать? Обычно давали по радио квадрат, объект, и – вперед. А тут сам командующий, да еще из Москвы начальство. – Включить прожекторы! – скомандовал руководитель полетов, и снежную круговерть над полем аэродрома проткнул синий, как плазма, луч. Когда самолет миновал приводные станции, из белого месива на посадочном курсе вынырнули два тусклых огонька самолетных фар. Руководитель дал короткую команду пилоту, тот мгновенно качнул крыльями, исправляя курс, и в следующий миг его колеса уже катились по припорошенной снегом взлетно-посадочной полосе. Только самолет миновал створ СКП, на бетонную дорожку дружно выскочили снегоочистительные машины и, выстроившись уступом, с ревом пошли за убегающим самолетом. Есть полеты, нет полетов, полоса всегда должна быть готова к посадкам и взлетам. На первую стоянку, куда заруливал лайнер, помчались окутанный клубами снега заправщик и два легковых автомобиля. В одном из них был Шульга, в другом штурман и инженер эскадрильи. В боковое окно Шульга увидел расчехленные вертолеты. Там уже вовсю кипела работа. «Машина завертелась». Подали трап и по нему не по возрасту шустро сбежал Александр Васильевич, за ним какие-то офицеры, гражданские. Шульга представился, представились его заместители. – Всем в офицерский класс, – сказал командующий и сел в машину. С ним сели Шульга и двое гражданских. Остальные набились во второй «уазик», инженер не вмещался, сказал, что подъедет на другой машине. – Куда мы попали? – спросил Паша Голубов, подымая воротник меховой куртки. – Человек честно выполнил свой интернациональный долг, вернулся на Родину, получил отпуск. Вместо того, чтобы дать ему возможность уже в первые минуты вкусить радость заслуженных благ, его вытряхивают из постели и гонят на улицу. Приличный хозяин в такую погоду собаку из дому не выпустит, а тут… – Пошли, Паша, машина ждет, – подтолкнул Ефимов и первым забрался в «уазик». Он разделял Пашкино возмущение и собирался все это высказать тому, кто помешал им выспаться. У входа в СКП, прикрываясь дверью от ветра, их ждал Шульга. Он нетерпеливо подгонял летчиков жестом руки. – Да скорее же вы поворачивайтесь. Командующий ждет! – А мы, между прочим, в отпуске, – бросил Голубов. – Это мы с тобой так считали, – парировал Шульга. – У командующего другое мнение. – А что, собственно, случилось? – Я хочу это знать не меньше, чем вы. Ветер захлопнул за их спинами дверь с таким треском, словно взорвался снаряд. Вздрогнуло и жалобно заскрипело все здание стартового командного пункта. «Неласково встретил нас край родимый», – подумал Ефимов, но огорчения не испытал, скорее почувствовал какую-то озорную радость: «Он такой, наш край, с характером». В офицерский класс, где обычно проводилась предполетная подготовка экипажей и разборы полетов, несмотря на глубокую ночь набилось полно народа. Какие-то незнакомые Ефимову офицеры укрепляли на подставке для схем карту района Большого озера и прилегающих к нему окрестностей. На столе, за которым всегда садился командир и его заместители, связисты настраивали радиостанцию и устанавливали телефонный аппарат. Кое-кто из присутствующих в классе, узнав Ефимова, обрадованно приветствовал его, другие сдержанно перешептывались, кто-то тянулся через головы, чтобы обменяться рукопожатием. Класс в основном заполнили офицеры из батальона аэродромного обеспечения, технический состав. Из знакомых летчиков Ефимов не увидел никого и понял, что в эскадрилье за те два года, которые он прослужил в Афганистане, многое переменилось. Но вот в класс торопливо вошел Шульга, одернул китель и бросил на аудиторию предупреждающий взгляд. Все притихли. В дверях показался командующий. – Товарищи офицеры! – скомандовал Шульга, хотя все до команды встали. В глубине коридора мелькнуло знакомое лицо. Человек в гражданском свитере, какой-то легкомысленной курточке показался в проеме лишь на мгновенье и остановился так, что из-за плеча командующего был виден только хохолок его волос. Не слушая, о чем докладывает Шульга, что отвечает командующий, Ефимов напрягся, чтобы вспомнить, откуда он так хорошо знает этот скуластый овал лица, этот упрямый хохолок на темени? И только командующий сделал шаг к столу, показав жестом, чтобы все садились, Ефимов едва не чертыхнулся от досады на свою память. Не узнал Колю Муравко! Он возбужденно заерзал, толкнул локтем Пашу Голубова, тихо шепнул: – Веселая работа будет. Это Коля Муравко. – Ефимов указал глазами на соседа командующего. – Космонавт. – Не знаю такого, – прогудел под нос Пашка. – Еще узнаешь. Командующий встал, обвел взглядом присутствующих. – Вчера вы слышали сообщение ТАСС, – начал он тихо, – космический экипаж завершил работу на станции «Салют» и готовится к возвращению на землю. Читали, наверное, что были неполадки в топливной системе объединенной двигательной установки. Космонавты выходили в открытый космос, занимались ремонтными работами. Командующий сделал паузу, о чем-то подумал. – В народе говорят: пришла маята – открывай ворота, – продолжил он в том же тоне. – В космонавтике, видимо, как и у нас в авиации, беда в одиночку не ходит. За одним отказом может последовать другой, в сложной технике все взаимосвязано. Короче, корабль «Союз» при спуске на землю отклонился от расчетной траектории и приводнился в Большом озере. Группа вертолетов вашей эскадрильи включается в состав поисково-спасательной службы. Трем экипажам, – командующий посмотрел на часы, – через пятьдесят минут необходимо вылететь в район Большого озера, квадрат семь-тринадцать, – он показал на карте похожий на дельфина изгиб берега, – и работать в дальнейшем под руководством полковника Волкова Ивана Дмитриевича. Он уже выехал в указанный район с передвижным СКП. Там же разворачивается со своим хозяйством инженерно-саперное подразделение, другие вспомогательные службы. Сложность, товарищи, предстоящей работы заключается в том, что Большое озеро вскрылось, идет активная подвижка льда, возможность использовать плавсредства исключена полностью. Вся надежда на винтокрылую авиацию. Через несколько минут здесь будет представитель Центра со всеми необходимыми полномочиями. А пока несколько слов его помощнику, майору Муравко. Пожалуйста, Николай Николаевич. Муравко встал, привычно одернул свою легкомысленную курточку. Было заметно, что чувствовал он себя в этой одежде, да еще рядом с генерал-полковником, не очень уютно. Тем не менее заговорил уверенно, как хозяин положения. – Вертолеты поисково-спасательной службы сейчас находятся в расчетном районе приземления спускаемого аппарата. В квадрат семь-тринадцать они прибудут несколько позже. Но ситуация такова, что каждая минута может стать решающей. Спускаемый аппарат надежен на воде, хотя наши корабли, как правило, возвращаются из космоса на сушу… «Он стал другим, – подумал Ефимов, рассматривая своего товарища по истребительному полку, – исчезла мальчишеская непосредственность в голосе, на щеках и переносице – острые складки. Говорит убежденно, дело свое знает. Заматерел. Но почему не космонавт? Почему помощник представителя Центра? Не принято, что ли, называть космонавтами тех, кто не летал?» – Ситуация осложнена тем, что космонавты не могут открыть отверстия для забора атмосферного воздуха. Корабль затерт льдами, раскачивается, через эти отверстия проникает вода. В спускаемом аппарате есть регенератор, воздух, пригодный для дыхания, можно «производить» на борту. Однако ресурс регенератора не беспределен. Установка уже работала на старте и на орбите. Другая сторона проблемы – энергия. Ее запасы тоже ограничены. Регенератор без энергии мертв. Корабль в ледяной воде быстро остывает, космонавты уже сняли скафандры, теплой одежды у них нет. Все это требует от нас решительных действий. Задача экипажам – найти спускаемый аппарат и с помощью внешней подвески доставить на берег. Детальное решение на операцию будет принято на месте после разведки в квадрате семь-тринадцать. – Он повернулся к Александру Васильевичу и по-военному четко подвел черту: – У меня все, товарищ командующий. Командующий кивнул, мол, садитесь, и встал. Подумав, посмотрел на Шульгу. Тот сидел строго и прямо. Птичка бровей четко копировала птичку на разрезе губ. – Игорь Олегович, представьте командиров экипажей. Шульга встал и, глядя на командующего, представился: – Подполковник Шульга, командир первого экипажа. Летчик первого класса. Имеет боевой опыт. – Хорошо, – улыбнулся Александр Васильевич, – Шульгу мы знаем. Давайте дальше. – Капитан Голубов. – Паша встал, удивленно вскинул правую бровь. Он собирался лететь на правом сиденье. – Летчик первого класса. Имеет опыт спасательных работ, участвовал в сложных операциях, награжден орденом Красного Знамени. – Хорошо, – командующий одобрительно посмотрел на Голубова, улыбнулся. – Третий? – Третьим предлагаю майора Ефимова. Ефимов встал. Муравко и командующий с одинаковым удивлением повернули головы в его сторону. «Вот так встреча!» – говорили глаза и того и другого. И хотя на лице командующего было больше сдержанности, чем на расплывшемся в улыбке лице Коли Муравко, оба смотрели на Ефимова с радостью. – Летчик-снайпер, – продолжал между тем Шульга, – владеет всеми типами вертолетов, имеет богатый опыт сложных посадок и эвакуационно-спасательных работ, обладает редкой интуицией в ситуациях, требующих мужества и риска… «Ну, Игорь Олегович, – подумал Ефимов, – расхваливает, будто задался целью избавиться от меня…» – Все ясно, – по-доброму улыбаясь, но уже деловым тоном сказал командующий. Ефимову показалось, что он даже подмигнул ему. – Все ясно. Утверждаю. Готовность машин? Встал инженер. Посмотрел на часы. – Через десять-пятнадцать минут. Зазвонил на столе телефон. Командующий снял трубку, выслушал доклад. Опустил трубку на аппарат, встал. – На посадочном самолет из Центра. Идемте встречать, Николай Николаевич. Экипажи по машинам. Ефимов сидел в заднем ряду, и поднявшийся народ запрудил проход. Ни Муравко, ни Ефимов подойти друг к другу не могли. В дверях Коля задержался, приподнялся на носках и, поймав взгляд Ефимова, громко пообещал: – Я найду тебя. Все, в том числе и Шульга, с интересом посмотрели на Ефимова. Откуда им было знать, что майор Муравко и майор Ефимов еще лейтенантами летали в одном истребительном полку, и лишь благодаря причудам судьбы сегодня за столом рядом с командующим сидел не он, Федор Ефимов, а его друг – Коля Муравко. Жизнь – она такая… А погода продолжала свирепствовать. Зародившийся где-то над Скандинавией циклон, зачерпнув арктического холода, стал быстро смещаться к юго-западу. Столкнувшись здесь с теплым фронтом, он набрал бешеную скорость, вызвав обильный снегопад. Ожидая в машине ушедшего к руководителю полетов командующего, Муравко видел, как сквозь снежную круговерть начинают пробиваться яркие фары идущего на посадку самолета. Неожиданно все закрыл плотный снеговой заряд, и огни пропали. А в следующую минуту Муравко услышал гул двигателей самолета, набирающего высоту и скорость. Летчик не увидел полосу и не рискнул садиться вслепую. Пошел на второй круг. В самолете летел Владислав Алексеевич. Муравко хорошо знал командира экипажа – старого аэрофлотовца, заслуженного летчика. Дело свое этот человек знает, работает только наверняка. Его нельзя обвинить ни в чрезмерной осторожности, ни тем более в трусости, но садиться на авось его не заставит никто. А Владислав Алексеевич уже наверняка ворчит и подтрунивает. Его нетерпение понять нетрудно. Ответственность за программу целиком лежит на его плечах. Муравко позавчера, еще в Звездном, разговаривал с Владиславом Алексеевичем. Весьма довольный результатами работы находящегося на орбите экипажа, он собирался лететь в район посадки корабля «Союз». – Ты был прав, – сказал он Муравко, – ребята сработали молодцом. Можешь отдыхать теперь со спокойной душой. Или хочешь слетать со мной? – Юлька и Федор уже на чемоданах, – сказал Муравко, – а с экипажем после отпуска увижусь. Как раз вернутся в Звездный. – Куда едешь-то? – В Ленинград, к теще. – В Ленинград – это хорошо. Сам мечтаю. Жена прохода не дает. Вези в Питер и точка. Думал ли Муравко, что через сутки они вновь встретятся с Владиславом Алексеевичем? В поезде, когда ехали в Ленинград, он показывал Федору какие-то строения, называл их ориентирами и хохотал довольный, когда Федя требовал подробных объяснений. Юля читала журнал и не вмешивалась в их мужской разговор. Но когда Муравко стал рассказывать, как его возле шестого ориентира прижала к забору бодливая корова, когда он хотел познакомиться с симпатичной дояркой, Юля сразу отложила журнал и навострила уши. – Скажи маме, пусть не подслушивает, – попросил Муравко сына. – Очень мне нужно, – улыбнулась пойманная с поличным Юля, – но обрати, сынок, внимание, как долго наш папа хранил в тайне свои похождения. Первый день отпуска прошел в суете и заботах. Усталые, будто после двухсменного летного дня, свалились в кровать и сразу заснули. Но не успел Муравко увидеть первый сон, как его разбудила Ольга Алексеевна, в одной руке держа аппарат, в другой телефонную трубку. – За вами выслана машина, – сказал ему дежурный из штаба ВВС, – будете говорить с Москвой. Чего он только не передумал, пока одевался и ехал в штаб. «Самое плохое, если этот вызов связан с необходимостью срочного старта в космос. Значит, на орбите случилась беда, значит, ребята попали в ситуацию, требующую активного вмешательства с Земли». Услышав в трубке аппарата знакомый голос, Муравко взволнованно спросил: – Что с ребятами, Владислав Алексеевич? – С ребятами все в порядке, – сказал тот не совсем уверенно, – были неполадки в тормозном двигателе. Сели с отклонением, в Большое озеро приводнились. Выедешь, как мой помощник, в зону поисково-спасательных работ с командующим ВВС. Будешь его консультантом. Действовать по обстановке. Я прилечу через несколько часов. Муравко позвонил Юле, успокоил, объяснил, что в течение ближайших суток ждать его не надо, и через несколько минут выехал с командующим на аэродром. Зигзаг судьбы. В экстремальных ситуациях можно ждать любые случайности, любые, даже самые невероятные встречи. Но увидеть здесь Федю Ефимова, Муравко даже в мыслях не мог допустить. Хотя не далее как вчера, в Звездном, Ефимова вспоминали в разговоре с Булатовым по грустному поводу. Рассматривая лицо Федора и слушая, какую ему характеристику дает Шульга, Муравко хотел понять – известно ли Ефимову о том, что Нина серьезно больна? И сделал вывод: неизвестно. Александр Васильевич сообщил, что вся эта троица лишь вчера вернулась из Афганистана. А Булатов сказал, что Нина к ним в клинику попала несколько дней назад. Даже если она послала телеграмму, что маловероятно, Ефимов ее получить не мог. Впрочем… Снежный заряд ослаб, и Муравко во второй раз увидел на глиссаде снижения две яркие фары идущего на посадку самолета. Вспыхнул аэродромный прожектор, и через несколько секунд серебристый лайнер нырнул в дымно-голубоватый луч. К машине подошел командующий, легко взобрался на высокое сиденье и кивнул водителю: – На первую стоянку. – Он повернулся к Муравко. – Я распорядился подготовить тяжелый вертолет. Он более устойчив при порывистом ветре. Правда, летчики в экипаже не прошли такой школы, как эти шульговцы, но при необходимости полетит Ефимов. – Каким образом он стал вертолетчиком, товарищ командующий? – спросил Муравко. Александр Васильевич ответил вопросом: – Случайно не знаешь, почему ваш Владислав Алексеевич так настойчиво интересуется Ефимовым? Долгая служба в авиации научила Александра Васильевича подходить ко всему, что выходит из рамок привычных представлений, аналитически, с непременной целью докопаться до первопричины. В годы войны он анализировал не только те бои, в которых участвовал сам, но и все воздушные поединки своих однополчан. Его особенно интересовали случаи, когда летчики одерживали победы в неравных стычках. Один против нескольких. Как лейтенант Чиж. На пятерку «мессеров» нарвался. Казалось бы, все, заказывай панихиду. А он завязал бой, троих сбил, двое дали деру. Многие не понимали, каким образом Чиж одержал победу. Александр Васильевич, проанализировав ситуацию, понял. Не поддавшийся страху летчик успел перехватить инициативу и навязать противнику свою тактику боя. С первого мгновения встречи он не защищался, а нападал. Причем, атаковал дерзко, на пределе возможностей самолета и человека. И эта дерзость повергла врагов в изумление (что он, не понимает ситуации?), а когда они пришли в себя и начали перестраиваться на серьезное ведение боя, было уже поздно. Однажды майор Качев вернулся на свой аэродром через тридцать минут после того, как у него должно было кончиться горючее. Вернулся изрешеченным, с оторванным элероном. И опять многие летчики удивленно пожали плечами. А Александр Васильевич начал докапываться до истины. Состояла она в том, что Качев, барражируя над линией фронта, задавал двигателю предельно экономичный режим. Набрав высоту, переводил мотор на минимальные обороты и кругами планировал над местностью, экономил горючее. Хотел подольше продержаться в воздухе. И продержался тридцать лишних минут. Но был в биографии Александра Васильевича случай, был вопрос, ответ на который он так и не нашел. На одном из воздушных парадов ему было поручено показать сложный групповой пилотаж на первых реактивных МИГах. Эскадрилья справилась с поставленной задачей. Все, кто присутствовал на параде, впервые увидели возможности советских реактивных самолетов. Еще не остывшие от полетов летчики собрались в классе и возбужденно обсуждали события дня. В это время Александра Васильевича неожиданно позвали к телефону в кабинет командира части. Пожилой полковник, вся грудь в орденах, стоял навытяжку у своего стола с телефонной трубкой в руке. Увидев вошедшего комэска, протянул трубку вперед, подальше от себя и шепотом сказал: – Будете говорить с товарищем Сталиным. – Я?! – удивился Александр Васильевич и взял трубку. Ему спокойно сказали «минуточку» и переключили аппарат. И он сразу услышал ровный голос Сталина: – Здравствуйте, товарищ полковник… – Я майор, товарищ Сталин, – возразил Александр Васильевич вместо того, чтобы ответить на приветствие. – Вы ошиблись… – Товарищ Сталин не ошибается, – сказал спокойно Сталин, у него, наверное, было очень хорошее настроение, и добавил: – Я поздравляю вас с хорошей работой в воздухе. Спасибо. – Служу Советскому Союзу! – уже четко по-военному ответил новоиспеченный полковник. Он подивился не тому, что на его плечи так неожиданно свалились полковничьи погоны. Поразила собственная дерзость: как он посмел сказать товарищу Сталину «Вы ошиблись!». И как эти кощунственные слова простились ему? Когда Александр Васильевич получил сообщение о смерти боевого товарища Павла Ивановича Чижа, он пережил эту весть мучительно тяжело. Сам чувствовал, как по ночам болит печень и деревенеет кисть левой руки. Днем все постепенно приходит в норму, надо только потискать теннисный мячик, расходиться – и вполне здоровый человек. А по ночам, просыпаясь от боли в печени, обнаруживал, что левая рука не хочет повиноваться, кисть как чужая. К врачам обращаться не хотелось, сразу поднимут тревогу, запретят летать. Чтобы не случилось беды в воздухе, проверял себя за рулем машины. Садился в выходной день на собственную «Волгу» и гнал по самым крутым и малозаезженным дорогам. Две сотни в одну сторону, две в обратную. Машина, как и самолет, требует немало физических сил. Но года два назад печеночная колика уложила его в госпиталь. Летает он теперь как летчик редко, и только на «спарке», зато с врачами стал встречаться гораздо чаще. Все имеет начало, значит, должен быть и конец. Случилось это вскоре после тех памятных учений на Севере, которые проводил заместитель Главкома. Александр Васильевич то ли простудился, то ли перенервничал, но ухудшение нарастало хоть и медленно, но неотвратимо. А понервничать пришлось основательно. Александр Васильевич был категорически против отчисления Ефимова из истребительной авиации. Но командующий войсками округа не прислушался к его доводам. «Летчик не отрицает свою вину, значит должен быть наказан. Справедливость обязана торжествовать». Запальчивые слова Александра Васильевича о том, что «торжествует в данном случае не справедливость, а ваше уязвленное самолюбие», обошлись ему очень дорого. Командующий войсками округа сразу перестал называть его по имени-отчеству, перешел на официальный тон во взаимоотношениях, стал чаще обычного на заседаниях и совещаниях подчеркивать вскрытые недостатки в авиационных частях. Дескать, прежде чем указывать другим на соринку в реснице, вытащите бревно из собственного глаза. Какое-то время Александр Васильевич держал Ефимова в поле своего зрения, с удовлетворением отмечал успехи офицера в переучивании на вертолетных аппаратах, потом, после его перевода в Ограниченный контингент советских войск в Афганистане, следить перестал и даже забыл, что когда-то в его подчинении был такой летчик – Ефимов. 15 Так называемые нештатные ситуации всякий раз делали его предельно собранным. Стоило баллистикам определить примерные координаты приземления спускаемого аппарата, как Владислав Алексеевич уверенно и быстро выдал все распоряжения, будто заранее знал, что на заключительной фазе полета будут отклонения. В самолете он позволил себе расслабиться. Снял с полки чемодан, поставил на колени, нашел в нем кожаную папку с молнией (подарок Гагарина), раскрыл ее. Чемодан в дорогу ему всегда готовила Шура. Владиславу Алексеевичу иногда хотелось половину уложенных предметов выбросить, но потом он все-таки убеждался в Шуриной предусмотрительности. Не было еще такого случая, чтобы хоть что-то, положенное в чемодан руками жены, оказалось лишним и не понадобилось во время командировки. И теплые носки, и чайная ложечка, и маленький дорожный будильник, и баночка с растворимым кофе, и патрончик с набором ниток-иголок – все находило применение самым неожиданным образом. Зато кожаную папку на молнии он всегда заполнял сам. Кроме тоненьких инструкций, туда обязательно попадали клеенчатая тетрадь для записи неожиданно рождающихся мыслей, тоненький атлас, маленький телефонный справочник связи ВЧ и, как правило, какой-нибудь незаконченный вариант статьи, конспект лекции или доклада. В этот раз Владислав Алексеевич положил в папку исчерканные вкривь и вкось странички служебной записки. Как будто уже все, что ему хотелось сказать, – сказано. Выводы обоснованы и многократно выверены, отшлифован стиль. И все-таки у него не было ощущения, что документ готов к обнародованию. Чего-то в записке явно недоставало. А вот чего? Не слишком ли спокойно написана? Будто все изложенное автору до лампочки. Сторонний наблюдатель. Просигнализировал, а вы как знаете… Хотите – решайте, хотите – нет, мне все равно. Выводы, конечно, обоснованные. Но им не хватает полемической заостренности, какие-то прямо тупиковые выводы. Сколько информации для размышлений добавила авария в топливной системе станции? Новое не может оставаться новым всегда. Оно рано или поздно уступит место новейшему. Космонавтика, как и другие достижения человеческого гения, обретает уже повседневный, обычный характер, хотя она нелегко давалась человеку как в самом начале, так и сейчас. Но это не значит, что право на следующий шаг мы можем получать лишь после гарантированного освоения взятых высот. Завтрашний день поставит более сложные задачи. Чтобы к ним быть готовыми, надо более остро и круто подымать принципиальные вопросы методологии уже сегодня. Больше вопросов – больше ответов. Укладывая еще дома записку в папку, Владислав Алексеевич мысленно намечал себе план работы в дороге, прикидывал, что необходимо сделать в первую очередь. Но первоочередным в этом документе ему казалось все. – Что задумался, витязь? – спросила Шура. – Направо пойдешь – коня потеряешь?.. – Поиск ответов, – продолжал Владислав Алексеевич формулировать свою мысль вслух, – это поиск новых путей. А поиск новых путей… Шура усмехнулась: – Когда машинист ищет новые пути, паровоз сходит с рельсов. Шутка. Владислав Алексеевич поцеловал жену и пошел одеваться. Захотелось сказать ей на прощание что-то приятное. – Вернусь, поедем в Ленинград, – пообещал он. – До майских праздников? – Зачем так спешить? – Вот-вот… – Летом! Когда белые ночи! А что теперь в Ленинграде? Одна слякоть. – Прав, Слава, как всегда. Поезжай. – Она даже дверь ему открыла. Но губы для поцелуя подставить не забыла. Ох, хитрющая женщина. Владислав Алексеевич любил свою жену, хотя в любви ей никогда не объяснялся. Познакомились в пору студенчества, подружились, зарегистрировали брак, сына и дочь родили, во всем понимали и поддерживали друг друга, ни бурных объяснений, ни обидных ссор. Живут вроде каждый сам по себе. Но стоит разъехаться хотя бы на два-три дня, и Владислав Алексеевич начинает тосковать по Шуре. Не хватает ее глаз, ее голоса, ее дыхания. Отсутствие Шуры мешает жить. В такие мгновения он называет жену (про себя, конечно) ласковыми и нежными словами, которые почему-то при встрече сразу забываются. Рядом жена, близко, ну и ладушки. Шура и без слов все понимает. Такое бы взаимопонимание везде, со всеми. Насколько бы легче работать стало. Да и дело бы шло с иным ускорением. Нет, Владислав Алексеевич не считал себя ясновидящим прорицателем, не думал, что все его идеи и замыслы верны от «а» до «я». Он не терпел скороспелых решений у других и умел одергивать себя. Были в его жизни мгновения, когда неожиданно осеняло, когда идея врывалась словно сквозняк через открытое окно. И тогда летели к чертям листки с вымученными «мыслизмами», и казалось, что главное звено в руках, только тяни, вся цепочка пойдет вверх. Тем не менее Владислав Алексеевич охлаждал себя, заставлял спокойно все выверить до буковки, и лишь когда выветривалась эйфория неожиданно свалившейся удачи, пускал свое детище в люди. Идея перестройки системы подготовки космонавтов тоже проходила не под аплодисменты. Многим устоявшийся порядок казался выверенным временем и почти оптимальным. Но время не только проверяет, оно ставит новые задачи. Руководитель обязан с упреждением чувствовать необходимость перемен, чтобы вовремя определять тенденции. Трудность состоит в том, что наступает такой момент в самое, казалось бы, неподходящее время, когда предыдущая идея только-только входит в стадию расцвета. Когда ему докладывали об отклонении корабля от расчетной траектории спуска, кто-то из опытных руководителей посетовал на неисчерпаемость запаса случайностей. Дескать, у случая всегда своя траектория. И Владислав Алексеевич взорвался. Не настолько всемогуща теория случайностей и отклонений, чтобы мы молились на нее. Случай торжествует там, где отступил человек. Почему образовалась протечка в баке объединенной двигательной установки? Почему не приземлились в заданной точке? Почему спускаемый аппарат беспомощен на воде? Да, новое всегда требует преодоления, а преодоление – лучший стимул движения вперед. Да, категория надежности никогда не достигает абсолюта и будет постоянно маячить перед человеком лишь нарастающим количеством девяток после запятой. Да, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Все так. И все совсем не так. Уже давно не целину пашем. Пора бы… – Если не сядем здесь, – спросил вышедший из кабины второй пилот, – куда полетим – в Москву или в Ленинград? Самолет уже заканчивал четвертый разворот на втором круге. – Надо садиться здесь, – твердо сказал Владислав Алексеевич. – Так и передай командиру. Он знал, как не любят пилоты безоговорочных распоряжений своих руководящих пассажиров. Вроде упрека в трусости. Полнота ответственности за самолет, за жизни летящих на нем людей лежит на командире экипажа. И если он говорит, что садиться нельзя, значит нельзя. Тут его никакими приказами с пути истинного не свернешь. Поэтому Владислав Алексеевич счел нужным добавить: – Напомни, мы везем аквалангистов со спецоборудованием. Без них спускаемый аппарат не вытащить. Счетчик пущен, и нам обратной дороги нет. Больше второй пилот не выходил. Самолет продолжал снижение и вскоре его колеса застучали по стыкам бетонной полосы. Владислав Алексеевич объяснил командующему ВВС округа, что самолет поисково-спасательной службы засек проблесковый маячок спускаемого аппарата, поддерживает с ним связь. Однако погода мешает вести наблюдение, Большое озеро штормит, лед перемещается, дрейфует и спускаемый аппарат. – Самое опасное, если аппарат накроет льдиной, – сказал Владислав Алексеевич, – а при такой погоде может случиться все. Вот поэтому мы не можем ждать наших штатных поисковиков. Аквалангисты, медики, другие специалисты – все здесь, в самолете. Отправляйте их вертолетом к Большому озеру. Мы с вами тоже пересаживаемся на винтокрылую технику. Что уже сделано и что необходимо сделать – расскажете по пути. Три готовых к вылету вертолета стояли в ста метрах от них. Александр Васильевич не стал садиться в подогнанный к самолету автомобиль. Потуже натянул фуражку (папаху он никогда не носил) и, наклонясь плечом вперед, широко зашагал против несущейся на него снежной стены. Владислав Алексеевич подумал о том, что Шура не зря положила в чемодан толстое теплое белье. Надо было еще в самолете надеть, но разве в теплом уютном салоне почувствуешь эту погоду. Неуютно стало даже в дубленке, хотя застегнута она была на все пуговицы. – Сколько градусов? – спросил Владислав Алексеевич у идущего сзади Муравко. Голова цепочки уже приближалась к освещенным вертолетам, а конец ее терялся в снежной круговерти возле лайнера. – Около двадцати! – захлебываясь, крикнул Муравко. Порывом ветра ему мгновенно запечатало рот. – Ругаешь, наверное, меня, что отдыхать не даю, – вспомнил Владислав Алексеевич, когда они вошли в пассажирский салон вертолета. Экипаж уже сидел на своих местах. Ему понравилось, что вертолетчики установили в салоне дополнительный бак с горючим. И аппарат на ветру устойчивей, и запас спины не тянет. – Что думаешь о случившемся? Муравко пошевелил губами, словно разминая их перед работой, подвигал бровью. – Судя по траектории спуска, – сказал он спокойно, – прогар в камере тормозного двигателя. – Не исключается, – согласился Владислав Алексеевич. Его уже несколько дней не покидали сомнения: не зря ли он перебросил Муравко в группу, которая будет готовиться по новой программе? И хотя возлагает он на нее большие надежды, «запас случайностей неисчерпаем». Другие полетят, а группа все будет ждать своего часа… Муравко готовый космонавт. Командир. Умеет аналитически мыслить и принимать смелые решения в экстремальных ситуациях. Год, максимум два, и он возглавит экипаж. Как сложится его судьба в новой группе, сказать трудно. Но как в серьезном деле без надежных ребят? Дело, которое взвалил Владислав Алексеевич на свои плечи, где каждый шаг на риске, на нервах, на пределе душевных и физических сил, кому-то надо делать. Бортмеханик сразу захлопнул дверь, как только в салон вошел Александр Васильевич. – Все, летим, – сказал командующий, меняя фуражку на шлемофон. Подключился в бортовую сеть и разрешил запуск двигателей. Владислав Алексеевич посмотрел на свой космический хронометр «Океан». До рассвета оставалось примерно около двух часов. Приводнились космонавты в полночь. Чтобы спасательные работы вести в темноте, да еще при такой погоде, нужны циркачи. Здесь же военные летчики, обучающиеся по своим программам. Специфика поисково-спасательных операций им, конечно, знакома, но не в такой степени, как она знакома натасканным по спецпрограммам летчикам из отряда. – С экипажами вертолетов познакомился?! – громко спросил он у Муравко. Двигатели уже набирали обороты. Муравко не ответил, показал большой палец. Мол, ребята – во! Ну, дай бог. Владислав Алексеевич сразу стал думать о тех, кто внутри спускаемого аппарата. Скафандры ребята уже сняли. Он представляет, как им далось это раздевание. Сейчас, до реадаптации, не только руки или ноги, веки на глазах тяжело поднимать. А скафандр – не спортивный костюм. Его не снимают, из него выбираются. Даже в просторной комнате, когда тебе помогает несколько лаборантов, и то надо поработать. А в капсуле спускаемого аппарата ни встать, ни лечь, работать можно только в скорченном положении, когда колени почти у самого подбородка. Аппарат, отдав воде тепло, уже напитывается ледяной стынью. Все меньше остается кислорода. Не позавидуешь. Терпения экипажу понадобится много, пока дождутся помощи. Но он знал: они умеют терпеть. Умеют и ждать. Только бы все благополучно закончилось. Запас случайностей неисчерпаем. «Ну, привязалась фразочка!» Похожий на дельфина мыс Большого озера был выбран для обустройства временной базы поисково-спасательной службы не с бухты-барахты. Во-первых, рядом проходила шоссейная дорога, во-вторых, мыс не имел заболоченных участков, в-третьих, отсутствовали крупные деревья. Кустарник вертолетам не опасен. И, в-четвертых, от мыса было самое короткое расстояние до терпящего бедствие объекта. Прибыв на место, Волков даже присвистнул. Квадрат семь-тринадцать только на карте выглядел квадратом, как впрочем и мыс, похожий на дельфина. Под ногами – глубокий рыхлый снег, с жиденькими веточками кустов, перед глазами слепая тьма. Буран остервенело хлестал по лицам смерзшимися комками снега, слепил и глушил своим воем, видимость приблизилась к абсолютному нулю. Пущенная в зенит осветительная ракета лишь в первые мгновения вырвала из летящего мрака силуэты машин и людей и сразу же поплыла в белой мгле причудливым матовым шаром. Потом темнота сомкнулась с чернильной плотностью, хоть хватайся за руки, чтобы не потеряться. Водители, офицеры, специалисты – все, кто был поднят по сигналу «Сбор» среди зимней ночи и кто приехал в квадрат семь-тринадцать к Большому озеру, в общих чертах знали, зачем они здесь. Поэтому напряженно вглядывались в непроницаемую мглу, надеясь увидеть вспышки проблескового огня, свидетельствующие о наличии терпящего бедствие аппарата. Нашлись даже добровольцы, готовые пойти на выручку космонавтов пешком по льду. «А что, каких-то девять километров?» – Там нет сплошного льда, – говорили им. – Ну и что, будем перепрыгивать с льдины на льдину, фонари возьмем… Волков понимал: надо готовить площадку для вертолетов, пункты обогрева (во что бы то ни стало избежать обморожений), подъездные пути для топливозаправщиков, развернуть систему посадки, метеопост, светотехническое хозяйство, медпункт, установить селекторную связь… И все сразу, все в первую очередь, на сбивающем с ног ветру, в темноте. Освещение обеспечивали фарами машин, которые не участвовали в раскатке посадочной площадки и подъездных путей. Волков метался от одной группы к другой. Там увязла машина в рыхлом сугробе, там сорвало палатку ветром, там разбросало костер, угрожая огнем стоящим неподалеку топливозаправщикам. При этом чуть ли не каждые десять-пятнадцать минут его вызывали на связь и требовали доклада о готовности к приему поисково-спасательной группы. – Три площадки и службы обеспечения готовы, – доложил Волков, когда услышал в трубке голос командующего. – Четвертая, для тяжелой машины, будет закончена через тридцать минут. – Спасибо, Иван Дмитриевич, – сказал Александр Васильевич. – Через десять минут вылетаем. «Через десять, так через десять». И тут Волков впервые подумал о космонавтах. Парни умные, все понимают. Друг другу не говорят, но про себя думают: пройти такие испытания в космосе и закончить свой путь в озере, в десяти километрах от берега – глупо… Конечно, глупо. Но смерть глупа в любом обличье. Глупа потому, что никто из нас не верит в собственную смерть. Умом понимаем, что бессмертия нет, а умирать не собираемся. На вечность рассчитываем. Тоже ведь глупо. На связь вышел самолет поисково-спасательной службы. Оператор подтвердил пеленг и удаление проблескового огня спускаемого аппарата. «Связь с космонавтами устойчивая, – сказал он, – чувствуют себя нормально, ждут и верят. Приступили к завтраку. Корабль раскачивает, постоянно ощущают удары льдин». Волков запросил по селектору метеопост: что нового? Погода перемен не обещала. Скорость ветра – двадцать метров в секунду, температура – около минус двадцати. Как только спускаемый аппарат остынет совсем, начнется интенсивное обмерзание. Слой льда на таком морозе будет расти очень быстро. Аппарат может потерять устойчивость и перевернуться. И тогда связь с космонавтами оборвется. Теперь уже и Волков хотел, чтобы как можно скорее прибыли вертолеты и приступили к поисково-спасательным работам, хотя полчаса назад лелеял надежду на их задержку. Не успел он подумать о вертолетах, «полсотни пятый» уже запросил пеленг на спускаемый аппарат. Шульга с ходу пошел на поиски. Три дня назад Ивану Дмитриевичу в конце дня позвонил Олег Викентьевич Булатов. Позвонил на службу. Поздоровался, уточнил: помнит ли его Иван Дмитриевич? А потом вдруг сказал: – Вам надо приехать ко мне в клинику. – Когда? – Сейчас, Иван Дмитриевич. Приглашение Булатова было столь категоричным, что Волков сразу подумал о Гешке. «Видимо, у них в клинике кто-то оттуда, кто видел сына». Поэтому, ничего не уточняя, твердо пообещал: – Хорошо, буду. Волков Булатова не узнал. Седой, раздавшийся в плечах, исчезло то неуловимое, мальчишеское, что мешало когда-то Ивану Дмитриевичу воспринимать этого человека всерьез. – Так в чем дело, Олег Викентьевич? – Вы все такой же быстрый и решительный, – улыбнулся Булатов. – Сюрприз, Иван Дмитриевич. Вот вам халат, и прошу вслед за мной. «Когда случается что-то серьезное, – подумал Волков, – врач так весело не улыбается. Значит, сюрприз приятный». Он сразу успокоился. Гешка мог передать письмо или какую-нибудь безделицу для матери. Возле двустворчатой двери Олег Викентьевич на секунду задержался, бесшумно приоткрыл ее, и, посмотрев в щелочку, кивнул Волкову: пожалуйста, входите. В конце небольшой одиночной палаты, головой к окну, с книгой в руках лежал Гешка. Спокойно улыбался. Иван Дмитриевич подошел, сел на край больничной койки, взял руку Гешки. Шершавую, с засохшими струпьями на ссадинах. Руку сына. Его и как будто не его сына. Взрослого, но все еще с детским лицом, таким близким и уже отдалившимся. Такого знакомого и неузнаваемого… Запекло, зацарапало в груди, потом жжение появилось в глазах. Он попытался проморгаться, но глаза затянуло туманом, неуправляемо дрогнули губы. «Неужели я плачу?» – отрешенно, словно наблюдая за собой со стороны, спросил Волков и, поняв, что действительно плачет, обрадовался. Будто в слезах своих нашел нечто давно утерянное, очень дорогое. Что именно – он не мог объяснить. Но в минуту встречи с сыном отчетливо понял: что-то он в своей жизни делал не так, в чем-то ошибся, что-то потерял безвозвратно. Понял, и мысль встревоженно заметалась в поисках ответов. Что делал не так? Где ошибался? Что безвозвратно потерял? Как-то ему Маша сказала: «Мчишься ты, Ваня, через жизнь на сверхзвуковой скорости. А мимо столько прекрасного пролетает. Даже не узнаешь потом, что потерял. Не пойму вот, вина твоя в этом, или беда». Да, жил Волков всегда стремительно. Мало читал, некогда ему было ходить по театрам и кино, не знал, что такое прогулки по городу или отдых в лесу, у речки. Чтобы потратить день на музей или на экскурсионную поездку, об этом и думать не мог. Жизнь – при постоянном дефиците времени. Но при чем тут Маша с Гешкой? Самые близкие и родные люди воспринимались им всегда как единицы штатного расписания: жена командира, сын командира. Любить их, согревать своим теплом – сентиментальная чепуха. Воспитывать и требовать – другое дело. Мальчишка рос, мельтешил перед глазами, особо не радовал успехами, но и не огорчал проделками. Иногда смешил мать какими-то глупостями, но Иван Дмитрич не позволял себе вникать серьезно в пустячные дела и надуманные проблемы отцов и детей. Попытки Гешки забраться к отцу на колени или обнять в порыве детской ласки он холодно пресекал безразличной фразой: ну, что за телячьи нежности? Разве ему неприятна была ласка сына? Или таким способом хотел скорее воспитать настоящего мужчину? Да ни то, ни другое. Жизнь собственного ребенка с его порывами, вопросами, детскими мечтами и проблемами не предусматривалась в служебном расписании полковника Волкова. Мальчик взрослел, мужал, а какой он, с каким характером и какими убеждениями, Волков не знал. По отрывочным сведеньям о поступках сына Иван Дмитриевич представлял его изнеженным мальчиком с вялым характером, неспособным на самостоятельные решения. Поступив в авиационное училище, Гешка удивил отца, но не изменил его представления о сыне. Добившись права служить в Афганистане, заставил отца несколько усомниться в своих прежних оценках. А вот такой, похудевший, опаленный боевым огнем, израненный, с упрямым взглядом, он требовал какого-то иного подхода к себе, иного отношения. Волков чувствовал, что не знает, как вести себя, о чем говорить, он вдруг увидел своего сына таким, каков он есть на самом деле: боевой летчик, настоящий мужчина, и вместе с тем – его мальчик, с еще не успевшими загрубеть детскими чертами. Его кровинка… И все, что Волков так упрямо сдерживал и незаметно для себя копил в сердце – отцовскую нежность, любовь, гордость, – все это прорвалось сейчас неожиданными и неудержимыми слезами. Они освобожденно наполняли глаза, срывались, падали на белый халат, растекались темными пятнами. – Не надо, отец, – грубовато сказал Гешка. – Я в полном порядке. Дня через три-четыре начну ходить. Подштопали меня тут на уровне высшего пилотажа. Возьми себя в руки. И хотя эта напускная грубоватость была знакома Волкову, в ней он тоже уловил нечто новое для Гешки. В тоне сына звучала невысказанная, застарелая обида. Волков признавал эту вину перед сыном, как признавал и его право на обиду. Отцом он оказался неважнецким. – Как мама? – спросил Гешка, и Волков не без ревности отметил, что в голосе сына прозвучали теплота и нежность. – Ну, как? Нормально. Все за тебя переживает. Волнуется. – Она здорова? – Да. В полном порядке. Шутит, разыгрывает меня. – Мама. – Гешка улыбнулся и в глазах его заискрилась радость. – Как хочется увидеть ее. – Увидишь скоро. Волков вдруг представил сына убитым и похолодел от этой мысли. И сам себе тут же объяснил, почему похолодел: за Машу испугался, она бы не смогла перенести такое. Маша не просто любила сына, она видела в нем главный смысл своего существования. Гешка компенсировал все, чего недодавал Иван Дмитриевич, он был источником ее сил, ее надеждой и ее счастьем. Иван Дмитриевич просто не представлял, как скажет ей о ранении сына. Скрыть от нее, что Гешка в Ленинграде? Но это жестоко, и никакими потом благими побуждениями (не хотел волновать, мол, или еще что-то в этом духе) не оправдаться. Маша не простит. И без того ее долго держали в неведении, скрывая истинное место службы Гешки. Этот грех им с сыном еще замаливать да замаливать. – А хочешь, я тебе расскажу о летчике, который спас меня? – в голосе сына снова появилась жесткость, глаза стали холодными и колючими. – Конечно. Мне все интересно знать о твоей службе, о том, как случилось, что ты здесь оказался. – Не думаю, что все тебе будет приятно, но я расскажу все. Волков слушал Гешку и все время ловил себя на какой-то раздвоенности. С интересом вслушивался в рассказ сына – все случившееся казалось просто невероятным, и вместе с тем изучал нового Гешку – что стоит за его скупыми словами, такими же скупыми жестами (в детстве любил поразмахивать руками)? Чувствовал Иван Дмитриевич тревогу необъяснимую, подсознательную. Ждал – сейчас все объяснится. «Может, он хочет упрекнуть меня, – подумал вдруг Волков, – что я виноват в его ранении? Виноват в том, что не вмешался, когда Гешку направили в Афганистан? Мог ведь вмешаться, мог уберечь от опасности». Эта мысль отлетела так же стремительно, как и пришла. Гешка сам рвался туда, просил отца ни в коем случае не вмешиваться в его служебные дела. Какой же камень лежит на душе у сына? – Знаешь, отец, этот летчик для меня стал богом, образцом на всю жизнь. – По волнению сына Волков понимал, что летчик, так искусно владеющий боевым вертолетом и так мужественно выполнивший свой долг по спасению товарищей, видимо, действительно достоин и таких восторженных оценок, и того, чтобы стать примером для подражания. – У меня будет к тебе просьба: найди его, поговори, попроси прощения. Ты должен, просто обязан признать свою вину. Волков достал блокнот и шариковую ручку, удивленно повторил: – Признать свою вину? – И спросил: – Как его фамилия? Гешка взволнованно прокашлялся. – Не надо записывать, – сказал он, – ты его знаешь. Это майор Ефимов. Вот оно что… Вот, оказывается, какую кривую описала судьба, чтобы замкнуть круг. «Нет моей вины перед Ефимовым! – хотел, как обычно жестко и уверенно, сказать Иван Дмитриевич. – Я его не только предупреждал. Просил, умолял: потерпи, не высовывайся, помолчи ради дела. Ефимов не послушал никого. Сам все решил. Вот и нарвался». Это хотел сказать Волков, но вовремя понял: если скажет – потеряет уважение сына. – Я часто вспоминал твои нравоучительные рассказы о Ефимове, – Гешка подыскивал осторожные слова, чтобы не обидеть отца, – и всякий раз думал о его поступках… как бы тебе сказать… ну, с уважением, что ли. Понимаешь, отец, с какой стороны ни посмотри – с нравственной, с гражданской, с партийной – Ефимов поступал честно, бескомпромиссно. Не думай, что я пришел к этим выводам из чувства благодарности к спасителю своему. То, что я сам увидел, и то, что ты мне рассказывал, соединилось позже, когда появилось время для спокойных размышлений. – Считаешь меня виноватым? – Считаю. Ты должен был защитить его. А ты ударил. Волков почувствовал, что с трудом сдерживает раздражение: вот и дождался праведного суда, яйцо поучает курицу, сын объясняет отцу, как надо жить. Уже готов был сказать нечто в этом духе. Но увидел в глазах Гешки испуганное ожидание: поймет отец свою ошибку или будет стоять на прежней позиции? «Какую ошибку? – хотел спросить он сына. – Никакой ошибки не было». И сразу вспомнил, как в узком кругу руководства решалась судьба Ефимова, как Александр Васильевич пытался защитить его перед командующим войсками округа, и как командующий в упор спросил Волкова: «Так виноват Ефимов в случившемся или не виноват?» И Волков, раздраженный упрямством комэска, твердо ответил: «Виноват». – «А раз виноват, – сказал командующий, – переведем его в рядовые летчики. На вертолет. Там скорости поменьше, у него будет возможность обо всем спокойно подумать». – Только, пожалуйста, отец, – на лице Гешки на миг обозначилось насмешливое выражение, – не разговаривай со мной, как с маленьким. Там быстро взрослеют. Я видел не только свою, но и кровь своих товарищей. Если ты хотя бы не извинишься перед ним, то я, боюсь, не смогу считать тебя своим отцом. – Послушай, – голос Волкова неожиданно сел, из горла вырвался сухой свист. Он прокашлялся и хотел продолжить: «Послушай, что ты себе позволяешь? С отцом все-таки разговариваешь…» Но Гешка предупредительно тронул его руку. – Не надо, отец. Потом… В палату вошла медсестра и молча положила на тумбочку сложенную вчетверо телеграмму. От командира части, где служил Гешка. – Прочти, – попросил он Ивана Дмитриевича. В телеграмме сообщалось о награждении лейтенанта Волкова Геннадия Ивановича медалью «За боевые заслуги». Глаза Гешки засветились неподдельным счастьем. Первая награда Родины! И какая – «За боевые заслуги»! – «Целинный», я «полсотни седьмой», прошу разрешить посадку. – Разрешаю «полсотни седьмому» посадку, – сказал Волков и приказал дать на площадку свет. – Ветер северо-западный, двадцать метров. Сидя на своем возвышении в передвижном командном пункте, Волков через прозрачный колпак наблюдал, с каким трудом из снежной кутерьмы пробивается блеклое пятно посадочной фары. Отчетливо разглядев посадочные огни, пилот уверенно перевел вертолет в режим зависания, развернул по ветру, словно флюгер, хвостовой винт и мягко опустился в центр площадки. Волков передал руководство полетами заместителю, а сам вышел к приземлившемуся вертолету. Открылась дверь и по маленькой металлической лесенке спустился командующий. Волков доложил обстановку, показал штабную палатку, куда следует направить прилетевших людей, а сам, подсвечивая фонарем, провел Александра Васильевича по всем объектам, которые были выстроены этой ночью в квадрате семь-тринадцать. Командующий работой Волкова остался доволен. В штабной палатке гудела раскалившаяся докрасна маленькая чугунная печурка, ярко горела привязанная к деревянной подпорке лампочка без абажура, потрескивали вынесенные с командного пункта динамики. Посередине, на раскладном столе лежала развернутая карта Большого озера, а на его синей поверхности, поближе к похожему на дельфина выступу берега, торчал небольшой бумажный флажок. Он словно магнит притягивал внимание присутствующих. – Координаты спускаемого аппарата, – сказал Волков, – мы получили пятнадцать минут назад с самолета поисково-спасательной службы. Проблесковый огонь они наблюдают с неравномерными перерывами. Причиной тому, полагаю, снежные заряды. – «Целинный», я «полсотни пятый», проблесковый огонь не вижу, – доложил динамик голосом Шульги, – уточните координаты. Координаты уточнили, но через несколько минут Шульга доложил, что видимость над озером ухудшилась, проблесковый огонь и с малой высоты обнаружить не удалось. – Возвращайтесь на точку, – сказал командующий в микрофон. И осмотрел присутствующих: – Придется еще ниже спускаться. Понимаю, очень опасно, но придется. Как считаете, Ефимов? – Разрешите попробовать? – как-то тихо, но достаточно уверенно попросил Ефимов. Все сразу повернули головы в его сторону, затем в сторону командующего – что скажет? – Давай, Федор Николаевич, – разрешил командующий. – Уточни пеленг и пусть штурман по ниточке ведет, метры считает. А через некоторое время Ефимов доложил: – «Целинный», я «полсотни семь». Высота… Вижу проблесковый огонь. Иду на снижение. На СКП поднялся командующий. Помощник Волкова, чтобы освободить место генералу, протиснулся к выходу. – Запросите, чего он замолчал? – сказал Александр Васильевич. Ефимов замолчал потому, что потерял проблесковый огонь. Как только спустился ниже к воде, видимость резко ухудшилась. – Озеро парит, – объяснил вошедший Шульга. – Верхний слой тумана сдувается, а сквозь нижний ни черта не видно. Я опускался на десять метров, включал фару. Как черт в рукомойнике! Рассвет бы поскорее, не все белое – снег. Поступило сообщение от космонавтов: энергию отключили, второстепенные приборы омертвили, освещение убрали, оставили только маленькую лампочку на гибком шнуре. Питание подается на радио и проблесковый маяк. Болтанка усиливается, столкновение со льдинами стало реже. – Их выносит на открытую воду, – сказал Волков, – там гуще туман и хуже видимость. – Дайте прибой, «Целинный», – попросил Ефимов и через минуту сообщил новый пеленг спускаемого аппарата. – Вижу! Зацепился! Снижаюсь! Шульга посмотрел на карту. – Здесь и я искал. Вот так ходил, – он сделал ногтем зигзаг по голубой поверхности карты. – Такого плотного тумана я еще не видел. Как в прачечной. Разве только Ефимов с его кошачьим чутьем… Вошел командир инженерно-саперного подразделения. Доложил, что подготовлено пять надувных лодок. Два экипажа сделали попытки отплыть, но береговой припай перетерло в ледяное крошево. Люди проваливаются в воду, лодки режет льдом, а до чистой воды по меньшей мере около двух километров. – Может, вертолетом через припай перебросишь? – Как бы потом еще и ваших саперов спасать не пришлось, – грустно сказал командующий и попросил Шульгу: – Проработайте этот вариант. Соображения доложите. Кто знает… Он взял из рук Волкова микрофон и попросил Ефимова чаще докладывать обстановку. Волков не помнил случая, чтобы Александр Васильевич вмешивался в работу руководителя полетами. Значит, и ему не по себе. – Высота пять метров, – как-то настороженно заговорил Ефимов, – с помощью поисковой фары осматриваем спускаемый аппарат… Вернее то, что видно над водой… Теперь они от нас не улизнут. – Минут через двадцать начнет светать, – сказал Волков, вглядываясь в темноту. И вдруг вспомнил свою московскую встречу с Владиславом Алексеевичем. Какую чепуху нес, какие глупости говорил! Прошло время, горечь растаяла, о Ефимове уже было совсем иное мнение. А напомнили, и снова закусил удила. Зачем? Хотел доказать, что не случайно поставил свою подпись под той аттестацией? Хотел сохранить хорошее лицо при плохой игре? Кому он помог, выставляя Ефимова непредсказуемым и дерзким человеком, способным на необдуманные поступки в службе и в быту? Ефимову? Александру Васильевичу? Или командующему войсками округа? – «Целинный», иду на точку, – вырвался из эфира голос Ефимова. – Готовьте аквалангистов. – Вот это дело! – Обрадованно встал командующий и покинул СКП. Владислав Алексеевич тут же передал радиограмму для Центра управления полетом и для космонавтов. А Волкову весело сказал: – Заберу я вас к себе, Иван Дмитрич. Нам нужны хорошие организаторы, да еще с таким летным и командным опытом. И с Ефимовым надо поговорить. Отличный пилот. Развить эту мысль ему помешал вошедший Муравко. – Владислав Алексеевич, – попросил он с ходу, – разрешите слетать на высадку аквалангистов? – Нет, Николай Николаевич, – жестко сказал Владислав Алексеевич и посмотрел Муравко в глаза. – Не разрешу. Здесь сиди. – Понял вас, – сказал Муравко. Когда Владислав Алексеевич вышел, они разговорились. – Вот ведь какие у судьбы перекрестки! Кто мог подумать, что встретимся на этом крохотном пятачке? А вы теперь в штабе ВВС? А кто нашим полком командует? Новиков? Вот бы слетать к нему!.. Руслан Горелов уже комэска, наверное? Неужели все-таки сбежал? Ну, Барабашкин, не зря он бредил морем… Я-то?.. Героем? О чем вы? В полк? Ей-богу, вернулся бы. Да нет, все нормально у меня… Такое же ремесло, как и везде… Юлька в Ленинграде, в отпуске мы… Да, конечно, сын Федька… Точно, в честь Ефимова… А этого никто не знает, Иван Дмитриевич, может не полечу вообще… Чем? Учимся. Тренируемся. Опыта набираемся… Волков слушал Муравко и мысленно сравнивал его с Ефимовым. Когда-то он не случайно назвал Ефимова первым кандидатом. «Ты под гипнозом своего раскаяния. Будь объективен. Они оба достойны уважения, оба хорошие парни. И если понадобится, можно еще найти летчиков такого же закала. Добрых молодцев на земле русской всегда в достатке было». – Собраться бы надо, Иван Дмитрич, – предложил Муравко. – Всем нашим. Я к себе приглашаю. А дату встречи уточним в Ленинграде. Юля будет на седьмом небе. Захватив аквалангистов, Ефимов запросил разрешение на взлет. – Взлетайте, «полсотни седьмой», – протрещал в шлемофонах сухой голос Волкова. – Желаю удачи. Несущий винт вздыбил снег, и вертолет оторвался от земли. Ефимов сразу взял пеленг на спускаемый аппарат космического корабля, не набирая высоты. Чутье подсказывало: счет пошел на секунды. – Восток светлеет, – кивнул Пашка. – Только бы они там не задохнулись в этой мышеловке. – И неожиданно спросил: – Пошел бы в космонавты? – Хотел когда-то, – задумчиво ответил Ефимов, не спуская глаз с приборной доски. – А я не пошел бы. К ним девки липнут, как мухи на клейкую ленту. Это же каким железным надо быть, чтобы выстоять. Вертолет стремительно утюжил клубы тумана, перемешанные со снежными зарядами. Набирающий силу рассвет клином вползал между непроницаемо-темным небом с растрепанными космами туч и затуманенно-серым озером с подвижными контурами ледяных торосов. Набравшая где-то в середине озера силу штормовая волна вздымала льдины, перетирала их, крошила, нагромождая у припаев опасными рифами. Попади аппарат космонавтов в такую льдодробилку – и его или на айсберг выкинет, или загонит на глубину под лед. Тогда уже и аквалангисты не помогут. Стихия слепа. – Внимание, командир, – предупредил Паша, – мы на подлете. КПМ[8] по курсу пятьсот. – Понял, Паша, понял, – Ефимов взял ручку на себя и подработал рычагом «шаг-газ». Набравший скорость вертолет легко вскарабкался на крутую горку и сразу сбавил ход. – По курсу проблесковый огонь. – Вижу, Паша, вижу. Ювелирно вывел, спасибо. – А фирма веников не вяжет. Теперь Ефимову предстояло самое сложное – высадить аквалангистов. Сложность состояла в том, что снизиться надо к самой воде и удержать вертолет в режиме зависания. При ветре пять метров в секунду режим этот уже требует предельного внимания. При десяти метрах – выполнение его опасно. А над озером по-прежнему гулял сквозняк в два раза сильнее. Говоря морским языком, шторм в десять баллов. Шквальным порывом машину может качнуть, парусность у нее приличная, и если несущий винт зацепит лопастями поверхность воды, вертолет упадет. Развернув машину против ветра, Ефимов осторожно снизился, зависнув в двух метрах от черной поверхности. В свете фары озеро казалось зловеще бездонным, жирно шевелящимся. Он представил, каково сейчас здесь купаться аквалангистам, и по телу прошла холодная судорога. – Начинайте высадку! – дал Ефимов команду по внутреннему переговорному устройству. Ровно через три минуты высадка была закончена. – Молодцы! – отметил Ефимов работу аквалангистов и плавно двинул «шаг-газ» к максималу. Небо совсем посветлело, но видимость не улучшилась – пурга по-прежнему летела над озером нескончаемой серой тенью. Аквалангисты зажгли ракету красного дыма. Сигнал готовности к транспортировке спускаемого аппарата. В перчатке у Ефимова лопнул шов и большой палец правой руки вылез ногтем наружу. Видимо, на лице Ефимова мелькнула досада, потому что Пашка мгновенно снял с руки свою перчатку и подал ему. Ефимов отказался. В Пашкину перчатку хоть с головой забирайся. – Я не суеверный, – сказал он Паше, – я верю только в хорошие приметы. Они сбросили аквалангистам толстый, как полено, капроновый фал, и, пока те крепили его к стренге спускаемого аппарата, Ефимов на щитке наколенного планшета набросал расчеты по режиму транспортировки, показал Паше. – Как мыслишь? – Мысли приходят и уходят, – сказал Паша, – главное, чтобы голова оставалась на месте. – Подумав, добавил: – Я бы скорость уменьшил. Ефимов согласился. Тише едешь, дальше будешь. А потом начался этот изнуряющий режим. Восемь-десять километров в час. Чуть ли не через каждый километр остановка. То и дело высовывая голову в форточку, Ефимов держал аппарат в поле зрения. Уже не только спина промокла, пот начал стекать из-под шлемофона на глаза. Ефимов наклонил голову к предплечью и вытер надбровья о грубую кожу зимней куртки. – Все нормально, командир, – подбадривал его Паша, захлебываясь от свирепого ветра. Его голова почти все время была в форточке. – Разотри лицо, – приказал Ефимов, – обморозишься. Слышишь? – Есть, командир! Лицо Пашки было мокрое. То ли от снега, то ли от пота. А скулы и подбородок действительно прихватило, побелели. Он вытащил из-под сиденья вафельное полотенце, вытер сначала лицо Ефимову, потом начал растирать свое. Больше всего Ефимов думал о надежности креплений фала. Знал, что аквалангисты прошли специальную подготовку, в своем деле доки, все сделали по инструкции, но сам он никогда не видел устройство стренги спускаемого аппарата, не представлял, как закреплен на ней буксировочный фал. И это беспокоило, лишало полной уверенности. Чем ближе они подходили к берегу, тем на озере меньше было дымящихся паром черных проплешин и больше тяжелых, изломанных штормом льдин. Бело-синее крошево беспокойно дышало, и Ефимову казалось, что он даже сквозь грохот двигателей слышит могучий скрежет стихии. – До берега две пятьсот! – весело доложил Пашка. – Идем в графике, командир! Все о'кей! – Не каркай, Пашенька. Прошу тебя. Да нет, все и вправду шло путем. Какая-то чертовщина подкралась только на последних минутах полета, вдруг показалось, что ручку управления и рычаг «шаг-газ» держит не Ефимов, а кто-то другой, двойник его, а сам он вроде со стороны наблюдает за ним; и будто фал буксировочный не к вертолету прикреплен, а находится в руках Ефимова, и он чувствует и вес его, и натяжение, и даже мелкое дрожание под ударами ветра. – Все, командир! – вывел его из оцепенения голос Паши. – Земля! Ефимов тряхнул головой и выглянул в форточку. Левее площадки чернели маленькие фигурки. Уже совсем рассвело, но метель по-прежнему свирепствовала. И все-таки он различил в белой мгле командующего, Шульгу, Владислава Алексеевича, даже Ивана Свищенко. Убрав шаг винта, Ефимов позволил машине самую малость просесть, чтобы спускаемый аппарат встал на днище. Как только фал ослаб и прогнулся под напором ветра, Ефимов приказал сбросить его. – «Целинный», – голосу Ефимова стал хриплым, – аппарат на грунте. Разрешите забрать аквалангистов? – Доложите остаток топлива. – Топлива достаточно. – Повторный заход разрешаю. Ефимов подал рычаг «шаг-газа» вперед и, наклонив вертолет, посмотрел на площадку. К спускаемому аппарату, неуклюже проваливаясь в снегу, бежали люди. Кто с носилками, кто с чемоданчиком, кто с одеждой. – Для них, слава богу, все кончилось, – вздохнул Паша. – А нам еще пахать и пахать. – Это же хорошо, капитан! – весело возразил Ефимов. – Что хорошо? – уточнил Пашка. – Что все для них кончилось или что нам еще пахать? – И то, и другое хорошо. – С них, вообще-то, причитается, – вдруг вспомнил Пашка. – Вот вернемся, так и скажу: хоть вы и космонавты, ребята, а коньяк ставьте. А что? Бутылку «Юбилейного». Всего двадцатник. Я на этот коньяк раз десять намыливался, а в последнюю секунду брал две обычного, в три звездочки. Букет тот же, а по объему – в два раза больше. Попробуй тут устоять. Интересно, что пили люди до того, как появилось виноделие? Слушая Пашкин треп, Ефимов вновь почувствовал какое-то раздвоение. Вроде он держит ручку, и не он. Понимает, что бодрствует, а сам будто спит и видит сон. Это усталость. Наслоилось. Ничего. Еще чуть-чуть, и будет отдых. – Возьми управление, Паша, я расслаблюсь. – Есть, командир, – Паша посерьезнел. – Здоровый сон удлиняет жизнь и сокращает рабочее время. Ефимов привычно взглянул на хронометр и закрыл глаза. И сразу, как в песне – вьюга смешала землю с небом… Летела куда-то серая масса, пробитая прожекторным светом, кувыркались льдины, кружил над головою хрустальный диск несущего винта, грохотал двигатель, дрожали от вибрации расслабленные руки, и сквозь всю эту видеозвуковую свистопляску пробивался чей-то знакомый и совсем неузнаваемый голос. Нет, это конечно, не сон. Тем более – не отдых. Ефимов сделал волевое усилие и открыл глаза. Остановил взгляд на циферблате часов и не поверил: прошло более сорока минут. Неужели Пашка блуданул? Им оставалось десять минут лету до места приема аквалангистов. Ефимов тревожно посмотрел на Пашу. – Все в порядке, командир. Пассажиры на борту, идем на точку. Ты хорошо поспал. Ефимов облегченно улыбнулся: – Так и быть, Паша, поставлю тебе «Юбилейный». – Неинтересно, командир. Что я буду ребятам рассказывать? Подумаешь, Федя Ефимов коньяк поставил! Кого этим удивишь? Вот если космонавты подарят, да еще с автографами на бутылке, совсем другой табак. До свадьбы дочери сберегу. Представляешь, какой эффект будет? Хорошо, когда дело сделано и можно вот так бездумно молоть чепуху. К тому же после короткого сна Ефимов почувствовал себя свежим и отдохнувшим. Представил, как сейчас их встретит командующий, Владислав Алексеевич, приведут в палатку, где отогреваются и пьют чай космонавты, познакомят… А что? Можно и насчет автографов. Неплохую идею Пашка подкинул. «Когда рождается хорошая идея, находится много желающих удочерить ее», – тоже Пашкин афоризм. Ефимов с теплотой думает о Пашке. Хорошо им леталось вместе. Надежно. На Пашку можно положиться в любом деле. Передавая управление правому летчику, Ефимов отключался от работы стопроцентно, знал – вертолет в крепких руках. Вот и сегодня. Держать такую машину в режиме зависания на ураганном ветру и трудно, и рискованно. Но Пашка не рискует, если не уверен на сто один процент. «Рисковать надо в своей весовой категории», – говорит он. И обычно добавляет: «Риск – благородное дело, если рискуешь не ты». Кто теперь будет летать с Ефимовым на правом сиденье? Кого назначат борттехником? И что все-таки подсунуть космонавтам для автографов? Записную книжку? Банально. Фотографию Нины? «Ну-ну», – усмехнулся Ефимов, отчетливо понимая абсурдность пришедшей мысли. Но, вспомнив о фотографии Нины, он уже не мог не думать о ней самой. Радужные мысли о предстоящей встрече все время спотыкались о тот телефонный разговор из Ташкента. Нина болеет. В памяти всплыло полузабытое свидание на Почтовой улице в Озерном. Они не виделись целых десять дней – Ефимов во время зимних каникул уезжал на республиканскую спартакиаду школьников. Команду лыжников по возвращении встречала вся школа. Шутка ли – победили в эстафете четыре по десять! – Вечером жду на нашем месте, – шепнула ему Нина. «Их местом» была тропинка между штабелями просмоленных шпал за маневровыми путями станции. И поскольку зимой смеркалось рано, Ефимов успел хорошо промерзнуть к приходу Нины. Обычно во время свиданий они не могли наговориться. А в тот раз он чувствовал себя так, будто за десять дней разлуки они полностью потеряли взаимопонимание, оборваны чуть ли не все связывающие их нити. Встретились – и не знают, о чем говорить, не могут нащупать контакта. – Господи, ты же совсем замерз, – догадалась Нина и расстегнула свою старенькую беличью шубу. – Лезь ко мне, грейся. Опьяненный Нининым теплом, он уткнулся холодным носом в ее шею. Как же это было хорошо… Встретившись через десять лет, они оба так легко заговорили, словно расстались вчера. И не только заговорили. Они понимали все и чувствовали себя так, будто не было никакой разлуки. – Мне бы выбраться из моего бермудского любовного треугольника, – задумчиво вздохнул Паша и спросил: – Сам будешь сажать, или… – Или, Паша, – кивнул Ефимов. Голубов продавил тангенту радиостанции на вторую позицию и запросил у «Целинного» разрешение на посадку. Квадрат семь-тринадцать за то время, пока они летали за аквалангистами, заметно преобразился. Почти все палатки были сняты, группа машин вытягивалась головой к шоссейной трассе. На площадке осталась только одна палатка для обогрева авиаторов и машина-буксировщик передвижного СКП. Ни одного вертолета на стоянке не было. Выключив двигатели, Ефимов поднялся на СКП. Он сразу все понял. Операция «Автограф» провалилась. Провалилась и Пашкина надежда на коньяк от космонавтов. У них своя программа, свои заботы. – Давно улетели? – спросил Ефимов у Волкова. Волков отодвинул журнал и спустился с высокого сиденья. Прокашлялся. – И командующий, и этот, из Центра, Владислав Алексеевич, просили передать тебе, – Волков бросил короткий взгляд на стоящего в дверях Пашку, – и капитану Голубову, большое спасибо, в общем… – Космонавты-то как? – Тоже благодарили. – Живые? – вставил Пашка. – Живые, – кивнул Волков, – оклемаются. – Ну и ладно. – Ефимова все-таки не покидало чувство досады. – Какие будут указания? – Завтракать и отдыхать. Потом – домой. – А сразу нельзя? – спросил Паша. – Может, мы их там перехватим? – Нельзя, – твердо возразил Волков. – Да и зачем спешить, – уже мягче сказал он, – такая ночь была… Надо обязательно отдохнуть. – Ладно, – согласился Пашка, – все-таки мы их ловко выловили. Я пошел заказывать праздничный стол, – засмеялся он весело. – В квадрате семь-тринадцать полный штиль: ни ветряных мельниц, ни Дон-Кихотов. Пашка спрыгнул с металлических ступенек СКП и глухо захлопнул обитую железом дверь. – Тебе Муравко оставил записку, – сказал Волков, потянувшись за толстым журналом. – А Гешка мой велел кланяться. – Гешка? – обрадовался Ефимов. – Как он? – Идет на поправку, – просветленно улыбнулся Волков. – Во, парень! Выдержка – позавидуешь. Волков подал сложенный вчетверо листок из блокнота. Ефимов хотел спрятать записку в карман кожанки, но увидел по продавленным сквозь бумагу буквам слово «Нина» и заволновался. Читать при Волкове было как-то неловко, а разговор оборвался на полуслове. Иван Дмитриевич понял его нетерпение. – Читай, читай, – сказал он и стал отдавать по селектору распоряжения вспомогательным службам. Ефимов прислонился плечом к кабельному ящику и развернул листок. «Нина в клинике у Булатова. Будешь в Ленинграде – звони». И подпись – Муравко. 16 Выздоровление Нины было настолько стремительным, что врачи только разводили руками. Уже через несколько дней после первой встречи с Ефимовым ей разрешили гулять по коридору. Затем она стала сама спускаться по лестнице и поджидать его в вестибюле. Они изобретательно отыскивали тихие уголки и говорили, забывая о времени. Когда Ефимов уходил, Нина звонила ему из автомата, установленного на лестничной площадке. Как-то Булатов пригласил ее в ординаторскую и, разложив на столе листочки с анализами и заключениями по кардиограммам, удивленно пожал плечами: – С такими показателями, Нина Михайловна, мы просто не имеем права держать вас в клинике. Хотя по срокам… Она сама предложила выписать ее досрочно. – Ты ни о чем не думай, – сказала Нина Ефимову, когда они, простившись с персоналом клиники, вышли на свежий воздух. – Они верят только в нож и лекарства. А в любовь не верят. Дурачки. Природа создала человека именно для любви. Пока человек любит и любим, он защищен самой природой. Все болезни у нас от насилий над чувством. Нина никогда не забудет, с каким радостным удивлением слушал ее Ефимов: «Кто тебе все это сказал?» – Никто. Сама догадалась. Я никогда еще за последние пятнадцать лет не чувствовала себя так хорошо, как сейчас. Нина не лукавила. Ей было действительно хорошо. Легко дышалось. Не проходил восторг от встречи с любимым человеком. Ни днем, ни ночью. Ей все время хотелось глядеть на него, чувствовать его тепло, прикасаться лицом к лицу, рукой к руке. Путевку в санаторий ей выделили на июнь. А была середина мая. И они решили с Ефимовым съездить на несколько дней в Озерное. Трудным был накануне отъезда разговор с Ленкой. Впрочем, не настолько трудным, как представлялось. Рассказ, как мама еще школьницей влюбилась в самого лучшего мальчика из Озерного, Ленка слушала внимательно и с интересом, даже задавала вопросы – все это ей было понятно. История маминого замужества ей была знакома, и девочка слушала ее со скукой на лице. Когда же Нина начала взволнованно вспоминать свои тайные свидания с Ефимовым, Ленка опустила глаза и покраснела. Нина сумела объяснить дочери все, кроме самого главного – что такое любовь. – Когда ты вырастешь и полюбишь сама, – говорила Нина, – тогда поймешь и меня. А пока пусть тебе подскажет твое сердце: любить меня или ненавидеть. Совесть у меня перед тобой чиста, я ничего не утаила. Потупившись, Ленка спросила: – И кто теперь на первом месте у тебя – я или Ефимов? – Конечно, ты! – немедленно сказала Нина, но потом попыталась понять сама, кто ей действительно дороже. Кем бы, скажем, пожертвовала, кому бы отдала один из двух парашютов при катастрофе самолета? И поняла – оба парашюта отдала бы им. Так и объяснила дочери. Зато легким и радостным получился прощальный вечер. За столом были Муравко и Юля, Булатов и Марго, Волков и Мария Романовна, заскочил на полчасика Паша Голубов, заполнивший собою все свободное пространство малогабаритной квартиры. Нина млела от удовольствия, что сумела сделать Федюшкину (да и себе тоже) такой праздник: встречу старых друзей. А утром, когда они еще нежились в постели, позвонил Волков и попросил к телефону Ефимова. Нина с интересом заметила, как с лица Федюшкина в одно мгновение упорхнул сон. Опустив на аппарат трубку, он поцеловал Нину и по-деловому сообщил: – Вызывают в Москву, лапушка. Даже билет на самолет заказан. Надо спешить. Конечно же, Нине было не безразлично, зачем Федора вызывают в Москву. Но он и сам не догадывался о причине вызова. «Зигзаги службы непредсказуемы», – улыбался, прощаясь. Вернулся Федор из Москвы ночным рейсом. Позвонил ей из аэропорта и сказал, как показалось Нине, подавленным голосом: – Я прилетел, сейчас буду дома. – Все в порядке? – спросила она. – Приеду – все узнаешь… – как-то неуверенно ответил он и добавил: – По телефону неудобно… Переступив порог, он молча снял шинель, китель, ботинки, нежно обнял Нину, несколько раз поцеловал и только потом, подхватив с пола «дипломат», прошел в комнату. Неторопливо открыл замки портфеля, достал из него красную коробочку и молча протянул Нине. «Какой-то подарок привез из Москвы», – подумала она и открыла крышку. В штампованном углублении, покрытом малиновым бархатом, лежала Золотая Звезда Героя Советского Союза. Упавший на ее полированные грани свет люстры отразился теплым желтым зайчиком. Нина обмерла, посмотрела на Ефимова. Лицо его было задумчивым и грустным. – Это тебе, Федюшкин? – тревожно спросила она. – Тебя удостоили такой высокой награды? Почему же ты не радуешься? – Не знаю, – пожал он плечами. А позже, когда по Тихорецкому уже перестали ходить трамваи, он растерянно признался: – Такое ощущение, что это незаслуженно… Я делал лишь то, что умел, чему меня научили… – Как это похоже на тебя, Федюшкин ты мой родной, – выдохнула Нина и прижалась щекой к его груди, как раз к тому месту, где гулко стучало его сердце. В окно пробивался свет весенней луны, сильные руки Федюшкина нежно скользили по ее плечам, осторожно перебирали пряди волос, он был рядом и уже навсегда. Сколько раз ей грезилась эта идиллическая картина. Грезилась, как нечто несбыточное, невозможное, неисполнимое в реальной жизни. И вот исполнилось. Они вместе. Шевельни пальцами – почувствуешь, открой глаза – увидишь. – Почему ты не спишь? – спросил Ефимов. – Боюсь. – Чего? – Проснусь, а тебя нет. Вдруг это сон? Утром ему звонили, поздравляли, куда-то приглашали, но у подъезда ждало такси – пора было ехать на вокзал. Ефимов наотрез отказался приколоть Звезду на гражданский костюм. – Смотреть все будут, не могу я… Нина еще никогда так искренне не смеялась. За вагонным стеклом мелькнули песчаные косогоры с редкими перелесками, замелькали, как частокол, отраженные в разлившихся талых водах белые стволы берез, побежали к горизонту озимые зеленя. Нина уткнулась носом в холодное стекло и почувствовала, как забилось от волнения сердце. Она давно, лет десять, не была в Озерном, и боялась, что ничего не узнает. Но вот мелькнули сосны с березками, желтые проплешины, и Нина не столько узнала эти места, сколько почувствовала родство с ними. Под Ленинградом, на Псковщине, где ей часто приходилось бывать, она не раз любовалась похожими перелесками. Но они были только похожи и не вызвали вот этого чувства родственной близости. А тут – словно к душе подключили незримые провода. – Ты чувствуешь, Федюшкин? – спросила она, чуть-чуть откинув назад голову, чтобы коснуться щекой щеки Ефимова. – Нашенские места, – шепнул он пересохшими от волнения губами. – Здесь и запахи, каких нигде не почувствуешь. – А мать мне писала… – Я и сам думал, ничего не узнаю. Дело совсем не в новых постройках. – В первую очередь… – Сходим на кладбище. Отец твой когда умер? – Ленке было два года. После его похорон я в Озерное не ездила. А еще хочу зайти… – В школу. Кто-нибудь из старых преподавателей должен остаться. Нина никак не могла привыкнуть к тому, что Ефимов на ходу перехватывал ее мысли, так же чувствовал, как чувствует она, заранее знал, что Нина может попросить и спросить, безошибочно упреждал все ее желания. «Хочу, чтобы Федюшкин меня поцеловал», – загадывала она и ждала. Будто они договорились о такой игре. И когда он наклонялся и касался губами ее лица, Нина тихо и счастливо смеялась. Ефимов не спрашивал, чему она смеется, он это знал, Нина была уверена. Она тоже, сама не понимая как, угадывала, что хочет спросить Ефимов, о чем думает. Сейчас вот, она это чувствовала, с беспокойством думает, у кого им жить в Озерном. – Не мучайся, Федюшкин, – сказала Нина, – жена я тебе, и мы сразу пойдем в твой дом. Он благодарно пожал ей руку. Когда поезд, уже сбавив ход, втягивался на станционные пути, и за вагонными окнами поплыли крыши сельских домиков, она почувствовала беспричинно подступающий страх. Он надвигался тяжелой, как из бетонного раствора, волной, пеленая ей руки и ноги, сковывая мышцы шеи и плеч, вползая в душу. «Я ведь знала, знала, – успела подумать Нина. – Так не бывает, не может быть, чтобы все на свете было хорошо… Что-то обязательно должно случиться плохое…» И от того, что она сразу догадалась, что именно с нею происходит, боль полоснула по сердцу остро и глубоко. И память Нины мгновенно выхватила из прошлого другой месяц май, другой поезд, в котором судьба так неожиданно свела ее с Федором после десятилетней разлуки. Она словно заново увидела, как вошел он в купе, швырнул на верхнюю полку портфель, фуражку и сел, уставившись неподвижным взглядом в пол. Его локти прочно уперлись в расставленные колени, а сквозь пальцы рук упруго выползла белая грива не по-военному длинных волос. Видение было настолько отчетливым и дорогим ей, что Нина изо всех сил сжала зубы: не закричать бы от раздирающей сердце боли. Ей, как тогда, остро захотелось уткнуться Ефимову в шею мокрым от слез лицом, расслабленно припасть к его груди и со знобящей нежностью целовать ему руки, исступленно просить прощения за свою эгоистичную, неуступчивую любовь, принесшую ему столько мук и страданий. Только бы схлынула, только бы отпустила эта тяжелая, перекрывшая доступ свету и воздуху волна цепенящего страха. Только бы схлынула, только бы отпустила… Нина смутно почувствовала, как Ефимов бережно уложил ее на постель и беззвучно рванул еще не открывавшееся с зимы вагонное окно. В купе освобожденно потекла прохлада обласканных солнцем полей, пахучий родной ветерок, звенящая тишина и пробивающийся из безбрежной синевы просветленный тревогою голос: – Я с тобой… Не бойся… Все будет хорошо. Ленинград – Дубулты 1983 – 1986 Сноски 1 ТЭЧ – технико-эксплуатационная часть. 2 ЛТУ – летно-тактические учения. 3 ВПП – взлетно-посадочная полоса. 4 ОБАТО – отдельный батальон аэродромно-технического обеспечения. 5 Тангаж – угловое движение летательного аппарата относительно поперечной (горизонтальной) оси. 6 Царандой – афганская милиция. 7 X А Д – служба безопасности. 8 КПМ – конечный пункт маршрута. Примечания Примечание 1. Старорусские символы В данных словах используются старорусские символы, чтобы они корректно отображались, ваш ридер должен использовать для отображения текста один из шрифтов с их поддержкой – например, Lucida Sans Unicode, Cambria или любой другой из шрифтов Unicode. В случае, если такого шрифта на вашем КПК не установлено, его можно скопировать со стационарного компьютера, из папки Windows/Fonts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
|||||||