 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Ламур Луис :: Грин Александр :: Коллектив Рубоард :: Компьютерра :: Азимов Айзек :: Саймак Клиффорд Дональд :: Сименон Жорж :: Макбейн Эд :: Беляев Александр Романович Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Сэди после смерти :: Нетленный мир :: Журнал «Компьютерра» №27-28 от 26 июля 2005 года :: Ландо :: Евангелие от Крэга :: Гнездо разврата :: Требуется чудо :: Дети капитана Блада :: На склоне холмов |
Жизнь замечательных людей (№255) - Дмитрий ДонскойModernLib.Net / Биографии и мемуары / Лощиц Юрий Михайлович / Дмитрий Донской - Чтение (стр. 3)
Конечно, дети есть дети: их не могло не восхищать сияние драгоценных окладов и цепей, сказочная красота утвари, испещренной чеканками, сканью, эмалями, вставными переливчатыми камнями. Дмитрий не догадывался, какой тяжкий груз принимает на свои мальчишеские рамена, унаследовав от родителя все эти цепи, пояса, оплечья, сабли. Не знал, какой еще более тяжкий груз — города и земли, ему с братьями оставленные. Как год от года все крепче будет давить этот груз на сердце, на саму думу, хотящую хоть ненадолго освободиться от забот и не могущую. Что значили пока для него груды названий волостей и сел? Городня, Мезынь, Песочна, Брашева, Похряна, Гроздна, Гжель, Усть-Мерская?.. Он почти нигде в тех волостях еще и не бывал. А села разные — Малаховское, Напрудское, Островское, Копотенское, Косинское... А еще волости — Кремична, Руза, Суходол, Тростна и иже с ними... Ведь сколько народу должно жить в них, и там и сям, и, шутка ли, каждый из них теперь — твой. А за московскими пределами? Сколько там земель, городов, не означенных в родительской грамоте, но еще с дедовых времен принадлежащих Москве! Переславль, Кострома, купленные Калитой села в ростовской земле, его же купли в отдаленном Белозерье... А тяжелейшая, надсадная ноша отношений с ближайшими соседями — с тверичами, рязанцами, суздальцами, смоленскими и брянскими князьями! Сколько тут накопилось недоумений, какая злоба перекипела за ближайшие и не ближайшие времена. Один лишь Новгород чего стоит. А таинственно крепнущая Литва, на веку деда и отца поглотившая чуть не всю Киевскую Русь. А Орда, Орда, наконец! Орда, которая, куда ни глянь, везде, в любом деле — и в начале, и в конце, и посередине. Эх, эх, им бы еще, ребятишкам, в игры свои играть, носиться, захлебываясь смехом, друг за другом по укромным светелкам, скрипучим лесенкам, прохладным сеням, навесным, обдаваемым сквознячком гульбищам... 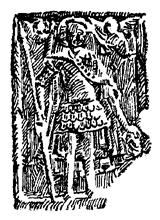 Глава вторая В УЛУСЕ ДЖУЧИ 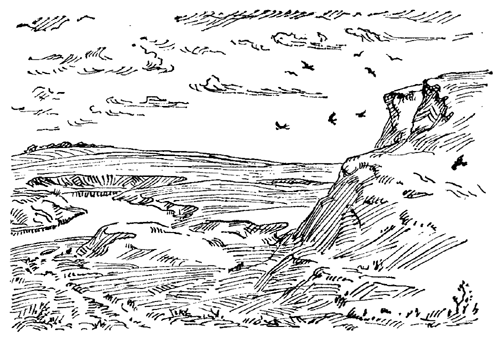 I Что за дед такой был у него, если про деда этого, про Ивана Даниловича, Дмитрий с малолетства слышал то и дело, на каждом, можно сказать, шагу! Да и не только ухом, не единым слыхом, а и глаза постоянно на чем-нибудь дедовом застывали, и руки мальчишечьи любопытные к чему-нибудь дедову притрагивались. Кромник, он же Кремник, Кремль, — рубленные из дуба башни и прясла — его, Ивана Даниловича, произведение. А до того, говорят, совсем маленький был детинец, умещался весь на Боровицком холму. Дед далеко отодвинул стены новой своей крепости от стародавней градской макушки — и к берегу Москвы-реки, и к Торгу. И все белокаменные соборы в Кромнике тоже по дедовой воле строены: сначала Успенье, потом, вскоре за ним, Иоанн Лествичник поставлен, да Спас на Бору, да Архангел Михаил. Ни дядя Семен, ни покойный отец почти ничего каменного к этому ни в городе, ни на посаде не пристроили, не успели. Про него рассказывая, сокрушенно качали вспоминате-ли головами: ох, и хитрец же был Данилыч, царствие ему небесное! Самого великого и жестокого царя Орды Узбека (на Руси его кликали то Азбяком, то Возбяком) хитрованил московский князь, как хотел. Не поймешь, кто кем и правил-то: царь ли князем, князь ли царем? Не стеснялся подолгу и часто в Сарае гостить; одолевая страх, весел был в разговорах, слово лестное умел прямо в глаза сказать, с подарками всех хатуней — жен ханских обходил и лишь потом уже нес самые пышные дары властелину Джучиева Улуса. И еще знал Дмитрий с малых лет: это он, дед Иван, упросил митрополита переехать на постоянное жительство из Владимира в Москву, и событие то приравнивали к выигранной битве: вдруг выше пояса вынырнула Москва из глухоты, из вчерашней малости. В княжеском доме любили вспоминать об одном видении, бывшем во сне Ивану Даниловичу: будто бы он с митрополитом Петром, тем самым, что на Москву из Владимира перебрался, проезжают верхами над Неглинной мимо высокой горы, укрытой снегом, и вдруг снег начал быстро-быстро сползать и сполз совсем, обнажив вершину. Наутро взволнованный князь рассказал митрополиту странный сон, и тот объяснил ему: снег — это он, Петр, потому что век его на исходе, а гора-де — сам великий князь московский, и стоять той горе долго. Трудно поверить в то, чтобы дети и внуки Ивана Даниловича называли его Калитой. Это прозвище было простонародное, уличное, хотя пользовались им и в боярских, купеческих домах. Но рано или поздно Дмитрий должен был услышать многое из той пестрой, неприбранной молвы, которая надолго пережила деда и в которой Иван Данилович имел несколько иной облик, чем тот, что воображался внуку на основе семейных преданий. Уже после смерти Дмитрия, в XV веке, сложилось предание, объясняющее прозвище Ивана Даниловича. Калитой, или, по-ордынски, калтой, называли набедренную суму — принадлежность восточного воина, в которой возят огниво, трут и прочие вещи первой походной надобности. У Ивана Даниловича в калите якобы еще и монетки позвякивали. (Тут автор легенды за отдаленностью событий несколько подновлял подробности: монет на Руси при Иване Даниловиче еще не чеканили.) ...Однажды окружили Калиту нищие, и он, по обыкновению, не разглядывая, сколько кому вынет из сумы, каждого одарил милостыней. Но один из нищих, припрятав свою долю, снова подошел к князю. Тот опять достал ему несколько серебряниц. Чуть помедлив, нищий в третий раз протягивает руку. «Возьми, несытые зеницы», — говорит ему князь, давая в третий раз. «Сам ты несытые зеницы, — огрызнулся нищий, — здесь царствуешь и на небе царствовать хочешь?..» В грубой ворчбе нищего видели и укоризну, но одновременно и притчу о том, что князь действительно поступает правильно. За бранной внешностью слов скрывалась похвала, под лохмотьями хулы — одобрение. Но тою же молвой выплескивались на волю и другие мнения. Князь, мол, прехитр и только для виду раздает, в стократ больше он собирает. Да и раздает-то лишь, чтобы показать, как богат стал московский дом. Славой о своем богатстве хочет он приманить к себе людей, начиная от безлошадных пахарей и кончая привередливыми боярами чужих княжеств. Тут, мол, не нищелюбие, а славолюбие удачливого властителя. А то еще и покруче высказывались. Гребет и гребет Калита без устали в свой мешок, всю Русь ободрал, что медведь липку. Выслуживаясь перед ханом, сплавляет в Сарай громадный «выход». Раньше, до Батыя, в одну руку гребли князья, теперь в обе стараются, а мужик все тот же — при единственных драных портах. Не зря и сказ, что у мужика порты драны, да у князя в уме ханы... Нищелюб и скопидом, устроитель Руси и сарайский завсегдатай, добрый, добычливый хозяин и угодливый слуга, терпеливый донельзя — на сто голосов рассыпалась молва, докатываясь до боровицкого взгорка, отдаваясь шелестом в деревянных княжьих палатах. В представлении Дмитрия образ деда то яснел, то зыбился, двоился, чувство семейной гордости за удачливого, и справедливого Ивана Даниловича, любимца боярской старшины и побирушек, порой горчило растерянностью от чьего-то нечаянно услышанного приговора. Но постепенно, с годами, образ этот будет приобретать для внука отчетливость и убедительность образца, пусть и не безукоризненного, с теми или иными человеческими слабостями. Взять хотя бы долготерпение дедово, обидную его согбенность перед ханом. Не сокрывалась ли и тут своя наука? Да, бывали на Руси в изобилии великие и славные нетерпеливцы. Им не то что десятилетия, а каждый день, прожитый под ордынской властью, был невыносимой мукой. Разве забудутся когда-нибудь имена страстотерпцев — черниговского князя Михаила и боярина его Федора? А судьбина несчастного Романа Рязанского?.. Десятки, сотни таких, как они, гибли в Орде, в русских городах, выплескивая в лицо поработителям презрение, отказываясь исполнять мерзкие их обряды — поклоняться огню и идолам, пить кумыс... Они озарены светом мученичества. От них исходило немое, а то и вслух высказываемое презрение к тем, кто смирился, кто призывал терпеть и терпеть. Но ведь и у этих были свои доводы. Красна смерть одиночки на миру, но так ли уж трудна? Взмятежить город, переколотить вгорячах отряд баскаческий — велик ли подвиг? Через неделю, дело известное, ордынцы пришлют рать, в сто раз большую, и не будет многим городам пощады. Надо знать твердо, что дело предстоит долгое, что будет оно стоить кровавого пота, многих унижений, что целые ведра кумыса надо еще выпить русским князьям, пока соберут всю землю свою в один кулак. Понятно, конечно, что страдный путь героев-одиночек, стихийные восстания целых городов производили на исстрадавшихся под игом людей впечатление куда более вдохновляющее, чем малоприметный и часто по внешности неблагодарный труд «долготерпеливцев», которые твердили, что нельзя переть против рожна, что нужно до поры кумиться с Ордой и ходить перед нею, слышь, в неотесанных болванах, которые-де и с матери родной серьгу сдерут, лишь бы угодить сарайскому дружку. Но сойдутся ли эти равно трудные и равно необходимые пути — путь горячего, ярого нетерпения и путь подспудного накопления сил, кропотливого, рассчитанного на многие десятилетия? Ведь при всей их кажущейся несводимости немыслим и ущербен один путь без другого. Русь ждала теперь какого-то нового, третьего примера. Она ждала людей, в естестве которых породнились бы, сладились оба опыта — горение духа и собранность ума, гнев и сила, неукротимость и трезвый расчет. Но ни маленький Дмитрий, никто из его боярского и духовного окружения, никто вообще на Руси, пожалуй, сейчас еще не знал, долго ли осталось ждать. II Сто двадцать лет уже, как тешились ордынцы рознью русских княжеств, поощряли внутреннюю вражду, ловко и разнообразно подстрекали к ней. Сколько было восстаний, целыми городами поднимались, но все тонуло в крови. Орда научилась подавлять недовольства русскими же руками, так что и пенять порой не на кого, и страшную безысходность рождали эти расправы своих над своими. Но если завоевателям и такого казалось мало, шли на север карательные отряды. Погромщики действовали как во времена Батыя — целые цепочки русских городов освещали им тогда дорогу пламенем. Но все-таки и у подневольной души нельзя насовсем отбивать вкус к жизни — об этом в Орде также имели понятие. И потому политика ее с годами видоизменялась. Если в первые десятилетия ига дань с Руси собирали сами — на постоянное жительство в подвластные княжества были снаряжены многочисленные воинские отряды во главе с особыми чиновниками, баскаками, то после ряда восстаний баскачество было отменено почти повсеместно. Согласились на том, что не нужно раздражать данников слишком частым присутствием. Не прижился и способ изымания дани с помощью откупщиков — мусульман и иудейских купцов. Этих тоже на местах принимали неласково, кое-кого и потрепали до смерти. Орда для видимости чуть отступила: пусть «выход» собирают и привозят сами русские, и отвечает за это великий князь владимирский. А если что и утаит князь, если явится у него охота поживиться при сборах в свою пользу, то и тут Орде выгода: все не в ее сторону направится озлобление русских смердов. Но, в конце концов, не так дань страшна, не так изнуряет это непрерывное, из года в год кровопивство, как угнетает русскую душу сознание нравственной зависимости. Взять хотя бы тот же великокняжеский ярлык, ведь его ханы кидают князьям, будто кость собакам, и еще хохочут, глядя, как те из-за нее грызутся. Вот она, хитрая восточная игра в кость! Когда же каждый русский осознает ее позорный смысл, когда освободится от незримых уз, оплетающих его волю? Пока таких были лишь единицы, и среди них Иван Данилович. Уж он-то не числился пешкой в восточных играх, хотя и в поддавки умел, и по-всякому. Но то умел делать дед, а теперь, в год смерти родителя, откуда было знать девятилетнему Дмитрию дедову науку? А между тем, как бы она нынче ему пригодилась: кончина великого князя владимирского влекла за собой неминуемую для русских кпязей поездку в Орду. К тому же именно в эти месяцы на Руси стало известно, что в Сарае опять сменился властитель: хан Бердибек убит, а на его место сел какой-то Кульпа, или, как иначе произносили, Кульна. По заведенному правилу русские князья сразу по получении известия о переменах на ханском троне обязаны были ехать с представлением. Опять кинут им кость — ярлык и вновь будут потешаться над княжеской кучей малой? Но, кажется, вряд ли кто из русичей успел поглядеть на Кульпу в лицо, за исключением нижегородского князя Андрея Константиновича, которому добираться до Сарая было сравнительно близко. Остальные, пока дошла до них весть, пока сами вышли, уже и припозднились. Кульпа продержался на троне всего шесть месяцев и пять дней. Еще отмечая гибель Бердибека, русские летописцы выразительно подчеркнули: «Испи чашу, ею же напоил отца своего и братию свою». У некоторых восточных авторов есть свидетельство, что Кульпа приходился братом Бердибеку. Тогда выходит, что Бердибек, расправившийся, как мы помним, с двенадцатью своими братьями, убил не всех. В любом случае он не до конца испил кровавую чашу, о которой образно повествуют летописцы. Никто ни на Руси, ни даже в Орде не мог еще догадываться, что липкий кубок со смертным питьем отныне пойдет по рукам десятков людей, что могущественный Улус Джучи вступает теперь в самый позорный отрезок своей истории. Безжалостная расправа Бердибека над отцом и двенадцатью братьями, а затем и воцарение Кульпы знаменуют собой начало непристойной оргии, растянувшейся на целых два десятилетия. Это будет оргия борьбы за трон между сворой бесталанных и алчных Чингисидов. «Великая замятия» — так назвали те времена летописцы — оказалась для Золотой Орды историческим возмездием за развращающую политику поощрения междоусобиц, которую она избрала главным оружием угнетения подвластных народов. Яды, которые в течение многих десятилетий выпускались отсюда вовне, хлынули теперь обратно. И хлынули с такой разрушающей силой, что вся ордынская правящая верхушка в буквальном смысле слова «взбесися». За шесть месяцев и пять дней своего царствования Кульпа, по словам русского современника, произведшего этот точный подсчет, «много зла сотвори». Кульпу, убившего Бердибека, убил некто Науруз. Наши соотечественники по заведенной привычке и его имя подвергли некоторому коверканью, называя (или обзывая?) его то Нарусом, то Наврусом. Прибыв в Сарай, князья свои дары, предназначенные Кульпе, вручали ему. Был ли среди них мальчик Дмитрий? Большинство летописцев на этот вопрос отвечает отрицательно, сходясь на том, что московский князь-отрок впервые посетил Орду не в 1359-м, а двумя годами позже, в 1361 году, при сменившем Науруза (и этот просидит недолго) Хидыре. Обобщая древнейшие показания, В. Н. Татищев в пятом томе «Истории Российской» говорит, что в 1359 году к Наурузу от московского князя приехал его киличей, то есть посол, по имени Василий Михайлович, он и просил нового хана о ярлыке на великое княжение для Дмитрия Ивановича. Но хан не дал ярлыка в Москву, сказав: «Когда сам приидет, тогда ему дам». Причем пообещал никому другому ярлыка пока не вручать. Но Татищев, судя по всему, не пользовался Рогожской летописью, а в ней за 1359 год читаем неожиданное: «По Кулпе царствова Навроус, к нему же первое прииде князя великого сын Ивана Ивановича Дмитреи и вси князи Руссьтии и виде царь князя Дмитрея Ивановича оуна (читай: юного) суща и млада возрастом и насла на князя Андрея Константиновича, дая ему княжение великое...» Итак, судя по записи Рогожского летописца, Науруз встречается не с московским послом, а с самим мальчиком Дмитрием и сразу же, видя его возраст, явно неподходящий для великокняжеского чина, посылает за Андреем Константиновичем, старшим из сыновей покойного нижегородского и суздальского князя Константина. Никакой отсрочки, никакого обещания не отдавать ярлык на сторону. По первому взгляду показание Рогожского летописца выглядит недостоверным, противоречащим здравому смыслу. Как это княгиня Александра и все другие родственники не побоялись отпустить малого ребенка в саму пасть адову, пусть даже и в сопровождении опытных бояр и телохранителей? Но почему тогда, спрашивается, они же отпустили Дмитрия в Сарай двумя годами позже? В неполных девять или в неполных одиннадцать лет — велика ли разница? Показание Рогожской летописи о раннем выезде Дмитрия в Орду, даже если оно противоречит свидетельствам других современников, нет основания не учитывать. Тем более что и до Дмитрия, и при нем Русь много-много раз возила напоказ в Орду малолетних своих князей, когда с родителями, а когда и без них. И случалось, они жили там даже не месяцами, годами. Оставим, как говорится, вопрос открытым. Может быть, историки найдут дополнительные доводы в пользу одной или другой даты. В любом случае Дмитрий впервые увидел Улус Джучи и его обитателей в возрасте, когда впечатления, а тем более такие непривычные, острые, с особой ясностью и ранящей четкостью врезываются в память. ...Если летом, то в большой лодке, если зимой, то санным путем, но тоже по реке (скорее все же летом) от московской пристани, что под самым боровицким лбом, отправлялся он, оглядываясь напоследок на дедову крепость, на окна родительского дома, мимо Варьской улицы и Красной горки, мимо Васильевского луга и яузского устья, мимо ручья Крутицы и деревянных строений Данилова монастыря — по дедову пути, на Низ. Само это понятие «Низ» на Руси не все тогда толковали одинаково. Для новгородцев, считавших себя Верхом, уже и Москва была Низ. По московскому же срединному разумению о виде и образе Русской земли Низом следовало именовать земли и народы, находившиеся по течению Волги ниже Нижнего Новгорода. А уж самый-самый Низ — Орда. Русский человек привык смотреть на свою землю как на подобие тела людского. Недаром озера напоминали ему глаза, то светло-голубые, то затуманенные печалью, реки же текли, будто кровь в жилах или подобно неспешным думам. Земле, как и плоти людской, может быть больно, есть у нее свои раны, зажившие и еще кровоточащие. В Москве постепенно приучались смотреть на Междуречье как на сердцевинную часть русского земного тела. От востока на запад простиралась широкая, мощная грудь, вместилище души. Новгородский Верх разномыслен, разноголос, будто голова, в которой частенько пошумливает. А про Низ и говорить нечего. Сколько помнит себя Русь, из недр низовских, будто из неустанной какой утробы, нарождались новые и новые тьмы неизвестных народов и племен. И все шли и шли, накатывались волнами и исчезали один за другим все в той же беспамятной кромешности. От Низа ждать покоя — все равно что тепла от Луны. III Пока плыли Москвой-рекой, Дмитрий мог неспешно оглядеть, как обширны его собственные, завещанные отцом владения. Названия волостей одно за другим сменялись. Иногда большие волостные села с дворами княжеских чиновников, волостелей, стояли прямо у воды, и люди, заведомо знавшие о княжеском мимошествии, выходили на берег с иконами, кланялись. Так миновали Островское, Брашеву, Усть-Мерское, Северское. Чем дальше от Москвы, тем места делались равнинней и безлесней. Иногда лишь по берегам кряжились поросшие репейником и полынью кручи с выходами известняка. Всегдашнее волнение чувствовал путешественник, достигая устья реки, впадения ее в другую, большую. Такое волнение Дмитрий со спутниками пережили, когда на холме по правую руку проплыла и осталась за спиной сплошь деревянная Коломна, а впереди распахнулось перед глазами широкое и светлое поле Оки. Тут кончались и угодья московские. Противоположный берег был уже не свой, хотя и русский. Для стоянок мест новых не искали. Привалы устраивались возле тех же самых кострищ, в потайных, неприметных чужому глазу местах, где варили уху и Дмитриеву отцу, и деду Ивану. Тут еще чернели обмытые дождями, обсушенные ветром головешки, а обочь темнели настилы из елового лапника с полуобсыпавшейся темно-бурой хвоей. Новые лежанки ладили поверх старых. Радовала эта верность людей давно облюбованным укромным полянам, которые бывалый путник, едва спрыгнув с лодки, отыскивал безошибочно, как бы ни зарастали травой и кустарником. Не в этих ли самых местах кашеварили когда-то дружинники великого Святослава во время его победоносного похода на Хазарию? Ведь шел он так же, как и они теперь: вниз по Оке, а потом и Волгой, до Итиля... Глаза привыкали к новой реке, к изменившимся берегам, более размашистым и в пологости, и в крутизне. Чаще попадались длинные песчаные косы, белые, будто выгоревшие на солнце. То один, то другой берег посменно курчавился непролазными зарослями ивняка, дубравами. Если не вспоминать о том, куда и зачем плывешь, то сущим наслаждением было это знакомство с красотами Междуречья. Какое раздолье для труда, какие пышные села могли бы кипеть в этих малолюдных краях, и на всяк рот хватило бы хлеба, животного млека, красной ягоды, а остаток и птицы небесные не успевали бы склевать! А что за прорва рыбы в реках, какой громкий чмок и плеск оглашает по утрам и вечерам розовую гладь плесов, какие веселые чудища среди ночи, играючись, гремят в омутах лопатищами хвостов! Столько воли отмерено человеку, и до чего же он беспомощен и несчастен, куда ни глянь! На одном из поворотов реки показали Дмитрию крутой берег с рукотворной линией валов по самой кромке. Они тянулись и тянулись, задичалые, в осыпях и водороинах, но и сейчас впечатляя мрачной своей мощью. Рязань... Каким же огромным был когда-то этот горемычный город, если и по сей день ливни смывают вниз, к береговой кайме, целые груды глиняных черепков. Гордая, видная издалека за много верст, Рязань красовалась когда-то над Окой, споря размерами и богатством с самим Киевом, с самим Новгородом. В стенах той Рязани уместилось бы с полдюжины таких крепостей, как нынешняя московская. Местные златокузнецы делали женские украшения не хуже византийских. Сотни купеческих мачт пестрели нарядным частоколом под рязанскими кручами. И где теперь все это? Рязань стала первой на Руси добычей Батыевых полчищ. Ужас, пережитый ее обитателями, был так велик, что потом уж никто никогда не селился на заклятом пепелище. Рязанские князья приглядели для столицы глухое урочище, не на самой Оке, а немного в стороне, на ее мелком притоке. (То место московские лодки благополучно миновали днем раньше.) Вообще, плавание было относительно безопасным. Данники хана — его одушевленная собственность, которой именно он, а не кто-нибудь иной имел право распорядиться, как хотел. По Волге и по Оке в те же самые дни, с той же самой целью сплывали к Сараю и ладьи других русских князей. Береговые службы соседних княжеств были оповещены и не чинили препятствий. Но меры предосторожности путниками все равно соблюдались. Мало ли чья шальная ватага гуляет по берегам, лучше держаться речного стремени, куда и самый сильный лучник не доправит стрелу. Мы не знаем, с кем из бояр ехал Дмитрий в Орду, но наверняка имелись в числе его спутников люди бывалые, сполна осознававшие опасность доверенного им дела. Они если и щадили до поры слух своего господина, не рассказывая ему самого страшного из того, что бывало с русскими в Орде, то присутствовала в этом умолчании и своя надсада: они-то щадят, а пощадят ли там? Уже девяносто лет минуло, а все не забывает русское сердце, как надругались ордынцы над молодым рязанским князем Романом. Его не просто убили, но перед смертью подвергли изощреннейшим пыткам. Не так ли и тело родимой земли лежит теперь в прахе страшным, сжимающимся в судорогах обрубком? Имена убитых в Орде князей Русь знала наизусть. А сонм безымянных мучеников! По одной лишь водной дороге на Низ сколько посеяно в береговую землю косточек! Где крест, наскоро сколоченный, догнивает над бугром, а чаще — без всяких уже примет. Снимется с перекрестья встревоженная большая птица, в несколько махов наберет высоту, и вновь откроется ее взору все беззащитное средоцарствие, до последнего ольхового куста знакомое; ветер тоскливо звенит внизу, кланяются в рощах деревья, и наискось, по сверкающему стремени реки, едва заметно, будто вслепую, соскальзывают лодки. Но вот остались за спиной и рязанские земли. Теперь по правой стороне простирались владения мещерских племен. Миновали Городец Мещерский, где живет князь лесного этого народца, также подвластного Орде. О Русью мещера издавна соседствовала мирно, и во многих смежных областях селились вперемежку: то деревни мещеряков стояли в русском окружении, то славянские избы забредали далеко в исконные владения язычников. Немного ниже Мещерского Городца Ока круто меняла направление, устремлялась на север, в пределы муромы, которая, как и мещера, давно уже сжилась со славянским миром, только еще тесней, неразличимей, так что и веру имели общую. Муром — столица здешнего русского княжества — считался одним из древнейших городов во всем Междуречье. Но выглядел он теперь совсем захудалым. И немудрено: почти любой свой набег на Русь татары начинали с Мурома. Слишком уж на виду стоял он, слишком полюбилась грабителям накатанная муромская дорожка. Заодно с ордынцами не упускало случая поживиться тут и мордовское лесное княжье. Имя многострадального города прочно вязалось в памяти с судьбой княжившего здесь когда-то юного Глеба и брата его Бориса Ростовского, убитых по наущению окаянного Святополка. Иконные лики князей-мучеников Дмитрий видел в московских храмах и знал уже, что почитают их как начатой русской святости, что невинно пролитая ими кровь служит и будет всегда служить вечным напоминанием о Каиновом грехе братоненавистничества. ...И еще одно устье миновали — Клязьмы. Из Москвы можно было и Клязьмой сплыть в Оку. Тоже была древняя водная дорога: подняться вверх по Яузе до Мытища Яузского, оттуда коротким волоком к верховьям Клязьмы, а уж по ее воде, самыми срединными землями Междуречья, с заходом во Владимир, и далее, мимо Стародуба и развалин Ярополча, прямо сюда, где они сейчас находились. Быстро прикинуть в уме такую возможность было проверкой сметливости и памятливости для каждого из путников. Какою бы водой русские князья ни шли в Орду, однако Нижнего Новгорода никому не миновать. Мы сейчас с Дмитрием оглядим его лишь мельком. Полюбуемся красотой местоположения — на зеленых крутизнах, по-над самым слиянием Оки и Волги. Горделивой вознесенностью самой крепости — с ее деревянных стрельниц заволжские и заокские дали разверсты на десятки поприщ, а две реки могуче срастаются внизу в один необъемный ствол. Подивимся городскому многолюдству, оживленности посадов, верхнего и нижнего. Отметим про себя изобилие приречного торга, вездесущность восточных купцов, пестроту заморских товаров. От денежных ручьев, журчащих тут, видать, не одна пригоршня попадает в княжеские посудины, вовремя подставленные. Но о нижегородских князьях речь особая, она вся впереди. Нижегородская каша только еще заваривается подспудно, а расхлебывать ее и Москве и Нижнему годами, пригоревшие ко дну остатки и совсем не скоро отскребутся. Время подгоняет московских путников, сейчас для них главное — к сарайскому застолью не опоздать. IV На Волге людно, а если не думать, куда дорога пролегает, то и весело: столько прибавилось всевозможных лодок, встречных и мимоходных, спешащих туда же, на Низ. А какое разнообразие купеческих лиц: монголы, булгары, хорезмийцы, тавризские, персидские, венецианские и генуэзские торговцы, армяне и греки, арабы и евреи! Глядя на благодушных торговцев, подумаешь, пожалуй, что не бывает на свете ни войн, ни моров; будто из одного рая в другой путешествуют вечные гости. Скоро к Волге прибавится Кама, объясняли Дмитрию, и тут уже начинаются мусульманские, то бишь бесерменские земли. Тут обитают волжские булгары, царство некогда богатое и сильное. Раньше, говорят, булгары жили не здесь, а в степи между Каспийским и Черным морями. Но после того как обосновались в тех краях хазары, булгарские племена принуждены были уйти со своей родины: меньшая часть подалась на Балканы, где смешалась со славянами, приняв их язык и обычай, а большинство поднялось вверх по Волге, до устья Камы. Поставили города, обжили богатые лесные угодья, распахали землю. Хорошо тут рожала пшеница, обильно тек в кадки бортный мед, местные купцы разведали северные речные пути, и вскоре царство Булгар прославилось как хлебная житница и крупнейший меховой рынок. Тогда-то, еще до нашествия Чингисхана, зачастили сюда проповедники ислама, появились в булгарских городах мечети из тесаного известняка, каменные бани с фонтанами и бассейнами. Безбедно жили булгары. В «Повести временных лет» сказано, что самого Владимира Святославича Киевского подивили когда-то тем, что все ходят в сапогах, не только знатные, но и простой люд. По-разному соседствовали с Булгаром великие владимирские князья: то мирно, то раздорно. У Андрея Боголюбского и жена была булгарка, и каменотесов булгарских он будто бы к себе в Боголюбов и во Владимир приглашал, но случались годы размирий. Не раз и не два ходила Русь на соседей, досаждали они тем, что зарились на лесные богатства Севера, а Север Русь издавна считала своим. И походы, как правило, заканчивались успешно. Булгары не любят встречать врага в чистом поле, привыкли отсиживаться за городскими стенами. Но научились их и из-за стен доставать — и при том же Андрее, и при Всеволоде, и при детях его. Булгары первыми испытали на себе силу Чингисхановых полчищ. И держались поначалу крепко, целых четыре года не подпускали татар к главным своим городам. Знать бы наперед, как бы тогда надо было помочь булгарам. А теперь они — такие же, как и Русь, улусники и данники Золотой Орды. Правда, с тех пор, как ханы сами стали переходить в мусульманскую веру, в Сарае много помягчели к булгарам. Вновь расцвели, обстроились здешние города. Вновь зачастили добытчики и купцы в верховья Камы и Вятки, а то и в Подвинье, на Мезень с Печорой, за мягким грузом северных мехов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
|||||||||