 |
|
Популярные авторы:: Горький Максим :: Коллектив Рубоард :: Биленкин Дмитрий Александрович :: Лесков Николай Семёнович :: Чехов Антон Павлович :: Хайнлайн Роберт Энсон :: Холт Виктория :: Кларк Артур Чарльз :: Стаут Рекс :: Кривин Феликс Давидович Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: The Boarding House :: Жена на время :: Завтрашние сказки :: Я угнал Машину Времени :: Геноцид :: Тайны хорошей кухни :: Уроки любви :: Человек на часах :: Затяжной выстрел |
Жизнь замечательных людей (№255) - Дмитрий ДонскойModernLib.Net / Биографии и мемуары / Лощиц Юрий Михайлович / Дмитрий Донской - Чтение (стр. 23)
Если удастся встретить Тохтамыша таким вот образом, то великий князь сбережет людей, и это главное. Для этого не стыдно и «трусом» себя показать, робеющим открытого ратного столкновения. Но все получилось вопреки великокняжеской прикидке. И потому лишь, что на сей раз подвела его Москва. Тохтамыш переправился через Оку и захватил опустевший Серпухов, когда в Москве начались беспорядки. За последние дни ее население возросло по крайней мере вдвое. В Кремль перебрались не только обитатели посадов, но и крестьянство подмосковных волостей. Все были возбуждены до предела: кто молился истово, кто радовался тому, что такое множество собралось для отпора, а кто и пошумливать начинал: князья где, где воеводы, на кого покинут народ?.. Неизвестно, какие бояре были оставлены великим князем на московское воеводство, но они явно не справились с поручением. Стихия безначалия бражилась среди горожан и беженцев, кое от кого и впрямь попахивало хмельным — медов на ту пору уже было накачено и наварено от нынешнего сбора и в подвалах запасено. В Кремле находился тогда митрополит Киприан. Но он был тут лицом новым; те, кто знал его, говаривали о нем по-разному, а многие и совсем не знали. Так что его вразумления на толпу не очень-то действовали. Кто и ерничал: откуда, мол, сей Куприян, из каковских стран?.. Нетрезвое это дурашество обернулось открытым озлоблением, когда прослышали, что митрополит хочет покинуть Москву, как уже покинул ее кое-кто из обитателей боярских дворов. Киприан и впрямь настаивал, чтобы его выпустили из города, готовящегося к осаде. К нему решила присоединиться и великая княгиня с детьми. Такой Москвы она еще не знала и не на шутку была напугана всем увиденным и услышанным в последние дни. Но среди горожан уже действовал уговор: никого из крепости не выпускать. Ворота железные держали на запоре. Стража бодрствовала у проездных башен. На тех, кто все же норовил прорваться, с вратных площадок швыряли чем ни попадя. Киприану понадобилось все его умение убеждать, доказывать, угрожать, пока наконец он вместе с великокняжеским семейством не был выпущен. Из Москвы митрополит направился в Тверь, Евдокия с детьми — к мужу в Кострому. Известно, что накануне появления у стен Москвы Тохтамыша в Кремль въехал «некоторый князь Литовский, именем Остей, внук Олгердов», и благодаря ему удалось поначалу наладить правильную оборону города. Известие это несколько загадочно. Кажется, ни в русских летописях, ни в литовских хрониках подобное княжеское имя более не встречается. Чьим сыном мог быть этот Остей — Андрея Полоцкого или Дмитрия Брянского, или еще кого-нибудь из старших Ольгердовичей? Впрочем, не легенда ли само «призывание» чужого князя к безначальному народу, в неуправный город? В русских летописях известен один-единственный Остей — московский боярин Александр Андреевич, младший брат Федора Андреевича Свибла, но вряд ли речь здесь идет о нем. Итак, в Москве утвердилось некое подобие порядка, и ее жители, постоянные и пришлые, изготовились к обороне. Ордынцы появились у стен Кремля 23 августа после полудня. Подошли они с напольной стороны и стали в благоразумном отдалении — «за три стрелища от града» — уточняет свидетель, то есть на расстоянии трех полетов стрелы. Вскоре малый отряд вершников приблизился к стенам, окликнули стоящих на забралах: — Во граде ли князь Дмитрий? — Нету его во граде, — отвечали сверху вроде бы даже с бахвальством. Да, пожалуй, и без ответа можно было ордынцам догадаться, что великий князь отсутствует: очень уж возбуждены были и многошумны защитники города. Со стен трубили в трубы, дудели во всякие дудки и пищали, смеялись; некоторые явно были навеселе; иные озорники, порты скинув, показывали неприятелю срамные места, посылали царя ордынского куда подальше; а кто и плевался, сморкался вниз: соплей, мол, перешибем, отваливай... Ордынцы внизу скалились раздраженно, помахивали саблями, рыскали кругом крепости семо и овамо, приглядываясь, примеряясь. Но к вечеру рать Тохтамыша куда-то попятилась от города, будто сообразили, что и подступаться бесполезно. Это еще прибавило веселья горожанам. Ночью многие пировали, по-хозяйски расположившись в боярских покоях, потчуя друг друга из серебряных ковшиков, из хрупких и витиеватых сткляниц. Однако наутро чужая рать снова объявилась, и уже не только с напольной стороны, а отовсюду стояли ордынцы. Со стен посыпались стрелы, за первым второй жужжащий рой, но на излете мало причинили вреда опасливо отдаленным конникам. Те только саблями угрожающе помахивали. Били защитники города и из тяжелых самострелов и даже из «тюфяков», о которых принято считать, что это были первые на Москве пушки. Затем и ордынские лучники, подойдя и подъехав поближе, открыли густую стрельбу, и кое-кому на забралах и на башенных площадках досталось на опохмел. В который раз подивились московские ратники ловкости степняков-лучников: метко стреляют, бестии, не только с места, но и на ходу, и на скаку, и вперед мчась, и наутек пустившись, со спины. Под прикрытием стрелков к стенам кинулись пешцы с лестницами, и многие уже добежали, прислонили, вскарабкивались. Но тут сверху покропили их москвичи кипятком — в котлах с утра клокотал вар на случай приступа. Отхлынули одни — Тохтамыш бросил на город свежую силу, эти рвались наверх с еще большим ожесточением. Со стен посыпались каменья, удары рогатин и секир, снова взрыкнули пушки. Один из горожан, купец-суконник по имени Адам, стоявший на Фроловской башне (нынешняя Спасская), углядел знатного воина в толпе ордынцев, прицелился в него из самострела и угодил тяжелой стрелой прямо в сердце. В рядах наступающих возникло замешательство, и приступов в этот день больше не было. И еще двое суток только издали поглядывали степняки на крепость вроде даже с уважением. Горожане опять приободрились: стены каменны, врата железны, ворог долго не простоит, лишь бы скорей соединились вовне Москвы княжеские рати. Так бы закончиться «Тохтамышеву нахождению» ничем, но поддались осажденные на обман. Утром 26 августа к стенам города приблизилось несколько знатных ордынцев. В них не стреляли, понимая, что идут для переговоров. К своему удивлению, горожане увидели среди чужаков двух русских князей, похоже, Василия Кирдяпу и Семена — сыновей Дмитрия Константиновича Суздальско-Нижегородского. Дивно было и непонятно: как это во вражьей ставке очутились шурины великого князя московского, родные братья Евдокии? Затеялось объяснение. — Царь не на вас пришел, — кричали снизу, — но на князя вашего Дмитрия, а вас царь великий милует и ничего от вас не просит, ни откупа, ни выхода... Просит одного: встретить его с честью, с легкими дарами, а он только город посмотреть хочет, вам же дарует любовь и мир!.. «Не на нас пришел, но на князя нашего? Будто мы и князь не одна Москва?» — качали головами многие. Но верх взяли иные голоса: «Это кто же любви и мира не желает?! Мы мириться всегда горазды! Давай хоть с самим протобестией!..» Может, еще и не обманулись бы так легко, если бы не вид двух русских князей, стоявших под стенами. Да, впрочем, что на князей пенять, не они же ворота распахнули во всю ширь, не они же улыбались во всю дурь. На свое простодушие попеняем, родимые. Горожане выходили торжественно во главе с архимандритами и священниками, неся кресты, иконы и подарки. Ордынцы, ждавшие условного знака, смотрели на шествие с любопытством и наружным почтением. Сначала оттеснили Остея и тут же убили его. По этому знаку и началась резня — пошли в ход кривые сабли, которыми степняки три дня издали грозились москвичам. Убивали безоружных, подсекали кресты, доски иконные рубили и копытили, сдирали с них сверкающие оклады. Одновременно по лестницам со всех сторон лезли на опустевшие степы. «И бяше тогда видети во граде плачь и рыдание, и вопль мног, и слезы, и крик неутешаемый, и стонание многое, и печаль горькая, и скорбь неутешимая, беда нестерпимая, нужа неужасная, и горесть смертная, страсть и ужас, и трепет, и дряхлование, и срам, и посмех от поганых крестьяном», — восклицает летописец, отдаваясь общему чувству, но тут же строго отмечает: «Сии вся приключися за умножение грех наших». Были разграблены великокняжеская казна, боярскне житницы, склады купцов, церковные алтари; запылали многие дворы, сгорели деревянные церкви, а каменные почернели внутри от копоти, потому что в них накануне было наметано под самые своды книг, свезенных для хранения отовсюду, и книги те также сгорели. Обычно, говоря о размерах утрат, вспоминают эти вот красноречивые стопы книг в два-три человеческих роста; и еще вспоминают, что сразу по возвращении на пепелище великий князь московский позаботился о предании земле погибших и могильщикам назначил по рублю за каждые восемьдесят погребенных тел и всего выплатил триста рублей. А сколько было угнано в плен! Этим душам счет вели — уже далеко отсюда — сарайские да генуэзские работорговцы. ...Взбодренные столь ошеломительной удачей в Москве, ордынцы разделились на две рати, и одна из них кинулась по Владимирской дороге, а другая — на Звенигород. Возле Переславля конники Тохтамыша едва не настигли поезд великой княгини Евдокии. Услыхав о приближении врага, переславльцы оставили крепость и посады и отплыли в лодках на середину великою своего озера. От Переславля каратели устремились на Юрьев, погромили его, а затем и Владимир. Другая рать, овладев Звенигородом, двинулась на Можайск, оттуда на Волоколамск. Но под Волоком стоял князь Владимир Андреевич с ополчением. Он не стушевался, часть вражеской рати опрокинул, другую обратил в бегство. Тохтамыш решил более не рисковать. Он ждал лишь, когда вернется конница, посланная по Владимирской дороге, чтобы начать общий отход. От Москвы отступали на Коломну, пограбили и ее, а затем все, что под руку попадалось в земле рязанской и саму Рязань. Должно быть, Олег Иванович возмущался неблагодарностью Тохтамыша, но испытывал ли хоть какие-то угрызения совести перед Москвой? Скорее всего не ведал сейчас смущения и Михаил Александрович Тверской, который посылал к Тохтамышу, стоявшему тогда в Москве, своего киличея «с честию и з дары многими». Покидая пределы Руси, хан вряд ли мог считать свой поход до конца удавшимся. Сполна удалась лишь грабительская часть великой изгоны. Собственно военная сторона предприятия не прибавила Тохтамышу полководческих лавров: с великим князем московским он на поле так и не встретился, а от Владимира Серпуховского его вершники еще и наутек пустились. А в каком состоянии вернулся в свой дом Дмитрий Иванович Донской? Говорят, он заплакал навзрыд, увидев черную, насквозь осмрадевшую Москву. Откуда силы-то было взять ему, сподвижникам его и землякам, чтобы начинать тут все заново — от пепла, от руин, от головешек?.. IV От головешек приходилось Дмитрию Ивановичу начинать не только восстановление Москвы. Все жизненные связи внутри его великого Белого княжения, еще год назад представлявшиеся такими прочными, хорошо отлаженными, — все это на поверку оказалось недостаточно надежным. Конечно, что и говорить, испытание на прочность выдалось чрезвычайное — более полувека прошло с тех пор, как последний раз вторгались ордынцы в Русское Междуречье. Но все же Донской вождь вправе был ждать от своих земель и их князей куда большей самоотверженности во дни общей беды. Ну ладно Рязанец, с него когда и какой был спрос (хотя на сей раз спросить все же придется). Но ведь и тесть, Дмитрий Константинович, смалодушничал, стал вымаливать у Тохтамыша ослабы для своей земли. И Михаил Александрович, тверской удалец, перед ханом поюлил вдоволь, показывая, какой он верноподданный и кроткий. Но чем сильнее удручало великого князя московского и всея Руси это шатание умов, тем с большей энергией — уже осенью 1382 года — отдался он самым насущным, не терпящим промедления заботам политического домостроительства. Прежде всего надо было как следует одернуть, поставить на место Олега Рязанского, слишком преуспевшего в своем безоглядном особничество. В сентябре московская рать перевезлась за Оку и вошла в рязанские пределы. Как и следовало ожидать, сам Олег с приближенными боярами исчез, затаился в каком-то из своих лесных лежбищ. Но острастка южного соседа оказалась не самым важным достижением этого похода. Дмитрию Ивановичу удалось сговориться с мещерским князем Александром Уковичем о покупке его наследственной вотчины Мещеры, которая отныне включалась в состав Московского княжества. Приобретение было более чем незаурядное. Лесистая Мещера граничила с рязанской землей, и граница отчасти проходила по Оке, так что теперь значительно выравнивался и продлевался окский рубеж обороны Междуречья. Той же осенью великому князю московскому стало ведомо, что Михаил Тверской со старшим сыном Александром тайно, окольными путями, в обход застав прошли на Низ, в Сарай. Скрытность действий ясно говорила о намерениях тверичей: Михаил вопреки письменным обещаниям 1375 года вновь домогался ярлыка на великое княжение Владимирское. Тут уж было только руками развести да позавидовать неуемности северного соседа. Но, впрочем, чему завидовать-то? Гордый, говорят, и в гробу глазами косить будет. Михаил пока был недосягаем, но в Твери все еще находился митрополит Киприан, и не слышно, чтоб спешил в Москву вернуться, а с ним Дмитрий Иванович очень и очень желал поговорить по душам. Неужто ничегошеньки не знал митрополит о том, куда Михаил с сыном подались? А ежели знал, то как же смолчал, не укротил зарвавшегося тверича? Наконец, почему в Москву ничего не сообщил о готовящемся клятвопреступлении? В конце сентября Дмитрий отправил в Тверь двух своих бояр, которым поручалось позвать митрополита и сопутствовать ему на обратной дороге. Киприан вернулся в Москву 7 октября и увидел, что стало с городом в его отсутствие. Только-только начинали сейчас отстраивать усадьбы и церкви, растаскивать обгорелые остовы домов. Неизвестно, о чем говорили при встрече великий князь и митрополит. Летописцы извещают лишь о возникшем у Дмитрия Ивановича «нелюбье» к Киприану, которому было предложено отбыть в Киев. Возможно, великий князь обвинил митрополита не только в потворстве Михаилу Тверскому, но и в том, что в самые сложные для Москвы дни Киприан смалодушничал, не сумел подчинить себе горожан, кинул на произвол судьбы не только город, но, наконец, и великокняжескую семью. Москва вполне была способна выстоять, несмотря на наплыв беженцев. Да она почти уже и выстояла, но в суматошную минуту в городе не оказалось умудренного жизнью человека, который бы устыдил легковерных и легкомысленных, а буянам пригрозил бы пастырским посохом... Может быть, в душе князя всколыхнулась сейчас застарелая неприязнь к «литовскому митрополиту». Давнее раздражение смешалось у него с новым, да и Киприан не безмолвствовал, но, наоборот, постарался осадить Дмитрия, явно превышавшего свою власть. С каких это пор митрополита судят княжеским судом?!. Однако для Дмитрия Киприан не был более митрополитом «всея Руси», а простым смертным, и этому простому смертному надлежало скорее оставить Москву... Нет, если уж что сразу не заладилось, сызначала искривилось, ни за что потом не выровняешь. Теперь великому князю понадобилось срочно отзывать из заточения Пимена. (Год назад, когда Пимен вернулся на Русь, великий князь его за цареградские самовольства в Чухлому сослал.) Срочность возвращения опального иерарха объяснялась тем, что пустовала не только митрополичья кафедра, но и некоторые епископии, например, сарайская и смоленская; надо было поставить на них новых владык; к тому же надлежало возвести в епископский чин просветителя зырян — Стефана и учредить для него Пермскую епархию. А на череду уже стояли иные дела. Весной следующего, 1383 года Дмитрий Иванович, преодолев вполне понятные родительские страхи, отправил в Орду, к Тохтамышу своего первенца, одиннадцатилетнего Василия, в сопровождении старейших бояр и верных слуг. Отправил, дабы Василию, по слову летописца, «тягатися о великом княжении Володимерьском и Новогородцком с великим кпязем Михаилом Александровичем Тферским» — тот до сих пор сидел в Орде, ожидая, может быть, последней в жизни удачи. Как и положено, Василий ехал со многими дарами, и бояре из его свиты заранее знали, что у хана зайдет речь о данях и что надо торговаться и хитрить до конца, но что самое важное все же — уберечь за собой великий ярлык владимирский, пусть даже и ценой возобновления ежегодного «царского выхода». Так и получилось. Михаил Тверской, сколько ни старался очернить перед ханом своего соперника, мало в чем преуспел. Тохтамыш только подтвердил его право на «отчину и дедину» — Тверское княжение. «А что неправда предо мною улусника моего князя Дмнтреа Московского, — якобы сказал он Михаилу, — аз его поустрашил, и он мне служит правдою, и яз его жалую по старине во отчине его; а ты пойди в свою отчину во Тферь...» Эти заключительные слова Тохтамыша менее всего свидетельствовали о его особой благосклонности к Москве. Просто Михаил не мог пообещать хану того, что пообещало посольство княжича Василия, — ежегодной дани со всего Белого княжения. Впрочем, обещаниям Тохтамыш не очень верил. Василия, мальчика московского, он оставил при себе, пока отец его не пришлет «выхода». Как ни постыдна была Дмитрию Ивановичу сама мысль о возобновлении ежегодных выплат в Орду, приходилось с ней смиряться, подавлять в себе вспышки негодования, приступы гнетущей обезволенности. В волостях и слободах старосты на сходках объявляли: с каждой деревни требует великий князь по полтине. Унылый ропот прокатывался при этих словах над толпами. С каждой деревни?.. А сами-то с чем останемся, коли по полтине? Вот тебе и победили Мамая!.. Тогда же Дмитрий Иванович послал своих бояр за данью в Великий Новгород и главным над сборщиками назначил Федора Андреевича Свибла. Шли с воинской охраной — мало ли как поведут себя новгородцы, отвыкшие от черных боров. Но обошлось благополучно, и вечникн черный бор дали, хотя и с натугой, с ворчбой. Под стать людям хмурилось в то лето и небо. Прокатывались по лесам пожары. Вырвавшись на мшаники, огонь сникал, уходил под кочки, в коричневую торфяную мякоть, и тогда расползался на многие десятки верст сизый чад, зыбилась горькая мгла, в которой птицы задыхались и сыпались на землю окоченевшими комками. Солнце изредка мутно глядело на все это своим рыжим зраком, как будто со дня на день собиралось совсем погаснуть. V 5 июля 1383 года преставился тесть Дмитрия Донского, великий князь суздальский и нижегородский. Прожил Дмитрий Константинович — по тогдашним понятиям — не так уж и мало: 61 год. Славы особой не стяжал, если не считать Булгарского похода. Соперничал когда-то с будущим своим зятем, но на великом столе владимирском продержался всего два лета. В лучшие свои годы действовал с Москвою заодно, но под конец как-то сник, выдохся, отстранился. Не каждому дано и умереть в лучшие-то годы, не дожидаясь, пока придут своим чередом невезения, разочарования. Эту вот мысль — о своевременности или несвоевременности смерти — мог теперь примеривать к себе и великий князь московский. Чем утешили его годы, прошедшие после Донского побоища? Церковное нестроение, княжеские раздоры, вторжение Тохтамыша, выжимание дани с обескровленного крестьянства... Не лучше ли было ему умереть тогда, 8 сентября, рядом с Пересветом, с Мишей Бренком, с Серкизом и Микулой Вельяминовым? Как бы сладко шелестели над ним седые ковыли. Как бы освежающе скользили над полем облачные тени... Но нет он уцелел, выжил и теперь с саднящей и неуместной ношей славы вынужден ходить и собирать с миру по нитке. Так вот, с пустою места, с ничего, было ему просто и почти весело начинать когда-то, после Всехсвятского пожара, потому что он был юн, мечтателен, горел нетерпением многое прибавить к дедову и отцову добытку. И прибавил ведь, по всем статьям прибавил. И не мог, кажется, поставить себе в вину ни лени, ни бестолковой суетности, ни высокомерного пренебрежения к мнениям ближайших помощников и соделателей. За что же насылается новая кара на его землю?.. Уж не за то ли, что слишком благодушествовать стали в лучах куликовской славы, вышли на радостях из своей меры? Отвыкли ожидать неожиданного, воспарили в мечтах превыше седьмого неба, самыми сильными и необоримыми себя сочли, как давеча защитнички московские, погибшие через бахвальство и самонадеянность. Бесу таких только подавай!.. Но и то, легко сказать: жди неожиданного. Можно ли было, к примеру, знать наперед, что через три года после усмирения Олега Рязанского он сейчас снова затеет с Москвой тягаться? Да не из-за каких-нибудь приокских волостишек, не из-за Лопасни даже, а из-за самой Коломны! Уже восемьдесят лет, как Коломна московской стала, а, оказывается, Рязанцу до сего дня снится она в снах. Объявился вдруг из-за Оки, налетел изгоном, разграбил город, наместника Александра Остея повязал, купцов обчистил, нагреб живого полону — и наутек! Еще одну рать собрал Дмитрий Иванович на Олега-строптивца. Даже новгородцы прислали свое ополчение. Повел войско Владимир Андреевич. Но на этот раз ему, не знавшему доныне в сечах поражений, не повезло. Во время решительного столкновения с рязанскими полками его рать понесла большой урон. Погибло и несколько знатных воевод, в том числе сын князя Андрея Полоцкого Михаил... Доколе еще препираться с Олегом, тратя людей, силы, деньги на бессмысленную и преступную усобицу?.. В конце концов Дмитрий Иванович не желал более ничего подобного и в то же время предчувствовал, что так вот из года в год и будет вражда плодить вражду, если не предпринять каких-то мер совсем иного порядка. Но ведать бы каких? И, как уже бывало в его жизни, он захотел узнать мнение игумена Сергия и поехал к нему. Надо полагать, при их нынешней встрече от Сергия не укрылось тяжелое, обремененное тревогами состояние великого князя московского. Действительно, трудно было поначалу представить, что дни после Донской победы окажутся в такой степени трудными для московского, то есть общерусского, дела. Единовременного подвига, даже и такого небывалого, оказалось на поверку мало. Тохтамыш кое-чему научил, например, тому, что победу нужно уметь отстоять, продолжить. Но, что бы еще ни произошло, самое страшное не внешние беды, а порождаемое ими в душе уныние, чувство оставленности. Недаром и древние старцы всегда говорили, что уныние — опаснейший из помыслов, это само жало змеиное, проникающее до сердца. Бодрение и трезвение сердечное, постоянное умное делание — вот чего более всего не терпит враг человеческий. Русскому ли духу унывать, когда начаток уже положен. Поле Куликово отныне явится мерой, на которую станут равняться иные поколения. Испытания будут, и искушения великие будут, но это лишь знак, что мы на истинном пути, потому что правда должна испытываться на прочность и истина обязана пройти сквозь искушения. Радоваться надо испытаниям, не будет их, тогда мы — живые мертвецы... Разговор неминуемо зашел о рязанской тяжбе. Безусловно, отношения с Олегом были сейчас самой уязвимой, самой кровоточащей точкой русской внутренней жизни. В этих отношениях так все запуталось, переплелось, что через время — если и дальше так будет продолжаться — не сыщется уже правых, только одни виноватые и с той и с другой стороны. Вот почему Дмитрий просил у троицкого игумена не просто совета. Если и можно образумить Рязанца раз и навсегда, то не новым походом, не очередной докончальной грамотой, а чем-то иным совсем... Не так ли было двадцать лет назад с Константиновичами, Дмитрием да Борисом? Только вмешательство Сергия, его появление в Нижнем, встреча с Борисом и потом с обоими братьями — только это оказалось тогда спасительным. ...Разговор был в сентябре, а во время рождественского поста троицкий старец, сопровождаемый великокняжескими боярами, отправился в Рязань. На этот раз вопреки своему обыкновению Сергий не пешком пошел, а поехал, и дело было не в многочисленности посольства, от него зависимого, не в долготе и суровости зимнего, еще не устоявшегося как следует пути, а в годах Сергиевых: ближе к семидесяти не так-то уж борзо и безустанно ему шагалось. Для Рязани его приезд стал событием. Велики были смущение, растерянность и внутренний трепет князя Олега: сам первоигумен Руси к нему, многогрешному, пришел, верней, снизошел прийти, хотя мог бы, имел на то власть, вызвать к себе, и князь рязанский, отложив все дела, поскакал бы на тот зов немедленно, лошадей не жалея. Но Сергий пришел сам. И пришел не с пятнами гнева на лице, не с пресекающимся от возмущения голосом, но с тихим словом сожаления о бедах рязанских и рязанских заблуждениях. На Олега все это вместе подействовало поразительно. «Преже бо того мнози ездиша к нему, и ничтоже успеша и не возмогоша утолити его, — говорит летописец, — преподобный же игумен Сергий, старець чюдный, тихими и кроткими словесы и речми и благоуветливыми глаголы, благодатию данною ему... много беседовав с ним о ползе души, и о мире, и о любви; князь велики же Олег преложи сверепьство свое на кротость, и утишися, и укротися, и умилися велми душею, устыдебося толь свята мужа, и взял с великим князем Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь в род и род». Может быть, тогда же, в час заключения мира, состоялось междукняжеское сватовство: в московском дому невеста растет, дочь Дмитрия Ивановича Софья; а рязанскому великому князю сына Федора скоро женить пора. Свадьбу, правда, сыграли не сразу, а через лето, в осенины 1386 года. Видимо, жениху и невесте надо было еще подрасти немножко до своей брачной поры. VI И еще с одним великим князем едва не породнился в эти же времена Дмитрий Иванович — с Ягайлом Литовским. Уже упоминавшаяся в связи с русско-литовскими делами Опись 1626 года называет под 1382 годом «докончальную грамоту великого князя Дмитрея Ивановича и брата его князя Володимера Ондреевича с великим князем Ягайлом и з братьею ево...». Видимо, это был договор о мире, к утверждению которого литовскую сторону побуждало внушительное впечатление от русской победы на Куликовом поле. Тогда же или немного позднее была составлена еще одна грамота: «великого князя Дмитрея Ивановича и великие княгини Ульяны Олгердовы». В Описи 1626 года о содержании этого несохранившегося документа сказано следующее: «Докончанье о женитве великого князя Ягайла Олгердова, жениться ему у великого князя Дмитрея Ивановича на дочери, а великому князю Дмитрею Ивановичу дочь свою за него дати, а ему великому князю Ягайлу быти в их воле и креститися в православную веру и крестьянство свое объявити во все люди». Значение этих встречных русско-литовских шагов переоценить трудно. Если бы Ягайло стал зятем Дмитрия Донского и принял вместе со всей своей землей православие, единоверный русско-литовский монолит сразу превратился бы в самую значительную единицу тогдашней Восточной Европы. Впрочем, здесь мы невольно прибегаем к истории со знаком «если бы», к истории в сослагательном наклонении. В том же 1382 году, когда Дмитрий Донской и Ягайло скрепили печатями докончание, умер венгерский король, правитель католической Польши Людовик. Польские магнаты избрали своей королевой дочь Людовика Ядвигу. Еще до этого Ядвига была просватана за бедного австрийского принца Вильгельма. Когда она утвердилась в краковском королевском замке, Вильгельм прибыл в польскую столицу, обвенчался с Ядвигой. Этот брак пришелся не по душе столичным вельможам, которых нищий австрийский принц ни в коей мере не устраивал. Вильгельма выдворили из Кракова, а Ядвигу католическое духовенство подвергло крепкой обработке. Ее настойчиво убеждали, что для блага Польши и Рима будет лучше, если она выйдет замуж за литовца Ягайла и тем самым привлечет в лоно истинной веры целую землю, простирающуюся к востоку от Польши. Ядвига наконец согласилась. После кое-каких колебаний согласился на такой брак и Ягайло. Женившись на москвичке, он ведь ничего не приобрел бы — ни земли, ни славы, да еще, глядишь, подпал бы под влияние своего тестя. А здесь сразу получит и королевский титул, и целую Польшу под свою власть. Не задумываясь о возможных последствиях поспешности, Ягайло в 1385 году заключил договор с Польшей, известный как Кревская уния. По этой унии Ягайло обязывался креститься в римскую веру, а также обратить в католицизм всех своих подданных. Уния незамедлительно вызвала взрыв возмущения и в Литве православной, и в Литве языческой. Ягайлу отказались подчиниться старшие Ольгердовичи. Антипольское движение возглавил сын покойного Кейстута великий князь Витовт. В 1386 году в Полоцке был схвачен своим единокровным братом Скригайлом участник Куликовской битвы, пожилой уже князь Андрей Ольгердович. Этот противник Ягайла был посажен «в темной башне», где провел без солнечного света и надежды на освобождение три года. Его все же выпустили, но в 1392 году, пережив ненамного Дмитрия Донского, Андрей Полоцкий пал в битве при Ворскле, где литовцы потерпели поражение от орды хана Тимур-Кутлуя. Тогда же погиб и другой герой Куликова поля, другой Ольгердович — Дмитрий Брянский, он же Трубчевский, от которого, по преданию, пошел род русских князей Трубецких. Несмотря на неудачу в отношениях с Ягайлом, великий князь московский завещает своим сыновьям всячески крепить добрососедские связи с литовскими князьями, тяготеющими к православию, и старший его сын Василий, заняв отчий престол, женится на дочери великого князя Витовта Софье. 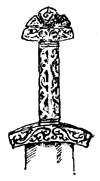 Глава четырнадцатая СЫНОВЬЯ  I А пока первенец Дмитрия Ивановича все еще находился в качестве заложника у хана Тохтамыша. Кроме него и тверского княжича Александра, под неусыпным призором ханской стражи в Орде жили нижегородец Василий Кирдяпа и сын Олега Рязанского Родослав. Четыре старших сына четырех великих русских князей. Александр и Василий Кирдяпа были двоюродными братьями, Василий Московский по матери приходился своему тезке-нижегородцу племянником, да и с Александром был в отдаленном родстве. Но не исключено, что заложники даже не имели возможности видеться друг с другом. Тохтамыш поставил заложничество на широкую ногу, сделал его чем-то вроде постоянной статьи дохода — так-то исправнее будут ему русские улусники дань возить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
|||||||||