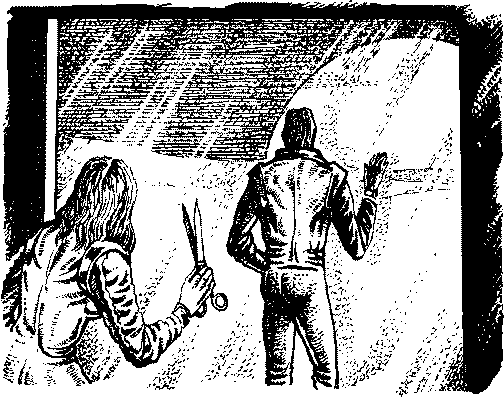|
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Грин Александр :: Горький Максим :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: БСЭ :: Лондон Джек :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: The Boarding House :: Муму :: Дюна (Книги 1-3) :: Тень Ангела Смерти :: Граф Монте-Кристо :: Чайная :: Урс и Кэт :: Прометей в Гранаде :: Беспардонный лжец Том Кастро :: Оправдание лже-Василида |
Фата-Моргана - ФАТА-МОРГАНА 7 (Фантастические рассказы и повести)ModernLib.Net / Дэвидсон Аврам / ФАТА-МОРГАНА 7 (Фантастические рассказы и повести) - Чтение (стр. 33)
Тем же путем следуют и космические пилоты и часто одновременно. С ложной радостью и некоторым сожалением любой может связать классические рекомендации с большинством из этих людей. Они очень хороши — когда трезвые.
В прошлом я часто гадал, о чем думают эти старые пилоты — те, кто исследовали глубины космоса, а теперь пилотировали рудовозы. Я гадал, о чем думает Макнаб, через какие адские муки он прошел, видя, что падает из пилотского кресла все ниже, и ниже, и все ниже. Я гадал, испытывал ли он чувство поражения, что не попал в высокую и благородную цель — печать, так сходную с моей. Не было сомнения, это была доблестная жизнь, может, и непризнанная, но все-таки очень реальная. При менее ярком восприятии, было ли это у меня? Дедушка, награда за доблесть и честь — всегда в стремлении к величию духа, всегда не считаясь с ценой, если воздается по справедливости — эта награда не достанется мне. Когда я встретился с Макнабом в торговой фактории, он мне понравился. Но было нечто другое, не связанное с симпатией или антипатией. Кто-нибудь другой мог бы классифицировать его лишь как бродягу со старого грузовоза, но я все еще чувствовал вокруг него ауру обаяния старого космического пилота — настоящего космического пилота, а не нынешнего водителя грузовика. Ныне пилот нажимает кнопку в начале путешествия и другую кнопку в конце. Остальное делает автоматика. Но во времена Макнаба пилоты исследовали глубокую тьму космоса, нескончаемого и тревожного, как древние мореплаватели исследовали море. Космос прокрался в их глаза, в самую глубину их, и никогда не покидал. И когда кто-нибудь смотрел в эти глаза, он смотрел в глубину космоса. Это ли моя награда, дед? Быть способным распознать доблесть там, где я ее вижу, независимо от того, что бы рассказал побывавший здесь репортер? Я был единственным пассажиром. После того, как я поднял на борт свой багаж, Макнаб стукнул по кнопке, чтобы закрыть люки корабля. Он был немногословен и говорил как-то нехотя. Был он высоким и стройным, с седыми волосами, которые все еще густо покрывали его голову и торчали из ушей и ноздрей. У шотландцев волосы, кажется, продолжают расти, когда они стареют. Его форма была на удивление аккуратной и тщательно залатанной. У него не было и следа венерических судорог, лунного пылевого косоглазия, марсианского химического варикоза вен и тусклого пьяного взгляда землян. Но моя работа заключалась не в том, чтобы гадать о людях. Моя работа заключалась в том, чтобы интерпретировать и претворять в жизнь правительственные предписания. Я сел на ближайшее сидение и вытащил пачку предписаний. И постарался извлечь смысл из напыщенных фраз, в которых они были составлены. Я вытащил из кейса листок с анализом, чтобы сделать грамматический разбор предложенных предписаний. Может быть, если бы я мог отделить собственно статьи от пустопорожних слов, я мог бы ухватить мысль. Черт — я даже не мог найти подлежащее или сказуемое. Ребята, которые пишут подобные документы, должно быть, слишком далеко зашли. Я обнаружил, что раздумываю, действительно ли шахта, которую я только что инспектировал, будет уничтожена взрывами, которые я осудил. Я гадал, будет ли компания считать стоимость запрещенных взрывов выше, чем жизни занятых людей и использование их. Я обнаружил, что удивляюсь, почему Макнаб не стартует. Казалось, он дергает за рычаги и бьет по кнопкам. Чего же он не взлетает? Я вернулся к предписанию. Первая фраза включала в себя тридцать два подчиненных предложения. Дальше я определил, что семнадцатая часть предложения модифицирует значение третьего предложения а в сочетании с двадцать пятым предложением оно полностью анализирует это третье предложение. Ладно, здесь была лазейка, приглашение к взятке. Я знал, какие от меня ожидались действия. За определенную цену предлагалось указать на лазейку тем компаниям, что я инспектировал. Потом, позднее, приходит инспектор и налагает на компанию жестокую пеню за то, что она не следует рекомендациям. Пеня будет поделена между прокурорами, судьями, инспекторами и другими вовлеченными в дело. Компании всегда действовали подобным образом. Хотя они могли выплатить штраф в несколько тысяч, они тем временем получали шанс надуть публику на миллион. Официальным лицам до самого верха, похоже, нравилось это, потому что инспектора, которые с ними сотрудничали, всегда получали выбор назначений. Казалось, это всем нравилось, кроме меня. Я должен быть упрям. Я должен быть честен. Я выбрал эту вонючую кучу именно поэтому, здесь было немного денег, чтобы как-то получить их. Ты неправильно растил нас, дед. Тебе следовало бы вырастить нас такими, чтобы мы соответствовали своему времени, вместо того, чтобы дать нам за основу стандарты, которые умерли и почти забыты. Я вновь поднял голову, оторвавшись от своих попыток разобраться в предписании. Макнаб встал со своего места и поднял настил кабины пилота. На его штанах были видны аккуратные стежки большой заплаты. Я увидел испачканную руку, подымающуюся вверх и опустившуюся на рычаг. Она неловко шарила в поисках отвертки. Рука схватила отвертку и вернулась в дыру. Я посмотрел в кварцевое окно, ожидая увидеть унылый пейзаж. Но появилось нечто интересное. Личная космическая яхта опустилась рядом с торговой конторой. На боку горело слово «Пресса». Это слово заставляло даже высших чиновников останавливаться. Каждый знал ужасающую власть прессы. Мстительные журналисты держали в руках больше власти, чем короли. Я праздно наблюдал, как сел корабль. Я видел, как открылся люк и вышли двое мужчин. Один из них был увешан фотографическим оборудованием. Другой нес на себе печать репортера, который ни перед кем не держит ответа, кроме своего редактора. Малейшая его прихоть могла создать или разбить судьбу человека или компании. В двадцатом столетии они начали давать семантическую нагрузку новостям с помощью личной политики и пристрастий. Теперь ясное изложение фактов было полностью забыто. Они вошли в факторию. Я вернулся к своей работе. Чего бы ради он тут ни появился, репортер не мог мне повредить. Я был мелочью, слишком маленьким человеком, чтобы заинтересовать его. Когда я поднял голову в следующий раз, Макнаб опять сидел в пилотском кресле, тщательно, с терпеливым смирением проверяя кнопки и рычаги. — Мы не стартуем? — окликнул я его. Конечно, это был идиотский вопрос, и я знал это, но я чувствовал, что должен выразить какой-то интерес. Макнаб не испытывал нужды отвечать. Я мог видеть в неожиданном наклоне его шеи и спины, что он заставляет себя не отвечать. Я догадывался, что он следует приказу. Несомненно, он восстанавливает меру контроля. — Вы можете пока вернуться в факторию, — медленно сказал он. — Я позову вас, когда корабль будет готов. В фактории было не более удобно, чем в рейсовом корабле, но, может быть, мое присутствие мешало Макнабу. Я оставил свой багаж там, где он был, вместе с моим кейсом. Макнаб открыл мне дверь, я обошел яхту прессы и вернулся на склад. Фотограф беззаботно отдыхал рядом со штабелем банок с консервированными персиками. Репортер, затащив старого Сэма в угол, расспрашивал его. — Но должно же тут быть нечто стоящее, чтобы получить сенсационный материал! В его голосе слышалось что-то капризное и испорченное. — Босс велел раздобыть сенсационный материал о шахте. Не спрашивайте меня зачем, но, черт возьми, если здесь нет ничего стоящего, я сам создам историю. Он выпятил квадратный подбородок в воинственной позе борца, который еще не испытал на себе кулака противника. Все его лицо было пустой маской бесчувственного высокомерия. В его глазах и рте не было и следа чувства. Для него красота могла быть лишь упражнением в семантике, обдуманной ложью, мерой длины колонки. Старый Сэм отвечал резко и тупо. — Я не знаю, что можно было бы рассказать вам, — упрямо бормотал он. — У нас просто дюралевая руда, вот и все. — Но черт возьми, — выкрикнул репортер, как будто бы старался пробиться через стену тупости силой своего голоса. — Неужели тут нет какой-нибудь колоритной личности? Какого черта люди отправляются сюда работать? Что-то должно привлекать их. Нормальный человек не упустит своего шанса. Черт!.. Дайте мне человека… любого человека… и я сделаю из этого человека новость. Я получу нечто! — Как насчет Макнаба? — услышал я собственный вопрос. Мне следовало бы пнуть самого себя, поскольку я намеревался не вмешиваться. Репортер повернулся. — А вы кто? — агрессивно спросил он. — Кто вас просит совать свой нос в мои дела? — Это правительственный инспектор, — сказал Сэм. Потом добавил, защищаясь: — Порядочный человек. — Фи, — презрительно хмыкнул репортер. Его губы скривились, и он нагло уставился на меня. Я был более вежлив. Я сжал губы в струну, когда посмотрел на него. — Кто такой Макнаб? — спросил он после того, как его взгляд поставил меня на место. — Макнаб — это человек, который в одиночку завоевал Каллисто и открыл торговлю алмазами, — запальчиво ответил я. Потом поспешил дальше: — Макнаб — это человек, единственный человек в истории, который вел корабль с помощью ручного управления через кольцо Сатурна в те времена, когда не было какой-либо защиты от метеоритов. Я услышал позади шаги, но решил, что это фотограф. — А разве это важно? — оскорбительным тоном спросил репортер. — Важно… — Я почувствовал, что мой гнев начал выходить из-под контроля. Но меня перебил спокойный голос за спиной. — Нет, — спокойно произнес голос. — Это неважно. Я повернулся и увидел, что позади меня стоит Макнаб. Он был бледен, и его лицо выглядело застывшей маской. Даже репортер был смущен его спокойным достоинством. — Я что имею в виду… — репортер запнулся. — Да, если это правда важно… но тогда, вы понимаете, это случилось так давно… да, вы, конечно, не можете назвать это новостью… но… — Это не важно, — повторил Макнаб. Потом повернулся ко мне. — Я подготовил корабль. — произнес он. — Мы можем стартовать. Я стал поворачиваться, чтобы следовать за ним, когда откуда-то из глубины раздался гром, потом рев — опустошающий рев мира, идущего к гибели. Каркасное здание склада дрожало, в то время как гигантская рука сметала все вокруг. — Шахта! — выкрикнул старый Сэм пронзительно, тонким голосом. — Это взрыв! — охнул я в ответ. Все мы бросились к двери. Фотограф заблокировал ее своим оборудованием. Я слегка испытал злобную радость, когда сильно толкнул его в бок и выпихнул. Макнаб быстро бежал за мной. Мы обогнули угол здания и увидели открытую шахту прииска позади склада. Дым и пыль валили наружу, и я увидел фигуру спотыкающегося человека. — Быстрее, — крикнул я. — О, какие идиоты! Эти чертовы взрывы! Теперь репортер догнал меня, а Макнаб вырвался вперед. Далеко позади бежали так быстро, как только могли, старый Сэм и фотограф, одному мешал возраст, другому оборудование. Макнаб, казалось, не чувствовал возраста. Он вырвался далеко вперед и бежал легко и упруго, как юноша. — Что тут со взрывами? — задыхаясь спросил репортер, когда мы поднимались на каменный склон по направлению к выходу из шахты. — Я запретил их, — выпалил я между вздохами. — Чертовы владельцы… должно быть, постарались… использовать их вовсю до… того, как я смог… подать свой доклад. Теперь мы были достаточно близко, чтобы слышать слабые, беспомощные крики людей внизу во мраке шахты. Быстро бежавший Макнаб влетел в черный вход до того, как репортер и я хотя бы догнали его. Раздался новый грохот от идущих взрывов. Мы споткнулись. Я понял, что Макнаб был в шахте. Шахтеры могли бы быть не настоящими, статистикой, о которой читают в газетах, но Макнаб вновь был кем-то — человеком. Одним из немногих, которых я встречал. — Ну же, — крикнул я репортеру, который в нерешительности остановился. Я бросился через вход в ствол шахты и услышал, что он идет за мной. Все это происходило так, как если бы я ринулся в рушащуюся ревущую черноту. Больше я ничего не могу сказать. В частичной бессознательности есть что-то нереальное. Человек слышит звуки, смутно видит неясные фигуры, но они не имеют никакой связи друг с другом, не соответствуют никаким образцам, пока человек их как-нибудь не определит. Секунды растягивались до бесконечности, и бесконечность разваливалась на секунды. Я смутно сознавал, что куда-то спешу. Помню, я видел, как мимо меня пробегал Макнаб, вновь и вновь — он шел по направлению к свету с человеком через плечо, потом обратно во тьму за другими, задыхаясь и всхлипывая — но шел. Я помню, что лежал там, не в силах двинуться, собраться, мысленно проклиная себя за то, что не помогал людям, что я такой никчемный. Так характерно для меня. Я стал оправляться от бреда и различать крики вокруг моей головы: протяжный вой парня, который ударился обо что-то ногой и решил, что убился. Мгла немного рассеялась, и я обнаружил, что это был репортер. В странном ощущении времени я понял, что прошло десять или пятнадцать минут. Я перевернулся и опустился в шахтный штрек, измученный, лежа ничком. Я отдыхал еще минуту. Вой стал громче, и мое сознание прояснилось. Я поднялся на четвереньках, моя голова свисала вниз. Она была тяжелой, как если бы на ней была тяжесть всего мира, но я поднял ее достаточно высоко, чтобы посмотреть в сторону кричащего. Репортер застрял под балкой. Другая балка частично подпирала ее. Но и в такой ситуации я знал, что репортер не так уж и пострадал. Подпорки, должно быть, раскачались после последнего взрыва, нокаутировав меня скользящими ударами и завалив его. Я попытался встать, и через некоторое время я понял, что могу сделать это. Мои колени дрожали, готовые согнуться, и я испытывал ужасную тошноту, но держался. Я шатаясь подошел к подпорке и стал оттаскивать ее. Репортер пронзительно закричал мне: — Подыми ее, ты, дурак! Не тащи! Подыми! — Слишком тяжело, — выдохнул я. — В следующий раз, когда я рвану, выскользните из-под нее. Я потянул. Он стал вылезать. Вес балки был слишком велик. Мне пришлось выпустить ее. Он заорал: — Ты же меня раздавишь! — Однако я мог видеть, что нижняя часть подпорки все еще держит на себе большую часть веса. Я вновь потянул. Он опять стал вылезать. На этот раз он вылез целиком. Я бросил балку и опустился на не. Я чувствовал, что вновь отключаюсь. В конце концов услышал ругань репортера. — Чертов дурак! Ты порвал мне штаны. Я был рад, что не мог слышать остального. Когда я пришел в себя, я был снаружи и старый Сэм наклонился надо мной, всовывая мне в рот влажный баллон. Вокруг нас находились стонущие, обливающиеся кровью, страдающие люди — некоторые шатались, некоторые лежали на спине, одни держались мужественно, другие были испуганы. Лишайник был убран, чтобы держать их в стороне от тянущихся к ранам усиков. Толстый владелец шахты лежал на боку, прислонившись спиной к камню, его рука крепко сжимала культю. Я ощутил недостойный порыв радости. Так редко случается, что виновник таких действий ловится на собственную алчность. Обычно страдают рабочие, которые не могут помочь сами себе. Репортер стоял у моих ног. — Здорово, — повторял он вновь и вновь. — Вот это история! Черт возьми! Я хотел материал и получил его, — он громко расхохотался. — Я должен буду похвалить ваш вонючий Марс. Вы чертовски услужливы! Он триумфально оглядел страдающих людей. Никто не смотрел в его направлении. Я оттолкнул Сэма и сел. — Врачи? — спросил я. — В пути, — ответил Сэм. — Я вызвал их по радио из конторы шахты. Должны сейчас появиться. Я посмотрел на владельца шахты и почувствовал некоторое сожаление. Как бы то ни было, я желал бы, чтобы он больше пострадал, чтоб мог узнать все страдания, причиной которых был. Но, возможно, это не могло бы помочь. Он тоже был бы спасен с приходом врачей. Жаль. Я чувствовал, что мое сожаление было недостойным, поскольку здесь дюжина человек, корчившихся в агонии, в то время как я не был по-настоящему ранен. Трое мужчин лежали тихо. Они уже никогда не испытают боль. Я чувствовал новый порыв гнева. — Я запретил взрывы не ради забавы, чтоб показать свой значок! — бессмысленно выкрикнул я в сторону владельца шахты. Он не смотрел на меня. — Черт! — крикнул я. — Будь проклята человеческая жадность. Меня тошнит от людей. Мне стыдно, что я родился человеком! Старый Сэм стал растирать мою голову ладонями у висков, намеренно их массируя. Я покачал головой и увернулся. — К чему? — стонал я. — Какой толк? Репортер все еще стоял у моих ног, глядя на меня. Его лицо оживилось — он планировал нечто из ряда вон выходящее. — Ты спас мою жизнь, приятель! — крикнул он. — Кретин! — с отвращением ответил я. — Ты спас мою жизнь! — вновь крикнул он. — Парень, я уже вижу заголовки. Заголовки, за которые я несу ответственность. Ты будешь героем, приятель. Я плюнул, а потом неуместно подумал, что должен был бы сберечь плевок для любимого лишайника Сэма. — Да, сэр, — репортер по-прежнему неистовствовал. — Может ли быть лучший материал для героя? Маленький человек, подневольный правительству! Я покажу тебе, что могу сделать, какая я важная фигура. Я возьму такую соплю, как ты, и сделаю из тебя всемирного героя. Мне реклама тоже не повредит. — Смотрите, — вяло сказал я, — вот герой. Я указывал на Макнаба, который поднялся на ноги и смотрел на нас. — Если вы хотите получить героя, возьмите его. Он заслужил это. Пока я лежал там без сознания, а вы кричали, он был в шахте и вытаскивал людей. — Этот сукин сын! — крикнул репортер, внезапно придя в ярость. — Я уничтожу его. До конца его жизни я буду гнать его с любой работы, которую он получит. Оставил меня лежать и страдать, каково? Обращал больше внимания на этих грязных горняков, чем на меня… МЕНЯ! Вырвался, когда я схватил его за ногу, чтоб он помог мне! Я с трудом поднялся на ноги и шатаясь подошел к Макнабу. — Пошли отсюда, — сказал я. — Вы поведете корабль? Сможете? Мне надо в Марсопорт. Шахты могут взрываться, мир погибнет, но правительство хочет получить свои отчеты вовремя. Я произнес это, как извинение. Неожиданно я почувствовал, что не могу больше находиться рядом с этим репортером. — Разве вы не хотите стать героем? — спросил Макнаб с задумчивым видом.. — К черту! — с отвращением воскликнул я. Я посмотрел на репортера, и мои губы скривились. Я забыл, что надо быть вежливым. Он уловил насмешку, она пробила даже его толстую шкуру. Он двинулся было ко мне, его показная смелость перешла границы. Он думал лучше. Я стоял, готовый выяснить, не стеклянная ли его выступающая челюсть. — Ты, дешевое ничтожество! — заорал он. — Тебе я тоже задам. Герой, да? Да я изображу тебя самым мерзостным хвастуном, пройдохой, взяточником! — Пойдемте, — сказал мне Макнаб с уважением в голосе. Мы пошли через валуны по направлению к старенькому кораблю. Я полагаю, дедушка, что каждый из нас в той или иной ситуации хотел бы почувствовать, что он сделал нечто важное, что мир знает о том, что мы сделали, а это особое дело — дело доблести. Полагаю, мы рассматриваем признание как награду за доблесть. Но сейчас я увидел, каким дешевым может быть признание, как часто оно служит только самовлюбленности, желающей создать себя с помощью отраженной славы. Это не награда за доблесть. У меня не будет такой награды. Макнаб открыл корабль, и мы забрались внутрь. Моя голова разламывалась от боли, и я с радостью повалился на сиденье. Без единого слова Макнаб занял место водителя и коснулся стартового ключа. Корабль с ревом оторвался от поверхности. Мы стали подниматься. Подниматься далеко. Не было нужды так высоко забираться. Целую вечность назад линии гор на Марсе выветрились до небольших холмов. Лениво отвел я глаза от карты внизу и озадаченно посмотрел на Макнаба. Он хватался за рычаги, дергая их туда и сюда. Они легко двигались, слишком легко. Они двигались, как если бы были совершенно свободны, не обременены никакими связями. Корабль продолжал подниматься. Макнаб повернулся ко мне. Его лицо было бледным, но на нем не было страха. — Отказало управление, — спокойно произнес он. — Я докладывал, какое оно изношенное, раз двенадцать докладывал компании. Они не обращали внимания. И теперь все отказало. Я не могу контролировать корабль. — Ничего нельзя сделать? — спросил я. — Ничего, — произнес он. — Совсем ничего. — Я рад, — произнес я и сам удивился, услышав свои слова. Он странно посмотрел на меня. — Простите, — сказал я. — Я не это имел в виду. Или я говорил о себе, не подумав о вас. — Тогда вы можете сказать это за нас обоих, — ответил он. Он отвернулся и посмотрел через иллюминатор на нос корабля. Он молчал некоторое время, несколько минут. Было видно, что он точно знал, что ничего не сделать, и не обманывал себя бесполезными действиями, пытаясь что-то предпринять. Он знал механизм корабля, знал, что можно сделать в полете, а что только внизу. Существовали спасательные шлюпки, построенные, чтобы в чрезвычайных случаях доставлять пассажиров на посадку с космических линий. Не в большей степени пригодны для длительного и коммерческого использования, чем старые резиновые лодки на морях Земли. Если бы не алчность и взятки, их бы вообще оставили для коммерческого использования. И в этот раз ответственные люди не попадут в ловушку: они могли сидеть за своими столами, качать головами и, возможно, говорить, что дело плохо, пилот, должно быть, пьян. — Отсюда, — позвал Макнаб, — вы можете видеть звезды. Идите и садитесь в кресло второго пилота. Смотрите на звезды! В его голосе слышался восторг. Я поднялся и перешел вперед. — На всякий случай, — произнес я, — не то, чтобы меня это волновало, но как насчет каких-либо устройств, спасательных люков, чего-нибудь такого? — Смеетесь? — спросил он. — На подобных рудовозах? — Удивляюсь, как инспектора позволили его использовать, проговорил я. — Серьезно? — он посмотрел на меня и улыбнулся. Я ничего не сказал. Да, сквозь тонкую атмосферу Марса стали видны звезды. Макнаб вновь предался восторгу. Он вновь был в любимом космосе, среди мерцающих звезд, понятных звезд, которые двигались по законам логики. Дружелюбные звезды, потому что они не были людьми. В его глазах сиял отблеск звезд. Мной овладел странный порыв. Понял ли я в конце концов самого себя? Какая бессмыслица принуждает сооружать памятник себе? Не стоящая человека слабость? Во всяком случае, я вытащил записную книжку и карандаш. Начал писать. Я писал стенографически, очень быстро. Мне потребовалось несколько минут, чтобы записать все, что случилось. Нет, в конце концов, я считаю, что пишу не для того, чтобы создать себе памятник. Я думаю, может, это суммирование, привычка к анализу, рожденная за годы анализирования правительственных решений. Я не мог позволить жизни закончиться с правительственным словоблудством, в котором нет никакого смысла. Я должен был понять, что все это значит. Воздух становился все более разреженным. Я знаю, нам осталось мало времени. Сейчас Макнаб смотрит вперед, почти застывший, как будто бы он старается помочь кораблю забраться все дальше, дальше в его любимый космос до того, как корабль дрогнет и начнет падать прямо вниз. Макнаб принадлежал космосу, и было справедливо, что умереть ему придется в космосе. А я? Теперь и я принадлежу ему. И не важно, где я умру. Как и все остальные, я часто гадал, что мог бы сделать, если бы знал, что должен немедленно умереть. Смог бы я встретить этот момент мужественно? Я обнаружил, что это не требует мужества. Я познал чувство облегчения, почти освобождения. Мне больше не надо было оставаться парией — честный человек в мире, не знающем чести. Смерть сводила всех нас к одному уровню. Я почувствовал, что смеюсь над теми людскими представлениями, которые заботятся о превосходстве даже у края могилы. Как мы все лицемерны… как человечны. Вместо этого я узнал чувство благодарности, ужасающей безмятежности. Я нашел, что испытываю меньше страха, чем каждое утро, когда просыпался, зная, что должен прожить в этом мире еще день. Я в меньшей степени погибну от чистых, ярких звезд, чем от людских поступков. Потом, это ведь и правда награда — не признание, не гром аплодисментов, но возможность встретиться с безмятежностью. Вот награда за доблесть. (Перевод с англ. Ю.Беловой) 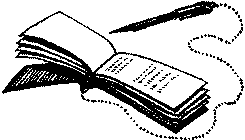
Роберт Прессли
|
|||||||||