 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Раззаков Федор :: БСЭ :: Лондон Джек :: Толстой Лев Николаевич :: Лесков Николай Семёнович Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Беспардонный лжец Том Кастро :: Оправдание лже-Василида :: Чайная :: Прометей в Гранаде :: Тень Ангела Смерти :: Граф Монте-Кристо :: Возвращение палача :: Тысяча дюжин |
Барочный цикл (№2) - Король бродягModernLib.Net / Фэнтези / Стивенсон Нил / Король бродяг - Чтение (Весь текст)
Нил Стивенсон Король бродяг Женщине на втором этаже К Музе Яви себя, о Муза. Ты ведь здесь. Коль правы барды, коих нет давно, Ты – пламени и дуновенья смесь. Моё перо, как я, погружено Во мрак полночный жидкий, без тебя Тьму лишь расплещет – свет не даст оно. Оперена огнём – стоишь в тени… Очнись! Пусть вихри света разорвут Глухой покров. Навстречу мне шагни! Но нет, не ты во тьме – лишь я, как спрут Плыву, незряч, в клубах своих чернил, Что сам к твоей досаде породил. Завесу тёмную одно перо Пронзить способно. Вот оно. Начнём. Без сомнения, живописать навозную кучу – искусство не меньшее, нежели изобразить прекраснейший дворец, ибо совершенство заключается в исполнении; Искусство, как и Природа, должно иметь некую необычную форму либо качество, дабы угнаться за людскими прихотями и особенно чтобы угодить нашему переменчивому времени. Грязь под Лондоном 1665 Мамка Шафто считала возраст сыновей по пальцам, которых у неё было шесть. Когда пальцы кончились, то есть когда Дику, самому старшему и умному, пошёл седьмой год, она собрала всех трех мальцов от разных отцов в хибарке на Собачьем острове и сказала, чтобы они уходили и без хлеба или денег не возвращались. В восточной части Лондона детей по большей части так и воспитывали. Дик, Боб и Джек оказались на берегах Темзы в компании других ребят, искавших хлеба и денег, чтобы купить материнскую любовь. Лондон был в нескольких милях, однако далёк и легендарен, как двор Великого Могола в Шахджаханабаде. Братья Шафто промышляли в бесконечном лабиринте кирпичных стен, свиных загонов и лачуг, где ирландцы или англичане ютились по десять-двенадцать душ вместе со свиньями, гусями и курами. Ирландцы зимой работали грузчиками, носильщиками и угольщиками, а летом нанимались на сенокос. Они только и знали, что ходить в свои папистские церкви, и транжирили заработанное серебро на чистую блажь: платили писарям, чтобы облечь свои мысли в магические значки, которые прочтёт старушке-матери в Лимерике поп или какой другой грамотей. В той части Лондона, где жила мамка Шафто, готовность ирландцев гнуть спину за хлеб и деньги объясняли отсутствием у них ума и самоуважения. И это ещё не говоря про ирландскую набожность и прочие вытекающие последствия, как то: упорную неприступность женщин и согласие мужчин с нею мириться. Жохи, как называли себя молодчики, сменявшие друг друга в постели у мамки Шафто, поступали иначе: с наступлением темноты отправлялись к Темзе, где стояли на якоре корабли, пробирались на них и тырили всё, что можно обменять на хлеб, деньги и женские ласки. Методы были разные. Самый простой заключался в том, что кто-то один карабкался по якорному канату и бросал товарищам верёвку – самая работа для бесхозного мальца. Дик, старший из Шафто, освоил азы мастерства, забираясь по водосточной трубе в весёлый дом и таская из брошенной одежды деньги или мелкие вещи. Вместе с братьями он вступил в артель вольных лодочников, у которых было средство доставлять хабар к берегу: они исхитрились угнать баркас. Очень скоро выяснилось: матросы, поставленные охранять товары от жохов, ждут платы за то, чтобы не увидеть, как Дик с привязанной к щиколотке верёвкой карабкается по якорному канату. Они знали, что капитан, обнаружив пропажу, прикажет их выпороть, и желали получить за спущенную шкуру вперёд. Дику надо было иметь на запястье привязанный кошель и, когда матрос направит ему в лицо фонарь и мушкет, позвенеть монетами. Под эту музыку плясали матросы любого рода-племени. Разумеется, денег у жохов не было. Им требовался начальный капитал. Джон Коул, самый дюжий и лихой из молодцов, угнавших баркас, придумал план похитрее: красть те части кораблей, за которыми не надо взбираться на борт, а именно якоря, и после продавать их капитанам. Могло получиться ещё лучше, если бы корабль, лишённый якоря, выбросило течением на мель, скажем, возле Собачьего острова, и весь товар в трюмах стал законной добычей жохов. Однажды туманной ночью (впрочем, все ночи были туманные) артель отправилась на баркасе вверх по течению. Жохи называли вёсла «крыльями». Взмахивая крыльями, они пролетели мимо стоящих на якоре кораблей – все указывали носом против течения, поскольку якоря располагались на носу, и река разворачивала их, как флюгер. У кормы голландского галеота (одномачтового купеческого судна, примерно вдвое длиннее и в десять раз тяжелее баркаса) Дика, с обычной верёвкой на ноге и ножом в зубах, бросили в воду. Предварительно его снабдили следующими инструкциями: проплыть по течению к носу галеота, отыскать уходящий в воду якорный канат, привязать к нему веревку и перепилить канат выше узла. Таким образом, якорь внезапно и бесшумно переходил от галеота к баркасу. После этого Дик должен был трижды дернуть за верёвку; жохи, выбрав её, подтянули бы баркас к якорю и, ещё хорошенько поднатужившись, оторвали бы добычу от речного дна. Минуты две верёвка разматывалась рывками – Дик плыл; потом перестала разматываться – Дик отыскал канат и приступил к работе. Жохи тихонько подгребали обмотанными вёслами, чтобы баркас не снесло течением. Джек держал верёвку, ожидая условленного сигнала. Однако рывков не было. Вместо этого верёвка провисла. Джек с Бобом выбрали слабину. Десять ярдов прошло через их руки, прежде чем веревка натянулась и они почувствовали если не три резких рывка, то, во всяком случае, какое-то трепыхание. Очевидно, что-то разладилось, но Джон Коул не собирался бросать хорошую верёвку. Они принялись тянуть, таща баркас вверх по течению. В конце концов из воды показалась петля вместе с бледной холодной ногой, аза ней и бедняга Дик. К той же верёвке был привязан якорный канат. Покуда Джек и Боб пытались оплеухами вернуть Дика к жизни, жохи силились поднять якорь. Бесполезно: якорь был столь же тяжёл, сколь Дик мёртв. Тем временем раздражительные голландцы с галеота принялись палить в туман из мушкетов. Пришло время сматываться. Боб и Джек, исполнявшие при Дике роль подмастерья и ученика соответственно, остались без наставника и с тенденцией просыпаться по ночам от кошмарных снов. Они поняли – не сразу, но постепенно, – что утопили брата, когда потянули за верёвку и утащили его под воду. Они распрощались с речным промыслом. Джон Коул нашел на место Дика нового мальчишку и (по слухам) дал ему немного другие инструкции: сначала отвязать верёвку от ноги, а потом закрепить её на канате. Меньше чем через две недели Джона Коула и его товарищей поймали в баркасе средь бела дня. Один их план увенчался успехом, они надрались краденым ромом и проспали рассвет. Жохов отправили в Ньюгейт. Некоторые из них – новички в системе судопроизводства, если не в преступлениях – поделились неправедными деньгами с голодным проповедником, который пришёл в Ньюгейт и встретился с ними в «базарне» – помещении на нижнем этаже, где арестант, прижавшись лицом к решетке, мог докричаться до посетителя. Здесь проповедник открыл импровизированную школу Закона Божьего, в которой жохи должны были выучить наизусть пятидесятый псалом – если не весь, то хотя бы начало: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо, в беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя… Непростое дело, но жохи учились поусерднее иного оксфордского грамотея. И было ради чего: некоторое время спустя они прошли узким коридором Олд-Бейли, встали под балконом, на котором расположился магистрат, и, глядя в раскрытую Библию, прочли наизусть затверженные стихи. По тогдашней системе взглядов это доказывало, что они клирики и не подлежат уголовному суду. Поскольку церковные суды давно упразднили, судить жохов было некому, и их отпустили по домам. Иначе сложилась судьба Джона Коула, старшего в артели. Он уже бывал в Ньюгейте и стоял перед магистратом в Олд-Бейли. В этом же дворе его руку зажали в тиски, и палач приложил ему к основанию большого пальца калёное тавро в форме буквы «Т», навеки заклеймив Джона Коула вором. По существующим нормам судопроизводства он никак не мог объявить себя клириком. Его приговорили к казни через повешение. Боб и Джек ничего из перечисленного не видели, а узнали обо всём от тех, кто пробубнил первые стихи пятидесятого псалма и, получив свободу, вернулся на Собачий остров. Такие истории братья сто раз слышали от друзей и соседей, однако эта содержала необычное продолжение: Джон Коул просил двух выживших Шафто встретиться с ним под виселицей в день казни. Они пошли скорее из любопытства. Добравшись до Тайберна и пробившись через огромную толпу зрителей с помощью нескольких несложных приёмов (пнуть в лодыжку, наступить на ногу, двинуть локтем в пах), братья увидели Джона Коула и других осуждённых на телеге под Неувядающим Древом – локти у преступников были связаны за спиной, а на шее у каждого лежала удавка с длинным болтающимся концом. Тюремный священник усиленно пытался втолковать им что-то очень важное касательно регламента вечной жизни. Однако осуждённые были пьяны в дым и отвечали непристойными шутками быстрее, чем тот успевал вставить слово. Коул, более серьёзный, чем остальные, объяснил Джеку и Бобу свою просьбу: когда палач его «вздёрнет» – то есть столкнёт с телеги и оставит болтаться на верёвке, – очень любезно было бы со стороны Дика повиснуть у него на правой ноге, а со стороны Боба – на левой (или наоборот, коли им так будет удобнее), чтобы он умер быстрее. За это он рассказал им про клад, спрятанный под оторванной половицей в одной хибарке на Собачьем острове. Братья согласились. Теперь надо было следить за Джеком Кетчем. Орудие его труда, виселица, отличалось замечательной простотой: три высоких столба держали треугольник тяжёлых брусьев, на каждом из которых можно было повесить шестерых, а если не бояться некоторой скученности, то и больше. Работа Джека Кетча состояла в следующем: подогнать телегу на свободное место под одной из перекладин, подхватить свисающую верёвку, перебросить её через брус, закрепить узлом и столкнуть малого на другом конце верёвки с телеги. Телега, полегчавшая на одного человека, перемещалась дальше, и процедура повторялась. Джон Коул был восьмым из девяти приговорённых к казни в тот день, поэтому Джек и Боб имели возможность увидеть семь повешений до того, как приступить к своим обязанностям. Поначалу они видели лишь очевидное, потом, немного освоившись с общим ритуалом, стали примечать различия. Другими словами, они начали вникать в тонкости и превращаться в знатоков, как и те примерно десять тысяч зрителей, что собрались вокруг. Джек довольно быстро заметил, что люди в хорошей одежде умирают быстрее. Скоро стало понятно почему: когда Джек Кетч собирался вздёрнуть хорошо одетого человека, он размещал петлю за левым ухом клиента, оставляя запас верёвки, чтобы тот немного пролетел и успел набрать скорость, прежде чем застопориться с различимым на слух хрустом. Людям в лохмотьях он оставлял петлю свободной – по крайней мере на время, – без всякого запаса верёвки. Так вот Джон Коул, который и раньше-то ходил оборванцем, а за несколько месяцев в каменном мешке отнюдь не сделался пригляднее, был самым плохо одетым малым в телеге, и ему, очевидно, предстояло брыкаться в петле дольше других. Это объясняло, почему он предусмотрительно обратился к мальчикам Шафто, однако не объясняло другого. – Эй! – сказал Джек, отодвигая локтем священника. Он стоял под телегой, задрав голову, и смотрел, как палач ловко закрепляет верёвку, другой конец которой лежал на плечах у Коула. – Если у тебя есть клад, чего ты не заплатил ему? Он кивнул на Джека Кетча, который теперь через прорезь в балахоне с любопытством смотрел на Джека Шафто. – Э… он ведь не при мне, верно? – Джон Коул и в лучшие времена отличался некоторой угрюмостью. Однако сейчас Джеку показалось, что он юлит. – Послал бы кого-нибудь! – А вдруг бы он его спёр? – Заткнись, Джек, – сказал Боб. После смерти Дика он остался фактическим главой семьи и сперва не очень этим злоупотреблял, но с каждым днём всё больше набирался гонору. – Ему молиться положено. – Пусть молится, когда будет плясать в петле! – Не будет он плясать, потому что мы повиснем у него на ногах. – Но он ведь наплёл про клад! – Вижу, не держи меня за дурня. Но раз уж мы здесь, сделаем всё честь по чести. Покуда они препирались, Коула вздёрнули. Он повис прямо над их головами. Оба отпрянули, но, разумеется, далеко он не пролетел. Мальчики подпрыгнули, ухватились за его ноги и принялись карабкаться, как по канату. Провисев несколько мгновений в петле, Коул начал сильно брыкаться. Джеку хотелось разжать руки, но дрожь в ноге, за которую он держался, чем-то напомнила трепыхание верёвки, когда они тащили бедного Дика под водой. Джек убеждал себя, что это своего рода месть. Боб, возможно, думал о том же, во всяком случае, оба держались насмерть, покуда Коул не обмяк. Тут они поняли, что он обмочился, и разом спрыгнули в вонючую пыль. В толпе зааплодировали. Не успели братья отряхнуться, как к ним подошла сестра последнего из приговорённых (которого, судя по одёжке, тоже ждала долгая мучительная смерть) и предложила деньги за ту же услугу. Монеты были чёрные и стёртые, но всё равно какой-никакой барыш. Оторванная половица оказалась вовсе не оторванной, а когда её всё-таки оторвали, под ней обнаружился не клад, а говно. Братья ничуть не удивились и не опечалились, поскольку теперь у них было прибыльное ремесло. Накануне каждой казни Боб и Джек отправлялись на новую службу: в Ньюгейтскую тюрьму. Освоились они в ней далеко не с первого раза. Для начала мальчиков поставило в тупик название. Воротами в их окружении называли калитку из жердей, через которую люди попадают в свиной загон, не прыгая через изгородь. Не то чтобы её трудно было перемахнуть, но спьяну это чревато падением, а упавшего неровён час заедят свиньи. Так что ворота они знали. Теперь выяснилось, что в некоторых частях Лондона есть большие здания, в названии которых присутствует слово «гейт», то есть «ворота»: Лудгейт, Мургейт, Бишопсгейт. Они даже несколько раз проходили через Олдгейт. Связь между этими воротами и калитками свиных загонов оставалась загадочной. Ворота в свинском смысле – не ворота, если не встроены в стену, плетень или какую-нибудь другую преграду, для прохода через которую служат. Однако лондонские здания, называемые «воротами», под такое описание не подходили. Они стояли на главных улицах, ведущих в город, но тот, кто не хотел через них идти, как правило, легко находил обход. Относилось это и к Ньюгейту. Он представлял собой две могучие крепостные башни по двум сторонам дороги, которая, войдя в город и миновав Флитскую канавку, получала название Холборн. Между башнями дорога сужалась, так что в арку еле-еле проезжала карета четвернёй. Сверху их венчали сооружение наподобие замка и решетка из прутьев толщиною с Джекову ногу. Решетка опускалась, перегораживая проход. Однако это была одна показуха. Порыскав в соседних закоулках, Джек или кто другой мог в полминуты оказаться по ту сторону. Ньюгейт окружали не стены и не крепостные валы, а самые обыкновенные, то есть фахверковые двух или трехэтажные дома, которые в Англии о ту пору росли часто, как грибы. Готическая крепость Ньюгейта торчала над ними, словно кость из корзины с хлебом. Если вы входили в город по Холборну и ныряли под решетку в арку Ньюгейта, то видели справа дверь в привратницкую, где арестантов заковывали в цепи. Ещё через несколько ярдов вы оказывались на открытом пространстве, называемом Ньюгейт-стрит. Справа вы видели мрачные старые здания в три-четыре этажа высотой с редкими зарешеченными окошками. По слухам, когда-то здесь располагались гостиницы для въезжающих в город по Холборну. Однако за несколько столетий тюрьма расползлась по Ньюгейт-стрит, как гангрена, и поглотила несколько таких зданий. Двери, некогда гостеприимно встречавшие усталого путника, были теперь заложены кирпичом. Осталась одна, в перемычке между крепостью и прилегающими гостиничными зданиями. Пройдя в неё, посетитель мог свернуть направо в «базарню» или, если у него была свеча (ибо он сразу оказывался в темноте), спуститься по лестнице в тот или иной подвал либо каземат. Всё зависело от того, к кому он пришёл. В свой первый визит Джек и Боб пришли без свечи и без денег, чтобы её купить. Они вслепую спустились в помещение с каменным полом, где что-то хрустело под ногами. Здесь было не продохнуть, и через несколько мгновений слепой паники братья выбрались наверх и выбежали на Ньюгейт-стрит. Тут Джек заметил у себя на ногах кровь и решил, что они прошли по битому стеклу. Боб тоже обнаружил кровь на ступнях, но поскольку в отличие от Джека был обут, сразу догадался, что она – чужая. Внимательно осмотрев подмётки башмаков, братья разрешили загадку: кровь застыла не потёками, а маленькими пятнышками наподобие клякс. В центре каждой кляксы пристала раздавленная блоха. Это объясняло хруст, который они слышали, когда шли. Как вскоре узнали братья, это помещение называлось каменный мешок или блошница и считалось худшей камерой в тюрьме. В неё бросали преступников самого низкого разряда вроде покойного Джона Коула – тех, у кого совершенно не было денег. Джек и Боб никогда больше туда не ходили. За несколько следующих визитов братья узнали про другие помещения: «стряпную Джека Кетча», «журильню» (которую они обходили стороной), тюремную церковь (аналогично), привилегированные камеры, в которых самые богатые арестанты распивали кларет и портвейн с облачёнными в парики посетителями, таверну «Чёрный пёс», где избранные заключённые бойко торговали свечами и выпивкой – здесь были рады любому, у кого в кармане есть хоть несколько монет. Внутри всё выглядело как в обычной таверне, если не считать цепей на посетителях. Короче, в Ньюгейте было на что посмотреть и о чём поговорить позже. Однако братья проделывали долгий путь с Собачьего острова не из праздного любопытства. Их вело сюда дело. Они искали клиентов и, как правило, находили. Ибо в самой крепости, в подвале башни на северной стороне улицы, располагался просторный каземат под названием «яма смертников». Здесь главное было подгадать день. Повешения проходили восемь раз в году. Все остальное время никаких смертников в яме не было. Сюда помешали всех арестантов без разбора после того, как на другой стороне улицы освобождали от верёвок и заковывали в цепи, которые им предстояло носить до выхода из тюрьмы. Закованных в железо, так что они едва могли ступить шаг, новичков волокли в яму и оставляли в темноте на несколько дней или недель. Целью было выяснить, сколько у них денег на самом деле. Если деньги были, арестанты вскоре предлагали их тюремщикам за цепи полегче или даже за уютную камеру в привилегированной части Ньюгейта. Если денег не было, их переводили куда-нибудь еще, например, в блошницу. Если посетить яму смертников в любой случайно выбранный день, там скорее всего оказались бы закованные в тяжёлые цепи новички, которые Джека и Боба не интересовали, по крайней мере пока. Братья приходили туда за несколько дней до казни, когда в яме смертников сидели люди, действительно приговорённые к виселице. Перед ними Шафто разыгрывали спектакль. Незадолго до их рождения король вернулся в Англию и разрешил запрещённые при Кромвеле театры. Шафто залезали в театры через окна и набирались у актёров умения говорить и двигаться. Выступление в Ньюгейте начиналось с небольшой пантомимы: Джек пытался обчистить Бобу карманы. Боб оборачивался и ловил его за руку. Джек закалывал его деревянным кинжалом, и Боб умирал. Потом (действие II) Боб вскакивал и превращался в блюстителя порядка: заламывал Джеку руку за спину (действие III), надевал парик (который они с немалым риском стащили из борделя неподалеку от Темпла) и приговаривал его к смерти. Затем (действие IV) Боб снимал парик, надевал чёрный балахон и набрасывал Джеку петлю на шею. Джек взмахом руки требовал тишины (ибо к этому времени в яме смертников уже царило столпотворение), складывал руки, как маленький ирландец перед первым причастием, и (действие V) произносил следующий монолог: На выю мне Джек Кетч вервие возложил, Грубое и жесткое, оно меня не тяготит. Ибо, подобно ожерелью Гармонии, Вводит носящего в жизнь вечную. Палач грядёт – меня он сейчас вздёрнет И душу мою от бренного тела отделит, А как я с Создателем моим примирился, Дух мой к вратам райским воспарит, И здесь, после недолгих расспросов, Христос… Боб делает шаг вперёд, толкает Джека и резким движением поднимает верёвку над его головой. КХХ! Раны Господни! Удавка меня душит! Какой мерзавец выдумал эту казнь! Надо было подмазать Джека Кетча Чтоб он мою смерть ускорил, Да столько знатных цареубийц Вешают нынче на Тайберне, Что стоимость быстрой смерти выросла непомерно, И бедняку стала совершенно не по карману. Теперь он умрёт так же горько, Как жил. Будь оно всё проклято! Будь проклят Джек Кетч, и покойный Джон Тернер, И судьи, отправляющие на виселицу столько богачей, Что цены взлетели до небес. И будь проклята моя скупость! Ведь за цену чуть больше одного вечера в пивной Я мог бы нанять двух превосходнейших братьев Шафто, Юного Джека и Боба, старшего, Чтобы они повисли на моих ногах, которые, без груза, Дергаются в воздухе самым бесполезным образом На потеху зрителям. Боб снимает верёвку с шеи Джека. Но тише! Близится финал! Земля тает – новый мир очам моим предстаёт. Неужто это небо? Меня обдает теплом, Как будто на земле развели жаровню. Быть может, это жар Божественной любви… Появляется Боб, наряженный чёртом, с острым железным прутом. Что зрю? Почему у ангела на голове рога? Где твоя арфа, тёмный серафим? Зачем в твоих когтистых лапах пика, не то вертел? ЧЁРТ: Я чёрт-поварёнок. Иди-ка сюда, грешник! ДЖЕК: Я думал, будто примирился с Богом. Так и было, покуда я не закачался в петле. Если бы я умер сразу, то стоял бы сейчас у райских врат. Однако в минуты последних мучений Я имя Господне всуе помянул И без счёта других смертных грехов натворил И тем себя на адскую муку обрёк. ЧЁРТ: Стой, не рыпайся! Чёрт втыкает вертел Джеку в зад. ДЖЕК: О, боль!.. И всё ж это лишь предвестие грядущих терзаний! Если б только я нанял Джека и Боба! Джек при помощи циркового фокуса выталкивает изо рта окровавленный конец вертела; черт уводит его под оглушительные рукоплескания и топот толпы. Когда аплодисменты стихали, Джек обходил приговорённых, сговариваясь о цене, а Боб как старший прикрывал его со спины и собирал денежки. Континент конец лета 1683 года Когда женщина остаётся, таким образом, в одиночестве, лишенная советов, она как две капли воды похожа на кошелёк с деньгами или драгоценный камень, оброненный на большой дороге и попадающий в руки любого прохожего. Всю весну и всё лето Джек внимательно наблюдал за погодой: она стояла отменная. Он жил в Страсбурге в непривычной роскоши и довольстве. Этот город на Рейне, прежде немецкий, недавно отошёл Франции. Страсбург лежал к югу от страны, которая звалась Пфальц и, насколько Джек понял, являла собой вшивый клочок земли на берегу Рейна. Всякий раз, как войска императора или солдаты французского короля не могли найти себе другого занятия, они жгли и разоряли этот край, одни с востока, другие с запада. Правитель Пфальца звался курфюрстом и был повыше герцога, поменьше короля, короче, по тем временам очень большая шишка. До недавних пор курфюрсты Пфальцские считались весьма знатным и процветающим семейством с кучею взрослых отпрысков; однако поскольку лишь один из них (старший) мог унаследовать трон, остальным пришлось найти себе дело за границей или погибнуть более или менее героически. Потом курфюрст приказал долго жить, и на престол вступил его слабоумный сын Карл, который любил устраивать потешные бои вокруг Рейнского замка, ни на что другое не годного. Бои были игрушечные, но апроши, параллели, дизентерия и гангрена – самые настоящие. Джек несколько лет подвизался в качестве подставного солдата во Франции; затем некий Мартине, проведя во французской армии множество нудных реформ, прикрыл эту лавочку. Как только Джек услышал про тронутого курфюрста, он, не теряя времени, перебрался в Пфальц и устроился на хлебное место потешного мушкетёра. Вскоре после этого Людовик XIV Французский прибрал к рукам Страсбург, и там, как частенько случается в разграбленных городах, вспыхнула чума. Едва у бедных в паху и под мышками начали появляться бубоны, богатые страсбуржцы заколотили дома и дали дёру в деревню. Многие просто грузились на лодки и отправлялись вниз по Рейну; течение естественным образом выносило их к старому развалюхе-замку, возле которого Джек (и его товарищи) изображали оловянных солдатиков на потеху придурковатому курфюрсту. Некий богатый страсбуржец, сойдя с лодки, завязал разговор не с кем иным, как с Джеком Шафто. Вообще-то богачи редко разговаривали с такими, как Джек, и тот недоумевал, пока не заметил, что собеседник во всё время разговора старательно держится с наветренной стороны. Богач заключил с Джеком Шафто сделку и выправил ему «чумной пропуск»: огромный документ, написанный немецким готическим шрифтом со вставками на чем-то напоминающем латынь (когда следовало упомянуть милость Божью) или французский (чтобы лизнуть задницу королю Лую, стоявшему лишь на одну ступеньку ниже Всевышнего)[2]. Помахивая пропуском в нужных местах, Джек сумел исполнить свою миссию, то есть добраться до Страсбурга, найти дом богача, смыть красные кресты, отмечающие его как зачумлённый, оторвать доски от окон и дверей и поселиться внутри с тем, чтобы не пускать мародёров. Через несколько недель по условиям сделки Джек должен был, если не умрёт от чумы, известить владельца, что тот может спокойно возвращаться домой. Первую часть поручения Джек завершил к маю, но к началу июня как-то запамятовал про остальное. Примерно в середине июня появился другой оборванец. Богач нанял его вынести тело Джека, чтобы не плодить крыс, поселиться в доме и через несколько недель (если не умрёт от чумы) прислать весточку. Джек, который устроился в хозяйской спальне, поселил гостя в детской, показал ему винные погреба и предложил чувствовать себя как дома. В конце июля явился ещё один бродяга и сказал, что ему поручено вынести трупы первых двух, и так далее, и тому подобное. Всю весну и всё лето погода стояла идеальная: дождь и солнце в соотношении, благоприятном для урожая. Бродяги свободно мотались по Страсбургу, обходя стороной груды разлагающихся чумных трупов. Джек выискивал тех, кто пришёл с востока, и поил их хозяйским коньяком. Из сбивчивых разговоров на воровском жаргоне он извлёк два существенных факта: во-первых, в Польше и Австрии погода такая же, если не лучше. Во-вторых, великий визирь Кара-Мустафа во главе двухсоттысячного турецкого войска по-прежнему держит в осаде Вену. В сентябре Джек и его товарищи вынуждены были покинуть богатый дом. Джек нимало не опечалился: долго изображать покойника бродяге-вагабонду не с руки. К той поре население дома разрослось до полутора дюжин человек, по большей части нудных, да и подвалы начали пустеть. В одну прекрасную ночь Джек велел распахнуть ставни, зажечь свечи и устроил великий бал бродяг. Бродяги-музыканты играли на дудочках и свистульках похабные песенки, бродяги-актёры разыгрывали комедии на арго, бродячие псы спаривались в домовой церкви, а Джек, в хозяйских шелках, едва не заснул во главе стола. Однако даже сквозь звуки веселья он различил цокот приближающихся копыт, звук вынимаемых из ножен шпаг и взводимых кремневых замков. Покуда слуги богача вышибали дверь, Джек взлетел на второй этаж и по верёвке, которую заблаговременно привязал к балкону, соскользнул точнёхонько в седло, ещё тёплое от жирного хозяйского зада. Он проскакал до кладбища на окраине города, где нарочно на такой случай припрятал запас провизии, и отправился дальше с приличным запасом вяленой рыбы и сухарей. Он ехал на юг всю ночь, пока лошадь не выбилась из сил, потом бросил дорогое седло в канаву, а саму лошадь отдал паромщику за переправу через Рейн. На другом берегу Джек отыскал Мюнхенскую дорогу и зашагал на восток. Убирали ячмень, и большая часть урожая отправлялась туда же, куда и Джек. На подводах с ячменём он добрался до Неккара и Дуная, уверяя купцов, будто хочет вступить в христианское воинство и сразиться с ненавистными турками. Это была не совсем ложь. Джек с братом Бобом воевали в Нидерландах под командованием Джона Черчилля, состоявшего при герцоге Йоркском. Йорк много времени проводил за границей, поскольку был католиком и вся Англия его ненавидела. Однако со временем он всё же вернулся домой. Джон Черчилль последовал за ним, и Боб, более верный солдат, чем Джек, отправился с Черчиллем. Джек остался на Континенте, где больше стран, больше королей и больше войн. Справа, вдалеке, виднелись большие тёмные холмы. Когда за несколько дней они не сдвинулись с места, Джек понял, что это – горы. Он пристал к каравану подвод, принадлежащих богатому аугсбургскому купцу, который, возмутившись низкими ценами на мюнхенском рынке, решил отвезти ячмень ближе к тому месту, где он понадобится. День за днём они ехали по зеленой холмистой местности, на которой жнецы убирали ячмень. Церкви здесь, разумеется, были всё сплошь католические, с необычными куполами-луковками на тонких башнях. Горы росли и росли. Наконец путники добрались до реки Зальцах, рассекающей горный массив. С высоких круч в долину смотрели церкви и замки. Вереницы телег с ячменём соединялись в единый поток и вливались в войско Римского Папы, а также Баварии и Саксонии. Парад растянулся на много миль: дворяне-добровольцы с крестами на одежде, как у крестоносцев древности, епископы и архиепископы, рейтерские полки, бьющие в землю, как в бубен. У каждого всадника была cheval de bataille, свежая cheval de marche или две, cheval de poursuite, чтобы преследовать оленей или турок, cheval de parade для торжественных случаев и грумы, чтобы за всеми ими ухаживать. За конницей следовали мушкетёры, а за ними – мутная пена босоногих пикинёров. Двадцатифутовые пики они несли на плечах, так что полки их походили на благодушных, прижавших иголки дикобразов. Здесь аугсбургский купец нашёл наконец рынок сбыта и мог бы продать ячмень с солидным барышом. Однако зрелище христианского воинства на марше распалило в нём разом и корысть, и благочестие. Ему захотелось ехать дальше, увидеть, какие ещё чудеса лежат на востоке. Подобным образом и Джек, сравнив лохмотья и босые ноги пикинёров со своим краденым дорожным платьем и отличнейшими ботфортами, рассудил, что ближе к Вене сумеет заключить сделку повыгоднее. Поэтому они влились в основной поток и короткими переходами двинулись к Линцу, где (по словам купца) ожидалась очень большая Messe. Джек знал, что «Messe» по-немецки «месса», и подумал, будто герр Аугсбург собирается посетить обедню в линцском кафедральном соборе. В Линце они увидели южный берег Дуная. Взглядам предстало огромное торжище, на котором расположился воинский стан – и никакого собора. «Die Messe!» – воскликнул герр Аугсбург, и тут Джек понял одну особенность немецкого языка: в нем довольно мало слов, поэтому одно частенько используется для нескольких разных понятий. «Messe» означало не только мессу, но и ярмарку. Ещё одно войско пришло с севера и теперь струйками перетекало по линцским мостам с той стороны Дуная. Паромщики день и ночь сновали от берега к берегу, перевозя пушки, порох, фураж, провиант, лошадей и солдат. Джек мог связать пару слов на немецком, сносно калякал по-французски и, разумеется, знал английский и воровской жаргон. Люди, прибывшие с севера, говорили на каком-то совершенно ином языке; он не мог угадать, шведы это, русские или кто-то ещё. Однако внезапно над мостами и лодками раскатились приветственные крики, и под грохот копыт из лесов на севере показалась конница, равных которой Джек не видел ни в Англии, ни в Голландии, ни во Франции. Во главе её ехал человек, который мог быть только королём. Не то чтобы Джек впервые видел монарха: во время парадов он вдоволь насмотрелся на короля Луя. Однако Луй просто кривлялся, как поганый фигляр в Саутуорке, разыгрывая короля-воителя. Северянин же не ломал комедию; он въехал на мост с видом суровым и грозным, сулящим лихие дни великому визирю Кара-Мустафе. Джеку захотелось выяснить, кто это. Наконец он отыскал кого-то, немного говорящего по-французски, и узнал, что смотрит на войско Речи Посполитой, грозный король – Ян Собеский, заключивший с императором союз против турок, а могучая конница зовётся крылатыми гусарами. Когда Ян Собеский и крылатые гусары переправились через Дунай, прослушали мессу в религиозном смысле и суматоха несколько улеглась, герр Аугсбург, торговец ячменем, и Джек Шафто, солдат-бродяга, прикинули последствия лично для себя. Две или (по слухам) три могучие конницы стояли сейчас под Линцем. То был авангард куда более многочисленных мушкетёрских и пикинёрских частей, равно нуждавшихся в пище. Провиант везли на телегах, запряженных лошадьми. Армия была бы бесполезна без пушек, а их тоже тащили лошади. Короче, для герра Аугсбурга это означало самую большую и выгодную в мире Messe ячменя. Цены были втрое выше, чем до переправы через Зальцах, и вдесятеро выше, чем в Мюнхене. Герр Аугсбург, дождавшись своего часа, теперь ждал, чьи фуражиры дадут больше – Собеского, баварцев, саксонцев или австрияков. Джек, со своей стороны, понял, что такая великолепная конница, как крылатые гусары, не просуществовала бы и дня без огромного числа исключительно бедных крестьян и что удерживать в столь крайней бедности такое множество крестьян может лишь беспримерная жестокость польской знати. И впрямь, после красочной переправы Собеского через Дунай из лесов серым туманом выползли и осели на дальнем берегу какие-то несчастные. Джек не хотел быть одним из них. Поэтому он разыскал герра Аугсбурга, который сидел на телеге из-под ячменя в окружении переводных векселей на торговые дома Генуи, Венеции, Лиона, Амстердама, Лондона и Севильи, наваленных под самые борта телеги и придавленных камнями. Взобравшись на телегу, Джек-солдат на четверть часа превратился в Джека-актёра. На ломаном французском, который герр Аугсбург более или менее понимал, он поведал о грядущем светопреставлении под стенами Вены и своей готовности… нет, страстном желании полечь в самой его гуще. Если будет на то воля Божья, он сумеет прихватить с собою хоть одного турка или, на худой конец, нанести тому рану заострённой палкой либо иным подручным орудием, дабы упомянутый турок замешкался, и другой христианский воин, вооружённый настоящим мушкетом, сумел прицелиться в сказанного турка и уложить его насмерть. Всё это было обильно приправлено поповскими словечками и псевдобиблейскими цитатами, которые Джек якобы помнил из Книги Откровения. Желаемый эффект был достигнут: герр Аугсбург, дабы внести свой вклад в грядущий Армагеддон, отправился с Джеком к оружейнику в центре Линца, где и приобрел ему мушкет с различными необходимыми принадлежностями. Экипированный таким образом Джек отправился в австрийский полк и предложил свои услуги. Капитан с равным пристрастием оглядел его мушкет и ботфорты. И то, и другое произвело впечатление. Как только Джек показал, что действительно умеет заряжать мушкет и стрелять, его зачислили в полк. Так Джек стал мушкетёром. Следующие две недели он провёл, глядя в спины другим людям и ступая по земле, прибитой тысячами людей и коней. В ушах стояли топот ног и цокот копыт, скрип перегруженных телег с ячменём, бессмысленные возгласы погонщиков, строевые песни на незнакомых языках, звуки труб и барабанов, которыми полковые музыканты пытались не дать мыслям мушкетёров смешаться с мыслями иноплеменников. На Джеке была серовато-бурая фетровая шляпа с огромными полями, которые надо было подкалывать, чтобы не хлопали и не падали на глаза. У более состоятельных мушкетёров имелись для этого роскошные пряжки с перьями; Джек обходился булавкой. Как все английские мушкетёры, Джек называл своё ружье Бурая Бесс. Оно было наиновейшей конструкции: в замке помещался небольшой зажим с кремнем; когда Джек нажимал на спуск, кремень ударял об огниво – стальную пластину над полкой, высекал из неё искру и в большинстве случаев воспламенял порох. У половины мушкетёрских полков ружья были старые, с фитильным замком. Каждый такой стрелок должен был таскать намотанный на пальцы фитиль, который постоянно тлел – если, разумеется, не намокал и хозяин не забывал время от времени его раздувать. Зажатый в механизм вроде того, что у Джека держал кремень, фитиль этот при нажатии на спуск касался полки и более чем в половине случаев воспламенял порох. В роте было сотни две таких, как Джек, и двигались они плотным каре – не потому, что любили тесноту, а чтобы неприятелю было труднее на полном скаку врезаться в их ряды. Труднее, потому что в центре каре размешалось другое каре, поменьше, из солдат с длинными палками, которые звались «пики». Размеры каре и длина пик были подобраны так, чтобы выставленные между мушкетёрами пики выдавались вперёд и не позволяли вражеским кавалеристам порубить мушкетёров, покуда те заряжают, – это священнодействие занимало времени примерно столько же, сколько месса[3]. Такова была общая схема. Что именно произойдёт, когда турки натянут луки и начнут осыпать каре острыми стрелами, не уточнялось. От самого Линца Джек шагал в середине такой роты. Она издавала различные звуки, по большей части производимые определённой частью экипировки, например, деревянными пороховницами. В отличие от рот, вооружённых фитильными мушкетами, рота Джека не дымилась и не пыхтела на ходу, раздувая фитили. Они свернули прочь от Дуная, и стройные ряды смешались – войско штурмовало теперь отроги горного хребта. Барабаны и трубы, глухо звучавшие в лесах, эхом раскатывались в долинах; полки то и дело рассыпались, ища проходы в холмах. Джек часто терял ощущение сторон света, а когда не терял, то чувствовал, что поляки слева, баварцы и саксонцы – справа. По сравнению с английскими холмами эти были выше, круче и густо поросли лесом. Зато между ними лежали широкие долины, удобные для марша, да и подъём, когда случалось переваливать через холмы, оказывался легче, нежели представлялось снизу: деревья на склонах были высокие, с голыми белыми стволами, а всю остальную растительность успевали вытоптать идущие впереди. О том, что войско подошло к Вене, Джек догадался по тому, что они встали лагерем. Бивуак разбили в узкой долине, где солнце всходило поздно и пряталось рано. В некоторых его соратниках ощущалось явное нетерпение. Джек видел, что христианское воинство превратилось в огромную машину по переработке ячменя в конский навоз и что ячмень на исходе. Что-то должно было вскоре произойти. После того, как они простояли бивуаком два дня, Джек до зари незаметно выскользнул из лагеря и взобрался на холм – отчасти из желания продохнуть от нестерпимой лагерной вони, отчасти чтобы взглянуть на город с птичьего полёта. Алый рассвет нащупывал путь между белыми стволами. Джек взобрался на высокий уступ. Вся местность лежала перед ним как на ладони. Вена была маленьким городком и казалась ещё меньше из-за оборонительных сооружений, которые, в свою очередь, охватывали турецкое поселение всего нескольких месяцев от роду. Таким образом, город как таковой составлял лишь малую часть представшей Джеку картины, но при этом самую главную, словно потир в пустой огромности собора. Даже за мили Джек видел, какой это жалкий городишко. Улиц было не разглядеть, они лишь угадывались по чёрным провалам между красными черепичными крышами шести-семиэтажных зданий. Джек легко представлял себе эти гулкие вонючие колодцы, в которые никогда не заглядывает солнце. Он видел, как нечистоты мутной пеной плывут по каналу в Дунай, и по их цвету мог почти наверняка определить эпидемию дизентерии, которая и впрямь косила в то время турецкий лагерь. Чуть в стороне от центра Вены стояло самое высокое здание из всех, какие Джек повидал на своём веку, – собор с коническим шпилем, похожим на островерхий колпак. Его венчал странный символ: звезда, зажатая в полумесяце, словно палка в акульей пасти[4]. Он казался пророческим изображением происходящего. С севера Вену подобием рва защищал канал, отходящий от Дуная. Мосты разрушили, чтобы никто не мог войти по ним в город или выйти из города. С остальных сторон Вену охватывал турецкий стан, сужающийся к реке, а в середине достигающий размеров самого города. То был колеблемый ветром мир шатров, стягов и вымпелов; сожжённые пригороды Вены торчали из него, словно остовы разбитых кораблей из пенного моря. Между турецким лагерем и христианским городом лежала полоса того, что профан счёл бы пустой (хоть и странным образом взрытой) землей. Джек, не новичок в ратном деле, мог, сощурясь, вообразить, что она прочерчена линиями зрения, траекториями ядер и другими фантазиями сапёров так же густо, как пространство над корабельной палубой – натянутыми снастями. Ибо в коридоре между лагерем и крепостью царили сапёры; любой, вступивший туда, убедился бы в этом за время, потребное пуле, чтобы пролететь от шатров до стен. Подобно тому, как франки и турки выработали свои стили в зодчестве, так и сапёры вновь и вновь повторяли один и тот же архитектурный канон: зигзагообразные наклонные валы, укреплённые землей (чтобы гасить ядра), с бастионами по углам. Да, у Вены укрепления были старые – каменные зубчатые стены. Однако они представляли собой исторический курьёз, окружённый и посрамлённый новейшими сапёрными сооружениям. За собором стояло единственное здание в Вене, на которое стоило посмотреть, – большое, бежевое, с множеством окон, пятиэтажное, выстроенное у самой стены, но куда более высокое, с флигелями, охватывающими невидимый двор. Очевидно, императорский дворец. Высокую крышу со множеством мезонинчиков венчали смешные, крытые медью купола, похожие на островерхие шлемы. В каждом мезонине было крохотное окошко, и Джеку показалось, что из одного выглядывает фигурка в белом. Ему захотелось совершить что-нибудь необыкновенное: спасти принцессу, получить награду… Однако между ним и фигуркой в белом лежала преграда, а именно: перед дворцом на гласис исполинским лемехом выдавался бастион, и против него-то великий визирь бросил свои силы. Очевидно, турки слишком торопились, чтобы тащить осадную артиллерию через всю Венгрию, поэтому разрушали труды сапёров постепенно, лопата за лопатой. На фоне геометрически правильных оборонительных сооружений работа турок выделялась как кротовина на герцогском поле для игры в шары. Прежде безупречный гласис покрылся лабиринтом траншей. Каждая была окружена выброшенной землёй, отчего походила на вздувшуюся воспалённую рану. Некоторые тянулись к императорскому дворцу от самого турецкого лагеря; но то были траншеи-проспекты; траншеи-улицы отходили от них слева и справа, по большей части параллельно городским стенам, подобно перекладинам горизонтальной лестницы, по которой турки взбирались, покуда не достигли первого равелина – заострённого вала между бастионами. Здесь осаждающие подвели под равелин подкоп, заложили туда порох и взорвали, образовав осыпи, словно восковые потёки на свече. Через эти осыпи проложили свежие траншеи, чтобы обстреливать городские стены, защищая сапёров и минёров, покуда те, параллель за параллелью, подбирались к сухому рву. Теперь турки таким же образом подбирались к бастиону перед дворцом. Однако то была постепенная война, она развивалась, словно дерево, врастающее в каменную ограду, и в данную минуту ничего не происходило. Джека, впрочем, занимал другой вопрос: где будет пожива побогаче. Он выбрал несколько перспективных целей в турецком лагере и в самой Вене и запомнил кое-какие ориентиры, по которым сможет отыскать их в дыму и сумятице сражения. Когда он повернулся, чтобы идти, то заметил, что рядом есть и другой человек, на вершине камня; не то монах, не то отшельник в грубой дерюге. Неизвестный вытащил меч – именно меч, а не шпажонку, какими щеголи тычут друг друга на улицах Парижа или Лондона, – двуручный, с прямой перекладиной вместо эфеса, пережиток крестовых походов; таким Ричард Львиное Сердце мог рубить верблюдов на улицах Иерусалима. Он опустился на одно колено, причём истово и сноровисто. Когда богач преклоняет колени в церкви, у того уходит на это минуты две или три: слышно, как хрустят суставы, и слуги поддерживают его под локти – неровен час упадёт. Однако этот человек непомерных обхватов опустился на колено легко, даже страстно, если такое возможно, и, обратясь лицом к Вене, вонзил меч в землю подобием стального креста. Утреннее солнце било в заросшее щетиной лицо и дробилось на каменьях, украшающих рукоять. Человек склонил голову и забормотал на латыни. Рука, не державшая меч, перебирала чётки. Джек понял, что пора уходить, но, прежде чем повернуть прочь, он узнал в коленопреклонённом человеке с мечом короля Яна Собеского. Позже раздали выпивку, ибо воинская аксиома гласила: пьяный солдат лучше трезвого. Теперь наёмникам было по крайней мере на что играть, и они живо вытащили из карманов карты и кости. В итоге Джек опрокинул полдюжины порций бренди, а товарищам по оружию осталось лишь коситься на него с подозрением и злобно ругаться на своём тарабарском языке. Однако тут снова запели трубы, забили барабаны, и все вскочили на ноги (Джек – с трудом). Ещё несколько часов они шагали, глядя в спины впереди идущих, а горизонт со всех сторон щетинился штыками и пиками. Словно буря, налетевшая с гор, роты и полки сыпались из леса в расселины, по расселинам в долины, сливались в чёрный гремящий поток и пеною выплескивались на равнину, чтобы волной устремиться к Вене. Артиллерия открыла огонь, сперва с одной стороны, затем и с другой. Однако если кого-то и косила турецкая картечь, рядом с Джеком ничего такого не происходило. Мушкетёры ускоренным маршем вошли из жаркого воздуха в клубы пыли, затем в сплошную дымовую занесу. Тут земля задрожала под ногами, ряды сбились, налетая друг на друга, дым заклубился и разошёлся. Блеснули, проносясь мимо, золото и медь. Справа от них Ян Собеский во главе крылатых гусар устремился в атаку на турок. Долго после того, как польская конница скрылась из глаз, на мушкетёров сыпались комья земли. За поляками на поле сражения образовался пустой коридор, и внезапно Джек увидел, что перед ним никого нет. Ярд свободного пространства манил словно кружка пива. Джек невольно рванулся вперёд, остальные – за ним. Строй рассыпался, солдаты из самых разных полков неслись по земле, прибитой польской кавалерией. Джек бежал не только чтобы поспеть к грабежу, но и чтобы его не затоптали задние. Он прислушивался, не раздастся ли впереди турецкая канонада или топот отступающей конницы, но ничего такого не слышал. Мушкеты палили вразнобой, а не залпами, как в организованной атаке. Джек едва не споткнулся об отрубленную руку и заметил, что она одета в чудную восточную ткань. За руками начались тела – в кольчугах с драгоценными бляшками и золотыми звёздами. Его соратники при виде убитых турок закричали: «Ура!» Теперь все бежали сквозь дым и пыль по городу, который, как знал Джек, был поменьше Лондона, хотя куда больше, скажем, Страсбурга или Мюнхена. Город этот состоял из шатров – огромных конусов, растянутых на центральных столбах цветными верёвками, с пологами вместе стен. Шатры были не из грубой холстины, а из узорчатых тканей, расшитых звёздами, полумесяцами и затейливой вязью. Джек вбежал в такой шатер и оказался на густом ковре с узором из перевитых цветов. Прямо перед ним сидела кошка размером с волка, золотисто-пятнистая, в драгоценном ошейнике, прикованном цепью к центральному столбу. Джек никогда не видел кошки, которая могла бы его съесть, поэтому выскочил из шатра и побрёл дальше. На пересечении улиц он увидел фонтан, где плавали золотые рыбки. Избыток воды, стекая в канавку, орошал сад, засаженный душистыми белыми цветами. Дерево росло в горшке на колёсах, на ветках его сидели изумрудно-зелёные и рубиново-красные птицы с загнутыми клювами; они осыпали Джека затейливой бранью на неведомом ему языке. Мертвый турок с огромными нафабренными усами и в тюрбане абрикосового шелка лежал в мраморной ванне, наполненной кровью. Мушкетёры и пикинёры бродили вокруг, настолько ошеломленные, что даже не приступили к грабежу. Джек споткнулся, упал физиономией на красную ткань и, встав, понял, что это алое знамя двадцати футов длиной, расшитое золотыми саблями и неведомыми письменами. Знамя было большое – не унести, – и Джек, оставив его лежать, побрёл дальше. Между шатрами валялись складные фонари, серебряные курильницы, мушкеты с прикладами, инкрустированными перламутром, лазуритом и золотом, ручные гранаты, тюрбаны с драгоценными пряжками, осадные мортиры и снаряды для них, опутанные паутиной фитилей. Бунчуки с длинными кистями из конского волоса скалились, словно мертвецы, бронзовыми полумесяцами наверший. Попадались расшитые колчаны и брошенные шомпола, стальные и деревянные. Баварцы с фитильными ружьями ошалело бегали взад-вперёд, фитили, раздутые ветром, алыми искорками подпрыгивали в дыму, оставляя за собой волнистый след более плотного дыма. Тут послышался конский топот, и Джек, развернувшись, уставился в лошадиную морду, убранную дорогой уздечкой. Всадник в крылатом шлеме что-то говорил Джеку на языке, в котором тот уже научился узнавать польский. Крылатый гусар держал поводья второй лошади, cheval de bataille, в убранстве столь же роскошном, но совершенного иного стиля, не с крестами, а с полумесяцами. Вероятно, то был боевой конь какого-то знатного турка. Поляк совал Джеку поводья и что-то выкрикивал на своём шипящем, заносчивом языке. Джек протянул руку и взял лошадь под уздцы. Что дальше? Хочет ли гусар, чтобы Джек сел на лошадь и поскакал с ним? Вряд ли! Он указывал на землю и повторял одни и те же слова, пока Джек не кивнул, притворяясь, будто понял. Наконец гусар вытащил саблю, указал Джеку в грудь, сказал что-то очень невежливое и ускакал прочь. Теперь до Джека дошло: крылатый гусар собирается награбить сегодня очень много добычи. Конь ему достался в самом начале дня. Это был достойный трофей, но изрядная помеха, если вести его в поводу. Привязать к дереву нельзя – сведут. Поэтому он высмотрел вооруженного холопа (для поляка все, кто не в седле, – холопы) и завербовал в качестве живой коновязи. Делом Джека было стоять и держать поводья, если потребуется – весь день. Джек еле-еле успел осознать всю фундаментальную несправедливость этого плана, когда прямо на него выбежало какое-то животное и, круто повернув, унеслось прочь. Животное было невероятно чудное, прямо как из Книги Откровения, – двуногое и в перьях, следовательно, птица, однако выше человека и, судя по всему, нелетающая. Бежала она, как курица, дергая для равновесия головой. Шея была длинная и голая, как Джекова рука, и вся в морщинах. Птицу преследовала небольшая толпа пехотинцев. Джек понятия не имел, что это за исполинская нелетающая птица. Ему бы в голову не пришло за ней гнаться, разве что из любопытства. Однако увидев, что другие изо всех сил преследуют птицу, он почувствовал сильнейшее желание присоединиться к погоне. Раз преследуют, значит, не просто так. Может, она чего-то стоит или у неё вкусное мясо. Птица удирала очень быстро, плохо обутым пехотинцам было явно её не догнать. Джек, со своей стороны, держал под уздцы коня, причём (как он постепенно разглядел) превосходнейшего, под шитым золотом седлом, подобного которому никогда прежде не видывал. Крылатому гусару, вероятно, и в голову не пришло, что Джек умеет ездить верхом. В его краях смерд так же не способен гарцевать в седле, как говорить на латыни и танцевать менуэт. А ослушаться вооруженного шляхтича для него было ещё немыслимей, чем взобраться на лошадь. Однако Джек был не польское отребье, босоногое и прикованное к земле, и даже не французское отребье в деревянных сабо, задавленное попом и откупщиком, а английское отребье в отличных ботфортах, наделённое богоданными правами, которые (по слухам) записаны в какой-то там Хартии, и с заряженным мушкетом в руке. Он вскочил в седло что твой лорд, ловко поворотил коня, хлопнул его по крупу и взял с места в карьер. Через мгновение он уже промчался через толпу пехотинцев, которые гнались за гигантской птицей. Те могли рассчитывать лишь на то, что она забудет про преследователей и остановится. Джек не собирался этого допускать, поэтому каблуками ударил коня по бокам и направил его за птицей, чтобы та с перепугу припустила во все лопатки. Та и припустила, а Джек поскакал следом, оставив конкурентов далеко позади. Она улепётывала, балансируя короткими крыльями, словно канатоходец – шестом. Глядя сзади на эти крылья, Джек припомнил шляпы французской знати на военных парадах: они были украшены перьями… как же его?.. страуса. Причина весёлой погони прояснилась: страуса, коли его поймать, можно ощипать, а перья доставить на рынок, где торгуют экзотической роскошью, и обратить в серебро. Джек прикинул: если прочесать весь турецкий лагерь, можно найти трофеи побогаче, однако сейчас там мечется всё христианское воинство, и другие могут добраться до них раньше. Лучшая добыча достанется знатным людям на конях, мушкетёрам и пикинёрам предстоит драться из-за барахла. Перья – не самый богатый трофей в лагере, но лучше синица (точнее, страус) в руках, чем журавль в небе. Страусовые перья маленькие и лёгкие, их нетрудно спрятать от таможенников и пронести, если потребуется, хоть через всю Европу. А по ходу погони шансы только возрастали, поскольку страус бежал прочь от криков и суматохи, в ту часть турецкого стана, где ничего не происходило. Если бы только птица замедлила бег, чтобы прицелиться в неё из мушкета!.. Страус забил крыльями, вскрикнул и пропал. Джек, придержав поводья, осторожно направил коня вперёд и оказался на краю траншеи. Потом тряхнул уздечкой, ожидая, что конь заартачится, но тот бодро принялся спускаться в траншею, осторожно ставя копыта на разрытую землю. На дне траншеи виднелись свежие страусиные следы – Джек поехал по ним. Через каждые несколько ярдов траншею под прямым углом пересекали другие, поменьше. Ни у одной не было наклонного частокола из острых кольев; похоже, это не внешняя оборона турок против христиан. Следовательно, траншеи вырыты для осады. Дым и пыль висели так густо, что Джек не видел, впереди Вена или позади. Впрочем, по тому, с какой стороны от траншей были насыпаны земляные валы для защиты от пуль, любой дурак бы сообразил, где город. Страус бежал к Вене, Джек – за ним. Борта траншеи становились всё выше и круче. Начиная с какого-то места, их удерживали столбы и бревенчатые стены. Внезапно стены эти сошлись, образовав свод. Джек глядел в тёмный туннель, такой широкий, что трое конных могли бы въехать в него шеренгой. Он уходил в основание крутого холма, встающего над равниной, и Джек, подняв голову, различил изуродованную стену бастиона, а над ней – высокую крышу императорского дворца. Выходило, что это подкоп, который турки подвели под бастион в надежде к чёртовой матери его взорвать. Пол туннеля был замощён бревнами, вдавленными в землю весом воловьих упряжек, на которых вывозили землю и завозили порох. Страусиные следы вели в темноту. И впрямь, чего птице прятать голову в песок, если она может уйти под землю целиком, даже не пригибаясь? Джеку не хотелось ехать в туннель, но жребий был брошен: либо он догонит страуса, либо останется без трофеев. Как и следовало ожидать, у входа, в горшке со смолой, торчали факелы. Джек взял один, сунул в догорающие угли и, как только факел занялся, направил коня в туннель. Своды удерживались надёжными крепями. Туннель полого уходил вниз. Достигнув уровня грунтовых вод, он превратился в грязное болото. Дальше снова начался подъём. Впереди показались огни. Джек заметил на дне туннеля яркую струйку крови. Это включило тот зачаточный инстинкт самосохранения, которым он всё-таки обладал. Джек бросил факел в лужу и пустил коня медленным шагом. Свет впереди освещал пространство шире самого туннеля, какое-то помещение, вырытое под землей – где? Припомнив последние несколько минут, Джек сообразил, что покрыл порядочное расстояние – должно быть, проехал под бастионом или по меньшей мере добрался до городской стены. Приближаясь к свету (нескольким закреплённым на стене факелам), он заметил, что свежие турецкие крепи чередуются здесь с опорами, заложенными в землю столетия назад: просмолёнными сваями, кирпичной и каменной кладкой. Турки прорыли подкоп в фундамент чего-то грандиозного. Джек по ручейкам крови въехал в освещенное пространство и увидел несколько маленьких ярких палаток, которые по каким-то неведомым турецким мотивам разбили глубоко под землей. Некоторые стояли, другие лежали в грязи. Двое турок короткими сильными ударами рубили эти палатки. Страус стоял рядом, с любопытством склонив голову. Палатки падали, из них лилась кровь. В палатках люди! Их предают смерти одного за другим. Здесь страуса ничего не стоило уложить из мушкета, но выстрел наверняка привлёк бы внимание турок. То были могучие детины с красавцами-ятаганами, первые живые турки, которых Джек сегодня увидел, и единственные, представлявшие реальную угрозу для христиан. Джек предпочел бы с ними не связываться. Сабля врезалась в одну из цветных палаток, та вскрикнула женским голосом и умолкла после второго удара. Значит, все они женщины. Видать, один из тех самых гаремов, про которые столько болтают. Интересно, поверят ли лондонские жохи, если Джек вернётся и расскажет, что видел живого страуса и турецкий гарем? Однако эта случайная мысль мелькнула на мгновение и сменилась другой. Джеку представился случай совершить глупость куда более увлекательную, чем любой разумный поступок. С ним такое случалось каждые несколько дней, с Бобом – практически никогда. Боб только дивился: два брата живут сходной жизнью, но одному она то и дело подсовывает повод для сумасбродств, а другому – нет. Джек и ждал от сегодняшнего дня чего-то подобного, хотя до последней минуты был уверен, что уже отчебучил свою глупость, когда вскочил на лошадь и погнался за страусом. Однако сейчас подвернулась возможность свалять дурака ещё более вопиющим и славным образом. Боб, внимательно наблюдавший за братом в течение многих лет, считал, что временами в Джека вселяется бес противоречия, о котором рассказывают в церкви. Названный бес невидимо разъезжает у Джека на плече, нашёптывая в ухо дурные советы, и единственный, кто может этому противостоять, – сам Боб, который стоит рядом, внушая предусмотрительность, осторожность и прочие пуританские добродетели[5]. «А гори оно всё синим огнем!» – подумал Джек и, ударив аргамака пятками по бокам, галопом устремился вперёд. Ближний турок как раз собирался зарубить последнюю из женщин в палатках. Он уже занес саблю, но женщина метнулась в сторону (насколько можно метнуться в такой одежде). Турок шагнул за ней – и оказался прямо на дороге у Джека и его коня. Они просто проехали по нему. Конь, видать, был хорошо выучен этому манёвру – Джек про себя отметил, что со скотинкой надо будет обращаться поласковее. Он одной рукой натянул уздечку, а другой сдёрнул с плеча мушкет. Конь развернулся, и Джек увидел ту часть помещения, по которой только что проехал. Первый турок лежал, раздавленный копытами в двух или трёх местах, второй надвигался, поигрывая ятаганом, словно учитель фехтования, разминающий запястье перед уроком. Джек тщательно прицелился в него и спустил курок. Турок спокойно смотрел поверх мушкетного дула. У него были русые волосы, зелёные глаза и пегие, с рыжиной усы – всё это исчезло в дыму, когда воспламенился порох на полке. Однако приклад не ударил в плечо. Пыхнула затравка, но выстрел не грянул. Это называлось осечка. Огонь с полки не добрался до ствола – возможно, в запальное отверстие попала грязь. Тем не менее Джек по-прежнему направлял мушкет на турка (несколько наугад, поскольку тот скрылся в клубах порохового дыма). Если огонь в запальном отверстии ещё тлеет, мушкет может выстрелить без предупреждения в ближайшие минуту-две. К тому времени, как дым более или менее рассеялся, турок уже схватил лошадь за узду и занёс ятаган. Джек, щурясь (глаза все ещё щипало от дыма), загородился мушкетом. Лязгнула сталь; жаркая вспышка ударила Джека по рукам и бросила металлом в лицо. Конь взвился на дыбы. В других обстоятельствах Джек был бы к этому готов; сейчас, ослепший и ошалелый, он перелетел через конский круп, плюхнулся на землю и откатился вбок в ужасе перед задними копытами. Во время всех этих кульбитов Джек крепко сжимал мушкетный приклад. Он встал, пошатываясь, понял, что глаза его плотно зажмурены, и спрятал лицо в сгиб левого локтя, силясь стереть жар и боль. От жёсткого рукава веки засаднило, и Джек понял, что слегка обожжён. Он снова заслонился прикладом от удара саблей, который мог обрушиться в любое мгновение, но ружьё в руках оказалось неожиданно лёгким – оно было перерублено в нескольких дюймах от замка. Дуло попросту исчезло. Женщина в палатке уже шагнула вперёд, взяла коня под уздцы и теперь разговаривала с ним ласковым успокаивающим тоном. Джек не видел второго турка и сперва запаниковал, потом заметил, что тот катается по полу, обхватив лицо руками, и глухо стонет. Это было отрадно, хотя в целом ситуация складывалась неудовлетворительно: дорогой мушкет сломан, конем завладела неведомая сарацинка, а никаких трофеев Джек пока не добыл. Он бросился вперёд, чтобы схватить поводья, но тут что-то блеснуло на полу – турецкий ятаган. Джек схватил его, отпихнул женщину и вскочил на коня. Где чёртов страус? А, вот, в углу. Джек направил коня к птице, взмахивая саблей, чтобы приноровиться к клинку. Рубить головы на скаку – занятие, требующее изрядной сноровки, но лишь потому, что у людей шея короткая. Обезглавить страуса, который почти целиком состоит из шеи, оказалось настолько легко, что почти не доставило удовольствия – Джек сделал это одним быстрым ударом. Голова упала на землю и осталась лежать с открытыми глазами, поминутно сглатывая. Безголовый страус упал, затем поднялся и побрёл кругами, брызжа кровью из перерезанной шеи. Джек не хотел оказаться в крови, поэтому отъехал от страуса, однако птица, сменив направление, двинулась за ним. Джек метнулся в другую сторону – птица, снова повернув, заковыляла наперерез. Женщина смеялась. Джек взглянул строго, и она переборола смех. Из палатки раздался голос, он что-то говорил на варварском наречии. – Сэр рыцарь, я не знаю ни одного христианского языка, за исключением французского, английского, йглмского и чуточки мадьярского. Впервые в жизни к Джеку Шафто обратились «сэр» или приняли его за рыцаря. Он взглянул на страуса, который бродил по кругу, шатаясь и теряя силы. Женщина тем временем перешла на какой-то ещё неведомый язык. Джек перебил её: – Йглмский я подзабыл. Помню, мальчишкой добрался как-то до Гттр Мнгргх. Мы прослышали, будто разбился испанский галеон, и пиастры валяются на берегу, как ракушки, однако нашли только нескольких пьяных французов, которые воровали кур и поджигали дома. Он собирался поведать множество захватывающих подробностей, однако сбился, потому что палатка задвигалась, явив сложную систему шёлковых платков: один был завязан на переносице, скрывая всё, что внизу; другой, на лбу, закрывал всё, что сверху. В щёлочку между ними смотрели на Джека два синих глаза. – Ты англичанин! – воскликнула девушка. Джек заметил, что на этот раз она не обратилась к нему «сэр рыцарь». Во-первых, англичан уважали меньше, чем представителей великих государств – Франции или Речи Посполитой. Во-вторых, среди англичан выговор сразу выдавал в нём не-джентльмена. И даже говори Джек, как епископ, из рассказа явственно следовало, что когда-то он был бродягой. Чёрт! Не в первый раз Джек представил, как отрезает себе язык. Языком этим восторгалась та малая доля человечества, которую, по грубости воспитания или по скудоумию, восхищало в Джеке Шафто всё. Тем не менее, если бы Джек его придержал, синеглазая девушка, возможно, по-прежнему бы обращалась к нему «сэр рыцарь». Та часть Джека Шафто, которая до сей поры удерживала его от гибели, советовала резко потянуть уздечку вправо или влево, развернуть коня и во весь опор умчаться прочь от напасти. Он взглянул на свои руки, держащие поводья, и заметил, что они замерли в неподвижности – очевидно, та часть Джека Шафто, которая хотела прожить жизнь короткую и весёлую, снова взяла верх. Пуритане часто заходили в бродяжий табор, дабы сообщить, что при сотворении мира – тыщи лет назад! – Господь предопределил часть присутствующих ко спасению. Остальные обречены целую вечность гореть в аду. Эти сведения пуритане называли Благой Вестью. В следующие несколько дней любой мальчишка-вага-бонд, пёрнув, объявлял, что так было предопределено Всевышним и записано в небесной книге при начале времен. Умора, короче. Однако сейчас Джек Шафто сидел на турецком скакуне и понуждал свои руки дёрнуть уздечку, а ноги – ударить в конские бока, чтобы умчаться от синеглазой девушки… А ничего не происходило. Не иначе как действовала Благая Весть. Синие глаза были опущены. – Я поначалу приняла тебя за рыцаря. – В лохмотьях-то? – Твой конь великолепен и отчасти мне тебя загораживал, – отвечала напасть. – А как ты сражался с янычарами – словно Галахад! – Галахад… который ни разу не любился? – Снова язык. И снова ощущение, что каждое слово предопределено, что тело – запертая карета, мчащая под уклон, прямо к вратам преисподней. – Это единственное, что роднит меня со сказанным рыцарем. – Я была гёзде, то есть султан меня присмотрел, но раньше, чем я стала икбал, то есть наложницей, он отдал меня великому вазиру. – Я не шибко учён, – сказал Джек Шафто, – тем не менее про визирей слыхал, и не верится мне, чтоб они держали у себя в лагере хорошеньких белокурых рабынь девственницами. – Не навечно. Однако плохо ли сберечь несколько девственниц для торжественного случая – скажем, чтобы отпраздновать разграбление Вены? – А разве мало было бы девственниц в самой Вене? – Судя по тому, что доносили вазиру лазутчики, могло не остаться ни одной. Джек не склонен был ей верить. Однако если визирь, или вазир, как говорила синеглазка, возил с собой страусов, исполинских кошек в драгоценных ошейниках и деревья в горшках, с него бы стало и девственниц прихватить. – Эти не успели тобой попользоваться? – Джек махнул саблей в сторону турок, нечаянно стряхивая с клинка капельки крови. – Они – янычары. – Слыхал про таких, – сказал Джек. – Даже подумывал отправиться в Константинополь, или как он теперь зовётся, чтобы вступить в их полки. – А как насчёт обета целомудрия? – Мне, синеглазка, без разницы. Смотри! – Он завозился с гульфиком. – Турок бы уже справился, – спокойно заметила девушка. – У них спереди на штанах такое вроде окошко, чтобы без помех мочиться или насиловать. – Я не турок, – объявил наконец Джек, привставая на стременах, чтобы она полюбовалась. – Он так должен выглядеть? – Ну ты и хитра! – Что случилось? – Некий дюнкерский цирюльник объявил, что выведал у странствующего алхимика рецепт против французского насморка. Мы только что вернулись с Ямайки и заглянули к нему как-то под вечер. – У тебя французская болезнь? – Я хотел только бороду подровнять, – сказал Джек. – А моему приятелю Тому Флинчу надо было отнять палец. Он загнулся в другую сторону во время схватки с французскими приватирами и уже так вонял, что никто не хотел сидеть рядом с Томом, – пришлось ему коштоваться на верхней палубе. Вот почему мы пошли и вот почему были пьяны в дым. – Прости, не поняла. – Надо было накачать Тома, чтобы меньше орал, когда палец отскочит на другой конец цирюльни. Правила этикета требовали, чтобы мы пили наравне с ним. – И что дальше? – Когда брадобрей сказал, что лечит французскую хворь, гульфики полетели, как пушечные ядра. – Так она у тебя есть. – И брадобрей, у которого глаза сделались по дублону, раскочегарил жаровню и положил греть железки для прижигания. Покуда он ампутировал Тому палец, они раскалились докрасна, потом добела. Тем временем ученик готовил травяную припарку по рецепту алхимика. Короче, я оказался последним на прижигание. Товарищи уже валялись на полу, прижав к елдакам припарки, и орали как резаные. Цирюльник с учеником привязали меня к стулу прочными верёвками и ремнями, заткнули мне рот кляпом… – Они тебя ограбили?! – Нет, сестрёнка, всё это входило в лечение. Так вот пораженная часть моего чёрта – болячка, которую надо было прижечь, – находилась сверху, на середине ствола. Однако одноглазый детина вжался в меня от страха, поэтому ученик схватил его щипцами и одной рукой растянул старину баловника – в другой он держал свечку, чтобы осветить язву. Брадобрей тем временем перебирал железяки, выбирая подходящую; на самом деле они были все одинаковые, но он хотел показать, что не зря деньги дерёт. Как раз когда он опускал раскалённое железо на болячку, сборщик налогов с помощниками вышибли разом заднюю и переднюю дверь. Это был рейд. Цирюльник уронил железку. – Какая жалость! Такой дюжий молодец, сильный и ладный, ягодицы, что половинки каштана, ляжки – залюбуешься, красивый на свой манер – и никогда не будет иметь детей. – Цирюльник опоздал – у меня уже были к тому времени два мальца. Вот почему я гоняюсь за страусами и сражаюсь с янычарами – надо семью кормить. А поскольку французская хворь никуда не делась, у меня всего несколько лет до того, как я спячу и протяну ноги. Надо скопить наследство. – Твоя жена – счастливица. – Моя жена умерла. – Бедненький! – Не, я её не любил, – бодро отвечал Джек. – А с тех пор, как цирюльник уронил железку, она мне стала и вовсе ни к чему. Так же, как я ни к чему тебе, напасть. – С чего ты взял? – Да глянь хорошенько. Не могу я. – Как англичане это делают – наверное, да. Однако я много чего вычитала из индийских книг. Молчание. – Не больно-то я уважаю книжную премудрость, – проговорил Джек Шафто сдавленным голосом, как будто шею ему стянула петля. – Мне подавай опыт. – Опыту меня тоже есть. – Ага, а плела, будто ты – девственница. – Я практиковалась на женщинах. – Что?! – Ты же не думаешь, что весь гарем сидит и ждёт, пока у господина восстановится способность? – А какой смысл, если нет елды? – Этот вопрос ты, возможно, задавал себе сам. У Джека – не первый раз – возникло ощущение, что пора срочно сменить тему. – Знаю, что ты соврала, сказав, будто я красивый. На самом деле я битый-перебитый, рябой, щербатый, загрубелый и всё такое. – Некоторым женщинам нравится. – Синеглазка взмахнула ресницами. Поскольку видны были только одни глаза, это усиливало впечатление. Нужно было как-то обороняться. – Ты выглядишь очень юной, – сказал он, – и говоришь как сопливая девчонка, которую не мешало бы выпороть. – В индийских книгах, – холодно сообщила напасть, – этому посвящены целые главы. Джек поехал вдоль стен, внимательно их оглядывая. В одном месте, сковырнув землю, он обнаружил бочонок, а рядом ещё и ещё. Посреди помещения валялась груда досок для сооружения крепей, а рядом – брошенные в спешке инструменты. – Чем болтать, сестрёнка, подай-ка мне лучше вон тот топор. Синеглазка принесла топор и подала Джеку, спокойно глядя ему в глаза. Джек привстал на стременах и рубанул по бочонку. Доска треснула. Ещё удар, и дерево раскололось. На землю с шипением посыпался чёрный порох. – Мы в дворцовом подвале, – объявил Джек, – прямо под императорским дворцом, вокруг нас кладовые, наполненные сокровищами. Знаешь, что нас ждёт, если мы это дело подожжём? – Преждевременная глухота? – Я собирался заткнуть уши. – Тонны камня и земли, которые обрушатся на нас сверху? – Можно насыпать в туннеле пороховую дорожку, поджечь её и подождать на безопасном расстоянии. – Ты не думаешь, что взрыв и разрушение императорского дворца привлекут некоторое внимание? – Просто первое, что в голову пришло. – В таком случае, братец, наши дорожки разойдутся… да и не так достигают знатности. Пробить дыру в дворцовом полу и улепетнуть, словно крыса, в дыму и в копоти!.. – Невольница будет меня учить, как достигают знатности? – Невольница, жившая во дворцах. – Что же ты предлагаешь? Коли ты такая умная, давай послушаем твой план. Девица закатила глаза. – Кто знатен? – Дворяне. – Как они такими стали? – Появились на свет от знатных родителей. – Ой. Неужели? – Да, разумеется. А что, у турок иначе? – Нет, хотя по тому, как ты говоришь, я решила, что в христианских странах это как-то связано с умом. – Не думаю. – Джек приготовился рассказать о пфальцском курфюрсте Карле, когда синеглазка спросила: – Так нам не нужен умный план? – Это праздная болтовня, сестрёнка, но я никуда не тороплюсь, так что валяй. Говоришь, нам нужен умный план, чтобы стать знатными. Мы-то с тобой из простых – где ж нам взять знатность? – Купить. – Нужны деньги. – Так выберемся из этой дыры и раздобудем деньги. – И как ты их думаешь раздобыть? – Мне нужен сопровождающий, – объявила невольница. – У тебя есть конь и клинок. – Ласточка, это поля боя. У многих они есть. Найди себя рыцаря. – Я рабыня, – отвечала она. – Рыцарь получит своё и меня бросит. – Так ты мужа хочешь? – Компаньона. Не обязательно мужа. – Я буду ехать впереди, убивать янычар, драконов, рыцарей и всё такое, а ты – плестись сзади и… что? Только не надо заливать мне про индийские книги. – Я буду заниматься деньгами. – У нас нет денег. – Потому-то тебе и надо, чтобы кто-то ими занимался. Джек не понял, но звучало это умно, поэтому он важно кивнул, как будто глубоко проник в смысл. – Как тебя звать? – Элиза. Привстав на стременах, приподняв шляпу, с лёгким поклоном: – Джек Куцый Хер к вашим услугам, сударыня. – Раздобудь мне платье мужчины-христианина. Чем больше на нём будет крови, тем лучше. Я пока ощипаю страуса. Бывший стан великого визиря Кира-Мустафы сентябрь 1683 – И ещё… – начал Джек. – Как, опять?! – Элиза, в окровавленном офицерском камзоле, полулежала в седле, припав к лошадиной шее, так что голова её, обмотанная разорванной рубахой, была совсем близко к голове Джека, который вёл коня под уздцы. – Если мы доберёмся до Парижа – что отнюдь нелегко – и если от тебя будут хоть малейшие неприятности… один косой взгляд… складывание рук на груди… театральные реплики в сторону, адресованные невидимой публике… – Много у тебя было женщин, Джек? – …притворное возмущение тем, что совершенно естественно… рассчитанные приступы сварливости… копание при сборах… туманные намёки на женское недомогание… – Кстати, Джек, у меня как раз эти дела, так что изволь остановиться прямо на поле боя, скажем на… да, думаю, в полчаса я управлюсь. – Ничуть не смешно. Ты видишь, чтобы я смеялся? – Я вижу бинты. – В таком случае сообщаю, что мне отнюдь не весело. Мы огибаем то, что осталось от лагеря Кара-Мустафы. Справа в траншее стоят пленные турки и крестятся – что странно… – Я слышу, как они молятся на славянском наречии. Это янычары, скорее всего – сербы. Как те, от которых ты меня спас. – Слышишь, как кавалерийские сабли рубят им головы? – Так вот что это за звуки! – А чего бы, по-твоему, они молились? Янычар предают смерти польские гусары! – За что? – Слыхала про старые родственные размолвки? Вот так они выглядят. Какая-то давняя обида. Лет сто назад янычары чем-то огорчили поляков. Кавалерийские полки пронеслись по останкам турецкого стана словно волны по простыне. Хоть сейчас не время было думать о простынях. – О чём я говорил? – Добавлял очередной пункт к нашему партнёрскому соглашению, словно какой-нибудь бродяга-крючкотвор. – И ещё одно… – Ещё?! – Не называй меня бродягой. Сам я могу так себя называть – для смеху, чтобы оживить разговор, обаять даму и всё такое. Но ты не должна применять ко мне этот уничижительный эпитет. – Джек заметил, что потирает большой палец правой руки, куда палач когда-то приложил раскалённое клеймо в форме буквы V, оставив отметину, которая временами начинала чесаться. – Возвращаясь к тому, что я говорил, прежде чем ты так невежливо меня перебила: малейшая неприятность с твоей стороны, сестрёнка, и я брошу тебя в Париже. – Ой, какой ужас! Только не это, жестокий человек! – Ты наивна, как богатая барышня. Известно ли тебе, что всякую беспризорную женщину в Париже тут же арестует, острижёт, выпорет и прочее начальник полиции – всесильный ставленник короля Луя, обладающий неограниченной властью, жестокосердый гонитель нищих и бродяг? – Ты же ничего не знаешь о бродягах, о высокородный господин. – Лучше, но пока недостаточно хорошо. – Где ты нахватался таких слов, как «уничижительный эпитет», «всесильный ставленник» и «жестокосердый гонитель»? – В театре, глупая. – Ты актёр? – Актёр? Актёр? – Обещание попозже её выпороть вертелось у Джека на языке, однако он сдержался из опасения, что она снова выбьет его ответом из колеи. – Учись манерам, детка. Иногда вагабонды из христианского благодушия позволяют актёрам следовать за ними на почтительном расстоянии. – Рассыпаюсь в извинениях. – Ты закатываешь под бинтами глаза? Я насквозь вижу… Тише! К нам приближается офицер. Судя по гербу – неаполитанский граф и бастард по меньшей мере в трёх поколениях. Поняв намек, Элиза, у которой, по счастью, был густой, чуть хрипловатый альт, принялась стонать. – Мсье, мсье, – обратился к ней Джек, изображая французскую речь. – Знаю, седло давит на огромные чёрные вздутия, что появились у вас в паху после того, как вы вопреки моему совету переспали с теми двумя злополучными цыганками. Однако нам надо попасть к брадобрею-цирюльнику или, на худой конец, к цирюльнику-брадобрею, чтобы тот извлёк из вашей головы турецкое ядро, покуда вас опять не начал трясти озноб… – И так далее, пока неаполитанский граф не отъехал. Последовала долгая пауза, во время которой мысли Джека витали вдалеке, а мысли Элизы, как выяснилось, нет. – Джек, можно говорить без опаски? – Для мужчины говорить с женщиной всегда небезопасно. Однако мы уже выехали из лагеря. Я более не наступаю на отрубленные руки. Дунай справа, Вена – за ним. Наёмники выстроились перед охраняемыми фургонами, дабы получить плату за сегодняшний день, – можно говорить более-менее без опаски. – Погоди! А ты когда получишь свою плату? – Перед боем нам выдали бренди и клочки бумаги с какими-то буквами, по которым (как уверял капитан) в конце дня выплатят серебро. Однако Джека Шафто не проведёшь. Я сразу продал свою бумажку жиду. – Сколько ты за неё получил? – Я отлично сторговался. Синица в руках стоит двух… – Ты получил пятьдесят процентов? – Неплохо, правда? Учти, мне достанется лишь половина выручки от страусовых перьев – из-за тебя. – Ой, Джек, как я должна себя чувствовать, когда ты говоришь такие слова? – Я что, слишком громко ору? Уши болят? – Нет… – Хочешь сесть поудобнее? – Нет, нет, Джек. Речь не о телесных страданиях. – Тогда как прикажешь тебя понимать? – Когда ты говоришь: «Один косой взгляд, и я оставлю тебя среди поляков, которые выжигают беглым холопам клеймо на лбу» или «Погоди, пока начальник полиции короля Луи до тебя доберётся…» – Ты нарочно выбираешь худшее, – возмутился Джек. – Я больше грозил оставить тебя в монастыре. – Так ты признаёшь, что грозить клеймом более жестоко, нежели монастырём? – Это очевидно. Но… – А зачем вообще проявлять жесткость, Джек? – Ловкий трюк. Надо будет запомнить. Так кто из нас крючкотвор? – Если ты так беспокоишься, может, не стоило спасать меня от янычар? – Что это вообще за разговор? В каком таком месте ты жила, где людей и впрямь волнуют чужие чувства? Ни один ли хрен, что там другой человек чувствует? – У невольниц в гареме не так уж много занятий: коротать время за женскими рукоделиями; шитьём, вышиванием и вязанием тончайшего шёлкового белья, ажурного, как лёгкая паутина… – Отставить! – …и за беседами на разных языках (которые невозможны, если не следить самым внимательным образом за чувствами собеседниц) плести интриги и козни, торговаться на базаре… – Этим ты уже хвасталась. – … – Ты что-то ещё собиралась упомянуть, девонька? Давай выкладывай. – Только то, что я уже говорила, – при помощи изощрённейших знаний древнего Востока медленно доводить друг дружку до самозабвенных, потных, неистовых восторгов… – Довольно! – Ты сам попросил. – Ты меня заставила – интригами и кознями! – Боюсь, теперь это моя вторая натура. – А какая у тебя первая? С виду ты типичная англичанка. – Счастье, что тебя не слышит моя матушка. Она гордилась своим чисто йглмским происхождением. – Короче, густопсовая дворняга. – Ни капли английской крови, или кельтской, норвежской или чего ещё там в вас намешано. – Сто процентов чего ещё, надо думать. И во сколько лет тебя похитили? – В пять. – Ты точно знаешь свой возраст, – уважительно произнёс Джек. – Из благородных, что ли? – Матушка считает, что все йглмцы… – Хватит. Я уже знаю про твою мать больше, чем про свою. Что ты помнишь о Йглме? – Дверь нашего жилища, озарённую весёлым светом горящего гуано, обвешанную причудливой формы ломами и топориками, чтобы отец мог вырубить нас из-подо льда после июньских буранов, таких здоровых и бодрящих. Деревушка на круче, где простые селяне жгли безлунными ночами костры, направляя мореплавателей к безопасности… Джек, что это за звуки? В горле запершило. – Костры жгут, чтобы заманить мореплавателей. – Дабы обменяться с ними товарами? – Дабы они вместе со всем добром разбились о Риф Цезаря, Горе Варяга, Рок Сарацина, Могилу Галеонов, Кладбище Французов, Молот Голландца или иные навигационные опасности, из-за которых о твоей родине идёт столь недобрая слава. – А-а, – протянула Элиза мелодичным голосом, от которого у Джека едва не подогнулись колени. – Это проливает новый свет на некоторые другие наши обычаи. – А именно? – Выходить по ночам с большими длинными ножами, дабы избавить выброшенных на берег моряков от лишних мучений. – По их просьбе, полагаю? – И возвращаться с тюками или сундуками добра, полученными в благодарность за услугу. Да, Джек, твое объяснение куда правдоподобнее – как мило было со стороны добрейшей матушки оберегать мой детский слух от жестокой правды. – Теперь ты понимаешь, почему английские короли долго терпели – вернее, поощряли, не исключено, что взятками, – корсарские набеги на берега Йглма? – Это было во вторую неделю августа. Мы с матушкой шли по пляжу… – Там есть пляжи? – Мне он казался золотым – возможно, то была прибрежная топь. Перед нами ослепительно белел Снежный утёс. – Как, летом? – Не от снега. То был дар чаек, на котором держится процветание Йглма. У нас с матушкой были елке и сктл. – Чего-чего? – Первое – орудие для отбивания, рубки, соскребания и ворошения, состоящее из устричной раковины, привязанной к берцовой кости. – Почему не к палке? – Англичане вырубили все наши леса. Сктл – бадья или ведро. Мы были на полпути к утёсу, когда услышали некий ритмичный звук. Не привычное биение волн об острые скалы; он был быстрее, резче, гулче – бой дикарских африканских барабанов! Северных, не конголезских, но всё равно африканских, не свойственных нашей местности. В йглмской музыке ударные почти не используются… – Трудно сделать барабан из крысиной шкуры… – Мы повернулись к солнцу. В бухте – на смятом листе сусального золота – скользила тень, похожая на сколопендру; её бесчисленные ноги двигались взад-вперёд под барабанный бой… – Исполинская сороконожка шла по воде? – То была многовесельная галера берберийских корсаров. Мы бросились бежать, но грязь засасывала так, что у нас ещё несколько недель были сквщ. – Сквщ? – Синяки на пятках, подобные следу от поцелуя. Пираты спустили шлюпку и направили её по мелководью наперерез нам. Несколько человек – силуэты в тюрбанах, столь варварские и непривычные для моего юного взора – выпрыгнули и побежали за нами. Один угодил прямиком в зыбун. – Так! Начинается то, что мы в Уоппинге зовём потехой! – Только прирождённая йглмка могла бы отыскать проход в зыбучих песках. В мгновение он ушёл по шейку и забился, выкрикивая стихи из Корана. – А твоя мать сказала: «Мы можем убежать, но христианский долг повелевает выручить бедного моряка; мы обязаны пожертвовать свободой, дабы спасти его жизнь», и вы остались. – Нет, матушка сказала что-то вроде: «Есть шанс убежать, однако у чуреков мушкеты; я притворюсь, будто хочу помочь тому чернозадому, может, нам это зачтётся». – Вот женщина! – Она потребовала весло и протянула его увязшему моряку. Видя, что она не проваливается, другие отважились вылезти из лодки и вытащили товарища. Нас как-то странно обнюхал не говорящий по-английски офицер, всем своим видом показывая, что ему ужасно неловко. Затем нас посадили в лодку и доставили на галеру, а с неё – на сорокапушечный корсарский галеон. Не какую-нибудь развалюху-барку, а настоящий линейный корабль, отбитый, купленный или взятый в аренду у какого-то европейского военного флота. – И над твоей матерью грубо надругались похотливые магометане. – Нет. Этих людей, судя по всему, в женщинах влекло лишь то, что объединяет нас с мужчинами. – Неужто брови? – Нет, нет! – Так ногти? Потому что… – Прекрати! – Но человеколюбие, которое проявила твоя мать к бедному моряку, не осталось без награды? В минуту нечаянной опасности он как-то её спас, верно? – Он через два дня умер от тухлой рыбы, и его выбросили за борт. – Тухлой рыбы? На корабле? В океане? Мне казалось, мусульмане очень серьёзно относятся к провианту. – Он её не ел, просто коснулся, когда готовил. – Какого черта… – Не спрашивай меня, – сказала Элиза, – спрашивай странного господина, принудившего мою матушку утолять его извращённое сластолюбие. – Ты вроде бы сказала… – Ты спросил, надругались ли над ней магометане. Этот господин не был мусульманином. Или евреем. Или ещё кем из тех, кто практикует обрезание. – Э… – Мне остановиться и нарисовать картинку? – Нет. Так кто он был? – Не знаю. Он никогда не покидал свою каюту на корме корабля, как если бы страшился солнечного света или хотя бы загара. Когда матушку туда привели, высокие окна были завешены тяжёлым бархатом, темно-зеленым, словно кожица авокадо – плода, произрастающего в Новой Испании. Не успела она опомниться, как её припёрли спиной к ковру… – Ты хотела сказать «бросили на ковёр». – Нет. Ибо стены и даже потолок каюты были убраны ковром – шерстяным, тончайшей ручной работы, с самым густым и роскошным ворсом (по крайней мере так показалось моей матушке, которая до того ковров никогда не видела) и золотистым, словно спелая нива… – По твоим словам, там было темно. – С этих свиданий она возвращалась вся в ворсе. И даже в темноте чувствовала спиной затейливый узор, вытканный искусными ремесленниками. – Пока вроде всё не так плохо – если сравнивать с тем, что обычно ждёт женщину на корабле корсаров. – Я ещё не упомянула смрад. – Мир вообще смердит, девонька. Лучше зажать нос и привыкать помаленьку. – Ты не узнаешь, что такое смрад, пока… – Извини меня. Ты бывала в Ньюгейтской тюрьме? В Париже на исходе лета? В Страсбурге после чумы? – Подумай о рыбе. – Теперь ты снова о ней. – Господин ел исключительно тухлую рыбу – протухшую некоторое время назад. – Всё. Довольно. Хватит меня дурачить. – Джек заткнул пальцами уши и спел несколько весёлых мадригалов, состоящий по большей части из «фа-ля-ля». Минуло, быть может, несколько дней – дороги на западе длинные. Однако со временем Элиза возобновила рассказ: – Берберийские пираты дивились ничуть не меньше твоего, Джек. Впрочем, судя по всему, господин обладал неограниченной властью и мог добиться, чтобы все его желания исполнялись. Каждый день кого-нибудь из моряков за провинность отправляли готовить тухлую рыбу. Несчастный падал на колени и молил лучше выпороть его или протащить под килем. Однако всякий раз кого-то одного избирали и отправляли за борт по верёвочной лестнице… – Это ещё зачем? – Рыба тухла в открытой лодке, которую тянули за кораблём на длинном-предлинном буксирном тросе. Раз в день лодку подтягивали к борту, и несчастный под дулами пистолетов спускался в неё, зажав в зубах листок с рецептом блюда, которое заказал господин. Матросы, задыхаясь, травили буксир, и повар приступал к готовке на маленькой жаровне. Закончив, он махал флагом с костями и черепом. Его подтягивали к корме, из каюты спускали верёвку, и он привязывал к ней корзину с приготовленной трапезой. Позже господин звонил в колокольчик, и юнгу били палками по пяткам, пока тот не соглашался забрать посуду и выбросить её за борт. – Ясно. В каюте, значит, стояла вонь. – Господин пытался заглушить её пряностями и восточными благовониями. Всюду стояли искусно изготовленные деревья с листочками, пропитанными редкими духами. Фимиам курился над золотыми решетками восточных жаровен, в хрустальных фиалах плескались благоуханные настои, окрашенные лепестками тропических цветов, а смоченные в них тампоны распространяли ароматы по воздуху. И всё, разумеется, тщетно, потому что… – В каюте стояла вонь. – Да. Разумеется, мы с матушкой почувствовали её примерно за милю, когда нас везли на галере, но объяснили тогда варварским обычаем корсаров и мужским бытом. Мы дважды видели, как готовят еду, однако ничего не поняли. На второй раз повар – тот самый моряк, которого спасла моя матушка, – не помахал Весёлым Роджером, а как будто заснул в лодке. Чтобы его разбудить, принялись дудеть в трубы и палить из пушек… всё тщетно. Наконец его втащили на палубу, и корабельный врач, дыша через повязку, смоченную цитрусовым маслом, миррой, мятой, бергамотом, опием, розовой водой, шафраном и анисом, объявил, что несчастный мёртв. Он порезал руку, разделывая недельной давности каракатицу, и трупный яд, попав в кровь, убил его, как стрела из арбалета промеж глаз. – Ты описываешь каюту господина с подозрительной полнотой и дотошностью. – О, меня тоже туда водили. После того, как матушка не выдержала проверки на вонь, господин пришёл в ярость, и в качестве жертвы ему предложили меня. Однако и я его не удовлетворила, поскольку, по малолетству, не выделяла тех женских гуморов, которые… – Всё, замолчи. Моя жизнь с тех пор, как я подошёл к Вене, превратилась в балаган уродов на Варфломеевской ярмарке. Прошёл час или, может быть, два. – Так я должен поверить, что тебя и твою дражайшую матушку похитили средь Йглмских топей исключительно в надежде, что матушка пройдет проверку на вонь? – Корсары думали, что пройдёт, но офицер, который её обнюхивал, ошибся – его обоняние… – …отшибли миазмы прибрежных топей и залежей гуано. Господи, ничего хуже мне слышать не доводилось – а я-то боялся напугать тебя своей историей. – Джек замахал руками встречному монаху и крикнул: – Эй, в какой стороне Массачусетс? Я становлюсь пуританином. – Позже во время плавания господин раз или два всё-таки попользовался моей бедной матушкой, но лишь за отсутствием иного выбора, ибо мы не проходили мимо отдалённых поселений, где можно похитить женщин. – Ладно, давай начистоту – что он делал в своей убранной коврами каюте? Тут на Элизу напала несвойственная ей робость. Они были уже в нескольких днях пути от Вены. Девушка сняла окровавленный офицерский камзол и сидела теперь в одеяле поверх палатки, в которой Джек впервые её увидел. Время от времени Элиза предлагала уступить ему место в седле и пойти пешком, но она была босая, а Джек не хотел мешкать. Голова Элизы, впрочем, выступала из куля, и Джек мог бы, обернувшись, сколько угодно её разглядывать. Обычно он этого не делал, понимая, что не следует всматриваться в плавную симметрию её лица, идеально ровные зубы и ловить оттенки пресловутых чувств, быстрых и завораживающих, как огонь. Однако сейчас Джек обернулся: Элиза замолчала так резко, что он подумал, уж не выбило ли её из седла шальное ядро. Она никуда не делась, просто смотрела на идущих впереди путниц: четырёх монахинь. Вскоре они обогнали монашенок и оставили их позади. – Можешь говорить, – сказал Джек, однако Элиза, стиснув зубы, смотрела вдаль. Четверть часа спустя они миновали сам монастырь, а ещё через четверть часа Элиза как ни в чем не бывало принялась подробно расписывать, что происходило за занавесями цвета авокадо на ковре золотом, как спелая нива. Описывались довольно чудные вещи – из индийских книг, как подозревал Джек. В целом рассказы Элизы странным образом достигали кульминационной точки на подъезде к монастырю или городу. Джек услышал всё, что хотел, и даже больше – сальная история, излагаемая в таких подробностях, стала однообразной, и с какого-то момента ему начало казаться, что цель повествования – внушить чувство глубочайшей вины и отвращения к себе любому слушателю-мужчине. Припоминая последние несколько дней их общего странствия, Джек заметил, что в чистом поле или в лесу Элиза по большей части молчала. Однако стоило им заметить селение или монастырь (а последними этот католический край кишел, как блохами), она начинала говорить, и рассказ принимал крайне интересный оборот как раз у городских ворот или дверей обители. Здесь Элиза замолкала и не раскрывала рта, пока город или монастырь не оставались далеко позади. – Следующая остановка: Берберийский берег. Поскольку мы не угодили господину, то попали в общий фонд европейских невольников, который насчитывает десятки тысяч человек. – Чёрт, я понятия не имел! – Вся Европа глуха к их участи! – воскликнула Элиза, и Джек с опозданием осознал, что наступил на больную мозоль. Слова хлынули стремительным потоком. Если бы только её голова была по-прежнему замотана: дернуть посильнее, затянуть узлом, и его мучения позади. Вместо этого, отпустив поводья на всю длину, Джек смог буксировать благородного жеребца, которого нарёк (или перенарёк) Турком, на значительном отдалении, как корабль в Элизиной сказочке – лодку с протухшей рыбой. Тем не менее до его слуха то и дело долетали отрывки страстного монолога. Джек узнал, что матушку продали в гарем оттоманского военачальника в алжирской касбе, и та все своё неограниченное свободное время посвятила созданию Общества британских невольников, которое имеет теперь отделения в Марокко, Триполи, Бизерте и Феце, встречается раз в две недели (исключая Рамадан), а его устав занимает сотни страниц, причём Элизе надлежало переписывать их от руки на краденой оттоманской бумаге после учреждения каждого нового филиала. Путники приближались к Линцу. Монастыри, богатые усадьбы и посёлки встречались теперь всё чаше. В середине гневной проповеди об участи белых невольников в Северной Африке Джек (просто из желания проверить, что будет) замедлил шаг перед воротами особо мрачной готической обители. Оттуда доносилось заунывное пение монахинь. Внезапно Элиза резко сменила тему. – Начиная фразу, – заметил Джек, – ты рассказывала о процедуре внесения поправок в устав Общества британских невольников, затем плавно переключилась на то, как целый корабль индийских танцовщиц сел на мель рядом с замком мальтийских рыцарей. Уж не боишься ли ты, что я брошу тебя здесь или продам какому-нибудь крестьянину? – Что тебе до моих чувств? – А ты не думаешь, что в монастыре тебе было бы лучше? Судя по всему, Элиза прежде об этом не думала, но сейчас задумалась. Личико её наполнилось самым очаровательным испугом и обратилось к воротам обители. – О, я свои обещания выполню. Проболтавшись столько лет на ногах у висельников, я научился ценить честное слово. – Джек на мгновение замолчал, перебарывая смешок. – Да, преимуществ в путешествии с Джеком Куцым Хером много: никто надо мной не властен. У меня есть ботфорты, сабля, топор и конь. Я не могу покуситься на твою честь. Мне ведомы тайные тропы контрабандистов. Я знаю арго и язык жестов, на котором общаются вагабонды, составляющие (если позволено выразиться поэтически) тайную сеть, что передаёт информацию по всему миру и действует безотказно, даже если какие-то части её повреждены. Благодаря ей я знаю, через какие страны можно идти без опаски, а в каких жестоко преследуют бродяг. Тебе достался не худший спутник. – Так почему же ты говоришь, что мне было бы лучше здесь? – Элиза кивнула на монастырь, тянущийся к дороге готическими флигелями, словно жук – жвалами. – Некоторые сказали бы, что я должен был предупредить раньше: ты пустилась в путь с человеком, которого в большинстве стран могут схватить и повесить без разбирательства. – О-о-о! Ты ужасный преступник? – Лишь отчасти – но не поэтому. – Так почему же? – Я принадлежу к определенному типу – дьяволов бедняк. – Ой. – Стыдно признаваться, однако в опьянении от боя и бренди я показал тебе другой мой секрет и не думаю, что могу упасть в твоих глазах ещё ниже. – Что такое дьяволов бедняк? Ты сатанист? – Если бы! Нет, это английское выражение. Есть два вида бедняков – Божьи и дьяволовы. Божьим беднякам – вдовам, сиротам и бежавшим из плена смазливым белым невольницам – можно и нужно помогать. Чертовым беднякам помогать бесполезно – только деньгам перевод. Разницу между этими двумя категориями признают все цивилизованные страны. – Думаешь, тебя повесят прямо здесь? Они остановились на холме над поймой Дуная. Внизу лежал Линц. После ухода войск он сжался раз в десять, до своих обычных размеров: на земле остался шрам вроде розовой кожицы на месте отпавшего струпа. – Сейчас тут должно быть более или менее ничего – много солдат возвращается через этот край. Всех не перевешаешь – верёвки в Австрии не хватит. Я насчитал полдюжины висельников на деревьях у городских ворот и ещё столько же голов на стенах – умеренно низкое количество для города такого размера. – Тогда на рынок, – объявила Элиза, сверкая глазами. – Ага. Въезжаем в город, находим улицу торговцев страусовыми перьями и идём от лавки к лавке, выбирая, кто больше даст? Элиза сникла. – В том-то и беда с редким товаром, – сказал Джек. – И что ты думаешь делать? – О, любой товар можно продать. В каждом городе есть улица, где купят что угодно. Мое дело – знать эти улицы. – Джек, какую цену даст скупщик краденого? Мы очень сильно прогадаем. – Зато у нас будет в карманах серебро, девонька. – Может, потому ты и дьяволов бедняк, что, заполучив ценную вещь, пробираешься в город, как человек, которого ждёт наказание, и идешь к последнему барыге, который работает даже не на самого перекупщика, а на его посредника. – Заметь, я жив, свободен, при ботфортах, сберёг почти все части тела… – И приобрёл французскую хворь, которая сведёт тебя с ума, а затем и в могилу за несколько лет. – Это больше, чем я прожил бы в таком городе, выдавая себя за купца. – Я клоню к другому – ты сам сказал, что наследство для сыновей надо скопить сейчас. – Что я и предлагаю. Или у тебя есть предложение получше? – Надо отыскать ярмарку, на которой мы сумеем сбыть перья непосредственно торговцу роскошью – такому, который отвезёт их в Париж и продаст знатным дамам и господам. – О да. Такие торговцы всегда рады вести дела с бродягами и беглыми невольницами. – Ой, Джек, надо просто одеваться, а не издеваться. – Есть некоторые чуткие ранимые люди, которые сочли бы это замечание обидным. По счастью, я… – Ты не задумывался, почему каждое мое движение сопровождается шелестом и шуршанием? – Элиза продемонстрировала. – Воспитание не позволяло мне осведомиться о фасоне твоего белья, но коли ты сама завела этот разговор… – Шёлк. Под бурнусом на мне намотано с милю шёлка. Я украла его в лагере вазира. – Шёлк. Слыхал о таком. – Иголка, немного ниток, и я стану знатной дамой с головы до пят. – А я кем? Придворным недоумком? – Моим слугой и телохранителем. – О нет… – Только для видимости! Небольшой спектакль ради дела! Всё остальное время я буду твоей преданной слугой, Джек! – Что ж, знаю, ты любишь сказки, и не прочь разыграть с тобой короткий спектакль. Только прости, пожалуйста, но разве на то, чтобы сшить наряд из турецкого шёлка, не требуется долгое время? – Джек, много на что требуется время. Это займёт всего несколько недель. – Несколько недель… А ты знаешь, что в здешних краях бывает зима? И что сейчас октябрь? – Джек? – Элиза? – Что твоя аргоговорящая сеть сообщает о ярмарках? – Они по большей части проводятся осенью и весной. Нам нужна лейпцигская. – Правда? – На Элизу эти слова, видимо, произвели впечатление. Джеку стало приятно – дурной знак. Если для тебя единственная радость – произвести впечатление на конкретную девушку, значит, пиши пропало. – Да, потому что там восточные товары, привезённые из Турции и России, меняют на западные. – Скорее на серебро – кому нужны западные изделия! – Правда твоя. Старые бродяги тебе скажут, что парижских купцов лучше грабить по пути в Лейпциг, когда они везут серебро, нежели на обратном пути, когда они нагружены товаром, который ещё поди сбудь. Хотя молодёжь возражает, что серебро теперь вообще никуда не возят: расчёты совершаются в обменных векселях. – В любом случае Лейпциг – то, что нам надо. – За исключением одной мелочи: осенняя ярмарка закончилась, а до весенней надо пережить зиму. – Помоги мне пережить зиму, Джек, и весной в Лейпциге я выручу тебе вдесятеро против того, что ты получил бы здесь. Настоящий бродяга так не поступил бы. Ошибка многократно усугублялась перспективой провести столько времени с одной определённой девушкой. Однако Джек сам загнал себя в ловушку, когда упомянул сыновей. – Всё обдумываешь? – спрос ила Элиза некоторое время спустя. – Давным-давно бросил, – отвечал Джек. – Сейчас я пытаюсь вспомнить, что знаю о местности отсюда до Лейпцига. – И что же ты пока вспомнил? – Только что мы не увидим никого и ничего старше пятидесяти лет. – Джек двинулся к парому через Дунай. Турок следовал за ним. Элиза ехала молча. Богемия осень 1683 В трёх днях езды от Дуная дорога сузилась до колеи в тощей древесной поросли, заглушаемой высоким бурьяном. Бурьян кишел насекомыми и шевелился от невидимых зверьков. Джек вытащил янычарскую саблю из одеяла, в которое та была завернута с самой Вены, и смыл в ручье засохшую кровь. Стоя в ярком солнечном свете, по колено в бурой воде, он нервно тёр саблю и встряхивал ею в воздухе. – Что тебя тревожит, Джек? – С тех пор, как паписты перебили всех приличных людей, в этих краях живут лишь разбойники, гайдуки и вагабонды… – Я уже догадалась. Я хотела сказать, что-то насчёт сабли? – Её невозможно вытереть: трогаешь – сухая, а на солнце струится, как вода. Элиза отвечала стихами: Булат струйчатый – мир его называет. Напоённый ядом, врагов в смятенье повергает, Стремительно разит, кровь всюду проливает. И в мраморных чертогах лалы и яхонты сбирает.[6] …во всяком случае, так сказал поэт. – Кто сочинил такую дичь? – Поэт, разбиравшийся в саблях лучше тебя. Ибо это почти наверняка дамасская сталь. Вероятно, сабля стоит больше, чем Турок и страусовые перья вместе взятые. – Стоила бы, если б не это. – Джек уместил подушечку большого пальца в выщербину на клинке, ближе к острию. Сталь вокруг была чёрной. – Не поверил бы, что такое возможно. – Это здесь он врубился в мягкое подбрюшье твоего мушкета? – Мягкое?! Ты видела только деревянную часть. Однако в неё был упрятан железный шомпол. Сабля разрубила дерево – ничего примечательного, – разрезала шомпол и надсекла ствол. Когда порох наконец вспыхнул, пуля дошла только до этого места, и тут дуло разорвало. Что и погубило янычара, поскольку лицо его находилось… – Я видела. Или ты отрабатываешь рассказ, чтобы потом развлекать друзей? – У меня нет друзей. Я собираюсь устрашать врагов. – Джек рассчитывал, что слова прозвучат грозно, но Элиза только взглянула на горизонт и подавила вздох. – Или, – сказала она, – таким рассказом можно привлечь человека, который скупает на рынке легендарные клинки. – Сделай милость, выкинь из головы мысли о рынках. Как убеждает пример великого визиря, все богатства мира не впрок, коли не можешь их защитить. Это сокровище и средство защиты, слитые воедино, – совершенство. – По-твоему, человек с конём и саблей достаточно защищен в таком месте? – Ни один уважающий себя разбойник не станет селиться в безлюдье. – А что, все леса в христианском мире такие? По матушкиным сказкам я ожидала увидеть деревья-исполины. – Два-три десятилетия назад здесь зрела пшеница. – Джек ятаганом срезал несколько спелых колосьев, выросших на солнечном пятачке у ручья, спрятал саблю в ножны и понюхал зерно. – Добрые селяне приходили сюда в страдную пору, неся на плечах серпы. – Джек стянул ботфорты и вошёл в ручей, ощупывая дно босыми ступнями. Через мгновение нагнулся, вытащил длинный, зазубренный от камней серп – изъеденный полумесяц ржавчины на сломанной чёрной рукояти. – Точили серпы на окатанных водой камнях. – Он поднял голыш, несколько раз провёл им по серпу и снова бросил на берег. – За этим занятием они не прочь были промочить горло. – Джек снова пошарил ногой в воде, нагнулся, достал глиняный кувшин и вылил оттуда желтовато-бурую струю болотной воды. Кувшин он бросил на берег. Затем, по-прежнему держа в руке ржавую дугу серпа, двинулся к замеченному ранее экспонату. Он нашел, что хотел, и чуть не упал, стоя на одной ноге, как фламинго, и шаря другой по дну. – Так шла их простая, счастливая жизнь, пока не случилось нечто… Джек медленно и (он надеялся) драматично провел серпом над водой, изображая смерть. – Чума? Голод? – Религиозная рознь! – объявил Джек и вытащил из воды побуревший человеческий череп, явно со следом от сабли на виске. Элизу (ему показалось) потряс фокус: не череп (она видела вещи похуже), но ловкость исполнения. Джек замер с серпом и черепом, растягивая мгновение. – Когда-нибудь видела моралите? – Матушка про них рассказывала. – Предполагаемая публика: вагабонды. Цель: вложить в их убогие умишки некую идиотскую мораль. – И в чём же мораль твоей пьесы, Джек? – О, моралей в ней много: держитесь подальше от Европы. Или: когда приходят люди с оружием, бегите. Особенно если в другой руке у них Библия. – Разумный совет. – Даже если это означает определённые жертвы. Элиза рассмеялась, как девчонка. – А, вот теперь-то, чую, мы переходим к настоящей морали. – Смейся сколько хочешь над бедолагой, – сказал Джек, потрясая черепом. – Если бы он бросил урожай и дал дёру вместо того, чтобы цепляться за домишко и землю, то мог бы дожить до сего дня. – А бывают восьмидесятилетние бродяги? – Вряд ли, – согласился Джек. – Они просто выглядят вдвое старше своих лет. Путники углубились в мёртвую Богемию по заросшим дорогам и звериным тропам. Зверья здесь расплодилось видимо-невидимо. Джек оплакивал утрату Бурой Бесс, из которой можно было настрелять сколько хочешь оленей – или по крайней мере напугать их до родимчика. Порой они спускались с лесистых холмов и пересекали равнины – бывшие пастбища, заросшие колючим кустарником. Джек сажал Элизу в седло, чтобы колючки, крапива и насекомые не портил и её внешность. Не из жалости; просто Элиза существовала для того, чтобы Джеку было чем любоваться. Иногда он без всякого уважения к дамасской стали рубил саблей кусты. – Что вы с Турком видите? – спрашивал он, поскольку сам видел лишь пожухшие осенние листья. – Справа вздымается уступ, за ним – высокие чёрные горы, на уступе крепость, совсем не такая изящная, как мавританские, однако недостаточно прочная, чтобы устоять перед разрушившей её неведомой силой. – Это артиллерия, девонька, – рок старых крепостей. – Значит, папистская артиллерия пробила в стенах несколько брешей, образовав каменные осыпи в сухом рву. Остатки раствора белеют на камнях, как осколки костей. Потом внутри вспыхнул пожар, и сгорело всё, за исключением нескольких балок. Стены над окнами и бойницами покрыты копотью – очевидно, замок пылал много часов, словно алхимическая печь, в которой целый город очищался от ереси. – У вас в Берберии есть алхимики? – Они есть у вас в христианском мире? – Очень поэтично, как и прежние твои описания разрушенных замков, – но меня больше волнует практическая сторона. Ты видишь дымки костров? – Я их упомянула. А также тропы в кустах, проложенные людьми или лошадьми. О них я тоже сказала. – Ещё что-нибудь? – Слева озеро – с виду довольно мелкое. – Едем к нему. – Турок сам к нему свернул – хочет пить. Они нашли несколько озёр, и после третьего и четвёртого (все – под развалинами замка) Джек понял, что это пруды, вырытые или по крайней мере расширенные тысячами бедолаг с лопатами и кирками. Один цыган в Париже как-то рассказывал ему о прудах далеко на востоке, ближе к Румынии, где рыб разводят, как скот. По рыбьим скелетам на берегу Джек видел, что другие уже бывали здесь и вкушали от чешуйчатых стад, взращённых мёртвыми реформатами. У него потекли слюнки. – За что паписты так возненавидели этот край? – спросила Элиза. – Матушка рассказывала, что протестантских стран много. – Я вообще-то стараюсь в такое не вникать, – отвечал Джек, – но случилось, что под Вену я пришёл почти из такого же опустошённого края, где каждый крестьянин готов вновь и вновь пересказывать историю последних войн. Край тот зовётся Пфальц, и правители его несколько поколений назад были протестантскими героями. Один из них женился на англичанке по имени Елизавета, сеструхе Чака Первого. – Карл Первый – это тот, который рассорился с Парламентом, и ему отрубили голову на Чаринг-Кросс? – Он самый. Его сестрице, как ты скоро узнаешь, повезло немногим больше. Потому что здесь, в Богемии, протестанты устали от папистов, выбросили их из окон замка в навозную кучу и провозгласили страну свободной от папизма. В отличие от голландцев, которые прекрасно обходятся без монархов, богемцы не могли представить себе страну без короля, поэтому пригласили Елизавету и её муженька. Те и заняли престол – на одну зиму. Потом пришли папские легионы и устроили тут то, что ты сейчас видишь. – А Елизавета и её муж? – Зимние король и королева, как их стали называть, бежали. В Пфальц они вернуться не могли, поскольку в нём творилось то же самое (вот почему тамошние жители по сей день об этом говорят), поэтому некоторое время скитались, как вагабонды, пока не осели в Гааге, где и переждали войну. – Дети у них были? – Она щенилась без остановки. Господи! Послушать, так она плодила их одного за другим, через девять с половиной месяцев, всю войну… не помню сколько. – Не помнишь? Сколько же длилась война? – Тридцать лет. – Ой. – Она нарожала не меньше дюжины. Старший стал курфюрстом Пфальцским, другие, насколько я знаю, рассеялись по свету. – Ты так чёрство о них говоришь, – фыркнула Элиза. – Я уверена, каждый хранит в сердце память о том, как поступили с его родителями. – Прости, девонька, я запутался – ты о пфальцских щенках или о себе? – И о себе тоже, – признала Элиза. Они с Джеком питались по большей части зерном. Как Джек любил напоминать Элизе по несколько раз на дню, он был не из тех, кто обрастает имуществом. Тем не менее он обладал нюхом на то, что может пригодиться, и, когда все повара побежали грабить турецкий лагерь, стащил из военного обоза ручную мельницу. Довольно было повертеть ручку, и зерно превращалось в муку. Не хватало только печи – по крайней мере так думал Джек, покуда как-то вечером между Веной и Линцем Элиза палочками не вытащила из костра плоский чёрный диск. Когда она отряхнула золу, диск оказался бурым, а на изломе исходил паром почти как хлеб. Это, объяснила Элиза, магометанская лепешка, не требующая печи и вполне съедобная – ну разве что уголёк на зубах хрустнет. Сейчас они ели их уже больше месяца. По сравнению с настоящей едой это было не очень, по сравнению с голодухой – вполне сносно. – Хлеб и вода, хлеб и вода – будто снова в корабельном карцере. Хочу рыбы! – объявил Джек. – Когда ты побывал в корабельном карцере? – Все-то тебе надо знать. Ну, наверное, после отплытия с Ямайки, но до нападения пиратов. – Что ты делал на Ямайке? – с подозрением спросила Элиза. – Воспользовался связями в армии, чтобы попасть на корабль, доставляющий порох и пули тамошним укреплениям его величества. – Зачем? – Порт-Рояль. Хотел увидеть Порт-Рояль, который для пиратов то же, что Амстердам для евреев. – Ты хотел стать пиратом? – Я хотел свободы. Пираты (так я думал) те же бродяги, только морские. Говорят, все моря, если собрать их вместе, больше суши, и я полагал, что пираты куда свободнее бродяг. И намного богаче – все знают, что улицы Порт-Рояля вымощены испанским серебром. – И что, правда? – Почти. Всё серебро мира берётся из Перу и Мексики… – Знаю. В Константинополе расплачиваются пиастрами. – …путь его в Испанию проходит мимо Ямайки. Пираты из Порт-Рояля перехватывают немалую часть. Я добрался туда в семьдесят шестом – всего через несколько лет после того, как Морган самолично разграбил Панаму и Портобелло, а добычу привёз на Ямайку. Это было богатое место. – Рада, что ты хотел стать буканьером… а то я уже испугалась, что ты решил заделаться плантатором. – В таком случае, девонька, ты единственная, кто ставит пиратов выше плантаторов. – Я знаю, что на островах Зелёного мыса и на Мадере весь сахар выращивают рабы – так ли на Ямайке? – Разумеется! Все индейцы перемёрли или разбежались. – Тогда лучше быть пиратом. – Ладно, не важно. За месяц на корабле я понял, что в море нет вообще никакой свободы. О, корабль, может, и движется. Однако вода повсюду одинакова, и пока ждёшь, что на горизонте покажется земля, ты заперт в ящике с кучей несносного дурачья. На пиратском корабле то же самое. Есть чёртова уйма правил, как оценивать и делить добычу между пиратами разного ранга. Так что я провёл мерзкий месяц в Порт-Рояле, стараясь уберечь задницу от этих козлов-буканьеров, и отплыл назад на корабле с сахаром. Элиза улыбнулась, что делала нечасто. Джеку не нравилось, как действуют на него её редкие улыбки. – Ты много повидал, – сказала она. – Такой старикашка, как я, одной ногой в могиле, должен был прожить целую жизнь, повидать Порт-Рояль и прочие диковинные места. Ты – совсем дитя, у тебя впереди лет десять, а то и все двадцать. – Это на корабле с сахаром ты угодил в карцер? – Да, за какую-то воображаемую провинность. Напали пираты. Ядро пробило борт. Шкипер увидел, как его прибыль растворяется. Всю команду высвистали наверх, все грехи простили. Элиза продолжала расспросы, Джек не отвечал: он изучал пруд и полуразрушенную деревушку на берегу, особенное внимание уделяя струйкам прозрачного дыма, которые тянулись вверх и вились клубами у какого-то невидимого атмосферного барьера. Они поднимались из хибарок и навесов, пристроенных к обвалившимся домам. Где-то скулила собака. Через кустарник от леса к пруду были протоптаны тропы, над самым лесом плыли дымы и пар. Джек пошел вдоль пруда, хрустя рыбьими костями, и добрался до деревни. Крестьянин тащил к хибарке вязанку хвороста с себя ростом. – У них нет топоров, поэтому они вынуждены топить не дровами, а хворостом, – заметил Джек, выразительно похлопывая по топору, который прихватил в подземном туннеле под Веной. Крестьянин, окруженный облаком мух, был в деревянных башмаках и лохмотьях цвета золы. Он жадно смотрел на ботфорты Джека, изредка скорбно поглядывая на саблю и коня, означавших, что ботфортов он не получит. – J'ai besoin d'une cruche[7], – сказал Джек. Элиза изумилась. – Джек, мы в Богемии! Почему ты говоришь по-французски? – Il y a quelques dans la cave de ca – la-bas, monsieur[8], – ответил крестьянин. – Merci[9]. – De rien, monsieur[10]. – Надо глядеть на башмаки, – беззаботно объяснил Джек, выждав несколько минут, чтобы Элиза смутилась по-настоящему. – Никто, кроме французов, не носит сабо. – А как?.. – Во Франции крестьянам несладко. Они отлично знают, что на востоке есть пустующие земли. Как и те, кого мы ждем сегодня к обеду. – К обеду? Джек нашёл в погребе глиняный кувшин и велел Элизе набросать внутрь камешков. Сам он занялся пороховницей, оставшейся от Бурой Бесс. Оторвал от рубашки полосу ткани, вывалял её в порохе до черноты, поджёг край с помощью кремня и огнива и стал смотреть, как пламя и чёрный дым побежали по тряпице. Французские детишки, сплошь кишевшие блохами, собрались поглазеть. Джек велел им не подходить близко. Горящий запал их заворожил – ничего интереснее они в жизни не видели. Элиза набрала полкувшина камешков. Остальное было довольно просто. Остатки пороха вместе с новым запалом отправились в кувшин. Джек поджёг конец запала, заткнул горлышко тёплым свечным огарком, чтобы не попала вода, и забросил кувшин далеко в воду. Пруд проглотил его и через мгновение рыгнул: вода заходила, запенилась, из неё как по волшебству поднялось облако сухого дыма. Через минуту вся поверхность пруда была покрыта оглушённой рыбой. – Обед готов! – закричал Джек. Однако лес и без того ожил – цепочки людей двигались по тропам, как огонь по запалу. – В седло, девонька, – посоветовал Джек. – Они опасны? – Смотря о чём речь. Мне повезло; меня не берут чума, проказа, гнойная язва… Он мог не продолжать: Элиза уже запрыгнула на лошадь стремительным движением, которое восхитило бы любого мужчину (за исключением содомита). Джек, за отсутствием других развлечений, научил её верховой езде; сейчас она умело поворотила Турка и въехала на мшистый пригорок – самое высокое место поблизости. – То было в лето Господне тысяча шестьсот шестьдесят пятое, – сказал Джек. – Мои дела шли в гору: мы с братом Бобом основали процветающее заведение, которое оказывало услуги осуждённым. Первым намёком стал запах серы, затем – серный дым на улицах, гуще и зловоннее обычного лондонского тумана. Серу жгли, чтобы очистить воздух. – От чего? – Затем по улицам потянулись повозки с дохлыми крысами, затем с кошками, затем с собаками и, наконец, с мёртвыми людьми. На некоторых домах стали появляться нарисованные красным мелом кресты: вооружённая стража стояла рядом с этими домами, чтобы несчастные обитатели не выломали забитые двери. Мне было никак не больше семи. Видеть, как они стоят в серном дыму, словно статуи героев, с алебардами и мушкетами наготове, под несущийся отовсюду похоронный звон, – мы с Бобом как будто попали в другой мир, не покидая Лондона. Все публичные увеселения запретили. Даже ирландцы не устраивали папистских праздников, и многие подались в бега. На Тайберне не вешали. Театры закрылись в первый раз со времён Кромвеля. Мы с Бобом разом лишились и заработка, и развлечений, на которые его тратить. Ушли из Лондона. Подались в леса. Как все. Там было не протолкнуться. Разбойникам пришлось собрать манатки и перебраться подальше. Ещё до того, как мы – лондонцы, бегущие от Чумы, – пришли в леса, там были целые города из шалашей, в которых жили вдовы, сироты, увечные, дурачки, безумцы, беглые подмастерья, бездомные проповедники, погорельцы, жертвы наводнений, дезертиры, бывшие солдаты, актёры, девицы, нагулявшие детей, лудильщики, коробейники, цыгане, беглые рабы, музыканты, списанные на берег матросы, контрабандисты, ошалелые ирландцы, рантеры, диггеры, левеллеры, квакеры и повитухи. Короче, обычный состав вагабондов. Теперь к ним добавились все лондонцы, которым хватило прыти удрать от Чёрной смерти. Через год Лондон сгорел дотла – ещё один исход. Через год обанкротилась флотская финансовая часть – к нам присоединились тысячи моряков, которые не получили жалованья. Мы кочевали по югу Англии, словно рождественские христославы из ада. Больше половины ждало, что через несколько недель наступит конец света, поэтому мы не загадывали надолго. Ломали изгороди и стены, борясь с Огораживанием, браконьерствовали в имениях особо набожных лордов и епископов. Покуда он вещал, бродяги по большей части вышли на открытое место. Джек смотрел не на них – он и так знал, как они выглядят, – а на Элизу, которая явно нервничала. Турок почувствовал это и теперь косил на Джека, показывая белый магометанский полумесяц в глазу. Джек знал, что так будет со всяким человеком и животным, которого они встретят в дороге, – каждый охотно позволит Элизе сесть на себя верхом, будет сопереживать ей, словно актрисе, и злобно коситься на Джека. Осталось лишь придумать, как это использовать. Элиза задышала спокойнее, увидев, что бродяги – просто люди. Они были даже чище и менее зверского вида, чем крестьяне, особенно когда полезли в пруд за рыбой. Двое цыганят, тащивших на берег огромного карпа, собрали толпу зрителей. – Некоторые из этих рыбин, наверное, помнят войну, – задумчиво произнёс Джек. Несколько человек подошли – не слишком близко, – чтобы засвидетельствовать почтение Джеку и (в большей мере) Элизе. Один из них был жилистый малый, чьи бледно-зелёные глаза смотрели с анатомического комплекса, менее всего напоминающего лицо. Нос отсутствовал, вместо него имелись два вертикальных дыхательных отверстия, верхней губы тоже не было, уши напоминали фестоны, на лбу алели какие-то слова. Он шагнул вперёд, остановился и отвесил низкий поклон. Странного человека окружали обладатели обычных ушей и носов, которые явно его любили. Они улыбались Элизе, убеждая её, что не надо с криком скакать прочь. – Прокажённый? – с вежливым изумлением спросила девушка. – Но тогда он не пользовался бы такой популярностью. – Беглый, – сказал Джек. – Когда польский крестьянин убегает, его ловят, клеймят и отрезают ему какую-нибудь часть тела – разумеется, ненужную для работы, – чтобы в следующий раз легче было узнать. Вот, девонька, кого я называю чёртовыми бедняками – тех, кого не могут исправить ни люди, ни церковь. Смотри, упорство принесло ему целую свиту обожателей. Джек перевёл взгляд на берег, где вагабонды под зачарованными взглядами бродячих собак руками вырывали из рыб кишки. Потом посмотрел на Элизу, которая внимательно его разглядывала. – Пытаешься вообразить меня без носа? Элиза опустила глаза. Джек ещё никогда не видел её потупившейся. Это взволновало его, и он рассердился на свое волнение. – Не смотри так. Последним, кто смотрел на меня вот так, с отличного скакуна, был сэр Уинстон Черчилль. – Кто это? Англичанин? – Джентльмен из Дорсетшира. Роялист. Люди Кромвеля сожгли его поместье. Он десять лет прожил на пепелище, растя детей, отбиваясь от бродяг и дожидаясь, когда вернётся король, а когда дождался, стал лондонским хлыщом. – И почему он смотрел на тебя с лошади? – На время Чумы и Пожара сэр Уинстон Черчилль сумел устроить себе местечко в Дублине – отправился туда по королевским делам. Время от времени он возвращался лизнуть задницу его величеству и осмотреть то, что осталось от поместий. В один из таких наездов он с сыном посетил Дорсет и поднял на ноги местное ополчение. – А ты был там? – Да. – Не случайно, полагаю? – Мы с Бобом и несколькими приятелями решили поддержать трогательный местный обычай. – Деревенские пляски? – Некогда по тамошним дорогам бродили толпы вооружённых дубинами крестьян. Кромвель их перебил, но не всех – мы надеялись на возрождение традиции. Прокормиться более мягкой формой бродяжничества стало трудно из-за всевозрастающей конкуренции. – И как сэр Уинстон отнёсся к вашей затее? – Не захотел, чтобы его дом снова сожгли: он как раз, через двадцать лет, сумел подвести крышу. Он был тамошний наместник – пост, на который король назначает главных своих подхалимов; соответственно, ему подчинялось местное ополчение. Большая часть наместников сидит в Лондоне, однако после Чумы и Пожара люди вроде меня устроили в провинции весёлую жизнь, так что наместникам дали право обыскивать подозрительных лиц на предмет оружия, заключать под стражу и всё такое. – Тебя взяли под стражу? – Что? Нет, мы были обычные мальчишки, а с недокорму выглядели даже моложе своих лет. Сэр Уинстон решил для острастки повесить несколько человек – обычный способ убедить бродяг перебраться в соседнее графство. Выбрал троих и вздёрнул на ближайшем суку, а мы с Бобом в качестве последней услуги повисли у них на ногах, чтоб сократить мучения. Тут нас и заметил сэр Уинстон Черчилль. Мы с Бобом на одно лицо, хотя отцы у нас наверняка разные. Вид двух одинаковых мальчишек, исполняющих своё дело с хладнокровием, порождённым большим опытом, позабавил сэра Уинстона. Он подозвал нас и тут-то (вместе со своим сыном Джоном, всего на десять лет старше меня) оглядел так, как ты смотришь сейчас. – И к каким выводам пришёл он? – Я не стал дожидаться, когда он придёт к выводам, а сказал что-то вроде: «Вы здесь ответственное должностное лицо?» Боб к этому времени уже смылся. Сэр Уинстон рассмеялся как-то чересчур весело и сказал, что да, он. «Ну, я бы хотел принести жалобу, – сказал я. – Вы объявили, что проведёте парочку показательных повешений. И так вы представляете себе образцовую казнь? Верёвка слишком тонкая, петля завязана плохо, сук того гляди сломается, а само повешение, позволю себе заметить, было проведено без должного эффекта. Вздумай Джек Кетч так халтурить на Тайберне, его бы порвали на куски». – Но, Джек, разве ты не понял, что сэр Уинстон употребил слово «показательный» совершенно в другом смысле? – Понял, разумеется. И разумеется, сэр Уинстон пустился в такие же нудные объяснения, что и ты сейчас, хоть я и перебивал его множеством куда более глупых шуток, – как вдруг Джон Черчилль взглянул в сторону и сказал: «Послушай, отец, второй малый роется в наших вещах». – Что? Боб? – Я отвлекал их, девонька, чтобы они смотрели на меня, покуда Боб что-нибудь у них стибрит. Только Джон Черчилль нас раскусил. – И что сэр Уинстон подумал о тебе после этого? – Он вытащил хлыст. Тут Джон заговорил с ним шёпотом и, как я понимаю, переубедил отца. Сэр Уинстон объявил, что увидел в мальчиках Шафто качества, полезные в полковой жизни. С этого дня мы стали чистильщиками сапог и мушкетов, мальчишками, которых гоняют за пивом, и вообще вестовыми в местном полку сэра Уинстона Черчилля. Получили возможность доказать, что мы Божьи, а не чёртовы бедняки. – Так вот где ты получил воинские познания. – Вот где я начал их получать. Это было добрых шестнадцать лет назад. – И потому, наверное, ты сочувствуешь вот им. – Элиза повела взглядом в сторону бродяг. – Ты что, думаешь, я устроил затею с рыбой из благотворительности? – Ну… – Нам надо получить сведения. – От них? – Я слышал, что в некоторых городах есть здания, которые зовутся «библиотеки», и в них полно книг, а в каждой книге – по истории. Так вот ни в одной библиотеке нет столько историй, сколько в лагере вагабондов. Как доктора словесности отправляются в библиотеку, чтобы читать истории, так и мне надо кое-что выведать у кого-то из этих людей. Я не знаю, у кого именно, и потому собрал всех. – Что выведать? – О лесистой, холмистой местности к северу от этих краев, где из-под земли круглый год бьёт горячая вода и бездомные странники не замерзают от холода. Видишь ли, детка, если мы собирались перезимовать здесь, то к сбору дров следовало приступить месяц назад. Джек подошёл к бродягам и, поговорив с ними на не слишком благозвучной смеси воровского жаргона, французского и языка жестов, вскоре выяснил всё, что хотел. Среди них было много гайдуков, которые промышляли набегами на турок. По коню и сабле они угадали часть истории, поэтому стали звать Джека с собой. Джек счёл за лучшее ускользнуть, пока дружеские просьбы не перешли в требование. Кроме того, зрелище разношерстных бродяг, кромсающих пятидесятилетнего карпа, стало почти таким же апокалиптическим, как картины турецкого лагеря, и захотелось поскорее оставить его позади. Элиза и Джек отправились на север. Ночь впервые выдалась такая холодная, что им пришлось лечь у костра под одним одеялом. Элиза спала крепким сном, Джек почти не сомкнул глаз. Богемия зима 1683—1684 В две недели, прошедшие с тех пор, как Джек, уподобившись Христу, накормил тысячу бродяг при помощи одной маленькой пороховницы, они с Элизой почти не разговаривали, разве что о насущных заботах по поддержанию жизни. Холмистая местность с сожжёнными замками, прудами и широкими долинами сменилась гористой, которая то ли меньше пострадала от войны, то ли быстрее оправилась. С холмов и перевалов они видели бурые поля, на которых, как пузыри на стоячей воде, темнели копны сена, и аккуратные городки, ощетинившиеся трубами, словно пиками и мушкетами, выставленными против стужи. Джек пытался сравнивать увиденное с тем, что рассказали бродяги. Бывали ночи, когда путники думали, что точно погибнут, а потом находили брошенную лачугу, пещерку или просто расселину между камнями, где можно было сложить лежанку из палой листвы и развести костер. Наконец они внезапно, как на засаду, вышли в долину, где ветви деревьев кутал седой туман, и пар поднимался от зловонной речки, бегущей по причудливому разноцветному ложу. «Мы на месте», – сказал Джек и, спрятав Элизу в лесу, выехал на открытое место. Он поговорил с двумя рудокопами, которые выковыривали из речных наносов камешки, пахнущие, как Лондон в чумной год. Сера! Джек почти не говорил по-немецки, они не знали английского, но прониклись уважением к коню, ботфортам и сабле. Сопением и жестами рудокопы показали, что не будут возражать, если он перезимует у горячих ключей, в полулиге выше по ручью. Туда Элиза с Джеком и отправились. Ручей вытекал из пещеры, в которой было всегда тепло. Долго оставаться они там не могли из-за ужасающего зловония, однако ходили туда отогреваться, пока чинили развалившуюся лачугу на берегу ручья. Джек рубил деревца и носил Элизе, а та затыкала дыры. Крыша не защитила бы от дождя, но спасала от снега. У Джека осталось немного серебра, он покупал кроликов у рудокопов, которые ставили в лесу хитрые силки. Таким образом, их первый месяц на горячих ключах состоял из маленьких побед в борьбе за выживание, которые забывались на следующий день, и разговаривали они о самых простых крестьянских делах. Затем пришёл день, когда уже не требовалось проводить каждую минуту в заботах. Джеку было все равно. Однако Элиза дала понять, что некоторые мысли не оставляли её всё это время. – Чем ты недовольна? – выпалил Джек одним – вероятно, декабрьским, – днём. – Не обращай внимания, – фыркнула Элиза. – Погода немного хмурится. – Погода или ты? – Просто думаю… о всяком. – Так брось думать. В этой лачуге и так-то лечь почти негде, а тут ещё по полу течёт ручеёк слёз. Разве мы не говорили несколько месяцев назад о женских настроениях? – Трогательная забота. Как тебя отблагодарить? – Перестань реветь! Элиза несколько раз всхлипнула так, что лачуга содрогнулась, затем распяла Джека фальшивой улыбкой. – Так тот полк… – Что-что? Я должен не только спасать тебя от голода и холода, но и развлекать? – Ты не хочешь о нём разговаривать. Может, на тебя тоже напала тоска? – Твой хитрый умишко ни на минуту не перестаёт работать. Ты употребишь мои рассказы против меня. В них есть некоторые подробности, не очень важные, к которым ты питаешь нездоровый интерес. – Джек, мы живем, как скоты, в дикой глуши – что я сделаю с историей, которой лет почти как мне? И, Бога ради, что мне ещё делать, если у меня нет иголок и ниток? – Ну вот, опять заладила. Где, по-твоему, скот в дикой глуши может раздобыть иголки и нитки? – Попроси рудокопов купить в городе. Они возят Турку овёс – почему не нитку с иголкой? – Тогда они догадаются, что у меня здесь женщина. – У тебя не будет здесь женщины, если не расскажешь мне историю или не добудешь нитку с иголкой. – Ладно. Та часть история, которая наверняка тебя чересчур взволнует, состоит в том, что хотя сэр Уинстон Черчилль не бог весть что за птица, его сын Джон на какое-то время достиг высокого положения. Теперь это в прошлом. Вряд ли он когда-нибудь снова отличится, разве что при дворе. – Ты же говорил, что его отец был немногим лучше бродяги. – Да. И Джон никогда не достиг бы таких высот, не будь он умён, красив, отважен и хорош в койке. – Когда же ты меня с ним познакомишь? – Знаю, именно к этому ты меня всё время подталкиваешь. – И какого же «высокого положения» он достиг? – Постели любимой фаворитки короля Карла II Английского. Короткая пауза, затем вулканический хохот Элизы. – Хочешь сказать, что ты, Джек Куцый Хер, лично знаком с хахалем королевской фаворитки? – Успокойся, не то порвёшь себе что-нибудь, а тут врачей нет. Если бы ты видела что-нибудь, кроме азиатских гаремов, ты бы не удивилась. Другая любимая фаворитка короля была Нелл Гвин – актриса. – Я с самого начала почувствовала, что ты не из простых. Но расскажи – раз уж начал, – как Джон Черчилль попал из отцовского полка в королевскую койку? – О, учти, Джон никогда не был приписан к отцовскому полку – просто посещал его вместе с папашей. Семья жила в Лондоне. Джон учился в какой-то расфуфыренной школе. Сэр Уинстон прибег к старым связям – вероятно, стал ныть о своей верности королю в Междуцарствие, – и Джона назначили пажом Джеймса, герцога Йоркского, королевского братца-паписта, который, когда я о нём последний раз слышал, пытал в Эдинбурге шотландцев. Однако в то время, около 1670-го, герцог Йоркский жил в Лондоне, и Джон Черчилль, в качестве его пажа, тоже. Шли годы. Мы с Джеком отъелись на солдатских объедках и стали что два бычка для ярмарки. – Это точно! – Не притворяйся, будто восхищаешься мной, – ты знаешь мои тайны. Мы продолжали служить в полку. Джон Черчилль на несколько лет отправился в Танжер сражаться с берберийскими пиратами. – Чего ж он меня не освободил? – Может, ещё освободит. Сейчас я подхожу к осаде Маастрихта – это город в Голландии. – Далековато от Танжера. – Слушай внимательно. Он вернулся из Танжера, покрытый славой. Тем временем Карл II заключил пакт – вообрази! – с королём Луем Французским, архипапистом, таким богатым, что он подкупил не только английскую оппозицию, но и другую партию – просто для смеха. Итак, Англия и Франция вместе напали на Голландию. Король Луй в сопровождении передвижного города придворных, любовниц, генералов, епископов, официальных историографов, поэтов, портретистов, поваров, музыкантов и свиты всех этих ребят, а также свиты свитских, прибыл под Маастрихт и задал осаду, как обычные короли задают пир. Лагерь у него был не такой роскошный, как у великого визиря под Веной, но народец собрался познатнее. Все европейские модники поспешили туда. А Джон Черчилль был модник хоть куда. Он отправился под Маастрихт. Я и Боб – с ним. – Что-то я перестала понимать. Кто пригласил двух шалопаев? – Во-первых: мы в последнее время не шалили. Во-вторых: самым разблагородным господам надо, чтобы кто-то выносил ночные горшки и (в бою) закрывал их от пуль. – В-третьих? – Her никакого в-третьих. – Врёшь. Ты приоткрыл рог и поднял палец, а потом передумал. – Ладно. В-третьих, Джон Черчилль – придворный, временами альфонс, модный хлыщ – лучший командир, какого я видел. – Ясно. – Хотя Ян Собеский тоже неплох. Впрочем… мне больно это признавать. – Очевидно. – Но это правда. И как отличному командиру ему хватило ума собрать вокруг несколько человек, которые и впрямь на что-то способны. Тебе, наверное, трудно поверить, но попомни мои слова – когда серьёзным толковым людям надо что-то сделать в реальном мире, всякие соображения этикета и традиций летят в помойку. – Так он считал, что вы с Бобом на что-то годитесь в реальном мире? – Доставлять приказы на поле боя. – Он был нрав? – Наполовину. – Один из вас оказался хорошим вестовым, а другой… – Я не оказался плохим вестовым, я просто нашёл более разумный способ проводить время. – Джон Черчилль дал тебе приказ, а ты отказался? – Нет, нет, нет! Всё было не так. Ты следила за осадой Вены? – Ещё бы! Ведь от исхода осады зависела моя девственность. – Расскажи мне, что делал великий визирь. – Рыл перед стенами одну траншею задругой, каждая следующая на несколько ярдов дальше предыдущей. Из самой дальней провёл подкоп под такую крепость, вроде наконечника стрелы… – Называется равелин. Во всех современных крепостях такие есть, в том числе в Маастрихте. – Не важно. Продвигался. И так далее. – Все осады проводятся так. Включая маастрихтскую. – Итак? – К тому времени, как прибыла модная публика, всё рытье закончили. Траншеи и сапы выкопали. Пришло время штурмовать некое укрепление, которое сапёр правильно назвал бы люнетом, но очень похожее на равелин, который ты видела в Вене. – Отдельная крепость. – Да. Король Луй хотел, чтобы английские воины-джентльмены к концу были либо его должниками, либо покойниками, поэтому уступил им честь штурмовать люнет. Джон Черчилль и герцог Монмутский – ублюдок короля Карла – повели атаку и одержали победу. Черчилль самолично водрузил французский (как ни противно говорить) флаг на парапете захваченного укрепления. – Потрясающе! – Я сказал тебе, что когда-то он был очень значительным персонажем. Они спустились с изрытого траншеями гласиса, чтобы провести ночь в праздновании. – Так тебе ни разу и не поручили доставить приказ? – На следующий день я почувствовал, как земля переворачивается, и, взглянув на люнет, увидел, что пятьдесят французских солдат взлетели на воздух. Защитники Маастрихта подвели под люнет контрмину. Голландцы хлынули в пролом и ударили в штыки по тем, кто уцелел после взрыва. Казалось, они отобьют люнет и загубят славные достижения Черчилля и Монмута. Я был менее чем в десяти футах от Джона Черчилля, когда это случилось. Ни секунды не колеблясь, он бросился вперёд со шпагой в руке – ясно было, что мушкеты тут не помогут. Чтобы сберечь время, он бежал по верху – под огнём защитников города, на виду у всех историографов и поэтов, наблюдавших в усыпанные драгоценными камнями театральные бинокли из окон своих карет с расстояния, на которое не долетали пули и ядра. Я стоял, дивясь его глупости, пока не понял, что мой брат Боб бежит за ним следом. – И?.. – И подивился Бобовой глупости. Сама посуди, в какое дурацкое положение он меня поставил! – Ты всегда думаешь о себе. – По счастью, передо мной появился герцог Монмутский и велел доставить сообщение ближайшей роте французских мушкетёров. Я побежал по траншее и нашел мсье д'Артаньяна, офицера, который… – Перестань! – Что? – Даже я слышала о д'Артаньяне! Думаешь, я тебе поверю? – Мне можно продолжать? Вздох. – Да. – Мсье д'Артаньян – ты, похоже, не понимаешь, что он был вполне реальным человеком, а не только романтической легендой, – послал своих мушкетёров в атаку. Все мы с подозрительной отвагой двинулись на люнет. – Потрясающе! – проговорила Элиза почти без иронии. Сперва она не поверила, что Джек действительно видел великого д'Артаньяна, но теперь увлеклась повествованием. – Поскольку мы бежали не по апрошам, как сделали бы трусы, мы добрались до места сражения с той стороны, с которой голландцы не поставили достаточной обороны. Все мы – французские мушкетёры, английские ублюдки, альфонсы и бродяги-вестовые – добежали туда одновременно. Однако дальше надо было пробираться через брешь, в которую предстояло лезть по одному. Д'Артаньян добрался туда первым, преградил дорогу герцогу Монмутскому и в самой учтивой французской манере умолял его не лезть в опасный пролом. Монмут настаивал. Д'Артаньян согласился – но лишь с условием, что он, д'Артаньян, полезет первым. Так он и сделал, и ему прострелили башку. Остальные пробежали по его телу и одержали свою смешную победу, а я остался приглядеть за д'Артаньяном. – Он был жив?! – Нет, конечно. Его мозги разбрызгало по моей одежде. – Ты остался стеречь его тело?.. – Вообще-то я положил глаз на его перстни. У Элизы лицо стало такое, будто ей самой прострелили голову, причинив неведомой тяжести рану. Джек собирался перейти к более славной части повествования, однако Элиза упёрлась. – Покуда твой брат рисковал жизнью, ты грабил убитого д'Артаньяна? В жизни не слышала ничего хуже. – Почему? – Это так… малодушно. – Зря ты. Я был в большей опасности, чем Боб. Пуля пробила мне шляпу. – И всё равно… – Бой закончился. Перстни были размером с дверные ручки. Прославленного мушкетёра так и похоронили бы в перстнях – если бы кто другой не украл их раньше. – Ты забрал их, Джек? – Он надел их, когда был моложе и стройнее. Снять их было нельзя. Поэтому я уперся ногой в его поганую подмышку – не худшее место, в каком бывала моя нога, но близко к тому, – и потянул что есть силы, силясь перетащить перстни через наплывы жира, накопленного за годы распутства и пьянства, в то же время спрашивая себя, почему бы просто не отрезать пальцы к чертям собачьим… – Тут у Элизы стало такое лицо, будто она съела испорченную устрицу, и Джек торопливо продолжил: – И тут появляется – кто бы ты думала? – мой братец Боб с выражением праведного ужаса на физиономии, как у викария, который увидел, что служка дрочит в алтаре – или как у тебя сейчас, – в форме маленького барабанщика – с невероятно срочным посланием от Черчилля к одному из генералов короля Луя. Он останавливается, чтобы прочесть мне лекцию о воинской чести. «Ах, ты ведь сам не веришь в эту ахинею», – говорю я. «До сегодняшнего дня не верил, но если бы ты видел то, что видел сегодня я – те подвиги, которые совершили славные братья по оружию, Джон Черчилль, герцог Монмутский и Луи Эктор де Виллар, – ты бы поверил». – И он поспешил с посланием, – сказала Элиза, глядя отсутствующим взглядом, который совершенно не понравился Джеку – тот предпочёл бы, чтоб она оставалась в лачуге с ним. – И Джон Черчилль не позабыл отвагу и верность Боба. – Ага. Через два месяца Боб отправился с ним в Вестфалию и сражался под французскими знамёнами в качестве наёмника против безвинных реформатов, в сотый раз ровняя с землёй Пфальц. Не припомню, какое отношение это имеет к воинской чести. – Ты же, со своей стороны… – Глотнул коньяка из фляжки д'Артаньяна и скатился обратно в канаву. Последние слова вернули Элизу в настоящее место (лачуга в Богемии) и время (лето Господне 1683-е). Она обратила на Джека всю силу своих синих глаз. – Ты постоянно выставляешь себя таким негодником, Джек, – говоришь, будто хотел отрезать д'Артаньяну пальцы, предлагаешь взорвать дворец императора Священной Римской империи… И все-таки я не думаю, что ты на самом деле такой дурной. – Мой изъян не позволяет мне поступать так дурно, как мне бы хотелось. – Кстати, Джек. Если ты найдёшь кусок прочной, целой оленьей или бараньей кишки… – Зачем? – Турецкий обычай – проще показать, чем объяснить. И если ты полежишь несколько минут в горячем ключе, чтобы немного отмыться, – шанс поступить дурно представится. – Ладно, отрепетируем ещё раз. «Джек, покажи господину вон тот отрез жёлтого муарового шёлка». Давай – твоя реплика. – Да, миледи. – Джек, перенеси меня вон через ту лужу. – Охотно, миледи. – Не говори «охотно» – звучит дерзостью. – Как вам угодно, миледи. – Замечательно, Джек, куда лучше, чем прежде. – Вряд ли это оттого, что ты засунула кулак мне в задницу. Элиза весело рассмеялась. – Кулак? Джек, это всего два пальца. Кулак был бы больше похож на… вот! Джек почувствовал, что тело его выворачивается наизнанку. Он забился и закричал и тут же захлебнулся сернистой водой. Элиза свободной рукой схватила его за волосы и вытащила на холодный воздух. – Ты уверена, что именно так делают в Индии? – Ты хочешь заявить… жалобу? – А-а-а! Нет. – Попомни мои слова, Джек, – когда серьёзным толковым людям надо что-то сделать в реальном мире, всякие соображения этикета и традиций летят в помойку. Последовала долгая, загадочная процедура – скучная и в то же время нет. – Чего ты там шаришь? – слабым голосом пробормотал Джек. – Желчный пузырь левее. – Пытаюсь найти некую чакру… она должна быть где-то примерно здесь… – Что такое чакра? – Найду – узнаешь. Чуть позже она нашла, и процедура стала напряжённой, если не сказать больше. Вися между руками Элизы, как рыночные весы, Джек чувствовал, что стрелка весов отклоняется по мере того, как большое количество жидкости перекачивается между внутренними резервуарами в подготовке к некоему Событию. И вот наконец оно. Джек забил ногами в горячей воде, словно пытаясь взлететь, однако тело его было насажено на кол. Пузырь непостижимого света, как будто солнце решило по ошибке взойти у него в голове. Некий индуистский апокалипсис. Он умер, попал в ад, взошёл на небо, воплотился в различных ржущих, визжащих и рычащих животных и повторил этот цикл несколько раз. Под конец он кое-как перевоплотился в человека. Несколько ошалевшего. – Получил, что хотел? – спросила Элиза очень близко. Джек некоторое время беззвучно смеялся или рыдал. – В некоторых готических немецких городках, – сказал он наконец, – есть часы, большие, как дома Большую часть времени они закрыты, а раз в час из маленькой дверцы выглядывает кукушка и кукует. Но раз в день они делают что-то особливое, раз в неделю – что-то ещё особливее, и как я слышал, при смене года, десятилетия и века со скрипом открываются целые ряды дверец, покрытых застарелой пылью, и весь доселе невидимый внутренний механизм приходит в движение под действием древних гирь на ржавых цепях. Флаги колышутся, механические птицы поют, голубиное дерьмо и паутина сыплются на головы зрителей. Смерть выходит и танцует фанданго, ангелы дуют в трубы, Христос корчится на кресте, потом испускает дух, морские сражения разыгрываются под канонаду, и не будешь ли ты так любезна вынуть руку из моей задницы? – Я давно вынула – ты чуть её не сломал! – стаскивая завязанную баранью кишку, как элегантная дама – шёлковую перчатку. – Так это навсегда? – Кончай ныть. Несколько мгновений назад, Джек, если зрение меня не обманывает, я видела, как на удивление большое количество жёлтой желчи вышло из твоего тела и уплыло по течению. – О чём ты? Я не блевал. – Подумай ещё раз. – А, ты об этом. Я не назвал бы её жёлтой, скорее беловато-жемчужной. Впрочем, я не видел её много лет. Может быть, от времени она пожелтела, как сыр. – А ты знаешь, Джек, какой страсти соответствует жёлтая желчь? – Я что, врач? – Это гумор гнева и дурного характера. Ты много носил её в себе. – Правда? Хорошо, что она не повлияла на мой нрав. – Вообще-то я надеялась, что ты переменил своё мнение касательно иголки и нитки. – А, это? Я никогда не возражал. Считай, что они куплены. Лейпциг апрель 1684 Судя по всему, что я слышала, Лейбниц должен быть очень умён и, следовательно, приятен в общении. Так трудно найти мужчин, которые чисты, не воняют и наделены чувством юмора. – Жак, покажи господину вон тот отрез жёлтого муарового шёлка… Жак? Жак! – Элиза плавно перешла к жестокой шутке о том, как трудно сейчас найти надежного и работящего слугу. Она говорила на бойком французском, которого Джек не понимал. Упомянутый господин – очевидно, парижский торговец тканями, – оторвал взгляд от Элизиного декольте, чтобы взглянуть ей в лицо и нервно подхихикнуть: он понял, что прозвучало bon mot[11] но не услышал слов. – Ба, он ошалел, что к твоим грудям еще и голова прилагается, – заметил Джек. – Заткнись… когда-нибудь мы напоремся на человека, который понимает английский, – отвечала Элиза и кивнула на шелк. – Может, проснёшься? – Я уже проснулся – в том-то и беда. – Джек наклонился отмотать шёлка. Не помешал бы луч света. Однако единственным лучезарным небесным телом тут была Элиза в одном из платьев, над которыми трудилась несколько месяцев. Джек видел, как наряды возникают из груды тряпья, поэтому на него они действовали не так сильно. Зато когда Элиза шла по рынку, платья привлекали такие взгляды, что Джеку практически пришлось привязать правую руку к боку, чтобы не выхватить дамасскую саблю и не научить лейпцигских купцов учтивым манерам. Она вступила в долгий спор с парижанином. В конце концов тот вручил ей засаленный клочок бумаги, на котором что-то было много раз написано разными почерками, забрал у Джека шёлк и ушёл. Джек снова еле сдержал желание схватиться за саблю. – Это меня убивает. – Да. Ты всякий раз так говоришь. – Ты уверена, будто эти клочки чего-то стоят? – Да! Вот здесь написано, – сказала Элиза. – Прочесть тебе? Подошёл карлик, торгующий шоколадом. – Ничего не поможет, кроме серебра у меня в кармане. – Боишься, как бы я тебя не обманула, пользуясь тем, что ты не можешь прочесть цифры на векселях? – Боюсь, как бы с ними что-нибудь не случилось, прежде чем мы обратим их в настоящие деньги. – Что такое «настоящие» деньги, Джек? Ответь мне. – Ну, пиастры или, как там их ещё называют, доллары… – «Т». Начинается с буквы вроде «т» – вот такой. Талеры. – Д-д-доллары. – Какое глупое название для денег, Джек. Никто не станет принимать тебя всерьёз, если будешь говорить так. – Ну, «иоахимсталер» уже сократили до «талер», почему бы не изменить слово ещё малость? Примерно через месяц зимовки на горячих ключах ими начало овладевать растущее безумие. Джек думал, что медленный запал сифилиса добрался-таки до важных частей мозга, пока Элиза не указала, что они несколько месяцев живут на хлебе, воде и редких ломтиках вяленого карпа. Солдатское жалованье довольно скудно, но вместе с тем то, что Джек награбил в доме Страсбургского богача, обеспечило бы их не только овсом для Турка, но и капустой, картошкой, турнепсом, солониной и яйцами – если бы Джек не боялся потратиться. В качестве закупщиков он нанял двух рудокопов, Ганса и Ганса. Они были не вольные старатели, а работники некоего герра Гейделя из Иоахимсталя, близлежащего городка, где добывали серебро. Герр Гейдель нанимал таких, как Ганс и Ганс, чтобы выкапывать руду и превращать её в слитки, из которых в городе чеканили иоахимсталеры. Герр Гейдель, прослышав, что странный вооружённый человек поселился в лесах неподалёку от его серных промыслов, поехал с несколькими мушкетёрами выяснить, и чём дело, и застал Элизу одну за шитьём. К тому времени, как несколько часов спустя возвратился Джек, Элиза и герр Гейдель если не сдружились, то, во всяком случае, узнали друг в друге людей одного склада, а следовательно, потенциальных деловых партнёров, хоть и непонятно, в каком деле. Герр Гейдель восхищался Элизой и выражал уверенность, что на лейпцигской ярмарке её ждет успех. Джек понравился ему куда меньше; единственное, что говорило в пользу Джека, это желание Элизы с ним сотрудничать. Джек, со своей стороны, готов был мириться с герром Гейделем из-за его умопомрачительной профессии – тот буквально делал деньги. Первые несколько раз, когда Джеку пытались объяснить, он считал, что Элиза напутала при переводе. Так не бывает. – И что, это всё? Выкапывают грязь из земли, пропускают через печь, печатают морду и несколько слов? – Так он вроде говорит, – отвечала Элиза в несвойственном ей недоумении. – В Берберии пользуются испанскими пиастрами – я никогда не видела монетного двора. Хотела сказать, что не отличу монетного двора от скотного, но, судя по всему, разница и правда невелика. Когда немного потеплело и они смогли добраться до Иоахимсталя, выяснилось, что так примерно и есть. Главным элементом монетного двора был бугай с клещами и молотом. Ему давали серебряные кругляшки – не деньги, – он зажимал их клещами и ударом молота выбивал портрет какой-то важной карги и латинское изречение, после чего кругляшки становились деньгами. Чиновники, инспектора, пробирщики, писари, охрана и прочие паразиты толпились вокруг бугая, но, как вши на быке, не могли скрыть обшей природы происходящего. Простота изготовления денег повергала Джека в прострацию. – Зачем нам отсюда уезжать? После стольких скитаний я обрёл рай. – Всё не так просто. Герр Гейдель расстроен – он вынужден добывать серу и другие руды. Говорит, что не может заработать деньги, делая деньги. – Явная глупость. Отпугивает конкурентов. – Видел заброшенные рудники? – Руду выбрали, – предположил Джек. – Тогда почему над устьями шахт по-прежнему стоят механизмы? Почему их не перевезли на те шахты, где ещё есть руда? Джек не ответил. При следующей встрече Элиза устроила герру Гейделю форменный допрос. Джека за такое любопытство серебропромышленник вызвал бы на дуэль, Элиза же только выросла в его глазах. Герр Гейдель говорил по-французски немногим лучше Джека, и разговор шёл так медленно, что тот почти всё понял. По неведомым причинам испанцам дешевле было добывать серебро в Мексике и везти кораблями вокруг половины земного шара (несмотря на все усилия английских, голландских, французских, мальтийских и берберийских пиратов), чем герру Гейделю и его собутыльникам – в Иоахимстале, в нескольких днях езды от Лейпцига. Соответственно, работали лишь самые богатые рудники Европы. Стратегия герра Гейделя состояла в следующем: отправить безработных рудокопов добывать серу (до того, как рухнула европейская добыча серебра, это бы не сработало, поскольку те составляли сильную гильдию; однако теперь их труд подешевел), серу везти в Лейпциг и дёшево продавать изготовителям пороха в надежде сбить сцену на него и, соответственно, на войну[12]. Если воевать станет достаточно дёшево, начнётся чёрт-те что, и, возможно, несколько испанских галеонов потопят, а цена серебра вернётся на приемлемый уровень. – А не станет ли разбойникам дешевле нападать на вас по пути в Лейпциг? – спросил Джек, смотревший на всё с точки зрения грабежа. Элиза бросила на Джека взгляд, обещавший страшные кары в следующий раз, как она доберётся до его чакр. – Джек хотел спросить: «Что, если война разразится в местности по пути в Лейпциг?» Герр Гейдель бровью не повёл. Войны случаются всё время, повсюду и никак не затрагивают лейпцигскую ярмарку. Если нынешние неприятности минуют, он вновь станет богатым купцом. Вот уже пятьсот лет ярмарка пользуется привилегиями, дарованными Священным Римским императором: коль скоро торговец держится определённых дорог и платит номинальную пошлину тем князьям, чьи земли пересекает, он неприкосновенен, даже если едет прямиком через поле сражения. Купцы выше войн. – А если вы везёте порох для продажи врагу? – спросила Элиза. И снова герр Гейдель лишь нетерпеливо отмахнулся, словно говоря: войны – забава скучающих князей, а вот ярмарки – дело серьёзное. Оказалось даже хорошо, что Джек упомянул про разбойников, поскольку герр Гейдель много размышлял на эту самую тему. Его обоз собирался на открытых местах в Иоахимстале. Возчики, натягивая постромки, уговаривали запряжённых попарно лошадей встать перед фургонами. Погонщики разыгрывали изумление, когда их мулы принимались артачиться, испробовав вес поклажи: первый акт в извечной игре, которая всегда заканчивается хлыстом и бранью. Герр Гейдель не был сейчас богатым купцом и в начале пути собирался избегать тех дорог, на которых хочешь, не хочешь надо нанимать вооружённый эскорт, так что первая часть поездки обещала быть интересной. Герр Гейдель располагал несколькими людьми, умеющими заряжать и разряжать мушкет, однако был не прочь добавить к своему сопровождению Джека; разумеется, Элиза могла воспользоваться любым из его фургонов. Джек, сознавая, что на кону стоят Элиза и наследство его сыновей, воспринял свои обязанности серьёзнее, чем обычно. Время от времени он выезжал вперёд – проверить, нет ли засады. Дважды ему попадались кучки безработных рудокопов с кольями и дубинками. Джек рассказывал, как герр Гейдель намерен возродить добычу серебра, и они расходились. На самом деле на них действовало не красноречие, а он сам и его товарищи с ружьями и пистолями. Джек, знавший эту категорию людей, видел, что они недостаточно голодны (или им недостаёт решительного вожака), чтобы платить за добычу жизнью, особенно если добыча – сера, которую (как напомнил им Джек) нелегко будет обратить в серебро. Её придётся везти на ярмарку и продавать, если, конечно, среди них нет алхимика. Он умолчал, что в одном из фургонов под серой спрятан сундук со свежеотчеканенными иоахимсталерами. Ему подумалось упомянуть об этом и потом самому возглавить нападение, но он понимал, что в таком случае уедет без Элизы, единственной женщины в мире (во всяком случае, единственной, кого он знал лично), способной доставить ему плотскую радость. Тут он понял, почему герр Гейдель так пристально наблюдал за их с Элизой разговорами: решал, можно ли Джеку доверять. Очевидно, герр Гейдель рассудил, что Джек у неё в кармане. Джеку это было не по душе; впрочем, с герром Гейделем (хоть и не с Элизой) ему предстояло скоро расстаться. Так или иначе, они проехали к северу от гор, которые герр Гейдель на своём языке называл просто Рудными, в Саксонию, о которой нечего сказать, кроме того, что она плоская. Здесь они выбрались на очень большую и древнюю дорогу, идущую, по словам герра Гейделя, от самой Вероны до Гамбурга и дальше. На Джека большое впечатление произвели дорожные столбы: десятифутовые каменные обелиски, украшенные гербами давно умерших королей. На каждом указывалось число миль до Лейпцига. По дороге двигалась череда купеческих обозов. Во влажной низине, расчерченной множеством текущих в разные стороны речушек, она пересекалась с другой дорогой, ведущей якобы из Франкфурта на восток. На пересечении стоял Лейпциг. Джек большую часть дня бродил вокруг, оглядывая его со стороны пригородов, из общего принципа: прежде чем вступить в замкнутое пространство, проверь выходы. У южных ворот выстроилась очередь из фургонов в полмили длиной. Лейпциг оказался меньше и ниже Вены: несколько скромных шпилей и никаких тебе устремлённых в небеса соборов – короче, лютеранский бург. Вокруг крепостные стены и бастионы, всё честь по чести. Дальше простирались поместья и сады, некоторые – больше самого города. Все они принадлежали не знати, а купечеству[13]. Между поместьями ютились обычные пригороды; за изгородями, похожими на плетёные корзины, прогуливались свиньи. Едва заметное течение лениво вращало несколько мельничных колёс, однако в городе, где столько купцов, мельники стояли в иерархии немногим выше простых крестьян. У городских ворот Элиза и Джек заплатили по десять пфеннигов за себя и пошлину за шёлк, который при них взвесили на весах. (Страусовые перья Элиза зашила между нижними юбками, так что их не нашли.) Широкая улица вела к центру города, всего на выстрел отстоящему от ворот. Спешившись, Джек впервые за полгода ощутил под ногами булыжную мостовую. Ступни чувствовали каждый камень – пришло время менять подмётки. По обеим сторонам улицы сводчатые подворотни извергали шум. Джек поминутно хватался за саблю, словно чуял засаду, и тут же злился, что ведёт себя как деревенский простофиля, впервые увидевший Париж. Элиза, впрочем, была ошарашена не меньше и постоянно сдерживала шаг, чтобы почувствовать за спиной Джека. На фасадах висели странные вывески или эмблемы, часто золочёные: змея, голова турка, красный лев, золотой лев. Они немного походили на вывески английских таверн, у которых эмблема заменяет надпись, чтобы неграмотные вроде Джека могли их узнать. Однако то были не таверны, а большие особняки со множеством окон, и в каждом имелась огромная сводчатая арка, ведущая во двор, где царил бедлам. Элиза и Джек продолжали двигаться из страха, что, остановившись, покажут себя тем, кто они есть, – испуганными провинциалами. Через несколько минут они вошли на городскую площадь и оказались перед виселицей, на которой, как водится, болталось несколько трупов. На Джека знакомое зрелище подействовало скорее умиротворяюще, хотя Элиза и пробурчала что-то насчёт гудящего облака мух. Несмотря на пару-тройку повещенных, Лейпциг даже не очень вонял; поразительно, как несколько тонн шафрана, кардамона, аниса и чёрного перца, разложенных вокруг в мешках и тюках, заглушают запахи дыма и сточных вод. Город тянулся по одной стороне площади и состоял из голландского вида фронтонов наверху и каменной аркады внизу. Здесь тихо и усердно работали хорошо одетые люди. Площадь разрезали узкие сточные канавы, через которые были переброшены мостки для телег и для того, чтобы дамы, хромые и толстяки могли перебраться на другую сторону, не выставляя себя на посмешище. Джек несколько раз огляделся. Закон явно ограничивал высоту зданий четырьмя этажами – выше поднимались только церковные шпили. Впрочем, закон, видимо, ничего не говорил о крышах, поэтому они были островерхие и очень высокие, иногда с само четырехэтажное здание. Смотреть на них с улицы было все равно что разглядывать горный хребет из долины: целая область мансард, башенок, щипцов, куполов, балконов и даже миниатюрных замков; растительности (в ящиках на окнах) и статуй – не Христа и святых, а Меркурия в крылатых сандалиях. Иногда его дополняла Минерва с эгидой, но чаще Меркурий был один; не требовалось большой учености, чтобы понять, что именно он, а не какой-то скорбный мученик, избран покровителем Лейпцига. Смотреть на чердаки было легче, чем совладать с обилием впечатлений внизу. Восточные люди в огромных, отороченных мехом шапках беседовали с длиннобородыми евреями о пушнине; острозубые мордочки убитых зверьков зло таращились в небеса. Китайцы таскали ящики, надо полагать, с фарфором, бондари чинили бочки, булочники торговали хлебом, белокурые девицы предлагали апельсины, музыканты играли на лютнях. Армяне разливали кофе, усталые стражники стояли с пиками и алебардами, турки в тюрбанах пытались выкупить назад диковинные вещицы, тоже (как неожиданно осознал Джек) награбленные при освобождении Вены. Его отчасти позабавила, но гораздо сильнее смутила и раздосадовала мысль, что не они одни догадались отправиться в Лейпциг. В одном месте торговали кальянами; турченята в остроносых туфлях бегали от столика к столику с узорными серебряными жаровнями, брали серебряными щипцами угольки и аккуратно подкладывали в кальяны. Повсюду товары: но здесь, на площади, они были в бочках или тюках, помеченных монограммами купцов. Джек и Элиза нашли конюшню, куда поместить Турка, потом вышли на улицу и, собравшись слухом, прошли в одну из арок – высокую и такую широкую, что в неё разом могли бы въехать четверо конных. Сам двор был не больше десяти – двадцати шагов и со всех сторон зажат четырёхэтажными зданиями, покрашенными весёлой жёлтой краской, так что попадавший внутрь солнечный свет отбрасывал на всё символический золотой отблеск. Здесь торговали пряностями, скобяным товаром, украшениями, книгами, тканями, вином, воском, вяленой рыбой, шапками, башмаками, перчатками, ружьями и фаянсом; многие торговцы стояли вплотную и кричали друг другу в ухо. Целую сторону двора составляли открытые сводчатые подклети – аркада, всего на пару ступеней выше уровня двора и отделённая от него лишь рядом толстых колонн, всё это – в основании собственно дома. В каждой за массивной конторкой, или banca[14], сидел солидный человек в хорошей одежде. К конторкам цепями были прикованы огромные книги, запиравшиеся на замки, здесь же располагались чернильницы и перья. Рядом на полу стояли сундуки, окованные железом или бронзой, опутанные цепями и запертые на замки, какими обычно запирают арсенал. Иногда тут же располагались тюки и бочки с добром, хотя большая часть товаров была свалена во дворе. Футах в шестидесяти – восьмидесяти наверху из фронтонов торчали толстые брусья, с которых свешивались верёвки; работники посредством блоков поднимали товары на вместительные чердаки. – Ждут, пока взлетят цены, – сказала Элиза. Это был первый знак, что она не просто деревенская торговка и её ум работает на три уровня выше простого знания того, сколько стоит бочонок масла. Джек увидел в Лейпциге столько всего странного и так быстро, что вынужден был немедленно выбрасывать из головы большую часть увиденного, освобождая место для нового. Выброшенное вспоминалось позже, когда он мочился или силился уснуть, и казалось тогда неимоверно странным. Джек не мог понять, что это: сон, явь или свидетельство того, что сифилис, много лет терпеливо подкапывавшийся под его мозг, взорвал первый заряд. Например, они вошли в одну из факторий[15] обменять кое-какие монеты, которые Джек скопил в странствиях, но не смог потратить, поскольку никто их не узнавал. В комнате на столе лежали раскрытые книги с круглыми прорезями, в которые были вставлены монеты – по два экземпляра каждой, чтобы сразу видеть аверс и реверс. Под каждой разноцветными чернилами были написаны загадочные цифры и значки. Меняла листал книгу, пока не нашёл такие монеты, как у Джека, только новее и ярче. Он взял миниатюрные весы: золотые чашечки не больше талера на тонких шёлковых нитях. Положив на одну Джековы монеты, меняла пинцетом принялся укладывать на другую невесомую золотую фольгу, покуда чашки не уравновесились. После этого убрал весы в деревянную шкатулку меньше Элизиной ладони, что-то подсчитал и предложил Джеку пару лейпцигских рацмарок (Лейпциг чеканил свою монету). По настоянию Элизы они обошли несколько меняльных лавок и повторили церемонию, но результат был везде одинаков. Наконец они согласились на обмен, и меняла смахнул Джековы деньги в ящик со старыми монетами и серебряным ломом, по большей части чёрным от времени. «Мы их переплавим», – сказал он, видя Джеково удивлённое выражение. Элиза тем временем разглядывала таблицы обменных курсов и читала написанные мелом на доске названия монет: «Луидор, двойной баварский золотой гульден, соверен, дукат, экю, бреславльский дукат, швертгрошен, швайдницский геллер, майссенский грош, шильдгрошен, пфенниг, саксонский грош, энгельгрошен, реал, рацвертмарка, 2/3 талера, английский шиллинг, рубль, абаз, рупия…» – Вывод: надо заняться меняльным делом, – сказал Джек, когда они вышли. – Я пришла к другому выводу: в этом деле очень большая конкуренция, – отвечала Элиза. – Лучше добывать серебро. Монетчики покупают металл у тех, кто его добывает. – Однако герр Гейдель скорее даст загнать себе под ногти горящие щепки, чем купит ещё рудник, – напомнил Джек. – По мне, лучше покупать что-то, пока оно дёшево, и ждать, пока подорожает, – сказала Элиза. – Вспомни фактории с их чердаками. – У нас нет чердака. – Я выражалась метафорически. – Я тоже. Нам придется купить серебряный рудник, зашить его тебе в юбки и носить, пока он не подорожает. – Джек был уверен, что привёл очень убедительный довод, но Элиза лишь глубоко задумалась. В итоге они оказались на Бирже: в аккуратном домике белого камня, где хорошо одетые люди, сбившись в толпу, кричали на всех наречиях христианского мира в уверенности, что Святой Дух ярмарки, как в Пятидесятницу, соединит все языки в один. Здесь не было товаров, только бумаги. Джек мог бы до ночи ломать голову над этой странностью, если бы не позабыл обо всём в свете нового поворота событий. Элиза поговорила с торговцем, который, устроив себе передышку, попыхивал трубочкой и прихлёбывал золотое плъзеньское пиво, после чего вернулась к Джеку с торжествующим видом, который явно не сулил ничего доброго. – Ответ: Кихеп, – сказала она. – Мы хотим купить Кихеп серебряного рудника. – Мы? – Разве мы не решили? – Она, вероятно, шутила. – Прежде объясни мне, что такое Кихеп. – Паи. Рудник делится пополам. Каждая половина – на четверти. Каждая четверть – на осьмушки. И так, пока число долей не достигнет шестидесяти четырех или ста двадцати восьми. Это число долей продается. Каждая доля зовётся ких. – А под долей ты, как я понимаю, разумеешь… – То же, что воры, когда делят добычу. – Я собирался сравнить с тем, как моряки делят прибыль от рейса, но ты меня опередила и взяла ниже. – Тот человек чуть не поперхнулся пивом, когда я сказала, что хочу вложить деньги в серебряный рудник, – гордо сообщила Элиза. – Н-да, хороший знак. – Он сказал, что на всей ярмарке только один человек пытается их продать – некий доктор. Надо поговорить с доктором. После долгих и утомительных расспросов, явно не улучшивших баланс Джековых гуморов, выяснилось, что доктор должен быть в стороне Jahrmarkt, что означало увеселительную часть Messe. – Фу, как я это не люблю: отвратительное кривляние мерзких уродов, словно моралите, изображающее мою собственную жизнь. – Доктор там, – мрачно объявила Элиза. – Может, дождёмся, пока у нас будут деньги на покупку Кихеп? – взмолился Джек. – Джек, это всё одно – если нам нужны Кихеп, зачем промежуточные шаги – менять шёлк или перья на монеты, потом монеты на Кихеп, если можно просто поменять шёлк или перья на Кихеп? – Ой, надо же, у этого бочарная клёпка вместо носа! Ты говорила… – Я говорила, что в Лейпциге любой товар – шёлк, монеты, паи серебряных рудников – теряет свою грубую материальную форму и обретает истинную, как руды в алхимическом тигле становятся ртутью. Всякая ртуть – ртуть, и её можно обменять на ртуть такого же веса. – Очень мило, но НАМ ПРАВДА НУЖНЫ ПАИ В СЕРЕБРЯНОМ РУДНИКЕ? – Ой, кто знает? – Элиза беспечно взмахнула рукой. – Мне просто хочется прицениться. – Я должен таскать за тобой твой кошель, – пробормотал Джек, перекладывая рулоны шёлка с одного плеча на другое. Итак, на увеселительную ярмарку, неотличимую (с точки зрения Джека) от приюта для одержимых, калек и совсем пропащих: акробатов, канатоходцев, пожирателей огня, иностранцев и загадочных персонажей, которых он иногда видел вместе с бродягами. Доктора они узнали по одежде и парику. Он пытался завести с китайским гадателем философский диспут на тему рисунка в книге. Рисунок состоял из шести горизонтальных черт, частью сплошных (–), частью разорванных (– – ). Доктор обращался к китайцу на самых разных языках, но тот с каждым разом принимал всё более достойный и удручённый вид. Достоинство было мудрым орудием против доктора, который выглядел сейчас не слишком достойно. На голове у него был самый большой парик, какой Джек видел в жизни; грозовая туча чёрных локонов, зрительно уменьшающих лицо. Со спины доктор выглядел так, словно ему на плечи спрыгнул с дерева медвежонок и теперь пытается открутить голову. Наряд не уступал парику. За долгую зиму Джек выяснил, что у платья больше деталей, названий отдельных частей и связанных с ними технологических операций, чем у кремнёвого замка. Платье доктора могло посрамить любое другое: его кожу отделяли от Лейпцига две дюжины слоев ткани, принадлежащих бог весть каким предметам одежды: рубашкам, камзолам, полукамзолам и чему-то ещё, для чего в лексиконе Джека не было слов. Если бы переплавить все тяжёлые, нашитые рядами пуговицы, можно было бы отлить фальконет. Ремешки, шнурки и кружево вылезали из отверстий вокруг запястий и горла. Однако кружево не мешало бы постирать, парик – причесать, и сам доктор был, в целом, не слишком хорош собой. Тем не менее Джек заподозрил, что он вырядился так не из тщеславия, а с определённой целью. В частности, чтобы выглядеть старше: когда доктор обернулся на Элизин голос, стало видно, что ему не больше сорока. Балансируя на трехдюймовых каблуках, он отвесил церемонный поклон и приложился к Элизиной руке. С минуту разговор шёл на французском, которого Джек не понимал. Элиза против обыкновения нервничала, хоть и храбрилась; доктор, очень живой и подвижный, разглядывал её с любопытством. Впрочем, незаметно было, чтобы он таял. Джек заключил, что доктор – евнух или содомит. Внезапно тот перешел на английский. Впервые за два года Джек услышал, чтобы кто-то, кроме Элизы, говорил на языке этого далёкого островка. – По наряду я принял вас за знатную парижанку, однако теперь понимаю, что поспешил с выводом, ибо, присмотревшись, вижу в вас то, чего им обычно недостаёт: истинный вкус. Элиза онемела, польщённая словами, но ошеломлённая выбором языка. Доктор с виноватым видом прижал руку к груди. – Неужто я ошибся? Мне почудилось, что превосходный французский, на котором говорит сударыня, украшен чеканной звучностью англосаксонской каденции. – Черт побери! – сказал Джек. Элиза метнула в него яростный взгляд, доктор удивлённо вскинул бровь. Теперь, когда Джек понял, что доктор знает английский, он с трудом ограничился одним этим восклицанием; ему хотелось говорить, говорить, говорить, отпускать шуточки[16], выражать своё мнение по самым разным вопросам, пересказывать забавные случаи и проч. Он сказал «Чёрт побери!», поскольку боялся, как бы Элиза не начала врать, будто происходит из дальнего уголка Франции. Джек знал толк во вранье и чувствовал, что с некстати проницательным доктором такой номер не пройдёт. – Когда вы закончите беседу с восточным джентльменом, я бы хотела побеседовать с вами на предмет Кихеп, – сказала Элиза. Бровь доктора взметнулась дважды, так что тяжёлый парик угрожающе закачался. – О, я уже закончил. К несчастью для себя и своего народа, этот мандарин не стремится улучшить свою философскую позицию: отделить достойную науку – теорию чисел – от низкого суеверия – нумерологии. – Я мало осведомлена в этих вопросах, – начала Элиза, очевидно (для Джека), пытаясь сменить тему и, очевидно (для доктора), прося разъяснить ей азы упомянутой науки. – Предсказатели часто пользуются случайными элементами, такими как карты или чаинки, – начал доктор. – Этот китаец бросает на землю палочки и читает их – сейчас не важно, как именно, меня интересует конечный результат: набор из шести линий, частью целых, частью половинчатых. Мы можем добиться того же, бросив шесть монет. – И он принялся охлопывать себя, словно под одежду забралась мышь; всякий раз, отыскав монету в одном из многочисленных карманов, доктор вытаскивал её и подбрасывал в воздух. Монеты (тяжёлые и по большей части золотые) звенели о мостовую, как китайский гонг. – Он богат, – прошептал Джек, – или связан с богатыми людьми. – Да – наряд, монеты… – Подделать легче лёгкого. – Так как ты угадал, что он богат? – В лесу только самые страшные хищники позволяют себе резвиться беззаботно. Олени и кролики – нет. – Ну так вот, – сказал доктор, наклоняясь, чтобы взглянуть на упавшие монеты. – Орёл, решка, решка, решка, орёл и решка. – Он выпрямился. – Для китайского гадателя эта последовательность имеет глубокий смысл; за небольшое вознаграждение он растолкует вам её по книге, набитой языческой белибердой. – Доктор забыл про монеты; вокруг него удавкой сжималось кольцо ярмарочных завсегдатаев. Без весов и книг каждый пытался оценить, какая монета ценнее. Джек шагнул вперёд, большим пальцем на дюйм выдвинув из ножен саблю. Судя по всему, за ним оборванцы тоже приглядывали – кольцо мигом рассеялось. Джек собрал деньги, чтобы в качестве жеста невиданной порядочности вручить их доктору, как только тот перестанет говорить. – Для меня же эта последовательность означает число семнадцать. – Семнадцать? – хором переспросили Элиза и Джек. Оба вынуждены были поспевать за доктором, который с неожиданной резвостью припустил на своих высоких каблуках. Он был небольшого роста, но с крепкими икрами, которые замечательно подчёркивались чулками. – Двоичные или бинарные числа – не новость, – сказал доктор, взмахивая кружевом на рукаве. – Мой покойный друг и коллега мистер Джон Уилкинс более сорока лет назад опубликовал построенную на ней криптографическую систему в своём великом «Криптономиконе»; голландское издание, выпущенное без ведома автора, можно, если заинтересуетесь, купить в книготорговом квартале. Из китайского гадания я беру способ получать двоичным методом случайные числа, что значительно укрепляет систему Уилкинса. – На взгляд Джека, это было не вразумительнее собачьего лая. – Крипто… графия – тайнопись? – предположила Элиза. – Да. Несчастливая необходимость нашего времени, – кивнул доктор. Они выбрались из ярмарочной тесноты и остановились на площади перед церковью. – Церковь Святого Николая, здесь меня крестили, – сказал доктор. – Кихеп! Тема, странным образом связанная с двоичными числами, ибо количество Кихеп конкретного рудника представляет собой степень двойки: один, два, четыре, восемь, шестнадцать… Впрочем, это просто математический курьёз, вам он не интересен. Я их продаю. Хотите купить? Некогда процветающая отрасль горной промышленности, создавшая состояния таких семейств, как Фуггеры и Хакльгеберы, добыча серебра подорвана Тридцатилетней войной и открытием испанцами чрезвычайно богатых месторождений: Потоси в Перу и Гуанахуато в Мексике. Покупая паи европейских рудников, разрабатываемых традиционными способами, сударыня лишь напрасно потратит деньги. Однако мои рудники, вернее, рудники государей Брауншвейг-Люнебургских, порученные моему попечению, будут, полагаю, лучшим вложением средств. – Почему? – спросила Элиза. – Это очень трудно объяснить. – О, вы так хорошо объясняете… – Предоставьте льстить мне, сударыня, ибо вы куда больше заслуживаете лести. Нет, это связано с нового рода машинами, которые я сам изобрёл, и новым способом извлечения металла из руды, который придумал очень мудрый и – для алхимика – порядочный человек, мой добрый знакомый. Хотя столь проницательная дама не променяет свои монеты. – Шелка, – вставил Джек, разворачиваясь, чтобы продемонстрировать товар. – Э… свои прекрасные шелка на мои Кихеп лишь потому, что я говорю на рынке такие слова. – Вероятно, – согласилась Элиза. – Вы должны будете прежде осмотреть рудники. Что я и приглашаю вас сделать… выезжаем завтра… однако если бы вы прежде обменяли свои шелка на деньги… – Погодите! – вступил Джек в роли неотёсанного вооружённого мужлана. Это дало Элизе возможность сказать: – Любезный доктор, мой интерес к этой теме продиктован исключительно женским любопытством. Простите, что потратили ваше время… – Но зачем-то вы со мной заговорили? Значит, у вас был резон. Поедем, не пожалеете. – Где это? – спросил Джек. – В прелестных Гарцских горах – несколько дней езды отсюда. – В общем направлении Амстердама? – Сударь, по турецкой сабле я принял вас за своего рода янычара, однако ваше знание земель к западу доказывает совсем иное – если бы даже вас не выдал восточно-лондонский акцент. – Ну ладно, – пробормотал Джек, отводя Элизу на несколько шагов в сторону. – Прокатиться за счёт доктора – чего тут плохого? – Он что-то задумал, – возразила Элиза. – И мы что-то задумали, девонька. Это не преступление. Наконец Элиза вернулась к доктору и сказала, что готова на время «оставить своё сопровождение» за исключением «одного верного слуги и телохранителя» и отправиться в Гарц осматривать рудники. Некоторое время они беседовали на французском. – Иногда он начинает говорить очень торопливо, – сказала Элиза Джеку. Они в некотором отдалении шли за доктором по улице, состоящей из купеческих особняков. – Я хотела выяснить, сколько примерно стоит пай, а он посоветовал не беспокоиться. – Странно для человека, который пытается собрать деньги. – Доктор сказал, что сперва принял меня за парижанку из-за страусовых перьев на шляпе – они там сейчас в большой моде. – Снова лесть. – Нет. Он намекал, что мы должны запрашивать высокую цену. – Куда он нас ведёт? – В Дом Золотого Меркурия – факторию семьи фон Хакльгебер. – Нас оттуда уже выставили. – Он нас проведёт. Так и получилось. Доктор поговорил с кем-то невидимым в глубине фактории, после чего их впустили в самый большой двор, какой они видели в Лейпциге: узкий, длинный, со сводчатыми аркадами по двум сторонам. Десятки кранов разом поднимали вверх товары, которые, по мнению Хакльгеберов, должны были подрасти в цене, и спускали те, которые пришло время продавать. Всю стену, обращенную к улице, занимало трёхэтажное строение, нависающее над двором, как если бы три яруса балконов слепили в сплошную башню. Все они были закрыты, за исключением верхнего, под золочёной крышей, откуда две непристойно длинношеие горгульи изготовились поливать дождевой водой (буде пойдёт дождь) торговцев внизу. «Напоминает кормовую надстройку галеона», – заметила Элиза. Только через несколько минут до Джека дошло, что она вспоминает свою давнюю историю и, таким образом, окольным женским путем даёт понять, что ей здесь не нравится. И это несмотря на то, что у них над головами навис, словно пускаясь в полёт, золочёный Меркурий в рост человека, с золотой палочкой, оплетённой змеями и снабжённой двумя крылышками. «Нет, это храм Меркурия, – сказал Джек, стараясь отвлечь её от галеона. – Храмы Христа в плане имеют крест. Этот – как палочка в его руке, длинный и узкий, арки по сторонам – извивы змей. Крылья фактории расходятся там, где расположена епископская кафедра, а мы – верующие, собравшиеся внизу на Messe». Элиза продала шёлк; как предполагал Джек – удачно. Наблюдая, как тюки и бочки спускаются и поднимаются на тросах, он приметил одну странность: из многих окон, выходящих во двор, торчали короткие стержни. К ним на шарнирах крепились зеркала, примерно по квадратному футу, наклонённые под разными углами. Сперва Джек подумал, что это способ направить дополнительный свет в плохо освещенные конторы, потом заметил, что зеркала часто поворачиваются, оставаясь в целом обращенными вниз, во двор. Их было несколько десятков. Наблюдателей, затаившихся в тёмных комнатах, он так и не разглядел. Позже Джек поднял взгляд к одному из верхних балконов и увидел, что там появилась новая горгулья, на этот раз из плоти и крови: плотный мужчина, не потрудившийся прикрыть отчасти седую, отчасти лысую голову. На каком-то этапе жизни он выдержал борьбу с оспой, утратив в процессе всякое подобие внешности. За долгие десятилетия сытой жизни лицо раздалось вширь, рябая кожа повисла брылами и подбородками, грузными, как сетки, в которых товары поднимают на корабль. Смотрел он на Элизу, и взгляд его Джеку не понравился. Лишь через несколько минут Джек заметил на балконе другого человека, куда более приглядного: доктор изливал слова с неустанным красноречием просителя и жестикулировал так, что кружевные манжеты порхали, точно пара голубков. Словно двое крестьян под сводами собора Парижской Богоматери, Элиза и Джек исполнили свою роль в мессе и отбыли, не оставив следа, за исключением еле заметной ряби на мощном потоке ртути. Саксония конец апреля 1684 Отъезд из города с доктором не был событием одномоментным: это чинное мероприятие заняло целый день. Даже после того, как Джек, Элиза и конь Турок отыскали караван доктора, им пришлось ещё несколько часов таскаться по городу. Сперва загадочный визит в факторию фон Хакльгебера, потом – в церковь Святого Николая, чтобы доктор мог помолиться и причаститься, затем в университет (как всё в Лейпциге, маленький и серьёзный, словно карманный пистоль), где доктор просто просидел в карете полчаса, болтая с Элизой на французском – любимом для возвышенных бесед языке. Джек, нетерпеливо ходивший вокруг кареты, как-то приложил ухо к окну и услышал, что они говорят о знатной даме по имени София, потом о нарядах, и ещё через минуту – о разнице католических и лютеранских взглядов на пресуществление. Наконец он распахнул дверцу. – Простите, что прерываю, но я подумываю отправиться с паломниками в Иерусалим – туда и обратно на карачках – и хотел убедиться, что не задержу отъезд… – Тс-с! Доктор пытается принять очень трудное решение, – сказала Элиза. – Я всегда говорю: надо решаться, и всё, от думанья легче не станет, – посоветовал Джек. У доктора на коленях лежала рукопись; он занёс над ней перо, на кончике которого уже собрались чернила, готовые сорваться кляксой. Доктор поводил головой из стороны в сторону (или это парик так подчеркивал движения), вновь и вновь вполголоса перечитывая один и тот же отрывок. Всякий раз выражения его лица сменялись в новой последовательности, словно у актёра, который разбирает двусмысленный стишок. Должен ли он читать как пресыщенный педант? Как унылый школьный учитель? Как скептик-иезуит? Судя по тому, что доктор сам написал эти слова, причина была в другом: он пытался понять, как воспримут их разного сорта читатели. – Может, прочтёте вслух? – Это на латыни, – сказала Элиза. Снова ожидание. Потом: – Так что надо решить? – Опускать или не опускать рукопись в окошко на вон той двери. – Элиза указывала на одно из зданий. – А что написано на двери? – «Acta Eruditorum» – «Ученые записки». Журнал, который доктор основал два года назад. – Я не знаю, что такое журнал. – Газета для учёных. – А, так он хочет это дело опубликовать? – Да. – Если журнал его, то чего он мается? – О! Все учёные Европы прочтут слова на этих страницах – они должны быть безукоризненны. – Так пусть бы взял их с собой и довёл до совершенства. Здесь явно не место. – Они закончены годы назад, – проговорил доктор необычно скорбным голосом. – Надо решить: печатать ли их вообще? – А что, занятный рассказец? – Это не история, а математическая метода, столь новая, что лишь два человека в мире её понимают, – сказал доктор. – Будучи опубликована, она в корне изменит не только математику, но и все виды инженерного дела и натуральной философии. С её помощью будут строить машины, которые полетят по воздуху, как птицы, и достигнут других планет. Самая её мощь сметёт старые, обветшалые системы мышления в мусорное ведро. – И вы её придумали, доктор? – спросила Элиза, поскольку Джек был занят: крутил пальцем у виска. – Да – семь или восемь лет назад. – И до сих пор о ней никто не знает, кроме… – Меня и того, другого. – Почему же вы не поведали о ней миру? – Потому что, сдаётся, тот другой придумал её десятью годами раньше меня – и хранит молчание. – Ой. – Я ждал, пока он что-нибудь скажет. Однако он придумал эту методу почти двадцать лет назад и не выказывает ни малейшего намерения поделиться ею с человечеством. – Вы ждали восемь лет… почему сегодня? Уже сильно за полдень, – заметил Джек. – Забирайте бумаги с собой – подумайте-ка над ними ещё года два-три. – Почему сегодня? Я не верю, что Господь отправил меня на землю и дал мне лучший или почти лучший разум в сегодняшнем мире, чтобы я тратил жизнь, клянча деньги у таких, как Лотарфон Хакльгебер на очень большую дыру в земле, – сказал доктор. – Не хочу, чтобы моей эпитафией стало: «Он снизил стоимость добычи серебра на одну десятую процента». – Верно. По мне, это и есть решение. – Джек сунул руку в карету, взял рукопись, донёс её до искомой двери и опустил в окошко. – А теперь в горы! – Ещё одно небольшое дельце в книготорговом квартале, – сказал доктор, – раз уж я начал нарываться на неприятности. Книготорговый квартал выглядел и жил так же, как весь остальной Лейпциг, только здешним товаром были книги: они вываливались из ящиков, громоздились шаткими кипами, укладывались в стопки, которые рабочие заворачивали, обвязывали и складывали одну на другую. Согбенные грузчики таскали их в заплечных корзинах. Доктор, всё делавший неторопливо, несколько минут выстраивал свой караван перед самым большим и чистым входом на книжную ярмарку. В частности, он учтиво попросил Джека сесть на Турка и занять позицию, между каретой и книгопродавцами. Джек добродушно согласился, поскольку всё равно потерял надежду выехать из города засветло. Доктор расправил плечи, разгладил различные подсистемы одежды (сегодня на нём был камзол, расшитый такими же, как на карете, цветами) и вошёл на книжную ярмарку. Дальше Джек его не видел, но слышал: не голос доктора, а то, как его появление подействовало на ярмарочные шумы. Эффект был такой, как будто в готовую закипеть воду бросили щепоть соли: сперва шипение, затем низкий, нарастающий гул. Доктор выбежал – вполне резво для человека на высоких каблуках. За ним гнались книгопродавцы из[17] Кенигсберга, Базеля, Копенгагена, Антверпена, Севильи, Парижа и Данцига; почти сразу за первым эшелоном следовал второй. Доктор юркнул мимо Джека, заметно опередив преследователей. При виде верхового с языческой саблей торговцы затормозили и удовольствовались тем, что принялись швырять в него книгами: любыми книгами, которые попались под руку. Они перехватывали грузчиков, разрушали выставочные экспозиции, переворачивали ящики, чтобы добыть свежие метательные снаряды. Воздух вокруг Джека потемнел от книг, как если бы над головой пролетала птичья стая. Книги падали на мостовую, из них высыпались гравюры: портреты великих мужей, изображения осады Вены, чертежи горных машин, карта какого-то итальянского города, внутренности в разрезе, таблицы чисел, воинские учения, геометрические построения, человеческие скелеты в вызывающих позах, зодиакальные созвездия, рангоут и такелаж иноземной баркентины, схемы алхимических печей, яростные готтентоты с костями в носу, тридцать разновидностей барочных оконных рам. Вся сцена происходила почти без крика, как будто изгнание доктора для книгопродавцев – дело самое заурядное. Когда кучер щелкнул бичом, они напоследок бросили по книжке-другой и вернулись к тем разговорам, которые прервал доктор. Джек со своей стороны занял позицию почётного арьергарда за телегой с багажом доктора (к которому теперь прибавилось несколько случайно залетевших книг). Звонкое цоканье копыт и скрип колёс по булыжной мостовой райской музыкой ласкали его бродяжий слух. Разъяснения Джек получил лишь несколько часов спустя, когда они, порядком отъехав от северных ворот Лейпцига, остановились в гостинице по дороге в Галле. К этому времени Элиза совершенно прониклась докторовым взглядом на события, равно как и его мрачной обидой. Она остановилась в комнате для дам, Джек – в комнате для мужчин; встретились в общей гостиной. – Он родился в Лейпциге, здесь учился самоучкой, здесь ходил в школу. – Так он самоучкой учился или в школе? – И так, и так. Его отец, университетский профессор, умер, когда он был совсем маленький. Он выучился латыни в том возрасте, в каком ты висел на ногах у висельников. – Забавно. Знаешь, я ведь пытался выучиться латыни, но сперва Чума, потом Пожар, всё такое… – За неимением отца он читал отцовские книги, а потом пошёл в школу. А ты сам видел, как с ним обошлись. – Может, у них есть серьёзные основания. – Джек скучал, а дразнить Элизу было развлечение не хуже любого другого. – У тебя нет никаких причин кусать доктора за пятки, – сказала Элиза. – Он из тех мужчин, которые способны завязать глубокую дружбу с особами прекрасного пола. – Видел я эту дружбу, когда он указывал на твои прелестные груди Лотару фон Хакльгеберу. – На то, вероятно, была причина – доктор плетёт ковёр из множества нитей. – И что за нить привела его на книжную ярмарку? – Несколько лет они с Софией убеждают императора в Вене учредить большую библиотеку и академию для всей империи. – Кто такая София? – Ещё одна из подруг доктора. – И на какой же ярмарке он её подцепил? Элиза отвечала шёпотом, едким, как царская водка: – Не говори о ней так. София ни много ни мало – дочь Зимней королевы. Герцогиня Ганноверская! – Мама родная! И как доктор очутился в такой компании? – София унаследовала его от деверя. – Как это? Он раб? – Он библиотекарь. После смерти деверя София получила библиотеку и доктора в придачу. – Но ему этого мало – он метит выше, хочет быть библиотекарем императора? – Сейчас лейпцигский учёный может и не узнать о книге, вышедшей в Майнце, и потому научный мир разобщён – не то что в Англии, где все учёные друг друга знают и принадлежат к одному Обществу. – Что?! Доктор хочет завести здесь английский обычай? – Доктор предложил императору издать новый закон, по которому все книгопродавцы на лейпцигской и франкфуртской ярмарках должны будут составлять описание каждой изданной ими книги и отправлять его вместе с одним экземпляром… – Дай-ка попробую угадать. Доктору? – Да. И тогда он создаст из них нечто огромное, труднообъяснимое – тут он перешел на латынь, которую я вообще-то не знаю, – частью библиотеку, частью академию, частью машину. – Машину? – Джеку представилось мельничное колесо, составленное из книг. Их прервал безудержный гогот из угла гостиной, где доктор сидел на табуретке и читал (как они увидели, встав и подойдя ближе) одну из книг, ненароком залетевших в телегу с багажом. Как всегда, их – точнее, Элизино, – движение по комнате приковало взгляды торговцев, чьи глаза практически высунулись из орбит на длинных отростках. Прежде Джека удивляло, теперь просто злило, что другие мужчины тоже видят Элизину красоту: ему чудились в этом некие низкие побуждения, совершенно отличные от его собственных. – Обожаю романы! – воскликнул доктор. – Их можно понимать, почти не думая. – А я-то полагала, вы – философ, – заметила Элиза. Очевидно, отношения между ними были уже настолько близкими, что допускали поддразнивание. – Философствуя, мозг следует природным наклонностям, извлекая разом и удовольствие, и пользу. Следить за чужими философскими построениями – всё равно что идти по горной выработке, пробитой другими людьми: тяжкий труд в холодном и тёмном месте, мучительный, когда хочешь свернуть в одну сторону, а тебя вынуждают идти в другую. А вот это… – поднимая книгу, – можно читать без остановки. – О чем она? – О, романы все одинаковы. В них рассказывается о похождениях авантюристов – плутов и мошенников. Герой или героиня кочуют из города в город, подобно бродягам (только они куда умней и находчивее), попадают в смешные переделки и морочат – или пытаются морочить – герцогов, епископов, генералов и… докторов. Долгое молчание. Наконец Джек спросил: – Э… в этой ли главе я должен вытащить саблю? – Полноте! – сказал доктор. – Я не для того вас сюда привёз, чтобы создавать недоразумения. – Зачем же тогда? – спросил Джек, потому что Элиза была ещё вся красная, и он подумал, что не умно и не находчиво будет дать ей возможность вставить слово. – Затем же, зачем Элиза пожертвовала часть ваших шелков на наряды, чтобы дороже продать остальное. Мне надо привлечь внимание к горному проекту, чтобы люди хотя бы подумали о вложении средств. – Полагаю, моя роль – спрятаться за самым большим шкафом и не казать носа, пока важная публика не отбудет? – спросил Джек. – С благодарностью принимаю ваше предложение, – кивнул доктор. – Тем временем Элиза… ну, вы когда-нибудь видели, как орудуют парижские шарлатаны? Что бы они ни впаривали, у них всегда есть в толпе сообщник, одетый как потенциальная жертва. – То есть как тёмная деревенщина, – пояснил Элизе Джек. – Сперва сообщник якобы настроен скептичнее всех в толпе: задает трудные вопросы, зубоскалит, а под конец, будто бы уверовав, первым покупает то, что продаёт мошенник. – В данном случае Кихеп? – спросила Элиза. Доктор: – Да. А публика в данном случае будет состоять из Хакльгеберов, богатых майнцских купцов, лионских банкиров, амстердамских игроков на денежном рынке – короче, богатых и модных особ со всего христианского мира. Джек мысленно взял на заметку выяснить, кто такие игроки на денежном рынке, и, поймав Элизин взгляд, понял, что она думает о том же. Однако тут доктор отвлёк её следующей фразой: – Чтобы вы слились с толпой, Элиза, надо лишь вполовину скрыть ваш ум и приглушить природный блеск, чтобы их не ослепили священный ужас и зависть. – Ой, доктор! – воскликнула Элиза. – Почему мужчины, которые влекутся к женщинам, не умеют говорить таких слов? – Ты видишь таких мужчин только в своём присутствии, – сказал Джек. – Как они могут говорить красивые слова, когда у них рты елдаками заткнуты? Доктор загоготал примерно как в первый раз. – Что в таком случае извиняет тебя, Джек? – спросила Элиза. У доктора приключилось что-то вроде горлового спазма. Слёзы радости выступили у Джека на глазах. – Слава Богу, что женщины не умеют самостоятельно избавляться от жёлтой желчи! – объявил он. В этой же гостинице к ним присоединился караван из маленьких, но прочных телег с товаром, который доктор закупил в Лейпциге и выслал вперёд с поручением его дожидаться. Некоторые были нагружены индийской селитрой, другие – серой из Рудных гор[18], третьи, хоть и везли всего несколько ящиков, проседали и стонали, как неверные на дыбе. Заглянув сквозь щели в один из ящиков, Джек увидел переложенные соломой маленькие глиняные сосуды. Он спросил возчика, что это. «Quecksilber» [19], – был ответ. Отряд Маммон ведёт; из падших Духов он Всех менее возвышен. Алчный взор Его – и в Царстве Божьем прежде был На низменное обращен и там Не созерцаньем благостным святынь Пленялся, но богатствами Небес, Где золото пятами попиралось. Пример он людям подал, научил Искать сокровища в утробе гор И клады святокрадно расхищать, Которым лучше было бы навек Остаться в лоне матери-земли. Караван, состоящий теперь из двадцати с лишним повозок, проехал Галле и другие города дальше к западу. Над каждыми городскими воротами высились островерхие каменные башни, чтобы бюргеры заранее увидели приближение бродяжьих полчищ и успели принять меры. В нескольких днях пути от Галле дорога пошла вверх и принялась петлять, заставляя (подобно философским книгам, о которых говорил доктор) сворачивать туда, куда им не особо хотелось. Перемены происходили исподволь, но вот однажды утром они проснулись в определённо межгорной долине, самой красивой, какую Джек видел в жизни, светло-зелёной от первой апрельской поросли и усыпанной сильно уменьшившимися за зиму стогами. Склоны полого уходили вверх, постепенно превращаясь в нечто более хладное и скалистое – укрепления, воздвигнутые исполинами на подступах к ещё более загадочным высям. Кряжи были усеяны чёрными точками, по большей части деревьями; впрочем, попадались и сторожевые башни. Джек поневоле задумался, кого они стерегут. А может, в них по ночам зажигают огни, чтобы передавать странную информацию над головами спящих селян?.. В этой же долине они проехали мимо озера, в которое сползали развалины бурого замка; вода от ветра шла мурашками, дробя отражение. Элиза и доктор по большей части ехали в карете. Она перешивала платья в соответствии с тем, что, по его словам, было модно; он писал письма или читал плутовские романы. Доктор сказал, что София-Шарлотта, дочь Софии, выходит в этом году за курфюрста Бранденбургского, и приданое выписали прямиком из Парижа, что дало повод для бесконечной беседы о туалетах. В хорошую погоду Элиза иногда ехала на верху кареты, придавая жизни возчиков новый смысл. Временами Джек, чтобы дать отдых Турку, шёл пешком или ехал в карете – внутри либо наверху. Доктор постоянно что-нибудь делал – рисовал схемы фантастических машин, писал письма, составлял пирамиды из нулей и единиц по ему одному ведомым правилам. – Что вы делаете, док? – спросил как-то Джек, просто чтоб потрепаться. – Усовершенствую свою теорию вещества, – отрешенно ответил доктор и замолчал часа на три, по прошествии которых крикнул кучеру, что ему надо справить нужду. Джек пытался болтать с Элизой. После разговора в гостинице она была явно не в духе. – Почему ты готова выполнять сложные действия с одного моего конца и не хочешь целовать другой? – спросил он как-то вечером, когда в ответ на его нежности она только закатила глаза. – Чего ты хочешь? Я теряю кровь – гумор страсти. – В обычном женском смысле или… – В этом месяце больше обычного. И потом, я целую только тех, кто меня любит. – С чего ты взяла, будто я тебя не люблю? – Ты почти ничего обо мне не знаешь, так что твои чувства продиктованы исключительно похотью. – А кто в этом виноват? Я несколько месяцев назад просил тебя рассказать, как ты попала из Берберии в Вену. – Неужто? Не помню. – Может, у меня размягчение мозгов от французской хвори, девонька, но я отчётливо помню: несколько дней ты сосредоточенно думала, а потом сказала: «Не хочу об этом говорить». – Ты не спрашивал в последнее время. – Элиза, как ты попала из Берберии в Вену? – Часть истории так печальна, что неприятно вспоминать, часть – настолько скучна, что ты сам не захочешь слушать. Довольно сказать, что когда я настолько повзрослела, чтобы считаться взрослой на вкус любвеобильного мавра, то стала в их глазах дивидендом – процентами, набежавшими на прежнюю стоимость моей матери. Меня пустили в расчёт. – Что?! – Передали константинопольскому визирю в ходе сделки, мало отличной от тех, что заключаются в Лейпциге. Как видишь, человека тоже можно свести к нескольким каплям ртути и влить в международный поток. – И сколько визирь за тебя заплатил? Просто любопытно. – Два года назад цена за одну меня на средиземноморском рынке равнялась одному жеребцу, чуть постройнее и порезвее того, на котором ты только что ехал. – По мне… ну, разумеется, любая цена была бы слишком низкой, и всё же… – Однако ты забываешь, что Турок – не обычный конь. Он, может, чуть староват, но, что главное, способен произвести потомство. – А, так в уплату за тебя пошёл кровный жеребец. – Необычного вида арабский скакун. Я видела его в порту. Он был совершенно белый, за исключением, разумеется, копыт, и с красными глазами. – Берберы разводят скаковых лошадей? – Через Общество британских невольников я узнала, что скакун направляется во Францию. Кто-то там связан с берберийскими пиратами – полагаю, тот, кто обратил нас с матушкой в рабство. Из-за этого человека я никогда не увижу матушку: когда я покидала Берберию, у неё был рак. Когда-нибудь я разыщу и убью мерзавца. Джек мысленно сосчитал до десяти и сказал: – Его убью я. Мне всё одно подыхать от французской хвори. – Прежде ты должен объяснить ему, за что убиваешь. – Отлично. Постараюсь оставить в запасе несколько часов. – Столько не потребуется. – Ой ли? – За что ты убьёшь его, Джек? – Ну, за ваше похищение с Йглма… гнусные измывательства на корабле… годы рабства… насильственную разлуку с любящей… – Нет, нет! За это я хочу его убить. За что ты? – Зато же самое. – Однако торговцев невольниками не счесть. Будешь убивать всех? – Нет, просто… а, понял. Я хочу убить этого мерзавца из чистой и пламенной любви к тебе, моя единственная Элиза. Она не бухнулась в обморок, но на лице её появилось выражение, означавшее «разговор окончен», по которому Джек заключил, что выбрал верное направление. Ещё через два дня доктор дал сигнал поворачивать на север. Начался подъём в горы. Сперва это были заросшие травой склоны. Потом на них стали попадаться тёмные курганы. Там и тут люди вращали вороты вроде колодезных, только больше, и поднимали они не вёдра с водой, а металлические клети с чёрной породой. Элиза и Джек видели такое в Богемии: кучи состояли из шлака, оставшегося после выплавки металла (в данном случае меди). После дождей (а дожди здесь шли часто) кучи становились сине-лиловыми и блестящими. Из клетей руду пересыпали в тачки и везли мимо шлаковых куч к дымящимся печам, возле которых суетились перепачканные углем кочегары. Несколько раз они въезжали в наполненные дымом лесистые равнины и по колеям от протащенных волоком стволов добирались до пороховых заводов. Здесь высокие худосочные деревца ольхи рубили и пережигали на уголь. Уголь мололи на водяных мельницах и смешивали с другими ингредиентами. Из заводов выходили рабочие, издёрганные и осунувшиеся от мысли, что в любой миг они могут взлететь на воздух; доктор снабжал их серой и селитрой. Джек усвоил, что войны, как реки, берут начало в многочисленных межгорных долинах. Элиза наконец-то увидела деревья-исполины из матушкиных сказок; правда, многие были выворочены ветром, и их корни походили на скрюченные пальцы, сжимающие последние пригоршни грязи. Дождь, облака и солнце сменялись каждые четверть часа, но то в дымных долинах; выше погода стояла ясная и холодная. Караван двигался медленно, однако раз небо прояснилось, когда они проезжали по открытому месту (Гарц – скалы, и лес на них не серьёзнее вьющейся поросли на шлаковых кучах); тут-то и стало видно, что долины – далеко внизу. Шлаковые кучи – словно монашеская процессия в клобуках. Чёрные птицы вьются, словно зола в дымоходе. Здесь и там – сторожевая башня на вершине и купа деревьев, сбившихся в кучку, как заговорщики. Вороны промышляли внизу на только что засеянных полях, серебристые птицы отрабатывали неведомые манёвры в невидимых воздушных потоках. Доктор решил для поднятия духа сводить их в заброшенную медную штольню. – София была первой женщиной, которая вошла в шахту, – обрадовал он. – Вы, Элиза, можете стать второй. Рудная жила (вернее, полость, оставшаяся на месте выбранной жилы) проходила близко к поверхности, так что им не пришлось спускаться по множеству лестниц в глубокую шахту. Они остановились перед полуобвалившимся строением, отыскали в перекособоченном шкафу факелы, спустились по уклону, где раньше была короткая лестница, и угодили в туннель высотой с Джека и шириной в длину руки. Факелы назывались kienspan – лучины из смолистого дерева, с рапиру размером, обмакнутые во что-то вроде смолы. Они весело горели и больше всего напоминали огненные мечи в руках ангелов. В их свете можно было различить крепи, стоящие через каждые несколько ярдов, и уложенные между ними толстые горизонтальные брёвна. Все вместе образовывало длинную деревянную клетку – не для того, чтобы стеснить свободу посетителей, а для зашиты от осыпающейся породы. Доктор повел их внутрь, и вскоре вход скрылся из виду. Часто попадались боковые туннели, но они были Джеку ниже чем по пояс, и никто не собирался в них лезть. По крайней мере так Джек думал, покуда доктор не остановился перед одним таким отверстием. Пол вокруг был усеян странной формы дощечками, полукруглыми кусками кожи и пластинами чёрного сланца. – В конце этого штрека – не больше чем в полудюжине саженей – диковина, которую вам стоит посмотреть. Джек принял слова доктора за шутку, однако Элиза без колебаний согласилась лезть в дыру. По правилам, которые распространяются даже на бродяг, это означало, что Джек должен отправиться туда первым и проверить, нет ли опасности. Доктор сказал ему, что кусок кожи называется arsch-leder (Джек перевёл для себя: «нажопник»), и показал, как горняки защищают дощечкой руку и локоть, когда ползут на боку. Джек надел нажопник, лег на пол и, держа в одной руке лучину, а другой передвигая дощечку, пополз в штрек. Ползти было несложно, если только не думать… ну, ни о нём. Выставленная вперёд лучина упёрлась в забой. Брызнул сноп искр, и Джек на мгновение ослеп. Когда к нему вернулась способность видеть, он оказался один на один с исполинской птицей… или не птицей – вроде страуса, но без крыльев. Огромные, больше пальцев, когти тянутся к руде – а может быть, к Джеку. Длинную костистую шею, только что не завязанную узлом, венчал узкий череп с открытой пастью и… такими… огромными… зубами. Джек заорал. Вернее, заорал дважды: второй раз оттого, что, попытавшись вскочить, треснулся башкою о кровлю. Вне себя от боли и ужаса, он отполз на две сажени назад, потом замер, прислушался и не услышал ничего, кроме ударов собственного сердца. Разумеется, зверюга была мёртвая – одни кости. Доктор, хоть и антик во многих отношениях, не отправил бы Джека в логово к чудищу. Джек медленно, стараясь не очень шевелить больной головой, пополз к выходу. Он слышал, как доктор говорит Элизе: «Все горы усыпаны ракушками. Видите, какая слоистая порода – она колется на пластинки… и посмотрите, что между слоями! Надо полагать, это создание занесло илом – вероятно, речными наносами, – расплющило, тело разложилось, а оставшуюся пустоту заполнил каменный материал, подобно тому, как скульптор заливает бронзу в форму из гипса». – Кто вам всё это рассказал? – спросил Джек, просовывая окровавленную голову между ног. – Я сам дошёл, – отвечал доктор. – Кто-то же должен придумывать новые идеи. Джек перекатился на живот и обнаружил, что пол штольни вроде как вымощен сланцевыми плитами с отпечатками сушёной апокалиптической фауны. – Какая река? Мы в горах. Здесь нет реки, – сообщил Джек доктору после того, как они запустили Элизу в штрек. Джек держал её дорожное платье, покуда Элиза ползла по туннелю в нажопнике и панталонах. – Но она была раньше, – сказал доктор, поводя лучиной над отпечатками рыбин с явно избыточным количеством плавников, тварей наподобие абордажных крючьев, стрекоз размером с арбалеты. – Река в горах? – Тогда откуда ракушки? Наконец они выехали на плоскую гору, где стояла каменная башня, окружённая вместо бастионов кучами шлака. Дурак увидел бы, что здесь потрудился хитроумный доктор. Над башней торчала странная ветряная мельница: её лопасти вращались не как катящееся колесо, а как волчок, поэтому их не надо было разворачивать к ветру. Основание башни защищала каменная куртина, старая, но недавно отремонтированная (очевидно, здесь опасались нападения людей, не располагающих современной артиллерией). Ворота тоже были новые и на засове. Как только доктор назвал себя, управляющий с мушкетом открыл их и тотчас запер за вошедшими. Сама башня была не приспособлена для жизни. Доктор нашёл Элизе комнату в домике по соседству. Джек шуганул из комнаты крыс, потом поднялся по винтовой лестнице в башню. Та стонала от ветра, как пустой кувшин, если дуешь в него от нечего делать. Колодец из скреплённых коваными обручами брусьев шёл от ветряка к отверстию в полу – очевидно, устью шахты. Множество ведер ползло по замкнутой цепи так, чтобы мельница вытаскивала их из шахты вместе с водой. Огибая огромный шкив, они опрокидывались в длинный деревянный лоток, проходящий через сводчатое отверстие в стене башни. Затем пустые вёдра снова ныряли в шахту. Таким образом вода откачивалась из неких глубоких горизонтов, которые иначе давно бы затопило. Здесь, наверху, вода была далеко нелишней. Сбегая по лотку, она вращала небольшие колёса, приводившие в движение мехи и падающие молоты, после чего собиралась в бочки. Отсюда Джек (благоразумно потративший часть выручки на тёплое платье) смог оглядеть местность на несколько дней пути в каждую сторону. Горы (за исключением одной большой к северу) были не скалистые, а округлые, разделенные бездонными ущельями, леса – пёстрые, частью лиственные, в светлом весеннем убранстве, частью хвойные, почти чёрные. Тут и там на южных склонах виднелись пятнышки лугов, на северных – снега. Деревушки с красными черепичными крышами были разбросаны неравномерно, словно чахоточные плевки. Небольшой городок лежал прямо внизу, в ложбине, отделяющей эту гору от более высокой к северу – лысой скалистой вершины, увенчанной странными длинными камнями. Облака неслись, как крылатые гусары, быстро и яростно, и Джеку казалось, что башня падает. Странные изогнутые лопасти ветряка рассекали воздух над головой, словно плохо нацеленные ятаганы. – Минуточку, доктор, со всем уважением… вы заменили работников ветряком, который откачивает воду… но что будет, если ветер утихнет? Вода поднимется снова? Рудокопы утонут? – Нет, просто выберутся в лодочках по старым дренажным штольням. – И что думают рабочие, которых заменили машинами, доктор? – Рост производительности более чем… – А легко «случайно» уронить сабо в механизм? – Э… возможно, я поставлю охрану, чтобы предотвратить такой саботаж. – Возможно? Дорого ли обойдется охрана? Где она будет жить? – Элиза, прошу вас… если мне позволено прервать репетицию, – сказал доктор. – Умоляю, не делайте свою работу чересчур хорошо. Не говорите ничего, что может запасть в голову… э… слушателям. – Но я думала, затея в том и состоит. – Да, да, но не забудьте, будут подавать напитки… вдруг кто-нибудь из потенциальных вкладчиков почувствует потребность выйти до ветра в то самое время, когда вы наконец прозреете и поймете, какая это великолепная возможность… Элиза репетировала, полулёжа на кушетке – быть может, в её деликатном состоянии не следовало ползать по холодному штреку. Она была очень бледна. Джек подумал, что, коли уж они сейчас при деньгах, вполне можно спуститься в городок, найти аптекаря и купить снадобье или зелье, которое снимет последствия кровотечения, вернет Элизиным щекам румянец и вообще гумор страсти в ее жилы. О городке, который звался Бокбоден, доктор почти ничего не говорил, если не считать мелких замечаний вроде: «Я бы туда не ходил», «Не ходите туда», «Не стоит туда соваться» и «Держитесь от него подальше». Однако он не подкрепил свои высказывания живописной сказочкой, которую непременно присовокупил бы бродяга, и потому звучали они не слишком убедительно. Сверху городок выглядел чинным, но не настолько, чтобы внушать опасения. Турок в последние день-два прихрамывал на одну ногу, и Джек отправился пешком. Идя мимо старых шлаковых куч и брошенных печей, он думал, что надо хорошенько присматриваться и, возможно, узнать что-нибудь новое про выделку денег, в частности: как разбогатеть, не вкладывая средства (и чтобы прибыль была сразу, а не через пару десятилетий). Из новенького он увидел только стоящий на отшибе заводик. Здесь над чанами, под которыми горела ольха, поднимался зловонный пар. Разило мочой, и Джек предположил, что это сукновальная мануфактура. И впрямь, двое рабочих, кривясь от вони, лили из ведра в чан что-то жёлтое. Однако никакого сукна видно не было: судя по всему, ребята только понапрасну переводили добрую мочу. Едва вступив в город, Джек почувствовал запоздалые опасения – ничего особенного не произошло, просто, как всегда в городе, в нём проснулся страх ареста, пыток и казни. Он напомнил себе, что одет во всё новое. Если не снимать перчатку с руки, на которой годы назад в Олд-Бейли выжгли букву V, ничто не выдаст в нём вагабонда. Более того, он – друг доктора, которого здесь наверняка уважают. Поэтому Джек продолжал идти. Как многие английские и почти все немецкие города, Бокбоден состоял из домов, выстроенных фахверковым способом: возводили деревянный остов из столбов, поперечин и раскосов, а промежутки заполняли чем ни попадя. Здесь, судя по всему, их заплетали чем-то вроде плетня и замазывали глиной, которая затем высыхала на солнце. Каждое новое здание поначалу опиралось на предыдущее; во всем городе практически не было отдельно стоящих домов. Бокбоден представлял собой единую постройку со множеством тел и щупальцев. Каркасы домов, вернее, общий каркас всего городка был, вероятно, когда-то ровным и правильным, но за столетия просел и перекосился. Год за годом мазаные стены латали и подновляли. Впечатление было такое, словно корни дерева выворотило вместе с комом земли, в котором затем выкопали жилище. Даже здесь попадались небольшие шлаковые кучи и ошмётки руды на улочках. За одной из дверей Джек услышал неравномерное щёлканье ручного ворота. Внезапно дверь растворилась, и человек выкатил тачку с рудой. Поймав на себе пристальный взгляд незнакомца, он переменился в лице. Джек не успел изобразить притворное безразличие, как рудокоп отвесил несуразный кривобокий поклон, стараясь одновременно не упустить тачку вниз по наклонной улочке (то-то была бы потеха!). – Аптекарь? – спросил Джек. Рудокоп отвечал на каком-то немецком диалекте, показавшемся Джеку смутно знакомым, и указал головой дальше по улице. За дверью ворот на несколько мгновений смолк, потом защёлкал снова. Джек пошёл за рудокопом; тот всё время пытался убежать вперёд, но мешала тяжеленная тачка. Джек подумал, что, может быть, все шахты соединяются под землёй, и местное население бесплатно пользуется тем, что доктор откачивает воду. Тогда понятно, почему их пугают незнакомцы, приходящие со стороны башни. Если тут вообще нужны какие-то причины. Аптека по крайней мере оказалась отдельно стоящим домом на краю усеянного шлаковыми кучами луга, наискосок от почерневшей церкви. Крыша была высокая и острая, стены – выложены плитами чёрного сланца. Каждый следующий этаж нависал над предыдущим, а под выступами тянулись ряды резных деревянных лиц: очень жизненные изображения монахинь, королей, рыцарей в шлемах, волосатых дикарей и пучеглазых турок, а также ангелов, демонов, ликантропов и козловидного дьявола. Джек вошёл в аптеку и никого в окошке не обнаружил. Он свистнул разок, но получилось так жалко, что второй раз свистеть не захотелось. Потолок украшала громоздкая лепнина, по большей части изображавшая людей, которые превращаются во что-то другое. Некоторые из этих историй Джек знал по пьесам: например, про охотника, который нечаянно подсмотрел, как купается богиня – та обратила его в оленя, и бедолагу разорвали собственные собаки. Получеловек-полуолень был изображён на потолке в натуральную величину. Наверное, аптекарь туг на ухо… Джек пошёл по дому, нарочно стараясь побольше шуметь. Он оказался в большой комнате, наполненной предметами, которые явно не стоило трогать: настольные печи дышали жаром, на спиртовках над пламенем синим, как Элизины глаза, булькали в ретортах мутные жидкости. Джек открыл следующую дверь – в кабинет аптекаря – и сильно вздрогнул, напоровшись на висящий скелет. Он поднял глаза к потолку и снова увидел массивную лепнину. Она изображала всё сплошь богинь: богиню зари, богиню весны на убранной цветами колеснице, ту, в честь которой назвали Европу, богиню любви (эта смотрелась в ручное зеркальце), а в центре – Минерву (некоторые имена Джек всё-таки знал), в шлеме, с суровым взглядом. Одной рукой она держала щит с изображением страшилища, чьи волосы-змеи свешивались почти до середины комнаты. На верёвке болталась мёртвая усохшая рыба. Вдоль стен тянулись полки и шкапчики с различными профессиональными орудиями. Здесь были щипцы, пугающие функциональным разнообразием, целое собрание ступок и пестиков с какими-то надписями, черепа разных животных, закрытые цилиндрические сосуды, стеклянные и каменные, тоже с надписями, огромные готические часы (гротескные существа неожиданно выскакивали из дверок и прятались раньше, чем Джек успевал обернуться, чтобы их разглядеть), зеленые стеклянные реторты, приятной округлостью напомнившие ему женские формы, весы с невероятным количеством гирь и разновесов, начиная от пушечных ядер и заканчивая листочками фольги, которые можно ненароком сдуть в соседнюю страну, блестящие серебряные стержни, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся стеклянными трубочками, невесть зачем наполненными ртутью, нечто высокое и тяжёлое, закутанное в плотную ткань: оно источало внутреннее тепло и в то же время вздымалось и опадало, словно мехи… – Guten Tag, или, наверное, лучше сказать, добрый день, – произнесло оно. Джек от неожиданности сел на копчик и, подняв глаза, увидел рядом со скелетом человека, закутанного в дорожный плащ или монашеский балахон. Джек даже не вскрикнул, так он был изумлён – не в последнюю очередь тем, что незнакомец заговорил по-английски. – Откуда вы знаете… – только и сумел выговорить он. У человека в балахоне были седые волосы и рыжая борода. Взгляд выражал сдержанную веселость, и Джек решил выждать минуту, прежде чем выхватить саблю и проткнуть незнакомца насквозь. – …что ты – англичанин? – Да. – Возможно, тебе невдомёк, но ты имеешь привычку разговаривать с самим собой – рассказывать себе, что видишь и что может произойти. Поэтому я уже знаю, что тебя зовут Джек. Я – Енох. И ещё есть нечто очень английское в азарте, с каким ты отправился исследовать то, что немец или француз благоразумно счёл бы не своим делом. – Эти слова наводят на размышления, – сказал Джек, – но, полагаю, не слишком оскорбительны. – Я не вкладывал в них ровным счётом ничего оскорбительного, – отвечал Енох. – Чем могу помочь? – Я здесь в интересах дамы, которая стала бледной и ослабела по причине излишне обильных женских… э… – Месячных? – Да. Есть что-нибудь от этого? Енох взглянул в окно на пасмурное серое небо. – Ну… что бы ни говорили аптекари… – Так вы не аптекарь? – Нет. – А где он? – Где сейчас все приличные люди. На городской площади. – Так о чём разговор? Енох пожал плечами. – О том, что ты хочешь помочь подруге, а я знаю как. – Так как? – Ей не хватает железа. – Железа?! – Она выздоровеет, если будет есть много говядины. – Вы сказали «железа». Почему бы ей не съесть подкову? – Они невкусные. Говядина содержит железо. – Спасибо. Так вы сказали, аптекарь на городской площади? – Вон там, неподалёку, – кивнул Енох. – Там же мясная лавка, на случай, если захочешь купить говядины. – Aufwiedersehen, Енох. – До встречи, Джек. Отвязавшись, таким образом, от сумасшедшего (имевшего, как подумалось Джеку уже на улице, что-то общее с доктором), он отправился поискать кого-нибудь в здравом уме. На площади было много народу – который тут аптекарь? Следовало спросить у Еноха, как он выглядит. Бокбоденцы сошлись кольцом у вертикального столба, врытого в землю и наполовину засыпанного хворостом. Джек поначалу не понял, что это такое, поскольку прибыл из Англии, где чаще практикуется виселица. К тому времени, как до него дошло, он уже протолкался в середину толпы и не мог повернуть назад, не навлекши на себя подозрение в сочувствии ведьмам. Джек знал, что большая часть зрителей пришла сюда ради сохранения репутации; однако именно такие люди скорее всего обвинят чужака в колдовстве. Настоящие ведьмоненавистники были в первых рядах и что-то кричали на местном диалекте немецкого, который порой до обидного походил на английский. Слов Джек не понимал, но, по-видимому, это были угрозы. Бессмыслица какая-то: что проку грозить ведьме, которая и без того скоро умрёт? Потом Джек различил слова «Walpurgis» и «heute Nacht», что, как он знал, означает «сегодня ночью», и понял, что грозят не обречённой женщине, а соседям, которых подозревают в ведьмовстве. Женщина была обрита, хотя не только что. По длине щетины Джек мог догадаться, что следствие длилось около недели. Руки и ноги её побывали в тисках, поэтому женщину предстояло жечь сидя. Когда её усаживали на кучу хвороста, она скривилась от боли, потом прислонилась к столбу, радуясь, что скоро навсегда покинет Бокбоден. Над ней была прибита дощечка с клочком бумаги, содержащим какие-то полезные сведения. Тем временем палач связал ей руки за столбом, потом несколько раз обмотал верёвку вокруг шеи, а свободный конец отбросил прочь от столба, вызвав возмущение первых рядов. Подошёл ещё кто-то с большим глиняным кувшином и облил хворост маслом. Джек как бывший специалист по облегчению мук при казни наблюдал с профессиональным интересом. Когда пламя занялось, палач сильно потянул за верёвку, задушив женщину и, в глазах некоторых, совершенно испортив зрелище. Впрочем, большинство смотрели, но не видели. Джек знал, что те, кто пришел на казнь, даже если смотрят во все глаза, не видят смерти и не могут вспомнить её позже, поскольку на самом деле думают о собственной кончине. Однако у Джека на душе было так худо, как если бы жгли Элизу. Прочь он шёл, плотно сведя лопатки, под носом было мокро. Затуманенный взор не способствовал ориентации. Джек шагал быстро, и к тому времени, как понял, что идёт не по той улочке, площадь – его единственная путеводная звезда – совершенно скрылась из виду. Ему не улыбалось бесцельно бродить по улицам или ещё как-то навлекать на себя подозрения. Лучше всего было поскорее выбираться отсюда. Так он и сделал и заблудился в лесу. Гарц Вальпургиева ночь 1684 Куда, несчастный, скроюсь я, бежав От ярости безмерной и от мук Безмерного отчаянья? Везде В Аду я буду. Ад – я сам. На дне Сей пропасти – иная ждёт меня, Зияя глубочайшей глубиной, Грозя пожрать. Ад, по сравненью с ней, И все застенки Ада Небесами Мне кажутся. Джек сидел на поваленном дереве. Он был голоден и, что хуже, чувствовал себя дураком. До темноты оставалось совсем немного времени, и Джек намеревался разумно им распорядиться. Он был не прочь поступать разумно, если только этого не требует какой-нибудь джентльмен или проповедник, поэтому спустился с бугра в ложбину, где рассчитывал развести огонь, не привлекая внимания бокбоденцев. Пока не стемнело, он собирал хворост, а когда солнце зашло, запалил костерок. Возню с кремнём, огнивом и трутом можно заметно сократить, если вместо трута взять щепотку пороха. С помощью этой несложной пиротехники он развёл костер. Теперь оставалось лишь время от времени подбрасывать ветки да пялиться в огонь, как болван, пока не заснёшь. Чтобы не думать о сожжённой ведьме, он пытался обратиться мыслями к Бобу и близнецам Джимми и Дэнни, которым всё собирался, но пока так и не собрался скопить наследство. Он вздрогнул, увидев в отблесках пламени мужчину и трёх женщин. Судя по лицам, они углубились ночью в лес, рассчитывая найти у костра какого-то другого спящего[22] бродягу. Первой мыслью Джека было бы: «Охотники на ведьм!», если бы пришельцы не растерялись больше него (они заметили саблю). Кроме того, трое из них были женщины, и все четверо – не вооружены, если не считать оружием свежесрезанные ветки, на которые они опирались при ходьбе, как на посохи. Так или иначе, пришельцы повернулись и заспешили прочь, похожие со своими ветками на толстых горничных, вздумавших вымести лес импровизированными помелами. После их ухода Джек не мог уснуть. Через несколько минут появилась вторая такая же группа. Что-то в этом лесу, будь он неладен, оказалось слишком много народа!.. Джек собрал свои скудные пожитки и отошёл в темноту посмотреть, какие ещё мотыльки прилетят на огонь. Через несколько минут костёр окружила целая толпа женщин, от почти девочек для дряхлых старух. Они разворошили пламя, вытащили чёрный котёл, наполнили его водой из ближайшего ручья и поставили на огонь. Как только над водой начал подниматься пар, подсвеченный отблесками костра и пропадающий в холодном небе, женщины принялись бросать в котёл ингредиенты для какого-то варева: большие тёмно-синие ягоды, красные, в белых пятнышках, грибы, пучки трав. Джек, к своему разочарованию, не видел ни знакомых овощей, ни мяса, однако он так проголодался, что согласился бы и на немецкую еду. Вопрос был: насколько безопасно напроситься на ужин? Наконец он решил присоединиться к трапезе. Народ всё прибывал, его бы в любом случае рано или поздно заметили. Для начала Джек саблей срезал себе ветку, как у других. Поскольку все были безоружны, он спрятал саблю вместе с ножнами в штанину, а сверху соорудил подобие лубков, как будто у него что-то с ногой. В таком виде он проковылял к костру, где его вежливо, если не сказать тепло, приветствовали стряпухи. Одна из них протянула Джеку половник варева, который тот проглотил, обжегши себе пищевод до самого желудка. Оно, может, и к лучшему, потому что вкус у похлёбки был преотвратный. Исходя из принципа, что никогда не знаешь, где снова придётся пожрать, он жестом попросил ещё. Женщина нехотя зачерпнула второй половник и опасливо посмотрела, как Джек пьёт. Вторая порция оказалась не лучше первой, но по крайней мере на дне плавали грибы – хоть что-то сытное для поддержания сил. Видимо, Джек и впрямь выглядел потерянным, потому что через некоторое время стряпухи принялись указывать ему в ту сторону, куда уходили остальные. Все двигались вверх, куда Джек и сам собирался отправиться в расчёте выбраться к башне или увидеть её с горы, когда рассветёт. Он заковылял вслед за другими. В следующий раз, когда к нему вернулась способность воспринимать окружающее (похоже, он шёл и спал одновременно, хотя всё теперь было как во сне и вполне могло быть сном), Джек понял, что поднялся мили на две в гору. Здесь было куда холоднее, а ветер бушевал так, что деревья ломались с грохотом пушечной канонады. Полная луна неслась среди рваных туч. Иногда что-то проносилось сквозь кроны деревьев, осыпая Джека градом сухих сучьев. Подняв глаза, он увидел, что это ветки или даже целые вырванные с корнем деревца, заброшенные вверх ураганом. Он по-прежнему ковылял в гору, однако уже не помнил зачем. Высокие тонкие деревья росли плотно, как выставленные пики. Луна, на мгновение выныривая из туч, озаряла лес короткими вспышками, как от рвущихся гранат. Джеку чудились звуки труб и поступь множества ног. Он забыл, для чего замотал ногу, и вообразил, будто ранен в бою (вероятно, не только в ногу, но и в голову), и его перевязал цирюльник. Некоторое время он был убеждён, что по-прежнему сражается с турками под Веной, а Элиза была всего лишь длинным, сложным, жестоким сном. Наконец он выбрался из леса. Ветки и что-то потяжелее по-прежнему пушечными ядрами свистели над головой. Джек поглядел на луну, пытаясь понять, что там такое. На фоне мятущихся рваных туч трудно было разглядеть чётко, но Джек почти не сомневался, что на ветках сидят люди – они мчались, как крылатые гусары на своих скакунах… шли в атаку на гору! Джек наконец вышел на дорогу, ведущую к вершине, и его едва не сбила с ног атакующая пехота: поток людей с ветками и другими украшениями, например, вилами. Забыв про ногу, Джек попытался бежать со всеми, упал и довольно долго не мог подняться. Он выбрался к каменным выступам на макушке горы чуть позже остальных и увидел, как толпа преследует пяток мушкетёров, которых, видимо, поставили стеречь вершину. Те не стреляли, явно не желая уложить несколько человек и остаться лицом к лицу с сотнями других. Люди с ветками отпускали замечания в том же духе, что и утром во время казни, только теперь звучало слово «Wacher». Джек, мучительно перенапрягая мозги, предположил, что оно означает «стража». Выиграв битву, ведьмы (бессмысленно было теперь отрицать, что это они, хотя примерно половину составляли мужчины – надо полагать, ведьмаки) быстро разложили по всей вершине костры (многие принесли с собой вязанки хвороста), и они тут же разгорелись на ветру ослепительным белым пламенем. Джек ковылял вокруг и смотрел. Вероятно, много столетий назад на горе воздвигли высокий каменный столб, который расходился на конце, образуя подобие козлиных рогов. Когда-то он должен был выглядеть как арбалет, поставленный на попа, однако давным-давно рухнул, так что успел зарасти грязью и мхом. Его окружали десятка два стоячих камней, теперь по большей части тоже поваленных. Ведьмы привели с собой черного козла и привязали его к лежащему столбу, чтобы смотрел на шабаш. Люди, многие голые, плясали вокруг костров. И они, и камни были украшены цветами. Многие, разумеется, занимались непотребством, но по крайней мере часть – церемониально: женщины в гирляндах из весенних цветов, мужчины – с повязками на глазах, словно актёры в своеобразном аморалите. Некие мелкие животные, возможно, умирали насильственной смертью. Слышалось пение на каком-то не вполне немецком языке. Разумеется, председательствовал на шабаше сатана, князь тьмы, во всяком случае, так предположил Джек. А как иначе прикажете называть чёрную-пречёрную рогатую фигуру высотой футов сто, пляшущую в дымном мятущемся небе над вершиной, то видимую, то невидимую, выставляющую вверх козлиную бороду, чтобы то ли захохотать, то ли завыть на луну? Джек искренне верил, что это сатана, и точно знал, что всё, когда-либо сказанное о Люцифере проповедниками, – истинная правда. Он понял, что надо драпать, и побежал куда глаза глядят. Тут из-за туч выглянула луна. Джек увидел, что ещё пара шагов, и он побежал бы по воздуху: гора обрывалась вниз, в бездонную пропасть, куда не достигал лунный свет. Джек остановился и, за неимением другого выхода, повернул назад. С натужным и не вполне искренним спокойствием он обозрел панораму костров и теней в надежде отыскать путь не совсем близко к дьяволу – вернее, к нескольким дьяволам разного размера, которые сошлись на вершине горы. Взгляд его остановился на крохотном чёрном силуэте в ореоле светящейся шерсти: чёрный козёл задрал морду, чтобы замекать. Один из дьяволов в точности повторил его движение. Джек понял, что бежал от тени, которую козёл отбрасывает на дым и облака в пляшущем свете костров. Он сел где стоял, почти на краю пропасти, хохоча и силясь прочистить голову, чтобы сориентироваться. Уступ был каменистый, с торчащими вверх причудливыми глыбами, и (кстати) начисто опровергал теорию доктора о том, как образовались эти каменю ги, поскольку слои в них шли строго вертикально. Очевидно, то были останки исполина, убитого в какой-то битве ещё до Потопа: он умер, лежа на спине и выставив вверх костлявые пальцы. Джек подошёл ближе к костру, отчасти потому что замёрз, отчасти из желания получше разглядеть пляшущую у огня голую девицу – чуть полноватую и обречённую со временем обратиться в очередную старую каргу из тех, что ездят на помеле, но всё же не такую грузную, как остальные немки. Жар сделался почти невыносимым. Тут бы Джеку сообразить, что и свет очень яркий, но он понял это, только услышав роковое слово «Wache»! Обернувшись, он увидел, почти на расстоянии вытянутой руки, одну из тех женщин, что разбудили его вечером, когда он спал у костра с саблей на виду. Именно на саблю она и уставилась после того, как привлекла общее внимание ненавистным словом. Саблю можно спрятать под лубками в темноте, когда никто особенно не всматривается, но тут это не сработало: женщина пригляделась и тут же завопила голосом, который, вероятно, было слышно в Лейпциге: «Er ist eine Wache! Er hat em Schwert!»[23] Веселье закончилось для всех, в первую очередь для Джека. Любой мог сейчас толкнуть его в костёр, что было бы если не концом, то, во всяком случае, занятным началом, однако вместо этого все бросились врассыпную. Осталась только женщина, которая первая на него указала. Она отскочила на расстояние, недоступное для сабли, и продолжала истерически голосить. Джеку не хотелось вытаскивать саблю и злить ведьм ещё больше, но (а) вряд ли их можно было разозлить сильнее и (б) если он хотел бежать (а именно этого он хотел), надо было сбросить лубки к чертям собачьим. Итак. Кинжал. Тётка взвизгнула и отпрыгнула ещё дальше. Джек, переборов желание крикнуть ей, чтобы заткнула хлебало, разрезал тряпьё, которым замотал ногу, и лубки упали на землю. Он вытащил ножны вместе с саблей, чтобы освободить ногу. Тётка пронзительно верещала. Люди теперь бежали к Джеку, за криками: «Wacher!» ничего другого было не слышно. Джек уже достаточно нахватался немецкого, чтобы понять: «Wacher!» означает «стражники», а не «стражник». Они вообразили, будто Джек – один из множества переодетых вооружённых врагов, что, разумеется, было единственным объяснением. Только самоубийца сунулся бы сюда в одиночку. Джек побежал. Он пробежал совсем немного, прежде чем понял, что участники шабаша, не будь дураки, гонят его к обрыву. Впрочем, им недоставало слаженности. Джек заметил брешь в их рядах и, устремившись в неё, припустил под гору. Крики стали на пару октав ниже. Сперва визжали испуганные женщины, поднимая тревогу (надо сказать, успешно), теперь перекликались разъярённые мужчины, организуя облаву. Джеку подумалось, что им не впервой охотиться на крупную дичь в здешних лесах. Тем не менее охота продолжалась примерно час, постепенно перемещаясь вниз. У Джека была одна надежда – вырваться вперёд и скрыться во тьме. Однако преследователи знали местность, и у них были факелы; как Джек ни бежал, он оставался в окружении. Много раз ему казалось, что он вот-вот вырвется, и всякий раз надежда обманывала. Миллионы колючих веток ольхи царапали лицо, грозя выколоть глаза и заставляя его производить больше шума, чем следовало. Под конец сложилась ситуация, когда он мог бы спастись или по крайней мере на несколько минут продлить себе жизнь, убив преследователя-другого. И тем не менее Джек этого не сделал. Вот было бы здорово, если бы некий вышний наблюдатель с зеркалом на шарнире отметил такое благородство и сообщил о нём Элизе и прочим, кто всегда думал о Джеке плохо. Какое там: Джек не только не снискал всеобщего восхищения, но и оказался в кругу полудюжины мужчин, которые стояли на расстоянии, недосягаемом для сабли, и норовили заехать ему факелом в морду. Джек рискнул обернуться и увидел, что сзади никого нет. Странный способ окружать человека. Он развернулся, пробежал пару шагов и налетел на стену. На стену. Снова обернувшись, он заметил нацеленный в лицо факел и рефлекторно парировал удар. Еще один факел стремительно надвигался с другой стороны – Джек парировал и его. Третий он отбил остриём сабли, а не плашмя, разрубил факел пополам, поймал в воздухе горящую половину, рубанул вслепую и кого-то задел. Теперь, когда пролилась первая кровь, загонщики отступили, ожидая подкрепления[24]. Джек двинулся боком, спиной к стене, сжимая в одной руке саблю, в другой факел и время от времени оглядываясь в его свете через плечо на стену. То было старое деревянное здание. На двери висел замок размером с окорок, ставни на окнах были закрыты изнутри на засовы. Джентльмен растерялся бы, но Джек знал, что у любого дома самое слабое место – крыша, поэтому, отыскав поленницу, взобрался по ней и вскоре уже стоял на черепице. Она была толстая и тяжёлая для защиты от града и веток, но паника придала Джеку сил: он принялся бить каблуком, пока не проломил несколько черепиц. Снизу в него летели камни размером с кулак. Джек остановил один, пока тот не скатился с крыши. Действуя им, как молотом, он пробил отверстие в крыше, бросил внутрь факел, протиснулся между брусьями, на которых держалась кровля, спрыгнул и приземлился на стол. Схватил факел, пока тот ничего не поджёг, и оказался лицом к лицу с портретом Мартина Лютера. Загонщики – судя по голосам, несколько десятков, – окружили дом и пробовали на прочность окна и двери. По этим звукам Джек мог примерно определить размеры и форму здания. Оно состояло из нескольких комнат, так что явно было не церковью, но и не обычным крестьянским домом. Никто не пытался пролезть вслед за ним через дыру в крыше. Джек знал, что никто и не полезет – дом просто подожгут. Он уже слышал, как рядом рубят деревья. Эта конкретная комната была чем-то вроде молельни, а то, на что Джек приземлился, – алтарём. Рядом с портретом Лютера висело старое и не слишком искусное изображение девушки с протянутой чашей, над которой парила церковная облатка. Джека (сегодня он уже пил непонятное зелье из рук таинственных женщин) передернуло. Однако он последнее время тёрся среди горняков, поэтому узнал святую Варвару – покровительницу тех, кто бьёт туннели в земле, – хоть и без католических атрибутов. Остальную часть комнаты занимали дощатые скамьи. Прыгая с одной на другую, Джек отыскал что-то вроде гостиной с парой стульев и высокой чёрной печью, какие так любят немцы. Повернувшись на каблуках, он отправился в другую сторону, увидел свисающие с потолка огромные весы, гири размером с круги сыра, шкаф и, наконец – вот оно, везение! – лестницу вниз. Внутри становилось дымно, и не только из-за его факела. Джек распахнул шкаф и схватил сноп лучин. Шляпу он потерял во время бегства, поэтому прихватил суконный шахтёрский колпак, защищающий голову от ударов о каменную кровлю. Затем принялся спускаться по лестнице, и вовремя: деревянный дом занялся, как порох. Богбоденские бюргеры увидят огромный костёр; охотники на ведьм сочтут его намёком и не смогут расшифровать. Ступенек через двадцать начался туннель. Почти прогоревший факел осветил лишь малую его часть. Джек зажёг лучину. Она горела ярче, но всё равно не осветила дальний конец туннеля. Отлично. Джек побежал, пригнувшись, чтобы не вмазаться башкой в деревянные крепи. Через минуту он миновал нишу с ручным воротом. Верёвки уходили вниз. Ещё через минуту ему попалась вторая такая ниша, затем третья. Наконец Джек остановился, решив, что надо спускаться. Гордость за собственную смекалку успела схлынуть, уступив место тревоге. Участники шабаша знают местность лучше него. Им точно известно, что под домом – вход в шахту; несложно предположить, что он отыскал туннель. Вскоре они могут появиться с факелами, собаками и что там ещё берут немцы, когда охотятся на норных зверей со своими похожими на сосиски псами. Одна из бадей, привязанных к вороту, была внизу, другая – наверху. Джек забрался в верхнюю, потянул за вторую верёвку и, перехватывая её руками, начал спуск. В какой-то момент он утратил бдительность, и бадья заскользила чересчур быстро. В панике Джек крепко сжал верёвку, обжёг ладони, выпустил её, снова схватил и снова выпустил от ещё более нестерпимой боли. Так бы оно и продолжалось, если бы на середине спуска поднимающаяся бадья не ударила его в подбородок. Дальше он продолжал падать, уже не хватаясь за верёвку. Спасло то, что бадья-противовес от удара закачалась и стала биться краями о стены шахты, всё быстрей и быстрей по мере подъёма, высекая искры и осыпая Джека градом мелких камней, но в то же время тормозя падение. Джек втянул голову в плечи, а лучину выставил вверх, на случай, если внизу окажется вода – возможность, которую следовало предусмотреть несколько раньше. Внизу оказался камень – бадья приземлилась на бок и выбросила Джека. Сверху продолжали сыпаться камни, больно ударяя по ногам – добрый знак, что его не парализовало. Лучина по-прежнему горела. Джек вцепился в неё мёртвой хваткой и увидел, как голубоватое пламя пожелтело и вытянулось вбок, вопреки обыкновению пламени, которое, как правило, тянется вверх. Джек отбросил ногой бадью и, пройдя пару шагов, почувствовал воздушный ток из туннеля. Он отступил в другую сторону от шахты: здесь ветер дул в противоположном направлении. Обе воздушные струи сливались и устремлялись вверх по шахте с воем, который, ясное дело, напомнил Джеку о неприкаянных душах и всём таком прочем. Теперь он понял, зачем участники шабаша валили деревья: они знали, что сильный огонь вытянет воздух из шахты. Надо было выбираться наружу, но каким образом? Задним умом Джек понимал, что в шахту спускаться не стоило. Всё же он выбрал туннель, из которого тянуло сильнее, и двинулся так быстро, как только мог. Чем быстрее он бежал, тем ярче разгоралась лучина, хотя в целом её пламя становилось всё более тусклым. Джек зажег другую; та тоже горела слабо, если только не размахивать ею в воздухе, а если размахивать, отблески прыгали по толстым брусьям деревянной клетки, отбрасывая тени, похожие на злобные рожи расплющенных великанов и птицеящеров, – под вой ветра в каменных переходах это действовало особенно сильно. Примерно тогда же Джек понял, что ползёт на четвереньках, скребя по полу тускло горящей лучиной. Время от времени он видел то слева, то справа узкие входы боковых туннелей. Из одного сильно тянуло сквозняком, и лучина разгорелась ярче; дальше воздух был неподвижен, и лучина погасла совсем. Из последних сил Джек в кромешной тьме пополз назад, пока не почувствовал на лице воздушный ток из бокового туннеля. Здесь он лёг и некоторое время просто дышал. Наконец в голове прояснилось, и Джек понял, что сквозняк означает выход. Он пошарил по полу, отыскал досточки для локтей и пополз на боку навстречу ветру. Трудно сказать, сколько это продолжалось. Наконец туннель открылся во что-то вроде пещеры с плоским и ровным дном. Здесь воздушная река делилась на множество едва ощутимых рукавов, вьющихся меж камней и сталактитов. Высунув язык и держа нос у пола, Джек пополз вперёд. Иногда он вставал и шёл через залы, гулкие, как церкви, иногда полз на животе, с трудом протискиваясь между полом и кровлей. Раз ему попалось мелкое стоячее озерцо с обжигающе холодной водой. Джек выбрался на другой берег и снова угодил в туннель, потом миновал еще череду туннелей, высоких и низких, наклонных и ровных – так много, что потерял счёт тому, сколько раз терял им счёт. Очень хотелось спать, но Джек знал, что, если пламя наверху погаснет, воздушный поток остановится – оборвётся нить, указывающая ему путь, как тому малому в мифе. Глаза, не довольствуясь полной тьмой, рождали адские образы из всего плохого, что видели за последние дни. Джек услышал булькающий присвист, какой мог бы издавать дракон или змей, пошёл по нему навстречу воздушному току, вниз по наклонному туннелю, и оказался на краю воды. Высекши кремнём и огнивом несколько искр, Джек увидел, что воздух, навстречу которому он всё это время шёл, поднимается пузырями со дна озера в каменном тупике. Больше делать было нечего. Джек сел умирать и вместо этого заснул. Кошмары, которые ему снились, были куда лучше яви. Разбудили его звуки и свет, и то, и другое – слабые. Свет – зеленоватое свечение, идущее от воды (которая перестала булькать), – Джек отказался принимать всерьёз. Это явно было очередное наваждение от ведьминского пойла. Однако звуки, пусть и слабые, казались интереснее. Раньше их заглушало бульканье воды, теперь Джек отчетливо слышал мерные удары и что-то вроде шипения. Зелёный свет стал ярче. Джек различал на его фоне очертание своих рук. Перед самым пробуждением ему снился исполинский кальян, какие турки курили в Лейпциге. Они тянули дым через мундштук, и тот, проходя через воду, остужался и очищался. Очевидно, сон навеяли звуки, которые он слышал, засыпая, поскольку вода точно так же шипела и булькала. Других занятий всё равно не было, поэтому Джек стал размышлять. Что, если туннель действовал как огромный кальян: пламя, словно исполинский турок, втягивало наружный воздух, и тот, проходя через воду, заставлял её булькать? Может ли быть, что, проплыв небольшое расстояние под водой, он окажется на воздухе? И зелёное свечение – рассвет, сочащийся через невидимое отверстие под водой? Джек начал собираться с духом, опасаясь, как бы на это не потребовалось несколько часов. Думать он мог только о бедном брате Дике: как тот уплыл живой и розовый, а вытащили его бледным и неподвижным. Джек решил плыть сейчас, пока ведьминское пойло не даёт соображать ясно. Он снял почти всю одежду (если всё пройдёт хорошо, за ней можно будет вернуться), оставил только саблю (чёрт его знает, что там впереди), кремень, огниво и шахтёрский колпак на случай, если ударится обо что-нибудь под водой. Потом отступил на пару шагов в туннель, разбежался под уклон и нырнул. Ледяная вода обожгла так, что Джек едва не вскрикнул и не выпустил последний воздух. Взглянул вверх – свет вроде стал ярче. Это был не потолок! Джек оттолкнулся от дна и вырвался к воздуху! Ему пришлось проплыть от силы три или четыре ярда. Однако свет, теперь гораздо более яркий, не был солнечным. По эху неразборчивых голосов и капающей воды Джек понял, что по-прежнему находится под землёй. Зелёный свет сочился из-за изгиба пещеры и странными отблесками вспыхивал на отдельных участках стен. Прежде всего Джек сплавал за ботфортами и платьем, оделся и пополз на четвереньках, перебарывая озноб. Отблески, которые он заметил раньше, отбрасывали растущие из стены кристаллы в палец толщиной – алмазы! Он был в пещере со сказочными сокровищами. Стены щетинились самоцветами. Может, свет потому такой зелёный, что сочится через огромный изумруд? Джек обогнул выступ, и его едва не ослепил диск ярко-зелёного света на полу огромного помещения. Постепенно он различил кольцо каких-то людей – а может, и не людей, – в причудливых одеяниях. Посредине стоял некто в длинном балахоне с надвинутым капюшоном. Лицо было в тени, но зелёные отблески на скулах и подбородке придавали ему сходство с черепом. Зелёный огонь отражался в зрачках. Голос заговорил по-французски – Элизин голос! Она была расстроена, недовольна – все повернулись к ней. Джек понял: это ад или преддверие ада, черти похитили Элизу, а может быть, она умерла – умерла потому, что он вовремя не принёс лекарство, – и сейчас её утащат в пекло. Джек выхватил саблю, ринулся вперёд… и провалился в зелёный диск. Внезапно оказалось, что он плывёт в зелёном свете. Внизу был твёрдый камень. Джек вскочил и, стоя по колено в зелёной светящейся воде, заорал: – Отпустите её, черти! Возьмите лучше меня! Все с визгом убежали, включая Элизу. Джек поглядел вниз и увидел, что его одежда пропиталась зелёным свечением. Остался только человек в капюшоне. Он спокойно вышел из лужи, открыл потайной фонарь, достал горящий фитиль и пошёл вокруг, зажигая воткнутые в пол факелы. Их яркий свет прогнал зеленоватое сияние. Джек стоял в бурой луже, одежда на нём была мокрая. Енох сбросил с лица капюшон и сказал: – Самое великолепное в твоём появлении, Джек, что, пока ты не вылез из лужи весь в фосфоре, ты был совершенно невидим. Ты словно материализовался из воздуха, с саблей, облачённый в колпак, как у гнома, и заорал на языке, которого никто не понимает. Ты никогда не думал поступить в театр? Джек от растерянности даже не оскорбился. – Кто это были? – Богатые господа, которые ещё несколько минут назад подумывали купить Кихеп у доктора Лейбница. – Но… их несуразные наряды… уродский вид? – Последняя парижская мода. – У Элизы был расстроенный голос. – Она спрашивала у доктора, какое отношение этот, как она выразилась, фокус имеет к стоимости рудника? – Но зачем возиться с добычей серебра, если стены усеяны алмазами? – Кварц. – Что это светится, а заодно и впрямь – какое отношение оно имеет к руднику? – Фосфор, и ничего больше. Кстати, Джек, разденься, пока ты не вспыхнул. – Енох повёл его в боковой туннель. По пути они миновали огромный механизм, который шипел и бумкал, откачивая воду из шахты. Здесь Енох заставил Джека раздеться и вымыться, потом сказал: – Не думаю, что об этом случае будут рассказывать с тем же восторгом, что о захвате чумного дома в Страсбурге и насыщении бродяг в Богемии. – Что?! Откуда вы знаете? – Я путешествую. Говорю с бродягами. Слухами земля полнится. Тебе занятно будет узнать, что твои подвиги собрали в плутовской роман под названием «L'Emmerdeur»[25], который уже сожгли в Париже и контрабандой доставили в Амстердам. – Провалиться мне! – Джеку впервые подумалось, что дружеская манера Еноха может быть знаком истинного расположения, а не исключительно тонким ехидством. Енох плечом открыл шестидюймовой толщины дверь и провёл Джека в сводчатое подземное помещение со столом, свечами и печкой – точно в таком могли бы обитать гномы. Оба сели и стали коротать время за куревом и выпивкой. Через некоторое время к ним присоединился доктор. Он не выказывал никаких признаков гнева, напротив, выглядел повеселевшим, как будто никогда и не хотел добывать серебро. Енох выразительно взглянул на доктора (Джек был почти уверен, что взгляд этот означает: «Я вам говорил не связываться с бродягами»). Доктор кивнул. – Что делают… э… потенциальные вкладчики? – Стоят снаружи на солнце. Дамы соревнуются, кто эффектней упадёт в обморок, мужчины ведут учёный спор на тему, кто ты такой: разгневанный гном, вставший на защиту своих сокровищ, или адский демон, пришедший по наши души. – А что Элиза? Не в обмороке, полагаю? – Ей некогда падать в обморок: она выслушивает похвалы своей проницательности. – Тогда, возможно, она меня не убьёт. – Напротив, Джек. Девушка раскраснелась, она светится, и отнюдь не от фосфора. – Почему? – Потому что, Джек, ты предложил пойти вместо неё на вечные муки. Это, если я не ошибаюсь, абсолютный минимум того, что каждая женщина требует от возлюбленного. – Так вот чего им надо… – протянул Джек. Элиза спиной отворила дверь. Руки у неё были заняты ворохом рекомендательных писем, визитных карточек, векселей, бумажек с нацарапанным адресом и кошельков, в которых позвякивали разнообразные монеты. – Нам тебя недоставало, Джек, – промолвила она. – Где ты пропадал? – Бегал по поручениям… знакомился с местными… приобщался к их богатым традициям, – отвечал Джек. – И, пожалуйста, давай поскорее выбираться из Германии. Место лето 1684 Торговлю, как и религию, все обсуждают, но мало кто понимает. – Если бы в Амстердаме ничего не происходило, кроме того, что все везут туда, а потом оттуда… – То там бы ничего не было, – закончила Элиза. Обоим ещё только предстояло побывать в Амстердаме. Однако по сравнению с потоком товаров на дорогах и каналах Нидерландов Лейпциг казался суетней второстепенных актёров, которые бегают по сцене с тюками, создавая видимость коммерции. Такого обилия людей и добра Джек не видел с битвы под Веной, только там это произошло один раз, а здесь творилось постоянно. И он знал, что все эти товары – слёзы по сравнению с тем, что доставляют в Амстердам морем. Элиза была в строгом чёрном наряде с жёстким белым воротником: ни дать ни взять супруга зажиточного голландского крестьянина, только по-голландски ни бельмеса. Почти весь долгий, временами смертельно скучный путь через герцогство Брауншвейг-Вольфенбюттельское, герцогство Брауншвейг-Люнебургское, епископство Гильдесгеймское, герцогство Каленбергское, ландграфство еще какое-то, княжество Липпе, епископство Оснабрюкское, графство Лингенское, епископство Мюнстерское и графство Бентгеймское она проделала в мужском платье, в сапогах и при шпорах. Не то чтобы кто-нибудь и впрямь принимал её за мужчину – она выдавала себя за итальянскую куртизанку, едущую в Амстердам на свидание с генуэзским банкиром. Смысла в этом никакого не было, но Джек знал, что пограничной страже больше всего хочется хоть как-то развеять скуку. Замучаешься перед каждой следующей границей угадывать, живут по ту сторону реформаты или католики и насколько ярые реф. или кат. соответственно; куда проще выглядеть бесстыдно нерелигиозными везде, а если местные обидятся – делать ноги. У местных хватало своих забот: если хотя бы половина слухов была правдива, королю Лую показалось мало обстрелять Геную, взять в осаду Люксембург, цыкнуть на Папу Иннокентия XI, изгнать евреев из Бордо и стянуть войска к испанской границе – он ещё и объявил, что владеет северо-восточной Германией. Поскольку они ехали как раз через северо-восточную Германию, обстановка здесь выглядела напряжённой, но переменчивой, что было им скорее на руку. Огромные стада тощих телят гнали для откорма из восточных долин на рукотворные пастбища Нидерландов. Вместе с ними направлялись в поисках заработка полчища безработных, так называемых Hollandganger – ходоков в Голландию. Поэтому границы были легко проходимы, за исключением рубежей Голландской республики, где на пути встали все возможные препоны: не только природные реки, но и стены, рвы, валы, пикеты и частоколы, частью новые, охраняемые солдатами, частью старые, полузаросшие, – следы битв, происходивших ещё до рождения Джека. Раз или два им велели убираться подобру-поздорову при обстоятельствах, над которыми задним числом можно было даже посмеяться, однако наконец они проникли в Гелдерланд, восточную окраину республики. Джек терпеливо учил Элизу внимательно разглядывать тела, руки и головы казнённых преступников, украшающие городские ворота и пограничные столбы: по ним можно угадать, какое именно поведение наиболее ненавистно местным. Вот почему сейчас Элиза была в чёрном и закрытом, а Джек – на костыле. Оружие и голое тело (как, например, шею, не говоря уже обо всём остальном) здесь следовало прятать. Пошлину брали повсюду, но единого центра власти не наблюдалось. Стада уходили с дороги на плоские, словно пруды, луга. Через день или два жидкая процессия голландгенгеров вышла на более широкие дороги, идущие с востока и с юга. Сплошные вереницы телег, нагруженных добром, боролись со столь же мощным встречным течением. – Почему бы просто не остановиться и не устроить торг посреди дороги? – спросил Джек отчасти для того, чтобы подначить Элизу. Однако она сочла вопрос вполне дельным – из тех, что мог бы задать философствующий доктор. – И впрямь почему? Должна быть причина. В коммерции причина есть для всего – тем она мне и нравится. Пейзаж составляли узкие полоски ровной земли, разделённые прямыми канавами со стоячей водой. Всё, что происходило на этой земле, было невероятно чудным: например, выращивание тюльпанов. Каждый цветок пестовали по отдельности, словно гуся, которого откармливают к Рождеству; свиней и телят холили, как детей в богатой семье. На непривычного вида полях росли лён, конопля, рапс, табак, хмель, марена и вайда. Курьёзнее же всего были те предприимчивые селяне, которые занимались делами, никакие связанными с сельским хозяйством. Во многих местах крестьянки вымачивали рулоны английских тканей в пахте и выкладывали на полях сушиться под солнцем. Где-то выращивали репейник и собирали репьи, чтобы делать орудия для кардования шерсти. Целые деревни сидели и плели кружево, так что только пальцы мелькали; дети ходили от мастерицы к мастерице с питьём и хлебом, чтобы те подкреплялись, не прерывая работы. Некоторые крестьяне держали в хлевах не коров, а художников: молодые французы, итальянцы и савояры сидели перед мольбертами и со страшной скоростью копировали пейзажи, марины и огромные изображения осады Вены. Картины складывали в стопки, увязывали в тюки и тоже отправляли в Амстердам. Иногда поток приводил путников в городки, где тоже шли нескончаемые ярмарки. В этой стране всё делалось шиворот-навыворот: крестьяне не выращивали себе пропитание и вынуждены были ходить за ним на рынок, как горожане. Чтобы купить хлеб, яйца и сыр в дорогу, Элизе и Джеку пришлось протискиваться между грубыми мужланами и ругаться с деревенскими бабами, чьи руки украшали серебряные кольца. Элиза впервые увидела аистов: как они строят гнёзда на крышах и слетают на улицы, чтобы раньше собак подхватить оброненную корку. Пеликаны ей тоже понравились. А вот диковинки, на которые больше всего глазел Джек – четырехногие цыплята и двухголовые бараны, коих крестьяне показывали на улице, – её не впечатлили. В Константинополе она видала тварей почудней. По одному из городков водили женщину в деревянной бочке с отверстиями для рук и головы – уличённую прелюбодейку. После этого Элиза не могла успокоиться сама и не давала покоя и отдыха Джеку. Они гнали себя по землям, опустошённым два десятилетия назад, когда Вильгельм Оранский открыл шлюзы, чтобы спасти Амстердам от войск короля Луя. Ночевали в домах, разрушенных искусственным потопом, двигались вдоль каналов, обходя торфяные костерки тамошних пиратов и поселения прокажённых, которые собирали подаяние следующим образом: забрасывали на проходящие баржи пустые ящички и тянули их назад на верёвках уже с монетами. Однажды, двигаясь по берегу канала, они увидели впереди реку; та шла прямо, как натянутая тетива, затем поворачивала за холм. Кораблей было столько, что казалось, некуда запустить ореховую скорлупку. Очевидно, близился Амстердам. Бегство из Германии (как звалась вся эта мешанина герцогств, курфюршеств, ландграфств, маркграфств, епископств, архиепископств и княжеств) заняло куда больше времени, чем хотелось бы Джеку. Доктор предложил довезти их до Ганновера, где он присматривал за библиотекой герцогини Софии[26], когда не строил ветряные мельницы над их серебряными рудниками в Гарце. Элиза тут же с благодарностью согласилась, не полюбопытствовав, что скажет Джек. Джек сказал бы «нет», поскольку имел привычку идти когда и куда ему заблагорассудится. А ехать с доктором в Ганновер означало торчать в Бокбодене, пока доктор не уладит все свои тамошние дела. – На что он собирается убить сегодняшний день? – спросил как-то Джек у Еноха Роота. Они ехали по горной дороге перед двумя воловьими упряжками. Енох отправлялся по таким делам каждое утро. Джек решил для разнообразия составить ему компанию. – На то же, на что вчерашний. – А чем таким он занят? Простите невежественного бродягу, я привык к людям действия, и когда доктор день за днём каждый день с кем-то говорит, мне кажется, что он ничего не делает. – Он ничего не добивается, но это совсем иное, чем ничего не делать. – А чего он хочет добиться? – Он убеждает управляющих на герцогских рудниках не отказываться от его усовершенствований из-за того, что очередная попытка продать Кихеп разделила судьбу прежних. – Ну и с какой стати они его послушают? – Мы отправимся туда, где доктор побывал вчера, – сообщил Енох, – и узнаем, что он хотел от управляющего. – Прости, начальник, по-моему, это не ответ на мой вопрос. – Весь день будет тебе ответом, – сказал Енох и выразительно оглянулся на тяжёлую телегу, нагруженную глиняными сосудами с ртутью в деревянных ящиках. Они подъехали к руднику, который ничем не отличался от остальных: шлаковые кучи, ручные вороты, печи, тачки. Джек видел это в Рудных горах, видел в Гарце, но сегодня (быть может, поскольку Енох намекнул на возможность узнать новое) увидел кое-что ещё. Обломки руды – урожай, снятый с жилы, что выросла в земле, – сваливали в кучу, потом разгребали граблями и били молотом. Горняки, слишком юные, слишком старые или слишком увечные, чтобы лезть в забой, оглядывали полученные куски и раскладывали в три кучки. Первую – породу без руды – ссыпали в отвал. Вторую – богатую руду – отправляли прямиком к печам, где дробили жерновами, всыпали в расплавленный свинец, заталкивали в высокие печи, мехи которых качали мулы, и отливали в серебряные чушки. Всё это Джек видел на рудниках герра Гейделя. А вот третьей кучи – с бедной рудой – в Рудных горах не было. Герр Гейдель считал, что она не стоит затрат на обогащение. Джек прошёл за телегой с рудой из третьей кучи до луга, на котором громоздились странные, покрытые промасленной рогожей кучи. Здесь мужчины и женщины толкли бедную руду в больших чугунных ступах. То, что получалось, мальчишки просеивали сквозь сита, потом смешивали с водой, солью и отходами медного производства. Месиво они высыпали в большие деревянные кадки. Тут подходил старшой; за ним двое дюжих пареньков, обливаясь потом, тащили на спине что-то знакомое: те самые глиняные бутыли со ртутью, которые доктор купил в Лейпциге, а Енох сегодня привёз на рудник. Старшой трогал месиво, проверяя его консистенцию, и, если всё было правильно, обхватывал бутыль, вытаскивал деревянную пробку, и ртуть серебристой молнией лилась в кадку. Босоногие мальчишки принимались ногами перемешивать её с толчёной рудой. Несколько таких кадок обрабатывались разом. Енох объяснил, что амальгаму надо месить двадцать четыре часа. Затем кадку опрокидывали на землю, накрывали от дождя промасленной рогожей, а сверху втыкали табличку с указанием дня и часа. Сейчас на лугу были десятки таких куч. – Эту последний раз мешали десять дней назад – она подоспела, – сказал Енох, прочитав одну из табличек. И впрямь, некоторое время спустя один из рабочих перегрузил её в кадку и вновь принялся перемешивать ногами. Енох пошёл дальше, заглядывая под рогожу и давая советы старшим. Из леса выползли местные: любопытство гнало их вперёд, страх – назад. «В этой слишком много ртути, – сказал Енох про одну кучу, – потому она такая чёрная». Другая была цвета отрубей – в неё следовало добавить ртути. Цвет остальных куч – серый, – по всей видимости, устраивал Еноха, но он совал в них руку, проверяя температуру. В холодные следовало добавить медной окалины, в чересчур горячие – воды. Енох нёс с собой тазик с водой, в которой промывал образцы месива из куч, покуда на дне не оставались серебристые лужицы. Одну из куч, равномерно пепельного цвета, он объявил созревшей. Работники перегрузили её в тачки и отвезли к ручью, где был устроен каскад для промывки. Вода уносила пепельного цвета муть, оставляя серебристое вещество. Его укладывали в конические мешки, как для сахарных голов, и вешали над горшками. Они болтались рядами, словно коровьи соски, только вместо молока из них капала ртуть. В мешках оставалась блестящая полутвёрдая масса. Из неё лепили комья наподобие снежков и по несколько штук складывали в тигли. Каждый тигель накрывали железной заслонкой, переворачивали и ставили на другой тигель, наполовину зарытый в землю, так чтобы они соприкасались краями, а заслонка наполовину перегораживала отверстие. На дно нижнего тигля была налита вода. Затем все засыпали углем и жгли, пока верхний тигель не раскалится добела. Когда всё остывало, золу разгребали и видели, что ртуть ушла из комков амальгамы и собралась внизу; сверху оставались слипшиеся пористые комки серебра – бери и чекань талеры. Почти всю дорогу домой Джек думал об увиденном. Он заметил, что Енох Роот довольно мурлычет себе под нос – видимо, радуется, что так успешно заткнул ему рот. – Как видишь, и от алхимии есть польза, – сказал Енох, заметив, что Джек вышел из задумчивости. – Это вы придумали? – Я лишь усовершенствовал. Прежде использовали только ртуть и поваренную соль. Кучи были холодными, им приходилось созревать по году. Если добавить медную окалину, они разогреваются, и всё происходит за три-четыре недели. – Сколько стоит ртуть? Енох хохотнул. – Ты говоришь, как твоя приятельница. – Это первый вопрос, который она задаст. – По-разному. Хорошая цена за центнер ртути – восемьдесят. – Восемьдесят чего? – Пиастров, – отвечал Енох. – Существенное уточнение. – Христианский мир очень невелик, Джек, – сказал Енох. – За его пределами универсальная валюта – пиастры. – Ладно. И сколько серебра можно получить при помощи центнера ртути? – В зависимости от качества руды, примерно сто испанских марок[27], – и упреждая твой следующий вопрос, испанская марка серебра стандартной пробы стоит восемь пиастров и шесть реалов… – В пиастре восемь реалов… – сказала Элиза. Предыдущие два часа она просидела совершенно неподвижно, покуда Джек расхаживал, скакал и прыгал по её спальне, излагая события дня в почти неприукрашенном виде. – Это даже я знаю, – объявил Джек. Он стоял босиком на Элизином соломенном тюфяке, где только сейчас показывал, как работники ногами месят амальгаму. – Восемь пиастров и шесть реалов составят семьдесят реалов. В таком случае сто марок серебра стоят семь тысяч реалов… или… восемьсот семьдесят пять пиастров. А цена требуемой ртути… – Восемьдесят реалов будет хорошей ценой. – Итак: тем, кто делает деньги, нужно серебро, а тем, кто делает серебро, нужна ртуть… ртуть, приобретённая на пиастр, при должном применении позволит произвести серебра на десять пиастров. – И её можно использовать по второму разу, что они и делают, – сказал Джек. – Только ты забыла, что нужны ещё кое-какие мелочи. Серебряный рудник. Горы угля и соли. Армия рабочих. – Всё можно раздобыть, – отвечала Элиза. – Разве ты не понял, что говорил тебе Енох? – Подожди! Сейчас догадаюсь… – сказал Джек и подошёл к бойнице взглянуть вверх на ветряк и вниз, на воловьи упряжки во дворе. Через бойницу можно было глядеть только вверх или вниз. – Доктор доставляет ртуть тем управляющим, которые его слушаются. – Итак, – промолвила Элиза, – у доктора есть… что? – Власть, – ответил наконец Джек после нескольких неверных догадок. – Потому что у него есть… что? – Ртуть. – Вот и ответ. Мы едем в Амстердам покупать ртуть. – Отличный план. Будь у нас деньги… – Пфу! Воспользуемся чужими, – сказала Элиза, стряхивая что-то с ногтей. Сейчас, глядя вдоль запруженного кораблями канала на город, Джек мысленно представил себе карту, которую видел в Ганновере. Эрнст-Август и София унаследовали библиотеку (не говоря уже о библиотекаре, т е. докторе), когда брат Эрнста-Августа, папист (в семье не без урода!), любезно скончался во цвете лет, не оставив наследника. Братец этот, видать, книжками интересовался больше, чем женщинами, потому что библиотека (по словам доктора) ко времени его смерти была одной из крупнейших в Германии и с тех пор только росла. Разместить её было негде, оставалось только перетаскивать из хлева в хлев. Эрнст-Август вечно отбивался от короля Луя на берегах Рейна или мотался в Венецию за новыми любовницами; построить здание для библиотеки у него руки не доходили. Так или иначе, Элиза и Джек по пути на запад несколько дней провели в Ганновере, и доктор пустил их ночевать в одну из многочисленных пристроек, где размещалась библиотека. От книг Джеку не было никакого прока, а вот карты его заинтересовали. Он их постарался запомнить. Далёкие острова и континенты были разбросаны по пергаменту, как растоптанные мозги: в середине белые пятна, береговая линия обрывается в океане, поскольку дальше никто не плавал, а россказни путешественников противоречивы. Одна из карт изображала торговые пути: прямые линии от города к городу. Джек не мог прочесть подписей, однако узнал Лондон и ещё несколько городов; остальные названия прочла ему Элиза. Один город на побережье Голландии был не подписан; к нему сходилось столько торговых путей, что он превратился в кляксу, в чёрное солнце. При следующей встрече с доктором Джек торжествующе указал на изъян в карте. Архибиблиотекарь только пожал плечами. – Евреи даже не потрудились дать ему имя, – сказал он. – На их языке он зовётся просто мокум, что означает «место». 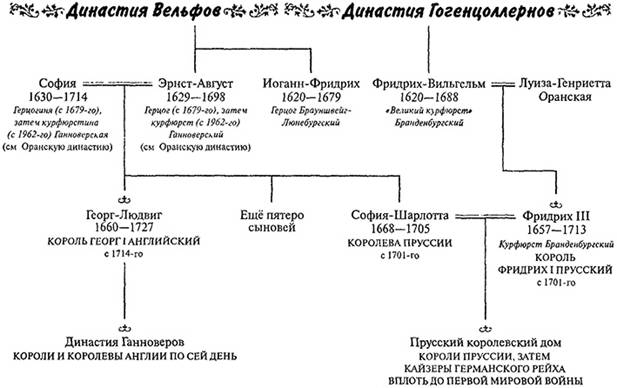 От желания возникает мысль о некоторых средствах, при помощи которых, как нам уже довелось видеть, достигалось нечто подобное тому, к чему мы стремимся, а от этой мысли – мысль о средствах достижения этих средств и т. д., пока мы не доходим до некоего начала, находящегося в нашей собственной власти. Ближе к Месту их взглядам представало все больше диковинного: баржи с водой (пресной питьевой водой для горожан), баржи с торфом, градирни, где добывали соль… Однако Джек мог смотреть на все это лишь несколько часов в день. Остальное время он смотрел на Элизу. Она ехала на Турке и сейчас разглядывала свою левую руку так пристально, словно обнаружила там проказу или что-то подобное. При этом она шевелила губами. Джек уже открыл было рот, но Элиза подняла правую руку, прося его замолчать. Потом подняла левую. Рука была розовая и совершенно здоровая, но странным образом скрюченная: средний палец согнут, большой и мизинец придерживают друг друга, безымянный и указательный торчат вверх. – Ты похожа на жрицу новой секты. Ты меня благословляешь или проклинаешь? – Ди, – только и отвечала она. – Ах, доктор Джон Ди, прославленный алхимик и шарлатан? Думаю, при помощи Еноховых салонных фокусов мы могли бы пощипать богатых купеческих жёнушек… – Буква D, – твёрдо сказала Элиза. – Четвёртая в алфавите. Четыре – вот, – поднимая левую руку с загнутым средним пальцем. – Да, вижу, что ты держишь четыре пальца… – Нет… это двоичные числа. Мизинец означает единицу, безымянный – двойку, средний – четвёрку, указательный – восьмёрку, большой – шестнадцать. То есть когда загнут только средний, это четыре, то есть D. – Но у тебя только что были загнуты ещё большой и мизинец. – Доктор научил меня шифровать их, добавляя другое число, в данном случае – семнадцать. – Элиза подняла правую руку со сведёнными мизинцем и большим пальцем, потом, опустив её, объявила: – Двадцать один, то есть, в английском алфавите, U. – А в чём смысл? – Доктор научил меня прятать сообщения в письмах. – Ты собираешься ему писать? – А как мне в противном случае рассчитывать на его письма? – невинно отвечала Элиза. – Зачем они тебе? – спросил Джек. – Чтобы продолжить образование. – Уф! – Джек согнулся пополам, как будто Турок лягнул его в живот. – Игра в угадайку? – холодно произнесла Элиза. – Или ты считаешь, что я и так слишком образованна, или надеялся услышать что-то другое. – Оба раза в точку, – сказал Джек. – Ты часами учишься – и никакого проку. Я надеялся, что доктор или его София поддержат тебя финансово. Элиза рассмеялась. – Сколько раз говорить – я и близко к Софии не подходила. Доктор разрешил мне забраться на колокольню, из которой открывается вид на Герренхаузен, её парк, чтобы посмотреть, как она выходит на прогулку. Таких, как я, к таким, как она, не подпускают. – Так чего ради было стараться? – Чтобы увидеть её: дочь Зимней королевы, правнучку Марии Стюарт. Тебе не понять. – Просто тебя всё время занимают деньги. Глядя за милю на бабёшку во французском наряде, не больно разбогатеешь. – В любом случае Ганновер бедная страна – у них нет средств, чтобы участвовать в нашем предприятии. – Хотел бы я пожить в такой бедности! – Почему, по-твоему, доктор ищет инвесторов для серебряных рудников? – Спасибо, ты вернула меня к первому вопросу: чего хочет доктор? – Перевести всё человеческое знание на новый язык, состоящий из чисел. Записать его в огромную энциклопедию, которая будет вроде машины, чтобы не только находить старое знание, но получать новое посредством некоторых логических операций с числами. При помощи нового знания положить конец религиозной розни, вытащить бродяг из нищеты и освободить их потенциальную энергию – уж не знаю, что это значит. – Что до меня, я бы предпочёл кружечку пива и зарыться лицом в твои ляжки. – Мир велик – возможно, и тебе, и доктору удастся осуществить мечты, – отвечала Элиза, подумав. – Езда на лошади приятна, но очень возбуждает. – Не жди сочувствия от меня. Некоторое время путники продвигались вдоль реки Амстел до того места, где перед самым её слиянием с рекой Эй голландцы в древности, подобно бобрам, воздвигли плотину. Затем (как видел Джек, большой дока в фортификации), когда всё, на что может покуситься враг – добро, церкви и женщины, – оказалось за Амстелской дамбой, рачительные владельцы-прихожане-мужья принялись возводить линии обороны. С севера естественным рвом служила широкая Эй – скорее узкий морской залив, чем река. Со стороны суши воздвигли валы, широкой буквой U окружающие Амстел-Дам и подходящие к Эй по обе стороны от впадения Амстела; изгиб U пересёк Амстел выше дамбы. Землю для валов надо было откуда-то брать. За неимением холмов пришлось рыть узкие карьеры, которые, заполнившись водой, превратились во рвы. Однако для ретивых голландцев любой ров тут же становился каналом – что месту зря пропадать. Со временем всё пространство внутри U заполнилось зданиями, и новым поселенцам пришлось строиться за пределами вала, а следовательно, возводить следующие U. Город наращивал кольца подобно дереву. Внешние слои были широкие, с каналами на значительном расстоянии; во внутренних каналы отстояли один от другого на ширину камня, так что Джек с Элизой то и дело оказывались на хитро устроенных подъёмных мостах. Оттуда они смотрели на каналы, покрытые небольшими судёнышками, способными пройти под мостом, и (на Амстеле и каналах побольше) скрипучими шлюпами со складными мачтами. Даже такие судёнышки могли везти под ватерлинией огромное количество грузов. Каналы и суда объясняли, как в Амстердаме вообще можно двигаться: всё то добро, которым были запружены сельские дороги, здесь перегружали в трюмы, а улицы по большей части оставляли людям. Вдоль каналов стояли длинные ряды пятиэтажных строений. В центре города ещё сохранились несколько древних деревянных домов, однако по большей части здания были кирпичные, крашенные дёгтем, с белыми кромками вдоль фасадов. Джек, как деревенский разиня, изумлялся амбарным воротам на пятом этаже дома. Товары туда поднимали при помощи торчащего сверху бруса. Если в Лейпциге товар хранили на чердаках, то здесь складами служили целые дома. За самой богатой из складских улиц – Вармусстрат – лежала длинная площадь Дам. Насколько Джек понял, это и была первоначальная дамба, только замощённая. Здесь ходили люди в тюрбанах и чужеземных меховых шапках; кавалеры в шелках раскланивались, снимая украшенные перьями шляпы; на множество высоких зданий и других диковин Джек мог бы пялиться до вечера. Однако не успел он как следует вытаращить глаза, как его внимания потребовал некий феномен масштабов войны, пожара и библейского Потопа на севере. Джек повернулся лицом к мокрому ветру. Взгляду его предстали короткий широкий канал и бурое облако, затянувшее горизонт. Может, это был дым от пожара вроде лондонского. Нет, скорее лес, голая безлистая чаща шириною в несколько миль. Или даже вовсе армия, в сотни раз превосходящая турецкую, чьи пики размером с сосны украшали флажки и вымпелы. Только через несколько минут Джек разрешил себе поверить, что смотрит на все корабли мира разом – мачты, канаты и реи сливались в сплошной горизонт, сквозь который еле-еле просвечивали церкви и ветряные мельницы на другой стороне. Корабли, входящие в Эйсселмер и выходящие из него, обменивались пушечным салютом с береговыми батареями; облака дыма над снастями судов сливались в сплошную ткань, словно глина, наляпанная на плетень из сухих прутьев. Морские волны распространялись, как медленные вести. После того, как Джек получил несколько часов, чтобы освоиться со странностями Амстердама – его зданиями, улицами-каналами, агрессивной опрятностью горожан, их неспособностью сообща принять ту или иную церковь, – он понял это место. Все кварталы и слободы были те же, что в любом другом городе. Точильщики ножей могли одеваться со строгостью пасторов, но ножи точили точно так же, как их парижские собратья. Даже порт отличался от устья Темзы лишь размерами. И тут они забрели в слободу, подобной которой Джек не видел нигде. Вернее, слобода набрела на них, ибо то была кочующая толпа. Хотя Амстердам, как водится, делился на бедные и богатые кварталы, в этой подвижной слободе все сословия перемешались – такой же нонсенс для бродяги Джека, что и для французского дворянина. Даже издали, пока слобода на них надвигалась, было видно, что она взбудоражена, словно толпа у дворцовых ворот в ожидании вести о кончине монарха. Однако, как ясно увидел Джек, когда слобода окружила их и увлекла за собой, ни дворцовых ворот, ни чего подобного здесь не было. Это могла быть одна из причуд мироздания, вроде кометы, только Элиза крепко схватила Джека за руку и потащила со всеми, так что они на полчаса стали частью слободы, которая перекатывалась среди амстердамских домов, словно капелька ртути в деревянном лабиринте. Джек видел, что люди эти ждут новостей, но не извне, а изнутри: информация или слухи о ней пробегали по толпе, словно волны по встряхиваемому половику, с тем же шумом и шквалом мелкого мусора. Подобно оспе, она стремительно передавалась от человека к человеку в ходе быстрого обмена словами и числами. Каждый такой обмен сопровождался жестом, который поколения назад мог быть рукопожатием, а теперь выродился в быстрый удар ладонью о ладонь. При должном исполнении слышался звонкий хлопок, и рука становилась красной. Итак, распространение новостей, слухов и тенденций в толпе можно было проследить по волнам хлопков. Если волна накатила и пронеслась дальше, а ладонь у тебя не красная и в ушах не звенит, значит, ты пропустил что-то важное. Джека такое положение дел более чем устраивало, Элиза же его снести не могла. Вскоре она принялась мигрировать вместе с волнами шума туда, где он был громче. Что хуже, Элиза вроде бы понимала происходящее. Она худо-бедно знала испанский, на котором говорила немалая часть толпы, особенно многочисленные евреи. Элиза отыскала жильё на юго-западе от площади Дам, в улочке настолько узкой, что Джек мог одновременно коснуться руками стен по обе её стороны. Кто-то перекинул брусья между вторым, третьим и четвёртым этажами противоположных домов и на этом каркасе соорудил новое строение. Дома по обе стороны в разной мере осели в торфяное болото, на котором стояли, так что постройка над улицей перекосилась, пошла трещинами и в дождь текла. Элиза сняла четвёртый этаж после апокалиптического торга с хозяйкой (Джек, отводивший Турка в конюшню, застал лишь последние полчаса). Хозяйка, остролицая кальвинистка, с ходу поняла, что Элиза предопределена к погибели, приход Джека мало что добавил к этому впечатлению. Тем не менее она твердо сказала: «Никаких гостей!» – указывая на Джека, так что серебряные кольца забрякали, как звенья цепи. Джек подумал было сбросить штаны в доказательство своей нравственной чистоты. Впрочем, поездка в Амстердам была Элизиной затеей, не его, и он решил, что не стоит. Жильё они получили (во всяком случае, получила Элиза), а Джек всегда мог проникнуть туда по крыше или по водосточной трубе. Некоторое время они прожили в Амстердаме. Джек думал, что Элиза начнёт что-нибудь делать, но она проводила время в кофейне на площади Дам, иногда писала письма доктору, иногда получала его ответы. Кочующая слобода взбудораженных людей прокатывала мимо кофейни «Дева» дважды вдень, ибо двигалась по определённому распорядку. До полудня эти люди толпились на площади Дам, затем перебирались на площадь под названием Биржа и оставались там до двух часов, после чего возвращались на площадь Дам и делились на клики и фракции, заседавшие по разным кофейням. Элизина квартира располагалась над одним из важных торговых путей, так что – дома ли, в кофейне ли – Элиза была в курсе всех новостей. Джек решил, что она намерена, как какая-нибудь дворянка, промотать их общие деньги, и ничуть не огорчился, поскольку сам больше любил тратить, чем зарабатывать. Он вернулся к прежней привычке: целыми днями бродить по новому городу и выяснять, как тут всё устроено. Не умея читать, не зная языка, он учился, наблюдая – а посмотреть здесь было на что. Первый раз он допустил промашку – оставил костыль у Элизы дома и вышел погулять, как здоровый. Тут же выяснилось, что, несмотря на приток голландгенгеров с востока, Амстердаму отчаянно не хватает рабочих рук. Меньше чем через час его задержали как праздношатающегося и отправили чистить каналы. Видя, сколько ила поднимает со дна драга, Джек подумал, что в теории доктора о том, как мелких тварей заносит илом, есть здравое зерно. Когда к вечеру его и других бедолаг отпустили, Джек с трудом выбрался на пристань – столько там столпилось людей с тяжёлыми звенящими кошельками. Все они пытались набрать матросов на корабли. Джек поспешил унести ноги, ибо там, где такой спрос на моряков, непременно есть и принудительная вербовка: неосторожно заглянешь в тёмный проулок или выпьешь на дармовщинку в таверне – и очнёшься с головной болью на корабле, идущем к мысу Доброй Надежды. В следующий раз он вышел на костыле, привязав левую ступню к ягодице. В таком виде можно было свободно бродить по берегам реки Эй и смотреть сколько влезет, только не останавливаться надолго, чтобы не приняли за попрошайку и не отправили в работный дом. Кое-что Джек знал от бродяг и из карт доктора, например, что Эй расширяется, образуя залив Эйсселмер, вход в который загораживает остров Тексел. Возле Тексела есть глубокие якорные стоянки, а вот между ним и Эйсселмером лежат песчаные отмели, как в устье Темзы, сгубившие множество мореходцев. Тем больше его изумляло количество торговых судов на Эй, ведь он понимал, что по-настоящему большие корабли сюда добраться не могут. В дно Эй вбили ряды свай, запечатав окончания U, чтобы английские и французские военные корабли не могли подойти прямо к площади Дам. На сваи был уложен настил с разводными мостами, дабы мелкие судёнышки – плоскодонные кааги, фламандские флейты, бочонкообразные смэки – проходили во внутреннюю гавань, каналы и Дамрак – короткую бухту, оставшуюся от первоначальной реки Амстел. Корабли побольше швартовались по другую сторону заграждения. В восточной части внутренней гавани насыпали новый остров – Остенбург – и устроили на нём верфь. Над ней развевался флаг с буквами О и С, насаженными на рога V, что означало Голландскую Ост-Индскую компанию. Здесь изумляло всё: канатные мастерские – узкие здания в треть мили длиной, ветряки, сверлящие отверстия в пушечных стволах, парильня, чтобы гнуть дерево, постоянно окутанная мглой, десятки кузниц, в том числе две огромные, где изготавливали якоря, и маленькая чистенькая (в ней делали гвозди), дегтярный заводик (на отдельном островке, чтобы, если он вспыхнет, не загорелось всё остальное). Огромные парусные мастерские. И, разумеется, остовы больших судов на стапелях, по которым рабочие ползали, как муравьи по китовому скелету. Вероятно, где-то были ещё искусные резчики по дереву и позолотчики, поскольку корма и нос каждого корабля Ост-Индской компании были украшены, как парижский бордель, золочёными статуями: скажем, дева полусидела на кушетке, возложив руку на золотой шар, а Меркурий слетал с небес увенчать её лаврами. Сразу за мельницами и сторожевыми башнями по краю города начинались поля, разделённые канавами. Коровы паслись в нескольких ярдах от ост-индских кораблей, разгружавших пряности и ситец в шлюпки, уходившие затем под разводные мосты в Дамрак. Дамрак упирался в новую весовую: приятное на вид здание, постоянно облепленное судёнышками. Нижний этаж был полностью открытым: здание стояло на сваях, как бродяжья лачуга в лесу. Всё пространство первого этажа заполняли весы различных размеров и полки с медными и бронзовыми цилиндрами, украшенными завитушками букв – гирями и гирьками для всех мер веса, сколько их есть в голландских провинциях и остальном мире. Джек знал, что это третья весовая в городе, и всё равно здесь не успевают взвесить и проштамповать весь товар. Баркасы, подходившие к весовой, и те, что везли взвешенное и проштампованное добро к складам, еле-еле ухитрялись разминуться в узких каналах. Каждые несколько минут через площадь Дам проезжали повозки с монетами, полученными в уплату пошлины; они неслись к Обменному банку, распугивая коммерсантов в тюрбанах, лентах и париках. Обменный банк располагался в Ратуше; неподалёку находилась Биржа – прямоугольный двор, окружённый колоннадой, как в Лейпциге, только светлее и больше. Раз вечером Джек зашёл за Элизой в «Деву», где та в поте лица пила кофе и транжирила наследие Шафто. Внутри было людно, и Джек решил, что сможет проскользнуть, не привлекая внимания вышибал. Кофейня – просторная, с высокими потолками – ничуть не походила на таверну. Здесь было жарко; умные люди оживлённо беседовали на полудюжине языков. За угловым столиком у окна, где северный свет с Эй удачно ложился на лицо, сидела Элиза в обрамлении двух женщин и судила (или так показалось Джеку) парад итальянцев, испанцев и прочих смуглых господ с рапирами, в париках и ярких нарядах. Иногда она брала круглый кофейник и тогда становилась точь-в-точь Амстердамская Дева на корме корабля – или, к слову, на фреске, украшавшей потолок в этой самой кофейне: задрапированная в ярды золотистого шёлка, одна рука на шаре, одна грудь полуобнажена, справа, чуть позади, – Меркурий, снизу восточные люди в тюрбанах и негры в перьях, несущие дань в виде жемчугов и серебряных блюд. Она флиртует с сынками генуэзских и флорентийских купцов! Это Джек ещё мог бы снести, не будь они все богаты. У него потемнело в глазах. Потом ярость рассеялась, словно пепел, смываемый с амальгамы, и остался блеск серебра под чистой проточной водой. Элиза смотрела на него – видела всё. Она взглядом показывала Джеку, чтобы тот посмотрел направо, потом устремила синие глаза на собеседника и засмеялась его остроте. Джек посмотрел и увидел возле стены что-то вроде алтаря: застеклённый шкапчик, украшенный резными позолоченными серафимами, как если бы внутри хранились частицы Истинного Креста или обрезки архангельских ногтей. Однако на самом деле в шкапчике лежали скучные повседневные вещи: слитки свинца, комки шерсти, кучки селитры, сахара, кофейных зерен и чёрного перца, железные, медные, оловянные бруски, лоскутья хлопка и шёлка. И в хрустальном флакончике, как духи, – образчик ртути. – Я должен поверить, что ты там ворочаешь делами? – спросил он, когда Элиза освободилась, и они вместе вышли на площадь Дам. – А чем, по-твоему, я занимаюсь? – Что-то я не видел, чтобы деньги или товар переходили из рук в руки. – Здесь это зовётся Windhandel[29]. – Торговля воздухом? Меткое словцо. – Знаешь ли ты, Джек, сколько ртути хранится на складах вокруг нас? – Нет. – А я знаю. Она остановилась в таком месте, где можно было через арку заглянуть на Биржу. – Как мельничное колесо, приводимое в движение струйкой воды или дуновением ветра, вращает целый сложный механизм, так струйка бумаг, переходящих из рук в руки тут, – указывая на Биржу, – и тёплый ветерок, который ты ощущаешь на лице, входя в «Деву», направляют поток добра через вон ту весовую. Взгляд Джека привлекло какое-то движение. В первый миг он подумал, что французская артиллерия обрушила сторожевую башню. Но нет, он в сотый раз обознался – это крутились лопасти мельницы. На Эй тоже все было в движении – там шёл прилив. По каналу ползло судно; бедняги-голландгенгеры драгой вычерпывали со дна ил – тот самый, что, по словам доктора, заносит живые подвижные существа и обращает их в камень. Неудивительно, что здесь постоянно чистят каналы. Самая мысль должна быть нестерпимой для голландцев, которые превыше всего ставят движение и для которых стихия земли слишком косна – помеха торговле, преграда на пути товаропотока. Там, где всё пронизано ртутью, важно размыть грань между твердью и зыбкою влагой, превратить целую республику в постепенный переход от суши к воде, начинающийся на берегах Эй и заканчивающийся только в море за Текселом. – Я должен ехать в Париж. – Зачем? – Отчасти – чтобы продать Турка и страусовые перья. – Умно, – отвечала она. – Амстердам – оптовый рынок, Париж – розничный. Там ты выручишь вдвое больше. – На самом деле я привык быть единственной подвижной вещью в косной и недвижной вселенной. Хочу стоять на каменной набережной Сены, где здесь – твердь, там – текучая вода, и граница между ними четкая, как отрезанная. – Дело твоё, – сказала Элиза, – но я принадлежу Амстердаму. – Знаю, – отвечал Джек. – Я везде вижу твои портреты. Голландская республика 1684 Джек выехал из Амстердама через Харлем и внезапно очутился в одиночестве и только что не под водой: осенние дожди залили пастбища, и над ними редкими островками высились укреплённые города. Вскоре он достиг полосы дюн, ограждающих страну от Северного моря. Даже голландцы не смогли найти применения такому количеству песка. Турок поначалу с опаской вступил на зыбкую почву, потом, видимо, вспомнил, как по ней ходить, – может быть, турецкий хозяин скакал на нём по магометанской пустыне. С усилием жеребец вынес Джека на гребень дюны. В миле к северу зелёные Альпы с шипением и рёвом бились грудью о песок. Джек сидел и смотрел, покуда Турок не начал сердиться. Для коня всё здесь было холодное и чужое, для Джека – своё и уютное. Он пытался вспомнить, сколько лет не видел открытого моря. Путешествие на Ямайку – да, но после начиналась путаница. Или, может, французская хворь уже начала шутить шутки с его памятью. Пришлось считать на пальцах. Не помогло. Джек спешился и принялся костылём чертить на песке карты и родословные. Возвращение с Ямайки удобно принять за начало: 1678 год. Он соблазнил прекрасную Марию-Долорес, шесть футов ирландской добродетели, и сбежал в Дюнкерк, чтоб избежать ареста; здесь и приключилась история с его струментом. Покуда он отлёживался, явился Боб и сообщил новость: Мария-Долорес беременна. А Джон Черчилль (вот те на!) женился, стал полковником – нет, бригадиром! – и командует теперь кучей полков. Он набирает солдат и по-прежнему помнит Шафто – не хочет ли Джек пойти на жалованье, чтобы жениться на Марии-Долорес и растить потомство? – Чинно-благородно, в духе Боба! – сердито выкрикнул Джек волнам. За шесть или семь лет обида так и не выветрилась. Турок нервничал, и Джек решил обращаться к нему, раз уж всё равно говорит вслух. Интересно, понимают лошади, что происходит, когда беседуешь с отсутствующими людьми? – Пока всё просто, дальше начинается чехарда. Джон Черчилль был в Гааге, потом в Брюсселе – почему? Даже конь увидит противоречие… извини, забыл, что ты османский конь. Ладно, объясняю. Вся эта земля, – топая для выразительности ногой, – была когда-то испанской. Слышишь меня – испанской! Затем чёртовы голландцы заделались кальвинистами, взбунтовались и прогнали испанцев за Маас и кучу других речушек – хрен все упомнишь, – в общем, за Зеландию, скоро мы ещё на эти речки насмотримся. Остался клин папистской Испании между Голландской республикой на севере и Францией на юге. Клин этот включает в себя Брюссель, Антверпен и несчитанные поля сражений. Этакая турнирная площадка, куда европейцы отправляются воевать. Иногда голландцы и англичане объединяются против французов и сражаются с ними в Испанских Нидерландах. Иногда англичане и французы объединяются против голландцев и сражаются с ними в Испанских Нидерландах. Короче, в то время, если не путаю, англичане были с голландцами против французов, поскольку вся Англия ненавидела папистов. Запретили ввоз французских товаров, я и оказался в Дюнкерке – самое время для контрабанды. И вот почему Джон Черчилль набирал солдат. В Голландию он отправился на переговоры с Вильгельмом Оранским, который считался главным докой по изгнанию католических орд – как-никак затопил полстраны, чтобы не пустить короля Луя. Пока вроде все понятно, да? Но почему – спросит умный конь, – почему Джон Черчилль оказался в Брюсселе, то есть в испанских, а следовательно, папских владениях? Ну, потому что ловкий папаша Уинстон ещё мальцом пристроил его к Джеймсу, герцогу Йоркскому, брату короля Чака. А Йорк, наследник престола, был и остаётся – как тебе это понравится? – ярым папистом! Понимаешь теперь, с чего лондонцы нервничали, а может, и теперь нервничают? Король решил, что лучше братцу погостить за границей, и, ясное дело, Джеймс выбрал ближайший католический город – Брюссель! А Джон Черчилль в качестве придворного должен был навещать его хотя бы время от времени. Короче, Боб пошёл в солдаты, я – нет. Из Дюнкерка мы поехали вместе по ничейной земле – которой, повторю, ты скоро насмотришься – через Ипр, Ауденарде, Брюссель до Ватерлоо; дальше наши пути разошлись. Я отправился в Париж, он – назад в Брюссель и потом, надо думать, всё больше доставлял приказы, как в детстве. Говоря, Джек разматывал костыль: изогнутую палку с перекладиной, на которую опираться подмышкой. Перекладина была для мягкости обвязана тряпьём, а сама палка – сплошь обмотана грубой бечёвкой. Когда Джек её размотал, в руках у него остались две деревяшки, бечёвка и тряпьё. Однако из длинной палки торчала рукоять янычарской сабли. Он обыскал пол-Гарца, прежде чем нашёл палку с изгибом, в точности повторяющим саблю. Рукоять торчала наружу, но когда Джек добавил перекладину и замотал всё тряпьём, получился идеальный костыль, а если пограничный стражник хотел тряпьё размотать, Джек всегда мог сунуть руку под мышку и пожаловаться на чёрные вздутия. Костыль был удобен в законопослушных местах, где только дворянин вправе носить оружие, – однако отсюда до северной Франции Джек рассчитывал объезжать их стороной. Он повесил саблю на пояс, а бывший костыль приторочил рядом с седлом. Джек – странствующий калека превратился в Джека – вооружённого всадника и на боевом турецком коне поскакал вдоль побережья. Южнее Гааги Джек заглянул к знакомым владельцам маленьких судёнышек и от них выяснил, что Франция запретила ввоз дешевых набивных ситцев из индийской Калькутты. Естественно, теперь голландцы контрабандой доставляли их вдоль побережья на небольших судах, называемых флейтами. Друзья Джека перевезли его, Турка и тонну ситца через Зеландию – огромное песчаное болото, где Маас, Шельда и ещё множество рек впадают в Северное море. Однако в Ла-Манше бушевал осенний шторм, так что им пришлось укрыться в одной из фландрских пиратских бухточек. Отсюда Джек, воспользовавшись исключительно-сильным отливом, за ночь доскакал берегом до Дюнкерка и старой гостеприимной таверны «Ядро и картечь». Однако от мистера Фута, владельца таверны, он узнал, что с тех пор как король Луй купил Дюнкерк у короля Чака, всё здесь переменилось. Французы расширили гавань под большие военные корабли архиприватира Жана Бара и выжили оттуда мелких пиратов и контрабандистов – гордость и опору Дюнкерка. Возмущённый и расстроенный Джек, не задерживаясь, повернул к Артуа, где по-прежнему мог ехать вооружённым. Город лежал на самой границе с Испанскими Нидерландами; солдаты, которых король Луй отправил туда воевать, предпочитали грабить путешественников, следующих из Лондона в Париж (те на радостях, что живыми пересекли Ла-Манш, отдавали деньги чуть ли не с охотой). Джек, изображая одного из этих разбойников (без особого труда, ибо год или два подвизался в таком качестве), довольно быстро добрался до Пикардии. Судя по всему, знаменитый полк сейчас разорял Испанские Нидерланды. Слегка переменив наряд (нахлобучив старую мушкетёрскую шляпу и т п.), Джек превратился в солдата из пикардийского полка – дезертира или разведчика. В одной из пикардийских деревушек колокол трезвонил без остановки. Чуя какой-то непорядок, Джек поехал на звон, через поля, где крестьяне убирали урожай. Треть земли была засеяна пшеницей, треть – овсом, треть оставлена под пар – по ней-то Джек и ехал. Несчастные смотрели на него со страхом, чрезмерным даже для запуганных французских крестьян. Многие вглядывались в северный горизонт, а один даже лёг на землю и прижался к ней ухом. Джек заключил, что боятся не его самого, а тех, кто может ехать следом. Он решил, что в этой деревушке можно без особой опаски показаться с оружием, и поехал туда, потому что хотел купить Турку овса. Увидел он только босоногого мальчонку в грязной рубахе на нижнем этаже колокольни. В низкий дверной проём можно было разглядеть лишь ноги и тощий зад, который дергался при каждом рывке за верёвку. Затем Джек встретил всадника в добротном, но простом платье – тот ехал со стороны Парижа. Они остановились посреди брошенной рыночной площади, объехали друг друга раз или два и принялись на смеси английского и французского перекрикивать оглушительный трезвон. Джек: – Почему звонят в колокол? – Католики верят, что набат прогоняет грозу, – объявил француз. – Почему они такие?.. – начал он и, не доверяя своему английскому и французскому Джека, втянул голову в плечи, изображая забитого крестьянина. – Они боятся, что я – передовой вестник пикардийского полка, возвращающегося с войны, – ответил Джек. Он шутил на тему привычки полка реквизировать у местного населения всё, что потребуется. Однако гугенот был настроен вполне серьёзно. – Правда? Полк подходит? – Сколько это тебе принесёт? Всё в гугеноте напоминало Джеку английских торговцев-индепендентов, которые в страдную пору разъезжают по дальним деревням, дёшево скупая зерно. И Джек, и торговец (представившийся мсье Арланком) понимали: цены упадут ещё ниже, если крестьяне решат, будто пикардийский полк на подходе и вскоре всё заберёт даром. Итак, речь шла о сделке. Бродяга и гугенот объехали друг друга ещё несколько раз. Крестьяне продолжали трудиться на поле, не забывая поглядывать в сторону незнакомцев. Через некоторое время подъехал староста на осле. Мсье Арланку так и не хватило духу обмануть бедолаг. – Нас и без того ненавидят, – сказал он, очевидно, имея в виду гугенотов, – не хватало нам ещё сеять ложную панику. Здешние крестьяне и так основательно запуганы – вот почему мы с сыновьями отправляемся в столь опасные поездки. – Отлично. К слову, я не собирался тебя грабить, – с досадой произнёс Джек, – можно было не выдумывать сказочку про вооружённых сыновей сразу за тем пригорком. – Баснями в наше время не защитишься. – Мсье Арланк развёл плащ, показывая по меньшей мере четыре пистоля: два за поясом, один в ручке топорика и один – в рукоятке трости. – Отлично сыграно, мсье, – протестантская практичность и французский здравый смысл. – Я хочу сказать: ты уверен, что стоит ехать в амьенскую гостиницу с одной лишь саблей на поясе? Большие дороги… – Я не останавливаюсь во французских гостиницах и, как правило, не езжу по большим дорогам, – отвечал Джек. – Однако если нам по пути… И они вместе поехали в Амьен, только прежде приобрели у старосты овса. Джек – столько, чтобы накормить Турка, мсье Арланк скупил весь остальной урожай (за которым позже намеревался прислать подводы). Джек не стал лгать про идущий за ним полк, просто стоял рядом с деревенским колодцем, ни дать ни взять «волонтёр», как называли здесь разбойников и дезертиров. Дальше они поехали в Амьен, въезд в который практически перегораживало некое заведение: платные конюшни, почти доверху засыпанные сеном, загоны с волами, вереницы пустых фургонов вдоль дороги (некоторые из них собирался вскорости нанять мсье Арланк), несколько кузниц (в одних подковывали лошадей, в других чинили колёса). Были здесь шорная мастерская, плотницкая и бочарная. Возы с зерном, чьи хозяева ждали очереди, чтобы заплатить подать, запрудили дорогу. Где-то, оправдывая название «гостиница», располагался и дом для проезжих. Издали он выглядел тёмным, дымным и неуютным. Джек, поняв, что его туда не тянет, снял с пояса саблю, спрятал в костыль и принялся снова заматывать бечёвкой. – Идём в гостиницу – увидишь, что у меня и впрямь есть сыновья, – сказал мсье Арланк. – Они ещё маленькие, но… – Я своих-то сыновей никогда не видел, что мне на твоих глядеть, – отвечал Джек. – И вообще ваши французские гостиницы мне не по нутру… Мсье Арланк понимающе кивнул. – По твоей стране товар можно возить беспрепятственно?.. – А гостиницы там – приют для усталых путников, а не рогатки на дороге. И Джек распрощался с мсье Арланком, от которого узнал кое-что о том, где в Париже продать коня и страусовые перья. В свою очередь, гугенот узнал от Джека кое-что о фосфоре, серебряных рудниках и контрабанде ситца. Обоим вместе было безопасней, чем порознь. Джек – одноногий лудильщик, ведя в поводу клячу, унюхал Париж за день до того, как увидел. Поля уступили место огородам и пастбищам. Из города сплошной вереницей ползли телеги с бочками говна из сточных канав и отхожих мест; крестьяне граблями и вилами разбрасывали его по огородам. То ли парижане испражнялись обильней других людей, то ли так казалось из-за обилия чеснока в их пище, но Джек был рад миновать огороды и вступить в предместья: скопление лачуг, где вчерашние крестьяне жгли всякий мусор, чтобы приготовить еду и согреться, а также демонстративно страдали от всяких колоритных хворей. Джек не останавливался, пока не достиг постоянного лагеря паломников у Сен-Дени, где почти каждый мог безнаказанно околачиваться несколько часов. По пути он купил у крестьян сена Турку и сыра себе, после чего расположился среди прокажённых, припадочных и безумцев у базилики и проспал почти до рассвета. Когда стало светать, Джек присоединился к толпе крестьян, которые каждый день везли на рынок овощи, молоко, яйца, мясо, рыбу и сено. Толпа была больше, чем он помнил по прошлому разу, и медленнее входила в город. В воротах Сен-Дени стояла невыносимая давка, и Джек решил попытать счастья в воротах Сен-Мартен. К этому времени солнечный свет уже вовсю сиял на новом каменном барельефе: король Луй в образе Геракла беззаботно опирался на дубинку обхватом с хороший дуб. Он был в чем мать родила, если не считать парика размером с облако и львиной шкуры, переброшенной через плечо так, чтобы краешком прикрыть королевский срам. Победа слетала к нему с небес, держа в одной руке пук пальмовых веток, а другой собираясь нахлобучить поверх парика лавровый венок. Одной ногой король попирал раздавленного врага, на заднем плане горела высокая башня. – Чтоб ты сдох, король Луй, – пробормотал Джек, против воли вбирая голову в плечи. Он пытался проехать Францию как можно быстрее, чтобы избежать именно этого чувства, но всё равно дорога заняла несколько дней. Сама огромность страны по сравнению с немецкими княжествами или штатами Голландской республики так подавляла, что, проехав столько по владениям короля, невозможно было, минуя ворота, не съёжиться под его властью. Не важно: он в Париже. Слева солнце вставало над башнями и бастионами Тампля, где у рыцарей-храмовников когда-то был город в городе – только окружающие его стены недавно срыли. Однако по большей части вид закрывали вертикальные стены белого камня: шести-семиэтажные здания по обеим сторонам улицы направляли поток крестьян и рыботорговок в узкие каналы, где те отчаянно толкались, в то же время стараясь не свалиться в сточную канаву посередине. Чуть дальше значительная часть толпы сворачивала вправо, к центральному рынку, оставляя более или менее открытым вид на Сену и остров Сите. У Джека возникло подозрение, что за ним идёт шпик, с которым он неосторожно встретился глазами в воротах. Джек, разумеется, не оглядывался, но видел, что встречные, особенно бедняки, сперва удивляются, потом пугаются. С лошадью в поводу невозможно затеряться в толпе, однако он знал, как испортить преследователю жизнь. Лучше всего для этого годился центральный рынок, поэтому Джек повернул вправо. Другой вариант – вскочить на Турка, выхватить саблю – привёл бы его на галеры. Впрочем, для Джека почти любая дорога из Парижа вела в Марсель, к цепям на галерной скамье. Кого-то за его спиной отчаянно костерили рыботорговки. Джек слышал, как усы агента сравнивают с подмышечными волосами представителей разных африканских народов. Была высказана и поддержана гипотеза, согласно которой полицейский слишком часто занимается оральным сексом с некоторыми крупными сельскохозяйственными животными, знаменитыми своей нечистоплотностью. На остальное у Джека просто не хватило знаний французского нецензурного. Он несколько раз прошёл через рынок в надежде, что толпа, вонь вчерашних рыбьих потрохов и торговки надоедят шпику, и тот отстанет, но всё тщетно. Джек купил хлеба, чтобы, если кто-нибудь спросит, объяснить свой приход. Кроме того, он хотел показать себя человеком при деньгах, а не каким-нибудь попрошайкой, и к тому же проголодался. Он принялся петлять по улочкам, направляясь в целом в сторону рю Вивьен. Полиция хочет арестовать его за то, что он шляется по Парижу без дела. Джек настолько с этим свыкся, что совершенно забыл: на сей раз у него и впрямь есть дело в Париже. Улицы начали заполняться разносчиками. Один вёз на тачке большой круг белого, в синих прожилках сыра, другой предлагал горчицу из ведёрка с крышечкой, третий – кубики масла из заплечной корзины; дюжие водоносы тяжело шагали под тяжестью деревянных рам, обвешанных деревянными же вёдрами. Джек знал, что скоро в городе станет не протолкнуться; до тех пор следовало где-то оставить Турка. Легче лёгкого – он уже миновал несколько платных конюшен, а возы с сеном наполняли узкие улочки дурманящим ароматом. Джек дошёл за одним до конюшни и договорился оставить Турка на несколько дней. После этого он вышел на площадь, посреди которой высилась – надо же! – статуя короля Луя. На барельефе с одной стороны постамента Луй лично возглавлял кавалерийскую атаку через канал, а может быть, через Рейн, навстречу горизонтальному лесу мушкетов. С другой он же восседал на троне; европейские императоры и короли с коронами в руках дожидались своей очереди коленопреклонённо облобызать носок его башмака. Видимо, Джек выбрал правильный курс, потому что ему стали попадаться разносчики рангом повыше: книгоноши – они держали над головами таблички с названиями книг, кондитер с миниатюрными весами; продавец eau-de-vie[30] с корзиной бутылочек и стаканом, продавец паштетов с чем-то вроде палитры, на которой были намазаны образцы товара, торговки апельсинами. У каждого был свой клич, свойственный именно этому роду торговцев, как у каждой породы птиц есть свой посвист. Рю Вивьен поразительно напоминала Амстердам: хорошо одетые люди из разных стран прогуливались и беседовали на серьёзные темы; зарабатывали деньги, обмениваясь словами. И ещё она походила на квартал книгопродавцев в Лейпциге: целые возы книг, отпечатанных, но не переплетённых, исчезали в одном особо роскошном доме: королевской библиотеке. Джек проковылял сперва по одной стороне улицы, потом по другой и наконец отыскал Дом золотого фрегата, украшенный изображением боевого корабля. Художник, судя по несоразмерности деталей, никогда близко не подходил к морю; число пушечных палуб превосходило всякое вероятие. Однако всё равно получилось красиво. На парадном крыльце итальянский господин вставлял в замок кованый ключ причудливой формы. – Синьор Коцци? – спросил Джек. – Si, – отвечал тот, несколько удивлённый, что к нему обращается одноногий бродяга. – Письмо из Амстердама, – сказал Джек по-французски, – от вашего кузена. Однако в этом не было надобности: синьор Коцци узнал печать. Оставив ключ в замке, он сломал её и быстро прочёл несколько красивых, витиевато написанных строк. Женщина с бочонком чернил за спиной, заметив его интерес к письменным документам, тут же обратилась к синьору Коцци с деловым предложением; не успел тот отказаться, как появилась другая, с чернилами куда лучше и притом много дешевле. Торговки заспорили; синьор Коцци проскользнул в дом, движением больших карих глаз велев Джеку следовать за собой. Только сейчас Джек позволил себе обернуться. Он увидел, как человек при шпаге и в тёмной накидке поворачивает прочь: этот полицейский пол-утра следовал за совершенно порядочным банковским гонцом. – За вами следят? – произнёс синьор Коцци таким тоном, будто спрашивал Джека, дышит ли тот воздухом. – Сейчас нет, – отвечал Джек. Здесь тоже были конторки с большими, запертыми на замки книгами и тяжёлые сундуки. – Откуда вы знаете моего кузена? – спросил Коцци, явно показывая, что не предложит Джеку сесть. Сам Коцци сел за стол и принялся, поочерёдно беря перья из кувшина, оглядывать их кончики. – С ним водит дела моя знакомая. Когда он узнал от неё, что я собираюсь в Париж, то поручил мне это письмо. Коцци что-то записал, потом отпер ящик стола и начал рыться внутри, выбирая монеты. – Здесь сказано, что, если печать будет сломана, тебя надо отправить на галеры. – Так я и полагал. – Если печать цела и если письмо будет доставлено в течение двух недель со дня написания, тебе следует луидор. Если ты уложишься в десять дней, то два. Если меньше чем за десять, то ещё по луидору за каждый сэкономленный день. – Коцци высыпал Джеку в ладонь пять золотых монет. – Как тебе это удалось? Никто не добирается из Амстердама в Париж за семь дней. – Секрет мастерства. – Ты с ног валишься от усталости, тебе надо поспать, – сказал Коцци. – А когда соберёшься в Амстердам, загляни ко мне – может быть, я дам тебе письмо для кузена. – С чего вы взяли, будто я соберусь обратно? Коцци впервые улыбнулся. – У тебя были такие глаза, когда ты упомянул свою знакомую… Ты ведь сходишь с ума от любви, не так ли? – От сифилиса, если быть точным, – отвечал Джек. – И всё же да, я настолько сошёл с ума, что намерен вернуться. На те деньги, что Джек привёз с собой и получил от синьора Коцци, можно было остановиться в приличном месте, но он не знал, где такое место искать и как там себя вести. За последний год он усвоил, как мало на самом деле значат деньги. Богатый бродяга – всё равно бродяга, а всем известно, что король Карл в Междуцарствие жил в Голландии без денег. Поэтому Джек побрёл через весь город в квартал Марэ. Давка была уже такая, что приходилось протискиваться в эфемерные просветы между другими пешеходами. По большей части то были торговцы, предлагавшие peaux de lapins (связки кроличьих шкурок), корзины (у этих были огромные короба, наполненные плетушками поменьше), шляпы (срубленные деревца с надетыми на ветки шляпами). Белошвейки, обвешанные шарфами и кружевом. Медники с котлами и сковородками на палках. Продавцы уксуса с бочками на колёсах, музыканты с волынками и лютнями, пироженщики с плоскими корзинами, от которых шёл такой дух, что у Джека кружилась голова. Он наконец углубился в Марэ, свернул за угол, где можно было постоять тихо, и с полчаса смотрел поверх голов и прислушивался, пока не услышал некий определённый клич. Все в толпе что-нибудь выкрикивали, по большей части – название своего товара, и первые часа два Джеку казалось, что он в Бедламе. Однако постепенно слух научился вычленять отдельные голоса – так солдат различает в шуме сражения звуки барабана и труб. Он знал, что у парижан это умение развито очень сильно, оно сродни способности начальника полиции взглядом выхватить бродягу из толпы у городских ворот. Джек уловил пронзительные выкрики: «Mort-aux-rats! Mort-aux-rats!»[31] и, повернув голову, увидел длинную палку вроде пики, которую кто-то нёс на плече. На палке болтались, привязанные за хвосты, штук десять дохлых крыс. Свежесть их служила надёжной гарантией, что обладатель палки работал в самое недавнее время. Джек протиснулся через толпу, костылём, как ломиком, расширяя зазоры между людьми. Через несколько минут он догнал Сен-Жоржа и взял его за плечо, как полицейский. Другой бы бросил всё и дал стрекача, но пугливые люди не становятся легендарными крысоловами. Сен-Жорж повернулся (крысы на палке качнулись разом, словно слаженная труппа канатных плясунов) и узнал Джека. – Жак! Так, значит, ты всё-таки спасся от немецких ведьм? – Пустяки, – отвечал Джек, силясь скрыть изумление, а затем и гордость от того, что весть о его приключениях достигла Парижа. – Невелика хитрость – уйти от такого дурачья. Вот если бы за мной гнался ты… – Итак, вернулся к цивилизации… Зачем? – Холодное любопытство – ещё одна черта хорошего крысолова. У Сен-Жоржа были светлые курчавые волосы и карие глаза – в детстве он, вероятно, выглядел ангелочком. С возрастом скулы (а по легенде, и некоторые другие части тела) увеличились, став не такими ангельскими; воронкообразное лицо сходилось к плотно сжатым губам, глаза казались нарисованными. – С практикой passe-volant[32] покончено – зачем ты сюда явился? – Чтобы возобновить дружбу с тобой, Сен-Жорж. – Ты ехал верхом – я чую запах. Джек решил увильнуть от ответа. – Как ты тут чуешь что-то, кроме говна? Сен-Жорж принюхался. – Говна? Кто тут срёт? И не мне ли на мозги? Это была в некотором роде шутка и намёк, что Джеку пора в знак дружбы чем-нибудь его угостить. После некоторого торга Сен-Жорж согласился – не потому, что нуждался в угощении, а потому, что человеку иногда надо расщедриться, и в таком случае дружба требует пойти на уступку. Начали рядиться, чем именно Джек его угостит. Сен-Жорж пытался косвенно выведать, сколько у Джека денег, Джек – заинтриговать его ещё больше. Сошлись на кофе – при условии, что они отправятся к знакомому Сен-Жоржа по имени Христофор. С полчаса они искали Христофора. – Он маленького роста… – Значит, его трудно найти. – Зато в красной феске с золотой кисточкой… – Турок? – Конечно. Я же сказал, что он торгует кофе. – Турок по имени Христофор? – Брось паясничать, Джек. – И всё-таки? Сен-Жорж закатил глаза. – Все турки, продающие кофе на улице, на самом деле армяне, наряженные турками. – Извини, не знал. – Прости за резкость, – смилостивился Сен-Жорж. – Когда ты покидал Париж, кофе ещё не вошёл в моду. Это случилось после того, как турки бежали из-под Вены и оставили там горы кофе. – В Англии он в моде ещё с моего детства. – В Англии он не мода, а прихоть, – процедил Сен-Жорж. Они продолжали искать. Сен-Жорж ввинчивался в толпу, как хорёк, огибая торговцев мебелью, нагруженных фантастическими конструкциями из связанных стульев и табуреток, молочников с крынками на голове, золотарей с незажжёнными фонарями в руках и бочками дерьма за спиной, точильщиков с точильными кругами. Джек орудовал костылём и подумывал, не вытащить ли саблю. Элиза была права: Париж – розничный рынок. Занятно, что она поняла это, ни разу не побывав в Париже, а он хоть и жил здесь долгие годы… Лучше думать о Сен-Жорже. Если бы не палка с крысами, Джек давно бы потерял его в толпе. Впрочем, помогало и то, что его всё время окликали из окон, предлагая работу; некоторые владельцы лавочек даже выбегали ему навстречу. Лавками владели лишь самые богатые ремесленники: портные, шляпники, изготовители париков. Однако Сен-Жорж со всеми вёл себя одинаково: задавал несколько вопросов и завершал разговор твёрдым отказом. – Даже дворяне и философы – мужланы в понимании крыс, – проговорил он. – Как я могу им помочь, если они мыслят столь примитивно? – Ну, для начала ты мог бы избавить их от крыс… – От крыс нельзя избавиться! Ты ничем не лучше этих людей! – Прости, Сен-Жорж. Я… – Смог ли кто-нибудь извести бродяг? – Конкретных индивидуумов – да. Но… – Это для тебя они индивидуумы, а для дворянина, как крысы, на одно лицо, n'est-ce pas?[33] С крысами надо жить. – Исключая тех, что болтаются на твоей палке? – Это как показательное повешение. Головы на пиках у городских ворот. – Чтобы напугать остальных? – Верно, Жак. Для крыс они были то же, что ты, друг мой, для вагабондов. – Спасибо на добром слове. Ты мне льстишь. – Самые умные – те, что способны отыскать крохотную щёлочку, пролезть в сточную трубу, сказать обыкновенным крысам: «Грызите эту решетку, mes amis[34]. Да, вы сточите зубы, но за ней вас ждёт небывалое пиршество!» Они были учёные, магелланы. – И они мертвы. – Они истощили моё терпение. Многим другим я позволяю жить и даже плодиться. – Нет! – В некоторых погребах – неведомо для живущих над ними аптекарей и парфюмеров – я держу крысиные серали, в которых моим любимцам дозволено производить потомство. Некоторые линии я развожу на протяжении сотни поколений. Как собачник выводит псов, особенно злых к чужим, но послушных хозяину… – Ты выводишь крыс, послушных Сен-Жоржу. – Pourqoui non?[35] – А ты твёрдо уверен, что не крысы выводят тебя? – Не понял. – Твой отец ведь тоже был крысолов? – И его отец, мой дед, тоже. Оба умерли в чумные года, да будет земля им пухом. – А может, их убили крысы? – Ты меня злишь. Впрочем, в твоей теории что-то есть. – Наверное, ты появился в результате отбора. Тебе позволено жить и плодить детей, поскольку твоя теория устраивает крыс. – И всё же я очень многих убиваю. – Ты убиваешь глупых – не способных к самопознанию. – Я понял, Жак. У тебя бы я крысоловом работал – и задаром. А вот у этих… – Он отмахнулся от человека в роскошном парике, пытавшегося зазвать его в лавку. У того вытянулось лицо – но только на мгновение, поскольку Сен-Жорж, смягчившись, шагнул к узкой двери в мастерскую по изготовлению париков, рядом с открытым окном. Дверь внезапно распахнулась, и кругленький коротышка, топорща огромные усы, выкатился с лестницы чуть шире его самого. На пузе он нёс пристёгнутый ремнями дымящий медный аппарат. Когда Христофор (а это был не кто иной, как он) вышел на солнце, яркий свет вспыхнул на меди, позолотил облачко пара, заблестел на золотой кисточке, заиграл на загнутых носах туфель и медных пуговицах. Зрелище великолепное – ни дать ни взять ходячая мечеть. Перескакивая посреди фразы с французского на испанский и с испанского на английский, он объявил, что знает о Джеке Шафто (которого называл «Эммердёр») всё, и попытался угостить его кофе, мотивируя тем, что сию минуту наполнил сосуд, и ему тяжело. Сен-Жорж предупредил Джека, что так оно и будет, поэтому они заранее разыграли несколько сценариев разговора. План был следующий: Джек торгуется, Сен-Жорж молчит, а в нужный момент нечаянно пробалтывается, что Джек ищет жильё. Джек и словом не обмолвился, что нуждается в пристанище, но именно за этим обращались к Сен-Жоржу те, кто приходил в Марэ. По роду занятий он бывал во всех здешних домах и особенно – на чердаках и в подвалах, где обычно селились такие, как Джек. Принять даровой кофе значило уронить себя, переплатить – публично оскорбить Христофора допущением, будто его заботит столь низменная материя, как деньги; просто принять справедливую цену – провозгласить себя, да и Христофора, простаками. А страстный торг помогает людям сродниться. Так или иначе, дело сладилось, к большой радости хозяина, ломавшего руки из-за того, что одноногий бродяга, толстый лжетурок и крысолов орут друг на друга перед его лавкой, отпугивая посетителей. Тем временем Сен-Жорж сторговался с парикмахером; Джеку некогда было подслушивать, но он заключил, что крысолов воспользовался своим влиянием, чтобы выговорить ему комнатку или по крайней мере угол наверху. Итак: после церемониальной чашки кофе на улице Джек простился с Сен-Жоржем (который тут же проследовал в подвал) и Христофором (которому надо было продавать кофе), прошёл в узкую дверь и начал подниматься по лестнице – мимо лавки на первом этаже, парадных хозяйских комнат – гостиной и столовой – на втором и его же спален на третьем. На четвёртом этаже жили слуги, пятый снимал ремесленник попроще. Каждый следующий этаж выглядел хуже предыдущего. Внизу и стены, и лестница были основательные, каменные, дальше пошли деревянные ступени и оштукатуренные стены. Ещё выше на штукатурке появились трещины; через этаж она уже пузырилась и отслаивалась кусками. На последнем этаже стены были и вовсе небелёные. Здесь в одной большой комнате, разделённой несколькими распорками, на которых держалась крыша, обитала семья Христофора: бесчисленные армяне сидели и спали на тюках с кофейными зёрнами. Приставная лестница вела на крышу, где прилепилась лачуга, носящая гордое название «мезонин». Из угла в угол был натянут матросский гамак, несколько кирпичей образовывали подобие очага. Желтовато-бурые потёки на черепичной крыше отмечали место, где прежние квартиранты справляли нужду. Джек запрыгнул в гамак и обнаружил, что бывшие жильцы предусмотрительно провертели в стенах глазки. Зимой здесь бы зуб на зуб не попадал, но Джеку жилище понравилось: тут тебе и обзор, и пути к отступлению по крышам на все четыре стороны. В соседнем здании имелась мансарда, не дальше от Джекова мезонина, чем одна комната в доме от другой, но отделённая от него расселиной в шестьдесят – семьдесят футов глубиной. Именно на таком чердаке естественней всего было бы поселиться Джеку. Там он слышал бы разговоры, обонял запахи соседских еды и тел, здесь же, лежа в гамаке, наблюдал за их жизнью, как зритель за представлением. Судя по всему, то был обычный приют для проституток, улизнувших от сутенёров, беглых слуг, беременных девиц и молодых крестьян, явившихся в Париж на поиски счастья. Джек попытался уснуть, однако день лишь начал клониться к вечеру, а Париж его будоражил. Он двинулся по крышам, запоминая повороты, места, где придётся прыгать, где можно укрыться, а где – встать и отбиваться, если начальник полиции вздумает его арестовать. В итоге он довольно долго слонялся, пугая чердачных обитателей, живших в постоянном страхе перед полицейскими рейдами. На крышах почти никого не было, попадались лишь стайки оборванных детей да многочисленные крысы. Почти всегда в конце квартала обнаруживалась драная верёвка или тонкая палка, переброшенная на другую сторону, слишком ненадёжная для человека, но вполне пригодная для крыс. В других местах верёвки лежали свёрнутые, палки – в водосточных желобах. Джек заключил, что это работа Сен-Жоржа, и тот управляет миграцией крыс, словно генерал, который рушит мосты на одних участках спорной территории, а на других возводит временные переправы. Наконец Джек спустился на улицу и понял, что оказался в более благополучной части города, у реки. Ноги сами понесли его к местам юности – мосту Пон-Нёф. По низу идти было разумнее – полиция не жалует тех, кто пробирается по крышам, однако между каменными стенами царил серый полумрак, а балконы, выдающиеся до середины улицы, полностью закрывали обзор. Окованные железом двери в глубоких арках стояли запертые на замки. Иногда Джек проходил мимо, как раз когда слуга отпирал дверь; тогда он замедлял шаг и видел тёмный проход в залитый солнцем двор, где журчащие фонтаны орошают целую лавину цветов. Потом дверь захлопывалась. Таким, как Джек, Париж представал сетью глубоких траншей с редкими бастионами, а в остальном – величайшим в мире собранием запертых дверей. Он миновал статую короля Луя в образе римского военачальника, то есть в условно классических доспехах и с голым пупком. По одну сторону пьедестала крылатая Победа раздавала хлеб беднякам, по другую Пресвятая Дева возносила крест и церковную чашу. Перед ней ангел с пылающим мечом и тремя королевскими лилиями на щите сокрушал отвратительных демонов. Демоны падали на груду книг; Джек не мог прочесть, что написано на книгах, но знал, что там стоят имена М. Лютера, Дж. Уиклифа, Яна Гуса и Жана Кальвина. Между домами показалось небо. Чувствуя близость Сены, Джек прибавил шаг и вскоре вышел к Пон-Нёф. Мосты в Париже – перекинутые через реку каменные острова: внизу рассекают воду могучие пилоны, сверху – мостовая и обычные дома; и не замечаешь, что идёшь над водой. В этом смысле Пон-Нёф разительно отличался от других мостов: здесь не было зданий, только резные головы языческих божеств, нисколько не закрывающие обзор. Джек поднялся на мост и принялся глазеть вместе со многими другими людьми, которым пришла в голову та же блажь. Выше по течению предзакатное солнце озаряло дома на мосту Менял; из окон в Сену лился частый дождь дерьма и помоев. Рядом с высокими берегами теснились баржи и лодочки. Стоило судёнышку подойти к пристани, как к нему бросалась толпа потенциальных грузчиков. Некоторые баржи доставляли камни, обтёсанные выше по течению; эти подходили к специальным причалам, оборудованным кранами. Рабочие, бесконечно взбираясь по ступеням в огромном колесе, вращали ворот, на который наматывался трос, пропущенный через блок на стреле. Затем весь кран, вместе с колёсами – по два на каждый – и рабочими в них, поворачивали, и камень опускали в телегу. В любом другом месте такое же количество труда произвело бы бочонок масла или недельный запас дров; здесь эти усилия шли на то, чтобы на несколько дюймов приподнять камень. Дальше камень везли в город, где другие рабочие поднимали его вверх, дабы у парижан были комнаты больше в высоту, чем в ширину, и окна выше деревьев, на которые они смотрят. Париж – каменный город, прекрасный и твёрдый; ударишься о него – и не останется следа. Насколько Джек понимал, он был выстроен по принципу, что нет ничего невозможного, надо лишь согнать десятки миллионов крестьян на лучшую в мире землю и тыщу лет кряду выколачивать из них мозги. Справа, выше по течению, над островом Сите вставали двойные прямоугольные башни Нотр-Дам и двойные круглые башни тюрьмы Консьержери: спасение и проклятие, словно две карты, из которых тебе предлагает выбрать уличный шарлатан. Там же высился и Дворец Правосудия: белое каменное чудище, украшенное хищными орлами. Пёс выбежал на мост, удирая от привязанной к хвосту длинной цепи. Джек, отбиваясь от бесчисленных шарлатанов, попрошаек и уличных девок, перешёл на другой берег. Обернувшись, он увидел Лувр, где жил король, пока не достроили Версаль. Тень западной городской стены наползала на сад Тюильри; там сейчас садовники кромсали деревья, наказывая всякое отклонение от предписанной формы. Джек прислонился спиной к нагретому солнцем парапету и услышал рядом с ухом слабое шебуршание. Он обернулся: в камне застыло маленькое расплющенное существо. Не диво: в мраморе их находили довольно часто и считали капризом природы вроде сросшихся телят. Доктор полагал иначе: прежде эти твари были живые, теперь замурованы навек. Сейчас, когда каждый камень в Париже давил Джеку на грудь, в теорию доктора верилось как-то больше. Рядом снова зашуршало. Он внимательно оглядел парапет и наконец уловил движение: между двумя ракушками силилась вылезти из камня крохотная – не больше мизинца – человеческая фигурка. Джек, вглядевшись пристальнее, узнал Элизу. Весь обратный путь через Пон-Нёф к мезонину в Марэ он старался глядеть только на булыжники мостовой. Однако из них тоже тщились выползти вмурованные твари. Джек поднимал глаза: там разносчики торговали человечьими головами; глядел в небо – на город пикировал ангел с пылающим мечом, похожим на шахтёрскую лучину. Он силился сосредоточиться на резных головах, украшающих Пон-Нёф, но те оживали и молили освободить их из каменных тисков. Джек наконец тронулся рассудком, и его мало утешало, что он выбрал для этого самый подходящий город. Париж зима 1684—1685 Армяне, живущие над парикмахером и под Джеком, знали лишь два способа обходиться с чужаком: убить его или принять в семью, без всяких промежуточных вариантов. Поскольку Джек пришёл по рекомендации Сен-Жоржа и доказал свою порядочность, поторговавшись с Христофором из-за кофе, убивать его было как-то нехорошо. Так Джек стал тринадцатым из братьев. Вернее, кем-то вроде полоумного сводного братца, который всех сторонится, живёт в мезонине, уходит в неурочное время и не понимает нормального языка. Однако ничто из этого не беспокоило мать семейства, мадам Исфахнян. Её вообще ничто не беспокоило, кроме предположения, будто что-то её беспокоит или может обеспокоить. Если вы допускали в разговоре подобную мысль, почтенная женщина, вскинув брови, напоминала, что родила и поставила на ноги двенадцать сыновей, – так о чём речь? Христофор и остальные научились просто не приставать к ней. Джек тоже вскоре завёл привычку уходить и возвращаться по крыше, чтобы не прощаться и не здороваться с мадам Исфахнян. Она, разумеется, не говорила по-английски, а французский понимала ровно настолько, чтобы любые слова Джека приводили к анекдотичному недоразумению. Как всегда в его путешествиях, первый день в Париже был ярким событием, а дальше замелькали пустые месяцы: один, второй… К тому времени, как Джек всерьёз задумался об отъезде, пора для путешествия на север уже прошла. Давка на улицах стала ещё ожесточенней, но теперь её создавали косматые дровосеки из тех частей Франции, где волки по-прежнему оставались главной причиной смертности. Дровосеки сбивали прохожих, как кегли, и представляли опасность для всех, особенно когда дрались между собой. Обитатели мансарды через улицу от Джека начали вербоваться на галеры, лишь бы спастись от холода. Памятное видение прошло после ночного сна и не возвращалось, если сильно не устать или не напиться. Лежа в гамаке и глядя в мансарду, Джек каждодневно благодарил Сен-Жоржа, устроившего ему жильё, где не так часто случаются полицейские налёты, тиф, выкидыши и другие досадные происшествия: он видел, как молодых женщин – беглых служанок, – только вчера поселившихся в мансарде, выволакивают наружу и тащат (так он предполагал) к городским воротам, чтобы остричь, высечь и вышвырнуть из города. Иногда девицы и стражи порядка приходили к полюбовному соглашению, и тогда Джек слышал (а при благоприятном направлении ветра и обонял), как полицейский инспектор получает плотское удовлетворение способом, для самого Джека более недоступным. Он выставил страусовые перья на торги своим коронным методом: найдя, кто это за него сделает. После того, как Джек две недели прожил в мезонине, не проявляя никакого намерения съезжать, Артан (старший из братьев, живущих сейчас в Париже) полюбопытствовал, что он намерен делать. Подразумевалось, что, если Джек ответит: «Грабить дома» или «Насиловать девиц по тёмным проулкам», Исфахняны не станут думать о нём хуже – им просто надо знать. Дабы продемонстрировать Джеку широту своих взглядов, Артан посвятил его в семейную сагу. Судя по всему, Джек застал четвертый или пятый акт пьесы – не комедии, не драмы, а просто истории, которая началась, когда Исфахнян-старший в 1644 году отплыл в Марсель на самом первом корабле с кофе. Груз стоил чёртову уйму денег. Вся огромная семья Исфахнян, базирующаяся в Персии, на доходы от торговли с Индией закупила в Мокке кофейные зёрна и отправила их через Красное море и Нил в Александрию и оттуда во Францию. Так или иначе, папа Исфахнян успешно реализовал кофе, но в реалах – в испанских пиастрах. Почему? Потому что во Франции не хватало денег, и он не мог бы брать за кофе французской монетой, даже если бы захотел, – её попросту не было в обращении. А почему так? Потому что (и здесь надо вообразить армянина, двумя кулаками бьющего себя по голове: «Идиот!!!») испанские рудники в Мексике давали неимоверное количество серебра… – Да, да, знаю, – сказал Джек. Однако Артана было не остановить. Груды серебра лежали на земле в Портобелло, соответственно его цена в золотом выражении падала каждый день. В Испании (где ходили серебряные деньги) началась инфляция, а во Франции золотые монеты придерживали в ожидании, что они подорожают ещё больше. Итак, мсье Исфахнян остался с кучей быстро обесценивающегося серебра. Ему бы отплыть к Леванту, где всегда есть спрос на серебро, так он выбрал Амстердам в надежде на гениальную сделку, которая покроет убытки от смены курсов. Однако (уж не везёт, так не везёт) его корабль сел на мель, а ему самому прищемило яйца железными клещами Тридцатилетней войны. Когда корабль мсье Исфахняна вошёл килем в песок и перестал двигаться, Швеция как раз завоёвывала Голландию; короче, семейное достояние Исфахнянов отправилось на север, притороченное к спине шведской вьючной кобылы. Всё описанное, собственно, предшествовало первому акту; будь это пьеса, в прологе мсье Исфахнян пересказывал бы свои злоключения в стихах, стоя на обломках корабля и глядя в зрительный зал, где якобы исчезает за горизонтом шведская колонна. Одним словом, мсье Исфахнян впал в немилость у родственников. Кое-как он добрался до Марселя, забрал мадам Исфахнян и её (к тому времени уже трёх!) сыновей, а также, возможно, дочку-другую (девочек по достижении зрелости отправляли на Восток) и со временем осел в Париже (конец первого акта). С тех самых пор они пытались погасить должок перед остальной семьёй в Исфахане. Главным образом они торговали кофе вразнос, но готовы были продавать что угодно… – Страусовые перья? – выпалил Джек, не решаясь финтить с армянами. Так продажа страусовых перьев, которые Джек мог три с половиной года назад сбыть барыге в Линце, превратилась в мировой заговор, включающий Исфахнянов в Лондоне, Александрии, Мокке и Исфахане. К ним полетели письма с вопросами, сколько в их краях стоят страусовые перья, дешевеют они или дорожают, чем отличаются первосортные перья от второсортных, как выдать плохие за хорошие и так далее. В ожидании ответных вестей делать на этом фронте было нечего. С дурной башки Джек начисто позабыл о Турке. Когда он наконец пришёл в конюшню, то выяснил, что хозяин чуть не продал Турка в уплату за съеденный овёс. Джек покрыл долг и стал думать, как обратить боевого коня в деньги. В прежние времена он поступил бы так: отправился на площадь Дофина – острие Иль-де-ля-Сите, направленное в самую середину Пон-Нёф. Здесь, на месте казней, всегда было на что поглядеть. Даже если сегодня никого не казнили, на площади толпились шарлатаны, фигляры, кукольники; в крайнем случае можно было поглазеть на останки казнённых неделю назад. Главное же происходило в дни больших воинских смотров: аристократы, командующие полками (во всяком случае, получающие за это деньги от короля), выходили из своих домов на правом берегу и шли через Пон-Нёф, набирая по дороге бродяг. На несколько часов площадь Дофина становилась огромным человечьим рынком. Новобранцы получали ржавые мушкеты и несколько монет, и свежеиспечённые полки шли по левому берегу под крики патриотически настроенных горожан. Колонны, возглавляемые аристократами на красавцах-конях, проходили в городские ворота, мимо столбов с обмякшими телами недавно выпоротых мелких правонарушителей, и оказывались в Сен-Жермен-де-Пре. Шагая вдоль Сены, они видели несколько господских особняков, но в основном здания здесь были пониже и победней, потом начинались огороды и цветочные грядки зажиточных крестьян. Реку по большей части загораживали штабеля леса и тюки с товарами на левом берегу. Дальше Сена поворачивала к югу; здесь войско пересекало лужайку перед Дворцом Инвалидов и оказывалось на Марсовом поле. Король Луй торжественно выезжал из Версаля, чтобы дать войскам смотр – до того, как Мартине реорганизовал армию, это означало их пересчитать. Passe-volantes – как назывались такие, как Джек, – стояли (или, если не могли стоять сами, опирались на тех, кто может), а их пересчитывали по головам. Затем аристократы получали жалованье, а passe-volantes отправлялись тратить деньги в бесчисленные кабаки и бордели левого берега. Джеку о таком виде заработка рассказал по пути из Дюнкерка в Брюссель Боб, который воевал под знаменами Джона Черчилля в Германии бок о бок с французами – разорял страны, имевшие наглость граничить с Францией. Боб сетовал, что из-за этой практики реальная сила французских полков близка к нулю. Джек, со своей стороны, мигом смекнул, что только придурок не воспользуется такой лафой. Так или иначе, именно на этой практике держались все знания Джека о Париже. В случае с Турком они говорили ему, что в южной части Марэ живут богатеи, которым хошь, не хошь надо покупать боевых коней или (если у них есть голова на плечах) – жеребцов-производителей. Джек поговорил с хозяином конюшни, проследил, куда едут возы с сеном и аристократы по пути с Марсова поля. Так он узнал, что лучший в Париже конский рынок – на Королевской площади. Королевская площадь была из тех мест, которые людям вроде Джека представлялись дырами посреди города. Внимательный бездельник мог иногда различить в приоткрытые ворота кусочек залитой солнцем зелени. Попытавшись проникнуть туда с одной и с другой улицы, Джек выяснил, что площадь представляет собой квадрат с четырьмя огромными воротами по четырём странам света. Над каждыми воротами высилось могучее здание, вокруг стояли богатые особняки. Дважды в неделю в воротах возникала пробка из телег – одни доставляли овёс и сено, другие вывозили навоз, – а также из неимоверного количества красавцев-коней, которых вели под уздцы заботливые грумы. Лошадьми торговали и в прилегающих улочках, однако то был блошиный рынок по сравнению с тем, что творилось на Королевской площади. Джек договорился с крестьянином, что тот за умеренную сумму провезёт его внутрь на телеге с сеном. Как только выдалась безопасная минутка, крестьянин ткнул его рукояткою вил в бок; Джек выполз из-под сена, спрыгнул с телеги – и впервые с прихода в Париж оказался на зелёной траве. Королевская площадь была парком, засаженным каштанами (сейчас они, правда, стояли голые). В центре высилась статуя любезного королевского папеньки, Луя Тринадцатого, – ясное дело, конная. Всё окружали сводчатые колоннады, как в лейпцигских торговых дворах или на амстердамской Бирже, только гораздо шире и выше. И ворота, и арки были такие широкие, что в них мог проехать не просто всадник, а целая карета, запряжённая четвёркой или даже шестёркой коней. То был словно город в городе, выстроенный для людей настолько богатых, что вся их жизнь проходила в седле или в собственном экипаже. Только это одно объясняло размах конской ярмарки, которая шумела сейчас вокруг Джека. Лошади толпились здесь так же тесно, как прохожие на улицах, исключая огороженные верёвками места, где товар мог погарцевать, а покупатели – оценить его стати и выучку. Увидь Джек любого из этих коней на английской или немецкой дороге, запомнил бы на всю жизнь. Они были не только дивно хороши, но и вычищены до блеска, с косичками в гриве и хвосте и выучены всяким штукам. Здесь продавались ездовые лошади, пары, четвёрки и даже шестёрки упряжных, подобранных в масть, а в одном углу – боевые кони, чтобы красоваться перед королём на Марсовом поле. Джек отправился туда и поглядел. Собираясь в бой, он не променял бы Турка ни на одного из этих коней. Однако они были хорошо подкованы, ухожены и в отличной форме – прямая противоположность Турку, который несколько недель простоял в конюшне, откуда его лишь изредка выводили на прогулку. Джек знал, как поправить дело. Прежде чем покинуть Королевскую площадь, он ненадолго поднял взгляд и оглядел особняки по сторонам парка, пытаясь что-нибудь выяснить про будущих покупателей. Дома здесь были не каменные, а кирпичные. У Джека даже сердце защемило – вспомнилась добрая старая Англия. У четырёх больших зданий по четырём странам света были очень высокие – в два-три этажа – крыши с балконами и кружевными занавесками на окнах мансард. Джек представил, как богатые любители лошадей снимают там квартиры, чтобы смотреть из окон на конскую ярмарку. На одной из соседних площадей – всех не упомнишь – Джек видел конную статую короля Луя, отправляющегося в поход; на пьедестале оставалось свободное место для ещё не одержанных побед и ещё не завоёванных стран. Так и в некоторых домах имелись свободные ниши. Всякий в Париже понимал, что туда поставят статуи военачальников, которые эти победы одержат. Оставалось найти человека, который мечтает до скончания веков стоять в такой нише, и убедить его, что побеждать легче всего будет на Турке или его потомках. Впрочем, прежде следовало привести Турка в надлежащую форму, а для этого поездить на нём какое-то время. Джек выходил с Королевской площади через южные ворота, когда сзади послышались скрежет стальных ободьев о мостовую, неестественно слаженный цокот копыт и крики: «Разойдись!» Джек по-прежнему опирался на костыль (не хотел расставаться с саблей и не мог ходить с ней открыто). Он замешкался. Дюжий лакей в серо-голубой ливрее толкнул его в сторону, так что Джек «здоровой» ногой по колено угодил в канаву со стоячим дерьмом. Он поднял глаза и увидел, что на него несутся четыре коня из Апокалипсиса. По крайней мере так ему на мгновение почудилось, ибо у всех четырёх глаза горели красным огнём. Тут они пронеслись мимо, и Джек сообразил, что глаза были на самом деле розовые. Четыре облачно-белых коня с розовыми глазами и пёстрыми копытами, в белой кожаной сбруе, везли карету в виде белой раковины на пенной морской волне, украшенную золочёными гирляндами, лавровыми венками, русалками и купидонами. Кони эти напомнили Джеку про Элизу: на такого её обменяли в Алжире. Он отправился на центральный рынок, где рыботорговки под предлогом, что у него штанина в дерьме, принялись забрасывать Джека рыбьими головами и ехидными каламбурами. Джек спросил, не ходит ли слуга какого-нибудь богатого господина специально за тухлой рыбой для своего хозяина. По лицам торговок было видно, что вопрос не напрасен, но тут одна из них фыркнула, и все остальные хором закричали, чтобы Джек катился в Дом Инвалидов – мол, там и приставай к людям со своими глупостями. – Я не ветеран, – отвечал Джек. – Какой дурак будет воевать ради богачей? Ответ торговкам понравился, однако не развеял их настороженность. – Так кто ты такой? – полюбопытствовала одна. – Бездельник! Вагабонд! – закричали её товарки. Джек решил поставить то, что доктор назвал бы экспериментом. – Не просто вагабонд, – объявил он. – Перед вами Джек Куцый Хер. – Эммердёр! – ахнула торговка помоложе, не такая страхолюдная, как остальные. Наступила тишина. И тут снова послышалось фырканье. – Ты четвёртый бродяга за месяц, который это говорит… – И меньше всего на него похож… – Эммердёр – король средь бродяг. Семь футов роста… – Всегда при оружии, чисто дворянин… – У него украшенный каменьями ятаган, который он вырвал из рук турецкого паши… – Он умеет заклятиями жечь ведьм и морочить епископов… – Он не калека, у которого одна нога в сухотке, а другая в дерьме! Джек спустил испачканные штаны, потом исподнее и явил свой аттестат. Затем, доказывая, что он не калека, отбросил костыль и принялся отплясывать разудалую джигу. Торговки не знали, падать им в обморок или визжать. Когда они пришли в себя, то принялись горстями бросать Джеку медные денье. Сбежались попрошайки и уличные музыканты; один, не переставая играть на волынке, тут же принялся ногами сгребать в кучу медяки и отпихивать нищих. Убедившись собственными глазами, что Джек – и впрямь тот, за кого себя выдаёт, каждая сочла своим долгом выбежать на середину, стряхивая с замызганной юбки каскад рыбьей чешуи, и сплясать с ним вместе. Джек хоть и не был в восторге от таких партнёрш, воспользовался случаем шепнуть на ухо каждой, что, будь у него деньги, щедро заплатил бы за имя господина – любителя тухлой рыбы. Однако не успел он задать вопрос два или три раза, как пришлось хватать подштанники и смываться – судя по звукам на другом конце рынка, начальник полиции с немалым отрядом подчинённых заявился собрать с торговок взятки деньгами, сексуальными услугами и/или устрицами за то, чтобы не давать хода делу о возмутительном нарушении общественного порядка. Джек проследовал на платную конюшню, взял Турка и нанял ещё двух лошадей. Потом подъехал к Дому золотого фрегата на рю Вивьен и сказал, что собирается в Лион – не надо ли отвезти письмо? Синьор Коцци очень обрадовался. Сегодня его дом был полон итальянцев, которые напряжённо строчили письма и векселя, а рабочие носили из подвала и с чердака что-то очень похожее на сундуки с деньгами. Банкиры-конкуренты и уличные посыльные толпились перед домом и гадали, из-за чего сыр-бор: знает Коцци что-то, чего не знают они, или просто блефует? Итальянец черкнул пару слов на листке и даже не стал его запечатывать. Джек недостаточно быстро протянул руку за письмом, и Коцци сам вложил бумагу в его ладонь: – В Лион! Меня не заботит, сколько лошадей ты загонишь по дороге. Чего ждёшь? Джек собирался ответить, что не хочет загонять своего коня, однако синьор Коцци был не в настроении беседовать. Джек повернулся, выбежал из дома и вскочил на Турка. – Поосторожнее! – крикнул кто-то вслед. – Говорят, в городе Эммердёр! – Я слышал, он только приближается, – отвечал Джек, – во главе целой армии бродяг. Он бы с удовольствием задержался и поболтал ещё, но Коцци сурово смотрел из дверей, и Джек, верхом на Турке, с двумя наёмными лошадьми в поводу, во весь опор проскакал по рю Вивьен до первого поворота налево. Он нарочно галопом пронёсся через центральный рынок, где полиция переворачивала всё вверх дном в поисках пешего калеки с укороченным членом. Джек подмигнул давешней молоденькой рыботорговке, и трепет разбежался по рынку, словно огонь по пороху. Джек тем временем уже скакал в Марэ – мимо Королевской площади. Маневрируя между навозными телегами, он добрался до Бастилии – сплошной каменной глыбы в редких оспинах окошечек. По стене – самой высокой и толстой в Париже – прохаживались гренадеры. Крепость окружал канал, отходящий от Сены. На мосту через канал было не протолкнуться, и Джек выехал из города по правому берегу. Он боялся, что Турок уже устал, однако аргамак, завидев простор, рванулся вперёд под сердитое ржание двух других лошадей, вынужденных подстраиваться под его бег. Путь до Лиона не близкий – почти до самой Италии (потому-то, сообразил Джек, там и расположены итальянские банки) или, если вам так больше нравится, почти до самого Марселя. Местность делилась на разные земли, каждая из которых брала свою собственную пошлину за проезд – как правило, в гостиницах на основных перекрёстках. Джек, всю дорогу меняя лошадей, словно соревновался с узким и чёрным, будто скорпион, экипажем, запряжённым четвёркой лошадей. Славная была гонка: то Джек оказывался впереди, то экипаж. Однако в конце концов из-за гостиниц и необходимости часто перепрягать коней экипаж всё-таки отстал, и Джек первым въехал в Лион с неведомыми ему новостями. Ярко разодетого генуэзского банкира он отыскал на рынке, ничуть не похожем на парижский; здесь продавали уголь, тюки со старым платьем, рулоны некрашеной ткани. Банкир вынул из кармана монету, протянул Джеку и прочёл письмо от синьора Коцци. – Ты англичанин? – Да, а что? – Твой король скончался. С этими словами банкир вернулся в контору, а другие гонцы во весь опор поскакали в Геную и Марсель. Джек поставил лошадей на конюшню и некоторое время ошалело бродил по Лиону, жуя купленный на рынке инжир. Единственный король, какого он знал, умер, и Англия теперь, в некотором смысле, другая страна – подвластная паписту! Гаага февраль 1685 Позёмка уже взяла в кавычки сугробов вишнёвые каблуки французской делегации, а под носами у англичан, на усах, повисли дюймовые сосульки. Элиза, скользя на коньках, развернулась и замерла, чтобы полюбоваться на то, что приняла за колоссальную скульптурную группу. Разумеется, статуй в одежде не бывает, но послы со свитами (восемь англичан против семерых французов) простояли столько, что снег забился во все поры париков, камзолов и шляп; издали они смотрелись топорно высеченными из большой глыбы низкопробного камня. Куда живее (и куда теплее одеты) были голландские зеваки, спорящие, какая из делегаций сдастся первой. Грузчики и дровосеки взяли сторону англичан, горожане побогаче поддерживали французов; эти прохаживались туда-сюда, притоптывали ногами, дули на руки и отряжали быстроногих мальчишек-конькобежцев к Генеральным Штатам и Бинненхофу. Элиза была единственной конькобежкой, и когда она остановилась на краю канала, в нескольких фугах от двух групп людей на прилегающей улице, скульптурная композиция ожила. Захрустел намёрзший на воротники снег: пятнадцать английских и французских голов повернулись к Элизе. Великое стояние обрело новый характер. Самый богато одетый француз содрогнулся. Дрожали все, но этого передёрнуло. – Мадемуазель, – сказал он, – вы говорите по-французски? Элиза оглядела его. На французе была шляпа: таз, наполненный экзотическими перьями и сейчас покрытый снегом. Новомодные длинные языки башмаков закручивались; скопившийся за ними снег, подтаивая, затекал внутрь, так что кожа уже потемнела. – Только когда у меня есть на то причина, мсье, – отвечала она. – Что за причина? – Какой французский вопрос!.. Наверное, когда господин, должным образом мне представленный, забавляет меня остроумной шуткой или комплиментом. – Смиренно молю мадемуазель меня извинить, – проговорил француз, с трудом ворочая серыми от холода губами. – Поскольку вы без спутника, мне некого просить, чтобы нас представили сообразно обычаю. – Он там, – сказала Элиза, указывая на кого-то в полулиге по каналу. – MonDieu! Ваш спутник дергает руками и ногами, как грешник, низвергаемый в ад! – воскликнул француз. – Скажите, мадемуазель, почему юная пава катается на канале с орангутангом? – Он уверял, будто умеет кататься на коньках. – Девушка вашей красоты наверняка слышала из мужских уст немало изысканных уверений и при таком уме должна была понять, что все они лживы. – В то время как вы, мсье, честны и чисты сердцем? – Увы, мадемуазель, я всего лишь стар. – Не настолько. – И всё же я могу скончаться от старости или от воспаления лёгких раньше, чем ваш кавалер доковыляет сюда, чтобы нас познакомить, посему… Жан-Антуан де Меем, граф д'Аво, ваш покорный слуга. – Очень приятно. Меня зовут Элиза… – Герцогиня Йглмская? Элиза рассмеялась такой нелепости. – Откуда вы знаете, что я с Йглма? – Ваш родной язык английский, однако вы катаетесь так, будто родились на льду, а не семените пьяной походкой англосаксов, жестоких утеснителей вашего острова. – Д'Аво нарочно повысил голос, чтобы слышали англичане. – Умно – однако вы прекрасно знаете, что я не герцогиня. – И всё же я убеждён, что в ваших жилах течёт голубая кровь. – Судя по цвету губ, в ваших она ещё голубее. Почему бы нам не пойти и не посидеть у жаркого огня? – Теперь вы жестоко искушаете меня иным способом, – произнёс д'Аво. – Я должен стоять здесь за честь и славу Франции. Однако вы не связаны подобными обязательствами – что вы делаете здесь, где место лишь моржам и белым медведям, да ещё в такой юбке? – Юбка должна быть короткой, чтобы не зацепиться за лезвия коньков, видите? – Элиза делала небольшой пируэт. В следующий миг из середины французской делегации донеслись стон и хруст – долговязый пожилой дипломат рухнул на снег. Двое других присели было ему помочь, но лаконичные слова д'Аво заставили их выпрямиться. – Как только мы начнём делать исключения для тех, кого не держат ноги – или для притворщиков, – вся делегация посыплется, как кегли. – Посол обращался к Элизе, но слова его предназначались свите. Упавший свернулся в позе зародыша; двое голландцев при шпагах подбежали к нему с одеялом. Тем временем из ближайшей таверны появилась девушка с подносом. Она прошла мимо французов, обдав их ароматом глинтвейна от восьми кружек, и направилась прямиком к англичанам. – Исключения из чего? – спросила Элиза. – Из правил дипломатического этикета, которые гласят, в частности, что если два посла столкнулись на узкой улице, дорогу уступает младший – тот, чей король позже вступил на трон. – А, вот в чём дело. И вы спорите, кому принадлежит старшинство. – Я представляю Его Христианнейшее Величество[36], вот эти – короля Якова II Английского… по крайней мере так можно допустить, ибо мы слышали о смерти Карла II, но не знаем, коронован ли его брат. – В таком случае, очевидно, старшинство принадлежит вам. – Очевидно вам и мне, мадемуазель. Однако эти уверяют, что не могут представлять некоронованного короля, следовательно, по-прежнему представляют Карла II, коронованного в 1651 году после того, как пуритане отрубили голову его отцу и предшественнику. Мой король был коронован в 1654-м. – При всём уважении к Его Христианнейшему Величеству, не означает ли это, что, будь Карл II жив, старшинство принадлежало бы ему? – Горстка шотландцев нахлобучила на Карла корону, – отвечал д'Аво, – после чего он жил нахлебником у голландцев до 1660-го, когда здешние сыровары заплатили, чтобы сбыть его с рук. Де-факто его правление началось с отплытия к Дувру. – Что до фактов, сударь, – крикнул англичанин, – вспомните, что ваш король начал править по-настоящему лишь после смерти Мазарини девятого марта 1661 года. – Он поднёс кружку к губам и принялся пить большими глотками, постанывая от удовольствия. – По крайней мере мой король жив, – пробормотал д'Аво. – Слышали, мадемуазель? А ещё обвиняют иезуитов в казуистике!.. Ба, что я вижу! Вашего ухажёра разыскивает рота святого Георгия? Общественный порядок в Гааге поддерживали две гильдии стрелков. Часть города вокруг рынка и ратуши, где жили обычные голландцы, находилась в ведении гильдии святого Себастьяна. Гильдия святого Георгия несла караул в Хофгебейде – районе, где располагались дворец, иностранные посольства, особняки богатых семейств и тому подобное. Обе гильдии были представлены в толпе зевак, собравшихся поглазеть, как д'Аво и его английский коллега умирают от переохлаждения. Слова д'Аво отчасти имели целью повеселить стрелков из гильдии святого Георгия – быть может, за счёт более плебейских коллег из гильдии святого Себастьяна, болеющих за англичан. – Что вы, мсье! В таком случае эти храбрые и бдительные люди давно бы его заметили. Почему вы спросили? – Он закрывает лицо, как какой-нибудь волонтёр. (Что означало солдата, подавшегося в разбойники.) Элиза повернулась и увидела, что Гомер Болструд жмётся (трудно было бы подобрать другое слово) за поворотом канала, закрывая лицо длинной полосой клетчатой ткани. – Живущие в северном климате нередко так поступают. – Фи, как вульгарно! Если ваш ухажёр боится лёгкого ветерка… – Он мне не ухажёр, просто компаньон. – В таком случае, мадемуазель, ничто не препятствует вам завтра встретиться со мною здесь и преподать мне урок катания на коньках. – Помилуйте, мсье! По тому, как вы содрогнулись при виде меня, я заключила, что вы почитаете это занятие ниже вашего достоинства. – Разумеется, но я – посол и должен сносить любые унижения. – Ради чести и славы Франции? – Pourquoinon? – Надеюсь, улицу скоро расширят, граф д'Аво. – Весна близка, а когда я гляжу на вас, мадемуазель, то чувствую, что она уже наступила. – …совершенно невинно, мистер Болструд! Я принимала их за статуи, покуда они не повернулись в мою сторону! Они сидели перед огнём в основательном охотничьем домике. Внутри было довольно тепло, но дымно и тесно от звериных голов по стенам, которые, казалось, тоже повернулись к Элизе. – Вы думаете, будто я сержусь, однако это не так. – Тогда что вас гнетёт? Вы мрачнее тучи. – Кресла. – Я не ослышалась, сэр? – Гляньте на них, – глухим от отчаяния голосом проговорил Гомер. – Тот, кто строил это поместье, не испытывал недостатка в деньгах, уж будьте покойны, но мебель! Либо топорная, как трон людоеда, на котором сижу я, либо собрана из прутиков. Гляньте, на чем вы сидите, – это кресло или вязанка хвороста? Я бы сделал получше за один вечер, пьяный, перочинным ножом! – Тогда прошу прощения, что подумала, будто вы сердитесь из-за той нечаянной встречи. – Моя вера учит, что ваши заигрывания с французским послом были предопределены. Если я размышляю о них, то не потому, что сержусь. Я просто должен понять, что это значит. – Что он – похотливый старый козёл. Гомер Болструд обречённо тряхнул большой головой и повернулся к окну. Стёкла звенели от вьюги. – Надеюсь, всё не закончится побоищем. – Какое побоище могут учинить восемь окоченевших англичан и семь полумёртвых французов? – Я о голландцах. Народ, как всегда, на стороне штатгальтера[37], но поскольку сейчас заседают Генеральные Штаты, в городе полно офранцузившихся купцов – все они при шпагах и пистолетах. – Кстати об офранцузившихся купцах, – сказала Элиза. – У меня хорошие новости для клиента по поводу рынка. Судя по всему, накануне войны 1672 года один амстердамский банкир предал республику. – Вообще-то не один… но продолжайте. – По наущению маркиза де Лувуа предатель, некий Слёйс, скупил в республике почти весь свинец, чтобы оставить Вильгельма без пуль. Слёйс считал, что война закончится в несколько дней, и Людовик, утвердив французский флаг на площади Дам, лично его вознаградит. Однако всё обернулось иначе. С тех самых пор у Слёйса полный склад свинца, который он не может продать открыто из страха, что толпа, узнав о предательстве, сожжёт склады, а его самого разорвёт в клочки, как в своё время братьев де Виттов. Однако сейчас он вынужден избавиться от своих запасов. – Почему? – Прошло тринадцать лет. Под тяжестью свинца склад оседает в два раза быстрее, чем прилегающие дома. Соседи возмущаются: он тянет за собой в трясину целый квартал! – Отлично, господин Слёйс будет сговорчив, – сказал Гомер Болструд. – Благодарение Богу. Клиент обрадуется. Скупал ли тот же предатель порох? Запалы? – Всё испорчено сыростью. Впрочем, к Текселу должна вот-вот подойти Ост-Индская эскадра. Ожидается, что она доставит селитру – цены на порох уже пошли вниз. – Вряд ли они опустятся до приемлемого уровня, – пробормотал Болструд. – Можем ли мы купить селитру и сами его изготовить? – Стоимость серы упала из-за вулканических извержений на Яве, – сказала Элиза, – но качественный уголь очень дорог. Герцог Брауншвейг-Люнебургский трясётся над своей ольхой, как скряга над сундуком с монетами. – Бог даст, мы захватим арсенал в самом начале кампании, – проговорил Болструд. От слов «кампания» и «захватим арсенал» Элизе стало не по себе. Она попыталась сменить тему. – Когда я буду иметь удовольствие видеть клиента? – Как только мы сможем застать его одетым и трезвым, – тут же отвечал Болструд. – Для гавкера это должно быть несложно. – Клиент совершенно не таков! – фыркнул Гомер. – Странно. – Что тут странного? – Как можно быть противником рабства, если не по религиозным соображениям? – Вы противница рабства, хоть и не кальвинистка. – У меня есть личные причины. Однако я полагала, что клиент – ваш единоверец. Он ведь и впрямь против рабства? – Давайте оставим в стороне домыслы и будем держаться фактов. – Не могу не заметить, сэр, что мой вопрос по-прежнему без ответа. – Вы появились на пороге нашей амстердамской церкви – некоторым показалось, как ангельское видение, – сделали более чем щедрое пожертвование и предложили любым способом содействовать нашей борьбе против рабства. Этим вы сейчас и занимаетесь. – Однако если клиент – не противник рабства, как я содействую этой борьбе, покупая ему пули и порох? – Вы, очевидно, не знаете, что мой отец, упокой, Господи, его душу, был государственным секретарём при покойном короле, пока английские паписты, действуя по указке Франции, не загнали его в ссылку, а там и в гроб. Он пошёл на это, зная, что ради высшего блага иногда приходится иметь дело с такими, как Карл II. Вот и мы, противники рабства, государственной церкви и в особенности – гнусностей римской веры, должны поддержать человека, который помешает Джеймсу, герцогу Йоркскому, долго оставаться на троне. – Джеймс – законный наследник, не так ли? – Как доказали дипломаты в споре о старшинстве королей, – произнес Болструд, – нет такого вопроса, который нельзя было бы затемнить, и в особенности – пороховым дымом. Людовик ставит на всех своих пушках слова: «Ultima Ratio Regum». – Последний довод королей. – Вы и латынь знаете? – Я получила классическое образование. – На Йглме?! – В Константинополе. Граф д'Аво двигался по гаагским каналам походкой человека, ступающего по раскалённым углям, однако некий внутренний стержень неизменно удерживал его от падения. – Не хотите ли вернуться домой, мсье? – Отнюдь, мадемуазель, мне нравится, – отвечал он, выкусывая по слогу за раз, словно крокодил, захватывающий пастью весло. – Сегодня вы одеты теплее. Это русский соболь? – Да, хотя плохонький. Вас ждёт гораздо лучше – если доставите меня домой живым. – Это совершенно лишнее, мсье. – Подарки и должны быть излишеством. – Д'Аво вытащил из кармана и протянул Элизе квадратик чёрного бархата. – Вуаля! – Что это? – Она, забирая вещицу, воспользовалась случаем поддержать спутника под локоть. – Так, безделица. Я бы хотел, чтобы вы её надели. Безделица оказалась длинной и широкой, с Элизину ладонь, лентой, скреплённой на концах золотой брошью в виде бабочки. Элиза, догадавшись, что её носят через плечо, продела внутрь руку и голову. – Ну как? Д'Аво вопреки обыкновению не нашёлся с комплиментом. Он только пожал плечами, словно говоря: «Не важно как». Это укрепило Элизино подозрение, что чёрная бархатная лента поверх наряда для катания на коньках выглядит довольно нелепо. – Как вы вчера выпутались из своего затруднения? – Попросил штатгальтера отозвать английского посла назад в Бинненхоф. Тому пришлось совершить поворот кругом – манёвр, к которому дипломатам коварного Альбиона не привыкать. Мы двинулись за ними и свернули на первом же перекрёстке. А вы из своего? – О чём… а, вы о прогулке с увальнем. – Разумеется. – Помучила его ещё полчаса и доставила домой, чтобы заняться делом. Вы считаете меня шлюхой, мсье? Это было видно по вашему лицу, когда я произнесла «дело». Хотя вы, вероятно, сказали бы «куртизанка». – Для моего круга, мадемуазель, все, кто марает руки каким-либо делом, – шлюхи. Французская аристократия не видит разницы между первым негоциантом Амстердама и уличной потаскухой. – За это Людовик так ненавидит голландцев? – О нет, мадемуазель, в отличие от скучных кальвинистов мы шлюх любим – в Версале их полно. Нет, у нас есть множество разумных причин для ненависти к голландцам. – И какого рода шлюхой вы меня считаете? – Это я и пытаюсь выяснить. Элиза рассмеялась. – В таком случае вам стоит повернуть назад. – Нет! – Д'Аво с риском упасть устремился в другой канал. Нечто громадное и угрюмое выступало в просвет между домами. Элиза сперва подумала, что это особо сумрачная кирпичная церковь, потом увидела оскаленные зубцы парапета, амбразуры и поняла, что здание это воздвигнуто не для спасения душ. Высокие острые башенки торчали по углам; готические украшения на фронтоне сжатыми кулаками грозили морозному небу. – Рыцарский зал, – проговорила Элиза, сориентировавшись. Она совершенно запуталась в лабиринте каналов, пронизывающих Хофгебейд, словно сетка кровеносных сосудов. – Значит, мы на Спей. Чуть впереди канал расходился надвое, охватывая Рыцарский зал и другие хоромы голландских графов. Д'Аво свернул в правый канал. – Давайте пройдём через эти ворота, на Хофвейвер! – Он имел в виду прямоугольный пруд перед Бинненхофом – дворцом голландских правителей. – Вид Бинненхофа, встающего надо льдом, будет… э… – Волшебным? – Нет. – Великолепным? – Не глупите. – Менее тоскливым, чем всё остальное? – Теперь вы воистину говорите по-французски, – одобрил посол. – Вояка[38] на очередной своей невыносимой охоте, но кое-кто из важных особ сейчас здесь. – Д'Аво с неожиданной – почти пугающей – скоростью вырвался вперёд, на несколько шагов опередив Элизу. – Мне ворота откроют, – уверенно продолжал он, бросая слова через плечо, словно шарф. – И тут вы со свойственным вам изяществом разгонитесь и мимо меня выскользнете на Хофвейвер. – Очень изобретательно… но почему бы вам не попросить, чтобы пропустили и меня тоже? – Так будет эффектнее. Ворота охраняли мушкетёры и лучники в синем, с кружевными галстуками и оранжевыми шарфами через плечо. Они узнали Жана-Антуана де Месма, графа д'Аво, спустились на скользкий лёд и открыли одну створку ворот, после чего, сняв шляпы и метя по льду кончиками оранжевых перьев, склонились в поклоне. Ворота были достаточно широки, чтобы в более тёплые месяцы пропускать прогулочные барки, так что Элиза свободно пронеслась мимо французского посла на прямоугольник льда перед дворцом Вильгельма Оранского. Будь она мужчиной, не избежать бы ей стрелы в спину, однако появление девушки в короткой юбке было воспринято надлежащим образом – как забавная графская шутка. Элиза катилась очень быстро – быстрее, чем нужно, ибо радовалась случаю размять занемевшие от холода мышцы. Скользя по восточному берегу, она услышала справа выстрелы и на какой-то жуткий миг перепугалась, что получит сейчас пулю в лоб. Напрасные опасения: это стрелки упражнялись в тире, устроенном на берегу пруда перед богато изукрашенным зданием. Элиза узнала помещение гильдии святого Георгия. Дальше на восток, сколько хватал глаз, тянулся Гаагский лес – охотничьи угодья голландских графов, где в более тёплую погоду прогуливались – верхом или на своих двоих – представители всех сословий. Прямо впереди был мощёный спуск, где улица уходила в пруд; когда воду не покрывал лёд, здесь поили лошадей и коров. Чтобы не налететь на него, Элизе пришлось, сильно наклонившись, описать крутой поворот. Виляя бёдрами, она немного разогналась, катя по длинному северному берегу Хофвейвера. Южный берег, справа от нее, представлял собой винегрет из бурых кирпичных зданий с чёрными шиферными крышами; у многих окна были почти вровень с прудом, так что Элиза могла бы вкатиться внутрь и пообщаться с обитателями. Впрочем, она бы никогда на такое не отважилась, ведь это был Бинненхоф, дворец штатгальтера, Вильгельма Оранского. Сейчас его отчасти закрывал круглый островок, сидящий посреди Хофвейвера, как половинка вишенки на куске торта. На нём росли деревья и кусты, по-зимнему голые, но покрытые длинным мхом. За Бинненхофом Элиза видела узкие башенки Рыцарского зала, вздетые в небо, словно копья эскадрона рыцарей. На этом знакомство с достопримечательностями окончилось: миновав островок, Элиза увидела большую группу нарядно одетых мужчин и женщин на коньках. Врезаться в них было бы невежливо, остановиться и представиться – ещё невежливей. Она оборотилась лицом к д'Аво и заскользила назад, по инерции пронеслась мимо нарядной группы, описала длинную дугу по западному берегу Хофвейвера, снова развернулась и набрала скорость, даже не отрывая коньков ото льда, а только плавно виляя бёдрами. Так, змейкой, она прокатилась вдоль длинной стороны Бинненхофа и остановилась прямо перед д'Аво, разведя коньки и взметнув искристую стену ледяной пыли. Ничего особенного, но стражники, стрелки святого Георгия и знатная публика на коньках захлопали в ладоши. – Я учился в парижской академии господина дю Плесси, где лучшие фехтовальщики мира собираются похвастать своим искусством, однако вы затмили их всех изяществом обращения с парой стальных лезвий, – произнёс, поднося Элизину руку к губам, самый красивый мужчина, какого она видела в жизни. Д'Аво представил их. Писаный красавец оказался герцогом Монмутским. Он сопровождал долговязую, но полнолицую особу лет двадцати с небольшим – Марию, дочь нынешнего короля Англии, супругу Вильгельма Оранского. Покуда д'Аво называл имена и титулы, Элиза впервые на своей памяти чуть не растерялась. Она вспомнила Ганновер и как доктор водил её на колокольню рядом с дворцом Герренсхаузен – взглянуть на Софию в подзорную трубу. А ведь д'Аво знает её куда хуже доктора. Как может он, понятия не имея, кто она такая, ввести её в святая святых голландского двора? Оказалось – запросто. Посол, наклонившись к Монмуту и Марии, проговорил заговорщицки: «Это Элиза». Те понимающе закивали, а по рядам английских слуг и прихлебателей Марии пробежал взволнованный шепоток. Очевидно, их представлять было не обязательно – невелики персоны; тем более не заслуживали такой чести арапчонок и дрожащий от холода карлик-яванец. – А я комплимента не заслужил? – спросил д'Аво у Монмута, покрывавшего поцелуями Элизину перчатку. – Напротив, мсье, я собирался сказать, что вы – лучший конькобежец среди французов, – с улыбкой отвечал Монмут. Руку Элизы он выпустить позабыл. Мария чуть не грохнулась на лёд – отчасти потому, что смеялась герцогской шутке чуть громче, чем следовало, отчасти потому, что плохо стояла на коньках. (Элизе подумалось, что она похожа на ветряную мельницу, которая машет крыльями, но не движется с места.) С первого взгляда было видно, что она влюблена в Монмута, как кошка. Это несколько смущало. С другой стороны, следовало признать, что в герцога трудно не влюбиться. Мария Оранская собиралась что-то сказать, но граф д'Аво не дал ей времени открыть рот. – Мадемуазель Элиза героически пыталась обучить меня катанию на коньках, – веско произнёс он, обращая на неё масленый взгляд, – однако я подобен крестьянину на лекции господина Гюйгенса. – Он посмотрел на ворота, в которые они с Элизой только что въехали, где, сразу за углом, стоял особняк Гюйгенсов. – Я бы всё время падала, если бы герцог меня не поддерживал, – вставила Мария. – Сгодится ли на то же посол? – Д'Аво, не дожидаясь ответа, подкатил к Марии, едва не сбив её с ног. Та еле-еле успела уцепиться за его руку. Свита тут же бросилась возвращать свою государыню в стоячее положение; карлик-яванец, упершись двумя руками в её ягодицы, давил что есть мочи. Герцог Монмутский не видел развернувшейся драмы, поскольку внимательно изучал Элизу. Он начал с волос, добрался до щиколоток, вновь двинулся вверх и тут вздрогнул, заметив глядящие прямо на него синие глаза. От этого на него напал столбняк; д'Аво, крепко зажав руку Марии локтем, проговорил: – Пожалуйста, ваша светлость, покатайтесь, разомните ноги, а мы, новички, подождём вас на Хофвейвер. – Мадемуазель? – спросил герцог, подставляя Элизе руку. – Ваша светлость, – отвечала Элиза, беря его под локоть. Через несколько мгновений они уже были на канале Спей. Элиза выпустила руку Монмута и крутанулась на месте. Она увидела закрывающиеся ворота и, сквозь решетку, Марию Оранскую и Жана-Антуана де Месма, графа д'Аво. У Марии было такое лицо, словно её ударили под дых, у посла – словно он делает такое по несколько раз на дню. Как-то в Константинополе Элиза помогала держать одну из невольниц, покуда врач-араб удалял той аппендикс, и её поразило, что может сделать в мгновение ока человек, вооруженный неколебимостью и острым ножом. Это проделал сейчас д'Аво с сердцем Марии. Дальше канал расширялся. Монмут сделал полный оборот на месте. Выглядело не так чтобы изящно, но Элиза невольно загляделась. Катался он точно лучше неё. Герцог заметил, что Элиза на него смотрит, и решил, что она им любуется. – В Междуцарствие я делил своё время между Гаагой и Парижем, – пояснил он, – и много времени проводил на каналах. А вы где учились, мадемуазель? Ответ «Пробираясь по льдинам, чтобы отскребать птичье дерьмо со скал» прозвучал бы грубовато. Элиза выдумала бы какую-нибудь красивую историю, будь у неё время, но сейчас она была поглощена другим – пыталась оценить, что происходит. – Ах, простите мою назойливость, я забыл, что вы здесь инкогнито. – Герцог Монмутский задержал взгляд на чёрной бархатной ленте. – Это, и ваше осторожное молчание, красноречивее целых томов. – Неужто? И что же в этих томах? – История невинности, жестоко обманутой каким-то немецким или скандинавским аристократом. Или то был поляк? Или прославленный совратитель Густав-Адольф Шведский? Не отвечайте, мадемуазель, скажите лишь, что простили моё любопытство. – Простила. Так вы тот самый герцог Монмутский, что отличился при осаде Маастрихта? Знаю одного человека, который участвовал в том сражении – по крайней мере был там – и много рассказывал о ваших подвигах. – Кто же? Маркиз де?.. Или граф де?.. – Вы забываетесь, мсье, – отвечала Элиза, поглаживая бархатную ленту. – О… ещё раз примите извинения, – с озорной улыбкой проговорил Монмут. – Вы можете искупить свою вину, объяснив мне вот что: осада Маастрихта была частью кампании, имевшей целью уничтожить Голландскую республику. Чтобы выиграть войну, Вильгельм затопил полстраны. Вы сражались против него, а теперь, всего несколько лет спустя, гостите под его кровом. – Пустое! Через год после Маастрихта я уже сражался вместе с Вильгельмом против французов под Монсом, а Вильгельм женился на Марии, которая, как вы, вероятно, знаете, приходится дочерью королю Якову II, бывшему герцогу Йоркскому. Он был адмиралом английского флота, пока адмиралы Вильгельма этот флот не уничтожили. Могу продолжать в том же духе до вечера. – Будь у меня такой враг, я бы не знала покоя, покуда он жив, – молвила Элиза. – К слову, у меня есть враг, и я уже давно не знаю покоя… – Кто он? – с жаром спросил Монмут. – Тот, кто выучил вас кататься на коньках, а потом… – Другой, – отвечала Элиза, – я не знаю его имени, ибо наша встреча произошла в тёмной каюте корабля… – Какого? – Не знаю. – Под каким флагом он шёл? – Под чёрным. – Чтоб мне провалиться! – О, это был обычный пиратский галеон – ничего особенного. – Вас похищали пираты? – Только один раз. Такое случается чаще, чем вам кажется. Однако мы отступили от темы. Я не успокоюсь, пока не узнаю, кто мой враг, и не сведу его в могилу. – Предположим, вы узнали, кто он, и выяснилось, что это ваш двоюродный дед, деверь вашей кузины и крёстный лучшей подруги. – Я говорю лишь об одном враге… – Знаю. Однако королевские семьи Европы так тесно переплетены, что враг может состоять с вами во всех этих родственных связях одновременно. – Какой ужас! – Напротив, это вершина цивилизации. Мы не забываем обид, что было бы неразумно. Однако будь убийство единственным способом сатисфакции, вся Европа превратилась бы в поле боя! – Она и без того поле боя! Вы не следили за политикой? – Некогда было следить, сражаясь под Маастрихтом, Монсом и в других местах, – сухо отвечал Монмут. – Я хочу сказать, что могло быть много хуже – как в Тридцатилетнюю войну или в Гражданскую войну в Англии. – Наверное, вы правы, – проговорила Элиза, вспоминая разрушенные замки в Богемии. – Теперь мы мстим при дворе. Иногда дело может дойти до дуэли, хотя, как правило, мы состязаемся в метких словах, а не в метких выстрелах. Жертв меньше, и у дам есть возможность принять участие в войне – как сейчас. – Простите? – Вы когда-нибудь стреляли из мушкета, мадемуазель? – Нет. – Однако за время нашего разговора вы уже выпустили несколько словесных залпов. Так что, как видите, в придворных битвах женщины ничем не уступают мужчинам. Элиза остановилась, услышав, что часы на ратуше пробили четыре. Монмут по инерции пролетел вперёд, изящно развернулся и с глупой ухмылкой покатил назад. – Мне надо на встречу, – сказала Элиза. – Вы позволите проводить вас до Бинненхофа? – Нет. Там д'Аво. – Общество посла вам более не приятно? – Я боюсь, что он захочет подарить мне шубу. – Это было бы невыносимо! – Не хочу доставлять ему такое удовольствие… он в некотором роде меня использовал. – Французский король поручил ему вести себя с Марией как можно более дерзко. А поскольку Мария сегодня влюблена в меня… – Почему? – Почему в меня? Мадемуазель, я оскорблён. – Я прекрасно знаю, почему она влюблена в вас. Я хотела спросить, почему французский король отправил посла в Гаагу с единственной целью досаждать Марии? – О, граф д'Аво занят не только этим. Отвечая на ваш вопрос: Людовик хочет развести Вильгельма с Марией – ослабить влияние Вильгельма на Англию и выдать Марию за какого-нибудь из своих бастардов. – Я чувствовала, что это какая-то семейная интрига – уж так всё гадко и мелочно. – Вот теперь вы начали понимать! – Разве Мария не любит мужа? – Вильгельм и Мария – идеальная пара. – Вы говорите мало, но подразумеваете многое – что? – Теперь мой черёд напустить на себя таинственность, – сказал Монмут. – Это единственный способ наверняка увидеться с вами снова. Он продолжал в том же духе. Элиза ловко ушла от ответа, и они расстались. Однако через два часа они встретились снова. На этот раз в обществе Гомера Болструда. В паре миль к северу от Гааги плоская земля Голландской республики обрезана морским побережьем. Цепочка дюн худо-бедно защищает от морских ветров. За ней, параллельно берегу, тянется полоска земли, по большей части заросшая лесом, но не дикая, а окультуренная каналами и дорогами. Здесь расположились разнообразные поместья – загородные приюты купечества и дворянства. Каждую такую усадьбу окружает сад, а те, что побогаче, – целые охотничьи угодья с домиками, куда мужчины могут скрыться от женщин. Элиза по-прежнему очень мало знала про Болструда и его планы; очевидно, его поддерживал какой-то купец, владелец подобного поместья, разрешивший использовать для деловых встреч свой охотничий домик. Канал соединял поместье с Гаагским лесом, который тянулся от самого Бинненхофа. Расстояние составляло несколько миль, так что весной или летом прогулка могла занять всё утро или весь вечер. Однако когда каналы были подо льдом, а гость – на коньках, он добирался сюда совсем быстро. Так и прибыл Монмут – без спутников, инкогнито. Он сидел в кресле, которое Болструд сравнил с троном людоеда, Элиза и Болструд – на скрипучих стульях из хворостин. Болструд пытался официально представить клиента, но… – Итак, – сказала Элиза, – совсем недавно вы утверждали, что обычай сражаться при помощи оружия устарел и… – Мне выгодно, чтобы люди думали, будто я впрямь верю в эту чепуху, – отвечал Монмут, – а женщины обманываются охотнее всех. – Почему? Потому что на войне женщины становятся добычей, а нам это не нравится? – Полагаю, да. – Я была добычей, и мне это не понравилось. Ваша небольшая лекция о современности в некотором роде меня вдохновила. – Как я сказал, женщины обманываются охотнее других. – Вы знакомы?! – выговорил наконец Болструд. – Как показал мой покойный папенька, те из нас, кому предопределено гореть в аду, должны хоть немного поразвлечься при жизни, – пожал плечами Монмут. – Мужчины и женщины – не пуритане – сходятся самыми разнообразными способами! – добавил он, нежно смотря на Элизу. Взгляд Элизы должен был ледяной сосулькой пронзить его насквозь, однако Монмут отвечал лишь лёгким чувственным трепетом. Элиза сказала: – Если вы так легко пошли у д'Аво на поводу и отвернулись от Марии, что проку будет от вас на английском троне? Монмут уронил челюсть и взглянул на Болструда. – Я этого не говорил! – запротестовал тот. – Только сказал, что мы собираемся закупить. – Из чего со всей очевидностью следовали ваши намерения, – заметила Элиза. – Не важно, наверное, – проговорил Монмут. – Поскольку мы не можем сделать закупки без какого-то обеспечения, а обеспечение в данном случае – трон. – Мне сказали иначе, – промолвила Элиза. – Меня уверили, что за всё будет уплачено золотом. – Да – после. – После чего? – После того, как мы завоюем Англию. – Ой. – Большая часть Англии на нашей стороне – это дело от силы нескольких месяцев. – А большая часть Англии вооружена? – Он говорит правду, – вставил Гомер Болструд. – Всюду, где он появляется в Англии, народ выходит на улицы, разводит костры и жжёт чучела Папы. – Так что помимо закупки требуемых товаров вы просите временный заём, обеспечением в котором станет… – Лондонский Тауэр, – успокаивающе пообещал Монмут. – Я торгую акциями, но я не акционер, – сказала Элиза. – Я не могу быть вашим финансистом. – Как вы можете торговать акциями, не будучи акционером? – Я торгую дукатовыми акциями, составляющими одну десятую от настоящих акций Ост-Индской компании, поэтому куда более ликвидными. Я держу их – или опционы – ровно столько, чтобы получить небольшую прибыль. Вашей светлости надо будет проделать на коньках сорок миль вон в ту сторону, – она указала на северо-восток, – и договориться с амстердамскими ростовщиками. Среди них есть настоящие князья рынка, владеющие целыми мешками акций Ост-Индской компании. Однако поскольку вы не можете положить лондонский Тауэр в карман и поставить его на стол в качестве обеспечения, вам потребуется что-то другое. – Мы это знаем, – заверил Болструд. – Мы просто даём вам понять, что, когда дело дойдёт до оплаты, её внесем не мы, а… – Некий легковерный заимодавец. – Не такой уж легковерный. С нами значительные люди. – Могу я поинтересоваться кто? Болструд и Монмут переглянулись. – Не сейчас. Позже, в Амстердаме, – сказал Болструд. – Ничего не выйдет. У амстердамцев более чем достаточно надёжных начинаний для вложения лишних средств, – возразила Элиза. – Впрочем, возможно, удастся добыть деньги иным способом. – Где вы предлагаете их добыть, если не у амстердамских ростовщиков? – спросил Монмут. – Моя любовница уже заложила свои драгоценности – этот ресурс исчерпан. Несколько долгих минут Элиза смотрела в огонь, затем повернулась к собеседникам. – Мы можем получить их от господина Слёйса. – Это тот, что предал свою страну тринадцать лет назад? – с опаской спросил Болструд. – Он самый. У него много связей среди французских инвесторов, и он очень богат. – Так вы хотите его шантажировать?.. – спросил Монмут. – Не совсем. Сперва мы найдём другого инвестора и расскажем тому о вашем плане вторгнуться в Англию. – Это тайна! – Он будет всячески хранить тайну – ибо, как только узнает о ваших намерениях, начнёт играть на понижение акций Ост-Индской компании за счёт коротких продаж. – Я слышал, как голландцы и евреи говорят об «игре на понижение», но не знаю, что это значит, – сказал Монмут. – На рынке есть две воюющие фракции: liefhebberen[39] или «быки», которые хотят, чтобы акции росли, и contremines[40], или «медведи», которые хотят, чтобы они падали. Часто несколько «медведей» входят в тайный сговор и распространяют ложные слухи о пиратах либо начинают демонстративно сбывать акции по очень низкой цене, чтобы посеять панику и сбить цену. – Как же они зарабатывают на этом деньги? – Подробности не важны. Можно продавать акции на срок без покрытия, то есть акции, которых у продавца на самом деле нет, – это называется «короткие продажи». Наш инвестор – как только мы расскажем ему о ваших планах – начнёт строить игру в расчёте на то, что акции Ост-Индской компании упадут. И будьте покойны – они упадут. Несколько лет назад всего лишь слухи об ухудшении англо-голландских отношений уронили акции на десять – двадцать процентов. Как только станет известно о вторжении, они упадут ниже некуда. – Почему? – спросил Монмут. – У Англии мощный флот. При плохих отношениях с Голландией она может блокировать морскую торговлю, и Ост-Индская компания камнем пойдёт на дно. – Однако я буду куда более дружествен голландцам, чем король Яков! У Болструда тем временем лицо стало такое, будто его душат невидимым шнурком. Элиза набрала в грудь воздуха, улыбнулась Монмуту, затем подалась вперёд и положила ладонь ему на руку. – Естественно, когда станет ясно, что ваш мятеж увенчается успехом, акции Ост-Индской компании взмоют, как жаворонок поутру. Но поначалу на рынке будут преобладать невежды, которые по глупости вообразят, будто Яков возьмёт верх и станет мстить голландцам за то, что их страна послужила плацдармом для вторжения. Болструд немного успокоился. – Значит, поначалу акции будут дешеветь, – рассеянно произнёс Монмут. – Покуда не прояснится истинная ситуация. – Элиза ещё раз твёрдо похлопала его по руке и выпрямилась. Гомер Болструд, кажется, успокоился окончательно. – В этот промежуток, – продолжала Элиза, – наш инвестор сможет получить колоссальную прибыль на коротких продажах. В благодарность он охотно купит вам порох и свинец для вторжения. – Однако этот инвестор не господин Слёйс? – При игре на понижение кто-то остаётся в барыше, а кто-то – внакладе, – сказала Элиза. – Внакладе останется господин Слёйс. – Почему именно он? – спросил Болструд. – Это может быть любой спекулянт, играющий на повышение. – Короткие продажи запрещены три четверти века назад! Против них изданы многочисленные эдикты, в том числе во времена штатгальтера Фридриха-Генриха. Если покупатель понёс убытки, он вправе «апеллировать к Фридриху». – Фридриха-Генриха давно нет в живых! – возмутился Монмут. – Это просто термин, означающий, что обязательства по контракту можно не выполнять. Контракт аннулируется в суде. – Однако если верно, что при коротких продажах кто-то всегда останется внакладе, то эдикт Фридриха-Генриха должен был покончить с такой практикой! – О нет, ваша светлость, в Амстердаме процветают короткие продажи! Многие спекулянты ими живут! – Почему же все проигравшие не апеллируют к Фридриху? – Дело в том, как составлен контракт. При достаточной ловкости можно поставить проигравшего в такое положение, что он не сможет апеллировать к Фридриху. – Значит, всё-таки шантаж, – проговорил Болструд, глядя в окно на снежное поле, что не мешало ему на лету ловить мысли Элизы. – Мы выбираем Слёйса в проигравшие, и если он решит апеллировать к Фридриху, всё – включая полный склад свинца – выплывет в суде, и его предательство обнаружится. Так что ему придётся молча проглотить убытки. – Если я правильно понял, надо, чтобы Слёйс не знал о планах вторжения в Англию, – вставил Монмут, – иначе он не станет играть на повышение. – Разумеется, – кивнула Элиза. – Он должен верить, что акции Ост-Индской компании будут расти. – Однако, продавая свинец, он поймёт, что у нас есть какие-то планы. – Да, но ему незачем знать, что именно планируется и когда. Нужно лишь манипулировать его сознанием, чтобы он думал, будто акции Ост-Индской компании скоро подорожают. – И – как я начинаю понимать – вы виртуозно умеете манипулировать сознанием людей, – заметил Монмут. – Всё куда проще, – отвечала Элиза. – Как правило, я сижу и смотрю, как они сами собой манипулируют. – Ну что ж, – сказал Монмут, – я испытываю сильнейшее желание заняться самоманипуляцией наедине… если только… – Не сегодня, ваша светлость, – отвечала Элиза. – Мне надо уложить вещи. Быть может, увидимся в Амстердаме? – Ничто не доставит мне большего удовольствия. Франция начало 1685 Но знай, у нас Гнездится в душах много низших сил, Подвластных Разуму; за ним, в ряду, Воображенье следует; оно, Приемля впечатления о внешних Предметах, от пяти бессонных чувств, Из восприятий образы творит Воздушные; связует Разум их И разделяет. Все, что мы вольны Отвергнуть в мыслях или утвердить, Что знаньем и сужденьем мы зовём, — Отсюда возникает. Но когда Природа спит и Разум на покой В укромный удаляется тайник, Воображенье бодрствует, стремясь, Пока он отлучился, подражать Ему; однако, образы связав Без толку, представленья создаёт Нелепые, тем паче – в сновиденьях, И путает событья и слова Давно минувших и недавних дней. В начале 1685 года Джек несколько раз ездил из Парижа в Лион и обратно с вестями. Париж: английский король умер! Лион: продаются несколько губернаторских постов в Испанской Америке! Париж: Людовик тайно женился на мадам де Ментенон и подпал под влияние иезуитов. Лион: жёлтая лихорадка тысячами косит невольников на бразильских рудниках – золото должно подскочить в цене. Это неприятно напоминало работу на других – тот самый наёмный труд, который Джек всегда почитал ниже своего достоинства. Сказать проще – очень смахивало на то, чем занимался Боб. Джеку приходилось напоминать себе, что на самом деле он не служит на посылках, а только притворяется, будто служит, чтобы подготовить коня к продаже, – а там банкиры пусть катятся к чёртовой бабушке. Как-то не по-весеннему холодным мартовским днём на пути из Лиона в Париж ему встретилась бредущая навстречу колонна человек в пятьдесят. Все были обриты наголо и одеты в лохмотья; некоторые изорвали последнюю одежду на бинты, чтобы обмотать кровоточащие ноги. Руки у них были связаны за спиной, являя взглядам торчащие ребра в язвах и следах от бичей. Колонну сопровождали пять или шесть верховых лучников, которые легко могли настичь стрелой отставшего или беглеца. Короче, очередную партию осуждённых гнали в Марсель. Однако эти люди выглядели куда хуже обычного. Как правило, галерник – это дезертир, контрабандист или вор, следовательно, крепкий молодчик. Колонна осуждённых, вышедшая из Парижа зимой, теряет в пути от холода, голода, болезней и побоев не более половины. Тем не менее эта партия – как и некоторые другие, встреченные Джеком по дороге, – состояла чуть ли не из одних стариков. Видно было: им не то что до Марселя – до ночлега не дотянуть. Осужденные оставляли за собой кровавые следы и еле передвигали ноги. Джек подумал, что таким манером они проведут не одну неделю в пути, который любой предпочёл бы свести к минимуму. Он съехал на обочину, чтобы пропустить колонну. Один из стражников приблизился к отставшим, спокойно развернул nerf de boeuf[42] со свистом раскрутил его над головой и резким ударом отсёк каторжнику кусок уха. Крайне довольный своим мастерством, он добавил что-то про RPR. Джеку всё стало ясно. RPR означало «Religion pretendue reformee», то есть «мнимо улучшенная религия». Так презрительно говорили о гугенотах. Гугеноты были в основном состоятельные купцы или ремесленники и от каторжного обращения страдали куда больше обычных бродяг. Несколько часов спустя, пропуская другую такую же колонну, Джек увидел мсье Арланка. Тот смотрел на Джека – обритый, с ввалившимися от голода щеками, тем не менее вполне узнаваемый. Сейчас Джек ничего поделать не мог. Даже будь он при мушкете, лучник не дал бы ему сделать второго выстрела. Однако позже вечером Джек вернулся к постоялому двору в нескольких милях южнее того места, где встретил мсье Арланка, выждал в синей ночи, глядя, как кони, сердясь, выпускают ноздрями морозный пар, а когда охрана улеглась спать, подкупил сторожа и вместе с лошадьми въехал во двор конюшни. Несколько гугенотов, совершенно голые, стояли прикованные цепью во дворе. Некоторые переступали с ноги на ногу, силясь согреться, остальные, судя по виду, были мертвы. Однако мсье Арланка среди них не оказалось. Сторож отворил засов на дверях конюшни, впустил Джека внутрь и (за ещё одну монетку) одолжил ему фонарь. Здесь Джек нашёл остальных каторжников. Самые слабые зарылись в солому, те, что посильнее, – в груды тёплого навоза по стенам. Среди последних был и мсье Арланк. Он мирно храпел, когда свет Джекова фонаря упал ему на лицо. На следующее утро мсье Арланк вышел вместе с другими каторжниками если не выспавшийся, то, во всяком случае, сытый и в добрых ботфортах. Джек тем временем ехал на север в деревянных башмаках, купленных у крестьянина по дороге. Он готов был ускакать ночью, увозя мсье Арланка на одной из запасных лошадей, но гугенот спокойно и с превосходной французской логикой объяснил, почему побег невозможен. – Если утром меня здесь не будет, накажут остальных каторжников. Большинство из них – мои единоверцы и, возможно, пошли бы на это, но остальные – обычные преступники. Чтобы избежать наказания, они поднимут тревогу. – Я могу их убить, – заметил Джек. Мсье Арланк – бестелесная, освещенная фонарём голова над грудой тёплого, окутанного паром навоза – скривился. – Тебе придётся убивать их по одному. Остальные поднимут тревогу. Очень благородно с твоей стороны было предложить, учитывая, что мы едва знакомы. Это что, английская хворь так сказывается? – Наверное, – признал Джек. – Сочувствую, – сказал мсье Арланк. Джеку стало досадно, что его жалеет каторжник. – Твои сыновья… – Спасибо, что вспомнил. Когда король воздвиг на нас гонения, мне удалось переправить их в Англию. А твои?.. – По-прежнему ждут наследства, – ответил Джек. – Сумел продать страусовые перья? – Поручил это армянам. – С конём, как вижу, ещё не расстался. – Привожу его в форму. – Чтобы он понравился барышникам? – Барышникам? Зачем мне барышники? Чтобы он понравился покупателям! Голова Арланка задвигалась в свете фонаря, словно тот пытается глубже зарыться в навоз. На самом деле гугенот тряс головой, досадуя, что Джек очередной раз сморозил глупость. – Невозможно, – сказал Арланк. – Торговлю лошадьми в Париже полностью контролируют барышники. Бродяга не может въехать на Королевскую площадь и продать коня, как не может войти в Версаль и получить полк, – так просто не делается. Если бы Джек недавно приехал во Францию, он бы воскликнул: «Что за бред!» Однако он знал, что Арланк говорит правду. Тот присоветовал ему лошадиного барышника, которого можно найти в Доме Рыжего Кота на рю дю Тампль, потом вспомнил, что барышник этот тоже гугенот: если он и жив, то в любом случае больше не торгует. Они проговорили всю ночь. Джек время от времени скармливал мсье Арланку по маленькому кусочку хлеба и сыра, оделяя и других каторжников, чтобы те не подняли шум. К рассвету Джек отдал ботфорты и всю провизию, что было по-своему глупо. С другой стороны, он сидел в седле, а мсье Арланк шёл пешком. Джек ехал на север промерзший, голодный, усталый и практически босой. Не отдохнувшие за ночь лошади в отместку упрямились. С недосыпу Джек ничего не соображал. Он нечаянно свернул не на том перекрёстке и в итоге поехал к Парижу незнакомой дорогой, что привело к ряду досадных происшествий. В результате одного из таких злоключений он провёл без сна ещё ночь, прячась в лесу от егерей какого-то аристократа. Наёмные лошади всё время ржали, и Джеку пришлось оставить их в качестве приманки, а самому ускользнуть вместе с верным Турком. К утру он был на шаг от того, чтобы вновь стать жалким бродягой. Он потерял двух лошадей, которых надо было вернуть. Теперь все хозяева платных конюшен и лошадиные барышники Парижа – его враги, значит, продать Турка будет ещё невозможнее. Джек не получит денег, а Турок – жизни, которую заслужил: в просторной барской конюшне, где его кормили бы и холили, только крой бесконечную череду великолепных кобыл. Джек не получит денег и скорее всего никогда не увидит сыновей: он не посмеет с пустыми руками заявиться к их тетушке Мейв, чтобы вся мужская родня Марии-Долорес бегала за ним по восточному Лондону с ирландскими дубинками… От такого можно было рехнуться и без сифилиса и двух бессонных ночей кряду. Джек решил, что рехнуться – проще всего. Подъезжая к Парижу мимо огородов, исходящих паром от ещё тёплого городского дерьма, он увидел бурое поле в белых полосках извести, из которых выступали человеческие кости и черепа. Тут и там торчали грубые покосившиеся кресты в пятнах вороньего помёта. Сами вороны неподвижно застыли на перекладинах. Покуда Джек ехал через поле, птицы снялись с места и полетели навстречу процессии, только что вышедшей из городских ворот. Впереди вышагивал поп; его сутана, заляпанная грязью, висела стальной кольчугой. Он опирался на длинное распятие и временами скорбно позванивал в колокольчик, который нёс в свободной руке. За ним шагали оборванцы, опираясь на лопаты, как поп – на распятие, а следом два умученных мула тащили телегу с длинными зашитыми свёртками наподобие мучных кулей. Джек смотрел, как они опрокинули телегу, так что кули – судя по размерам, трое взрослых, полдюжины детей и пара младенцев, – скатились в ров. Покуда поп что-то бубнил на плохой латыни, его помощники закидали тела негашёной известью и землёй. Джек начал слышать приглушённые голоса, доносящиеся, естественно, из земли. Черепа вокруг полезли из грязи и принялись неуверенно выпрямляться на скелетах, у которых не хватало части костей. При этом они монотонно гудели что-то божественное. Тем временем могильщики, подняв лопаты штыками вверх, затянули своё: разудало-матросское, с отчетливыми ирландскими завываниями. Джек резвым галопом вырвался вперёд и оказался в авангарде весёлого шествия. Он возглавлял журавлиный клин из бродяг-могильщиков, исполнявших зажигательный групповой танец, одновременно выделывая лопатами всякие штуки, словно солдаты на плацу. Вслед за ними вышагивал поп, звякая колокольчиком. Мертвецы, по-прежнему в саванах, вылезли из могилы и забрались обратно в телегу. Они хрипло постанывали, как органные трубы, под заунывное пение скелетов. Выстроившись вдоль дороги, те загремели на четыре голоса: Что, чёрт возьми, задумал Бог На шестьдесят шестой денёк – Из Темзы глины взял комок И вагабонда сляпал? Бог и врагу не мог желать, Как Джеку, в жизни бедовать. Что требовалось доказать: Иегова малость спятил Переключаясь на грегорианский хоровой распев: Quod erat demonstrandum. Quod erat demonstrandum… А тем временем, приближаясь к воротам, они встретили колонну галерников, надо полагать, гугенотов, бредущих на юг синкопированным шагом, от которого цепи бряцали, как колокольчики. Верховые надсмотрщики, щёлкая бичами, отмеряли ритм для бравурной песенки гугенотов: В цепях, в ошейниках, как есть Мы будем на галерах гресть, Луи-Каторзовы рабы, Но механизм Вселенной Запущен неизменно: На грош себе не выберешь судьбы. Тут из городских ворот навстречу могильщикам вышли торговки рыбой и, встав с ними в пары, завели пронзительными сопрано и визгливыми альтами озорную кельтскую рилу, заглушившую и скелетов, и гугенотов: Жил-был бродяга-весельчак, Постранствовал не слабо, Из-за морей приплыл домой, Найти задумал бабу. Таким добром на Друри-Лейн Недолго разживиться, А он искал – кошель-то пуст – Не шлюху, а девицу. Наш Джек любил ходить в театр, Но больше – за кулисы. Там он и встретил как-то раз Ирландочку-актрису. Поп, нимало не сердясь, что его перебили, подхватил куплеты и превратил их в торжественный церковный напев, пусть на совершенно другой мотив: Ему бы в церковь путь найти, Припасть к Отцу и Сыну, А он хористку соблазнил И в тягости покинул. Бог с Неба девке не желал Такой несчастной доли. Джек, безусловно, доказал. Сам факт Свободной Воли. Quod erat demonstrandum. Quod erat demonstrandum… Неугомонные галерники опять влезли со своим: Хотел ли он, Не хотел ли он, Всё предопределено. Катится по-заведённому Чреда отпущенных дён ему – Решать ничто не дано. Снова поп: Кто Создателя клянёт, Молвил Папа в своё время – Безнадёжный идиот Или дьяволово семя. Первым следует послушно И прилежно слушать всех, Тем же в Церковь возвратиться И очистить всякий грех. Quod erat demonstrandum. Quod erat demonstrandum… Галерники, очевидно, хотели бы остаться и продолжить диспут, однако надсмотрщики гнали их всё на юг и на юг: Бредём обречённо От солнечной Роны, Как Бог повелел изначала; Джек, нечего охать: Твоя же ведь похоть В колодки тебя заковала. Их утащили «за кулисы» следующим комическим образом: надсмотрщик выехал в начало колонны, накинул цепь на луку седла и пришпорил лошадь. Цепь заскользила через ошейники каторжников, дёрнула последнего, так что тот налетел на идущего перед ним, а тот – на следующего, так что в результате цепной реакции вся колонна сложилась гармошкой, и её утащили в сторону Средиземного моря. Тем временем процессия ворвалась через ворота в милый Париж. Скелеты, которые до сей поры вели себя крайне мрачно, вдруг принялись разбираться на части и лупить себя и соседей бедренными костями, создавая мелодичную ксилофонию. Поп вскочил на телегу с мертвецами и сильным контртенором затянул новый мотивчик. Джек, ты дура-а-ак – Чему удивляться, что стало паскудно Вот та-а-ак – Какой ещё вляпался бы безрассудно Проста-а-ак – Что толку пытать, как пытают Бродя-а-аг – Тебе это шутки, тебе это просто Пустя-а-ак – Хоть бы драли тебя, как дерут Соба-а-ак – Не просто вор, Совсем обормот, Не обаяшка, А мордоворот, Бог дал тебе ум. Его ты с тех пор отправил в нужник, А сам хоть бы хны, и вот Смердишь! Поспорил бы тут, но Учуять не трудно, Смердишь! И так далее. Тут вперёд выступила прехорошенькая девочка в белом платье, какие надевают паписточкам на первое причастие. Светящаяся – но грустная. Поп остановил мулов, спрыгнул с похоронных дрог и присел на корточки рядом с девочкой. – Простите меня, отче, ибо я согрешила! – сказала та. – Ух! – взвыли разом скелеты, мертвецы, могильщики, рыботорговки и проч., собираясь в круг, словно поглазеть на ирландскую драку. – Поверь мне, детка, не ты одна! – завопила одна из торговок, сложив руки рупором; остальные заулыбались и закивали. Поп подобрал грязную сутану, придвинулся к девочке и приложил ухо к ее губам; та что-то зашептала, поп затряс головой в искреннем, хоть и недолгом ужасе, затем выпрямился во весь рост и что-то сказал. Девочка молитвенно сложила руки и закрыла глаза. Весь Париж, замерев, слушал, как тоненький голосок произносит краткую папистскую молитву. Девочка открыла голубенькие глазёнки и с трепетом взглянула на священника. Его каменное лицо внезапно расплылось в улыбке, и он осенил девочку крестом. С радостным визгом та подпрыгнула и пошла по улице колесом в вихре кружевных юбок. Немедленно вся процессия ожила. Поп шёл за кувыркающейся девочкой и танцорами; мертвецы в телеге виляли бёдрами и гортанно ухали в такт музыке. Могильщики и рыботорговки, к которым по пути присоединились цветочницы и крысоловы, отплясывали под пение священника попурри из всевозможных танцев: канкана, ирландского степа и средиземноморской тарантеллы. Если был ты воришка Иль была ты малышка, Что смущалась не слишком По поводу брачных обетов, Если лихо кутил, И без просыху пил, И сироток давил На дороге богатой каретой… И так достаточно долго, ибо им надо было протанцевать через всю Вселенную и мимо римских бань в Клюни. Когда они вступили на Малый мост, целая толпа несчастных высыпала из Hotel-Dieu – исполинской богадельни у самого собора Парижской Богоматери, откуда изначально взялись поп, могильщики и мертвецы. В сопровождении органа Нотр-Дам они исполнили величественный хорал под занавес представления: Смотри, все такие – все грешат, Смотри, на скольких шапки горят, В уголке потискаться каждый рад И пару стаканов хлопнуть подряд. Так покайся в грехах и не скрой своих зол, Это вам не причуда и не прикол, Каждый, Папа сказал, до того дошёл, Что вполне заслужил, чтоб ему испол- Осовали весь зад (коль не в кайф кой-кому). Дайте ж бой беспощадный греху своему, Что бедняк, что Людовик, от массовых у- Бийств до мелких проступков; и вот, потому, Чуть вы сбились с прямого пути, всякий раз Исповедайтесь Богу, хоть с глазу на глаз, Хоть в соборе, хоть в церкви, услышит Он вас, И получите ВЕЛИКУЮ МИЛОСТЬ тотчас! Песня пошла по кругу, символизируя (как предполагал Джек) циклический характер процесса: одни оборванцы, торговки и проч. совокуплялись прямо на улице, другие строем бежали к попу исповедоваться, после чего преклоняли колени перед собором и тут же снова толпой бежали совокупляться. Так или иначе, теперь у каждого скелета, оборванца, могильщика, торговки, разносчика и попа была своя роль и своя партия в спектакле, только Джек оставался ни при чём. Спутники один за другим откалывались от него или растворялись в воздухе, так что он в одиночестве (правда, под приветственные возгласы тысячных толп) въехал на площадь за собором Парижской Богоматери, ещё более величественную, чем Джек её помнил. Ибо некий жутко важный папист – на ступеньку или две ниже самого Папы – благословлял здесь знамёна всех полков короля Луя. Он был в митре и стоял под балдахином из ткани, расшитой королевскими лилиями. Самих полков не было – места бы не хватило, – зато присутствовали благородные военачальники в сопровождении герольдов и знаменосцев. Над ними реяли атласные, шёлковые и парчовые штандарты, рассчитанные на то, чтобы за милю различаться в клубах порохового дыма, а когда их после победы водрузят на стены захваченного города – убеждать покорённых голландцев, немцев или англичан в могуществе и, главное, утончённости короля Луя. Каждый обладал определённой магической властью над своим полком; увидеть их разом было всё равно что узреть всех двенадцать апостолов за одним столом или что-то в таком роде. При всей ненависти к Лую Джек вынужден был признать, что зрелище знатное; он даже пожалел, что опоздал к началу и застал лишь последние четверть часа представления. Вскоре всё закончилось. Знаменосцы отправились к своим полкам, расквартированным за городом, аристократы – через Аркольский мост на правый берег, и оттуда – частью к Лувру, частью – в обход Ратуши к Королевской площади и Марэ. Один из тех, кто свернул к Марэ, был в адмиральской шляпе и восседал на белом коне с розовыми глазами. Конь был крупный – надо полагать, боевой. Джек ещё не решил, что делать дальше. Не имея иной цели в жизни, он последовал за адмиралом в узкую улочку и вскоре услышал со всех сторон шебуршание вроде мышиной возни и увидел в воздухе облачка светящейся пыли. Он присмотрелся, и ему почудилось, что все крохотные твари, заключенные в камни, ожили и вылезают из своих узилищ, словно некий невидимый ток ртути, пронизав стены, вернул им жизнь. Сочтя это знаком, Джек ударил Турка по бокам деревянными сабо, проулками обогнал адмирала, пригибаясь под нависающими балконами, и выехал на улицу перед ним, прямо у въезда на Королевскую площадь – на ту самую улицу, где его столкнули в канаву слуги (надо думать) этого самого господина. Сейчас слуги как раз очищали дорогу перед адмиралом и его многолюдной свитой, поэтому улица, на которую выехал Джек, была совершенно пуста. Лакей в голубой ливрее шагнул навстречу, глядя на деревянные башмаки и костыль: видимо, принял Джека за крестьянина, угнавшего рабочую лошадку. Джек слегка тронул поводья, словно говоря Турку: «Давай!» Турок, взяв с места в карьер, сбросил лакея в канаву с дерьмом. Джек натянул поводья. Между ним и адмиралом было ещё несколько слуг, но они, видя, что произошло с их товарищем, жались к стене. Адмирал был невозмутим. Он смотрел на Джековы сабо. Джек сбросил башмаки, и они с деревянным стуком упали на мостовую. Ему хотелось сказать что-то умное в том смысле, что лягушатники вечно смотрят на форму, а не на суть. Замечание было бы вполне уместно здесь и сейчас, ибо относилось заодно к их предполагаемой неспособности распознать превосходные качества Турка. Однако в нынешнем помрачении рассудка он не мог сформулировать этого даже на английском. Кто-то решил, что он опасен: молодой человек в наряде гвардейского капитана выехал вперед и достал шпагу, ожидая, что Джек сделает дальше. – Сколько бы вы дали за эту клячу? – выкрикнул Джек и, поскольку разбирать костыль было некогда, поднял его, как рыцарское копьё, упёр перекладиной в рёбра и пятками сжал Турку бока. Свежий ветерок приятно обдувал босые ступни. Выражение сдержанного недоумения на лице капитана Джек запомнил до конца дней. Те, кто был за ним, сдали назад; только тут капитан осознал, что попал в невозможную ситуацию, и сделал попытку отклониться. Костыль ударил его в предплечье и, вероятно, оставил серьёзный синяк. Джек проехал через адмиральскую свиту и поворотил Турка – не так быстро, как хотел, но всем этим адмиралам, полковникам и капитанам тоже предстояло развернуться, а кони у них были не так хороши, как у Джека. Один, вороной красавец под седоком в парике и лентах, заартачился. Сейчас он стоял поперёк улицы, боком к Джеку. – Так сколько за этого великолепного аргамака? – вопросил Джек и снова послал Турка вперёд. Тот, разогнавшись, грудью сшиб вороного – конь рухнул, взметнув копыта, а ничего не ожидавший всадник отлетел в соседний квартал. – Я куплю его прямо сейчас, Джек, – произнёс по-английски смутно знакомый голос, – если перестанешь выдрючиваться. Джек взглянул на говорящего. Первой мыслью мелькнуло: бывают же такие красавцы! Второй: это Джон Черчилль!.. На вполне приличном коне рядом с Джеком. Кто-то пробивался к ним, крича по-французски. Джек в первое мгновение не понял зачем, но тут Черчилль, не сводя с него глаз, выхватил рапиру, крутанул её – показалось, через кулак, – и отвёл вниз удар, направленный Джеку в сердце. Клинок на несколько дюймов вошёл в бедро. От боли Джек очнулся и понял, что всё происходит на самом деле. – Боб шлёт приветы из солнечного Дюнкерка, – сказал Черчилль. – Если заткнёшь хлебало, есть бесконечно малый шанс, что тебя не замучают до смерти прямо сегодня. Джек промолчал. Амстердам апрель 1685 Искусство Войны столь хорошо изучено и столь хорошо повсюду известно, что ныне набитый кошель побеждает острую шпагу. Если есть страна, жители которой менее других воинственны и способны к ратному делу, но при этом богаче соседей, они вскоре превзойдут тех мощью, ибо деньги – сила. – Это было фантастически, мадемуазель, лучше францу… Словно тихий пруд, в который мальчишка швырнул пригоршню камней, красота Монмута, озарённая золотым светом амстердамского вечера, затуманилась рябью мысли. Брови пошли вверх, губы оттопырились, глаза, возможно, немного скосились к носу – трудно сказать, учитывая их с Элизой нынешнюю позу – прямиком с индуистского фриза. – В чём дело? – Осуществили ли мы… э… соитие в ходе этого… э… акта? – Пфу! Вы что, папист, которому надо вести перечень своих грехов? – Мадемуазель, вы прекрасно знаете, что нет, но… – Так вы ведёте подсчёт? Как завсегдатай таверны, который гордится записанным на стене рядом с его именем числом пинт и кварт – только в вашем случае это женщины? Монмут попытался изобразить возмущение. Однако поскольку сейчас его тело содержало меньше жёлтой желчи, чем когда-либо с детства, даже возмущение получилось расслабленным. – Не вижу ничего дурного в желании узнать, кого я поимел либо не поимел! Мой отец – упокой, Господи, его душу – имел попросту всех! Я всего лишь первый и главный из легиона королевских ублюдков! Негоже было бы терять счёт… – …вашим королевским ублюдкам? – Да. – Тогда успокойтесь: от того, что мы делали, никаких королевских ублюдков произойти не может. Монмут принял менее экзотическую позу, а именно – сел и нежно уставился на Элизины соски. – Послушайте, вы не хотели бы стать герцогиней или вроде того? Элиза выгнула спину и рассмеялась. Монмут перевёл взгляд на её пульсирующий пупок и скорчил обиженную мину. – Что я должна сделать? Выскочить за какого-нибудь сифилитичного герцога? – Разумеется, нет. Будьте моей любовницей, когда я стану английским королём. Отец всех своих любовниц сделал герцогинями. – Зачем? Монмут, шокированно: – Так положено! – У вас уже есть любовница. – Каждый может иметь одну любовницу… – А избранные – много? – Что проку быть королём, если не можешь трахать кучу герцогинь? – Ваша правда, сэр! – Хотя не знаю, можно ли назвать траханьем то, что мы делали. – То, что я делала. Вы только извивались и дёргались. – Не правда ли, похоже на танец, в котором только один партнёр знает все па? Вы просто должны научить меня моей роли. – Я польщена, ваша светлость, – означает ли это, что мы ещё увидимся? Монмут, обиженно и чуть оробело: – Я искренне предложил сделать вас герцогиней. – Прежде вы должны сделаться королём. Герцог Монмутский вздохнул и снова откинулся на матрац, подняв вихрь пыли, соломинок, клопов и мушиного дерьма – всё заискрилось в вечернем воздухе, словно нарисованное на полотне каким-нибудь Брейгелем. – Знаю, это так утомительно. – Элиза отвела ему волосы со лба и аккуратно убрала за ухо. – Позже будете биться на полях ужасающих сражений. Сейчас мы едем в Оперу! Монмут скривился. – По мне, лучше сражаться. – Там будет Вильгельм. – Надеюсь, он не собирается ломать утомительную комедию на сцене? – Кто, принц Оранский?.. – После Бредского мира он увлёкся балетом и появлялся в виде Меркурия, несущего вести об англо-голландском примирении. Ужасно видеть, как неплохой воин выкозюливается, прицепив к щиколоткам пару гусиных крыльев. – Это было давно – сейчас он солидный человек. Будет просто смотреть из ложи, притворяясь, будто шепчет остроты на ухо Марии, которая будет притворяться, будто их понимает. – Если он собирается в Оперу, мы можем приехать попозже, – сказал Монмут. – Театр непременно обыщут – не заложена ли гам адская машина. – В таком случае надо приехать пораньше, – возразила Элиза. – Больше времени на интриги и заговоры. Человек штудирует книги и слышит рассказы о чужой стране, потом приезжает и видит её своими глазами – это Элиза в Опере. Не столько само место (всего лишь здание), сколько люди, и не столько титулованные или облечённые государственной властью (например, великий пенсионарий Голландии, различные члены городского совета и магистраты с разряженными жёнами), сколько властители рынка. Элизе, как и большинству тех, кто драл глотку и бил по рукам в толпе, кочующей между Биржей и площадью Дам, собственно акции Голландской Ост-Индской компании были не по карману. Когда она была при деньгах, то покупала и продавала «дукатовые акции», когда на мели – опционы и контракты на их продажу и покупку. Строго говоря, никаких дукатовых акций на самом деле не существовало. То были доли настоящих акций – фикция, созданная для того, чтобы в торгах участвовали не только богатеи. Однако над теми, кто торговал полными акциями Ост-Индской компании, существовали князья рынка, которые ворочали целыми пакетами акций, а занятые под них деньги ссужали на различные начинания: рудники, дальние плавания, невольничьи порты на гвинейском побережье, колонии, войны и порой, при благоприятном раскладе, и на свержение того или иного монарха. Такому человеку, чтобы изменить ход торгов, вызвать обвал или взлёт, довольно было просто появиться на Бирже – пройтись с определённым выражением лица и оставить за собой хвост продаж и покупок, словно шлейф фимиама за епископским кадилом. Казалось, все эти люди приехали сегодня в Оперу с жёнами и любовницами. Толпа напоминала внутренность клавесина: каждый, словно натянутая струна, готов был загудеть или зазвенеть от прикосновения. По большей части это порождало какофонию, как если бы кошки спаривались на клавишах, но появление определённых лиц отзывалось вполне ощутимым аккордом. – У французов есть специальное слово: frisson[43], – прикрываясь лайковой перчаткой, шепнул герцог Монмутский, покуда они пробирались к ложе. – Я, подобно Орфею, борюсь с желанием обернуться… – Не стоит: тюрбан упадёт. Элиза подняла руку и потрогала циклон небесно-голубого шёлка, закреплённый на её волосах разнообразными восточными шпильками и заколками. – Не упадёт. – А зачем вы хотите обернуться? – Увидеть, кто вызвал frisson. – Вы, глупенькая. – В кои-то веки герцог Монмутский изрёк нечто безусловно верное. На них смотрело столько золочёных, усыпанных драгоценными камнями театральных биноклей, что публика казалась сборищем пучеглазых амфибий на берегу пруда. – Никогда ещё спутница герцога не была наряжена пышнее, чем он, – предположила Элиза. – И никогда больше не будет, – буркнул Монмут. – Надеюсь, ваше великолепие не заслонит от них то, что мы хотим показать. Они стояли у перил ложи, давая возможность собою полюбоваться, ибо пространство, на котором скакали актёры, было лишь одной из сценических площадок Оперы, а действо, которое те разыгрывали, – лишь одной из идущих одновременно пьес. Например, в ложе штатгальтера, всего в нескольких ярдах от Элизы с Монмутом, стражники переворачивали всё вверх дном, ища адскую машину. Это зрелище уже всем прискучило, поэтому внимание большей части зала переключилось на герцога Монмутского и его новую пассию. Взгляды стольких акционеров Голландской Ост-Индской компании через столько вручную отшлифованных стёкол заставили Элизу почувствовать себя букашкой под лупой естествоиспытателя. Она радовалось, что наряд одалиски включает в себя покрывало, закрывающее всё, кроме глаз. Даже сквозь узкую щёлочку над покрывалом некоторые наблюдатели, возможно, различили мгновенную панику или по крайней мере беспокойство в глазах Элизы, когда frisson сменился общим недоуменным гулом: зрители тыкали друг друга в бок, указывали вверх еле заметным движением век или пальцев в перстнях и перчатках, спутывались париками, делясь на ухо наблюдениями. Публика не в первое мгновение поняла, кто именно сопровождает Элизу. Наряд Монмута был сугубо функционален, как будто герцог собирается сразу после оперы вскочить на коня и скакать по полям и буеракам навстречу врагу. Даже на боку у него вместо шпаги висела кавалерийская сабля. В этом смысле его вид был достаточно красноречив. Оставался вопрос: в какую сторону поскачет Монмут и чьи конкретно головы он собирается рубить? – Так я и знал, оголять вам пупок было ошибкой! – прошипел герцог. – Напротив, он – замочная скважина, открывающая загадку, – ответила Элиза. На «т» и «к» её покрывало сильно колыхалось, однако внутренне она была совсем не так спокойна, как старалась показать. С риском выдать свои намерения она якобы бесцельно обвела взглядом полукруг лож, пока не отыскала ту, в которой граф д'Аво сидел в обществе нескольких амстердамцев, крутящих торговые шуры-муры с Парижем. Среди них был и предатель Слёйс. Д'Аво отнял от глаз золотой театральный бинокль и десять секунд кряду смотрел Элизе в лицо. Потом перевёл взгляд на ложу Вильгельма, где бесконечно громыхали стражники. Снова взглянул на Элизу. Вуаль прятала улыбку, но в глазах ясно читалось приглашение. – Не работает, – проворчал Монмут. – Работает безупречно, – отвечала Элиза. Д'Аво встал, извинился перед соседями по ложе: Слёйсом, одним из членов городского совета и молодым французским дворянином, вероятно, очень высокопоставленным, ибо д'Аво отвесил ему низкий поклон. Через несколько минут он так же низко поклонился Монмуту и поцеловал руку Элизе. – В следующий раз, мадемуазель, когда вы осчастливите Оперу своим посещением, стражникам придётся обыскивать и вашу ложу – ибо, не сомневайтесь, сегодня вы затмили всех дам. Ни одна из них вам этого не простит. – Обращаясь к Элизе, он тем временем с любопытством оглядывал Монмута, ища подсказок. На герцоге были различные эмблемы и значки, рассмотреть которые можно было только с близкого расстояния: в частности, простой красный крест крестоносца и герб Священной Лиги – союза Польши, Австрии и Венеции, который сейчас теснил остатки турецкой армии из Венгрии. – Ваша светлость, – сказал д'Аво, – путь на Восток опасен. – Путь на Запад закрыт навеки, во всяком случае, для меня, – отвечал Монмут, – а моё присутствие в Голландии даёт пищу отвратительным слухам. – Вам всегда будут рады во Франции… – Единственное, что я умею хорошо, это сражаться… – начал Монмут. – Ну, не только… милорд, – сладострастно проговорила Элиза. Д'Аво вздрогнул и облизнул губы. Монмут слегка покраснел и продолжил: – Поскольку мой дядя[44] принёс мир Европе, мне придётся искать славы на Востоке. Что-то происходило на периферии Элизиного зрения: Мария и Вильгельм вошли в ложу. Все встали и захлопали; впрочем, аплодисменты длились недолго. Граф д'Аво шагнул вперёд и расцеловал Монмута в обе щеки. Видели это не все, но кое-кто видел – достаточно, чтобы зазвучала новая струна, низкий гул, вскоре заглушивший первые такты увертюры. Амстердамские дамы и господа усаживались в кресла, но их слуги и лакеи оставались в тени за ложами. Сейчас хозяева подзывали некоторых из них жестами, что-то шептали им на ухо или совали в руку торопливую записку. Рынок стронулся. Элиза двинула его тюрбаном и оголённым пупком, д'Аво – более чем обычной теплотой к Монмуту. Взятое вместе, это означало одно: Монмут отказался от притязаний на английский престол и берёт курс на Константинополь. Рынок стронулся. Больше всего Элизе хотелось быть на площади Дам и двигаться вместе с ним, однако сейчас её место было здесь. Д'Аво вернулся в ложу и сел. Актёры на сцене уже запели, однако соседи д'Аво, склонившись к нему, что-то шептали и выслушивали ответы. Молодой французский дворянин кивнул, повернулся к Монмуту, осенил себя крестным знамением и раскрыл ладонь, словно посылая герцогу молитву. Элиза почти ожидала, что из рукава у него вылетит голубок. Монмут сделал вид, будто ловит и целует послание. Господин Слёйс был не в настроении молиться. Он думал. Даже в полутьме, за миазмами табачного и свечного дыма, Элиза могла прочесть мысли на его лице: «Раз Монмут собрался рубить турок в Венгрии, значит, он не воспользуется Голландией как плацдармом для высадки в Англии – англо-голландские отношения не испортятся – английский флот не станет топить голландские купеческие суда – акции Ост-Индской компании пойдут вверх». Слуга навис над его плечом, что-то записывая и загибая пальцы. Потом резко кивнул, словно чайка, пикирующая на добычу, и пропал. Элиза завела руки за голову и развязала вуаль. Потом стала слушать оперу. В ста футах от неё Авраам де ла Вега прятался за кулисами с подзорной трубой, стёкла для которой отшлифовал его троюродный брат Барухде Спиноза. Через эти стёкла он видел, как соскользнуло покрывало. Авраам де ла Вега, девяти лет от роду, тенью птицы в ночи шмыгнул через заднюю дверь на улицу, где дожидался верхом на резвом коне его дядя Аарон де ла Вега. – Он уже предложил сделать вас герцогиней? – спросил в антракте д'Аво. – Сказал, что сделал бы, если бы не отказался от претензий на трон, – отвечала Элиза. Д'Аво позабавила её осторожность. – Поскольку ваш кавалер возобновил платоническую дружбу с принцессой, не позволите ли сопроводить вас в ложу господина Слёйса? Мне больно видеть вас в небрежении. Элиза взглянула на штатгальтерскую ложу. Мария была там, но Вильгельм уже ускользнул, уступив поле боя Монмуту. Мария чуть ли не плакала: весть, что доблестный Монмут уезжает сражаться с турками, разбила ей сердце. – Я так и не увидела принца, – посетовала Элиза, – только его затылок, когда он уходил. – Поверьте, мадемуазель, смотреть особенно не на что. – Д'Аво подал Элизе руку. – Коли правда, что ваш кавалер вскоре отбывает на Восток, вам потребуются новые воздыхатели. Сказать по чести, давно пора. Франция изо всех сил старалась цивилизовать Монмута, но англосаксонский дух выветрить нелегко. Он так и не научился французской сдержанности в словах. – Монмут сболтнул лишнее? Какой ужас! – весело произнесла Элиза. – Весь Амстердам и примерно половина Лондона и Парижа наслышаны о ваших чарах. Однако, хотя описания герцога невыразимо скабрезны – когда не совершенно бессвязны, – культурные господа способны заглянуть дальше непотребства и понять, что вы обладаете и другими достоинствами помимо чисто гинекологических. – Говоря «культурные», вы разумеете «французские»? – Знаю, что вы меня дразните. Вы ждёте, что я отвечу: «Все французские господа культурны». Увы, это не так. – Мсье д'Аво, мне удивительно слышать от вас такие слова. Они были уже почти у входа в ложу. – Как правило, в ложе, куда мы с вами войдём, в обществе таких, как Слёйс, встречаются французские господа самого низкого разбора. Однако сегодняшний вечер – исключение. – Людовик Великий – как он сам себя теперь именует – выстроил новый дворец под Парижем, в месте под названием Версаль, – сказал ей Аарон де ла Вега несколько дней назад, во время одной из встреч в тесном еврейском квартале Амстердама, который, по совпадению, примыкал к Опере. – И перенёс туда свой двор. – Я слышал об этом, но не поверил, – сказал тогда Гомер Болструд. С евреями он явно чувствовал себя свободнее, чем с англичанами. – Перевезти столько людей из Парижа – безумие какое-то! – Напротив – гениальный ход, – возразил ему тогда дела Вега. – Помните греческий миф об Антее? Для французской знати Париж – земля-матерь: там у них есть власть, информация, деньги. Людовик, переселив их в Версаль, уподобился Геркулесу, который оторвал Антея от земли и тем принудил покориться. – Очаровательное сравнение, – сказала тогда Элиза, – но какое отношение оно имеет к нашим делам с господином Слёйсом? Де ла Вега позволил себе улыбнуться и взглянул на Болструда, решительно не настроенного на веселье. – Слёйс – из тех богатых голландцев, которые заигрывают с французами. Он прикармливал их с войны 1672 года – по большей части безуспешно, ибо они находили его грубым и неотёсанным. Теперь всё переменилось. Французские аристократы кормились от своих поместий; Людовик заставил их держать дом не только в Париже, но и в Версале, разъезжать в каретах, носить роскошные наряды и парики… – Они отчаянно нуждаются в деньгах, – сказал тогда Болструд. В Опере, перед дверью в ложу Слёйса, Элиза спросила: – Вы о тех французских дворянах, что, не довольствуясь обычаем, хотят играть на амстердамской бирже, дабы содержать выезд и любовницу? – Вы меня развращаете, мадемуазель, – отвечал д'Аво. – Как я смогу вернуться к обычным женщинам – тупым и невежественным – после бесед с вами? Да, как правило, ложа Слёйса переполнена такого рода французскими дворянами. Однако сегодня он принимает молодого человека, который получил своё состояние как положено. – То есть?.. – Унаследовал… вернее, унаследует от отца, герцога д'Аркашона. – Не будет ли вульгарностью поинтересоваться, как герцог д'Аркашон приобрёл это состояние? – Кольбер увеличил французский флот с двадцати кораблей до трех сотен. Герцог д'Аркашон – адмирал этого флота. Он руководил почти всем строительством. Пол у кресла господина Слёйса был усеян мятыми бумажками. Элизе очень хотелось разгладить их и прочесть, однако его брутальное веселье и то, как он разливал шампанское, говорили ей, что вечерние торги идут успешно – во всяком случае, так полагает Слёйс. – Евреи не ходят в Оперу – вера не позволяет! Аарон де ла Вега пропустил замечательное зрелище! – «Не посещай Оперу»… Это Исход или Второзаконие? – спросила Элиза. Д'Аво – непривычно нервозный – воспринял её слова как остроту и скривился в улыбке, жидкой, словно спитой чай. Господин Слёйс принял их за глупость и пришёл в сексуальное возбуждение. – Де ла Вега по-прежнему играет на понижение! И будет делать это до завтра – пока утром не услышит новости и не велит своим брокерам остановиться! Слёйс был почти возмущён, что так легко огребёт кучу денег. Казалось, он готов сколько угодно пить шампанское и зариться на Элизин пупок под пение толстых дам, но вынужден был отвлечься на очень грубую возню в своей собственной ложе. Элиза обернулась и увидела, что молодой французский дворянин – сын герцога д'Аркашона – стоит у перил ложи, а его обнимает – страстно и, быть может, чересчур сильно – лысый человек с расквашенным носом. Мамочка всегда учила Элизу не пялиться на посторонних, но сейчас она просто не могла удержаться. Молодой Аркашон перекинул ногу через перила, словно хочет сигануть в пустоту. На тех же перилах опасно балансировал большой и довольно хороший парик. Элиза шагнула вперёд и подхватила его. Это определённо был парик Жана-Антуана де Месма, графа д'Аво, а значит, лысый человек, удерживающий молодого Аркашона от самоубийства, мог быть только послом. Д'Аво, с неожиданной в столь рафинированном господине силой, отшвырнул наконец молодого человека назад в кресло, ловко срежиссировав это па так, чтобы самому оказаться рядом на коленях. Он вытащил из кармана носовой платок и, держа его под носом, чтобы унять кровь, принялся жарко увещевать молодого человека, который сидел, закрыв руками лицо. Говоря, посол то и дело искоса поглядывал на Элизу. – Молодой Аркашон играл на понижение акций Ост-Индской компании? – спросила та Слёйса. – Отнюдь, мадемуазель… – Ах, забыла. Он не из тех, кто балуется спекуляциями. Но зачем ещё сыну французского герцога приезжать в Амстердам? У Слёйса стало такое лицо, будто он поперхнулся костью. – Не важно, – беспечно проговорила Элиза. – Уверена, что это ужасно сложно – я ничего не смыслю в таких делах. Слёйс успокоился. – Я только пытаюсь понять, из-за чего он хотел покончить с собой – если таково было его намерение. – Этьенн д'Аркашон – самый учтивый человек во Франции, – выразительно проговорил Слёйс. – Надо же! – Тс-с! – Слёйс украдкой затряс мясистыми лапищами. – Господин Слёйс! Не хотите же вы сказать, что этот спектакль как-то связан с моим появлением в вашей ложе? Слёйс наконец поднялся на ноги. Он был слегка пьян и весьма тучен, поэтому, наклоняясь, крепко держался за перила ложи. – Вы всех выручите, если скажете мне, что расцените самоубийство Этьенна Аркашона как личный афронт. – Господин Слёйс! Если он покончит с собой на моих глазах, то испортит мне весь вечер. – Спасибо, мадемуазель. Я ваш неоплатный должник. – Ах, вы сами не понимаете, что говорите, господин Слёйс. До конца вечера в тёмных уголках шептались, передавали записки, перемигивались или обменивались еле заметными жестами, что было и к лучшему, поскольку опера оказалась невыносимо скучной. Д'Аво каким-то образом сумел подсесть в карету к Монмуту и Элизе. Покуда они тряслись, подпрыгивали и грохотали по тёмным набережным и разводным мостам, он объяснил: – Ложа принадлежит Слёйсу. Следовательно, он и должен был представить вас Этьенну д'Аркашону. Однако где уж голландцу, тем более пьяному и занятому другими заботами, выполнить хозяйский долг. Ни разу в жизни я не прочищал горло столько раз подряд – всё тщетно. Мсье д'Аркашон попал в невозможную ситуацию. – И попытался покончить с собой? – Это был единственный достойный выход, – просто отвечал д'Аво. – Он самый учтивый человек во Франции, – добавил Монмут. – Вы всех спасли, – заметил д'Аво. – Полноте… мне подсказал господин Слёйс. При упоминании Слёйса посол брезгливо скривил лицо. – Он кругом виноват. Как можно было испортить такой вечер! Аарон де ла Вега, который сегодня определённо не ехал в гости, относился к гроссбухам и акциям Ост-Индской компании, как учёный – к инкунабулам и пергаментам. Соответственно, Элиза застала его трезвым и серьёзным донельзя. Однако и он был не прочь кое над чем посмеяться, в частности, над домами господина Слёйса, а точнее, над их всевозрастающим числом. По мере того как первый дом тянул соседние вниз, превращал в параллелограммы, выдавливал оконные рамы и заклинивал двери, Слёйс вынужден был их приобретать. Сейчас он владел пятью домами в ряд и мог себе это позволить, поскольку управлял капиталами половины обитателей Версаля. Средний дом, тот, в котором господин Слёйс прятал бремя свинца и вины, был сейчас по меньшей мере на фут ниже, чем в 1672-м, и Аарон де ла Вега на своем родном языке шутливо назвал его «embarazado», то есть беременным. Когда герцог Монмутский помогал Элизе выйти из кареты перед этим самым домом, та подумала, что эпитет подобран исключительно метко. Сейчас, когда господин Слёйс жёг тысячи свечей и свет их лился через подозрительно перекошенные оконные рамы, невольно напрашивалось сравнение с женщиной на восьмом месяце, которая пытается скрыть свой секрет при помощи портновских ухищрений. Дамы и господа в одежде парижского покроя входили в беременный дом почти непрерывной чередой. Господин Слёйс, запоздало вошедший в роль радушного хозяина, каждые несколько секунд утирал взопревший лоб, словно боялся, что дополнительный вес стольких гостей, словно удар кувалдой, окончательно загонит здание в мокрый суглинок. Элиза вошла внутрь, вытерпела, что господин Слёйс приложился к её руке, и огляделась, весело игнорируя ядовитые взгляды благочестивых голландских матрон и разряженных француженок. Она ясно увидела, что господин Слёйс прибег к помощи горных инженеров. Потолочные балки, хоть и спрятанные под гирляндами и фестонами барочной лепнины, были невероятно толсты, а поддерживающие их столбы, пусть рифлёные и с капителями на римский манер, – обхватом с грот-мачту. И всё же в очертаниях потолка мерещилась беременная округлость… – Не говорите, что хотите купить свинец, – скажите, что желали бы облегчить его бремя… а ещё лучше, что хотели бы насильственно переложить его на плечи турок… или что-нибудь в таком роде, – рассеянно шепнула Элиза на ухо Монмуту, когда они заканчивали танцевать первую гальярду. Герцог повернулся с некоторой досадой, но все-таки зашагал к Слёйсу. Элиза на миг пожалела, что принизила его умственные способности или, во всяком случае, воспитание. Однако ей было не до чувств Монмута из-за внезапно накатившей тревоги. Дом, со всей своей лепниной и свечами, напомнил ей гарцские рудники доктора: дыру в земле, которой не дают рухнуть лишь постоянные ухищрения и подпорки. Вес свинца передавался доскам пола, от них – балкам, от балок – поперечинам, от поперечин – столбам, а от столбов – бревенчатым сваям, держащимся за счёт сцепления с суглинком, в который они вбиты. Итог бухгалтерии таков: если сцепление достаточно прочно, то, что над ним, – здание; если нет – медленный оползень. – Удивительно, мадемуазель: студёные ветра Гааги лишь добавляли вам румянца, а здесь, в тёплом помещении, вы вся в мурашках и обнимаете себя за плечи… – Зябкие мысли, мсье д'Аво. – Немудрено – ваш кавалер отбывает в Венгрию. Вам нужны новые друзья – быть может, из тех, кто живёт в более теплом климате? Нет. Безумие. Я принадлежу Амстердаму. Это признал даже Джек, который меня любит. Из угла, полускрытого коловращением людей и табачного дыма, донёсся громогласный хохот господина Слёйса. Элиза взглянула туда и увидела, как Монмут обхаживает хозяина – возможно, произносит те самые слова, которые подсказала она. Слёйс слушал, шалый от радости, что сбудет с рук ненавистное бремя, и страха, что сделка почему-нибудь сорвётся. Тем временем рынок бурлил: Аарон де ла Вега играл на понижение. В итоге Монмут вторгнется в Англию. Сегодня всё стронулось. Не время застывать на месте. У одного из танцующих на шляпе было страусовое перо, и Элизе вспомнился Джек. Когда они ехали через Германию, при ней были только её перья, его сабля и их общая смекалка, и все-таки она чувствовала себя куда безопаснее, чем теперь. Что надо, чтобы вновь почувствовать себя в безопасности? – Хорошо иметь друзей в тёплых краях, – рассеянно отвечала она, – однако я там никому не нужна. Вам прекрасно известно, что я не знатного и даже не благородного происхождения. Для голландцев я чересчур диковинна, для французов – слишком заурядна. – Королевская фаворитка родилась в тюрьме, а теперь она маркиза, – напомнил д'Аво. – Как видите, важны только ум и красота. – Увы, ум подводит, а красота вянет. Я не хочу жить в доме на сваях, который с каждым днём немного погружается в болото, – сказала Элиза. – Мне надо за что-то зацепиться. Найти незыблемое основание. – И где же на земле сыщется подобное чудо? – Деньги, – отвечала Элиза. – Здесь я могу сделать деньги. – Деньги, о которых вы говорите, не более чем химера, порождённая воображением нескольких тысяч евреев и голодранцев, орущих друг на друга посреди площади Дам. – И все же мало-помалу я смогу обратить их в золото. – Неужели это все, к чему вы стремитесь? Не забывайте, мадемуазель, золото имеет цену лишь постольку, поскольку некоторые люди говорят, что оно ею обладает. Позвольте рассказать вам кое-что из современной истории: мой король отправился в место под названия Оранж… слышали про такое? – Княжество на юге Франции, неподалёку от Авиньона, – земли Вильгельма, насколько я понимаю. – Мой король отправился в Оранж – вотчину принца Вильгельма – три года назад. Каким бы воителем ни воображал себя Вильгельм, король вошёл в его земли без боя. Он поднялся на городскую стену, отколупнул крошечный кусок отвалившейся кладки – не больше вашего мизинца, мадемуазель, – и бросил на землю. Потом ушёл. Через несколько дней полки короля сровняли стены и укрепления Оранжа с землёй, и Франция проглотила княжество так же легко, как господин Слёйс – дольку спелого апельсина. – Зачем вы рассказали это историю, если не из желания объяснить, откуда в Амстердаме столько беженцев из Оранжа и за что Вильгельм так ненавидит вашего короля? – Завтра король может взять кусок гауды и бросить его псам. – Вы хотите сказать, Амстердам падёт, а мое золото станет добычей пьяной солдатни? – Ваше золото – и вы, мадемуазель. – Я понимаю это куда лучше, нежели вы думаете, мсье, но не понимаю другого: зачем вы притворяетесь, будто вам интересна моя судьба. В Гааге вы увидели во мне смазливую девчонку, которая умеет кататься на коньках и потому способна привлечь внимание Монмута, причинить Марии боль и внести раздор в семейство Вильгельма. Тогда всё вышло по-вашему. Однако чем я могу быть полезна вам теперь? – Живите интересной и прекрасной жизнью… и время от времени беседуйте со мной. Элиза рассмеялась – громко, от души, вызвав неодобрительные взгляды женщин, которые никогда не смеялись так или не смеялись вообще. – Вы хотите, чтобы я стала вашей шпионкой? – Нет, мадемуазель. Я хочу, чтобы вы были моим другом, – просто и почти грустно проговорил д'Аво. Элиза растерялась. В этот миг д'Аво ловко развернулся на каблуках и схватил её под локоть. Элизе ничего не оставалось, кроме как пойти с ним, и постепенно стало ясно, что они направляются к Этьенну д'Аркашону. А тем временем в самом дымном и тёмном углу комнаты все смеялся и смеялся господин Слёйс. Париж весна 1685 С тобой, как вижу, уже что-то приключилось. На твоей одежде грязь топи Уныния. Но топь – только начало скорбей, которые ожидают идущих этим путём. Послушайся меня, ведь я намного старше тебя. Джек сидел по шею в навозе от белых, красноглазых коней герцога д'Аркашона, стараясь не корчиться от того, что целые легионы жирных личинок объедают мёртвую кожу и мясо по краям раны. Рана чесалась, но не болела, только пульсировала. Джек не знал, сколько дней здесь пробыл; слушая колокола и глядя, как пятна солнечного света пробираются по конюшне, он догадывался, что сейчас около пяти часов дня. Послышались приближающиеся шаги, затем скрежет ключа в замке. Если бы его удерживал в конюшне один этот замок, Джек давно сбежал бы, однако он был прикован за ошейник к колонне белого камня, и цепь длиной в несколько ярдов позволяла ему самое большее зарыться в тёплый навоз. Засов отворился, и в клин света вступил Джон Черчилль. По сравнению с Джеком он был не то что не в дерьме – как раз наоборот! На нём был украшенный самоцветами тюрбан из блестящей парчи, что-то вроде халата, тоже очень богатое, и старые стоптанные сапоги; кроме того, он был вооружён до зубов – ятаганом, пистолетами и гранатами. Черчилль с порога произнёс: – Заткнись, Джек, я иду на бал-маскарад. – Где Турок? – Я поставил его в стойло. – Черчилль указал глазами на соседнюю конюшню. У герцога было много конюшен; эта, самая маленькая и неказистая, служила только для перековки лошадей. – Значит, бал, на который вы собрались, будет здесь. – Да, в особняке д'Аркашона. – И кем вы будете? Турком? Или берберийским корсаром? – Я похож на турка? – с надеждой спросил Черчилль. – Насколько я понимаю, ты лично их видел. – Нет. Лучше назовитесь корсаром. – По крайней мере этих я видел лично. – Ну, если бы вы не путались с любовницей короля, он бы не отправил вас в Африку. – Да, было такое дело. В смысле, он отправил меня в Африку, но я вернулся. – И теперь он в могиле, а у вас с Аркашоном будет тема для разговора. – О чём ты? – мрачно спросил Черчилль. – Вы оба хорошо знаете берберийских корсаров. Черчилль опешил – мелкое удовольствие и незначительная победа для Джека. – Ты хорошо осведомлен. Хотел бы я знать, всему свету известно, что герцог Аркашон имеет дело с Берберией, или это ты такой особенный? – А что, похоже? – Говорят, что Эммердёр – король бродяг. – Тогда почему герцог не поселил меня в лучших своих покоях? – Потому что я немало постарался, чтобы твоя личность осталась неизвестной. – А я-то гадал, почему до сих пор жив. – Если бы они узнали, кто ты, тебя бы несколько дней кряду рвали железными клещами на площади Дофина. – Отличное место – вид оттуда красивый. – Это всё, что ты хочешь сказать в благодарность? Молчание. По всему особняку со скрипом открывались двери, словно мобилизуясь для бала. Джек слышал, как бочонки катят через двор, и (поскольку к дерьму уже принюхался) ловил аромат жаркого на вертелах и пирожных, вынимаемых из печей. – Мог бы по крайней мере ответить на мой вопрос, – сказал Черчилль. – Все ли знают, что герцог тесно связан с Берберией? – Здесь не помешала бы встречная любезность. – Я не могу тебя выпустить. – Я вообще-то думал о трубочке. – Забавно; я тоже. – Черчилль подошёл к двери конюшни и, знаком подозвав мальчика, потребовал des pipes en teire, du tabac blonde и du feu[46]. – Так король Луй тоже будет на маскараде у герцога? – По слухам, он готовит костюм в Версале, в большой тайне. Говорят, что-то невероятно дерзкое. Все французские дамы трепещут. – Разве это не постоянное их состояние? – Мне знать не положено. Я женился на строгой, некоторые бы даже сказали суровой английской девушке по имени Сара. – И кем же нарядится она? Монахиней? – О, она в Лондоне. Я тут с дипломатической миссией. Тайной. – Вы стоите передо мной в таком наряде и уверяете, будто миссия тайная? Черчилль расхохотался. – Вы меня за недоумка держите? – продолжал Джек. Боль в ноге раздражала непомерно, а от того, что он часто дёргал головой, отгоняя мух, ошейник до крови натёр кожу. – Ты до сих пор жив только из-за своего теперешнего недоумия, Джек. Известно, что Эммердёр умен, как лис. Из-за невероятной глупости твоих поступков никто пока не додумался, что ты – это он. – И как во Франции наказывают недоумков, отчебучивших ужасную глупость? – Ну, вообще-то тебя собирались прикончить. Однако мне, кажется, удалось их убедить, что, поскольку ты не просто сельский дурачок, а английский сельский дурачок, вся история на самом деле комична. – Комична? Не нахожу. – Герцог Бурбонский задал званый обед. Пригласил известного литератора. Обиделся на него. Когда тот отвернулся, герцог в шутку высыпал ему в вино содержимое своей табакерки. Литератор выпил и умер – обхохочешься. – Какой дурак станет пить вино с табаком? – Речь не об этом, речь о том, что французская знать находит смешным, – и как я спас твою жизнь. Не отвлекайся! – Давайте отбросим вопрос «как» и спросим «зачем»; зачем вы спасли мне жизнь, ваше благородие? – Когда человека рвут на части клещами, неизвестно, что он сболтнёт. – А-а. – Когда мы последний раз виделись, ты был обычный бродяга. Если бы выяснилось, что мы – старые знакомые, ничего особенного не случилось бы. Теперь ты – легендарный побродяга, герой авантюрных романов, о котором говорят в салонах. Если станет известно о наших давних связях, мне это будет весьма некстати. – Что же вы не дали тому малому меня заколоть? – Наверное, надо было, – скорбно произнёс Черчилль. – Я не сообразил. Очень странно. Если бы я придержал руку и дал событиям развиваться своим чередом, тебя бы уже не было. Однако что-то меня дёрнуло… – Бес противоречия? – Твой старый приятель? Да, видать, он спрыгнул с твоего плеча на моё. Как последний недоумок, я спас тебе жизнь. – Ну, вы показали себя в высшей степени благородным и доблестным недоумком. Убьёте меня сейчас? – Непосредственно – нет. Ты теперь каторжник. Твоя партия выходит из Марселя завтра утром. Дорожка неблизкая. – Знаю. Черчилль сел на скамейку, стащил один сапог, затем второй, вынул из-за голенищ мягкие турецкие туфли и натянул на ноги. Потом бросил сапоги Джеку; они плюхнулись в навоз, на время разогнав мух. Тут как раз подошёл мальчик с двумя набитыми трубками и свечой. Через некоторое время мужчины уже довольно пускали дым. – Я знаю о берберийских связях герцога от беглой рабыни, которая считает эту информацию частью глубоко охраняемой личной тайны, – сказал наконец Джек. – Спасибо, – произнес Черчилль. – Кстати, как нога? – Кто-то пырнул её шпагой, а в остальном замечательно. – Тебе надо на что-то опираться… – Черчилль вышел наружу и через мгновение вернулся с Джековым костылём. Некоторое время он держал костыль на руках, взвешивая. – Что-то немного тяжеловат с этого края – иноземный, что ли? – Да. – Турецкий? – Хватит со мной шутки шутить, Черчилль. Черчилль развернул костыль и, как копьё, метнул в навозную кучу. – Куда бы ты ни собрался, вали поскорей и не задерживайся во Франции. В двух днях пути отсюда по Марсельской дороге начинаются владения графа де Жуани. – Это ещё кто? – Тип, которого ты сбил с лошади. Несмотря на мои прежние утешительные заверения, он не находит тебя комичным, и если ты войдёшь на его земли… – Клещи. – Именно. Так вот для страховки. Я отправил хорошего знакомого на постоялый двор к северу от Жуани. Он должен смотреть на Марсельскую дорогу и, если увидит, что тебя по ней гонят, проследить, чтобы дальше этой гостиницы ты живым не ушёл. – Как он меня узнает? – К этому времени ты будешь раздет догола, и твой самый главный признак – отлично виден. – Вижу, вы всерьёз опасаетесь, что я доставлю вам неприятности. – Я, как уже сказал, здесь с дипломатической миссией. Очень важной. – Решаете, как разделить Англию между Луем и Папой Римским? Черчилль некоторое время попыхивал трубкой, красиво, но не очень убедительно разыгрывая спокойствие, потом произнёс: – Я знал, что рано или поздно мы до этого дойдём: ты скажешь, что я предал родину и веру. Поэтому я был готов и не отсеку тебе башку прямо на месте. Джек рассмеялся. Нога сильно болела, да и свербела тоже. – Хоть и не по собственному выбору, я много лет состоял при его величестве, – начал Черчилль. Джек сперва оторопел, потом вспомнил, что «его величество» сейчас означает не Карла II, а Якова II, прежде герцога Йоркского. – Наверное, я мог бы тебе поведать, каково быть протестантом и патриотом в кабале у франколюбивого короля-католика, но жизнь коротка, и я намерен как можно меньшую часть её провести в тёмных конюшнях, оправдываясь перед выпачканными в дерьме вагабондами. Довольно сказать, что для Англии будет лучше, если я выполню эту миссию. – Предположим, я сбегу до Жуани… что помешает мне рассказывать всем и каждому о давних связях между Шафто и Черчиллями? – Никто из важных людей тебе не поверит, Джек, если ты не скажешь это под пыткой… только если тебя растянут на дыбе у какого-нибудь важного господина, ты станешь опасен. И потом, не забывай про наследство Шафто. – Черчилль вытащил кошель и позвенел монетами. – Я обратил внимание, что вы забрали моего коня, а денег не заплатили. Фи, какой моветон. – Деньги за него здесь – и, кстати, очень приличная сумма, – сказал Черчилль и спрятал кошель в карман. – Эй, куда! – Нагому каторжнику кошель не к лицу, а французские монеты такие большие, что даже в твою задницу не влезут. Когда я вернусь в Англию, то прослежу, чтобы эти деньги пошли на благо твоим сыновьям. – Пошли им на благо или пошли им? Меня смущает некоторая двусмысленность обещания. Черчилль снова расхохотался, на этот раз так задорно, что Джеку и вправду захотелось его убить. Он встал, взял у Джека докуренную трубку и, поскольку не хотел стать виновником пожара в герцогской конюшне, подошёл к небольшому кузнечному горну для подков и выбил обе трубки туда. – Попытайся сосредоточиться. Ты – каторжник, прикованный к столбу в парижской конюшне. Думай об этом. Бон вояж, Джек. Черчилль вышел. Джек посоветовал бы ему не спать с француженками – кстати, про турецкую выдумку с бараньей кишкой тоже не мешало бы рассказать, – но не успел. Да и кто он такой, чтобы учить Джона Черчилля, как спать с женщинами? Заполучив сапоги и саблю, Джек задумался, как снять треклятую цепь. На нём был традиционный арестантский ошейник – два железных полукольца, соединённых чем-то вроде дверной петли. С другой стороны у них были две проушины; когда ошейник застегивался, они входили одна в другую. Если продеть в торчащую проушину цепь, его было уже не открыть. Это позволяло одной цепью закрепить сразу много ошейников, а следовательно, и арестантов, не прибегая к дорогим и ненадёжным замкам. Такая практика снижала расходы на скобяные товары и была настолько удобна, что в каждом французском шато и немецком шлоссе всегда висели под рукой несколько ошейников на случай, если кого-нибудь понадобится посадить на цепь. Цепь, на которую посадили Джека, заканчивалась большим кольцом. Её обмотали вокруг колонны, продели в кольцо, затем – в Джеков ошейник, после чего один из герцогских кузнецов раскалил цепь в горне и приклепал к ней старую подкову, чтобы нельзя было вытащить обратно. Типично французская расточительность!.. Впрочем, у герцога было без счёта челядинцев, и труд кузнеца нисколько ему не стоил. Табачный пепел из трубок в почерневшей сердцевине горна ещё немного тлел. Джек вылез из навозной кучки, проковылял к печи и раздул огонёк. Как правило, здесь кишмя кишели грумы и конюхи, однако сейчас все они были заняты: разводили коней, на которых приехали гости, по лучшим герцогским конюшням. Единственное, что могло выдать огонь, это лёгкий дым из трубы – зрелище для холодного мартовского вечера в Париже вполне обычное. Впрочем, Джек забежал вперёд. До огня ещё очень далеко. Он огляделся в поисках чего-нибудь вроде трута. Идеально подошла бы солома, но конюхи постарались убрать столь горючий материал подальше от горна – вся она лежала у дальней стены, куда Джека не пускала цепь. Он лёг на брюхо и попытался подгрести её костылём, но ему всё равно не хватило почти ярда. Он вернулся к печи и вновь раздул золу. Видно было, что надолго её не хватит. Взгляд Джека упал на костыль, обмотанный самым дешевым, разлохматившимся шпагатом. Идеальный трут. Однако предстояло сжечь его почти весь, а больше связать костыль было нечем, значит, не оставалось и способов спрятать саблю. Получалось, что, если он не убежит сегодня, ему конец. В таком случае разумнее было дождаться утра, когда его раскуют. Однако его расковали бы лишь для того, чтобы продеть в ошейник новую цепь – общую, а Джек решительно не намеревался оказываться в колонне каторжников – вероятнее всего, дряхлых гугенотов. Бежать надо сейчас. Итак, он размотал костыль, распушил конец бечёвки, поднёс к последнему тлеющему огоньку и подул. Искорка было погасла, затем одна ниточка отогнулась, съежилась, окуталась тоненькой струйкой дыма и превратилась в пульсирующий огонёк: крохотный, он был для Джека больше целых горящих деревьев в Гарце. Через некоторое время в горне уже плясали жёлтые языки. Одной рукой подкладывая в них шпагат, Джек другой попытался вслепую нашарить растопку, которая должна была лежать где-то рядом. Отыскалась лишь пара сучков; пришлось вытащить саблю и настругать щепок от костыля. Их надолго не хватило; тогда в ход пошли щепки от столбов, потом – скамейки и табуреты. Вскоре пламя разгорелось настолько, чтобы поджечь уголь. Джек одной рукой подбрасывал его в горн, другой качал мехи. Сперва уголь черным камнем лежал в огне, затем по конюшне распространился его резкий сернистый запах, пламя сделалось белым, уничтожило последние остатки дерева и стало метеором в кольце цепи, которую Джек уложил в горн. Жар сперва высушил навоз на Джеке, потом вогнал его в пот, так что корочки засохшего дерьма начали отшелушиваться от кожи. Дверь приоткрылась. – Ou est marechal-ferrant?[47] – спросил кто-то. Дверь открылась шире – так, что могла бы войти лошадь, которая и вошла. Лошадь вёл шотландец в высоком парике – а может, и не шотландец. На нём было что-то вроде килта, но из красного шёлка, на плече болталось нечто несуразное: целая свиная шкура, набитая соломой, чтобы казаться надутой, и утыканная рожками, флейтами, дудками – пародия на волынку. Лицо было размалёвано синей краской, поверх парика сидел шотландский берет диаметром фута в два, а за пояс вместо положенной дворянину шпаги была заткнута кувалда. Рядом позвякивали фляжки с виски. Лошадь выступала красиво, но прихрамывала на одну ногу – она потеряла подкову. – Marechal-ferrant? – щурясь, повторил пришелец. Джек сообразил, что он, Джек, виден лишь силуэтом на фоне яркого пламени, и ошейник незаметен. Он поднёс ладонь к уху – кузнецы славятся своей глухотой. «Шотландец» счёл это положительным ответом, подвёл лошадь к горну, бормоча что-то про «fer a cheval», а потом даже вытащил карманные часы, чтобы посмотреть время. Джек рассвирепел. Он знал, что «фер» означает железо, а «фер-а-шваль» – «подкова», однако только сейчас до него дошло, что английское слово «farrier» – коваль – происходит от этого самого «фер», хотя подкова и зовётся совсем иначе. Он смотрел исторические пьесы, а странствуя по Франции, прислушивался к речи, поэтому смутно представлял, что когда-то французы завоевали Англию и засорили английский всякими там словечками, которые простые люди теперь употребляют постоянно, не зная, что говорят на языке захватчиков, меж тем как у чёртовых французов язык чистый и аккуратный, и название человека, который куёт лошадей, в нём точно соответствует слову «подкова». Просто зла не хватает!.. А теперь, когда Яков стал королём, – открывай ворота! – Quelle heure est-il?[48] – спросил наконец Джек. «Шотландец», не задумываясь, зачем кузнецу время, снова полез в карман, вытащил часы, откинул крышку и посмотрел на стрелки, для чего ему пришлось повернуться лицом к огню. Джек того и ждал. Как раз когда шотландец произносил «что-то», включающее «sept»[49], Джек выхватил цепь из огня и набросил ему на шею. Короче, в Париже-городке пробил час душенья. Неудачным образом на горло «шотландца» пришёлся раскалённый отрезок цепи, который Джек не мог ухватить, пока не разыщет клещи. Правда, какого-то результата он всё-таки достиг: «шотландец» не мог больше издать ни звука. Чего нельзя было сказать о лошади: она ржала, пятилась и явно намеревалась встать на дыбы. Впрочем, Джеку пока было не до неё. Он нашёл наконец клещи и прикончил «шотландца», наполнив конюшню шкворчанием и запахом жаркого, потом оторвал горячую цепь с кусками пришпаренного мяса – которое наверняка в некоторых частях Франции могло бы считаться деликатесом – и бросил её назад в огонь. Разделавшись с этим, он нехотя взглянул на лошадь. Джек боялся, что она выбежит в открытую дверь и поднимет на ноги конюхов. Однако, как ни странно, дверь в это самое мгновение закрывал и запирал на щеколду тощий парнишка в не слишком хорошей одежде. Он, очевидно, поймал лошадь под уздцы, привязал к столбу и даже сообразил набросить ей на голову мешок, чтобы уберечь от лишних неприятных впечатлений, которых здесь было в избытке. Затем цыганёнок – ибо это явно был цыганёнок – повернулся к Джеку и отвесил церемонный поклон. Он был бос – вероятно, добрался сюда по крышам. – Ты, наверное, Джек Куцый Хер, – сказал он без тени улыбки на жаргоне. – А ты кто? – Не важно. Меня Сен-Жорж послал. – Парнишка подошёл, старательно переступая через раскалённые уголья (Джек просыпал их, сдёргивая цепь с горна), и начал раздувать мехи. – И что Сен-Жорж тебе велел? – спросил Джек, подбрасывая ещё угля. – Узнать, какая помощь тебе будет нужна во время потехи. – Что за потеха? – Он не сказал мне всё. – А какое Сен-Жоржу до меня дело? – Сен-Жорж на тебя зол. Говорит, ты поступил некрасиво. – Что ты ему скажешь? – Скажу, – тут цыганёнок впервые улыбнулся, – что Эммердёр не нуждается в его помощи. – Верно. – Джек взялся за мехи, парнишка развернулся, пробежал через конюшню и выскользнул через отверстие в крыше, о существовании которого Джек прежде не подозревал. Покуда цепь грелась, Джек коротал время, обыскивая одежды жертвы и гадая, сколько там будет золотых монет. Через пару минут (по часам, которые валялись открытыми на полу) он вытащил из огня светящуюся цепь, положил её, пока не остыла, на наковальню и ударил тяжёлым молотом с острым, как зубило, бойком. Теперь он был свободен, хотя не мог, не обжегшись, вытащить из ошейника горячую цепь. Джек сунул её в поилку с водой. Тут выяснилось, что последнее звено расплющилось и не лезет в ошейник. Не хотелось затевать всю волынку по-новой. Ну и хрен с ним. Снаружи темно, будет виден лишь тёмный силуэт; надо только, чтобы силуэт этот выглядел респектабельно и не вызывал у людей желания с ходу разрядить в него пистолет. Поэтому Джек снял с «шотландца» парик (изрядно попорченный и обгорелый, но всё равно парик), дурацкий берет, правда, брать не стал. Он натянул сапоги – дар Джона Черчилля – и забрал у «шотландца» длинный плащ. А заодно перчатки – по старой привычке прятать клеймо на руке. Наконец Джек снял с лошади роскошное седло и вышел во двор. Зрелище якобы знатного господина с седлом на плече могло показаться необычным, кроме того, Джек приволакивал ногу, сжимал в руке ятаган и громко бормотал на простонародном английском, что тоже не вполне вязалось с образом французского аристократа. Однако, как он и надеялся, почти все конюхи были заняты в главном дворе – как раз начался главный наплыв гостей. Джек ввалился в соседнюю конюшню, тускло освещенную парой фонарей, и оказался лицом к лицу с грумом. Джек в общем-то видел, как люди столбенеют, но чтобы так – впервые. – Турок! – крикнул Джек. Чуть дальше в ряду стойл послышалось ржание. Джек шагнул ближе к груму и сбросил с плеча седло. Малый рефлекторно его поймал и вроде бы успокоился, получив конкретную работу. Джек, указывая саблей, направил его в сторону Турка. Малый наконец понял, что его просят посодействовать в краже лошади, и окончательно впал в ступор. Пришлось несколько раз ткнуть его саблей, чтобы всё-таки надел на Турка седло. После этого Джек ударил недоумка эфесом в подбородок, но так и не смог вырубить. Пришлось тащить его поближе к выходу, укладывать на пол и чуть ли не в картинках объяснять, как тому изобразить, что его оглушил ударом негодяй-англичанин. Потом снова к Турку, который вроде даже обрадовался. Покуда Джек затягивал подпругу, мускулы у коня напряглись, словно струна, готовая запеть. Джек проверил подковы и отметил, что Джон Черчилль сводил Турка к опытному марешаль-феррану. «Мы оба с обновкой», – сказал он, хлопая по сапогам, чтобы конь ими полюбовался. Потом вставил один из этих сапог в стремя, перебросил ногу через седло и, ещё не усевшись как следует, помчался через герцогский двор. Турок стремился на свободу не меньше него. Джек рассчитывал отыскать заднюю калитку, но Турок рванул прямиком к воротам, через которые въехал на нём Черчилль, – в главный двор особняка д'Аркашона. Джек почувствовал вокруг множество людей, но увидеть их толком не мог, потому что ослеп от ярких огней: исполинских канделябров, подобных кострам на пиках, фонарей, развешанных на цветных верёвках, тысяч ламп и свечей в двадцатифутовых окнах, составляющих фасад огромного особняка прямо перед ним. Сотни спермацетовых китов отдали жизнь ради этой иллюминации. Что до свечей, даже сквозь запахи готовки, изысканных духов, дровяного дыма и лошадиного навоза Джек различал медвяную сладость мавританского воска. Всё это благоуханное сияние влажно блестело на огромном фонтане посреди двора: всевозможные нептуны, наяды, дельфины и морские чудища, сплетаясь, поддерживали испещрённый королевскими лилиями фрегат. Обломки выброшенных на берег английских и голландских судов служили скамьями для французских задниц. Сила, с которой Джек натягивал поводья, и бьющий в глаза свет умерили порыв Турка к свободе, но, увы, несколько запоздало: жеребец, а следовательно, и Джек почти галопом вылетели во двор и застыли на несколько секунд, словно напрашиваясь на внимание. И внимание не замедлило последовать: пуритане, феи, персы и краснокожие, толпящиеся на газоне, повернулись в их сторону. Джек тронул коня каблуками, крепко сжимая поводья, чтобы тот не встал на дыбы. Турок двинулся по ухоженной гравийной дорожке; Джек надеялся, что она выведет их на такое место, с которого они по крайней мере увидят выход. Однако они ехали прямо на свет из окон. За окнами виднелись исполинская бальная зала, белые стены с позолоченной лепниной и беломраморные полы, на которых аристократы в маскарадных костюмах танцевали под музыку жавшегося в углу оркестра. Тут – как всякий человек, прибывший на светский раут, – Джек оглядел себя. Он рассчитывал выскользнуть под покровом тьмы, а выехал на яркий свет и был потрясён тем, как отчетливо видны измазанные навозом лохмотья и железный ошейник. В доме он приметил одного из давешних спутников герцога. Не желая, чтобы его узнали, Джек поднял воротник краденого плата и спрятал нижнюю половину лица. Гости сбились в кучки на газоне и перед домом. Все разговоры смолкли, все лица были обращены на Джека, однако никто не кричал «Караул!». Довольно долго все смотрели на него, словно на новую и очень дорогую статую, с которой только что сдернули покрывало. Некий заразительный трепет пробежал по толпе, как по рядам торговок, когда Джек скакал через центральный рынок. Послышался ритмический звук. Джек понял, что ему рукоплещут. Служанка, подобрав юбки, опрометью кинулась в дом, чтобы сообщить какую-то новость. Музыканты перестали играть, все повернулись к окнам. Люди на лужайке бросились к Джеку и, остановившись на почтительном отдалении, склонились в низких поклонах и реверансах. Двое лакеев едва не растянулись на газоне, спеша распахнуть дверь. В проеме стоял толстый господин с трезубцем, таким большим и острым, что Джек невольно втянул голову в плечи – надо думать, сам герцог д'Аркашон в наряде Нептуна. Герцог с низким поклоном протянул трезубец на вытянутых руках – предлагая его Джеку – и, не разгибаясь, попятился, жестом приглашая в дом. Внутри гости выстроились в две шеренги – Джек инстинктивно подумал, что его намерены пропустить сквозь строй, и только потом сообразил, что тут не экзекуция предстоит, а парадная встреча! Похоже, его приглашают въехать в дом на коне – вещь совершенно неслыханная. Однако Джек уже научился (или думал, будто научился) отличать реальность от снов наяву, которые в последнее время посещали его всё чаше, и, беспечно решив, что ему мерещится, решил оттянуться вволю. Соответственно, он проехал на Турке (ступавшем с большой неохотой) мимо герцога прямиком в большую залу. Теперь все склонились низко-низко, давая Джеку возможность заглянуть во множество пудреных декольте. Зазвучали фанфары. Одно декольте было особенно глубоким – Джек испугался, что упадет туда и его придётся вытаскивать на верёвке. Обладательница декольте, заметив пристальный взгляд Джека, видимо, решила, что он смотрит на жемчужное колье. Некоторое время что-то сложное происходило в голове у дамы, затем она покраснела, прижала ладони к оклеенному мушками лицу, вскрикнула и затараторила что-то вроде: «Ах, пожалуйста, только не мои драгоценности, Эммердёр…», потом расстегнула колье, сняла, снова застегнула и набросила Джеку на кончик сабли, словно деревенская девушка, играющая на ярмарке в «колечки». Сделав это, она мастерски упала в обморок точно на подставленные руки своего спутника – сатира с двухфутовым красным кожаным фаллосом. Ещё одна дама вскрикнула; Джек поднял саблю на случай, если придётся её уложить, но она лишь повторила то, что сделала предыдущая, – подбежала, приколола драгоценную брошь на полу его плаща со словами: «Pour les Invalides»[50] и отступила раньше, чем Джек успел брякнуть: «Если вы хотите пожертвовать на благотворительность, сударыня, то обратились не по адресу». Дамы как с цепи сорвались: отталкивая друг друга локтями, они бросились украшать его одежду, саблю и сбрую Турка драгоценностями. Обшей экзальтации не разделял лишь некий очень красивый берберийский корсар – весь красный, он смотрел на Джека глазами, которые, будь они клещами… Внезапно тишина распространилась по залу, словно струя холодного воздуха из распахнутой бурей двери. Все смотрели на вход. Дамы пятились от Джека, привставали на цыпочки и тянули шеи. Джек выпрямился в седле и развернул Турка – отчасти из желания посмотреть, на что все вытаращились, отчасти потому, что чувствовал – скоро надо будет уносить ноги. Второй человек въехал в бальную залу на коне. Джек поначалу принял его за бродягу, недавно бежавшего из тюрьмы, где тому, несомненно, самое место. Однако, разумеется, это был какой-то аристократ, наряженный бродягой, в костюме куда лучше, чем у Джека, – цепь на шее, сломанные оковы на руках и ногах выглядели цельнозолотыми, в руках блестел украшенный самоцветами ятаган, а из штанов демонстративно выступал хоть и усыпанный бриллиантами, но комично маленький гульфик. Позади, во дворе, толпилась свита: цыгане, наряженные согласно некоему в высшей степени романтическому представлению о цыганах, мавры в страусовых перьях, красавицы, разодетые весёлыми нищенками. Джек убрал с лица воротник. Такого долгого молчания ему ещё слышать не доводилось. Оно длилось столько, что Джек мог бы привязать Турка к канделябру и соснуть под клавесином. Или мог бы доскакать с вестями до Лиона (вероятно, это было бы самым разумным). Однако он просто сидел на коне и ждал, что будет дальше. Молчание заставило его вспомнить, что дом – огромный улей, который живёт, даже если аристократы застыли. Например, на кухне по-прежнему гремели посудой. Однако Джек обратил внимание на потолок, который (а) того стоил, (б) издавал различные звуки. Джек подумал было, что начался ливень – отчасти из-за шума воды, отчасти оттого, что потолок явно протекал сразу в нескольких местах. Он был украшен и лепниной, и росписью, так что любому лежавшему на полу представала целая картина: боги четырёх ветров по углам, раздув щёки, гнали лепные облака и врагов Франции: например, английские и голландские корабли неслись с Бореем, испанские и португальские галеоны, берберийские, мальтийские и турецкие пираты, а также всевозможные морские чудища – с Нотом. Нет надобности говорить, что центр композиции составлял объёмный лепной флот Франции: пушки торчали во все стороны, а на корме самого мощного фрегата, увенчанный лаврами, высился в окружении адмиралов король Луй, держа в одной руке астролябию, а другой наводя пушку. Сейчас для пущего правдоподобия по лепнине текла вода, словно океан рвался засвидетельствовать почтение въехавшему в зал живому королю. Из-за того-то Джек и подумал, будто внезапный дождевой шквал пробился сквозь дырявую крышу. Он взглянул на окно – никакого дождя там не было. Кроме того, Джек вспомнил, что особняк д'Аркашона – не деревенский дом, в котором потолок – просто изнанка крыши; он не раз лазил в такие особняки и знал, что потолок здесь – оштукатуренное деревянное перекрытие, над которым есть узкое пространство, где пылится всякое старьё вроде лебёдок для подъема люстр и, быть может, бочек. Вот оно – наверное, прохудилась бочка с дождевой водой, а возможно, ей помог Сен-Жорж или кто-то из его друзей, чтобы создать неразбериху и сыграть на руку Джеку. Вода сперва текла по перекрытию, теперь просочилась через штукатурку, которая уже потемнела в нескольких местах: грозовые тучи обложили французский флот, а лазурное море приобрело более реалистичный свинцово-серый оттенок. Серое и свинцовое, оно больше не было гладким: потолок вспучивался и провисал. Кое-где грязная вода уже лилась на пол. Слуги сбегали за тряпками и швабрами, но не решались официально нарушить Молчание. Турок недовольно мотнул головой, и Джек увидел, что сатир с невероятно длинным красным кожаным членом схватил его за уздечку. – А вот это очень зря, – сказал Джек по-английски (на его французском с такой публикой не стоило даже заговаривать). Он говорил шёпотом, не желая официально нарушать Молчание, и большинство присутствующих не услышали его за странным шебуршанием и визгом, исходящими от потолка. Возможно, визжали штукатурные гвозди, вырываемые из старых сухих балок весом набрякшего потолка. В любом случае хорошо, что Джек поглядел вниз, поскольку он попутно заметил, что Джон Черчилль выбирается из толпы, проверяя кремнёвый замок пистолета с явным намерением его разрядить. У Джека пистолета не было, только сабля, да и то обременённая украшениями. Он надрезал ею атласную подкладку плаща и ссыпал приобретения внутрь. Сатир отвечал на английском, какой Джеку и не снился. – Это чудовищный проступок с моей стороны – всей жизни не хватит, чтобы его загладить. Молю, поверьте, что я пытаюсь лишь сколь можно исправить нелепейшее… Однако сатира перебил король Людовик XIV Французский, который что-то сострил, не повышая голоса, но так, что слова его наполнили всю залу. Одна лишь фраза, или сентенция, говорила больше, чем трехчасовая архиерейская проповедь. Джек почти ничего не услышал, а и услышал бы – не понял, однако он разобрал слова «вагабонд» и «noblesse»[51] и понял, что прозвучало нечто в высшей степени философское. Философское не в смысле педантизма – здесь были житейский ум, ирония и подлинная искорка остроумия – веселого, но никогда – пошлого. Луй забавлялся, однако в жизни бы не опустился до того, чтобы рассмеяться в голос. Это он предоставил придворным, которые, привстав на цыпочки, жадно ловили шутку. На мгновение Джеку почудилось, что если бы Джон Черчилль, начисто лишённый чувства юмора, не надвигайся на него с заряженным пистолетом, все бы со всеми помирились, ему можно было бы остаться, выпить вина и потанцевать с дамами. Джек не мог скрыться от Черчилля, пока сатир держал Турка за узду. – Уберёшь руку, или мне её отрубить? – спросил он. – Искренне сознаю, что недостоин лучшего, – отвечал сатир. – Я столь уничижён, что сделаю это сам, лишь бы восстановить честь мою и моего отца. – Он вытащил из-за пояса кинжал и принялся пилить красную кожаную перчатку на руке, которая сжимала уздечку, – пытаясь правой рукой отрезать себе левую! Вероятно, Джеку это спасло жизнь. Зрелище, как человек пилит себе руку и алая кровь капает на мраморный пол, остановило Черчилля в двух шагах от него. Первый и последний раз в жизни Джек видел, чтобы Черчилль замялся. Из дальнего угла донеслись скрежет и хруст. Чуть раньше восточный ветер расколола зияющая трещина, и из неё стеной хлынула грязная вода. Теперь целый кусок потолка, в пару ярдов шириной, отошёл, словно доска от корабельной обшивки. Трещина добралась до французского флота – полутонны сухой лепнины. Корабли слаженным манёвром отчалили от потолка и на мгновение словно зависли в воздухе, прежде чем устремиться к полу. Все бросились врассыпную. Алебастр разлетелся по полу мокрыми творожными катышками. Однако сверху что-то продолжало сыпаться – тёмные комочки, которые, коснувшись пола, встряхивались и бросались бежать. Джек взглянул на Черчилля и увидел движение кремня, сноп искр, дымок над пистолетной полкой. Тут одна из дам налетела на Черчилля – она бежала не разбирая дороги, ибо поняла, что у неё на парике крысы, хоть и не знала, в каком количестве (Джек насчитал три, но поскольку они продолжали сыпаться с потолка, он бы не поручился). Дама ударила Черчилля под руку. Струя пламени длиной с человеческую руку вырвалась из дула и задела Турку морду, хотя пуля явно пролетела мимо. Учтивому сатиру повезло – она просвистела в нескольких дюймах от его головы. Турок на мгновение застыл. В этот миг берберийская пиратская галера, увлекаемая весом воды и крыс, шмякнулась рядом на пол. Сколько-то воды и сколько-то крыс попали Турку на шею. И тут конь взорвался. Ом встал было на дыбы, но сатир по-прежнему сжимал узду окровавленной рукой, поэтому Турок (по счастью, Джек заранее понял, что к этому идёт) взбрыкнул задними ногами. Будь сзади человек, остаться бы ему без головы; впрочем, центральная часть зала была занята по преимуществу крысами. Джек удержался в седле, понимая, что, если Турок взбрыкнёт еще раз-другой, ему не усидеть. Пора давать ходу. Черчилль как раз обходил сатира, чтобы тоже взяться за уздечку. – В жизни не видал такой говенной гулянки! – сказал Джек, раскручивая саблю, как лопасти ветряной мельницы. – Извините, сударь, но… Учтивый сатир не закончил извинений, поскольку Джек рассёк ему руку посередине между локтем и запястьем. Сабля прошла как по маслу. Отрубленная кисть сжалась в кулак и осталась висеть на уздечке, а однорукий сатир рухнул на Черчилля. Турок почувствовал свободу и взвился на дыбы. Джек глянул на Черчилля сверху вниз и крикнул: – В следующий раз, как захочешь какого-нибудь из моих коней, плати вперёд, мошенник! Турок рванул к парадному входу, но жёсткие подковы скользили и царапали по мрамору, и он не мог набрать скорость. Морское чудище рухнуло прямо перед ним и извергло из внутренностей сотни крыс. Конь метнулся к толпе дам, которые отплясывали что-то вроде тарантеллы, вдохновляемые мыслью, что крысы штурмуют их нижние юбки. Когда Джек уже думал, что боевой конь растопчет женщин копытами. Турок вроде бы приметил дверь в дальнем конце зала. Проём был низкий – Джек увидел, что на него несётся притолока, украшенная посредине лепным гербом д'Аркашонов[52], и, не дожидаясь, пока геральдический щит навеки впечатается ему в морду, откинулся назад и упал с лошади. Он успел высвободить правую ногу, однако не левую, и Турок протащил его по коридору (пол там был гладкий, но, на вкус Джека, недостаточно). Почти вверх тормашками Джек отчаянно цеплялся за пол рукой, свободной от сабли, стараясь отклониться вбок и не угодить под задние копыта. Снова и снова рука его натыкалась на крыс, которые бежали по коридору, – возможно, их влёк некий запах. Турок бежал, разумеется, быстрее крыс, руководствуясь какими-то своими соображениями. Джек знал, что они миновали несколько помещений, так как пересчитал рёбрами и боками определённое количество порогов. Перед глазами мелькали юбки и штаны слуг. Внезапно они оказались в тускло освещенной комнате одни. Турок больше не бежал, хотя по-прежнему нервничал. Джек осторожно шевельнул левой ногой. Турок вздрогнул и посмотрел на него. – Не ожидал увидеть? Я был с тобою всё это время, как верный друг, – объявил Джек. Он освободил ногу и встал. Времени продолжать беседу не оставалось. Они были в буфетной. Слышался писк приближающихся крыс и топот башмаков, а где башмаки, там и шпаги. В стене напротив располагалась запертая дверь, и Турок с интересом её обнюхивал. Если это не выход, то Джеку крышка. Он подошёл и, выразительно глядя на Турка, ударил в дверь рукояткой сабли. Дверь была прочная. Что самое удивительное, щели между досками были забиты паклей, как на корабле, а вдоль косяков подсунуты тряпки. Турок развернулся задом к двери. Джек отскочил в сторону. Боевой конь наклонил голову, перенося вес на передние копыта, а задние с силой пушечных ядер обрушил на дверь. Дверь прогнулась и сорвалась с верхней петли. Турок ударил снова, и её не стало. К этому времени Джек стоял на коленях, зажимая рот и нос испачканным в навозе рукавом, чтобы не сблевать. Вонь, хлынувшая из двери после первого удара, едва не сбила его с ног. Даже Турок попятился. Джеку едва хватило присутствия духа захлопнуть другую дверь и запереть щеколду, чтобы конь не выбежал в коридор. Джек схватил единственную свечу, освещавшую буфетную, и шагнул в дверь, ожидая увидеть склеп, наполненный гниющими трупами. Однако оказался в чистенькой кухоньке. Посередине на мясницкой плахе лежала рыбина, такая тухлая, что кожа на ней пузырилась. В дальнем конце была маленькая дверь. Джек открыл её и увидел типичный парижский закоулок. Однако перед его мысленным взором стояла совсем другая картина: несколько минут назад он с обнажённой саблей в руке проехал мимо герцога д'Аркашона. Одно движение, и человек, который (как Джек теперь знал наверняка) обратил в рабство Элизу и её мать, был бы мёртв. Джек мог вернуться в дом и довершить несделанное, однако он понимал: время упущено. Турок лбом подтолкнул Джека в дверь, торопясь выбраться на относительно свежий воздух, пахнущий помоями и человеческими испражнениями. Было слышно, как сзади ломают дверь буфетной. Турок взглянул вопросительно. Джек вскочил в седло, и конь, не дожидаясь приказа, взял с места в карьер. В городе уже подняли тревогу. Скача через Королевскую площадь – искры летят из-под новеньких подков, плащ развевается на ветру, короче, тот самый силуэт, на который Джек рассчитывал, – он обернулся, указал саблей в проулок и заорал: «Vagabonds! Vagabonds anglais!»[53] Над крышами темнели в лунном свете зубчатые стены Бастилии; рассудив, что именно туда дворянин поскакал бы за подкреплением (не говоря уже о том, что это самая короткая дорога из города), Джек развернул к ним Турка и отпустил поводья. Амстердам 1685 К делам тебя влечёт рассвет? В любви порока злее нет! Скупца, глупца и подлеца Любовь простит – но не дельца! Любовник, что к делам с восходом солнца Бежит от милой, – хуже двоежёнца. – Кто это такой громадный, высоченный, бородатый, неопрятный, неотёсанный, с острогой?.. – У Элизы закончился набор эпитетов. Она смотрела в окно кофейни «Дева» на неприкаянного Нимрода, который маячил у дверей, заслоняя солнце косматой меховой шубой. Служители кофейни, и Джека-то впустившие неохотно, решительно преградили путь свирепому дикарю с острогой. – Ах, он? – невинно переспросил Джек, как будто под описание подпадал кто-то ещё. – Евгений-раскольник. – Что значит «раскольник»? – Убей меня… знаю только, что они бегут из России со всех ног. – Ну а как ты с ним познакомился? – Понятия не имею. Просыпаюсь в «Ядре и картечи», а он сопит рядом, и борода у меня на шее, словно шарф. Элиза грациозно передёрнула плечами. – Однако «Ядро и картечь» в Дюнкерке… – И что? – Как ты попал туда из Парижа? У тебя не было приключений, бешеных скачек, поединков… – Может, и были. Не помню. – А что с раной? – Мне удалось заручиться помощью целой команды голодных червей – они не дали ей загноиться. Заросло, как на собаке. – Разве можно забыть целую неделю пути? – У меня теперь так голова работает. Как в пьесе, где зрителям показывают самые яркие моменты, а всё скучное якобы происходит за сценой. Я вылетаю с Королевской площади… занавес, антракт. Занавес поднимается: я в Дюнкерке, в лучшей комнате «Ядра и картечи», у мистера Фута, рядом Евгений, а на полу вокруг разбросаны его меха и янтарь. – Так он своего рода коммерсант? – спросила Элиза. – Не надо снобизма, девонька. – Я просто пытаюсь понять, откуда он взялся в этой пьесе. – Понятия не имею: он ни на каком языке не говорит. Я спустился и задал несколько вопросов мистеру Футу, владельцу гостиницы, человеку весьма выдающемуся, бывшему приватиру. – Ты говорил мне, говорил мне, говорил мне о мистере Футе. – Он сказал, что неделю-две назад Евгений вошёл на баркасе в бухточку, где стоит «Ядро и картечь». – То есть подошел на баркасе с какого-то корабля, стоящего на якоре в Дюнкерке? – Нет, все как я говорю: просто появился из-за горизонта. Догрёб до берега и рухнул на пороге ближайшего дома, который оказалась старушка-гостиница. В лучшие времена мистер Фут, вероятно, выбросил бы бедолагу, как дохлую рыбину, но нынче с постояльцами негусто, выбирать не приходится. Кроме того, выяснилось, что баркас доверху наполнен арктическими сокровищами. Мистер Фут перенёс их наверх, потом закатил самого Евгения в грузовую сеть и лебёдкой втащил и окно, рассчитывая, что тот, проснувшись, расскажет, где водится такое добро. – Что ж, деловая стратегия мистера Фута вполне ясна. – Вот снова ты. Если дашь мне закончить, то не станешь судить мистера Фута так строго. Ценою многочасового каторжного труда он предал земле останки… – Что?! Ты не говорил ни о каких останках. – Забыл упомянуть, что в баркасе с Евгением были товарищи, павшие жертвой стихий… – …или Евгения. – Мне тоже так подумалось. Но затем, поскольку Господь дал мне больше мозгов и меньше желчи, чем некоторым, я сообразил, что в таком случае раскольник просто выбросил бы их за борт, особенно когда они начали вонять. Мистер Фут – рассказываю это для того лишь, дабы очистить Евгения от подозрений, – сообщил, что некоторые трупы до костей обклевали чайки. – Или обгрыз голодный Евгений. – Элиза поднесла чашку к губам, чтобы скрыть торжествующую улыбку и взглянуть на русского, который прохаживался, попыхивая грубой трубкой и остря зубья гарпуна карманным оселком. – Решительно невозможно представить моего друга-раскольника в хорошем свете – хотя на самом деле у него золотое сердце, – пока ты, вся такая из себя чистенькая недотрога, смотришь на его грубую внешнюю оболочку. Так что пошли дальше, – сказал Джек. – Следом появляюсь я, весь обвешанный французскими побрякушкам, и не многим живее русского. Мистер Фут забирает к себе и меня. И наконец, некий французский дворянин предлагает купить у него «Ядро и картечь», чем доказывает, что Бог троицу любит. – Вот теперь ты меня изумляешь, – промолвила Элиза. – Как эти события связаны между собой? – Ну, как раз когда мы с Евгением без сил – но с несметными сокровищами – доползли до гостиницы, мистер Фут оказался на мели – здесь я выражаюсь фигурально… – Да, у тебя всегда при этом бывает такой самодовольный вид. – Дюнкерк стал совсем не тот после того, как король Луи купил его у короля Чака. Теперь это большая военно-морская база. Все английские и неанглийские приватиры, которые жили, пили, играли и блядовали в «Ядре и картечи», пошли на службу к мсье Жану Бару или отплыли на Ямайку, в Порт-Рояль. И всё-таки у мистера Фута оставалось кое-что ценное: сама гостиница. План начал обретать форму в его голове, подобно театральному призраку, возникающему из клубов дыма. – Мрачное предчувствие начинает обретать форму в моей груди. – В Париже у меня было видение – довольно сложное, – в котором много пели и танцевали, а жуткое и непотребное мешалось в равных долях. – Зная тебя, Джек, от твоих видений я не ожидаю ничего иного. – Не буду утомлять тебя подробностями, негодными для ушей столь благовоспитанной дамы. Довольно сказать, что под впечатлением от небесных знаков, а также прочих предзнаменований, как го: Три Сходных События в «Ядре и картечи», я решил оставить бродяжничество и вместе с Евгением и мистером Футом заняться коммерцией. Элиза поникла, как будто что-то в ней сломалось. – Почему, – сказал Джек, – когда я предлагаю взять меня за чакру, ты и бровью не ведёшь, а когда я произношу слово «коммерция», ты вся подбираешься, словно добродетельная девица, которой похотливый хозяин сделал неприличное предложение? – Пустяки. Продолжай, – отвечала Элиза бесцветным голосом. Однако у Джека сдали нервы. Он отклонился от основной темы. – Я надеялся, что Боб окажется в городе – он обычно путешествует вместе с Черчиллем. Мистер Фут сказал, что он действительно недавно заходил и спрашивал про меня. Однако, когда герцог Монмутский неожиданно для всех инкогнито прибыл в Дюнкерк, чтобы встретиться с некоторыми недовольными англичанами, а после спешно отправился в Брюссель, один из офицеров Черчилля отрядил Боба, хорошо знающего эти края, проследить за Монмутом и узнать, что он затевает. При упоминании герцога Монмутского Элиза снова поглядела Джеку в лицо, из чего тот заключил: либо она заделалась романтической сторонницей претендента (весьма сомнительного) на английский престол, либо политические интриги теперь тоже в сфере её интересов. И впрямь, когда он вошел в «Деву», Элиза правой рукой писала, а левой производила двоичные расчёты по системе доктора. Так или иначе, поскольку она смотрела на него, Джек решил нанести удар. – И тут-то я и узнал от мистера Фута об открывающейся возможности. Лицо Элизы помертвело, как когда врач говорит: «Сядьте, пожалуйста». – У мистера Фута знакомые в каботажном деле… – Контрабандисты. – Почти все грузовые перевозки так или иначе связаны с контрабандой, – важно объявил Джек. – Недавно его посетил некий господин Влийт, голландец, владеющий средних размеров судном, способным пересечь Атлантику с грузом в столько-то тонн. Мистер Фут без промедления зафрахтовал «Раны Господни», испытанный в походах двухмарсельный бриг. – Ты хоть понимаешь, что это значит? – Что он несёт и прямые, и косые паруса, а посему может как идти с попутным пассатом, так и лавировать против изменчивых прибрежных ветров. У него не слишком многочисленная, но опытная команда… – И его надо лишь отремонтировать и снабдить провиантом? – Само собой, потребуются определённые капиталовложения… – Поэтому господин Влийт отправился в Амстердам… – Господин Влийт отправился в Дюнкерк и объяснил мистеру Футу, который в свою очередь объяснил мне и, насколько возможно, Евгению основную идею предстоящего рейса, исключительно простую и совершенно беспроигрышную. Мы решили вложиться на паях. По счастью, в Дюнкерке всегда можно быстро реализовать товар. Я продал драгоценности, Евгений – меха, ворвань и янтарь, а мистер Фут – «Ядро и картечь». – Далековато господин Влийт отправился за деньгами, – заметила Элиза, – хотя под боком, в Амстердаме, процветает рынок капитала. Много позже (когда появилось время подумать) Джек понял, что Элиза говорила: господин Влийт – мошенник, и только сумасшедший захочет вложиться в его предприятие. Однако она слишком долго жила в Амстердаме и сказала это на жаргоне банкиров. – Почему бы просто не продать драгоценности и не отдать деньги сыновьям? – продолжила она. – Почему бы не вложить их в дело и не учетверить за несколько лет? – Учетверить?! – Меньшего мы не ждём. У Элизы стало такое лицо, будто ей пришлось проглотить целый грецкий орех. – Кстати о деньгах, – проговорила она, – что с конем и перьями? – Благородный скакун в Дюнкерке, дожидается Джона Черчилля, который выразил намерение его приобрести. Перья в надёжных руках моих парижских агентов, – сказал Джек и двумя руками ухватился за стол, ожидая пристрастного допроса. Однако Элиза не стала развивать тему, словно боялась узнать истину. Джек понял: она не надеялась увидеть ни его, ни деньги, она давным-давно вышла из партнерства, заключенного под императорским дворцом в Вене. Элиза не смотрела ему в глаза, не смеялась его шуткам, не краснела, когда он её поддевал… Словно холодный Амстердам заморозил её душу, высосал гумор страсти из жил. Однако Джек все же уговорил её выйти с ним на улицу. Пока Элиза вставала и хозяин кофейни подавал ей пелерину, Джек изумился, как хорошо она одета. Он чуть было не поздравил её с успехами в портняжном искусстве, потом заметил кольца на руках, дорогое ожерелье на шее и сообразил, что она с приезда в Амстердам, вероятно, не прикасалась к иголке и нитке. – Торговля воздухом или подарки от воздыхателей? – Я не для того бежала из рабства, чтобы стать шлюхой, – отвечала Элиза. – Ты можешь проснуться рядом с Евгением и шутить об этом… Евгений, не подозревая, что его имя так нелестно склоняют, следовал за ними по чисто вымытым городским улочкам, стуча острогой по мостовой. Они вошли в юго-западную часть города, где улочки были не такие чистые и где часто слышались французский и ладино – здесь жили гугеноты, сефарды и даже несколько раскольников, которые останавливали Евгения, чтобы обменяться новостями и слухами. Дома тут были покосившиеся и оседали практически на глазах, каналы – узкие и забитые мусором из-за отсутствия торгового сообщения. Они подошли по такой улочке к складу, из которого в трюм шлюпа загружали тяжелые мешки. – Вот он – наш товар, – сказал Джек. – Не хуже – а в иных частях мира даже лучше – золота. – Что это? Фундук? – спросила Элиза. – Кофе? У Джека не было особых причин от нее таиться, но Элиза впервые проявила хоть какой-то интерес к его предприятию – хотелось этот интерес растянуть. Шлюп был уже загружен. Как раз когда Элиза, Евгений и Джек подошли к складу, матросы отдали швартовы, подняли паруса, и шлюп с ветерком направился к внутренней гавани, в нескольких минутах ходьбы отсюда. Они двинулись пешком. – Есть ли у вас страховка? – спросила она. – Интересный вопрос, – сказал Джек. На это Элиза закатила глаза, а потом сразу как-то сникла, словно оседающий дом по соседству. – Мистер Фут сказал, что приключение большое, однако… – Он имел в виду, что вы одолжили господину Влийту деньги a la grosse aventure[55] как торговые плавания обычно и финансируются, – пояснила Элиза. – Те, кто берет такие займы, обычно покупают страховку – если кто-нибудь согласится их застраховать. Я могу показать тебе кофейни, где занимаются именно этим. Но… – Сколько это стоит? – Фиксированной цены нет, она зависит от множества факторов. Ты хочешь мне сказать, что у вас не осталось денег на страховку? Джек промолчал. – В таком случае ты должен немедленно забрать свою долю. – Поздно. Припасы закуплены и погружены в трюм. Хотя мы могли бы взять в долю кого-то ещё… Элиза фыркнула. – Что за муха тебя укусила? Бродяжничество очень тебе шло. А вот коммерция – явно не твоя стихия. – Жаль, что ты не сказала раньше, – проговорил Джек. – Как только я услышал от мистера Фута об этой возможности, то подумал, что таким способом сумею вырасти в твоих глазах. Тут Джек едва не свалился в канал – неосторожно сболтнув правду, он почувствовал приступ головокружения. Меж тем у Элизы лицо стало такое, будто Евгений пырнул её острогой пониже спины: она остановилась, расставила ноги, обняла себя руками, словно от колики в животе, взглянула мутным взглядом на канал и пару раз шмыгнула носом. Тут бы Джеку возликовать, но его внезапно настигла тупая обречённость. Он не рассказал Элизе ни про тухлую рыбу, ни про красноглазых коней. Не сказал, что мог убить, но по дури пощадил негодяя, который обратил её в рабство. Однако он точно знал, что когда-нибудь она это выяснит, а когда выяснит – лучше ему не быть на Европейском континенте. – Покажи мне корабль, – сказала она наконец. Они обогнули угол, и, как это часто бывает в Амстердаме, перед ними неожиданно открылся вид на усеянный кораблями Эйсселмер. На берегу Эй стояла Селедочная башня: круглая и кирпичная, она высилась над склизкой вонючей пристанью, у которой пришвартовались три судна: два транспортных, доставляющих провиант кораблям на внешнем рейде, и «Раны Господни». Бриг выглядел так, будто его разбирают на части: все люки открыты, да и остальные части палубы структурно не менее сомнительны, особенно сейчас, когда на них опускали огромные бочки с селёдкой и загадочные мешки со шлюпа. Не успел Джек заговорить о подлинных мореходных качествах шлюпа, как Элиза с непонятной ему решимостью выбежала на пристань, метя юбками то, что не каждая хотела бы принести домой. Один из мешков лопнул: содержимое высыпалось на пристань и захрустело под башмаками Элизы. Она нагнулась, вложила руку в дыру, чем-то напоминая в это мгновение Фому Неверного, вытащила пригоршню товара и, подержав его мгновение, просыпала звенящим дождём. – Каури, – произнесла она отрешенно. В первый миг Джек подумал, что Элиза остолбенела – возможно, от гениальности их плана, – однако, присмотревшись внимательнее, понял, что она сосредоточенно думает. – Они самые, – сказал Джек. – В Африке это деньги! – Ненадолго. – О чём ты? Деньги есть деньги. Господин Влийт двадцать лет на них сидел, ожидая, пока упадут пены. – Несколько недель назад, – сказала Элиза, – пришла весть, что голландцы приобрели некие острова неподалёку от Индии, Мальдивы и Лаккадивы, и что там нашли огромное количество каури. С тех пор, как новость стала известна, они не стоят практически ничего. Джеку потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от услышанного. При нём была сабля, а господин Влийт, пухлый и белобрысый, стоял на вершине камня, разбираясь в каких-то бумагах с поставщиком провианта. Джеку, естественно, представилось, как он подбегает, вставляет лезвие между двумя подбородками господина Влийта и нажимает посильней. Однако это лишь доказало бы правоту Элизы (а именно, что он не рождён ворочать делами), а Джек не хотел доставлять ей такой радости. Уж коли сам Джек не получит удовольствия, о котором мечтал последние шесть месяцев, с какой стати баловать её? Чтобы чем-то занять тело, покуда работает голова, он помог закатить по сходням несколько бочек. – Теперь слова «торговля воздухом» обрели для меня новый смысл. – Всё, что Джек смог придумать. – Это реально, – сказал, хлопая по бочке, – и это реально, – топая по палубе «Ран Господних», – и это, – поднимая пригоршню раковин, – тоже; все ничуть не менее реально, чем десять минут назад, или до того, как прибыли новости с Мальдивов и Лаккадивов… – Они прибыли по суше – куда быстрее, чем идет корабль, огибающий мыс Доброй Надежды. Не исключено, что вы попадёте в Африку раньше нагруженных раковинами судов, которые, надо думать, идут туда с Мальдивов. – Именно на это, я уверен, и рассчитывает господин Влийт. – Но, добравшись до Африки, что вы купите на каури, Джек? – Ткань. – Ткань?! – Потом поплывем на запад – говорят, что африканские ткани хорошо идут в Вест-Индии. – Африканцы не экспортируют ткани, Джек. Они их ввозят. – Ты ошибаешься. Господин Влийт говорил совершенно определённо: мы поплывём в Африку, обменяем наши каури на куски ситца – полагаю, ты знаешь, что это такая индийская ткань, – и доставим их через Атлантику… – «Кусок ситца» означает негра в возрасте от пятнадцати до сорока лет, – сказала Элиза. – Ситец, как и каури, заменяет в Африке деньги, и африканцы продают за него своих собратьев. Тишина длилась столько же, сколько на балу герцога д'Аркашона. Джек стоял на медленно движущейся палубе «Ран Господних», Элиза – на пристани. – Ты собираешься заняться работорговлей, – безжизненным голосом произнесла она. – Ну… я до сей минуты понятия не имел… – Верю. Но сейчас ты должен покинуть этот корабль и уйти прочь. Идея была великолепная, и что-то в Джеке готово было за неё ухватиться. Однако бес противоречия взял верх, и он решил ответить возмущённым отказом: – И пустить по ветру свою долю? – Лучше, чем пустить по ветру свою бессмертную душу. Ты пустил по ветру страусовые перья и коня, Джек. Знаю, что так. Почему не повторить это сейчас? – Моя доля куда ценнее. – А как насчёт другой добычи из лагеря великого визиря, Джек? – Ты о сабле? Элиза мотнула головой, не глядя ему в глаза. – Я помню эту добычу, – признал Джек. – Пустишь по ветру и её? – Верно, она куда ценнее… – И стоит больше денег, – ввернула Элиза. – Уж не предлагаешь ли ты себя продать… С Элизой случился странный приступ смеха и рыданий одновременно. – Я хочу сказать, что уже заработала больше, чем стоили перья, сабля и конь вместе взятые, и скоро заработаю ещё больше. Так что если тебя волнуют деньги, сойди с «Ран Господних», останься со мною в Амстердаме и скоро вообще забудешь про этот корабль. – Не очень-то уважаемое дело – жить за счёт женщины. – С каких пор тебя заботит чьё-то уважение? – С тех пор, как люди стали меня уважать. – Я предлагаю тебе безопасность, счастье, богатство – и моё уважение, – сказала Элиза. – Ты не будешь уважать меня долго. Дай мне сходить в одно плавание, вернуть деньги, и… – Одно плавание для тебя. Вечные страдания для негров, которых вы купите, и для их потомков. – Так или иначе я теряю мою Элизу… – Джек пожал плечами. – Я становлюсь вроде как дока по вечным страданиям. – Тебе дорога жизнь? – Эта? Не очень. – Сойди с корабля, если хочешь сохранить хоть какую-нибудь. Элиза видела то, чего не заметил Джек: погрузка «Ран Господних» закончилась. Люки опустили на место, за селёдку расплатились (серебряными монетами, не каури), матросы отдавали швартовы. На пристани остались только господин Влийт и Евгений: голландец торговался с аптекарем из-за сундучка с лекарствами, русский получал благословение от старообрядческого попа. Сцена была настолько курьёзна, что полностью захватила внимание Джека; он очнулся, только когда матросы закричали. Он повернулся к ним – из-за чего шум. Однако они все с ужасом смотрели на пристань. Джек перепугался, что на Элизу напали негодяи. Он обернулся и как раз успел увидеть, что Элиза схватила гарпун, оставленный Евгением у ящиков, и в этот самый миг бросает его в Джека. Она, разумеется, никогда не метала гарпун, но по-женски умела целить в самое сердце, и острога летела на него прямо, как Истина. Джек, припомнив давние уроки фехтовального мастерства, хотел обернуться боком, но потерял равновесие и упал на грот-мачту, выбросив левую руку, чтобы смягчить удар. Широкие зубья гарпуна пропахали его грудь и отскочили от ребра, или от чего ещё, так что остриё, пройдя в узкий промежуток между лучевой и локтевой костью, вонзилось в мачту – пригвоздило его к дереву. Джек почувствовал это раньше, чем увидел, потому что глядел на Элизу. Однако она уже шла прочь, даже не обернувшись посмотреть, попала в него или нет. Амстердам июнь 1685 Д'Аво и два высоких, необычно свирепых на вид лакея проводили Элизу до пристани за площадью Дам, на канале, ведущем к Харлему. Здесь стояло пришвартованное судно; на его борт входили по сходням пассажиры. Издали оно показалось Элизе маленьким из-за странно игрушечного вида: нос и корма круто загибались вверх, придавая судёнышку сходство с толстым мальчиком, который, лежа на животе, хочет дотянуться пятками до затылка. Приглядевшись, она увидела, что судно хоть и лёгкое, тем не менее двадцати футов длиной и при этом узкое. – Я не собираюсь утомлять вас скучными подробностями – их возьмут на себя Жак и Жан-Батист. – Они отправляются со мной?! – Дорога в Париж не лишена опасностей, – сухо отвечал д'Аво, – даже для слабых и невинных. – Тут он поглядел на ещё дымящиеся дома господина Слёйса, не более чем на выстрел по этому же самому каналу. – Очевидно, меня вы к этой категории не относите, – фыркнула Элиза. – Ваша привычка метать гарпуны в моряков должна была излечить от иллюзий даже самых отъявленных сластолюбцев. – Вы об этом слышали? – Чудо, как вас не арестовали – здесь, в городе, где даже целоваться запрещено. – Вы установили за мной слежку, мсье? – Элиза возмущённо взглянула на Жака и Жана-Батиста, которые, временно притворившись глухонемыми, возились с многочисленным багажом. Большую часть тюков Элиза видела впервые, но д'Аво явственно дал понять, что они вместе с содержимым принадлежат ей. – Вы всегда будете возбуждать интерес, мадемуазель, так что привыкайте. Тем не менее – даже если вынести за скобки склонность к метанию гарпунов – некоторые досужие сплетники в этом городе уверяют, будто вы причастны к финансовой атаке на господина Слёйса и нападению разъярённой толпы на его жилище, а также к отплытию к Англии эскадры под знамёнами герцога Монмутского. Не веря, разумеется, нелепицам, я все же тревожусь о вас… – Как заботливый дядюшка. Я тронута! – Посему этот кааг доставит вас и ваших сопровождающих… – Через Харлемермер в Лейден и оттуда в Брилле через Гаагу. – Как вы угадали? – Герб Брилле вырезан на гакаборте напротив амстердамского. – Элиза указала на кораблик. Д'Аво обернулся посмотреть, Жак и Жан-Батист – тоже. В этот самый миг послышалось сипение, словно от прохудившейся волынки, и Элизу отодвинул плечом направляющийся к сходням крестьянин. Покуда неучтивый мужлан поднимался на кааг, Элиза приметила странно знакомый горбоносый профиль, и у неё на миг перехватило дыхание. Д'Аво обернулся и пристально взглянул ей в лицо. Некое шестое чувство подсказывало Элизе, что сейчас не время поднимать шум. Она быстро продолжила: – Здесь больше парусов, чем нужно для плавания по каналам, – вероятно, чтобы пересечь Харлемермер. Кааг узкий – чтобы пройти в шлюз между Лейденом и Гаагой. Однако он не столь прочен, чтобы совладать с течениями Зеландии – никто такой не застрахует. – Верно, – кивнул д'Аво. – В Брилле вы пересядете на лучше застрахованное судно, которое доставит вас в Брюссель. – Он как-то странно взглянул на Элизу. Мужлан тем временем затерялся среди пассажиров и груза на палубе. – Из Брюсселя вы сушей отправитесь в Париж, – продолжал посол. – Летом сухопутная дорога не столь комфортабельна, но во времена вооружённых мятежей против английского короля куда более безопасна. Элиза глубоко вздохнула, пытаясь удержать перед глазами видение тысяч освобождённых рабов, однако призрачная конструкция таяла под летним амстердамским солнцем, и сквозь неё проступали жёсткие очертания чёрных домов и белых оконных рам. – Мой душка-герцог! – сказала она. – Какое безрассудство! – Этьенн д'Аркашон – который, к слову, спрашивает о вас в каждом письме – страдает тем же недостатком. В его случае безрассудство сглажено умом и воспитанием, но именно по безрассудству он потерял руку в схватке с бродягой! – Ах, мерзкие бродяги! – Уверяют, что он быстро идёт на поправку. – Как доберусь до Парижа, сразу сообщу вам новости о нём. – Сообщайте мне всё, особенно то, что не представляется новостями, – потребовал д'Аво. – Если научитесь читать версальскую жизнь, как гакаборты и страховые полисы голландских судов, обернуться не успеете, как станете вертеть Францией. Элиза расцеловала д'Аво в обе щеки, тот расцеловал её. Жак и Жан-Батист провели Элизу по сходням и, едва кааг двинулся по каналу, принялись раскладывать вещи в маленькой каюте, которую ей нанял посол. Элиза меж тем стояла у поручня в обществе других пассажиров и любовалась амстердамскими набережными. В этом городе вечно некогда замедлить шаг, остановиться, потому так странно и приятно рассматривать его вблизи и в то же время не набегу – словно низко летящий ангел, наблюдающий за людской суетой. Кроме того, ускользнуть из Амстердама после недавних событий казалось почти чудом. Д'Аво не зря дивился, как её не арестовали после истории с гарпуном. От Селёдочной башни Элиза шла не разбирая дороги, слёзы ярости застилали глаза. Однако вскоре ярость сменилась страхом, когда она поняла, что за ней следят, не особо скрываясь, две группы людей. Оглядываться было бы ещё хуже, поэтому она скорым шагом прошла через площадь Дам на Биржу – самое подходящее место если не отделаться от преследователей, то по крайней мере напомнить им, что есть занятия повыгоднее слежки. Наконец Элиза вошла в «Деву», где и просидела у окна несколько часов, наблюдая. Увидела она немногое: двух рослых обормотов (которых, как она теперь знала, звали Жак и Жан-Батист) и одного шаромыгу с характерным горбоносым профилем и постоянным надсадным кашлем. Кааг тянула в направлении Харлема упряжка идущих по берегу лошадей, хотя матросы уже выдвигали боковые кили и ставили складную мачту, чтобы поднять парус-другой. Лошади замедлили шаг, вступив на развороченную, чёрную от расплавленного свинца мостовую. Три дня назад свинец серебряной рекой тёк из дома господина Слейса, делился на рукава меж булыжников мостовой и наконец низвергался с пристани в канал, так что столб пара поднимался над клубами дыма из горящих домов. К тому времени поджигателей, разумеется, след простыл; магистратам оставалось допрашивать малочисленных свидетелей и выяснять, кто всё-таки поджёг дома: разгневанные оранжисты, мстящие за помощь французам, или люди, нанятые самим Слёйсом. Он так много и так стремительно потерял на обвале акций Ост-Индской компании[56], что мог выпутаться только одним способом: спалить всё, что у него есть, и стребовать деньги с тех, кто имел глупость его застраховать. Сегодня утром рабочие, которых страховщики наняли в надежде покрыть хоть часть убытков, ломами и лебёдками поднимали из канала ручьи и лужицы свинца. Элиза снова услышала рядом давешнее сипение, но более громкое, словно тележное колесо проехалось по дырявой волынке, выдавливая из нее воздух. Сипение перешло в хриплый, лающий смех. Горбоносый мужлан стоял у поручня неподалёку от Элизы и смотрел на рабочих. – Мятеж герцога Монмутского вновь поднял цену на свинец, – сказал он. В такой мере Элиза голландский разбирала. – Он теперь на вес золота. – Прошу прощения, минхеер, хотя стоимость свинца и впрямь выросла, он всё же куда дешевле золота и даже серебра, – возразила она на ломаном голландском. Сипатый мужлан отвечал на вполне сносном английском. – Смотря где. Армия, окружённая врагами и страдающая от нехватки боеприпасов, охотно променяет золотые монеты на равный вес пуль. Элиза ничуть не сомневалась в справедливости этих слов, но самый взгляд неприятно поразил её своей мрачностью, поэтому она не ответила и больше с мужланом не разговаривала. Кааг меж тем миновал шлюз в западной стене Амстердама. Вокруг тянулась сельская местность, разрезанная канавами на зелёные торфяные бруски, которые лежали вдоль канала, как на прилавке. Другие пассажиры тоже сторонились мужлана: отчасти потому, что боялись подцепить лёгочную болезнь, отчасти потому, что купцов и зажиточных земледельцев, едущих из Амстердама с мешками золотых и серебряных монет, раздражало общество человека, готового пустить флорины на пули. Мужлан, судя по всему, отлично это понимал и первые несколько часов путешествия забавлялся, разглядывая попутчиков с видом высокомерного превосходства, за который во Франции его вызвали бы на дуэль. Больше он ничего примечательного не делал, пока, чуть ближе к вечеру, внезапно не убил Жака и Жана-Батиста. А было так: судёнышко дошло каналами до Харлема, где взяло на борт ещё нескольких пассажиров, затем, прибавив парусов, двинулось через Харлемермер – приличных размеров озеро, продуваемое резким морским бризом. Свежий воздух произвёл в мужлане разительную перемену. Сипение исчезло как по волшебству, каждый вдох уже не требовал неимоверных усилий. Он выпрямился, став среднего роста, и помолодел лет на двадцать. Кислое выражение исчезло с физиономии, и он, покинув корму, зашагал по палубе почти весело. После того, как мужлан несколько раз прошёлся из конца в конец корабля, остальные пассажиры привыкли и перестали обращать внимание – так он и смог обойти Жака со спины, схватить за щиколотки и перебросить через борт. Все случилось настолько быстро, что легко было поверить, будто ничего не произошло. Однако Жан-Батист в это не поверил и бросился на мужлана с обнажённой шпагой. У того шпаги не было, зато была у стоящего рядом антверпенского купца – мужлан просто выхватил её из ножен и принял боевую стойку. Жан-Батист задумался – и совершенно напрасно. Когда он наконец бросился вперёд, кааг, как на грех, качнулся на волне, едва не сбив его с ног. Клинки скрестились, и стало видно, что Жан-Батист – никудышный фехтовальщик. Однако мужлан и без этих преимуществ взял бы верх; для него убивать людей в ближнем бою было всё равно что для пекаря – месить тесто. Жан-Батист считал фехтование делом серьёзным, требующим определённых церемоний. Чёрные ветряки по берегам Харлемермера, рубя лопастями воздух, мрачно наблюдали за поединком. Вскоре у Жана-Батиста из спины уже торчали два фута окровавленного клинка, а дорогой эфес нелепым украшением застыл на груди. Только это Элизе и дали увидеть, прежде чем джутовый мешок накрыл ей голову и – плотно, но не чересчур туго, – стянулся на шее. Кто-то обхватил её за колени и оторвал от палубы, другой сгрёб под мышки. На мгновение она испугалась, что её бросят за борт, как Жака и (судя по слышному сквозь мешок всплеску) Жана-Батиста. Покуда Элизу несли вниз, она услышала резкие выкрики на голландском, затем вся палуба наполнилась стуком и шелестом: пассажиры, срывая шляпы, падали на колени. С Элизы сняли мешок, и она увидела, что находится в каюте вместе с двумя людьми: бугаем и ангелом. Бугай – тот, что надел ей на голову мешок, – почти сразу вышел, повинуясь приказу ангела – белокурого голландского дворянина такой изумительной красоты, что Элиза почувствовала скорее ревность, нежели влечение. – Арнольд Йост ван Кеппел, – коротко представился он, – паж принца Оранского. Он смотрел на Элизу с той же холодностью, что и она на него, – очевидно, его мало интересовали женщины. И всё же слухи гласили, что у Вильгельма Оранского – любовница-англичанка. Может быть, он из тех, кто в любви не делает различия между полами. Вильгельм Оранский, генерал-капитан и великий адмирал Соединённых провинций, бургграф Безансона, герцог, либо граф, либо барон различных мелких клочков Европы[57], вошёл в каюту несколькими минутами позже, небритый, раскрасневшийся, слегка забрызганный кровью и в целом ничуть не похожий на голландца. Как не уставал напоминать д'Аво, он был помесью самых разных кровей: его предки происходили чуть ли не со всех концов Европы. В грубом крестьянском платье Вильгельм Оранский смотрелся так же естественно, как герцог Монмутский – в турецких шелках. Возбуждение и самодовольство не давали ему сесть, что было к лучшему, поскольку Элиза занимала единственное кресло в каюте и не выказывала намерения его освобождать. Вильгельм отослал Арнольда Йоста ван Кеппела, а сам упёрся плечами в кницу и остался стоять. – Господи, да вы совершенное дитя – вам ведь и двадцати нет? Что ж, отрадно: это извиняет вашу глупость и даёт надежду на исправление. Элиза всё еще злилась из-за джутового мешка и не только не ответила, но и не подала виду, что слышит. – Без промедления напишите благодарственное письмо доктору. Если бы не он, вы бы отправились тихоходным кораблём в Нагасаки. – Вы знакомы с доктором Лейбницем? – Встречались в Ганновере пять лег назад. Я ездил туда и в Берлин… – В Берлин? – Городишко в Бранденбурге, ничем не примечательный, кроме того, что там у курфюрста дворец. У меня много родственников среди герцогов и курфюрстов в тех краях; я объезжал их, пытаясь собрать коалицию против Франции. – Надо полагать, безуспешно? – Они были всей душой. Большинство голландцев – тоже, но только не Амстердам. Члены городского совета по наущению вашего приятеля д'Аво замышляли переметнуться к Франции, чтобы Людовик поддержал их флот против английского. – И тоже безуспешно, иначе бы все об этом знали. – Льщу себя мыслью, что мои усилия в северной Германии – которым немало способствовал ваш приятель-доктор – и усилия д'Аво взаимно нейтрализовали друг друга, – объявил Вильгельм. – Я радовался своим успехам, Людовик был в ярости, что ничего не добился. – И на этом основании захватил Оранж? Вильгельм разозлился не на шутку, и Элиза сочла, что отплатила за джутовый мешок. Однако принц взял себя в руки и отвечал резко: – Поймите, Людовик не такой, как мы. Он не нуждается в основаниях. Он сам себе основание. Поэтому его и надо уничтожить. – И ваша честолюбивая мечта – это осуществить? – Сделайте милость, детка, замените «честолюбивая мечта» на «судьба». – Однако вы и над своею землей не властны! Оранж – в руках Людовика, и даже в Голландии вы ходите переодетым из страха перед французскими головорезами! – Я здесь не для того, чтобы выслушивать от вас общие места, – отвечал Вильгельм уже гораздо спокойнее. – Вы правы. Более того, я не умею танцевать, писать стихи и развлекать гостей за обедом. Я даже не выдающийся военачальник, что бы ни говорили мои сторонники. Знаю одно: ничто не может долго мне противостоять. – Франция как будто противостоит. – Я добьюсь, чтобы её замыслы пошли прахом. И в некой малой степени вы мне поможете. – Зачем? – Вам следовало спросить: «Как?» – В отличие от французского короля я нуждаюсь в основаниях. Мысль, что Элизе нужны какие-то основания, явно позабавила принца, однако убийство двух французских головорезов настроило его на игривый лад. – Доктор говорит, что вы ненавидите рабство. Людовик хочет поработить весь христианский мир. – Однако все невольничьи форты в Африке принадлежат голландцам либо англичанам. – Лишь потому, что флот д'Аркашона слишком слаб, чтобы их отбить, – отвечал Вильгельм. – Иногда в жизни нужно действовать мало-помалу, и в особенности – подзаборным девчонкам, вздумавшим покончить с таким всеобщим установлением, как рабство. Элиза сказала: – Удивительно, что принц наряжается крестьянином и пускается в плавание, чтобы просветить подзаборную девчонку. – Вы себе льстите. Во-первых, как вы сами упомянули, в Амстердаме я всегда хожу переодетым, ибо граф д'Аво наводнил город наёмными убийцами. Во-вторых, я так и так собирался в Гаагу, поскольку вторжение вашего любовника в Англию требует от меня выполнить кое-какие обязательства. В-третьих, я убил ваших телохранителей и велел доставить вас сюда не для того, чтобы просветить вас или что-либо ещё, но чтобы перехватить письма, которые д'Аво спрятал в вашем багаже. У Элизы вспыхнули щеки. Вильгельм некоторое время забавлялся её смущением, потом, видимо, решил не добивать жертву. – Арнольд! – крикнул он. Дверь каюты отворилась, и Элиза увидела, что её вещи, мокрые и перемазанные в смоле, разбросаны по палубе, а наиболее сложные туалеты ещё и разорваны в клочья. Багаж, переданный ей д'Аво, разъяли на части и теперь препарировали по слоям. – Пока два письма. – Арнольд шагнул в каюту и с лёгким поклоном вручил принцу исписанные листки. – Оба зашифрованы, – заметил Вильгельм. – Без сомнения, после того, что случилось в прошлом году, ему хватило ума поменять шифр. Подобно камню, в который ударило пушечное ядро, сознание Элизы разлетелось на большие независимые фрагменты. Первый: существование этих писем делает её в глазах голландского закона французской шпионкой и оправдывает любые мыслимые кары. Второй: что именно замыслил д'Аво? (Несколько замысловатый способ отправлять письма… а может быть, и нет?) Третья часть сознания бездумно поддерживала светский разговор: – Что случилось в прошлом голу? – Я перехватил предыдущего дурачка, завербованного д'Аво. Мои криптографы расшифровали письма, которые тот вёз в Версаль. В них рассказывалось, как Слёйс и некоторые члены амстердамского совета выслуживаются перед Людовиком. Эта ремарка по крайней мере вывела Элизу из раздумий о роке и карах. – Этьенн д'Аркашон посещал Слейса несколько дней назад… очевидно, не для того, чтобы поговорить о размещении денег… – Она зашевелилась… веки подрагивают… наверное, скоро проснётся, сир, – сказал Арнольд Йост ван Кеппел. – Не попросите ли вы этого человека освободить каюту? – обратилась Элиза к Вильгельму с изумившей всех твёрдостью. Вильгельм еле заметно шевельнул рукой, и ван Кеппел вышел, затворив дверь. Хруст ткани послышался с новой силой. – Он собирается оставить меня вовсе без одежды? Вильгельм задумался. – Да. За исключением одного платья, которое сейчас на вас. Вы зашьёте это письмо в корсет после того, как Арнольд снимет с него копию. Затем вы прибудете в Париж – измученная, растерзанная, без спутников или багажа – и расскажете в красках, как грубые сыровары убили ваших слуг, изобидели вас, разворошили ваши тюки, но всё же вы сумели доставить одно письмо, предусмотрительно зашитое в нижнее бельё. – Романтическая история. – В Версале она произведёт фурор. Вам это куда более на руку, чем заявиться свежей и расфранчённой. Графини будут вас жалеть, а не страшиться, и возьмут под своё крыло. План настолько превосходен, что я удивляюсь, как д'Аво сам до него не додумался. – Может быть, д'Аво и не хотел, чтобы меня приняли при французском дворе. Может быть, он хотел использовать меня для доставки писем, а затем выбросить, как ненужную вещь. Это должно было прозвучать жалостливо и вызвать жаркие опровержения со стороны принца, однако тот всерьёз задумался, чем нимало не успокоил Элизины страхи. – Д'Аво вас с кем-нибудь знакомил? – С упомянутым Этьенном д'Аркашоном. – Значит, у д'Аво на ваш счёт планы, и я знаю какие. – У вас такое торжествующее лицо, о принц… Я ничуть не сомневаюсь, что вы прочли мысли д'Аво, как прочтёте его письма. Я, увы, лишена такого преимущества и весьма желала бы знать ваши планы на мой счёт. – Доктор Лейбниц научил вас шифру, в сравнении с которым этот, – Вильгельм встряхнул письмами д'Аво, – детские игрушки. Воспользуйтесь им. – Вы хотите, чтобы я шпионила для вас в Версале? – Не только для меня, а еще и для Софии и для всех, кто противостоит Людовику. Пока это. Возможно, впоследствии мне потребуется что-то ещё. – Сейчас я в вашей власти, однако, когда я достигну Франции, когда окажусь под опекой герцогинь и под защитой французского флота… – Что помешает вам рассказать французам всё и стать двойным агентом? – Вот именно. – Разве недостаточно того, что Людовик отвратителен, а я стою за свободу? – Быть может, и достаточно… но с вашей стороны было бы глупо верить мне на этом основании, а я не стану шпионить для глупца. – Неужто? Вы шпионили для Монмута. Элиза задохнулась. – Сударь! – Детка, не следует выезжать на турнир, если боитесь быть выбитой из седла. – Согласна, Монмут не семи пядей во лбу… зато он замечательный воин. – Он не плох, хотя с Джоном Черчиллем не сравнится. Вы же не думаете, что он и впрямь свергнет короля Якова? – Я бы не поддержала его, если бы так не думала. Вильгельм мрачно рассмеялся. – Он предлагал сделать вас герцогиней? – Почему меня все об этом спрашивают? – Своим предложением он вскружил вам голову… Монмут обречён. По условиям мирного договора с Англией у меня в Гааге стоят шесть английских и шотландских полков. Как только я доберусь туда, я отправлю их через Ла-Манш – помочь в подавлении мятежа. – Зачем?! Яков – практически вассал Людовика! Вам следует поддержать Монмута! – Элиза, таился ли Монмут в Амстердаме? Ходил ли в крестьянском платье? – Нет, он гордо расхаживал во всей красе. – Стерегся ли он французских наёмных убийц? – Нет, он был беспечен, как павлин. – Находили ли в его карете гранаты с дымящимся запалом? – Нет, только другие гранаты – плоды. – Д'Аво – человек умный? – Разумеется! – В таком случае, коли он знал, что замышляет Монмут – а ваши замыслы прочитывались так легко, – то почему не попытался его убить? Никакого ответа из уст бедной Элизы. – Монмут высадился в Дорсете – в Дорсете! – родных краях Джона Черчилля. Черчилль скачет из Лондона, чтобы вступить с ним в бой, а когда доскачет, мятеж будет подавлен. Мои полки прибудут к шапочному разбору – я отправлю их только для приличия. – Разве вы не хотите, чтобы Англией правил протестант? – Хочу, разумеется! Чтобы победить Людовика, мне нужна Британия. – Вы говорите это так небрежно. – Простая истина. – Вильгельм пожал плечами. Внезапно ему пришла в голову мысль. – Я люблю простые истины. Арнольд! Арнольд снова вошёл в кабину – он обнаружил еще два письма. – Сир? – Мне нужен свидетель. – Свидетель чего, сир? – Девочка боится, что я поступлю глупо, если буду ей доверять. Она родом с Йглма… посему я сделаю её герцогиней Йглмской. – Однако… Йглм принадлежит английскому королю, сир. – В том-то и суть, – сказал Вильгельм. – Девочка будет герцогиней тайно, только по имени, покуда я не воссяду на английский престол – тут-то она и станет герцогиней явно. В таком случае я смогу рассчитывать на её верность, а у неё не будет причины подозревать меня в глупости. – Или так, или тихоходное судно в Нагасаки? – спросила Элиза. – Не такое уж оно тихоходное, – сказал Арнольд. – К концу пути у вас ещё сохранятся один или два зуба. Элиза, словно не слыша его, смотрела Вильгельму в глаза. – На колени! – приказал он. Элиза подобрала подол платья – единственного, которое у неё осталось, – и упала на колени перед принцем Оранским. Тот сказал: – Вы не можете принять титул без церемонии, демонстрирующей вашу покорность сюзерену. Такова традиция, идущая из древних времён. Арнольд вытащил из ножен короткую шпагу и попытался на вытянутых руках подать её принцу, но при этом несколько раз задел локтями, эфесом и проч. различные крепления, кницы и предметы мебели: в крохотной каюте было очень тесно. Принц наблюдал за ним с холодной весёлостью. – Господин ударяет вассала по плечу мечом, – сказал он, – но здесь им орудовать небезопасно. Кроме того, я произвожу вас не в рыцари, а в герцогини. – Предпочитаете кинжал, сир? – спросил Арнольд. – Да, – отвечал принц. – Не трудитесь его доставать, у меня есть свой. – Он быстрым движением руки распустил пояс и сбросил штаны. Доселе невидимое орудие явилось на свет так близко от лица Элизы, что та ощутила его жар. Не самый короткий и не самый длинный такого рода клинок, какой ей случалось видеть. Она порадовалось, что он совершенно по-голландски чистый и ухоженный. «Клинок» пульсировал в такт биению сердца своего обладателя. – Если вы хотите ударить меня им по плечу, вам надо подойти на шаг, – сказала Элиза, – ибо, при всем своем великолепии, он не дотягивает до шпаги длиной. – Напротив, это вы должны приблизиться, – отвечал принц. – Как вам отлично известно, моя цель не ваше плечо, правое или левое, но более нежное и заманчивое гнёздышко посередине. Не стоит разыгрывать изумление, я знаю вашу историю. Мне известно, что вы научились этому и многому другому в гареме турецкого султана. – Там я была невольницей. Здесь я таким образом стану герцогиней? – Как было с Монмутом, как будет во Франции, так здесь и сейчас, – обходительно произнёс Вильгельм, хватая её за волосы. – Может, научите Арнольда штучке-другой. Он потянул Элизу к себе. Она плотно зажмурилась. То, что предстояло, было само по себе не так и ужасно, но не в присутствии же свидетеля! – Забудьте про него, – сказал принц. – Откройте глаза и смотрите на меня смело, как надлежит герцогине. Побережье Европы и Северной Африки 1685 Что ждёт нас в море? Радости Мидаса: Златые сны и впроголодь припаса, Под жгучим солнцем в гибельных краях До срока можно обратиться в прах. Корабль – тюрьма, причём сия темница В любой момент готова развалиться, Иль монастырь, но торжествует в нём Не кроткий мир, а дьявольский содом; Короче, то возок для осужденных Или больница для умалишённых: Кто в Новом Свете приключении ждёт, Стремится в Новый, попадёт на Тот. Джек рыдал впервые с детства, когда брата Дика вытащили из Темзы, белого и застывшего. Команда не особенно удивлялась. Отплытие корабля всегда сопровождается бурными всплесками чувств, особенно со стороны оставляемых на пристани женщин. Господин Влийт, испугавшись, что инцидент приведёт к каким-нибудь юридическим затруднениям, взбежал по сходням, за ним поднялся должным образом благословлённый Евгений. Бриг без всяких церемоний отвалил от пристани, выскользнул в Эйсселмер и, подняв паруса, устремился вперёд по неспокойному морю. Евгений подошёл, упёрся огромным унтом в мачту и, что-то виновато бормоча, вытащил гарпун из неё, а заодно из Джековой руки. Один из матросов, сказавшийся цирюльником, развёл на камбузе огонь, чтобы раскалить железо для прижигания. У Джека была глубоко рассечена грудь и пропорота рука, так что прижигать предстояло много. Наверное, с полкоманды сидело на нём. чтоб не дёргался, пока железо прикладывали, снова накаляли, снова прикладывали, и так снова и снова чуть ли не всю дорогу через Эйсселмер. В начале этого нескончаемого таврения Джек вопил как резаный. Кто-то из матросов, сидящих на нём, явно забавлялся, другие смотрели с осуждением, но никто – с жалостью. Да и как могло быть иначе на невольничьем корабле? Вскоре Джек доорался до того, что сорвал голос, и уже не слышал ничего, кроме шипения собственного мяса. По окончании он, завёрнутый в простыню, уселся на бушприте, словно носовая фигура, изображающая бродягу. Евгений принёс трубку, и Джек закурил. Странным образом он вообще ничего не чувствовал. Большие купеческие суда в огромных, наполненных воздухом деревянных коробах для уменьшения осадки буксировали через мели, усеянные старыми ажурными остовами. Ритм океана слегка изменился, как перед представлением, когда цветистая увертюра переходит в грозную музыку Драмы или Истории. Стало темнее и ощутимо холоднее; большие корабли, освобождённые из коробов, расправляли паруса по ветру, словно торговец тканями, демонстрирующий свой товар богатому покупателю. Товар пришёлся по вкусу; паруса наполнились ветром, напряглись, и корабли устремились к морю. Ближе к Текселу все моряки бросили работу, чтобы поглазеть на голландские линейные суда. Флаги и вымпелы вились, как клубы дыма, три яруса орудий грозно смотрели на Англию. Наконец вышли в открытое море, и некоторое умиротворение снизошло на Джека, ощущавшего себя приговорённым на каждом клочке суши. Ненадолго заглянули в Дюнкерк – набрать ещё матросов. Поскольку раны не позволяли Джеку ходить, брат Боб навестил его на корабле. Они обменялись несколькими историями, которые Джек тут же начисто позабыл. Встреча с братом происходила как во сне – мелькание несвязанных обрывков. Кажется, кто-то сказал Бобу, что Джек повредился в уме. Дальше на юг, у Сен-Мало их взяли на абордаж французы, которые лишь посмеялись над бесполезным грузом и, немного пограбив для порядка, отпустили их с миром. Однако один из приватиров, покидая «Раны Господни», подошёл к господину Влийту. Тот втянул голову в плечи, и в ответ на трусливый жест, больше чем на что-либо ещё, француз отвесил голландцу такую пощёчину, что тот рухнул на палубу. Даже в нынешнем полубреду Джек понимал, что эта оплеуха повредила его вложениям больше, чем если бы французы дали по бригу бортовой залп. Матросы обнаглели, а господин Влийт теперь большую часть времени проводил, запершись в каюте. От мятежа корабль спас мистер Фут. Используя Евгения в качестве мышечной силы, он стал истинным капитаном корабля. Старые привычки вернулись легко, как будто он и не простоял двадцать лет за стойкою «Ядра и картечи». Следуя вдоль побережья, они обошли различные мысы Бретани, затем двинулись юго-западным курсом через Бискайский залив и несколько тревожных недель спустя увидели галисийское побережье. Джек не разделял обшей тревоги, поскольку раны воспалились. Приступы горячечного бреда перемежались бесконечными кровопусканиями, которыми цирюльник пытался сбить жар; Джек представления не имел, где они находятся, а порою и вовсе не помнил, что он – на корабле. Господин Влийт отказывался покидать каюту и, вероятно, правильно делал, поскольку у команды крепло желание выбросить его за борт. Однако лишь он на корабле знал навигацию. Джек валялся в гамаке под палубой, день заднем глядя на синие иголки света между досками над головой и слыша, как весело пересыпаются раковины каури всякий раз, как волна поднимает и опускает бриг. Когда он наконец сумел выбраться на палубу, там было очень жарко, а солнце стояло так высоко, как Джек ещё никогда не видел. Ему сообщили, что бриг некоторое время назад заходил в Лиссабон. Джек пожалел, что пропустил это событие: по слухам, под Лиссабоном располагалось огромное становище бродяг. Если б он сбежал с корабля, то, возможно, остался бы с ними в качестве короля. Впрочем, то была бредовая фантазия смертника, прикованного за шею к стене, и Джек вскорости её позабыл. Согласно господину Влийту, который бесконечно брал замеры квадрантом и выполнял бесчисленные расчёты, корабль миновал широту Гибралтара, соответственно, земля, которую они иногда видели по левому борту, была Африка, однако от Невольничьего берега далеко-далеко на юге их отделяли долгие недели пути. Впрочем, тут он ошибся. В тот же день вперёдсмотрящие подняли крик. Выбежав на палубу, Джек и его товарищи увидели, что с кормы к ним приближаются два странных судна – казалось, они скользят, по-паучьи перебирая бесчисленными лапками. То были галеры – типичные боевые корабли берберийских корсаров. Господин Влийт некоторое время изучал их в подзорную трубу, делая на грифельной доске какие-то геометрические расчёты, потом его затошнило, и он удалился в каюту. Мистер Фут открыл несколько сундуков и принялся раздавать ржавые абордажные сабли и мушкетоны. – Зачем биться за раковины? – спросил один матрос-англичанин. – Будет как с французами у Сен-Мало. – Их интересует не наш груз, – ответил мистер Фут. – Думаете, свободные люди станут так грести? Джек не первым, но и не последним на бриге поставил бы под сомнение разумность лозунга «Стоять до конца», однако когда понял, что корсары хотят обратить их в галерных рабов, то резко переменил взгляды. Команда распалась на кучки – явный зародыш мятежа. Джек взобрался на шлюпку, принайтовленную к палубе, а с неё – на навигационную рубку сразу за фок мачтой. С этой высоты он обозрел «Раны Господни» и (в который раз) подивился узости судна. И всё же бриг, как все европейские корабли, казался неповоротливым боровом в сравнении с галерами, которые скользили по волнам, как лезвия голландских коньков по замёрзшему каналу. Их влекли не только вёсла, но и огромные, шафранового цвета треугольные паруса; приближались они в кильватерном строю строго с кормы, дабы жалкие пушечки «Ран Господних» не могли дать по ним бортовой залп. Единственный фальконет на корме мог бы запулить в передовую галеру парочкой ядер размером с мандарин, но ближайшие матросы спорили, а не заряжали пушку. – Что за мир! – крикнул Джек. Почти все подняли к нему головы. – Год за годом мы в родных краях рубим дрова, таскаем воду из колодца, ходим в церковь и не видим никаких развлечений, кроме градобития или голода, а стоит выйти в море и пройти под парусами несколько дней – на тебе! Получай берберийских корсаров у берегов Африки! У господина Влийта, как я погляжу, отсутствует вкус к приключениям. Что до меня, я лучше сражусь с корсарами, чем буду грести на галере! Итак, я за драку! – Джек выхватил янычарскую саблю, и она ярко блеснула на солнце – не то что ржавые железяки мистера Фута. Джек отбросил ножны; те, вращаясь, отлетели к борту, на мгновение зависли в воздухе и отвесно вошли в воду. – Вот всё, что получат корсары от Джека Куцего Хера! Речь вызвала одобрительные крики со стороны той части команды, которая так и так собиралась драться. Вторая половина только краснела за Джека – ну можно ли так скоморошничать? – Тебе легко – все знают, что ты умираешь, – сказал некий Генри Флет, до сей поры состоявший с Джеком в приятельских отношениях. – И всё же я проживу дольше тебя! – Джек спрыгнул с надстройки и двинулся на Флета. Тот застыл ошарашенно, не подозревая, что его друзья уже бросились врассыпную. Когда Джек приблизился, и повернулся боком, и полусогнул колени, и показал Флету кривой клинок, тот машинально принял боевую стойку, затем, опомнившись, попятился, развернулся и побежал. Грянул смех, что было и приятно, и, если хорошенько подумать, плохо. Предстоит ответственная работа, не балаган. Эти дурни не поймут, что дело нешуточное, пока кого-нибудь не убьёшь. Поэтому Джек загнал Флета на бак и оттуда на бушприт, уворачиваясь от кливера, мидель-кливера и бом-кливера, дрожавших и хлопавших на ветру, поскольку никто не следил за их правильным положением. Наконец бедняга Флет застыл на самом конце бушприта, цепляясь за единственный доступный трос[59], чтобы не слететь в воду от качки. Другой рукой он поднял саблю в слабой попытке защищаться. – Погибнуть от руки христианина сейчас или от руки магометанина десятью минутами позже – мне все одно. Но если ты решил сделаться галерным рабом, твоя жизнь никчёмна, и я сброшу тебя в океан, как кусок говна. – Я буду сражаться, – пообещал Флет. Джек явственно видел, что он лжёт. Однако сейчас все смотрели на него – не только команда «Ран Господних», но и неожиданно большое число вооружённых людей, высыпавших на палубу галер. Надо было соблюдать декорум. Поэтому Джек демонстративно двинулся назад по бушприту с намерением развернуться и зарубить Генри Флета, когда тот неизбежно нападёт сзади. Тут мистер Фут взмахнул саблей и рассёк трос, закреплённый на баковой кофель-планке, – трос, держащий тупой угол бом-кливера. Джек пригнулся и ухватился за какую-то снасть. С громким металлическим хлопком парус саваном обвил Флета, подержал мгновение и сбросил в море, где того сразу затянуло под несущийся вперёд корпус. Джек сам едва не слетел в воду, поскольку повис, одной рукой цепляясь за снасть, а другой сжимая ятаган, однако Евгений могучей лапищей схватил его за локоть и втащил в безопасность. Если это можно было назвать безопасностью. Две галеры, шедшие до сих пор в линию, за время происшествия с Флетом разделились, чтобы одновременно подойти к бригу с боков. До слуха уже давно доносилось слабое многоголосое пение; странная мелодия наподобие ирландских мотивов резала английское ухо Джека своей нездешностью – впрочем, если подумать, правильно было бы сказать «здешностью». Так или иначе, непривычное пение на каком-то варварском языке сперва звучало медленно, ибо удары весел о воду задавали ритм, как барабан. Теперь же, когда галеры разошлись, с них донеслась резкая очередь щелчков – Джек подумал, что стреляют какие-то мавританские ружья. Пение сразу сделалось громче. Джек различал тарабарские слова: Хава нагила, хава нагила, хава нагила вэнисмэха! Хава нагила, хава нагила, хава нагила вэнисмэха… – Что-то вроде шотландских волынок, – объявил он. – Шум, который производят перед боем, чтобы не слышно было, как коленки стучат. Кто-то – один или двое – рассмеялись, но на них зашикали другие, напряжённо вслушивающиеся в песню корсаров. Вместо того, чтобы продолжиться в прежнем ритме, как положено доброй христианской мелодии, она вроде бы зазвучала быстрее: Уру, уру ахи! Уру ахим бэлэв самэах! Уру ахим бэлэв самэах! Уру ахим бэлэв самэах! Уру ахим бэлэв самэах! Хава нагила… Песня точно звучала быстрее; и поскольку вёсла входили в воду на каждый такт, то и гребля ускорилась вместе с ней. Расстояние между носом первой галеры и кормой «Ран Господних» сокращалось на глазах. Уру, уру ахим! Уру ахим бэлэв самэах! Уру ахим бэлэв самэах! Уру ахим бэлэв самэах! Уру ахим бэлэв самэах! Хава нагила. Хава нагила, хава нагила, хава нагила вэнисмэха! Хава нагила, хава нагила, хана нагила вэнисмэха. Корсары пели и гребли самозабвенно. Галеры легко настигли бриг и шли теперь по бокам так близко, чтобы только не задевать его вёслами. Даже не считая невидимых гребцов, число людей на них превосходило всякое вероятие: как будто на каждой галере столпилось по целому пиратскому городу. Левая галера первой поравнялась с бригом: снасти и паруса убраны для атаки, на борту и на юте видимо-невидимо корсаров. Многие размахивали абордажными крючьями на верёвках или держали абордажные лестницы, тоже с крючьями на концах. Джек и остальные на бриге разом увидели и поняли одну вещь. Увидели – что среди воинов почти нет арабов, за исключением аги, выкрикивающего приказы; то были европейцы, негры, даже несколько индусов. Поняли – что это янычары: не-турки, воющие на стороне турок. Вслед за этим пришло осознание, что в их случае не так уж и плохо стать берберийскими корсарами. Джек, чуть посообразительнее среднего морского бродяги, понял это на мгновение раньше других и решил первым облечь истину в слова, чтоб прослыть автором идеи. Он схватил со дна сундука абордажный крюк вместе с бухтой троса и, снова вскарабкавшись на рубку, заорал: – Отлично! Кто хочет сделаться турком? Команда дружно завопила: «Ура!» Кажется, все достигли полного единомыслия – кроме Евгения, который, как всегда, не понял, что говорят. Покуда остальные пожимали друг другу руки, радуясь привалившей удаче, Джек зажал саблю в зубах, забросил трос за плечо и полез по фок-вантам к фор-марсу – платформе на середине мачты. Пение бешено ускорилось. Вёсла двигались вразнобой – не все гребцы успевали попадать в такт. Уру, уру ахим! Уру ахим бэлэв самэах! Уру ахим бэлэв самэах! Уру ахим бэлэв самэах! Уру ахим бэлэв самэах! Хава нагила… Обе галеры теперь на полкорпуса опередили бриг. По сигналу аги обе разом подняли вёсла и развернулись, чтобы сойтись с ним Портами. Гребцы замертво рухнули на весла и не попадали со скамей потому лишь, что в такой тесноте падать им было некуда. – Вы видите тюрбаны, богатое платье и сабли янычар! – орал Джек. – Я вижу невольников. Эти галеры – гробы, забитые полуживыми горемыками! Слышали щелчки? Это не стрельба, это бичи надсмотрщиков! Я вижу сотню обессиленных людей с кровавыми полосами на спине! Мы все через полчаса будем рабами, если не покажем аге, что умеем драться и достойны стать янычарами! Произнося этот спич, Джек раскладывал трос на платформе, чтобы тот не запутался, когда будет разматываться. Абордажный крюк с левой галеры едва не угодил ему в лицо. Джек пригнулся и подобрал голову. Крюк зацепился за доску и застонал, когда янычар внизу всем телом повис на тросе. Джек выхватил саблю и разрубил веревку; корсар упал, и его тут же раздавило сходящимися бортами. Стоявшая до сей минуты невероятная, почти безмятежная тишина сменилась нестройным грохотом: пираты дали залп. И снова стало тихо – ни у кого не было времени перезаряжать. На какое-то время все окуталось дымом. Почти напротив Джека была высокая грот-мачта левой галеры с «вороньим гнездом» на самой макушке. Идеальная мишень для абордажного крюка – Джек попал с первого раза, потом, выбирая слабину, едва не сорвался с марса: корабли качнуло в разные стороны, и мачты резко разошлись. Джек решил воспользоваться этим и несколько раз обмотал трос вокруг левой руки. Следующим движением кораблей его сорвало с марса, вогнав в живот несколько тысяч заноз, и выбросило в пространство. Верёвка, задержав полёт, чуть не оторвала ему руку. Джек со свистом пронёсся над галерой, увидев лишь ало-шафрановое пятно, и повис над океаном. Глядя туда, откуда прилетел и куда теперь летел снова, он увидел, что несколько человек – включая одного надсмотрщика – смотрят на него с любопытством. Пролетая над палубой, Джек взмахнул саблей и рассёк надсмотрщику голову пополам. Однако от удара саблей о череп верёвка раскрутилась. Вращаясь в воздухе, Джек долетел до палубы «Ран Господних» и с такой силой врезался в фок-мачту, что из него вышибло дух. Рука, держащая верёвку, разжалась. Джек лежал на палубе среди множества человеческих ног – всё сплошь незнакомых. Корабль был полон янычарами, и никто, кроме Джека, не поднял на них оружие. За одним исключением: Евгений уловил суть первой зажигательной речи Джека, хоть и не понял более прагматичную вторую. Соответственно, он загарпунил раиса, капитана правой галеры, точно в солнечное сплетение. Всё это и прочие подробности боя (если тут применимо такое слово) сообщил Джеку мистер Фут, когда их, раздев догола, согнали на галеру, где кузнец раскочегаривал горн, чтобы надеть оковы на узкие части их тел. Корсары за пятнадцать минут перерыли трюмы «Ран Господних» и явно не соблазнились каури. Из пленных на галеру не перевели только господина Влийта. Его вытащили из льяла, куда он схоронился в самом начале боя, раздели и привязали к бочке. Теперь негр энергично насиловал его в задницу. – Что за бред ты орал с фок-мачты? – спросил мистер Фут. – Никто ничего не понял. Мы только переглядывались… – Он показал, как они недоуменно пожимали плечами. – Чтобы вы показали себя настоящими бойцами, – вкратце передал Джек основную суть, – иначе вас сразу прикуют к вёслам. – Хм… – Вежливость не позволила мистеру Футу сказать, что в случае Джека тактика не сработала. Впрочем, судя по тому, что некоторые окровавленные, чёрные от солнца бедолаги украдкой подмигивали Джеку, убийство надсмотрщика сделало его не менее популярным среди галерных рабов, чем прежде среди бродяг. – Тебе-то что? – спросил мистер Фут несколькими минутами позже, когда стало ясно, что телесное надругательство над его бывшим партнером завершится не скоро. Бочка с господином Влийтом медленно продвигалась по палубе «Ран Господних», пока не упёрлась в борт, где и осталась стоять, гудя, как барабан. – Ты так и так долго не проживешь. – Если окажешься в Париже, задай этот вопрос крысолову Сен-Жоржу, – сказал Джек. – Он показал мне, как поступать красиво. У меня, понимаешь ли, реноме… – Слыхал. – Я надеялся, что ты или кто из ребят помоложе проявите боевой дух, станете янычарами, а потом когда-нибудь вернётесь в христианский мир и расскажете, как я героически бился с корсарами. Чтобы все узнали: моя история закончилась знатно. Вот и всё. – Ну, в следующий раз говори чётче, – сказал мистер Фут, – потому что мы не разобрали буквально ни слова. – Да, да, – буркнул Джек, надеясь, что его не прикуют к одному послу с мистером Футом, – с таким занудой сбесишься. Он вздохнул. – Одно сплошное жоподралово – прям как в Библии! – В Писании нет про жоподралово! – возмутился мистер Фут. – Ну, откуда мне знать, – отвечал Джек. – Дорогу! Скоро я буду в таком месте, где всё время читают Библию. – В раю? – По-твоему, это рай? – Что ж, похоже, меня посадят на другую скамью, Джек, – сказал мистер Фут. И впрямь, мёртвого гребца вытащили из-за весла на корме и мистеру Футу указывали, чтобы тот сел на его место. – Вряд ли еще случится поговорить. С Богом! – С Богом? С Богом!.. Хрена ли говорить такое галерному рабу? – были последние (как Джек думал) его слова мистеру Футу. Двое янычар бросили господина Влийта за борт. Джек слышал всплеск, садясь на засранную скамью, на которой ему предстояло грести до последнего вздоха. Примечания 1 Перевод А. Франковского. 2 Читать Джек не умел, но мог заключить это всё по начертанию букв. 3 Пикинёры располагались за мушкетёрами, а не перед; в противном случае мушкетёры целили бы между ними или над головами, и пикинёров косило бы случайными пулями, так как пуля частенько оказывалась маловата для дула и, несколько раз срикошетив внутри ствола, вылетала под произвольным углом. 4 До 1685-го шпиль собора Святого Стефана в Вене венчал полумесяц с вписанной в него восьмиконечной звездой – один из древних христианских символов; в 1685—1686-м его сняли и заменили орлом. 5 Не то чтобы Боб был пуританином – скорее наоборот, – но говорил так, чтобы показать своё превосходство над Джеком. 6 «Тысяча и одна ночь», пер Е. Романовой. 7 Мне нужен кувшин (фр.). 8 Мне нужен кувшин (фр.). 9 Спасибо (фр.). 10 Не за что, мсье (фр.). 11 Острота (фр.). 12 Выяснилось, что, если просчитать типичную войну, стоимость пороха окажется едва ли не главной. Герр Гейдель уверял, что порох в арсенале Венеции, например, стоит больше, нежели городская казна получает за год. Это объяснило многие странности, которые Джек наблюдал во время различных кампаний, и (временно) разубедило его в том, что все офицеры – умалишённые. 13 Как заключил Джек по гербам, вырезанным на воротах и вышитым на флагах. 14 Здесь: конторка, прилавок (ит., уст.). 15 Так назывались коммерческие заведения; хозяин фактории звался фактором или комиссионером. 16 Например: «Доктор, доктор козла постриг: сколько шерстинок пошло на парик?» 17 Это, разумеется, лишь догадка. 18 Которую они узнали по торговой марке – не чьей иной, как самого герра Гейделя. 19 Ртуть (нем.). 20 Перевод Арк, Штейнберга. 21 Перевод Арк. Штейнберга. 22 По многим признакам Джек понял, что проспал какое-то время. 23 * Это стражник!У него сабля! (нем.) 24 Среди прочих странностей Джекова воспитания оказались, помимо прочего, следующие: (1) у него был постоянный спарринг-партнёр (Боб) – постоянный в том смысле, что по ночам они спали в одной кровати, а дни напролет дрались, как все братья; (2) в том возрасте, когда все мальчишки рубятся на палках, они с Бобом жили в армейских казармах, где их поединки служили бесплатным развлечением для старых вояк и оценивались как по степени мастерства (удары должны были наноситься и парироваться реалистично на взгляд искушённых зрителей), так и по занимательности (братьям бросали больше еды, если они, например, висели, зацепившись коленями за балки, и сражались вниз головой, раскачивались на веревках, как обезьяны, и тому подобное). В итоге с юных лет братья Шафто приобрели фехтовальные навыки, не свойственные их сословию (представители которого, как правило, ни разу в жизни не соприкасались с холодным оружием, разве что с лезвием или остриём в последние мгновения жизни). Впрочем, овладели они лишь тем типом холодного оружия, которое называется эспадрон, то есть колюще-рубящим. Их предупреждали, что эспадрон не очень эффективен против джентльмена, фехтующего длинной тонкой рапирой и приученного легко находить брешь в защите противника. Янычарская сабля была грубым магометанским подобием эспадрона, поэтому идеально подходила к фехтовальной манере Джека (и, к слову, Боба) Джек размахивал ею самым впечатляющим образом. 25 Здесь: «Засранец» (фр.). 26 И её мужа, герцога Эрнста-Августа. 27 Одна марка золота или серебра содержит восемь тройских унций или две трети тройского фунта. 28 Перевод А. Гутермана. 29 Фиктивная продажа; игра на разнице курсов (нем.). 30 Коньяк (фр.). 31 Крысомор! Крысомор! (фр.) 32 Подставной солдат на смотре, которого командир ставил в строй, чтобы увеличить численный состав и тем самым своё жалованье (фр.). 33 Не так ли? (фр.) 34 Друзья мои (фр.). 35 Почему бы нет? (фр.) 36 Людовика XIV Французского. 37 Вильгельм Оранский. 38 Вильгельм Оранский. 39 Любители (фламанд.). 40 Контрмины (фр.). 41 Перевод Арк. Штейнберга. 42 Бычий хер (фр.) – бич, изготовленный из полового члена быка. 43 Трепет (фр.). 44 Король Людовик XIV Французский – строго говоря, не дядя Монмута, а брат вдовца сестры его незаконного родителя и племянник его бабки, не считая других степеней родства. 45 Перевод издательства «Свет с востока». 46 Глиняные трубки, светлый табак и огонь (фр.). 47 Где кузнец? (фр.) 48 Который час? (фр.) 49 Семь (фр.). 50 На Дом Инвалидов (фр.). 51 Благородство (фр.). 52 Разделенный на четверти со старыми геральдическими элементами (лилиями, означающими древнее родство с правящим домом) и новыми (головами негров в железных ошейниках). 53 Бродяги! Английские бродяги! (фр.) 54 Перевод С. Степанова. 55 На свой страх и риск (фр.). 56 При вести о восстании Монмута они упали более чем вдвое. 57 В частности, Нассау, Каценеленбогена, Дица, Виандена, Мёрса. 58 Перевод Г. Кружкова. 59 Бом-кливер-нирол. 60 Давайте веселиться. Давайте петь и веселиться, Проснитесь, братья, с веселым сердцем… (иврит) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
|||||||||