 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Толстой Лев Николаевич :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Горький Максим :: Сименон Жорж :: Чехов Антон Павлович :: Желязны Роджер :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: Улики :: 100 вещей, которые я сделаю, когда стану злым властелином :: Полет :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона :: Жонглер преступлениями :: Омен. Последняя битва. |
Когда я был мальчишкойModernLib.Net / Детская проза / Санин Владимир Маркович / Когда я был мальчишкой - Чтение (стр. 12)
— Трое наповал! — кричал нам с тропы Юра. — Сюда, ребята! Мы склонились над Заморышем. Автоматная очередь прошила ему грудь, и он был без сознания. Жук разорвал на Саше гимнастёрку, быстро перебинтовал его и погладил посеревшее лицо друга. — Заморыш, братишка… кореш ты мой… — Понесём его, Петя, — сказал Приходько. — Может, успеем. Жук кивнул, и я впервые увидел на его лице слезы. — Понесли, быстро! — вставая, приказал он, и мы, осторожно подняв с земли потяжелевшее тело Заморыша, двинулись в обратный путь. — Этот, который из автомата палил, живой и невредимый, а трое наповал! — весело доложил Юра. — Чего вы там?.. Заморыш! Вытащив из кобуры «вальтер», Жук подошёл к власовцу, который стоял на тропе и смотрел на нас ненавидящим взглядом. — Четверо наповал, — сквозь зубы поправил Жук и разрядил пистолет в убийцу, от руки которого умирал Заморыш. Жук взял его на руки и понёс, как спящего ребёнка, маленького, беззащитного. А через несколько часов перед строем полка расстреливали Дорошенко. Иногда я вспоминал его и радовался, что этот отвратительный парень ушёл из моей жизни. Я встречал на фронте ребят, бывших когда-то уголовниками: они частично сохранили свой жаргон, блатные ухватки, любили петь «перебиты, поломаны крылья, тихой болью всю душу свело» и «как живут филоны в лагерях», но в большинстве своём снова стали людьми. Лишь после смерти Заморыша я узнал, что до армии, точнее до тюрьмы, он был вокзальным вором. А другие — таких было очень немного, но они были — так и не, вернулись к честной жизни. Все их презирали и рано или поздно выбрасывали из своей среды, Таким был и остался до конца Дорошенко. Оказавшись в штрафной роте, он счастливо отделался «малой кровью»: получил осколочек в мякоть ноги и по закону считался искупившим свою вину. В полк он пришёл из медсанбата всего несколько дней назад, и я увидел его только тогда, когда нас выстроили по тревоге. Перед строем выступил подполковник Локтев. — Товарищи! — восклицал он. — Среди нас есть подлец, запятнавший знамя нашего полка! Этот негодяй ограбил старика и его жену, представителей братского народа, освобождённого Советской Армией! Они видели, как грабитель бежал в расположение полка. Смир-но! Четверо — Локтев, принявший командование полком, майор, седоватый подполковник из военного трибунала и совсем дряхлый старик чех, явно смущённый тем, что происходит, начали обходить ряды. Время от времени чех останавливался и умоляюще говорил что-то сопровождавшим, но Локтев отрицательно качал головой и продолжал, бережно держа под руку, вести старика вдоль рядов. Мы стояли по стойке «смирно», нам было безумно стыдно. Дорошенко вытолкнули из рядов сами солдаты, увидевшие, как он пытается выбросить из кармана и придавить ногой древние медные часы-луковицу и позолоченное обручальное кольцо. Через пять минут Дорошенко расстреляли перед строем, и не было ни одного человека, который бы о нем пожалел. И меньше всего — мы. Из-за этого мерзавца нас оторвали от постели умирающего Заморыша. Жук, который впервые нарушил свой воинский долг и отказался идти на построение, рассказал, что Саша на короткое время пришёл в сознание и просил не поминать его лихом. Теперь он снова впал в беспамятство, и хирург, повидавший за войну тысячи смертей, честно предупредил, что вот-вот начнётся агония. 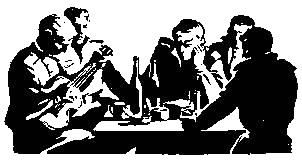 Саша умирал трудно, и почерневший от горя Жук не спускал с него глаз. С ним вместе Жук провоевал три года, и хотя был старше двадцатилетнего Заморыша всего на семь лет, относился к нему как отец: строго отчитывал за проступки, даже наказывал, но во всех его репликах, обращённых к маленькому другу, сквозили гордость и неприсущая Жуку теплота. Оба они были одиноки и, как часто бывало на фронте, предполагали после демобилизации поселиться вместе. И теперь Заморыш умирал — из-за непоправимой ошибки, допущенной его старшим другом Мы хоронили его под вечер, на деревенской площади. Вокруг, обнажив головы, стояли чехи. Локтев произнёс короткое прощальное слово и бережно прикрыл краем знамени обострившееся лицо прославленного разведчика Александра Дворикова, по прозвищу Заморыш. Навсегда в моей памяти осталась последняя ночь войны: мы сидим в палатке вокруг врытого в землю стола, заставленного бутылками трофейного сухого вина, Музыкант бряцает на гитаре, а чёрный, как земля, Жук пьёт, не пьянея, стакан за стаканом и с невыразимой печалью напевает, качая тяжёлой головой: Не для меня придёт весна-а-а, Не для-я меня Дон разольётся, и сердце радостно забье-ется Восторгом чувств — не для ме-еня… ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ Теперь, когда война закончилась, у солдат заныли старые, незалеченные раны. Никто не жаловался, пока шли бои, где каждый шаг мог оказаться последним и для здорового и для трижды лежавшего в госпиталях — не угадаешь. А нынче, когда изнурительные походы остались позади и смерть больше не летала над головой, когда можно было часами в истоме валяться на берегу речки или в лесной тени, обнаружилось, что солдаты устали. Они прощупывали под багровыми шрамами не извлечённые в госпиталях осколки, все чаще вспоминали о ревматизме, подхваченном во фронтовой слякоти, прислушивались к неровным толчкам перетруженного сердца и без конца говорили о жёнах, ребятишках и семейном уюте. Миномётчики с тревогой думали о том, будет ли им послушен, как прежде, комбайн, автоматчики уже видели себя у токарных и фрезерных станков — словом, душою солдаты были дома, по которому безмерно истосковались. У солдат оказалось слишком много свободного времени, и это губительно сказывалось на дисциплине. Поняв, что личным составом все более овладевают демобилизационные настроения, высшее начальство, преодолевая пассивное сопротивление снизу, осуществило весьма болезненный для фронтовиков, но безусловно необходимый перевод армии на мирные рельсы. В полк прибыли только что выпущенные из училищ молодые и щеголеватые лейтенанты. На их гимнастёрках горели начищенные до блеска пуговицы, а на ногах скрипели хромовые сапоги. Это уже были по-настоящему обученные офицеры, знающие устав и службу куда лучше своих коллег-фронтовиков, «выстреленных» из краткосрочных курсов младших лейтенантов (каждые три месяца — повышение, если не ранят и не убьют). Юные офицеры для начала вытеснили с должностей командиров взводов фронтовиков-сержантов и стали задавать тон в дисциплине: общий подъем, боевая и строевая подготовка, караульная служба, устав, выправка и внешний вид. Правда, разведки все эти новшества до поры до времени не коснулись. После завтрака Жук уводил нас в лес, где мы выбирали уютную полянку, спали, загорали и вели бесконечные споры о прошлом, настоящем и будущем. Жук очень изменился, стал неразговорчив и подолгу лежал на спине, глядя в небо и думая о чём-то своём. Мы старались не лезть ему в душу, зная по себе — у каждого из нас гибли друзья, — что эта депрессия рано или поздно пройдёт сама собой. Нам уже было известно, что Локтев забирает Жука в дивизионную разведку, и каждый втайне надеялся перейти вместе с ним. Но моим надеждам не суждено было сбыться: я попал в затяжную полосу неприятностей, хотя для первой из них следовало подобрать другое слово. Началось с того, что я презрел старинную солдатскую заповедь: «Никогда не попадайся на глаза начальству». Болтаясь после обеда без дела по расположению, я не заметил, что полк обходит командир дивизии, генерал-майор, известный своим крутым нравом. Когда я обратил внимание на генерала и на длинный шлейф сопровождающих его офицеров, было уже поздно. — Что это за чучело? — загремел генерал, когда я, лихо козырнув, пытался побыстрее удалиться от этого опасного места. Меня окриком вернули, и генерал, вскипев, начал разносить командира полка за мой чудовищный внешний вид. Вспоминаю, что выглядел я действительно на редкость безобразно. Правый погон еле держался на болтающейся пуговице, левый был запачкан смолою, испытавшие немало передряг брезентовые сапоги покрылись грязными пятнами, а продранные на коленках штаны я никак не удосужился заштопать — все не хватало времени. — На пять суток! — вынес свой приговор генерал, оборвав оправдательный лепет нового комполка майора Денисенко. Зато вторая неприятность оказалась куда более серьёзной. Я уже писал о том, что взвод разведки считался «личной гвардией» командира полка. У Локтева, конечно, был ординарец, но как-то само собой получилось, что основные заботы об устройстве быта командира разведчики взяли на себя, не говоря уже о сопровождении в бою. Все знали о личной дружбе Локтева и Жука, и никто не удивлялся тому, что разведчики, не успев подыскать пристанище для себя, оборудовали жильё командиру полка; никто не задавал Локтеву вопросов, откуда на его столе появляются всевозможные деликатесы, каких не вкушает и куда более высокое начальство. Любовь была взаимная: в свободное время Локтев частенько сиживал у разведчиков, играя в шахматы, беседуя на вольные темы, — одним словом, отдыхал душой. Он гордился своими ребятами, которые ухитрялись добывать нужную информацию и «языков» даже в условиях затяжной обороны, когда командиры других частей для той же цели вынуждены были проводить кровопролитную разведку боем, а разведчики, в свою очередь, гордились своим «хозяином» — умным, красивым, бескомпромиссным и бесстрашным человеком. Однажды произошёл совершенно анекдотический случай, который доставил много весёлых минут всей армии. Во время отпуска — единственного за всю войну — Локтев сделал предложение своей школьной подруге, с которой все годы переписывался. Её отец, командир одного из полков нашего корпуса, узнав о готовящейся свадьбе, выклянчил на несколько дней отпуск и прилетел в Москву, чтобы высказать свою родительскую волю: «Ты мне отдаёшь Савельева или Заморыша с Музыкантом, а я тебе — дочь. Иначе свадьбы не будет!» Локтев холодно козырнул, взял чемодан и отправился на аэродром. Благодаря невесте, не потерявшей голову и чувства юмора, свадьба всё-таки состоялась, но своё родительское благословение обиженный папа пробурчал сквозь зубы. Нынешний командир полка майор Денисенко до нового назначения работал в штабе дивизии и, конечно, был наслышан о «локтевских ребятах». Будучи, однако, человеком среднего ума, он не мог понять, что их отношение к Локтеву носило не служебный, а глубоко личный характер. Поэтому Денисенко недоумевал, почему его попытки установить с разведчиками внеслужебные отношения не имеют никакого успеха. На все намёки и просьбы нового командира Жук, вытянувшись по уставу, могильным голосом отвечал: — У вас есть ординарец, товарищ гвардии майор! — Так он ни черта не умеет, пустое место! — Смените ординарца, товарищ гвардии майор! Портить отношения с известным всей армии Петром Савельевым предусмотрительный Денисенко не стал, но за разбитые горшки пришлось сполна заплатить мне. Денисенко хорошо запомнил меня по фамилии и в лицо, поскольку я дважды доставлял ему неприятности: принимал деятельное участие в вытаскивании его из машины (забрал у него из кобуры пистолет) и дал повод для жестокой взбучки, которую он получил от генерала. К сожалению, я не внял советам ребят и однажды легкомысленно прошёл мимо палатки командира полка. — Полунин! Я подбежал и отдал честь. Денисенко вышел из палатки, держа в руках гимнастёрку. — Куда девался Васька, не знаешь? — Представления не имею. — Как отвечаешь?! — Не могу знать, товарищ гвардии майор! — Как это Локтев его терпел! Выгоню к черту. Держи, пришей подворотничок. И швырнул мне свою гимнастёрку. Локтеву разведчики с радостью оказывали подобные услуги, не дожидаясь его просьбы и радуясь тому, что он даже в походах выглядит подтянутым и элегантным. Наверное, попроси меня Денисенко по-человечески, я бы и ему пошёл навстречу, всё-таки командир полка. Но он так взбесил меня своей бестактностью, что я, забыв про всякую осторожность, пошёл на прямое хулиганство. — Что это такое? — минут через пять спросил Денисенко, ошеломлённо глядя на свой подворотничок, вкривь и вкось пришитый толстыми чёрными нитками. — Ваша гимнастёрка, товарищ гвардии майор! — дерзко отчеканил я. В жизни ещё на меня никто так не орал. Хорошенько отведя душу, Денисенко подозвал своего адъютанта, бросил на меня испепеляющий взгляд и приказал: — Вышвырнуть этого субъекта из взвода разведки! Чтоб духу его там не было! Я обмяк. — Куда именно? — предупредительно спросил адъютант. — На кухню, в обоз, к чёртовой бабушке! Ординарца — сменить! Ты чего стоишь? Кругом марш! Жук выругал меня последними словами, побежал к Денисенко хлопотать, но тот упрямо твердил: «В обоз!» Тогда Жук пошёл на обострение, и часом спустя, бок о бок с Васей Тихоновым, я занимался строевой подготовкой под начальством старого друга, ныне помкомвзвода Виктора Чайкина. Через несколько дней, со скандалом забрав с собой чуть ли не половину ребят, Жук ушёл в дивизионную разведку. С тех пор я потерял его из виду, хотя время от времени получал с оказией приветы, а впоследствии, с переходом на тыловой паек, то буханку хлеба, то банку тушёнки, которые тут же съедались в дружеском кругу. Ни разу не встречал я больше Музыканта, Приходько и других ребят, ушедших с Жуком, и лишь на марше увидел на мгновенье промелькнувшего в машине подполковника Локтева. А Юра Беленький так и остался в разведке, правда уже без «педалей» — командир полка счёл велосипеды излишней роскошью. Мы прожили в палаточном лагере ещё недели две, пока не пришёл долгожданный приказ. Разобрав палатки, погрузив на автомашины и повозки имущество полка, мы в полном походном снаряжении выстроились на дороге. — Домой шагом марш! — весело скомандовал комбат Ряшенцев. И мы отправились домой — пешком по Европе. ГЛАВА О СЧАСТЛИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ Последующие два месяца мне как-то не запомнились. После бурной фронтовой жизни, с её острыми переживаниями и опасностями, эти месяцы промелькнули довольно уныло и бледно. Наша дивизия вновь расположилась в сыром лесу, километрах в пяти от разрушенного белорусского городка, и мы с первых же дней принялись за возведение капитального жилья. Работали на совесть, потому что знали, что если не успеем построить к зиме казармы, то будем мёрзнуть в палатках. С утра до позднего вечера мы расчищали территорию, рыли котлованы под фундаменты, заготавливали и перетаскивали на своих плечах строительный лес, тесали и пилили бревна, а к ночи, выжатые до основания, без сил валились на «перины», как прозвали ребята набитые соломой тюфяки. Мы быстро обносились и похудели — тыловой паек не шёл ни в какое сравнение с богатыми фронтовыми харчами. Мы понимали, что страна оголодала за войну и большего не в состоянии нам дать, но одним пониманием сыт не будешь. Первое время нас поддерживали посылки от Жука и мешок картошки, честно заработанный Виктором в МТС за ремонт дизеля. Но в дальнейшем ускользать на приработки не удавалось, а посылки приходить перестали: Локтев и Жук уехали в Москву на парад Победы в составе колонны Первого Украинского фронта. (Несколько месяцев спустя я смотрел кинорепортаж о празднике Победы и, увидев проходящих по экрану Локтева и Жука, насмерть перепугал соседей своим ликующим воплем.) Старшие возрасты демобилизовывались, и мы всем полком провожали убелённых сединами ветеранов. В новеньком, с иголочки, обмундировании, надев ордена и медали, они стояли в прощальном строю, и на глазах старых солдат были слезы. После торжественной церемонии ряды перемешались, «папаши» обнимали и целовали «сынков», которые так долго были их равноправными товарищами, и донельзя взволнованные уходили на станцию. Уехал и папа Чайкин, старый ворчун и, к моему искреннему удивлению, дважды орденоносец: лишь после его отъезда я узнал, что ротный писарь подбил гранатами два танка и вместе с Виктором прямо на поле боя вытащил из горящей тридцатьчетверки тяжело раненных, полузадохнувшихся ребят. На прощанье папа Чайкин неожиданно для всех расчувствовался и, осыпав поцелуями своего «непутёвого молокососа», откровенно прослезился. — Первый раз батя разнюнился! — поражался Виктор, у которого самого глаза были на мокром месте. — Сдаёт старик, не иначе! Не покидали мысли о доме и меня. Было обидно, конечно, что не заработал никакой награды и что не пройтись мне по главной улице города с высоко поднятым носом, но я успокаивал себя тем, что войну хотя и к шапочному разбору, но повидал. Теперь очень хотелось учиться, читать умные книги и набираться знаний, чтобы стать таким же образованным и уважаемым человеком, каким был Сергей Тимофеевич Корин и каким так хотел стать незабвенный друг Володя Железнов. Мать засыпала меня письмами. Она сообщала, что двадцать восьмой год в армию до сих пор не призвали, и требовала, чтобы я на этом основании просил о демобилизации. На этот случай она выслала мне мой паспорт. Виктор, знавший мою историю, предлагал переговорить с Ряшенцевым, но я никак не мог на это решиться: как-то неловко было перед ребятами. Так продолжалось до середины августа, и я уже начал было привыкать к будням тыловой жизни, как в течение недели произошли события, перевернувшие все вверх дном. В один прекрасный день Виктор, напустив на себя крайне таинственный вид, повёл меня в штаб батальона, где Ряшенцев, улыбаясь, вручил мне маленький листок. Это была выписка из приказа о награждении гвардии рядового Полунина медалью «За отвагу». Я прочитал, на мгновение совершенно обалдел и вместо уставного: «Служу Советскому Союзу!» под общий смех присутствующих бросился комбату на шею. Потом, это я помню абсолютно точно, ударился вприсядку, что-то вопил — одним словом, чуть не помешался от счастья. Неожиданно мне в голову пришла ужасная мысль, и прерывающимся от страха голосом я спросил, не розыгрыш ли это, поскольку никаких подвигов за собой я не припомню. Но развеселившийся Ряшенцев заверил, что все в полном порядке и что медаль, которую мне на днях вручат, сделана из такого же серебра, как те две, что звякают на груди у хохочущего Виктора Чайкина. Едва я успел вернуться к себе и вызубрить наизусть пять-шесть волшебно прекрасных строчек выписки из приказа, как меня окликнули. — Полунин, на выход! Я высунул голову из палатки — и протёр глаза: передо мной, с вещмешком в одной руке и чемоданом в другой, стоял брат. Этого уже было слишком много для одного человека, и от криков, с которыми я бросился в широко распахнутые братские объятия, могли, наверное, поднять по тревоге полк. Брат ехал домой — медицинская комиссия его демобилизовала. Слава богу, война закончилась, и солдат с наспех залеченными ранами незачем было держать под ружьём. По дороге он повидался с отцом, благо волею судьбы они оказались в одной армии, и отец велел передать, что тоже собирается ко мне нагрянуть. Я во все глаза смотрел на брата, радуясь происшедшей в нём перемене. Два года назад, когда я провожал его на фронт, брат был щуплым подростком с почерневшим от бессонницы типичным лицом солдата, которого изводит нарядами вне очереди старшина. Теперь же он был уверенным в себе здоровым малым с широкими плечами, привыкшими к тяжести полевой рации и карабина; он много раз участвовал в боях, брал Минск, Кенигсберг и Берлин, заработал пулю в бедро и орден, ленточка которого уже успела обтрепаться. До самого отбоя мы сидели, говорили и никак не могли наговориться. Мы долго ахали, когда установили, что восемнадцатого апреля нас разделяли несколько десятков метров: в тот день полк брата пошёл через деревню у Шпрее, где погиб Митя Коробов. Если бы я не спал, как сурок, а смотрел на проходящую колонну, мы могли бы встретиться ещё четыре месяца назад! За ночь брату нужно было добраться до Минска, где знакомый военный комендант обещал посадить его на московский поезд, и мы расстались — как оказалось, ненадолго. Прошло несколько дней. Внешне ничего не изменилось, я жил прежней жизнью: радовался, когда давал норму — десять кубов земли в день, вместе со всеми считал дни до воскресенья, когда можно было поспать лишний часок, по вечерам перечитывал Таины письма и с отбоем мгновенно засыпал. И в то же время шестое, подсознательное чувство мне подсказывало, что предстоят большие перемены. 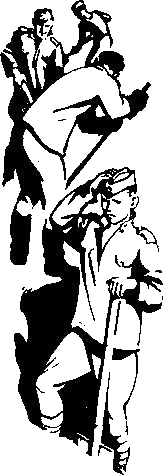 И вот однажды командир взвода вызвал меня из котлована. — Комбат приказал явиться, — сообщил он. — К тебе какой-то майор приехал. Приведи себя в порядок — и быстро! Какой там может быть порядок! Не чуя под собой ног, я бросился в штаб батальона. За столом рядом с Ряшенцевым сидел отец — постаревший, с седыми висками, самый родной из всех майоров. Моя судьба решилась в несколько часов. Ряшенцев взял у меня паспорт и отправился в штаб дивизии, откуда возвратился с предписанием о моей демобилизации, как шестнадцатилетнего, ввиду несовершеннолетия. Не успел я как следует осмыслить эту новость, как Ряшенцев «от имени и по поручению» вручил мне медаль и временное к ней удостоверение. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, то волнуюсь, вспоминая: стоит ли говорить, что творилось в моей душе тогда? Отец, с первых дней провоевавший всю войну, быстро нашёл с Ряшенцевым общий язык; они понравились друг другу, а военные люди в таких случаях редко ограничиваются на прощанье простым рукопожатием. На ужин в честь своего гостя Ряшенцев созвал друзей-офицеров, каждый из которых принёс «сухой паек» — по банке свиной тушёнки; гвоздь программы, трехлитровую бутыль водки, комбат всеми правдами и неправдами добыл сам. За столом оказались и мы с Виктором. Пока офицеры знакомились с отцом и находили общих знакомых, мы, забившись в угол и махнув рукой на все приличия, съели по килограммовой банке тушёнки — подвиг, который легко совершил бы в то время каждый солдат на нашем месте. Я вспоминаю об этом не только потому, что мы впервые за два месяца досыта наелись, но и потому, что история с тушёнкой имела своё продолжение. Отец до сих пор разводит руками, вспоминая, как я отличился в тот вечер. Служба есть служба, и офицеры, не говоря уже о Викторе, пили понемногу. Я же, не выносивший ранее сивушного запаха, дул водку стаканами. На глазах у потрясённых свидетелей я выпил за вечер больше литра и, что самое удивительное, оставался совершенно трезвым. Теперь-то я понимаю, что разгадка этого чуда находилась в пустой банке из-под тушёнки, но тогда необычайно вырос в собственных глазах и нетерпеливо ждал случая, чтобы продемонстрировать свою уникальную стойкость к алкоголю. Недели через две такая возможность была предоставлена. На вечеринке в честь моего возвращения собрались приятели, и я показал им, как пьют орлы-гвардейцы: залпом выкушал стакан водки, закусил дымом и… дальше ничего не помню, кроме того, что мне было очень плохо. Поздним вечером Ряшенцев и Виктор проводили нас на станцию и усадили на платформу товарного состава, идущего в сторону Минска. Мы расцеловались, и с первым оборотом колёс закончился самый кратковременный и незабываемый период моей жизни. Уставший отец дремал в углу, укрывшись шинелью, а я всю ночь не сомкнул глаз. «Все возвращается на круги своя» — семь лет назад мы, совсем ещё мокроносые пацаны, по этой дороге ехали зайцами в Интернациональную бригаду; теперь я возвращаюсь домой тем же путём и тоже зайцем. Я думал о друзьях моего детства, ещё не зная, что никого из них нет в живых: Гришка и Ленька действительно погибли при бомбёжке, а Федька Ермаков, наш славный Портос, ещё в сорок первом был смертельно ранен в бою с фашистской карательной экспедицией. Я вспоминал Сергея Тимофеевича и Володю, и вновь переживал их гибель, и давал клятву навсегда сохранить в своём сердце благодарную память об этих замечательных людях; я вспоминал кроткого Митю Коробова и смешного Митрофанова, ушедших из жизни накануне Победы, Виктора Чайкина и Юру Беленького, протянувших мне руку дружбы после трагического боя у озера, маленького героя Заморыша, лопоухого Музыканта и до конца оставшегося для меня загадкой Жука, знаменитого разведчика Петра Савельева. Я вспоминал о них всю дорогу, горевал о погибших, вытирал набегавшие слезы печали и потом думал о том, что я счастливый человек. Не потому, что остался жив и еду домой — так сложилась судьба, не моя это заслуга, и тут гордиться нечем. Я счастливый потому, что осуществились мои мечты: мы победили, и я внёс свою крохотную лепту в эту Победу. И я знал, что буду гордиться этим до конца жизни. Моя повесть подходит к концу, осталось рассказать совсем немного. Через два дня я впервые оказался в Москве и прямо с Белорусского вокзала поехал на Красную площадь. В Мавзолей, увы, в тот день не пускали, и я, полюбовавшись кремлёвскими башнями, отправился на Казанский вокзал. По дороге меня задержал патруль — снова подвёл внешний вид. Перед самым отъездом я получил новое обмундирование, в котором выглядел весьма карикатурно, поскольку на складе оказались только большие размеры: длиннющая, чуть ли не до колен, гимнастёрка, брюки-галифе, в которые я влезал до плеч, и огромные, сорок четвёртого размера ботинки. Сержант-патрульный даже облизнулся от удовольствия, увидев такое огородное пугало. — Документики! — щёлкая пальцами, приказал он. — Торопишься? В отпуск небось? Ничего, ты у меня парочку дней в комендатуре строевухой позанимаешься! Он изучил моё свидетельство, и лицо его вытянулось. Дружески похлопав огорчённого сержанта по плечу, я поспешил к билетным кассам и быстро понял, что честным путём мне на поезд не попасть. Потрясая документами, взмыленные от духоты и беспокойства, штурмовали кассы сотни солдат. По залу носились туманные слухи, что где-то формируется «пятьсот весёлый», как называли в войну сборные поезда из теплушек, но толком никто ничего не знал. Я решил добираться зайцем и пошёл на перрон — изучать обстановку. И здесь мне повезло: я познакомился с группой инвалидов, которые возвращались домой из госпиталя. Они оказались славными ребятами и тут же предложили ехать вместе: «От фрицев отбились и от контролёров как-нибудь отобьёмся!» Инвалиды представили меня проводнику, как провожающего, я помог им втащить в вагон вещи и сам устроился на любимой всеми пассажирами тех лет сверхплацкартной третьей полке. Двое суток дороги я прожил как лунатик и ничего о них не помню. Чуть ли не на ходу выпрыгнув на перрон вокзала, я ринулся к уходящему переполненному трамваю, ухватился за ручку и на подножке доехал до рынка. Отсюда до моего дома было три минуты бега. Торопливо отвечая на приветствия и поздравления знакомых, я вбежал в подъезд, в один миг оказался на третьем этаже, рванул на себя до боли знакомую фанерную дверь нашей клетушки и, задыхаясь, сказал: — Здравствуй, мама! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
|||||||