 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Компьютерра :: Нортон Андрэ :: Херберт Фрэнк Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Храм Диониса :: Рагнарёк :: Аквариумист :: Ифтах и его дочь :: Тюремные дневники :: Сказка про Evil Джека :: Ночной экспресс :: Сельский быт |
Двуликий ЯнусModernLib.Net / Приключения / Наумов Яков Наумович, Яковлев Андрей Яковлевич / Двуликий Янус - Чтение (стр. 8)
— Поправим, товарищ комиссар. Есть такая мысль: возобновим «розыск». — То-то. Можно и «розыск» возобновить. Попробуйте… Теперь Ната и Сбойчакова. Им тоже не к чему знать, что Малявкин у нас. Надо им дать понять, что он бежал, что ли. С них хватит. Как, можно сделать так, чтобы поверили? — Постараемся, товарищ комиссар, — вздохнул Скворецкий. — У вас все? — поднялся комиссар. Скворецкий с Горюновым переглянулись. Комиссар пристально посмотрел на одного, на другого и опустился в кресло: — Что еще? Выкладывайте. — Есть еще одно соображение, товарищ комиссар, — нерешительно начал Скворецкий. — Не выпустить ли «Быстрого» в эфир? Семь бед — один ответ. — В эфир? — переспросил комиссар. — Чтобы он отстукал немцам шифровку того же содержания, что он скажет и связнику? — Именно, — подтвердил Кирилл Петрович. — Того самого: «Музыкант» провалился. Я уцелел. Прошу указаний. И «Г, М», конечно. — А что? — оживился комиссар. — Идея неплохая. Наступать так наступать. Действуйте. Только вот что: шифровка — прежде. Сначала он должен шифровку передать, а потом на явку идти. Так будет лучше. — Может получиться не лучше, а хуже, — возразил Скворецкий. — Представляете себе: отобьет он шифровку, а ему ответ — сиди, жди указаний. Тут уж на явку не пойдешь. А следующая — через две с лишним недели. Во вторую пятницу. — Это немцы-то, абвер, сразу примут решение? Дадут ответ, не докладывая начальству? Сомневаюсь, брат ты мой, сомневаюсь. Вот если резидент, тот может сам решить. Сразу. Ему санкций ждать неоткуда. — Но «Быстрый» же пойдет не к резиденту, а к связнику. — А кто он, этот связник, мы знаем? Нет! И куда он поведет «Быстрого», тоже не знаем. Давайте уж лучше сначала шифровку, а потом на явку. Сразу. Без интервала. Возник было спор: как посылать радиограмму — открытым текстом или шифром? Ведь «Быстрый» шифра не знал, шифр был известен только «Музыканту», а о том, что «Музыкант» ознакомил «Быстрого» с шифром и кодом, немцы вряд ли знают. Скорее всего, нет. — И все же шифром, — настаивал Скворецкий. — Только шифром. Уверен, иначе нельзя. Пошлем открытым текстом — немцы заподозрят неладное. А так… Пусть ломают себе голову. Не могут они исключить, что Гитаев сообщил Малявкину шифр и код. После длительного обсуждения с Кириллом Петровичем согласились послать радиограмму шифром. Вернувшись от комиссара, Скворецкий и Горюнов сразу принялись за работу: дел было много, и все срочные. Долго они ломали голову над убежищем для «Быстрого», «крышей», — из тюрьмы-то надо его через день-другой выпускать. К Сбойчаковой — исключено. Верная расшифровка — там же его брали. К Варламовым — и того хуже. Так куда его девать? Горюнов было заговорил о Синицыной, но сам тут же от этой мысли отказался, вспомнив, как его там принимали. Решили поговорить с самим Малявкиным. Немало Кирилл Петрович и Виктор думали над тем, как обеспечить проверку Малявкина, контроль каждого его шага. Сошлись на том, что Горюнов возьмет на себя роль «приятеля» «Быстрого» и вместе с ним поселится. Оставались Попов с Константиновым да еще Сбойчакова и Ната. Как быть с ними? Как им внушить мысль, не вызывая подозрений, что Малявкина надо искать? Кирилл Петрович морщился: — Ну, Сбойчакова, бог с ней. Такой заморочить голову ничего не стоит. Она того и заслуживает. А Попов? Константинов? Хорошие ребята, офицеры, столько нам помогали. От души, от чистого сердца. Теперь же изволь водить их за нос. Душа не лежит… — Да-а, — согласился Горюнов. — Обидим ребят. По-моему, тут комиссар переосторожничал. — Ну, ты уж и скажешь, — неожиданно рассердился Скворецкий. — А вдруг Попов, Константинов или кто-то из их окружения окажутся в поле зрения резидента? Нельзя этого исключать. Тогда, узнай Попов и Константинов, что Малявкин арестован, скажи кому об этом, и все… Конец! А ты — «переосторожничал»! Глава 14 Прошло несколько дней, до предела заполненных работой. Наступила среда. Четвертая среда месяца — июля 1943 года. Хотя Кирилл Петрович пришел в наркомат в двенадцатом часу дня, бодрый и подтянутый, все же спал он не более четырех часов: лег в седьмом часу утра — все были срочные дела. И сегодня дел было множество — сложных дел. И первое — Малявкин. Решающая беседа с ним, которая должна была коренным образом повернуть судьбу вчерашнего предателя, «Быстрого», «гада», как выразился Виктор Иванович Горюнов. Получится ли? Возьмется ли Малявкин за решение сложных, чреватых для него смертельной опасностью задач? Справится ли? Должно получиться! Должен взяться. Должен справиться. Кровью, жизнью своей, если потребуется, должен загладить свои преступления. Вот что предстояло довести до его сознания. И сделать это должен был он, майор Скворецкий. Он должен был вести и направлять Малявкина по многотрудному пути, предугадывая любой ход, любой шаг противника. Врага. Он и Горюнов. «Я и Горюнов, — усмехнулся майор собственным мыслям. — Ишь ты! А комиссар? А другие товарищи, участвующие в этом деле? А Ната? А сотрудники милиции, занятые розыском убийцы Евстафьева? А многочисленные работники института, не жалеющие сил, чтобы раскрыть тайну исчезновения документов профессора Варламова? И многие, кого мы еще не знаем, но которые в любую минуту придут на помощь, если потребуется. Нет, шалишь! Нас — много… Расфилософствовался, — еще раз усмехнулся Скворецкий. — А что? Философия правильная. Хорошая философия, хоть куда!» — Давай, — сказал он, заходя к Горюнову, — вызывай этого «Быстрого». Начнем… С Малявкиным все получилось очень просто: уламывать его идти на явку, взяться за трудное, связанное с риском для жизни дело не пришлось. Впрочем, Кирилл Петрович иного и не ожидал. Иное дело Виктор — тот продолжал посматривать на Малявкина исподлобья, не особенно стараясь скрыть свою к нему неприязнь. А Малявкин? Он не таил своих чувств: едва сообразив, о чем идет речь, поняв, что ему предоставляется возможность загладить свое преступление, Малявкин разрыдался. Дав Малявкину прийти в себя, Скворецкий и Горюнов начали его инструктировать: о выходе в эфир, затеваемой игре с германской разведкой, затем о явке — технике встречи, цели, задачах. Ему сообщили только то, что было нужно для успешного выполнения задания. Ни слова лишнего. Слезы слезами, а доверие он должен был еще завоевывать, и завоевывать делом. Закончить инструктаж Кириллу Петровичу, однако, не довелось: его неожиданно вызвал комиссар. Не зная, как долго задержится, Кирилл Петрович предложил Горюнову продолжить разговор без него. Вернулся он, однако, скоро, но сразу вызвал машину и стал собираться. — Придется вам тут действовать без меня, — сказал он Горюнову и Малявкину. — Текст шифровки готов, дело для начала нехитрое — отстукивать. Ну, а явка… все равно не мне на явку идти. Ты, Виктор, не теряй времени, если не успею вернуться. Вот только куда вас девать? — повернулся он к Малявкину. — Не возвращаться же сюда, в тюремную камеру. Насчет «крыши» мы еще не решили. Тревога Кирилла Петровича была напрасной: как раз за время его отсутствия Горюнов с Малявкиным нашли выход. Вернее, нашел Малявкин, а Виктор одобрил его предложение. Все было очень просто. У Бориса был друг детства, Генка Костюков. Дружили они до ухода Малявкина на фронт. В семье Костюковых Борис был как у себя дома. Сейчас Генка, уже в звании капитана, воевал где-то на юге. На фронте был и его отец, и младший брат. В маленькой двухкомнатной квартире, на Пресненском валу, жили мать и старшая сестра Генки. Обе с утра до поздней ночи работали на фабрике. Все это Малявкин узнал, когда однажды удрал от Гитаева и, не сказав тому ни слова, побывал у Костюковых. Не удержался. Мать Генки, не старая еще женщина, под пятьдесят, потомственная ткачиха, встретила Бориса, как родного. Она не на шутку обиделась, узнав, что Малявкин, прибывший в длительную командировку, устроился у каких-то случайных знакомых (так ей сказал Борис: не мог же он назвать Варламовых!), так как в его комнате поселились новые жильцы. — Чай, и у нас мог бы, — выговаривала она Борису. — Не чужие. А то пошел невесть к кому. Обидел. Я тебе говорю, дурню, обидел… У честной женщины и в мыслях не было подумать о Борьке Малявкине, которого она знала чуть не с пеленок, худое. Борис был смущен, растерян и стал отговариваться тем, что он не один. С приятелем. — Мог и с приятелем прийти, устроила бы. Вон комната пустая стоит, мужики наши на фронте, — горестно вздохнула Генкина мать, утирая фартуком слезы. — Надумаешь — приходи. Считай, что комната твоя. Все складывалось как нельзя лучше. Предложение Костюковой решили принять. А в роли приятеля Малявкина, фронтового друга, должен был выступить Горюнов. Уладив с «крышей» «Быстрого», Кирилл Петрович уехал в институт. Планы его опять нарушил директор института. Только на этот раз он позвонил не Скворецкому (был, видимо, недоволен майором, считал, что тот действует недостаточно активно), а прямо руководству наркомата. Оттуда последовал звонок комиссару, а тот уже вызвал Кирилла Петровича. А в институте случилась новая трагедия. Снова убийство. Сотрудники института были растеряны, деморализованы, никто не мог ничего понять. Жертвой на этот раз стала женщина, сотрудница отдела кадров Антонова. Убита Антонова была в том же парке, что и Евстафьев, и опять финкой. Погибшей не было и тридцати лет; она была живой, умной, на редкость миловидной женщиной, отличным работником. Отзывались все о ней очень тепло, с похвалой. Правда, поговаривали, что в личной жизни она бывала легкомысленна, имела немало поклонников, но толком никто ничего не знал и ни одного имени не называл. Не в этом, во всяком случае, была причина гибели Антоновой: убита она была не на почве ревности. Об этом говорили все обстоятельства преступления. А обстоятельства эти были таковы. Труп обнаружили тоже утром, как и труп Евстафьева. Одежда убитой была изорвана. Сумочка выворочена, а ее содержимое — документы, деньги, прочее — расшвыряно по сторонам. И что любопытно: деньги, продовольственные карточки, документы — все находилось на месте. Эксперты из уголовного розыска, начавшие расследование, выдвинули такую версию: преступник пытался что-то отобрать у своей жертвы, что-то искал. Эту версию подтвердил тщательный осмотр вещей убитой. Под подкладкой сумочки, куда убийца, очевидно, не успел добраться, помешали, — обнаружили два исписанных листка бумаги, сложенные в несколько раз. Содержание этих листков было таково, что уголовный розыск сразу же передал их директору института, а тот принялся звонить руководству НКГБ. Сейчас оба листка лежали перед Скворецким. На одном из листков, адресованном директору института, крупным женским почерком было написано: Докладываю, что несколько дней назад, приводя в порядок для архива личное дело Иваницкого И. Г., я обнаружила в этом деле листок, который прилагаю. Как он попал в дело, не знаю, но он лицевой стороной подклеился к другому документу, и потому я не обнаружила его раньше. Из содержания письма вы поймете, почему я не сообщила о нем сразу, настолько в нем все чудовищно и невероятно. Но вот теперь, после событий последних дней (я имею в виду бегство Варламова и убийство Евстафьева), мне пришлось взглянуть на вещи другими глазами, и я сочла необходимым передать вам этот документ. Под этим стояла подпись убитой и дата: вчерашнее число. — Она писала, — отрывисто сказал директор, увидев, что майор прочел записку, — Антонова. Ее почерк. Я руку Екатерины Михайловны знаю. Скворецкий взял другой листок. Адреса в тексте не было, но сверху стояло: «Заявление». Больше ничего. Кому заявление, не сказано. Кирилл Петрович быстро пробежал малоразборчивые, загибавшиеся книзу строки: Не могу молчать! Профессор Варламов П. А. никакой не профессор, а шпион. Вернее, и профессор и шпион. Он агент немцев. Фашистов. Три дня назад он предложил мне давать ему подробные сведения по работам нашей лаборатории, куда он не вхож, обещал большие деньги и продукты. Если не соглашусь, сказал, что меня убьют. «Тебя прикончат» — так и сказал. Он сказал также, чтобы я не вздумал его выдать, все равно мне никто не поверит, а ему поверят, меня же так и так убьют или посадят за клевету. Что делать? Стать шпионом я не хочу, у меня сын погиб на фронте. Как заставить мне поверить? Перед смертью не врут, поэтому я пишу это заявление и кончаю с собой. Так и так мне не жить, да и зачем жизнь? Я свое прожил. Арестуйте немедленно эту собаку — Варламова. Смерть фашистским гадам! Иваницкий И. Г. Датировано заявление было маем текущего года. — Кто такой Иваницкий? — спросил майор, кончая читать и аккуратно складывая бумаги. — Иваницкий? — переспросил директор. — Был у нас такой. Монтер по приборам. Чудо-монтер. Золотые руки. Образования почти никакого, а кудесник. Самородок. Но — алкоголик. В семье из-за этого были постоянные скандалы. Жена у него с тяжелым характером, больная. Последнее время он был сам не свой, а в мае повесился. Думали — из-за семейных неурядиц. Вот тебе и семейные неурядицы! Но Варламов-то… Мерзавец! Каков мерзавец! А я еще его защищал. Теперь ясно, почему он бежал… И — убийство. Все ясно! — Простите, — задал вопрос Скворецкий, — но у меня складывается впечатление, будто вы полагаете, что профессор Варламов причастен к убийству Антоновой? — А как же? — крикнул директор. — Как же? Не сам, конечно, нет, в это я никогда не поверю, но его сообщники. Это же очевидно. Они каким-то путем пронюхали, что у Антоновой есть документы, изобличающие Варламова, и вот результат. Картина ясная. — Да-а, — задумчиво заметил Кирилл Петрович. — Ясная… Уж слишком ясная. Это мне и не нравится. И еще: зачем Антоновой понадобилось выносить такие документы из стен института? Директор не отвечал. Он метался по кабинету, не глядя на Скворецкого, не обращая на него никакого внимания. Майор кашлянул. — Могу я задать еще один вопрос? Директор круто остановился, словно наскочил с разбегу на невидимое препятствие: — Вопрос? Ах, вопрос! Пожалуйста. Задавайте. Хоть сотню. — Вот тут, в заявлении, сказано, что профессор Варламов требовал какие-то сведения. А зачем? Разве он сам, будучи одним из ведущих сотрудников института, не был достаточно осведомлен о разрабатываемых проблемах? Что-то одно с другим не вяжется. Директор с недоумением посмотрел на Кирилла Петровича: — Почему не вяжется? Варламов о работах не его лаборатории и не мог быть осведомлен. Сотрудники одной лаборатории понятия не имеют, чем занимается другая. Таков у нас порядок. — Так, ясно. А какого мнения вы об убитой, Антоновой, как о работнике, о человеке? Директор пожал плечами. — Сейчас, по-моему, это не существенно. Поздно ею интересоваться… — А все же? — настаивал майор. — Если вам так нужно, скажу. Работник она отличный и человек хороший. Ничего иного сказать не могу. — Советский человек, вы полагаете? — Да, советский, вполне советский. — Директор не пытался скрыть, что нелепые, на его взгляд, вопросы майора вызывают у него раздражение. Но Скворецкий невозмутимо продолжал: — Значит, советский? Чем же вы объясняете, что отличный работник, советский человек обнаруживает такой документ (он указывает на заявление Иваницкого) и до особых обстоятельств молчит? Никому ни слова. Директор вновь пожал плечами и не нашелся что ответить. Выждав с минуту, Кирилл Петрович задал новый вопрос: — Скажите, кто-нибудь в институте, кроме вас, знает о письме Иваницкого и записке Антоновой? Знаком с их содержанием? — Нет, никто. Если не считать, конечно, сотрудников уголовного розыска. Но это не институт… — Я хотел бы взять с собой эти документы, — сказал Скворецкий, беря со стола злополучные листки бумаги. — Кроме того, мне нужны были бы личные дела Антоновой и Иваницкого. Если, конечно, вас это не очень затруднит. — Говорите прямо: почерки нужны? Сличать будете? Я вам и так скажу: все правильно. Она писала. Екатерина Михайловна. И он. Иваницкий. Его каракули я тоже знаю. Запомнил. И стиль его. Впрочем, если надо, берите. Только вы мне вот что скажите: этому будет конец? — Директор повысил голос. — Дадут наконец институту спокойно работать? Скворецкий так стиснул челюсти, что на скулах у него заходили желваки. Голос звучал глухо: — Товарищ директор, я не понимаю вашего тона и не могу его принять. Слушая вас, можно подумать, что мы, чекисты, — виновники происходящих у вас событий. Это переходит всякие границы… — Ах, границы! — взорвался директор. — Мне некогда выбирать выражения. Мне работать, работать надо, вы понимаете? Ваше благодушное «будем искать» — знаю, знаю ваш ответ! — меня не устраивает. Вы, видите ли, не понимаете моего тона, а я не понимаю вашей невозмутимости, равнодушия. — Равнодушие! Ну, знаете ли… Может, вы ожидали, что я буду закатывать у вас истерики? — Скворецкий тоже повысил голос. — Этого не будет. Равнодушие! В каждом деле есть своя специфика: в вашем — своя, в нашем — своя. Да, мы ищем и будем искать, мы ведем расследование, в исходе которого не сомневаемся, но я ПОКА не могу привести к вам убийцу, так же как и профессора Варламова. Всему свое время. Если руководство наркомата найдет нужным, я вас ознакомлю с ходом расследования, хотя и не вижу в этом смысла, а повышать голос, кричать… Директор стоял, глядя куда-то в сторону, тяжело дыша. — Ладно. — Он махнул рукой. — Я действительно погорячился. Прошу извинить. Ведите свое расследование. Только очень прошу: поторапливайтесь… Кирилл Петрович не вернулся сразу в наркомат. Он вышел из института и углубился в путаные дорожки запущенного парка, под сенью кустов и деревьев которого разыгрались за последние дни одна за другой две трагедии. Но майор не пошел к месту убийства — ни первого, ни второго. К чему? После того как там побывали сотрудники уголовного розыска, вряд ли он мог обнаружить что-либо новое. Нет, майору просто хотелось побыть одному, как следует все обдумать. Вот и сейчас, бродя по пустынному парку, он попытался привести в систему обрывки мыслей, возникших в разговоре с директором института. Последнее убийство вновь осложнило дело, еще раз показало, что перед чекистами такой враг, каждый лишний день пребывания которого на свободе отмечен кровью. И пока он не обезврежен, нет никому ни сна, ни отдыха, ни покоя. Но кто он? Кто? Казалось, это убийство что-то проясняет: все нити тянутся к Варламову. Не он, конечно, убийца, но очень похоже, что убийство совершено с целью предохранить профессора от разоблачения, значит, совершено его сообщниками или теми, кто пытается уберечь Варламова от органов Советской власти. И — письмо Иваницкого… Да, это письмо… Правда, экспертиза почерка еще не проведена, ее предстоит провести, но результат предугадать не трудно: директор института узнал почерк. А тут еще записка Антоновой. Все очевидно. Настолько очевидно, что даже директор, еще вчера и мысли не допускавший о причастности профессора Варламова к вражеским делам, сегодня иначе как мерзавцем и преступником его не величает. А ведь директор, крупный ученый, не один десяток лет проработал бок о бок с Петром Андреевичем, как говорится, не один пуд соли с ним съел. И у него даже тени сомнения не осталось в виновности Варламова. Да, пропажа документов, бегство профессора, убийство Антоновой, письмо… Одно к одному. Очевидность явная. Очевидность!.. Но вот эта-то очевидность, как бы связавшая в единый узел все нити вокруг имени Варламова, и беспокоила Скворецкого больше всего, вызывала у него чувство глубокой тревоги. Уж СЛИШКОМ все было очевидным, слишком одно к одному. Майор не кривил душой, когда говорил об этом директору. Кирилл Петрович долго ходил по дорожкам и аллеям парка, сопоставлял, анализировал и думал, думал… Будем исходить из того, что письмо написал не кто иной, как Иваницкий, и все в нем сказанное — правда, рассуждал майор. Допустим. Но прими мы эту версию, и немедленно возникают десятки всяких «но». Начнем с того: зачем было автору письма кончать с собой? Аргументация самоубийства, содержащаяся в письме, звучит совсем неубедительно. Примем, однако, то, что пишет Иваницкий, объясняя причины своего самоубийства, за истину, тогда сразу возникает другой неразрешимый вопрос. Если автор письма пошел на самоубийство, чтобы разоблачить Варламова, то есть на самый крайний шаг — пожертвовать жизнью, — так почему он не довел дела до конца: не отправил своего письма, не передал его в органы госбезопасности, в милицию, директору, наконец? Куда он его девал? Вот тут-то и не сходятся концы с концами, никак не сходятся. Новый вопрос: как попало письмо в личное дело Иваницкого? Как могло туда попасть? Опять нелепость. Ну хорошо, допустим невероятное: попало. Но если попало, то как оно могло там так долго пролежать, не будучи обнаруженным? Уж будьте уверены, личное дело Иваницкого после самоубийства листали вдоль и поперек. И ничего не нашли? «Подклеилось»?! Наивно. Нет, с письмом Иваницкого явно неладно, опять концы не сходятся с концами. Вернемся к прежней версии. Все правда: письмо подлинное и действительно завалялось в личном деле. Но почему тогда Антонова, найдя это письмо, не представила его сразу в дирекцию? Зачем писала свою записку? Странно все это. Но еще невероятнее другое: для чего ей надо было нести такой документ домой? Не вяжутся такие поступки с образом убитой, никак не вяжутся. Недаром директор не мог ничего ответить на этот вопрос. А сами обстоятельства убийства? Нашел же убийца время обшарить всю одежду своей жертвы, вывернуть содержимое сумочки. А за подкладку той же самой сумочки не заглянул? Нет, это уж слишком странно, настолько странно, что вызывает мысль о нарочитости всех обстоятельств преступления. Именно — нарочитости! Вот если письмо и записку за подкладку сумочки сунула не убитая, а… убийца, тогда да, тогда все становится на свое место, все делается до предела ясным… «Постой, постой… — остановил Кирилл Петрович ход собственных рассуждений. — Не слишком ли далеко ты зашел, старина? А почерк? Почерк письма, и не только письма — записки? Это как?» Он тут же махнул рукой: пустяки! Если убийца мог сфабриковать почерк Иваницкого, он способен подделать и почерк Антоновой. Чего проще! И так подделать, что никакая экспертиза не поможет. Есть такие артисты, мастера своего дела. Ясно одно: убийца многое знал об институте, его делах, его людях. Знал о самоубийстве Иваницкого. Раздобыл образец его почерка. Знал и убитую, имел ее почерк. Вывод: надо немедленно самым тщательным образом проверить окружение убитой. «Однако, — подумал Скворецкий, — достаточно ли доказательств, чтобы отвергнуть принятую всеми, тем же директором, версию? Да, пожалуй, достаточно. А принять новую, только что родившуюся? Вот тут доказательств маловато. И главное, что делать дальше?» Внезапно майор остановился: ему пришла дерзкая мысль. Он круто повернулся и поспешно зашагал к институту. Миклашев, когда вошел Скворецкий, возился с какими-то приборами. Больше в комнате никого не было. Миклашев поднял голову и с недоумением посмотрел на вошедшего: — Вы ко мне? Что вам угодно-с? Кирилл Петрович подошел к Миклашеву и медленно, с расстановкой сказал: — Константин Дмитриевич, мне хотелось бы рассчитывать на вашу откровенность. Полную откровенность. Это крайне необходимо. Вот, прочтите. — Он протянул Миклашеву записку и письмо. Тот отпрянул, демонстративно заложив руки за спину и отрицательно покачав головой. — Нельзя ли без фокусов, — сухо сказал майор. — Сейчас не до того. Убедительно прошу — прочтите… Глава 15 В обширном особняке на Тирпитцуфере, 74, главной резиденции абвера, получившей наименование «Лисья нора» — столько там было путаных переходов, узких коридоров, внезапных тупиков, — в одном из кабинетов над массивным рабочим столом склонился генерал Грюннер. Близился вечер. Генерал внимательно изучал лежавший перед ним документ, вчитывался и вдумывался в каждое слово. Кончив читать, генерал закрыл папку, с минуту помедлил и вызвал адъютанта. — Полковник Кюльм? Майор Шлоссер? — спросил он тихим, невыразительным голосом. — Так точно, господин генерал. Прибыли. Ждут. — Пусть войдут. Небрежно ответив на почтительное приветствие вошедших и указав кивком головы на придвинутые к столу кресла, генерал спросил: — Почему, господин Кюльм, не докладываете о ходе операции «Зеро»? В чем дело? Пожилой, с изрядно поседевшей шевелюрой полковник, не успевший еще опуститься в кресло, начал багроветь: — Господин генерал, прошу извинить, но я докладывал. Заброска «Музыканта» и «Быстрого» прошла успешно, они трижды выходили на связь. Обосновались у «Трефа». «Музыкант» наладил связь с «Зеро». Надо полагать, операция по изъятию документов у «Трефа» развивается успешно. — «Надо полагать»? — Генерал пристукнул кулаком по столу. — Меня мало интересует, мой дорогой Кюльм, что вы полагаете. Мне нужен «Треф», живой или мертвый. Его работы. Мне нужна связь с «Зеро». Связь… Ну? Что же вы молчите? Где связь? — Я… — начал полковник. — Я… — Что — вы? Когда последний раз «Быстрый» выходил на связь? Майор Шлоссер? — Около двух недель назад, — поспешно вскочил майор. — Две недели! — деланно вскидывая вверх руки, воскликнул генерал. — Две недели! А вы, Кюльм, «полагаете», что все идет успешно. Н-да!.. Все больше и больше распаляясь, генерал недвусмысленно дал понять, что при создавшихся условиях, когда полковник, инспектор специальных училищ абвера, не в состоянии обеспечить связь с засланными им агентами, придется подумать о перемещении полковника. Может, настала пора сменить обстановку, перевести его из глубокого тыла в действующую армию, на Восточный фронт? Полковник слушал молча, крепко закусив нижнюю губу. На его сильно побледневшем, сухощавом лице не дрогнул ни единый мускул, только под левым глазом билась какая-то жилка. — Насколько помню, — продолжал бушевать генерал, — контроль за операцией по обработке «Трефа» и обеспечению «Зеро» связью был возложен на вас, Кюльм? Лично на вас. «Музыкант» и «Быстрый» — ваши люди? Ваши! Ваша рекомендация? Ваша! Да что вы молчите, в конце концов? Отвечайте! — Никак нет, господин генерал, — резко возразил полковник. — Люди не мои — майора Шлоссера. Вам это превосходно известно. Майор их мне рекомендовал… — Вам? А вы — мне? Майор Шлоссер, что вы можете сказать о «Музыканте» и «Быстром»? Помните: речь идет о вашей голове. В отличие от полковника, майор заметно трусил, говорил робко, неуверенно: — Господин генерал, я представлял исчерпывающие характеристики на этих агентов. Самые исчерпывающие. Полковник одобрил. Вы оказали обоим высокую честь и лично с ними беседовали… — Не хотите ли вы сказать, Шлоссер, что я отвечаю за ваших людей? — Господин генерал, и в мыслях не было! — Итак, характеристики характеристиками, а что вы лично, лично, — генерал подчеркнул это слово, — можете о них сказать? — Я лично… Мне… Мне кажется, что «Музыкант» вполне надежен: целиком нам предан, смел, находчив. Не раз проверен. В школе он пробыл свыше полутора лет. Участвовал в акциях: собственноручно уничтожал непригодных. «Быстрый»? «Быстрый» — давний знакомый «Музыканта». Его друг. «Музыкант» рекомендовал «Быстрого». «Быстрый» сомнений также не вызывал… — Так вот, нет вашего «Музыканта». Свое отыграл. Провалился. Остался один «Быстрый». И тот… Впрочем, читайте. — Генерал достал из папки документ и протянул его майору. Это было донесение «Зеро», отправленное из Москвы около трех недель назад и дошедшее до генерала только сейчас. В нем сообщалось, что «Музыкант» и «Быстрый» схвачены военной прокуратурой. «Музыкант» при попытке к бегству убит, а «Быстрый» скрылся. Связи с ними нет. «Зеро» остался опять без рации и требовал связи. Прочитав донесение, майор Шлоссер сразу обмяк. Он съежился, стремясь поглубже уйти в кресло. Полковник подтянулся. — Повторите дату, — сухо сказал генерал, — когда получена последняя радиограмма «Быстрого». Точно. Майор назвал число. Генерал потянул к себе донесение, всмотрелся в текст и пожевал губами. — Да, «Зеро» писал два дня спустя. Ваше счастье… Но что это за связь? Вам известно, какими каналами пользуется «Зеро»? Ах, известно?! Так вот: на такую связь уходят недели. Недели! А риск? Попробуйте-ка поддерживать связь через посредников — посольство дружественной нам страны, числящейся нейтральной. Да и к этому посольству ряд промежуточных ступеней, иначе — провал. Так нельзя! «Зеро» без связи — не «Зеро». Связь — это приказ адмирала. Связь, Кюльм. И — «Треф». Операция должна быть успешно завершена, а для этого «Зеро» нужен помощник, особенно теперь, после провала «Музыканта». И как он только мог попасться? — Я думаю… — начал майор, — я полагаю… Военная прокуратура? «Музыкант» был жаден. Это было. Не тут ли причина провала? Взял лишнее… — Прокуратура? — недобро усмехнулся генерал. — Знаем мы, что за прокуратура. Ход советской контрразведки. — Но «Музыкант» убит, — парировал полковник. — Если контрразведка — ей он нужнее живой. Я склонен верить «Зеро». — Возможно, — согласился генерал. — Но… связь? Я приказывал готовить резервные группы для Москвы. Шлоссер! Что сделано? — Приказ выполнен, господин генерал. В моей школе подготовлено несколько человек. Самыми надежными надо считать «Кинжала» и «Острого». — «Кинжал» — это тот, брюнет? — Так точно, господин генерал. У вас превосходная память. — Что же, готовьте заброску. В этот момент на столе генерала мигнула лампочка. Генерал поморщился и снял телефонную трубку: — Ну, что еще?.. Хорошо, жду. На пороге вырос обер-лейтенант. — Господин генерал, «Быстрый» вышел в эфир, вот текст. 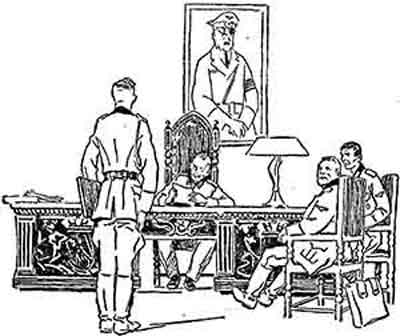 Радиограмму «Быстрого» генерал сам зачитал вслух. «Быстрый» кратко докладывал историю своего и «Музыканта» задержания. (Услышав упоминание о продскладе, приободрившийся майор подал реплику: «Я же говорил — жаден». Генерал не удостоил его вниманием.) Как сообщал «Быстрый», «Музыкант» при побеге погиб. Он, «Быстрый», вывихнул ногу, но ушел. Отлеживался. Теперь в порядке. Убежище сменил. Просит инструкций и питания для рации — садятся батареи. Идет к дантисту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
|||||||