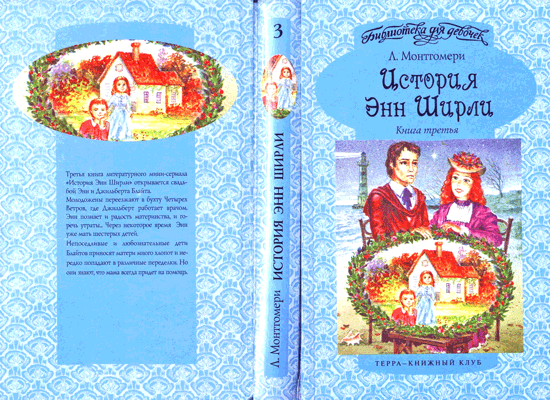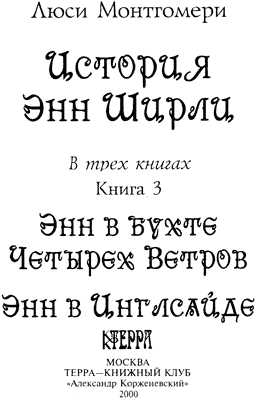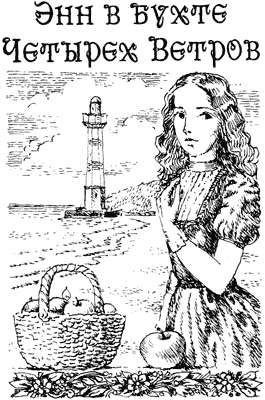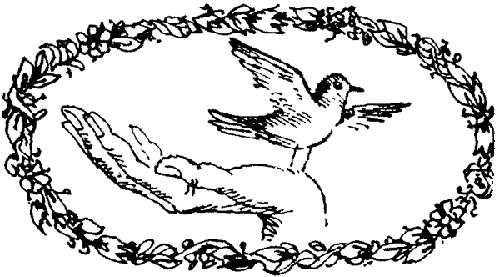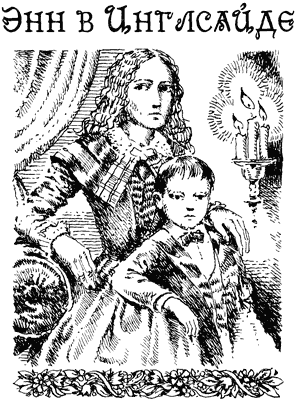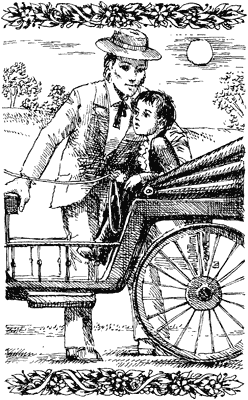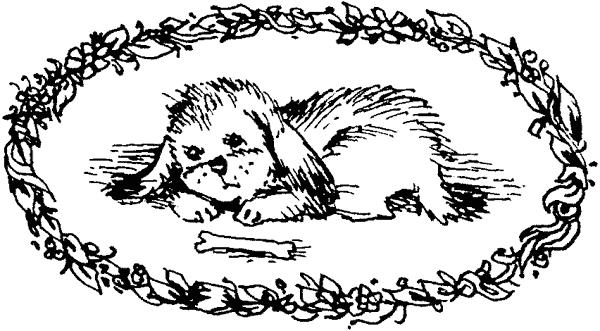История Энн Ширли. Книга 3
ModernLib.Net / Сентиментальный роман / Монтгомери Люси / История Энн Ширли. Книга 3 - Чтение
(Весь текст)
|
Автор:
|
Монтгомери Люси |
|
Жанр:
|
Сентиментальный роман |
|
-
Читать книгу полностью (779 Кб)
- Скачать в формате fb2
(884 Кб)
- Скачать в формате doc
(321 Кб)
- Скачать в формате txt
(310 Кб)
- Скачать в формате html
(879 Кб)
- Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|
|
ИСТОРИЯ ЭНН ШИРЛИ. Кн. III
Перевод с английского
Р.
Бобровой Художник
А. Махов
Энн в бухте Четырех ветров
Глава первая НА ЧЕРДАКЕ ГРИНГЕЙБЛА
— Наконец-то я могу забыть про геометрию! — сказала Энн, забрасывая потрепанный томик Евклида в сундук с ненужными книгами и торжественно захлопывая его крышку.
Чердак Грингейбла, как и полагается каждому порядочному чердаку, был полон загадочных теней. Через открытое окошко, возле которого стоял сундук, задувал теплый, напоенный цветочными ароматами ветерок. Перед окном покачивались ветви тополей, а дальше раскинулся яблоневый сад, до сих пор обильно плодоносящий. За ним начинался лес, по которому вилась заколдованная Тропа Мечтаний. Из другого окна открывался вид на голубое с белыми барашками море — прекрасный залив Святого Лаврентия, где, как изумруд, лежит остров Абегвейт. Это индейское благозвучное название давно забыто, и теперь он зовется островом Принца Эдуарда.
За истекшие три года Диана Райт немного располнела, но ее глаза были все такие же черные и блестящие, щеки — такие же розовые и ямочки на них такие же очаровательные, как и в тот далекий день, когда они с Энн поклялись друг другу в вечной дружбе. На руках у нее спало кудрявое существо, которое вот уже два года было известно в Эвонли как «малышка Энн-Корделия». Конечно, все жители Эвонли знали, почему Диана назвала дочку Энн, но никто не мог понять, откуда Диана взяла второе имя — Корделия. Ни в семье Барри, ни у Райтов никто не носил это имя. Миссис Эндрюс сказала, что Диана наверняка выкопала его в каком-нибудь дешевом романчике, и удивлялась, как Фред допустил, чтобы она окрестила дочку «Корделией». Но Диана и Энн только загадочно улыбались. Они-то знали, откуда взялась Корделия.
— Ты всегда ненавидела геометрию, — сказала Диана с улыбкой, вспоминая их школьные годы. — И вдруг тебе пришлось ее преподавать! Наверно, ты рада расстаться со школой?
— Нет, мне нравилось преподавать все, кроме геометрии. Мне было совсем неплохо в Саммерсайде. Когда я вернулась домой, миссис Эндрюс предупредила меня, чтобы я не воображала, будто замужество окажется приятнее, чем жизнь школьной учительницы. Наверно, она, как Гамлет, считает, что лучше «терпеть невзгоды наши и не спешить к другим, от нас сокрытым».
Энн рассмеялась — так же весело и звонко, как раньше. Услышав ее смех, Марилла, которая на кухне варила сливовое варенье, улыбнулась, а потом вздохнула, вспомнив, что теперь этот смех будет редко звучать в Грингейбле. Марилла была безмерно рада, что Энн выходит замуж за Джильберта Блайта, но во всякой радости есть примесь грусти. Те три года, что Энн прожила в Саммерсайде, она приезжала домой почти каждый уик-энд и проводила здесь каникулы. Когда она выйдет замуж и уедет, вряд ли можно будет надеяться видеть ее чаще, чем раз в полгода.
— Не слушай ты миссис Эндрюс, — тоном многоопытной жены сказала Диана. — Конечно, в семейной жизни всякое бывает. Но, поверь мне, Энн: если женщина выбрала мужа по душе, ее ждет счастливая доля.
Энн с трудом сдержала улыбку. Ее всегда немного забавляло, когда Диана изображала умудренную жизнью матрону.
«Может быть, после четырех лет замужества и я буду говорить таким же тоном, — думала она. — Нет, наверно, все-таки чувство юмора мне этого не позволит».
— Вы решили, где вы будете жить? — спросила Диана.
— Решили. Об этом я и хотела тебе рассказать, когда позвонила по телефону и попросила прийти. Кстати, я никак не могу привыкнуть к тому, что в Эвонли появился телефон. Это так не вяжется с нашей милой старомодной деревней.
— Между прочим, телефон — дело Общества. И хлопот это потребовало немалых. Кто только не вставлял им палки в колеса! Но они все-таки добились своего. Ты сделала великое дело, Энн, когда основала Общество. А помнишь оранжевый клуб?
— Я не уверена, что так уж благодарна Обществу за телефон. Конечно, это очень удобная вещь — даже более удобная, чем наши с тобой сигналы. И, как говорит миссис Линд, «не пристало Эвонли тащиться в хвосте». Но как-то мне не нравится, что деревня обзаводится, по шутливому определению мистера Гаррисона, «современными неудобствами». Мне бы хотелось, чтоб она навсегда осталась такой, какой была во времена моего детства и юности. Я понимаю, что это и глупо, и сентиментально — и невозможно. Телефон, конечно, вещь прекрасная, но половина Эвонли подслушивает разговоры.
— Да, — вздохнула Диана, — это самое худшее в <общей» телефонной линии. Очень раздражает, что, едва начинаешь набирать номер, тут же слышишь, как соседи поднимают трубки. Говорят, миссис Эндрюс потребовала, чтобы телефон поставили у нее на кухне — можно было бы готовить обед и одновременно слушать чужие разговоры. Когда мы с тобой разговаривали, я четко слышала, как били скрипучие часы Пайнов. Нас подслушивала либо Джози, либо Герти.
— Ах, значит вот почему ты спросила: «Вы что, завели новые часы?» А я и не поняла, о чем ты говоришь, зато услышала громкий щелчок — видимо, у Пайнов бросили трубку. Ну Бог с ними, с Пайнами. Как говорит миссис Линд, «Пайнов только могила исправит». Я хотела поговорить с тобой на более приятную тему. Мы уже знаем, где будем жить.
— Правда, Энн? И где же? Поблизости от Грингейбла?
— Нет, к сожалению, не очень. Джильберт будет врачом в бухте Четырех Ветров — в шестидесяти милях отсюда.
— Шестьдесят миль! Это все равно что шестьсот, — вздохнула Диана. — Самое дальнее, куда я могу отлучиться из дома, — это в Шарлоттаун.
— Нет, ты должна приехать в бухту Четырех Ветров! Это самая красивая бухта на нашем острове. Возле гавани лежит деревня Глен Сент-Мэри, и в этой деревне живет двоюродный дед Джильберта доктор Дэвид Блайт. Старик там практиковал пятьдесят лет, а теперь хочет передать свою практику Джильберту. Он уже в годах, и ему тяжело ездить по вызовам. Но он останется в деревне, так что нам надо будет искать жилье. Я уже рисую в уме свой дом и обстановку — вплоть до последнего стула и занавесок на окне. Это будет мой собственный маленький испанский замок.
— А куда вы поедете на медовый месяц?
— Никуда! Не смотри на меня с таким ужасом, милая. Не уподобляйся миссис Эндрюс. Та, конечно, снисходительно скажет, что людям, которые не могут себе позволить свадебное путешествие, лучше провести медовый месяц дома, и тут же напомнит, что Джейн с мужем отправились после свадьбы в Европу. Но я хочу провести медовый месяц в Четырех Ветрах — в моем собственном домике.
— И ты решила венчаться без подружек?
— У меня никого нет на эту роль. Все — и ты, и Фил, и Присцилла, и Джейн — уже вышли замуж, а Стелла преподает на другом конце Канады, в Ванкувере. Больше у меня нет «родственных душ», а других я приглашать в подружки не хочу.
— Но фата-то у тебя будет?
— А как же! Без фаты я не буду себя чувствовать настоящей невестой. В тот вечер, когда Мэтью привез меня со станции, я сказала Марилле, что я слишком некрасива, чтобы кто-нибудь захотел на мне жениться — разве что какой-нибудь миссионер. Мне казалось, что миссионеры не очень-то разборчивы — не всякая девушка захочет жить среди каннибалов. Поглядела бы ты на миссионера, за которого вышла замуж Присцилла! Красив и загадочен, как тот принц, о котором мы с тобой когда-то мечтали. А как одевается! Я в жизни не встречала человека, на котором бы так сидел костюм. И как влюблен в Присциллу — только и говорил о ее «неземной красоте». Правда, в Японии нет каннибалов.
— Во всяком случае, твое венчальное платье — просто чудо, — восхищенно проговорила Диана. — Ты в нем выглядишь настоящей королевой — высокая, стройная, с царственной осанкой. Как ты ухитряешься сохранять фигуру, Энн? А я все толстею — еще чуть-чуть, и не поймешь, где у меня талия.
— Это уж, видно, как кому на роду написано, — сказала Энн. — Во всяком случае, миссис Эндрюс не заявит тебе, как мне, когда я вернулась из Саммерсайда: «Ты все такая же тощая, Энн». Ладно бы — стройная, а то — тощая.
— Миссис Эндрюс признала, что твое приданое не хуже, чем у Джейн, хотя Джейн вышла замуж за миллионера, а ты — за «нищего доктора без цента за душой».
Энн засмеялась.
— У меня и правда хорошие платья. Я люблю красивые вещи. Никогда не забуду свое первое нарядное платье — то, которое Мэтью подарил мне для выступления в школьном концерте. До этого мне приходилось носить ужасно некрасивые вещи. А в тот вечер у меня будто выросли крылья.
— Помнишь, на концерте Джильберт декламировал «Бинген на Рейне» и так выразительно посмотрел на тебя, говоря «Но есть другая, не сестра…». А ты жутко сердилась на него за то, что он сунул в нагрудный карман твою тюлевую розочку. Тогда тебе и не снилось, что ты выйдешь за него замуж.
— Что ж, опять же, видно, так мне на роду было написано, — рассмеялась Энн, и они пошли вниз.
Глава вторая ДОМ НА БЕРЕГУ БУХТЫ
За всю свою историю Грингейбл не знал такого события. Даже Марилла не могла скрыть волнения.
— В этом доме никогда не было свадьбы, — заявила она в свое оправдание миссис Рэйчел Линд. — Я с детства помню слова старого священника, что каждый дом должен быть освящен рождением, смертью и свадьбой. Смертей здесь было достаточно: в этом доме умерли мой отец с матерью, и Мэтью тоже. И в усадьбе даже однажды родился ребенок. Когда мы только что сюда въехали, у нас был женатый работник, и его жена родила здесь сына. Но свадьбы в Грингейбле не было ни разу. Как странно думать, что Энн выходит замуж! Иногда она мне все еще кажется той девочкой, которую Мэтью привез со станции четырнадцать лет назад. Даже не верится, что она уже взрослая. Никогда не забуду, как я была ошарашена, увидев девочку. Интересно, что стало бы с мальчиком, которого мы усыновили бы, если бы не ошибка. Как сложилась бы его жизнь?
— Что ж, это была очень удачная ошибка, — отозвалась миссис Рэйчел, — хотя, признаюсь, я не всегда так думала. Помнишь, какую истерику закатила как-то Энн? Но с тех пор многое изменилось.
Миссис Рэйчел вздохнула, но тут же снова оживилась: чего вспоминать умерших, когда в доме скоро состоится свадьба!
— Я подарю Энн два полотняных покрывала, — сказала она, — с коричневыми полосками и узором из кленовых листьев. Энн говорит, что они опять вошли в моду. Вот только эти покрывала лежат в чехлах, еще со дня смерти Томаса, и, наверно, пожелтели. Но до свадьбы еще целый месяц. Буду расстилать их на ночь в саду — лучше росы ничто не отбеливает ткани.
Только месяц! Марилла вздохнула, потом сообщила с гордостью в голосе:
— А я подарю ей плетеные половички, которые лежат в сундуке на чердаке. Вот уж никогда не думала, что она их попросит — все теперь хотят коврики. Но Энн говорит, что ничего другого у себя в доме на пол не постелет. Они ведь и правда очень красивые — такие яркие, полосатенькие. Я сплела их из самых красивых лоскутков. Занималась этим несколько зим. И еще я наварю ей сливового варенья на год. Какая странная история: на наших старых сливах за три года не распустилось ни одного цветочка, и я уже подумывала, не срубить ли их. И вдруг этой весной они стоят все белые от цветов, а к осени дают такой урожай, какого я не припомню за все годы, что живу в Грингейбле.
— Слава Богу, что Энн все-таки выходит замуж за Джильберта. Все эти годы я молилась об этом, — заметила миссис Рэйчел тоном человека, который не сомневается, что его молитвы были услышаны Всевышним. — Как хорошо, что она отказала тому молодому человеку из Кингспорта. Конечно, он богат, а Джильберт беден — по крайней мере сейчас, — но зато он наш, из Эвонли.
— Он — Джильберт Блайт, и этим все сказано, — удовлетворенно заявила Марилла. Ни за какие сокровища на свете она не призналась бы, что каждый раз, глядя на Джильберта, думает: если бы не мое самолюбие и упрямство, он мог бы быть моим сыном. Марилле казалось, что каким-то необъяснимым образом женитьба Джильберта на Энн поправит сделанную ею ошибку.
Что до самой Энн, она была так счастлива, что ей даже было немного страшно. Есть старое поверье, что боги не любят чересчур счастливых людей. Во всяком случае, некоторым людям чужое счастье просто становится поперек горла. И вот две представительницы этой породы — миссис Эндрюс и миссис Бэлл — явились вечером в Грингейбл и сделали все, что было в их силах, чтобы «открыть Энн глаза»: дескать, не такая уж находка ее Джильберт, да и вовсе не так он в нее влюблен, как в юности. И при этом эти достойные дамы вовсе не были врагами Энн, даже по-своему любили ее и стали бы горячо защищать от нападок посторонних. Что поделаешь, люди непоследовательны в своих поступках.
Пришла и старая подруга Энн Джейн Инглис, урожденная Эндрюс. Добрая натура Джейн не ожесточилась в каждодневных перепалках с мужем, как случилось с ее матерью. Несмотря на то, как говаривала миссис Рэйчел Линд, что она вышла замуж за миллионера, миссис Инглис была счастлива в браке, и богатство ее не испортило. Это была все та же безмятежно-благожелательная розовощекая Джейн, которая искренне радовалась счастью своей подруги и с таким интересом разглядывала приданое Энн, словно оно могло сравниться с ее собственными шелками и драгоценностями. Джейн была не очень умна, но зато никогда никого не обидела — а это тоже талант, может быть, и со знаком минус, но тем не менее завидный и редкий.
— Значит, Джильберт на тебе все-таки женится, — сказала миссис Эндрюс, всем своим тоном выражая удивление. — Что ж, Блайты известны тем, что всегда держат слово. Сколько тебе лет, Энн — кажется, двадцать пять? В мое время двадцатипятилетняя девушка считалась перестарком. Но ты молодо выглядишь. У рыжих всегда свежая кожа.
— Сейчас рыжие волосы в моде, — парировала Энн, улыбаясь, но с холодком в голосе. Чувство юмора помогало преодолевать многие неприятности, но она так и не научилась спокойно реагировать на то, что ее называли рыжей.
— Это верно, — признала миссис Эндрюс. — Каких только причуд не бывает у моды. Что ж, Энн, платьица у тебя очень миленькие и как раз подходят твоему положению в обществе, правда, Джейн? Надеюсь, что ты будешь очень счастлива. Правда, долгая помолвка часто вредит браку. Но так уж у вас с Джильбертом получилось.
— Для доктора Джильберт чересчур молод. Боюсь, что пациенты не будут ему доверять, — изрекла миссис Бэлл и поджала губы с чувством выполненного долга.
Этот визит немного омрачил то удовольствие, которое испытывала Энн при виде красивых платьев и белья, но стрелы соседок не достигли ее исполненной счастья души, и девушка забыла про них, как только пришел Джильберт. Они спустились к ручью и пошли под березами, которые во времена их юности были совсем тоненькими, а сейчас высились, точно колонны из слоновой кости в сказочном сумеречно-звездном дворце. В их тени Энн и Джильберт говорили о будущей совместной жизни и о своем новом доме.
— Энн, я нашел для нас гнездышко.
— Правда? Где? Надеюсь, не в самой деревне? Мне бы этого не хотелось.
— Нет. В деревне свободных домов не оказалось. А этот — небольшой белый домик на берегу бухты — на полпути между Глен Сент-Мэри и мысом Четырех Ветров. Он, пожалуй, стоит немного на отшибе, но когда у нас поставят телефон, это будет неважно. Расположен он замечательно: из окон видна голубая бухта с гаванью, а неподалеку — коса с песчаными дюнами.
— А сам дом, Джильберт, наш с тобой первый дом — какой он?
— Он довольно маленький, но нам двоим места хватит. В нем превосходная гостиная с камином и столовая, которая выходит окнами на море. Есть еще одна небольшая комната на первом этаже, где я устрою кабинет. Дому уже лет шестьдесят — это самый старый дом в округе. Но прежние хозяева содержали его в порядке, а пятнадцать лет назад отремонтировали — перекрыли крышу, заново оштукатурили стены и настелили новые полы. Он с самого начала был построен добротно. Говорят, с ним связана какая-то романтическая история, но человек, у которого я снял дом, не знает подробностей. Он сказал, что все эти старые басни нам расскажет капитан Джим.
— А кто это?
— Это смотритель маяка на мысе Четырех Ветров. Ты полюбишь этот маяк, Энн, его видно из окон гостиной и с крыльца. А светит он, как звезда в ночи.
— А кому принадлежит дом?
— Пресвитерианской церкви Глен Сент-Мэри, и я снял его у попечителей. До недавних пор дом принадлежал пожилой леди — мисс Элизабет Рассел. Она умерла прошлой весной и, поскольку у нее нет близких родственников, завещала свое имущество церкви в Глен Сент-Мэри. Я купил и мебель. Она такая старомодная, что досталась мне за бесценок — попечители уже отчаялись ее продать. Жители Глен Сент-Мэри предпочитают плюшевую мебель и буфеты с зеркалом и инкрустацией.
— Ну ладно, но ведь человек жив не одной мебелью, Джильберт. Ты ни слова не сказал о самом важном — есть ли около дома деревья?
— Множество, моя дриада! Позади дома растут ели, подъездная аллея обсажена пирамидальными тополями, а вокруг очаровательного садика — березовая роща. Дверь из дома ведет прямо в сад, но из сада можно выйти в подъездную аллею, а также к елям — через калитку, которая подвешена между двумя деревьями: петли прибиты к одному, а задвижка к другому. А сверху ветви елей образуют арку.
— Это замечательно! Я не смогла бы жить в месте, где нет деревьев — моя душа томилась бы по ним. Конечно, хотелось бы, чтобы где-нибудь поблизости протекал еще и ручей, но это, наверно, было бы уж слишком хорошо.
— А вот и нет: ручей есть, и бежит он по одному из уголков нашего сада.
— Ну тогда, — счастливым голосом проговорила Энн, — ты нашел дом моей мечты.
Глава третья КАНУН СВАДЬБЫ
— Ты решила, кого пригласить на свадьбу, Энн? — спросила миссис Рэйчел Линд, подрубая салфетки на приданое Энн. — Пора уже рассылать приглашения, даже если все и так знают, что приглашены.
— Я не собираюсь созывать много гостей, — сказала Энн. — Мы с Джильбертом хотим, чтобы на нашей свадьбе были только люди, которых мы любим. Родные Джильберта, мистер и миссис Аллан, мистер и миссис Гаррисон.
— Помнится, ты не всегда считала мистера Гаррисона своим закадычным другом, — сухо заметила Марилла.
— Верно, при первой встрече я не прониклась к нему особой любовью, — ответила Энн, с улыбкой вспоминая эту первую встречу. — Но при более близком знакомстве мистер Гаррисон оказался гораздо лучше, чем я о нем поначалу подумала, а миссис Гаррисон просто душка. Ну и, конечно, я приглашу мисс Лаванду и Поля.
— Разве они этим летом приедут на остров? Я думала, они собираются в Европу.
— Когда они узнали, что я выхожу замуж, они решили не ехать в Европу. Сегодня я получила письмо от Поля. Он говорит, что обязательно приедет на мою свадьбу, и Бог с ней, с Европой.
— Этот мальчуган всегда тебя обожал.
— «Этому мальчугану» девятнадцать лет, миссис Линд.
— Боже, как летит время!
— Поль пишет, что с ними, может быть, приедет Шарлотта Четвертая, если ее отпустит муж. Интересно — носит ли она все еще свои огромные голубые банты? И как зовет ее муж: Шарлотта или Леонора? Я буду очень рада, если Шарлотта будет у меня на свадьбе. Мы ведь вместе готовили свадьбу в Приюте Радушного Эха. Еще приедет Фил с преподобным Джо… Ну, конечно, Диана и Фред с детьми… и Джейн Эндрюс. Мне бы очень хотелось пригласить мисс Стэси, и тетю Джемсину, и Стеллу, и Присциллу. Но Стелла в Ванкувере, Присей в Японии, а тетя Джемсина уехала в Индию повидать дочку, хотя до смерти боится змей. Подумать только, как судьба раскидала моих друзей по свету!
— Господь Бог вряд ли это одобряет, — уверенно заявила миссис Рэйчел. — В мое время люди вырастали, женились и жили там, где родились или где-нибудь поблизости. Слава Богу, что хоть ты остаешься на острове, Энн. Я боялась, что Джильберт ринется куда-нибудь на другой конец света и потащит тебя за собой.
— Если бы все оставались там, где они родились, в деревнях и городах стало бы чересчур тесно, миссис Линд.
— Ладно-ладно, не буду с тобой спорить — я ведь не бакалавр искусств. А в какое время дня состоится церемония бракосочетания?
— Мы решили венчаться в полдень. Тогда у нас будет достаточно времени, чтобы успеть на вечерний поезд.
— Церемония состоится в нашей гостиной?
— Нет, в саду — если не будет дождя. Мы хотим, чтобы над нами было голубое небо и светило солнце. Знаете, когда бы на самом деле мне хотелось обвенчаться — если бы это было возможно? На заре, и чтобы вокруг были розы в цвету. Я бы тихонько вышла в сад, и там бы меня ждал Джильберт. Мы взялись бы за руки и пошли в глубину буковой рощи, и там, под сенью ветвей, как в огромном соборе, мы поклялись бы принадлежать друг другу до гроба.
Марилла пренебрежительно фыркнула. Миссис Линд посмотрела на девушку с ужасом.
— Но это было бы довольно странно, Энн. Даже, наверно, не считалось бы настоящим бракосочетанием. И что сказала бы миссис Эндрюс?
— В том-то и загвоздка, — вздохнула она. — Как часто мы не осмеливаемся поступать так, как нам хочется, потому что боимся, что скажет миссис Эндрюс и ей подобные. Если бы не они, сколько смелых идей можно было бы воплотить в жизнь!
— Иногда я тебя просто не понимаю, Энн, — пожаловалась миссис Линд.
— У Энн всегда был романтический склад ума, — заступилась за нее Марилла.
— Надеюсь, что семейная жизнь это излечит, — утешила себя и Мариллу миссис Линд.
Энн засмеялась и ушла на Тропу мечтаний, где ее вскоре нашел Джильберт. Глядя на них, трудно было поверить, что семейная жизнь излечит их от романтики.
На следующей неделе приехали хозяева Приюта Радушного Эха. Мисс Лаванда за три года, которые прошли со времени их последнего визита на остров, почти не изменилась. Но при виде Поля Энн ахнула. Неужели этот рослый мужчина — тот самый малыш, который сидел у Энн в классе?
— Поль, глядя на тебя, я чувствую себя старухой! — воскликнула Энн. — Мне надо задирать голову, чтобы заглянуть тебе в лицо.
— Вы никогда не состаритесь, мисс Энн, — улыбнулся Поль. — Ни вы, ни мама Лаванда. И я никогда не смогу называть вас миссис Блайт. И никогда не забуду ваших замечательных уроков. Я хочу вам кое-что показать.
«Кое-что» оказалось тетрадкой стихов. Поль сумел облечь свои фантазии в поэтическую форму. Энн была в восторге от стихов Поля. По ее мнению, они свидетельствовали о неоспоримой одаренности автора.
— Ты еще станешь знаменитым, Поль. Я всегда мечтала, чтобы хотя бы один из моих учеников стал знаменитостью. Почему-то мне хотелось, чтобы он стал ректором университета, но великий поэт — еще лучше. Когда-нибудь я смогу похвастаться, что секла розгами Поля Ирвинга. Вот жалость, что я тебя ни разу не высекла. Я упустила такую прекрасную возможность! Но, по крайней мере, я оставляла тебя в классе после уроков.
— Вы еще сами можете стать знаменитостью, мисс Энн. Я читал ваши прелестные рассказы.
— Нет, я знаю, что мои способности ограничиваются миленькими рассказиками, которые нравятся детям и за которые редакции порой радуют меня небольшими гонорарами. Но на большой труд я не способна. Моя единственная надежда на бессмертие — это несколько страничек твоих мемуаров.
Шарлотта Четвертая уже не носила бантов, зато веснушек на ее лице заметно прибавилось.
— Вот уж никогда не думала, что выйду замуж за янки, мисс Ширли, мэм, — сказала она. — Но ведь никогда не угадаешь, что с тобой случится в жизни. И потом, он же не виноват, что родился янки.
— Раз ты вышла замуж за янки, Шарлотта, ты теперь и сама стала янки.
— Ничего подобного, мисс Ширли, мэм! А Том — славный парень. И потом я решила, что мне не стоит быть чересчур разборчивой — другого случая выйти замуж может и не представиться. Том не пьет и никогда не сердится, если я прошу его помочь мне по дому, и в общем я довольна жизнью.
— А как он тебя зовет — Леонора?
— Ой, что вы, конечно, нет, мисс Ширли, мэм. Я бы и не отзывалась на Леонору. Конечно, когда священник нас венчал, он должен был сказать: «Я беру тебя в жены, Леонора», и у меня с тех пор осталось жуткое чувство, что он вовсе не на мне женился и что я не по-настоящему замужем. А теперь вот и ваша свадьба, мисс Ширли, мэм. Мне всегда хотелось выйти замуж за доктора. Как это было бы удобно, когда у детей вдруг случится корь или скарлатина. А Том всего лишь каменщик, но у него очень хороший характер. Когда я его спросила: «Том, можно я поеду на свадьбу мисс Ширли — я все равно поеду, но мне хотелось бы, чтобы ты мне разрешил», он ответил: «Делай, как тебе лучше, Шарлотта, и мне тоже будет хорошо». Приятно иметь такого покладистого мужа, мисс Ширли, мэм.
Филиппа и ее преподобный Джо прибыли в Грингейбл за день до свадьбы. Энн и Фил радостно обнялись, а потом долго тихонько разговаривали в комнатке Энн, делясь воспоминаниями и гадая о том, что будет.
— Королева Анна, у тебя все такой же царственный вид. А я ужасно похудела после родов. И подурнела. Но, по-моему, я нравлюсь Джо и такой. И как это великолепно, что ты выходишь замуж за Джильберта! Рой Гарднер совсем тебе не подходил. Теперь мне это ясно, хотя тогда я на тебя очень рассердилась за то, что ты ему отказала. Ты и вправду неважно с ним обошлась, Энн.
— Насколько я знаю, он пережил этот удар, — с улыбкой сказала Энн.
— О да. Он женился на миленькой девчушке, и они очень счастливы. Все вышло к лучшему. Так говорит Джо и Библия, а на их слово можно положиться.
— А Алек и Алонсо как — женились?
— Алек женился, а Алонсо нет. При виде тебя у меня в памяти всплыли те замечательные годы, что мы прожили в «Домике Патти»! Как нам было там весело!
— А ты туда с тех пор не заезжала?
— Я часто там бываю. Мисс Патти и мисс Мария по-прежнему сидят перед камином и вяжут. Да, чуть не забыла — мы привезли тебе от них свадебный подарок. Угадай что!
— Не представляю. А как они узнали о моей свадьбе?
— Само собой, от меня. Я была у них на прошлой неделе. Они так разволновались! А позавчера я получила от мисс Патти письмо — та просила срочно зайти. Когда я пришла, она попросила меня отвезти тебе от них подарок. Что бы тебе больше всего хотелось из того, что есть в «Домике Патти», Энн?
— Неужели мисс Патти прислала мне своих фарфоровых собак?
— Вот именно. Они у меня в чемодане. И еще они передали письмо. Подожди, сейчас я за ним схожу.
«Дорогая мисс Ширли, — писала мисс Патти. — Мария и я очень обрадовались, услышав, что вы скоро выходите замуж, и желаем вам счастья. Мы с Марией не вышли замуж, но ничего не имеем против того, чтобы это делали другие. Посылаем в подарок фарфоровых собак. Я собиралась оставить их вам по завещанию, потому что знала, что вам они очень нравятся. Но мы с Марией, если на то будет Божья воля, собираемся еще пожить, и поэтому я решила отдать собак сейчас, пока вы еще молоды. Не забывайте, что Гог смотрит направо, а Магог — налево».
— Подумать только, что эти замечательные собаки будут сидеть у моего камина! — с восторгом воскликнула Энн. — Мне и в голову не приходило, что такое может случиться.
В этот вечер в Грингейбле все были страшно заняты — шли последние приготовления к свадьбе. Но Энн все же улучила минуту тихонько уйти из дома. Она пошла на тенистое кладбище Эвонли и молча посидела там у могилы человека, который ее так беззаветно любил.
— Как бы ты радовался, Мэтью, если бы завтра был с нами, — прошептала она. — Но я надеюсь, что ты знаешь о моей свадьбе — там, наверху — и радуешься ей. Где-то я читала, что мертвые живы, пока о них помнят. И для меня ты никогда не умрешь, потому что я никогда тебя не забуду.
Энн положила на могилу цветы и медленно пошла вниз по холму. Стоял теплый вечер. Вокруг в благодатной тишине лежали поля и леса, ставшие Энн родными.
— История повторяется сызнова, — сказал Джильберт Блайт, выходя за ворота своего дома, когда Энн проходила мимо. — Помнишь, как мы в первый раз вместе спустились с этого холма — вообще в первый раз прошлись вместе?
— Как же не помнить! Я возвращалась с кладбища, где я навещала могилу Мэтью, а ты вышел из ворот. И я проглотила гордость и сама заговорила с тобой.
— Я был на седьмом небе. Когда я простился с тобой у ворот Грингейбла и пошел домой, я был самый счастливый человек на свете: Энн меня простила.
— Это мне надо было бы просить у тебя прощения. Какая же я была бессовестная девчонка — ведь тогда на пруду ты спас мне жизнь. А я вместо этого негодовала, что теперь тебе обязана. Я просто не заслуживаю выпавшего мне счастья.
Джильберт засмеялся и стиснул девичью руку, палец которой украшало его кольцо с маленькими жемчужинами — Энн не захотела обручального кольца с бриллиантом.
— Я не люблю бриллианты — с того самого дня, как узнала, что они вовсе не лиловенькие, как я их себе представляла. Никогда не забуду, как я тогда была разочарована.
— Но по примете, жемчуг приносит слезы, — возразил тогда Джильберт.
— Ну и пусть. Слезы бывают и от счастья. В самые счастливые минуты у меня в глазах стояли слезы: когда Марилла сказала, что они решили оставить меня в Грингейбле… когда Мэтью подарил мне мое первое нарядное платье… когда я узнала, что ты поправишься. Так что, Джильберт, подари мне обручальное кольцо с жемчужинами, и я приму и радость, и печаль, которые ждут нас в жизни.
Но на самом деле в этот вечер влюбленные думали только о радости и совсем забыли про печаль. Завтра состоится их свадьба, а на берегу бухты Четырех Ветров их ждет первый собственный дом.
Глава четвертая ПЕРВАЯ НЕВЕСТА В ГРИНГЕЙБЛЕ
В последний день своего девичества Энн проснулась и увидела, что солнце подмигивает ей в окошко, а сентябрьский ветерок весело развевает занавески.
«Как хорошо, что сегодня ясный деньк — радостно подумала она.
Она вспомнила свое первое пробуждение в этой маленькой комнатке: солнце тоже светило в окошко, пробиваясь сквозь цветущую крону Снежной Королевы. То не было счастливое пробуждение, потому что оно принесло с собой горькое воспоминание о разочаровании, постигшем ее в предыдущий вечер. Но с тех пор маленькая комнатка стала ей родной: в ней прошло ее счастливое детство, она была свидетельницей ее девических грез. Энн радостно возвращалась в нее после недель или месяцев отсутствия; у этого окна она провела ночь на коленях, терзаемая страхом за жизнь Джильберта, и здесь же сидела, переполненная счастьем после того, как они обручились. Не раз она проводила здесь ночи без сна — чаще от радости, но порой и от горя. И сегодня она покинет ее навсегда. Сюда переселится пятнадцатилетняя Дора. Энн не сожалела об этом — чердачная комнатка словно была предназначена для юности и девичества, которое для нее сегодня окончится.
Диана приехала с утра — с Фредом-младшим и Энн-Корделией, — чтобы помочь в последних приготовлениях. Дэви и Дора тут же подхватили детей и унесли их в сад.
— Только не давайте Энн-Корделии испачкать платьице, — предупредила их Диана.
— Не беспокойся — Доре спокойно можно доверить ребенка, — сказала Марилла. — Она с ними обращается лучше иной матери. На удивление благоразумная девочка. Не то что та непоседа и фантазерка, которую я воспитала до нее.
Марилла улыбнулась Энн поверх салата. Похоже, что непоседа ей все-таки нравилась больше.
— Да, близнецы — очень славные дети, — похвалила миссис Линд, предварительно убедившись, что те не могут услышать ее слов. — Дора — настоящая маленькая хозяйка, а Дэви растет толковым парнем, несмотря на все его сумасшедшие проделки.
— Первые полгода после его появления я не знала ни минуты покоя, — призналась Марилла. — А потом вроде привыкла. В последнее время он заинтересовался сельским хозяйством и хочет в будущем году работать на ферме. Может быть, я ему и позволю. Мистер Барри меня уже предупредил, что больше не будет ее арендовать.
— Что ж, Энн, денек для твоей свадьбы выдался чудесный, — сказала Диана, надевая фартук поверх своего шелкового платья. — Можно подумать, что мы специально заказали его по каталогу Итона.
— Слишком много денег уходит в этот Итон, — негодующе произнесла миссис Линд, которая не одобряла расползающуюся по стране, подобно щупальцам спрута, систему больших универмагов и не упускала случая выразить свое неодобрение. — Наши девчонки изучают каталоги товаров вместо Библии.
— Зато эти каталоги очень хороши для того, чтобы занять детей. Фред и Энн готовы разглядывать их часами.
— Я обходилась без этих новомодных штучек, — сурово произнесла миссис Рэйчел.
— Будет вам, стоит ли ссориться из-за каких-то каталогов в день моей свадьбы?! — весело одернула их Энн. — Я так счастлива, и мне хочется, чтобы все были счастливы и веселы.
— Дай Бог, чтобы тебе хватило счастья на всю жизнь, — вздохнула миссис Рэйчел. Она опасалась, что Энн испытывает судьбу, во всеуслышанье заявляя, что счастлива. Ради ее же блага Энн следует немного приструнить.
Но вот настал полдень, и по устланной домотканой дорожкой лестнице к своему жениху спустилась невероятно красивая и счастливая невеста — стройная, окутанная дымчатой фатой, с сияющими глазами и огромным букетом роз в руках. Дожидавшийся ее внизу Джильберт глядел на нее с обожанием. Наконец-то Энн будет принадлежать ему — неуловимая Энн, которой он так долго добивался и так долго ждал. Это к нему она спускается — в его объятия. «Достоин ли я ее, сумею ли сделать ее счастливой», — волновался Джильберт.
Но когда он протянул Энн руку и их глаза встретились, молодого врача покинули сомнения. Он будет ей хорошим мужем. Они созданы друг для друга, и что бы ни ожидало их впереди, ничто не сможет их разлучить. Они верят друг другу и не боятся жизненных испытаний.
Энн и Джильберт были обвенчаны в залитом солнцем саду в окружении дорогих друзей. Таинство совершил мистер Аллан, а преподобный Джо прочитал, как позже сказала миссис Линд, «самую красивую проповедь, какую я когда-нибудь слышала». В сентябре птицы почти не поют, но одна пичуга щебетала на ветке яблони, когда Энн и Джильберт клялись в верности друг другу. Энн слышала ее песенку и удивлялась, откуда взялась эта милая пташка. Джильберт тоже слышал ее и подумал, что не удивился бы, если бы им запели величальную все птицы мира. Поль впоследствии написал про это стихотворение, которое сочли лучшим в его первой книжке стихов. Шарлотта Четвертая, услышав этот щебет, уверовала, что это — доброе предзнаменование для ее обожаемой мисс Ширли. Птичка пела, пока не кончилось венчание, и в завершение раздалась звонкая трель. За свадебным столом царили радость и веселье, каких ни разу не видел старый дом. Все те слова, которые испокон веку произносятся на свадьбах, казались свежими, а шутки — безумно смешными. А когда Энн и Джильберт сели в коляску, чтобы ехать на станцию, а Поль забрался на место кучера, вслед им полетели горсти риса и заготовленные близнецами старые башмаки. Особенно в этом прощальном ритуале отличились Шарлотта Четвертая и мистер Гаррисон. Марилла стояла в воротах и смотрела вслед коляске. В конце дорожки Энн обернулась и помахала ей на прощанье. Лицо Мариллы вдруг стало серым и очень старым. Она повернулась и медленно побрела к дому, который Энн в течение четырнадцати лет — даже в свое отсутствие — наполняла светом и теплом.
Но Диана и ее детишки, мисс Лаванда с Шарлоттой Четвертой и Полем и чета Алланов провели вечер в Грингейбле, чтобы две старые женщины не так страдали от нахлынувшего на них вдруг одиночества. Все вместе они очень мило поужинали, вспоминая подробности минувшего дня. А в это время Энн с Джильбертом уже сошли с поезда в Глен Сент-Мэри.
Глава пятая ДОМА!
На станции Энн и Джильберта встречала коляска, которую послал за ними доктор Дэвид Блайт. Сидевший в ней мальчик весело ухмыльнулся и ушел, предоставив молодым самим добираться до дому по озаренной вечерним солнцем прибрежной дороге.
Энн на всю жизнь запомнила картину, которая открылась перед ними, когда они оказались на вершине холма за околицей деревни Глен Сент-Мэри. Оттуда не было видно ее нового дома, но перед ней лежала розовеющая водная гладь — бухта Четырех Ветров. Вдали можно было различить и открытое море, дремавшее в теплом вечернем свете. С одной стороны пролива тянулся низкий песчаный берег с дюнами, с другой — высился мрачный мыс из красного песчаника. Небольшая рыбацкая деревушка уютно примостилась в низине, защищенной от ветра скалами. На фоне дальнего берега бухты виднелось несколько парусных лодок. В маленькой белой церкви звонил колокол, и его звук плыл над бухтой, сливаясь со вздохами моря. На мысу — как путеводная звезда — вспыхивал и гас огонь вращающегося маяка. Далеко на горизонте лентой стлался дым из трубы парохода.
— Какая красота, — тихо проговорила Энн. — Я обязательно полюблю бухту Четырех Ветров, Джильберт. А где наш дом?
— Его отсюда не видно — он прячется вон за той березовой рощицей. От него до Глен Сент-Мэри две мили и одна миля до маяка. У нас будет мало соседей, Энн. Неподалеку стоит только один дом, но я не знаю, кто там живет. Ты не боишься, что тебе будет одиноко, когда я буду уезжать по вызовам?
— Нет — маяк и вся эта красота составят мне компанию. А кто живет вон в том доме, Джильберт?
— Тоже не знаю. Но только не похоже, чтобы тут жили родственные тебе души, а, Энн?
Речь шла о большом доме, покрашенном в такой ядовито-зеленый цвет, что рядом с ним бледнела естественная зелень ландшафта. Позади виднелся сад, а перед крыльцом был ухоженный травяной газон. Тем не менее дом почему-то казался оголенным. Может быть, такое впечатление создавалось от того, что и сам он, и сараи, и сад, и газон, и подъездная дорожка были как-то неестественно опрятны.
— Да, люди, покрасившие дом в такой цвет, вряд ли поймут меня, — признала Энн, — разве что она сделали это нечаянно, как мы с оранжевым клубом. Во всяком случае, ясно, что здесь нет детей. Этот дом даже аккуратнее фермы сестер Копп на Тори-роуд. Хотя, честно говоря, я не ожидала, что это возможно.
Пока молодожены ехали по красной дороге, вьющейся вдоль берега бухты, им не встретилось ни одной живой души. Но у березовой рощи Энн вдруг увидела справа от дороги девушку, которая гнала стаю белых гусей по бархатисто-зеленому холму. На вершине холма росли раскидистые ели, из-за них виднелись желтые дюны и синее море. На девушке было голубое ситцевое платье. Она со своими гусями вышла через калитку у подножия холма, как раз когда Джильберт и Энн проезжали мимо. Девушка остановилась, держа руку на щеколде калитки, и в упор посмотрела на молодоженов. В ее глазах не было любопытства — разве что слабый интерес, — и Энн Даже показалось, что в них мелькнуло что-то враждебное. Но что больше всего поразило Энн — это красота девушки. Такая красота просто не могла не обратить на себя внимания даже в людном городе. Косы цвета спелой пшеницы уложены короной на голове, синие глаза, великолепная фигура, которую не могло скрыть простенькое ситцевое платье, и губы алые, как букетик маков, который она засунула себе за пояс.
— Кто это, Джильберт? — тихо спросила Энн, когда они проехали мимо.
— Ты про кого? — удивился Джильберт, не отрывавший глаз от молодой жены. — Я никого не заметил.
— Ну как же — разве ты не заметил девушку, которая стояла у калитки? Нет-нет, не оглядывайся — она смотрит нам вслед. Я в жизни не видела такой красавицы.
— Что-то не припомню, чтобы мне в Глен Сент-Мэри попадались красавицы. Есть, конечно, хорошенькие девушки, но ничего особенного.
— А эта — особенная. Ты ее, наверно, не видел, а то обязательно запомнил бы. Такое лицо нельзя забыть.
— Может быть, она приехала к кому-нибудь в гости? Или живет в гостинице?
— На ней был белый фартук, и она гнала гусей.
— Может, так, для развлечения. Смотри, Энн, вон наш дом.
Энн глянула — и забыла про красавицу с враждебными глазами. Сердце ее замерло от восторга: ее новый дом походил на большую перламутровую раковину, выброшенную волнами на берег. На фоне вечернего неба четкими лиловыми силуэтами выступали пирамидальные тополя, обрамлявшие подъездную аллею. От сурового дыхания моря дом и сад ограждали голубые ели, в которых ветры без сомнения будут наигрывать свои заунывные и странные мелодии, казалось, они таят загадки, разгадать которые можно, только ступив под их сень. А взгляду, безразлично скользящему по опушке, темно-зеленые ветви никогда не откроют своих секретов.
Ночные ветры уже начинали свою буйную пляску за песчаной косой, а в рыбацкой деревне уже загорались огоньки в окнах, когда Энн и Джильберт подъехали к дому. Дверь его тут же отворилась, и сумерки озарились теплым светом камина. Остановив лошадь, Джильберт помог Энн выйти из коляски и повел ее к калитке между двумя елками. По аккуратной красной дорожке они подошли к двери, перед которой лежала широкая плоская приступка из песчаника.
— Добро пожаловать, родная, — прошептал Джильберт, и рука об руку они переступили порог своего нового дома.
Глава шестая КАПИТАН ДЖИМ
В доме их ожидали старый доктор Дэйв и его жена, которые пришли встретить новых хозяев. Доктор был крупный пожилой мужчина с седыми усами, а миссис Дэйв — маленькая, румяная, с серебристыми волосами. Энн полюбилась ей с первого взгляда.
— Наконец-то вы приехали, милочка. Я очень рада вас видеть. Вы, наверно, устали. Я приготовила легкий ужин, а капитан Джим принес вам свежепойманную форель. Капитан Джим, где вы? А, он, верно, пошел ставить лошадь в конюшню. Идемте наверх — вам надо переодеться с дороги.
Энн поднялась по лестнице, радостно оглядывая дом. Изнутри он тоже очень ей понравился. Как и Грингейбл, это была старинная постройка, дышавшая теплом и приветливостью.
В комнате, куда ее привела миссис Дэйв, было два окна. В одно был виден маяк на мысе Четырех Ветров. Другое смотрело на золотившуюся стерней небольшую долину, через которую протекал ручей. Примерно в полумиле от них, вверх по течению ручья, стоял старый серый дом, окруженный огромными старыми ивами. Его окна словно подглядывали исподтишка, прячась за деревьями. Интересно, кто там живет? Это — ближайшие соседи Энн, и ей хотелось, чтобы они оказались милыми людьми. И тут ей вспомнилась красавица, которая гнала гусей.
«Джильберт считает, что она нездешняя, — подумала Энн, — но мне кажется, что он ошибается. В ней частичка этого моря, неба, самой бухты Четырех Ветров».
Когда Энн спустилась вниз, Джильберт стоял перед камином и разговаривал с каким-то мужчиной. Оба они обернулись, услышав ее шаги.
— Энн, это капитан Бойд. Капитан Бойд, это — моя жена.
В первый раз Джильберт представил Энн постороннему человеку как свою жену, и, произнося эти слова, он буквально сиял от гордости. Старый капитан протянул Энн мозолистую руку, они улыбнулись друг другу и с этой минуты стали друзьями. Две родственные души моментально почувствовали друг друга.
— Рад с вами познакомиться, миссис Блайт. Надеюсь, что вы будете так же счастливы в этом доме, как была в нем счастлива его первая молодая хозяйка. Большего пожелать невозможно. Но ваш муж неправильно вам меня представил. Меня все зовут «капитан Джим», и лучше уж называйте так меня с самого начала — все равно ведь к этому придете. Вы такая милая, миссис Блайт. Глядя на вас, мне кажется, будто я сам только что женился.
Все рассмеялись, и жена доктора пригласила капитана Джима поужинать с ними.
— Большое спасибо. Не откажусь. Это будет для меня редкое удовольствие, миссис доктор. Обычно я ем один, и только отражение моей старой рожи в зеркале составляет мне компанию. Не так уж часто мне выпадает удовольствие посидеть за столом с двумя прелестными женщинами.
На бумаге комплимент капитана Джима может показаться банальным, но он произнес его с такой уважительной старомодной любезностью, что любая женщина, услышавшая от него эти слова, почувствовала бы себя королевой.
Старый моряк был простодушным и благородным человеком. Ему удалось сохранить молодость и в сердце, и в глазах. Джим Бойд был довольно высок, сутул и не очень ладно скроен, но в нем ощущалась выносливость и сила. Обветренное, почти бронзовое лицо было изрыто морщинами, длинные, цвета стали, волосы спадали на плечи. Глубоко посаженные глаза капитана то искрились смехом, то затуманивались мечтой, а порой обращались к морю, точно утратили что-то дорогое. Впоследствии Энн узнала, что именно капитан Джим потерял в его соленых волнах.
В первую минуту моряк показался Энн некрасивым, но когда она узнала его поближе, то забыла про его внешность: за этими грубоватыми чертами скрывалась большая душа.
Все весело уселись за стол. Пылающий камин изгнал из дома стылое дыхание сентябрьского вечера, но в открытое окно задувал свежий бриз. Из окна открывался великолепный вид на бухту и на далекие сиреневые холмы. Миссис Дэйв приготовила ужин, главным блюдом была, несомненно, жареная форель.
— Я подумал, что после дороги вам понравится свежая рыба, — сказал капитан Джим. — А уж свежее ничего не бывает — два часа назад она еще плавала в пруду.
— А кто же сейчас присматривает за маяком, капитан Джим? — спросил доктор Дэйв.
— Мой племянник Алек. Он с ним управляется не хуже меня. Очень вам благодарен за приглашение к ужину: по правде говоря, я сегодня толком не обедал и очень проголодался.
— Да вы, по-моему, морите себя голодом на своем маяке, — сурово сказала жена старого доктора. — Вам просто лень готовить.
— Да нет, миссис доктор, я готовлю, — возразил капитан Джим. — В общем-то я живу, как король. Прошлым вечером ходил в Глен и купил два фунта мяса на бифштексы. Собирался сегодня пообедать на славу.
— И что же случилось с бифштексами? — спросила докторша. — Потеряли по дороге?
— Нет, не потерял, — смутился старый моряк. — Просто к вечеру ко мне на маяк приплелся несчастный голодный пес и попросился ночевать. Не мог же я его выгнать — у него болела лапа, и он еле шел. Ну вот, уложил я его в прихожей на старом мешке, а сам пошел спать. Но что-то мне не спалось. Все думал, что у бедняги очень голодный вид.
— Так вы встали и отдали ему мясо — все два фунта?
— Да ведь у меня ничего другого не было, — оправдывался капитан Джим. — Ничего такого, что понравилось бы собаке. И какой же он был голодный! Проглотил мясо в мгновение ока. Зато я потом сразу уснул и отлично проспал всю ночь — вот только пообедал я неважно — пустой, можно сказать, картошкой. А пес утром рванул домой. Ему, видно, вегетарианская пища не по нутру.
— Подумать только — скормить отличное мясо какому-то никчемному псу! — рассердилась докторша.
— Ну, почему никчемному? Может, кто-то им очень даже дорожит. С виду он и впрямь был неказист, но о собаке нельзя судить по виду. Может, он похож на меня — снаружи не Бог весть что, зато красив душой. Вот Старпому он и впрямь не приглянулся. Послушали бы вы, как он шипел. Но у кота не может быть хорошего мнения о собаке. Так что Старпом в этом вопросе пристрастен. И вот, плакал мой обед, и мне очень приятно смотреть на этот уставленный кушаньями стол. И сидеть в такой очаровательной компании. Как это славно — иметь хороших соседей!
— А кто живет в доме выше по течению ручья? — спросила Энн.
— Миссис Мор, — ответил капитан Джим и добавил: — Со своим мужем Диком.
Энн улыбнулась, решив, что миссис Мор, видимо, верховодит в доме, как и миссис Рэйчел Линд.
— У вас мало соседей, миссис Блайт, — продолжал капитан Джим. — В этой части бухты почти никто не живет. Земля здесь принадлежит мистеру Говарду, и он сдает ее в аренду под пастбища. А вот на другом берегу народу пропасть, и почти все — Макалистеры. Целая колония Макалистеров.
— Ну почему же — там хватает и Эллиоттов, и Крофордов, — возразил доктор Дэйв. — У нас даже говорят: «Боже, упаси нас от чванства Эллиоттов, самомнения Макалистеров и тщеславия Крофордов!»
— Среди них есть и достойные люди, — сказал капитан Джим. — Я много лет плавал с Уильямом Крофордом, и этому человеку не было равных по мужеству, выносливости и правдивости. Башковитых людей в деревне немало. По-моему, потому-то в Глене к ним и придираются. Люди очень не любят тех, у кого больше мозгов, чем у них.
— А кто живет в ярко-зеленом доме примерно в полумиле от нас? — поинтересовался Джильберт.
Капитан Джим расплылся в улыбке.
— Мисс Корнелия Брайант. Она, наверно, скоро придет с вами познакомиться: вы ведь принадлежите к пресвитерианской церкви. Вот если бы вы были методистами, она бы ни за что не пришла. Корнелия терпеть не может методистов.
— Колоритная фигура, — ухмыльнулся доктор Дэйв. — Закоренелая мужененавистница.
— Оттого что не вышла замуж — дескать, зелен виноград? — спросил Джильберт.
— Да нет, виноград тут ни при чем, — серьезно ответил капитан Джим. — Корнелия в молодости была красоткой и могла бы выйти за любого, кто пришелся бы ей по сердцу. Даже и сейчас, стоит ей мигнуть, и все наши вдовцы кинутся делать ей предложение. Просто она вроде бы родилась с хронической ненавистью к мужчинам и методистам. Язык у нее — как бритва, а сердце — добрей доброго. Где бы ни случилась беда, она спешит на помощь. Ни об одной женщине она сроду не сказала худого, а если она и костит нас, мужиков, то нашим дубленым шкурам это нипочем.
— Ну, о вас-то она хорошо отзывается, капитан Джим, — сказала жена доктора.
— Это правда. И мне это не так уж нравится. Получается, что я вроде бы не настоящий мужчина.
Глава седьмая НЕВЕСТА УЧИТЕЛЯ
— А кто была первая хозяйка этого дома, капитан Джим? — спросила Энн после ужина, когда все расселись вокруг камина.
— Мне кто-то говорил, что вы знаете романтическую историю, связанную с ним, — добавил Джильберт. — Может быть, расскажете?
— Верно, знаю. Наверно, я остался один в наших краях, кто помнит, как к нам приехала невеста учителя. Она умерла тридцать лет тому назад, но это была такая женщина, которую невозможно забыть.
— Расскажите про нее, капитан Джим, — попросила Энн. — Мне хочется знать про всех женщин, которые жили здесь до меня.
— Их было всего три: Элизабет Рассел, миссис Нед Рассел и жена учителя. Элизабет Рассел была симпатичная, и умница в придачу, и миссис Нед Рассел тоже была славная женщина. Но ни та, ни другая не шли ни в какое сравнение с женой учителя.
Учителя звали Джон Селвин. Он приехал к нам из Англии, когда мне было шестнадцать лет. Обычно к нам в школу попадала всякая спившаяся шваль. В трезвом виде они кое-как учили детей письму и арифметике, а в пьяном секли их почем зря. Но Джон Селвин был высокий красивый парень и в рот не брал спиртного. Он снял у нас в доме комнату, и мы с ним так подружились, будто между нами не было десяти лет разницы. Мы вместе читали, гуляли и без конца разговаривали. Он хорошо знал поэзию, и по вечерам, когда мы бродили по берегу, читал мне стихи наизусть. Отцу это не больно-то нравилось, но он терпел, надеясь, что, может, стихи вышибут у меня из головы мечту о море. Ну, этого у меня ничто вышибить из головы не могло — мама была из рода потомственных моряков, и тяга к морю у нас в крови. Но я любил слушать, как Джон декламирует стихи. С тех пор прошло почти шестьдесят лет, а я все еще помню кучу стихов, которую от него выучил. Подумать только — почти шестьдесят лет!
Капитан Джим помолчал, глядя в огонь, потом вздохнул и вернулся к своему рассказу:
— Помню, как-то вечером я встретил его на дюнах. У него было такое счастливое лицо — как у вас, доктор, когда вы приехали сюда с миссис Блайт. Я сразу о нем подумал, когда вас увидел. Он сказал, что дома у него осталась невеста и что она к нему скоро приедет. Я не больно-то обрадовался — молодой эгоист был, что тут скажешь, боялся, что, когда она приедет, учитель перестанет со мной дружить. Но у меня, по крайней мере, хватило ума это ему не показать. Он рассказал мне про свою невесту. Ее звали Перси Ли, и она только потому сразу с ним не приехала, что у нее на руках был больной дядя. Он ее вырастил, когда умерли ее родители, и Перси ни за что не соглашалась его оставить. Но дядя недавно умер, и теперь, сказал Джон, она скоро приедет в Глен, и они поженятся. Но в то время еще не было пароходов, и приехать к нам было не так-то просто, особенно женщине.
— И когда вы ее ждете? — спросил я.
— Она отплывает на «Короле Вильгельме» двадцатого июня, — ответил Джон, — так что здесь она должна быть где-то в середине июля. Я хочу нанять плотника Джонсона, чтобы он построил для нее дом. Письмо от нее пришло сегодня утром, и я, еще не открывая его, знал, что оно принесло мне хорошие новости. Я ее на днях видел.
Я не понял: как это — видел? Тогда он объяснил как, но я все равно толком не понял. Он сказал, что у него есть дар, или проклятие, смотря как на это посмотреть. Так он и сказал, миссис Блайт, дар или проклятие. Такой же дар был у его прабабки, и ее за это сожгли на костре как ведьму. На него иногда словно находило… он, если не ошибаюсь, сказал, что «впадает в транс». Так бывает, доктор?
— Да, некоторые люди подвержены трансам, — ответил Джильберт. — Это скорей относится к области психиатрии. Ну, и что же случалось с этим Джоном Селвином во время транса?
— Вроде как сон снился, — скептически заметил доктор Дэйв.
— Нет, он говорил, что во время транса видит, что происходит за много миль от него, — медленно проговорил капитан Джим. — Что происходит и что произойдет в будущем. Иногда эти видения его утешали, а иногда пугали. Так вот, он сказал, что за четыре дня перед нашей встречей с ним приключился такой транс, когда он сидел перед камином. Джон увидел знакомую комнату в Англии. Посреди нее стояла Перси Ли и с радостным видом протягивала к нему руки. Поэтому учитель и ожидал от нее хороших вестей.
— Всего лишь сон, — скептически заметил доктор Дэйв.
— Очень может быть, — согласился капитан Джим. — Я ему то же самое сказал. Мне было не по себе при мысли, что учитель наделен какой-то сверхъестественной силой. Но он ответил: «Нет, это не сон. Но неважно. Если ты об этом будешь думать, ты перестанешь со мной дружить». Я ему сказал, что ни за что на свете не перестану с ним дружить. Но он только покачал головой и сказал: «Мне виднее, Джим. Я уже потерял из-за этого немало друзей. И я их не виню. Иногда я сам себе неприятен. В такой силе есть что-то не то от Бога, не то от дьявола. А мы, простые смертные, не хотим знаться ни с Богом, ни с Сатаной».
Скоро в Глене и во всей округе узнали, что к учителю едет невеста, и все были рады за него. И с интересом следили, как он строит для нее дом. Он выбрал это место, потому что отсюда видно бухту и слышно шум моря. Он разбил для своей невесты сад, но тополя посадил не он, а миссис Рассел. А два ряда розовых кустов — девочки из его школы.
Почти все соседи принесли ему что-нибудь из обстановки. Когда сюда переехали Расселы, люди весьма состоятельные, они привезли вот эту дорогую мебель; а поначалу дом был обставлен очень скромно. Но зато он был богат любовью. Соседки подарили учителю стеганые одеяла, скатерти и полотенца, один сосед сделал шкафчик, другой стол, и так далее. Даже слепая тетя Маргарет сплела для невесты корзиночку из пахучей травы, что растет на дюнах. Жена учителя многие годы держала в ней носовые платки.
Ну, наконец, все было готово — даже дрова положены в камин, оставалось только спичку поднести. Это — другой камин, хотя тот был на этом же самом месте. Мисс Элизабет сложила новый камин, когда делала капитальный ремонт пятнадцать лет тому назад. Тот был большой старомодный очаг, в котором можно было даже быка зажарить. Сколько раз я сидел перед ним и болтал с хозяевами — вот как сейчас…
Капитан опять задумался: перед его глазами проходили видения прошлого.
— Дом закончили первого июля, и учитель стал считать дни до приезда невесты. Ее ожидали в середине июля, но к этому сроку «Король Вильгельм» не пришел. Мы не очень беспокоились — тогда суда часто задерживались на несколько дней и даже недель. Прошла неделя, потом две, потом три. Тут мы начали волноваться, и чем дальше, тем больше. Под конец я просто не мог смотреть в глаза Джону Селвину. Знаете, миссис Блайт, мне казалось, что такое выражение, наверно, было в глазах у его прабабки, когда ее возвели на костер. Он мало говорил, кое-как проводил уроки, а потом уходил на берег и часто оставался там до утра. У нас стали поговаривать, что учитель, похоже, теряет рассудок. Судно опаздывало уже на восемь недель. Наступил сентябрь, а невеста учителя все еще не приехала, и нам казалось, что уже и не приедет.
Тут начался сильный шторм, который не утихал три дня, а на четвертый день к вечеру я вышел на берег. Учитель стоял, прислонившись спиной к скале и сложив руки на груди, и смотрел в море.
Я заговорил с ним, но он не ответил. Его глаза словно видели что-то, невидимое мне, а лицо было похоже на маску мертвеца.
— Джон! — позвал я его, как испуганный ребенок. — Проснись, Джон!
И тут он будто очнулся, повернул голову и посмотрел на меня. Я до сих пор помню, какое у него было лицо, и не забуду, пока не придет мой черед отправляться в последнее плавание. «Все хорошо, — сказал он, — я видел, как «Король Вильгельм» заворачивает за мыс Ист-Пойнт. К утру они будут здесь. Завтра вечером я буду сидеть с молодой женой у собственного очага». Как вы думаете, он и в самом деле его видел? — спросил капитан Джим.
— Кто знает, — тихо отозвался Джильберт. — Большая любовь, как и большое горе, может сотворить чудо.
— Конечно, видел, я в этом убеждена, — сказала Энн.
— Чепуха! — сказал доктор Дэйв, но без прежней уверенности.
— Дело-то в том, — продолжал капитан Джим, — что «Король Вильгельм» и правда пришел следующим утром. Учитель прождал его на берегу всю ночь. Все население Глена от мала до велика высыпало на берег, когда «Король Вильгельм» показался в проливе. Как же мы кричали «ура!».
Глаза капитана Джима сияли. Он заново переживал событие, которое произошло шестьдесят лет назад, и перед его глазами вновь возник потрепанный непогодой парусник, появившийся в утреннем свете солнца.
— И Перси Ли была на борту? — спросила Энн.
— Да, там было две женщины — она и жена капитана. Им очень не повезло — один шторм за другим, потом у них кончился провиант. Но все-таки они наконец прибыли. Когда Перси Ли ступила на пристань и Джон Селвин заключил ее в объятия, все перестали кричать «ура!» и заплакали. Я сам плакал, хотя тогда ни за что бы в этом не признался. Мальчишки ведь ужасно стыдятся слез.
— А Перси Ли была красивая? — спросила Энн.
— Не знаю, можно ли было назвать ее красивой… не знаю, — медленно проговорил капитан Джим. — Как-то об этом никто не задумывался. Она была такая милая и славная, что ее нельзя было не любить. Нет, вообще-то она была миловидная: большие карие глаза, блестящие каштановые волосы и белая, как и у всех англичанок, кожа. Они с Джоном были обвенчаны в тот же вечер в нашем доме. Народу собралось — тьма. Потом мы все проводили молодых до этого дома. Миссис Селвин разожгла огонь в очаге, а мы ушли, оставив их у камина — точно так, как Джону привиделось тогда на берегу. Странно все это, очень странно. Но мне в жизни пришлось повидать много странного.
— Какая прелесть! — воскликнула Энн: ей пришлась по сердцу эта романтическая история. — И долго они здесь жили?
— Пятнадцать лет. Вскоре после их свадьбы я сбежал из дому и нанялся на парусник — такой уж я был в душе бродяга. Но каждый раз, когда я возвращался из плавания, я шел сначала в этот дом и рассказывал миссис Селвин о своих приключениях. Они были счастливы. У них вообще был талант на счастье. Есть такие люди. Они просто не умели долго сердиться. Раза два они поссорились — оба были с характером. Но миссис Селвин однажды со смехом призналась мне: «Я очень переживаю, когда мы с Джоном ссоримся, но все равно в глубине души я счастлива — потому что у меня есть возможность ссориться — а потом мириться — с таким прекрасным мужем». Потом они переехали в Шарлоттаун, а их дом купил Нед Рассел и привез сюда свою молодую жену. Они вечно шутили и смеялись — так мне, по крайней мере, помнится. Мисс Элизабет Рассел была сестрой Алека. Года через два она приехала сюда и поселилась с ними. У нее тоже был веселый нрав. Мне кажется, что стены этого дома пропитаны смехом и весельем. А вы, миссис Блайт, третья молодая жена, которую я вижу в этом доме, и самая красивая.
Энн действительно замечательно выглядела в тот вечер: на щеках ее цвели розы, а глаза сияли светом любви. Даже суровый доктор Дэйв поглядывал на нее с удовольствием, а по дороге домой сказал жене: «Какую рыжекудрую красотку отхватил мой племянник, а?»
— Я у вас замечательно провел время, — заявил капитан Джим, — но пора идти на маяк.
— Приходите к нам почаще, — сказала Энн на прощанье.
— А вы не боитесь, что я стану злоупотреблять вашим приглашением? — спросил капитан Джим с какой-то грустной улыбкой.
— Нет, не боюсь — я всегда буду рада вас видеть — честно-пречестно, как мы говорили в школе.
— Тогда буду приходить. Смотрите, как бы я вам не надоел. И вы тоже иногда меня навещайте, окажите мне такую честь. А то мне там совсем не с кем поговорить, кроме Старпома. Слушать он умеет, и мозгов у него будет побольше, чем у любого Макалистера, но вот разговора от него не дождешься — знай себе мурлычет. Вы молоды, а я стар, но мне кажется, что наши души одного возраста. Мы оба принадлежим к породе людей, которые знали Иосифа,
как говорит мисс Корнелия Брайант.
— Знали Иосифа? — недоуменно повторила Энн.
— Да. Корнелия делит всех людей на тех, которые знали Иосифа и которые не знали. Если у человека сходные с вашими взгляды и он хорошо понимает ваши шутки — тогда он из породы людей, которые знали Иосифа.
— Ах, вот как! — воскликнула Энн. — А я таких людей называю «родственными душами».
— Совершенно правильно, — согласился капитан Джим. — Когда вы сегодня вошли в дом, я сказал себе: «Она из породы людей, которые знали Иосифа». И очень этому обрадовался. Я считаю, что такие люди — соль земли.
Энн с Джильбертом вышли провожать своих гостей. Взошла луна, и бухта Четырех Ветров казалась зачарованной гаванью, куда нет доступа непогоде. Тополя вдоль дорожки, высокие и суровые, как жрецы какого-то мистического ордена, слегка серебрились в лунном свете.
— Мне всегда нравились пирамидальные тополя, — заметил капитан Джим. — Это королевские деревья. Они сейчас не в моде. Говорят, что у них сохнут макушки. Это правда, они действительно сохнут, если каждую весну, рискуя сломать шею, вы не забираетесь по лестнице наверх и не обрезаете ветви. Я сам это делал для мисс Элизабет, и ее тополя никогда не выглядели растрепами. Она была к ним очень привязана. Ей нравились достоинство и надменность этих деревьев. Если вам нужны приятели, миссис Блайт, — вы полюбите клены, но если вам нужно изысканное общество — тогда обратитесь к пирамидальным тополям.
Гости уехали, а Энн с Джильбертом пошли прогуляться по своему саду и посмотреть на ручей. Его прозрачные струи поблескивали в тени берез. Вдоль берега росли маки, которые казались чашами, полными лунного света. Воздух был напоен ароматом цветов, посаженных еще женой учителя. Она, как казалось Энн, посылала им привет и благословение из далекого прошлого. Молодая женщина остановилась и сорвала цветущую ветку.
— Люблю нюхать цветы в темноте, — сказала она. — В темноте словно проникаешь в их самую душу. О Джильберт, этот дом — просто чудо. И я рада, что до нас здесь нашли свое счастье другие молодожены.
Глава восьмая ВИЗИТ МИСС КОРНЕЛИИ БРАЙАНТ
Сентябрь в бухте Четырех Ветров выдался солнечный и тихий: дни стояли теплые, ночи — лунные, на рассвете землю устилала золотистая пелена тумана, а вечерами горизонт заволакивала лиловая дымка. Ни разу за весь месяц не штормило, даже не дул сильный ветер. Энн и Джильберт обживали свое гнездышко, гуляли по морскому берегу, ездили в Глен Сент-Мэри и в рыбацкую деревню, катались в лодке по бухте или в коляске по засыпанным сосновыми иголками дорожкам в лесу. В общем у них был восхитительный медовый месяц.
— Если бы мы даже сегодня умерли, все равно мы жили не зря — потому что у нас были эти четыре недели, — сказала Энн. — Вряд ли они когда-нибудь повторятся — но они у нас были. И погода, и люди, и наш дом — все как будто сговорились, чтобы подарить нам чудный медовый месяц. Даже ни разу не пошел дождь.
— И мы ни разу не поссорились, — поддразнил ее Джильберт.
— Ну, с этим можно и не спешить, — ответила Энн. — Я очень рада, что мы решили провести медовый месяц здесь. Светлые воспоминания о нем навсегда останутся в нашем доме, а не будут рассеяны по разным городам.
Сам воздух в их новом доме был напоен запахом моря и дальних странствий. В Эвонли море тоже было рядом, но не вошло в жизнь Энн. Здесь же его видно из каждого окна, и рокот прибоя постоянно звучит в ушах. Каждый день суда причаливали к пристани Глен Сент-Мэри или отплывали в неведомые порты, лежащие, может быть, в другом полушарии. Каждое утро в море уходили рыбацкие парусники и вечером возвращались с уловом. На дорогах вокруг бухты Энн и Джильберту без конца попадались веселые и уверенные в себе матросы. Зов моря действовал на всех: кто-то уплывал в поисках приключений, а оставшиеся на берегу постоянно ощущали магическое притяжение таинственных далей. Жизнь в бухте Четырех Ветров была не столь спокойной и устоявшейся, как в Эвонли. Здесь все время что-то происходило.
— Теперь я понимаю, почему море так манит людей, — сказала Энн. — У каждого из нас порой появляется желание «уплыть в закатные края», а здесь эта страсть у всех в крови. Я ничуть не удивляюсь тому, что капитан Джим мальчишкой отправился в морское плавание. Когда вижу уплывающий корабль или летящую чайку, мне всегда хочется быть на борту этого корабля или, как чайка, отрастить крылья и парить на ветру.
— Нет уж, моя девочка, ты останешься здесь со мной, — лениво возразил Джильберт. — Так я тебе и позволил улетать.
Они сидели на приступке своей двери. День склонялся к вечеру. Мир вокруг дышал покоем.
— Само собой, доктор, которому приходится ездить по вызовам в любой час дня или ночи, наверно, не очень стремится к приключениям, — улыбнулась Энн. — Если бы ты вчера ночью как следует выспался, мы бы сейчас мечтали вместе.
— Вчера ночью я сделал доброе дело, Энн, — тихо заметил Джильберт. — Я спас человеческую жизнь. Впервые я могу это сказать с полным правом. Раньше я, может быть, облегчал людям страдания, но если бы я не провел вчерашнюю ночь, сражаясь со смертью у постели миссис Аллонби, эта женщина к утру умерла бы. Я применил новый метод, который никто никогда здесь не пробовал. По-моему, так вообще до сих пор лечили только в больницах. Я узнал о нем в прошлом году, когда стажировался в кингстонской больнице. Наверно, я не осмелился бы прибегнуть к этому методу, если бы не знал, что другой надежды нет. Я рискнул — и победил. И теперь добрая жена и мать будет жить еще много лет. Когда я сегодня на заре ехал домой, я возблагодарил Создателя за то, что выбрал профессию врача. Подумай только, Энн: я бросил вызов старухе Смерти и победил. Помнишь, много лет назад мы с тобой говорили о том, чему хотим посвятить жизнь, и я сказал, что мечтаю спасать людей. И вот сегодня утром моя мечта воплотилась в реальность.
— Разве только одна эта мечта исполнилась? — спросила Энн, которая отлично знала, что ответит Джильберт, но хотела услышать это еще раз.
— Ты же знаешь, что не одна, любимая, — ответил Джильберт, нежно глядя ей в глаза.
Да, на приступке маленького белого домика сидела счастливая пара.
Вдруг Джильберт сказал:
— Или мне мерещится, или к нашему дому плывет корабль на всех парусах.
Энн посмотрела на подъездную аллею и вскочила на ноги.
— Это, наверно, мисс Корнелия Брайант или миссис Мор.
— Я пойду к себе в кабинет. Если это мисс Корнелия, предупреждаю, что буду подслушивать, — сказал Джильберт. — Говорят, от ее высказываний животики надорвешь.
— А может, это миссис Мор?
— Вряд ли у миссис Мор такая комплекция. Я ее как-то видел в саду, и хотя она была далеко и я ее как следует не разглядел, но могу сказать с уверенностью, что она стройная. И, видно, не очень общительна, раз до сих пор не пришла с тобой познакомиться. А ведь она наша ближайшая соседка.
— Значит, она не похожа на миссис Линд. Та пришла бы из одного любопытства. Нет, это, очевидно, мисс Корнелия.
И действительно, то была мисс Корнелия. Более того, она пришла не для того, чтобы нанести краткий визит вежливости новобрачным. Она несла под мышкой большую сумку с рукоделием, и когда Энн предложила ей остаться к обеду, тут же сняла соломенную шляпку, которая была закреплена у нее на голове тугой резинкой. Нет уж, не дождетесь, чтобы мисс Корнелия стала закалывать шляпу булавками! Ее мать закрепляла шляпу резинкой, и, как делала ее мать, так будет делать и она. У мисс Корнелии было круглое румяное лицо и веселые карие глаза. Она совсем не походила на классическую старую деву. Энн, у которой было обостренное чутье на родственные души, с первого взгляда прониклась к ней симпатией и сразу поняла, что обязательно подружится с мисс Корнелией, несмотря на ее не совсем обычные взгляды и совсем необычную манеру одеваться.
Никто, кроме мисс Корнелии, не посмел бы явиться с визитом в полосатом бело-голубом фартуке и платье из коричневого ситца, по которому были разбросаны огромные розы. И при этом выглядеть одетой вполне подходяще к случаю. Если бы мисс Корнелия явилась во дворец, чтобы поздравить с законным браком принца и его молодую жену, она держалась бы с таким же достоинством и так же чувствовала бы себя хозяйкой положения. Пройдя в своем цветастом платье по отделанной мрамором приемной зале, она не замедлила бы растолковать молодой жене, что та заблуждается, если полагает, что поймать на крючок мужчину — хоть бы и принца — такое уж великое достижение.
— Я принесла с собой рукоделие, милочка, — заявила она Энн, вынимая из сумки что-то белое. — Мне надо это побыстрей кончить, а времени осталось всего ничего.
Энн с изумлением смотрела на украшенное оборочками нарядное платьице из тонкого батиста. Мисс Корнелия поправила очки и принялась доделывать прелестную вышивку.
— Это я шью для миссис Проктор. У нее вот-вот должен родиться восьмой ребенок, и для него нет никакого приданого. То, что она приготовила для первого, износили эти семеро, а шить все заново у нее нет ни времени, ни сил. Эта женщина — мученица, миссис Блайт, настоящая мученица! Я заранее знала, что из ее замужества ничего хорошего не выйдет. Фред Проктор из тех бессовестных красавчиков, которые легко кружат девушкам головы. После того как он женился, голову он бедняжке кружить перестал, а бессовестным как был, так и остался. Пропивает деньги, а семья живет в нужде. Одно слово — мужчина. Не знаю, во что бы миссис Проктор одевала детей, если бы ей не помогали соседи.
Впоследствии Энн узнала, что единственной соседкой, которая помогала одевать детей миссис Проктор, была мисс Корнелия.
— Когда я узнала, что у нее должен родиться очередной малыш, я решила сшить ему приданое, — продолжала мисс Корнелия. — Это платьице — последняя вещичка, и я хочу закончить его сегодня.
— Оно очаровательно, — сказала Энн. — Я тоже принесу рукоделие, и мы с вами поработаем вместе. Только так, как вы, я шить не умею.
— Я лучшая портниха в округе, — спокойно отозвалась мисс Корнелия. — Еще бы! Я сшила столько детских одежек, что хватило бы на сотню собственных детей. Наверно, глупо украшать платьице для восьмого ребенка ручной вышивкой. Но он же не виноват, что он восьмой, миссис Блайт, и мне хочется, чтобы у него было хоть одно хорошенькое платьице — такое, какое шьют желанным детям. Этот бедный малыш никому не нужен — поэтому я для него особенно стараюсь.
— Не у всякого желанного ребенка бывает такое платьице, — Энн все больше проникалась симпатией к мисс Корнелии.
— Вы уж небось думали, что я никогда не приду с вами познакомиться, — продолжала та. — Но шла уборка урожая, и я была страшно занята. В доме толпа работников, и все едят больше, чем работают. Одно слово — мужчины. Хотела вчера прийти, но тут — похороны миссис Макалистер. У меня ужасно болела голова, и я боялась, что это испортит мне все удовольствие. Но ей было сто лет, и я давно поклялась себе пойти на ее похороны.
— Ну и как, удачно все прошло? — спросила Энн, заметив, что дверь в кабинет слегка приоткрыта.
— Вы про что? А, похороны были потрясающие. У нее куча родственников. За гробом ехали сто двадцать экипажей. И посмеяться было чему. Этот старый безбожник Джо Брэдшоу, который глаз не кажет в церкви, с таким жаром пел «Призри ее душу, Иисусе!» — лопнуть можно было от смеха. Он обожает петь — поэтому не пропускает ни одних похорон. А у его бедной жены нет сил петь — так много работает по дому. Старый Джо иной раз отправляется купить ей подарок, а вместо этого каждый раз привозит грабли или еще что-нибудь для фермы. Одно слово — мужчина! Но чего еще ожидать от человека, который носа в церковь не кажет? Даже в методистскую молельню не ходит! Я очень обрадовалась, увидев вас с доктором в пресвитерианской церкви. По мне, доктор должен быть пресвитерианином.
— А в прошлое воскресенье мы ходили в методистскую молельню, — с веселыми искорками в глазах сказала Энн.
— Ну, доктору, наверно, надо показываться и в методистской молельне, а то методисты не станут у него лечиться.
— Нам очень понравилась проповедь, — мужественно заявила Энн. — И молитву пастор читал очень красиво.
— Да, молиться-то он мастер. А лучше всех читал молитвы старый Саймон Бентли, который был вечно или пьян, или собирался надраться. И чем пьянее он был, тем лучше звучала молитва.
— Методистский проповедник — очень представительный мужчина, — продолжала Энн на потеху приоткрытой двери.
— Да, красавчик, — согласилась мисс Корнелия. — И манеры, как у светской дамы. Считает, что в него влюблены все девушки. Но послушайте моего совета — не очень-то якшайтесь с методистами. Я так считаю: если ты пресвитерианин, то и будь пресвитерианином.
— Вы полагаете, что методисты не попадут в рай? — без тени улыбки спросила Энн.
— Это уж не нам решать, а Всевышнему, — серьезно заявила мисс Корнелия. — Не знаю, как там будет на небе, но на земле я от них держусь подальше. Их теперешний проповедник не женат, а у прошлого была такая глупенькая жена, каких свет не видывал. Я как-то ему сказала, что зря он не подождал, пока она не повзрослеет, а потом уж женился бы. А он ответил, что хотел сам ее воспитать. Одно слово — мужчина!
— Но ведь не так-то просто определить, когда человек стал взрослым.
— Верное ваше слово, милочка. Некоторые рождаются взрослыми, а другие и в восемьдесят лет все еще дети. Миссис Макалистер, которую мы только что похоронили, так и не стала взрослой. И в сто лет была все такой же дурочкой, как в десять.
— Может быть, потому она и прожила так долго?
— Может быть. Но я бы предпочла прожить пятьдесят лет в здравом уме, чем сто лет недоумком.
— Но подумайте, как скучно было бы жить среди сплошных умников!
Но мисс Корнелия не собиралась состязаться с Энн в остроумии.
— Миссис Макалистер была из семейства Милгрейвов, а те никогда умом не отличались. Ее племянник Эбенезер вообще спятил. Считал, что уже умер, и жутко сердился на жену: почему она его не хоронит? А я бы взяла и похоронила.
Глядя на ее выражение мрачной решимости на лице достойной матроны, Энн легко представила себе мисс Корнелию с лопатой в руках.
— Неужели во всем поселке ни у кого нет хорошего мужа, мисс Брайант?
— Ну, почему же? Полно — только все они там.
И она кивнула на открытое окно, из которого открывался вид на церковь и маленькое кладбище по другую сторону бухты.
— Ну а живых, во плоти? — допытывалась Энн.
— Несколько штук есть — у Господа Бога ведь все возможно, — неохотно признала мисс Корнелия. — Я не отрицаю, что если мужчину с малых лет почаще шлепать и вообще воспитывать в строгости, то из него может выйти толк. Вот, например, ваш муж, судя по отзывам, для мужчины не так уж плох. А вы небось считаете, — мисс Корнелия пронзительно глянула на Энн поверх очков, — что лучше его нет никого на свете?
— Конечно, нет, — без колебаний заявила Энн.
— То же самое мне говорила другая молодая жена, — вздохнула мисс Корнелия. — Когда Дженни Дин выходила замуж, то тоже считала, что другого такого человека, как ее жених, нет на свете. И она была права. Другого такого не было и нет — и слава Богу! У нее не жизнь с ним была, а сплошное мученье. Когда она заболела и лежала при смерти, он уже ухаживал за своей второй женой. Одно слово — мужчина! Но надеюсь, милочка, что вас такое разочарование не ждет. Молодой доктор вроде входит у нас в доверие. Поначалу я боялась, что никто не захочет у него лечиться: мол, лучше старого доктора Дэйва никого быть не может. Правда, особым тактом он не отличался и вечно начинал говорить о веревке в доме повешенного. Но, как только у кого схватывало живот, доктору Дэйву тут же прощали все обиды. Если бы он был не доктором, а священником, ему бы это так легко с рук не сходило. Людям, похоже, желудок дороже души. А теперь, раз уж мы обе пресвитерианки, скажите мне честно, что вы думаете о нашем священнике?
— Да как сказать… я что-то…
— Вот именно. Я с вами совершенно согласна, милочка, — кивнула головой мисс Корнелия. — Не повезло нам с ним. Лицом — вылитый надгробный памятник, правда? Не хватает только надписи на лбу: «Мир праху твоему!» Некоторые считают, что его жена чересчур ярко одевается. А я считаю, что, когда у мужа такое лицо, женщине надо как-то себя приободрить. Я сроду не осуждала женщин за то, что они хорошо одеваются. Только и говорю: слава Богу, что ее муж не жадничает и разрешает ей покупать красивые вещи. Сама-то я на одежду большого внимания не обращаю. Женщины ведь наряжаются, чтобы понравиться мужчинам, милочка, а мне всегда было наплевать, что про меня думают мужчины.
— За что вы так ненавидите мужчин, мисс Брайант?
— Господь с вами, милочка, я их вовсе не ненавижу. Они того не стоят. Я их просто презираю. Вот ваш муж мне нравится — если только он с годами не испортится. А помимо него, я признаю только двух мужчин — старого доктора и капитана Джима.
— Капитан Джим — замечательный человек, — с готовностью согласилась Энн.
— Капитан Джим — неплохой человек, но у него есть один недостаток. Его просто нельзя рассердить. Вот уже двадцать лет я его допекаю как могу, а он и в ус не дует. Это меня как-то раздражает. А женщина, которая была ему предназначена, небось получила мужа, который закатывает скандал по три раза на дню.
— А кто эта женщина?
— Не знаю, милочка. Я что-то не припомню, чтоб капитан Джим за кем-нибудь ухаживал. Да я его молодым и не знала. Сейчас ему семьдесят шесть. Понятия не имею, почему он остался холостяком, но какая-то причина наверняка была. Он стал смотрителем маяка пять лет тому назад, а до этого плавал по морям и океанам. На земле нет такого уголка, куда он не сунул бы нос. Джим всю жизнь водил дружбу с Элизабет Рассел, но любви между ними не было. Элизабет тоже не вышла замуж, хотя в молодости слыла красавицей и от женихов у нее отбою не было. Она как-то мне призналась, что боится, что ни с кем не сможет ужиться — такая она вспыльчивая. А характер у нее и правда был не сахар. Иногда, чтобы унять злость, она убегала наверх и грызла бюро. Но я ей сказала, что не считаю это веской причиной. Почему это мужчинам можно вымещать на нас свой скверный характер, а женщине нет, а, миссис Блайт?
— Я сама очень вспыльчива, — со вздохом призналась Энн.
— Ну и прекрасно. По крайней мере, не позволите собой помыкать. Как же у вас красиво цветут хризантемы! Бедняжка Элизабет очень любила свой сад.
— Я тоже его обожаю, — сказала Энн. — И рада, что в нем много цветов. Да, кстати, мы хотим нанять кого-нибудь, чтобы вскопать кусочек земли за елками и посадить там клубнику. Джильберт все время занят и никак не может выбрать для этого время. Вы не знаете, кто бы взялся это сделать?
— Наверное, Генри Хэммонд. Правда, его больше интересует плата, чем работа: одно слово — мужчина. И потом, он так туго соображает, что может минут пять простоять, пока заметит, что перестал работать. В детстве отец как-то запустил в него поленом. Подумать только — поленом в ребенка! Одно слово — мужчина. С тех пор мальчик и стал туповат. Но больше никого порекомендовать не могу. Прошлой весной он покрасил мой дом. Правда, красиво?
Тут часы пробили пять раз, и Энн не пришлось кривить душой.
— Боже, неужели уже пять? — воскликнула мисс Корнелия. — Как быстро бежит время за приятной беседой! Надо идти домой.
— Ну, зачем же? — воскликнула Энн. — Попейте с нами чаю.
— Вы меня приглашаете потому, что так принято, или вы и вправду хотите, чтобы я осталась? — напрямик спросила мисс Корнелия.
— Я правда хочу, чтобы вы остались к чаю.
— Тогда останусь. Вижу, вы из породы людей, что знали Иосифа.
— Я уверена, что мы будем друзьями, — тепло улыбнулась Энн.
— Обязательно. Какое счастье, что мы имеем право выбирать себе друзей. С родственниками хуже — приходится принимать тех, что есть, и еще благодарить Господа Бога, если никто из них не сидел в тюрьме. Правда, у меня не так уж много близких родственников — все больше кузены да кузины. В общем-то я довольно одинокий человек, миссис Блайт. — В голосе мисс Корнелии прозвучала грустная нотка.
— Как мне хочется, чтобы вы называли меня Энн, — вдруг вырвалось у Энн. — Все в Четырех Ветрах зовут меня миссис Блайт, и от этого все время чувствую, что я для них чужая. Знаете, в детстве я мечтала, чтобы меня звали Корделией — почти так же, как вас! И ненавидела имя Энн.
— А мне нравится Энн. Мою маму так звали. Самые лучшие имена — это простые. Если вы идете на кухню готовить чай, пошлите доктора со мной поговорить. Я знаю, что все это время он лежал на диване у себя в кабинете и покатывался со смеху, слушая меня.
— Как вы догадались? — воскликнула Энн, которую так ошеломила проницательность мисс Корнелии, что ей даже не пришло в голову отрицать ее слова.
— Когда я подходила к дому, я видела вас вместе в этой комнате. А мужские штучки мне наперечет известны. Ну вот, платьице закончено. Восьмой ребенок может появляться на свет хоть сегодня.
Глава девятая ВЕЧЕР НА МАЯКЕ
Энн с Джильбертом все никак не могли выбраться в гости к капитану Джиму. Они несколько раз собирались туда пойти, но всегда что-то мешало. Сам капитан Джим за это время несколько раз наведывался в маленький белый домик.
— Я уж с вами попросту, миссис Блайт, — признался он Энн. — Мне так приятно к вам приходить, и я не хочу отказывать себе в этом удовольствии всего лишь потому, что вы сами пока не собрались ко мне в гости. Среди людей, которые знали Иосифа, такие церемонии ни к чему. Я буду к вам заходить, когда смогу, а вы тоже придете, когда сможете. Главное — приятный разговор, а под чьей крышей — это неважно.
Капитану Джиму очень нравились Гог и Магог, которые стояли у Энн по обе стороны камина с таким же гордым видом, как и в «Домике Патти».
— Ну не смешные ли твари? — с восхищением говорил он, и каждый раз, входя в дом и уходя из него, он здоровался и прощался с ними, так же как и с хозяином и хозяйкой.
— Домик у вас стал чудо какой уютный, — сказал капитан Джим Энн. — У миссис Селвин вкус был не хуже вашего, и она очень старалась, но в то время нельзя было купить такие красивые шторы, картинки и безделушки. Что же касается Элизабет, она жила прошлым. А вы вроде как принесли в этот дом будущее. Даже если бы мне нельзя было с вами разговаривать, я все равно приходил бы сюда — посидеть и посмотреть на вас, на ваши картины и ваши цветы. Такое все красивое — ну просто прелесть.
Но вот наконец наступил вечер, когда Энн с Джильбертом отправились на мыс Четырех Ветров. Поутру было пасмурно и туманно, но к вечеру небо расчистилось и закат запылал багрянцем и золотом. Холмы на западном берегу бухты очертила янтарная кайма, а небо на севере пестрело маленькими оранжевыми облачками. На выходе из бухты виднелся парусник, плывущий в дальние края. Белые дюны стали розовыми, а окна старого домика, обсаженного ивами, вдруг загорелись живым светом, словно из скучно-серой стеклянной скорлупы выглянула трепетная, пылкая душа.
— Какой одинокий вид у этого дома, — заметила Энн. — Там никто никогда не бывает. Правда, подъездная дорожка выходит на верхнюю дорогу, но я бы увидела, если бы по ней кто-нибудь прошел или проехал. Как странно, что мы все еще не знакомы с Морами, хотя от них до нас — пятнадцать минут ходу. Может, я и видела их в церкви, но не опознала. Жаль, что наши ближайшие соседи такие нелюдимы.
— Видно, они не из тех, что знали Иосифа, — сказал Джильберт. — А ты узнала, кто та девушка, которая показалась тебе такой красивой?
— Нет. Как-то все не соберусь о ней спросить. Но я ее больше ни разу не видела. Наверно, ты был прав — она не здешняя. Смотри — солнце село и сразу же загорелся маяк.
По мере того как темнело, луч света от большого прожектора, вращавшегося на вершине башни, все ярче высвечивал окружающие поля, песчаную косу и водную гладь бухты.
— Так и кажется, что меня сейчас подхватит и унесет далеко в море, — сказала Энн, когда луч пробежал по ним. Она даже почувствовала некоторое облегчение, приблизившись к маяку, где вспышки света уже их не доставали.
Около маяка они встретили мужчину такой странной наружности, что оба воззрились на него с нескрываемым изумлением. Собственно говоря, незнакомец был даже хорош собой — высокого роста, широкий в плечах, с правильными чертами лица и открытым взглядом серых глаз. Одежда его напоминала воскресный костюм зажиточных фермеров. Что в нем поражало, так это доходившая почти до колен борода и столь же длинные волосы, ниспадавшие каскадом из-под шляпы.
— Энн, — проговорил Джильберт, когда странный незнакомец прошел мимо, — ты случайно не подсыпала в лимонад какого-нибудь зелья, от которого бывают галлюцинации?
— Да нет, не подсыпала, — ответила Энн, сдерживая смех, поскольку мужчина был еще совсем близко. — Интересно, кто это такой?
— He знаю. Явно не матрос — матросу такое эксцентричное обличье еще было бы простительно. Он, наверно, принадлежит к одному из шотландских кланов из рыбацкой деревни. Дядя Дэйв говорит, что там полно разных чудаков.
— Дядя Дэйв, по-моему, пристрастен. Все тамошние жители, которых я видела в церкви, вполне нормальные люди. Ой, Джильберт, погляди, какая красота!
Маяк стоял на высоком каменистом мысу. С одной стороны от него тянулась серебристая песчаная коса, с другой — выгнулся высокий обрывистый берег, у основания которого волны шелестели галькой. Капитан Джим сидел на скамейке у входа в башню, ошкуривая прелестную игрушечную шхуну с полным набором снастей. Увидев гостей, он встал и поприветствовал их со свойственной ему учтивостью:
— Такой сегодня выдался славный денек, и самое лучшее он припас под конец. Может, посидим здесь, пока еще светло? Я как раз закончил мастерить игрушку, которую обещал своему внучатому племяннику Джо. Обещать-то обещал, а потом пожалел о своем обещании: его мать и так боится, что мальчишка, когда подрастет, подастся в моряки, и не хочет, чтобы я этому потворствовал. Но что же мне было делать? Я же обещал! По-моему, нарушать обещание, данное ребенку, просто бессовестно. Присаживайтесь. Скоро стемнеет, и пойдем в дом.
От дувшего с берега ветерка над серебристой рябью моря проносились похожие на прозрачные крылья тени. Над далекими дюнами зависли лиловые сумерки. По небу тянулись шелковые шарфы сгущающихся испарений, а на горизонте собрались облака, напоминая стоящую на якоре флотилию. В зените горела одинокая звезда.
— Неплохой вид, правда? — с гордостью проговорил капитан Джим. — Тихо, никакой тебе рыночной суеты, никакой погони за наживой. На всю эту красоту — это небо и это море — можно смотреть даром. Скоро взойдет луна. До чего ж я люблю смотреть, как она выходит из-за холмов и освещает скалы, море и гавань.
Они дождались восхода луны, а потом поднялись на верх башни, и капитан Джим объяснил им, как работает механизм маяка. В заключение он привел их в свою столовую, где в камине каким-то особенным, голубовато-зеленым, словно порожденным морем пламенем горел собранный им на берегу плавник.
— Я сам сложил этот камин, — сообщил им капитан Джим. — Правительство не больно-то балует смотрителей маяков. Смотрите, как красиво горит плавник! Я вам как-нибудь принесу охапку плавника для вашего камина, миссис Блайт. Присаживайтесь, сейчас вскипячу чай.
Капитан предложил Энн кресло, с которого предварительно снял газету и согнал огромного рыжего кота.
— Слезай, Старпом, твое место на диване. Надо убрать газету — хочу дочитать в ней очередную главу романа, который называется «Безумная любовь». Не очень-то я люблю такое чтиво, но мне интересно, на сколько эта писательница растянет сюжет. Уже идет шестьдесят вторая глава, а о свадьбе и помину нет. Когда приходит малыш Джо, я ему читаю пиратские рассказы. Правда, странно, что дети обожают кровавые истории?
— Как наш Дэви, — вставила Энн. — Ему бы только побольше крови и трупов.
Капитан Джим угостил их отменным чаем. Он радовался, как ребенок, восторженным восклицаниям Энн, но делал вид, что ее похвалы совсем его не трогают.
— Мы тут, подходя к маяку, встретили очень странного типа, — спросил Джильберт. — Кто это?
Капитан Джин ухмыльнулся.
— Это Маршалл Эллиотт — весьма достойный человек, но с одной причудой. Вы, наверно, удивились: зачем человек превратил себя в этакое пугало?
— Может, он современный назаретянин или иудейский пророк, доживший до наших дней? — поинтересовалась Энн.
— Ни то ни другое. Он чудит из-за политики. Все эти Эллиотты, Крофорды и Макалистеры — твердолобые. Они как рождаются гритами
или тори, так и умирают. Ума не приложу, что они будут делать на небе, где, наверно, никто не занимается политикой. Так вот, Маршалл Эллиотт родился гритом. Я и сам стою за либералов, но не так, как Маршалл. Пятнадцать лет назад у нас развернулась особенно яростная борьба на выборах. Маршалл зубами и когтями дрался за свою партию. Он был уверен, что гриты победят, настолько уверен, что на одном митинге заявил, что не будет бриться и стричь волосы, пока либералы не придут к власти. А либералы проиграли выборы, и либерального правительства у нас не было пятнадцать лет. И вот вам результат — Маршалл держит свое слово.
— А что об этом думает его жена? — спросила Энн.
— Он холостяк. Но если бы у него и была жена, вряд ли она сумела бы заставить его нарушить обет. Эти Эллиотты жуть какие упрямцы. У брата Маршалла, Александра, была собака, которую он очень любил. Когда она умерла, он захотел похоронить ее на кладбище, «со всеми христианами», видите ли. Ему, конечно, не разрешили, и тогда он похоронил псину по другую сторону кладбищенской ограды, и больше ноги его не было в церкви. По воскресеньям Александр отвозил туда семью, а сам сидел у могилы своего пса и читал Библию, пока не кончалась служба. Говорят, умирая, он попросил жену похоронить его рядом с собакой. Она у него была тихая и кроткая женщина, но тут взбунтовалась. «А я, — говорит, — рядом с собакой лежать не желаю, так что выбирай, кто с тобой будет рядом — жена или собака». Александр Эллиотт был упрям как осел, но жену любил и сдался. «Ладно, — говорит, — хорони меня где хочешь, но все равно я уверен, что, когда раздастся трубный глас и все мертвые восстанут из могил, мой пес восстанет вместе с ними, потому что такой христианской души, как у него, среди наших соседей еще поискать». И это были его последние слова. К Маршаллу мы привыкли, но посторонние при виде его, конечно, пугаются. Я его знаю с тех пор, как он был мальчишкой — сейчас ему, наверно, лет пятьдесят — и мы с ним приятели. Сегодня ездили ловить треску. Больше я уже ни на что не способен — только иногда половить форель или треску. Но так было не всегда. Я много чего умел делать — вы и сами с этим согласились бы, если бы почитали мою жизненную книгу.
Энн хотела спросить, что это за «жизненная книга», но тут их отвлек Старпом, вспрыгнув на колени капитана Джима. Это было роскошное животное с круглой, как луна, мордой, ярко-зелеными глазами и толстыми белыми лапами. Капитан Джим ласково погладил кота по широкой спине.
— Я никогда особенно не любил кошек, пока не нашел Старпома, — начал он под оглушительное мурлыканье. — Я спас ему жизнь, а когда какой-нибудь твари спасешь жизнь, невольно к ней привязываешься. Ведь это почти то же самое, что произвести ее на свет. Но столько людей причиняют животным по своей беспечности страшное зло. Как те, что приезжают сюда на лето, не дают себе труда задуматься, как жестоко они поступают с животными. Заводят на лето кошку, кормят ее, холят и лелеют, надевают ей на шею ленточки и бантики, а осенью уезжают, оставляя бедную тварь погибать от голода и холода. Как-то зимой я нашел на берегу несчастную мертвую кошку, от которой остались лишь кожа да кости, а рядом с ней трех котят. Она прикрывала их окоченевшими лапами — так и умерла, пытаясь их согреть. Я аж заплакал при виде их. Отнес бедных котят домой, выкормил их и роздал хорошим людям. Я знал женщину, которая бросила эту кошку, и, когда она приехала на следующее лето, я пошел к ней на дачу и высказал все, что я о ней думаю.
— Ну и как она это восприняла? — осведомился Джильберт.
— Она плакала и говорила, что «не подумала». А я ей сказал: «Уж не надеетесь ли вы, что это послужит вам оправданием в Судный день, когда с вас спросят за гибель бедного животного? Для чего я вам дал мозги, спросит Господь Бог, если не для того, чтобы думать?» Вряд ли она в другой раз оставит кошку погибать с голоду.
— А Старпома тоже бросили? — осведомилась Энн.
— Да. Его я нашел зимой на дереве. Он зацепился за ветку этим дурацким ошейником из ленточки и едва не задохся. Видели бы вы его глаза, миссис Блайт! Он был совсем молодой, почти котенок, но как-то добывал себе пропитание, пока не застрял на дереве. Когда я его освободил, он лизнул мне руку. Такой был кроткий кот — не то что сейчас. Это было девять лет тому назад. Так мы с ним с тех пор и живем.
— А мне казалось, что вы скорей будете держать собаку, — сказал Джильберт.
Капитан Джим покачал головой.
— У меня был пес. Я так его любил, что, когда он умер, просто и подумать не мог о другой собаке. Это был настоящий друг. Кот — тот просто приятель. Я к нему очень привязан, и мне даже нравится, что он такой шкода — такова уж кошачья природа. Но собаку свою я любил, как человека. Я даже могу понять Александра Эллиотта. У хорошей собаки душа открыта человеку. Поэтому, наверно, к ним привязываешься больше, чем к кошкам. Но зато с кошками интереснее. Ох, разболтался я что-то. Вы уж меня останавливайте, а то как найдется слушатель, мне удержу нет. Не так уж часто это случается. Хотите, я покажу кое-какие штучки, которые привез из разных уголков земного шара.
«Кое-какие штучки» капитана Джима оказались интереснейшей коллекцией редкостей: среди них были и красивые, и причудливые, и страшноватые. И почти о каждой он мог рассказать увлекательную историю.
Энн на всю жизнь запомнила, с каким восторгом она слушала рассказы капитана Джима о давно прошедших временах под звуки заунывно бившегося о прибрежные скалы моря.
Старому моряку было несвойственно хвастовство, но в его рассказах возникал образ смелого, находчивого и самоотверженного человека. Некоторые из его приключений казались просто невероятными, и Энн с Джильбертом даже подумали, не морочит ли он им голову. Но позже узнали, что напрасно сомневались в его правдивости. У капитана Джима был дар прирожденного рассказчика, и, слушая его повествование, супруги то смеялись, то замирали от ужаса, а в какой-то момент Энн даже заплакала. Капитан Джим посмотрел на нее с удовлетворением.
— Я люблю, когда люди плачут, слушая меня, — сказал он. — Но все-таки мои рассказы по-настоящему не передают всего того, что я видел и что делал в своей жизни. Я описал свои приключения в жизненной книге, но на бумаге все выходит как-то не так. Нет у меня дара писателя. Не умею я находить нужные слова и строить складные предложения. Если бы умел, то за пояс бы заткнул всю эту писанину о «Безумной любви», и, думаю, моя книга понравилась бы Джо не меньше, чем пиратские рассказы. Да, приключений у меня в жизни было немало, и, знаете, миссис Блайт, меня и сейчас, хоть я стал стар и немощен, порой тянет в море, туда — за горизонт.
— Вам, как Улиссу, хочется «плыть за пределы алого заката, пока вас не настигнет смертный час», — мечтательно произнесла Энн.
— Улиссу? Я о нем читал. Да, именно этого мне и хочется — и всем старым морякам тоже. Но умру я, видно, все-таки на земле. Что ж, чему быть, того не миновать. У нас в деревне был такой Уильям Форд, который за всю жизнь ни разу не вышел в море, потому что гадалка ему предсказала, что он утонет. Так вот однажды он потерял сознание, упал лицом в поилку для скота и захлебнулся. Что, уже уходите? Приходите почаще. В следующий раз я буду помалкивать — пусть говорит доктор. Он знает много всякого такого, в чем мне хотелось бы разобраться. На меня тут порой тоска находит, особенно с тех пор, как умерла Элизабет Рассел. Мы с ней были добрыми приятелями.
Капитан Джим говорил с той грустью, которая свойственна старым людям, у которых один за другим умирают друзья. Их место уже не могут занять люди младшего поколения, даже если они из тех, что знали Иосифа. Энн и Джильберт обещали почаще его навещать.
— Какой замечательный старик, — сказал Джильберт по пути домой.
— Знаешь, у меня просто не укладывается в голове, что с таким мягким, добрым человеком произошли все эти сногсшибательные приключения.
— Тебе было бы легче в это поверить, если бы ты видела его вчера в рыбацкой деревне. Парень из команды Питера Готье сказал что-то пакостное о девушке, которая в это время шла по берегу. Капитан Джим прямо-таки испепелил его своим взглядом. Я его просто не узнал. Он не так-то много сказал, но каждое слово было, как наждак, сдиравший мясо с костей этого парня. Мне говорили, что в присутствии капитана Джима никто не осмеливается отпускать грязные шуточки о женщинах.
— Странно, что он так и не женился, — вздохнула Энн. — Были бы у него теперь сыновья-капитаны, и внуки лезли бы к нему на колени, чтобы послушать его рассказы. А вместо этого у него роскошный кот — и никого больше.
Но Энн ошибалась. У капитана Джима был не только кот. У него еще были воспоминания.
Глава десятая ЛЕСЛИ МОР
Как-то под вечер в октябре Энн сообщила Гогу и Магогу:
— Пойду-ка пройдусь к скалам.
Обращаться было больше не к кому, потому что Джильберт уехал в Глен. В маленьком домике царил образцовый порядок — как и можно было ожидать от женщины, которую воспитала Марилла Кутберт, — и Энн чувствовала себя вправе прогуляться по берегу. Она уже много раз бродила в окрестностях — то с Джильбертом, то с капитаном Джимом, а то наедине со своими мыслями и грезами, поглощенная блаженным ощущением зарождающейся в ней новой жизни. Энн любила гавань, серебристую гряду дюн, но больше всего ей нравился высокий скалистый берег за маяком, у подножия которого было столько скрытых заводей, пещер с грудами сглаженных морем валунов и оставленных приливом лужиц, на дне которых поблескивали разноцветные камешки. Вот туда она и отправилась.
Только недавно закончился свирепствовавший три дня шторм. Волны швыряли белую пену через песчаную косу и с грохотом бились о скалы. Тихую голубую бухту Четырех Ветров, которую Энн увидела по приезде, невозможно было узнать. Но теперь ветер утих, песчаный берег был омыт волнами, и только пенистый прибой по-прежнему бушевал под скалистым берегом.
Стоя над обрывом, Энн с восторгом смотрела на мечущиеся внизу волны. «Чтобы увидеть такое, стоит пережить недели непогоды!» — подумала она, а затем осторожно спустилась вниз по крутой тропинке и оказалась наедине с морем и небом.
— Сейчас буду петь и танцевать! — воскликнула Энн. — Меня никто не увидит, кроме чаек, а они никому не расскажут. Так что можно дать себе волю!
Она подхватила юбки и закружилась по плотно утрамбованному песку, увертываясь от устало набегавших на берег волн. Так, смеясь, как ребенок, она довальсировала до маленькой косы. И тут Энн остановилась и густо покраснела: она была не одна, ее танец видели не только чайки.
Полускрытая навесом скалы, на камне сидела девушка — та самая красавица с золотыми волосами и глазами цвета морской волны. Она смотрела на Энн со странным выражением: в нем было и удивление, и симпатия, и как будто бы зависть. Перевитая алой лентой роскошная коса была уложена на непокрытой голове. На девушке было темное платье простого покроя, перетянутое в талии красным шелковым поясом, подчеркивавшим ее стройную фигуру. Руки, которыми она обхватила колени, явно привыкли к домашней работе, но кожа на шее и щеках светилась молочной белизной. Прорвавшийся сквозь просвет в облаках луч закатного солнца на секунду озарил ее волосы, и незнакомка предстала перед Энн как воплощение духа моря с его тайной, его страстью, его неуловимым обаянием.
— Вы… вы, наверно, думаете, что я веду себя как помешанная? — проговорила Энн со всем самообладанием.
Надо же, чтобы эта гордая красавица увидела, как замужняя матрона, миссис Блайт, скачет и поет на пустынном морском берегу!
— Нет, — ответила девушка, — не думаю.
Она произнесла эти слова без всякого выражения и довольно холодным тоном, но Энн заметила у нее в глазах странную смесь робости и тяги, вызова и мольбы. И это выражение заставило ее, вместо того чтобы тут же уйти, как она собиралась, сесть на камень рядом с девушкой.
— Давайте познакомимся, — сказала Энн с теплой улыбкой. — Меня зовут миссис Блайт, и я живу вон в том маленьком белом домике на берегу.
— Я знаю, — кивнула девушка. — А меня зовут Лесли Мор. Я жена мистера Дика Мора, — добавила она с каким-то напряжением в голосе.
Несколько мгновений Энн не могла вымолвить ни слова — так она была поражена. Ей и в голову не приходило, что эта девушка может быть замужем: ее облик совершенно не вязался с представлением Энн о замужней женщине. И к тому же она, оказывается, была той самой соседкой, которую Энн представляла себе пожилой хлопотливой домохозяйкой!
— Значит… — с трудом освобождаясь от устоявшегося образа, наконец проговорила она, — значит, вы живете в том сером доме, что стоит выше по ручью?
— Да. Мне давно следовало бы прийти к вам познакомиться. — Лесли, однако, не привела никаких причин или оправданий, почему она этого не сделала.
— Жаль, что не пришли, — улыбнулась Энн, постепенно приходя в себя. — Мы обязательно должны подружиться — ведь вы моя ближайшая соседка. Я нахожу только один недостаток в бухте Четырех Ветров — У нас так мало соседей. А во всем остальном это — само совершенство.
— Вам здесь нравится?
— Нравится? Я обожаю это место. Ничего красивее я в жизни не видела!
— А я вообще мало где бывала, — медленно проговорила Лесли Мор, — но я тоже считаю, что у нас здесь очень красиво. И я тоже люблю гавань Четырех Ветров.
Речь Лесли напоминала выражение ее глаз: в ней была и робость, и тяга к новому человеку. У Энн возникло ощущение, что эта странная девушка — она все равно в уме называла ее девушкой — могла бы многим с ней поделиться, если бы захотела открыть свою душу.
— Я часто прихожу на этот берег, — добавила миссис Мор.
— И я тоже, — призналась Энн. — Как странно, что мы до сих пор не встретились.
— Я прихожу, когда уже почти совсем стемнеет, а вы, наверно, раньше. И еще я очень люблю бывать здесь сразу после шторма — вот как сейчас. Спокойное море мне нравится меньше. Я люблю, чтобы оно волновалось, грохотало, билось о берег.
— А мне море нравится в любом обличье, — заявила Энн. — Сегодня оно предстало мне таким вольным, таким непокорным, и с меня как будто спали цепи условностей. Поэтому я и пустилась в этот дикий танец. Но, конечно, я думала, что меня никто не видит. Если бы я попалась на глаза мисс Корнелии Брайант, она пожалела бы бедного доктора Блайта, которому досталась в жены такая чудачка.
— Значит, вы знакомы с мисс Корнелией? — Лесли рассмеялась, заливисто, как колокольчик. Энн улыбнулась в ответ.
— О да. Она уже несколько раз побывала в нашем домике сбывшейся мечты.
— Мечты?
— А это мы с Джильбертом придумали ему такое название. Но мы его так называем только между собой. У меня это сейчас вырвалось нечаянно.
— Значит, маленький белый дом мисс Рассел — это осуществление вашей мечты? — удивленно проговорила Лесли. — Когда-то я тоже загадывала, какой у меня будет дом, — но в мечтах это был целый дворец, — засмеялась она с горькой ноткой насмешки над собой.
— О, я тоже когда-то мечтала о дворце, — призналась Энн. — Наверно, все девочки мечтают, что когда-нибудь будут жить в роскошном дворце. А потом, став взрослыми, соглашаются на небольшой двухэтажный домик — лишь бы в нем жил их волшебный принц. А такой красивой женщине, как вы, место действительно во дворце. Я просто не могу удержаться, чтобы вам этого не сказать: вы так прекрасны, что у меня сердце замирает от восторга. Я в жизни не видела более красивой женщины, миссис Мор.
— Если вы хотите, чтобы мы стали друзьями, зовите меня Лесли.
— Хорошо. А меня мои друзья зовут Энн.
— Я, наверно, и вправду красива, — продолжала Лесли, мрачно глядя на море. — Но я ненавижу свою красоту. Я предпочла бы быть самой некрасивой изо всех девушек в деревне… Ну и как вам понравилась мисс Корнелия?
Резко сменив тему, Лесли как бы захлопнула приоткрывшуюся на секунду дверь в мир своих чувств.
— Мисс Корнелия — очаровательное существо, — сказала Энн. — На прошлой неделе она устроила нам с Джильбертом грандиозный чай. Стол просто ломился от всякой снеди.
— Обычно так пишут в газетах о свадебном застолье, — улыбнулась Лесли.
— Ну так вот, стол мисс Корнелии ломился — даже поскрипывал — от всего, что она наготовила. Я не знаю кекса или торта, которого бы на нем не было — за исключением лимонного. Она сказала, что десять лет тому назад получила на выставке в Шарлоттауне первый приз за лимонный кекс и с тех пор ни разу его не пекла, боясь, что вдруг получится хуже и она потеряет с таким трудом завоеванную репутацию.
— Вы хотя бы попробовали все ее изделия?
— Нет, не сумела. А Джильберту это удалось, чем он завоевал ее сердце. Мисс Корнелия сказала, что еще не знала мужчины, который отказался бы вкусно покушать. Я просто влюблена в мисс Корнелию.
— Я тоже, — сказала Лесли. — Она мой самый лучший друг на целом свете.
«Тогда почему же, — с удивлением подумала Энн, — та ни разу ни словечком не обмолвилась о миссис Лесли Мор, хотя не поленилась разобрать по косточкам чуть ли не каждого жителя Глена и рыбацкой деревни?»
— Правда, красиво? — помолчав, спросила Лесли, показывая на темно-зеленую заводь, в которой играли изумрудные блики от золотого луча, проникшего сквозь расщелину нависшей над ними скалы. — Если бы я даже сегодня ничего кроме этого не увидела, и то считала бы, что пришла сюда не напрасно.
— Да, — согласилась Энн, — на этом побережье просто удивительная игра света и теней. Я часто сижу у окна и любуюсь морем. Краски меняются буквально каждую минуту.
— А вам не бывает одиноко, — вдруг спросила Лесли, — когда вы остаетесь одна?
— Нет, по-моему, я ни разу в жизни не ощущала одиночества. Даже когда я одна, со мной всегда мои мечты, фантазии. Мне даже нравится иногда побыть одной — чтобы обо всем хорошенько подумать, словно бы попробовать свои мысли на вкус. Но дружбу я тоже очень ценю и радуюсь общению с близкими мне по духу людьми. Пожалуйста, приходите ко мне, и почаще. Мне кажется, что когда мы познакомимся поближе, я вам понравлюсь.
— Не знаю только, понравлюсь ли я вам, — серьезно ответила Лесли. Она вовсе не напрашивалась на комплимент. В глубине ее глаз темнела грусть.
— Обязательно понравитесь, — заверила ее Энн. — И пожалуйста, не думайте, что раз я способна танцевать на морском берегу, то уж совсем без царя в голове. Со временем я надеюсь научиться вести себя с должным достоинством. Видите ли, я совсем недавно замужем и все еще чувствую себя девушкой, иногда даже ребенком.
— А я замужем уже двенадцать лет, — сказала Лесли. Энн была ошеломлена.
— Да как же так, мне кажется, что вы моложе меня! — воскликнула она. — Вы что же, вышли замуж совсем ребенком?
— Мне было шестнадцать лет, — ответила Лесли, вставая и подбирая с камня шляпку и жакет. — А сейчас двадцать восемь. Однако мне пора домой.
— Мне тоже. Джильберт, наверно, уже приехал. Я очень рада, что мы обе пришли сегодня на этот берег и наконец познакомились.
На это Лесли ничего не ответила, и Энн почувствовала, что ее искреннее предложение дружбы было воспринято с холодком. Две молодые женщины молча взобрались на высокий берег и пошли через пастбище, поросшее выцветшей травой, которая переливалась в лунном свете, точно бархатный ковер. Когда они дошли до дороги, Лесли указала рукой в сторону своего дома:
— Мне туда, миссис Блайт. Может быть, как-нибудь зайдете к нам?
Энн показалось, что это приглашение было сделано неохотно, лишь для того, чтобы от нее отделаться.
— Я приду, если вам этого действительно хочется, — сухо ответила она.
— Очень хочется, очень! — воскликнула Лесли с жаром, который на секунду пробился сквозь напускную сдержанность.
— Тогда я приду. Доброй ночи… Лесли.
— Доброй ночи, миссис Блайт.
Энн задумчиво пошла домой и, едва открыв дверь, принялась рассказывать Джильберту об этой странной встрече.
— Значит, миссис Лесли Мор не принадлежит к породе людей, которые знали Иосифа? — с улыбкой спросил он.
— Пожалуй, нет. И все же… мне кажется, что когда-то она была с ними, но потом отдалилась, ушла в себя, — задумчиво проговорила Энн. — Во всяком случае, она совсем не похожа на обычных домохозяек. С ней не заведешь разговор о яйцах и масле. А я-то воображала, что это вторая миссис Линд! Ты когда-нибудь видел Дика Мора, Джильберт?
— Нет. Я видел фермеров, работавших в поле, но не знаю, который из них Дик Мор.
— Лесли не сказала о нем ни единого слова. Но по всему видно, что она несчастна.
— Видимо, она слишком рано вышла замуж, а потом поняла, что сделала ошибку. Это часто случается, Энн. Женщина с сильным характером постаралась бы как-то наладить отношения с мужем. А миссис Мор, видимо, ожесточилась на всех и вся.
— Давай подождем ее судить, пока не узнаем получше, — попросила Энн. — Мне почему-то не кажется, что ее судьба так уж банальна. Вот познакомишься с ней и увидишь, какое в ней скрыто очарование. И я говорю не только о ее красоте. Но она почему-то никого не допускает в свой внутренний мир и вместе с тем не дает расцвести заложенным в ней дарованиям. Ну вот, я все это время пыталась сформулировать свое отношение к Лесли, и наконец-то мне это удалось. Надо расспросить о ней мисс Корнелию.
Глава одиннадцатая ИСТОРИЯ ЛЕСЛИ МОР
— Ну вот, восьмой ребеночек благополучно родился, — рассказывала мисс Корнелия, сидя в кресле-качалке перед камином. — И опять девочка. Фред просто на стенку лез — дескать, он хотел мальчика. А на самом-то деле он не хотел ни девочки, ни мальчика. Если бы родился мальчик, он стал бы кричать, что хотел девочку. У них и так уже есть четыре девочки и три мальчика, так что, на мой взгляд, разницы никакой. Одно слово — мужчина. И такой миленький ребеночек, особенно в том платьице. Черные глазки и очаровательные крошечные ручки.
— Надо сходить посмотреть на нее, — сказала Энн. — Я обожаю маленьких детей.
И улыбнулась при мысли, что у нее теперь есть особая причина любить маленьких детей.
— Конечно, детишки — это прелесть, — признала мисс Корнелия. — Но у некоторых их чересчур уж много. У моей бедной кузины Флоры одиннадцать. Это же не жизнь, а сплошная каторга. А муж три года назад покончил с собой. Одно слово — мужчина!
Энн оторопела.
— А с чего это он?
— Повздорил из-за чего-то с женой и прыгнул в колодец. Туда ему и дорога. Вот уж был деспот — Флоре от него житья не было. Жаль только, что испортил колодец. Пришлось копать новый, стоило это дорого, а вода гораздо хуже. Уж если ему приспичило топиться, в гавани места мало, что ли? Не выношу таких мужчин. У нас на моей памяти было всего два самоубийства. Второй был Фрэнк Уэст — отец Лесли Мор. Да, кстати, а Лесли к вам не приходила познакомиться?
— Нет, но мы на днях встретились с ней на берегу и вроде бы познакомились, — ответила Энн, навострив уши.
Мисс Корнелия кивнула.
— Я очень рада. Надеюсь, вы с ней подружитесь, милая. Что вы о ней думаете?
— Я думаю, что она необыкновенно красива.
— Это само собой. По красоте у нас с ней никто сравниться не может. А вы видели ее волосы? Если их распустить, они достают до пят. Но я хотела спросить про другое: как она вам понравилась?
— Мне кажется, что я могла бы ее полюбить, если бы она мне это позволила, — медленно проговорила Энн.
— А она не позволила, вроде как оттолкнула, держала вас на расстоянии, да? Бедняжка Лесли! Вас это не удивило бы, если бы вы знали, как с ней обошлась жизнь. Ее постигла беда. Настоящая трагедия! — повторила мисс Корнелия.
— Вы не расскажете мне про нее — если только это не секрет?
— Какой там секрет! История бедняжки Лесли известна всем и каждому в наших местах. То есть все знают, что с ней случилось. Но как это все на ней отразилось, не знает никто, кроме нее самой — а она не имеет привычки делиться своими переживаниями. Я самый близкий друг Лесли, и все-таки я ни разу не слышала от нее ни слова жалобы. Вы хоть раз видели Дика Мора?
— Нет.
— Тогда я начну с самого начала и расскажу вам все по порядку. Итак, отцом Лесли был Фрэнк Уэст. Парень он был башковитый, но безалаберный. Одно слово — мужчина. Ума ему было не занимать, но только проку от этого не вышло никакого. Поступил было в колледж, проучился два года, и тут у него открылся процесс в легких. У Уэстов в роду была чахотка. Значит, Фрэнк вернулся домой и занялся сельским хозяйством. И женился на Розе Эллиотт из рыбацкой деревни. Роза была первая красавица в наших местах. Лесли в нее удалась, только у нее куда больше характера и фигура получше. Я считаю, что мы, женщины, должны стоять друг за дружку. Нам и так приходится много терпеть от мужчин — так уж по крайней мере не надо цапаться между собой. Вы знаете, что я почти никогда не говорю дурного о женщинах. Но к Розе Эллиотт у меня душа не лежала. Родители ее избаловали, и другой такой лентяйки и эгоистки свет не видывал. И вечно-то она ныла и жаловалась! А Фрэнк был никуда не годный работник, так что жили они ужас как бедно. Перебивались, как говорится, с хлеба на воду. У них было двое детей — Лесли и Кеннет. Лесли унаследовала красоту матери и ум отца, да еще характер бабки Уэст — кремень была старуха! Прямо чудо-девочка росла: умненькая, ласковая, веселая. Все ее любили, а отец на нее надышаться не мог. И сама она отца обожала. Никаких недостатков в нем не видела — да, надо признать, что он и впрямь был милый человек.
Ну так вот, первое страшное событие в жизни Лесли случилось, когда ей было двенадцать лет. Девочка души не чаяла в Кеннете, своем младшем брате. Он был на четыре года ее моложе — такой славный паренек. Так вот, он погиб: упал с воза сена, и его переехало колесом. Тут из бедняжки и дух вон. И это прямо на глазах у Лесли! Она в это время была на чердаке и смотрела в окошко. Как она закричала! Их работник говорил, что такого вопля он в жизни не слышал и что он будет звучать у него в ушах, пока не раздастся трубный глас. Но больше Лесли не кричала и не плакала по брату. Она выскочила наружу и схватила на руки еще теплое окровавленное тельце. Представляете, Энн, пришлось вырывать его у нее силой! Уэсты послали за мной, но мне об этом и сейчас невыносимо говорить.
Мисс Корнелия вытерла слезы, покатившиеся из ее добрых карих глаз, и некоторое время шила молча.
— Ну вот, — вернулась она к своему повествованию, — похоронили они маленького Кеннета, и через некоторое время Лесли опять стала ходить в школу. Но никогда не поминала брата — с того дня я ни разу не слышала, чтобы она произнесла его имя. Надо полагать, что рана у нее в душе до сих пор ноет, но все-таки она была ребенком, а у детей, слава Богу, память короткая. Некоторое время спустя Лесли опять стала смеяться — и какой же у нее был прелестный смех! Сейчас его не часто услышишь.
— Вчера она в какой-то момент засмеялась, — сказала Энн. — Действительно, смех у нее очаровательный.
— После смерти Кеннета Фрэнк Уэст стал быстро сдавать. У него и так-то было слабое здоровье, а смерть сына его просто подкосила. Он впал в меланхолию, совсем перестал работать. И вот, когда Лесли было четырнадцать лет, он повесился — прямо посреди гостиной, на крюке от лампы. Одно слово — мужчина! Да еще в годовщину их с Розой свадьбы. Хорошенький выбрал денек, правда? И, конечно, надо было так случиться, чтобы первой его нашла Лесли. Она вошла утром в гостиную с букетом цветов, напевая песенку, — и увидела повесившегося отца с лицом, черным как уголь. Ну что может быть ужаснее?
— Бедняжка! — воскликнула Энн. — Какой кошмар!
— На похоронах отца Лесли не плакала — как не плакала и на похоронах брата. Роза вопила и рыдала за двоих, а Лесли все старалась ее успокоить. Как же я возмущалась поведением Розы, а Лесли все обнимала ее и утешала. Она очень любила мать. Такой уж у нее характер — родной человек в ее глазах всегда безгрешен. Ну так вот, похоронили они Фрэнка рядом с Кеннетом, и Роза поставила ему огромный памятник. Не скажу, чтобы он его заслужил. И уж, во всяком случае, такой памятник был ей не по карману. Ферма Уэстов была заложена-перезаложена. Но вскоре после этого умерла бабушка Лесли и оставила девушке немного деньжат — как раз хватало на то, чтобы заплатить за год обучения в Куинс-колледже. Лесли решила выучиться на учительницу, а потом накопить денег и поступить в Редмондский университет. Отец ее об этом мечтал: он хотел, чтобы хоть дочери удалось то, что не удалось ему. У Лесли были отличные способности. Поступила она в Куинс-кол-ледж, прошла за год двухлетний курс, и когда вернулась в Глен, ей предложили место учительницы в нашей школе. Как она была счастлива, как полна жизни и надежд! Когда я вспоминаю тогдашнюю Лесли и сравниваю ее с тем, во что она превратилась, то могу сказать только одно: черт бы побрал мужчин!
Мисс Корнелия с такой яростью оборвала нитку, словно, как римский император Нерон, хотела одним ударом отрубить голову всему мужскому населению Земли.
— И тут в ее жизни появился Дик Мор. Его отец, Абнер Мор, держал магазинчик в Глене, но Дик унаследовал от матери страсть к мореходству: летом он плавал, а зимой помогал отцу в магазине. Красивый был, рослый парень, но совести ни на грош. Что ему ни приспичит — вынь да положь, а когда добьется своего, оно ему уже и не нужно. Одно слово — мужчина. Нет, если светило солнышко, он на погоду не жаловался, и когда все было по нем, казался даже приятным малым. Но много пил, и рассказывали про него, что он очень нехорошо обошелся с девушкой из рыбацкой деревни. Короче, Лесли он в подметки не годился. Да еще к тому же был методист! Но влюбился в нее по-страшному — во-первых, потому что она такая была красотка, а во-вторых, потому что она его в упор не видела. И поклялся, что заполучит ее в жены — и заполучил!
— Как же это ему удалось?
— Через подлость! Я этого Розе Уэст никогда не прощу. Видите ли, милая, закладная на ферму Уэстов была в руках Абнера Мора, и они уже несколько лет не платили процентов. Так вот, Дик отправился к миссис Уэст и сказал ей, что, если Лесли не выйдет за него замуж, он уговорит отца отнять у них ферму. Чего только Роза не выделывала, чтобы уговорить Лесли! Укоряла, рыдала, падала в обморок: у нее, дескать, сердце разорвется, если ее выгонят из дома, куда она пришла молодой женой. Конечно, лишиться дома — это ужасно, тут ее понять можно, но чтобы из-за этого принести в жертву родное дитя! Такая уж была эгоистка! И Лесли сдалась. Она так любила мать, что на все ради нее была готова. И вышла замуж за Дика Мора. Мы тогда понять не могли, как это получилось, но я чувствовала, что что-то тут не так. Раньше-то она его отшивала — и с чего бы это ей вдруг изменить к нему отношение? Такой человек, как Дик Мор, просто не мог ей понравиться, будь он сто раз красавец и ухажер записной. И только много позже я узнала, что это мать ее принудила согласиться. Никакой настоящей свадьбы, конечно, не было, но Роза попросила меня прийти к ним в дом, когда священник будет венчать молодых. Ну, я и пришла — и очень об этом жалела. Я видела Лесли на похоронах брата и на похоронах отца — а теперь, казалось, что ее самое хоронят. А Роза все улыбалась — и это, называется, мать!
Лесли и Дик стали жить вместе с Розой — она, видишь ли, не могла расстаться с дорогой доченькой! — и прожили там зиму. А весной Роза заболела воспалением легких и умерла. Что бы ей на год раньше преставиться! Лесли тяжело переживала смерть матери. И почему это недостойные люди пользуются любовью, а благородных никто не любит? Дику к тому времени семейная жизнь уже наскучила: одно слово — мужчина! И он отправился в Новую Шотландию навестить родственников, оттуда был родом его отец. Потом Дик написал Лесли, что его кузен Джордж отправляется в плавание в Гавану и что он собирается с ним. Судно называлось «Четыре сестры», и вернуться они должны были через девять-десять недель.
Лесли, наверно, этому обрадовалась, но слов таких от нее никто не слышал. Она как вышла замуж, так и стала такой, как сейчас: холодной, заносчивой и замкнутой. Одна я ей этого не позволяю. Пристала к ней и не отпускаю.
— Она мне сказала, что вы ее лучший друг на целом свете, — призналась Энн.
— Правда? — с восторгом переспросила мисс Корнелия. — Как вы меня порадовали! А то мне иногда казалось, что она мною тяготится. По крайней мере, Лесли ни разу не показала, что рада моему обществу. Видно, она-таки оттаяла в разговоре с вами, а то сроду бы такого не сказала. Бедная девочка! Каждый раз, когда я вижу Дика Мора, мне хочется всадить нож в его бессовестное сердце.
Мисс Корнелия опять вытерла глаза и, облегчив душу сим кровожадным высказыванием, продолжила свой рассказ:
— Осталась, значит, Лесли одна. Перед отъездом Дик засеял поля, и урожай собрал старый Абнер. Прошло лето, а «Четыре сестры» все не возвращался. Родственники Моров из Новой Шотландии навели справки и узнали, что судно достигло Гаваны, разгрузилось там и отправилось домой. Но оно не вернулось, и больше о корабле не слышали. О Дике Море постепенно стали говорить как о покойнике. Все были уверены, что его нет в живых, хотя точно никто не знал. Бывало, что моряки, которых считали погибшими, возвращались и через несколько лет. Сама Лесли не смела верить, что он погиб, и была, к сожалению, права. На следующее лето капитан Джим оказался в Гаване — он тогда еще продолжал плавать — и решил поискать Дика. Капитан Джим всегда любил совать нос в чужие дела: одно слово — мужчина! Он обошел все кабаки и ночлежки, где бывали моряки, расспрашивая про команду «Четырех сестер». По-моему, лучше бы он оставил все как есть. Ну так вот, в одной таверне на окраине города он увидел человека, в котором сразу признал Дика Мора, хотя тот зарос густой бородой. Вернее, то, что от него осталось…
— Что же с ним случилось?
— Никто толком ничего не знал. Хозяева таверны сказали, что нашли его у себя на пороге еле живого — у него была не голова, а кровавое месиво. Они решили, что его избили в драке, и так оно, наверно, и было. Они взяли беднягу в дом, считая, что он вот-вот помрет, но он выжил. Только умом стал вроде как ребенок. Совсем ничего не помнил и не соображал. Хозяева пробовали дознаться, откуда он, но ничего у них не вышло. Он даже не помнил, как его зовут. Знал всего несколько простых слов, и все. При нем нашли письмо, которое начиналось словами «Дорогой Дик» и было подписано «Лесли», но конверта не было и адреса тоже. Ну, они и оставили его у себя. Он мог выполнять простую работу по дому и пользу вроде как приносил. Там капитан Джим его и нашел, и привез домой. Я на него за это ужас как сердилась, а с другой стороны, что же ему оставалось делать? Он думал, что когда Дик попадет домой и увидит знакомые лица, к нему, может быть, вернется память. Но ничего такого не произошло. С тех пор он так и живет у Лесли. Ведет себя, как ребенок, иногда капризничает, но обычно слушается ее и никому не причиняет вреда. Иногда убегает из дому — так что за ним нужен глаз да глаз. И вот такое бремя Лесли одна-одинешенька несет уже одиннадцать лет. Старый Абнер умер вскоре после того, как капитан Джим привез Дика домой, и оказалось, что у него нет ничего, кроме долгов. Когда Лесли с ними расплатилась, у нее с Диком осталась только старая ферма Уэстов. Лесли сдает землю в аренду Джону Уорду, и кроме этого, у нее нет никаких средств. Иногда летом она берет квартирантов. Но большинство отдыхающих предпочитают жить на другом берегу гавани — там сдаются дачи и можно снять номер в гостинице. Кроме того, дом Лесли стоит далеко от пляжа. А ей к тому же надо ухаживать за Диком. Так что за все эти одиннадцать лет она ни разу не уезжала из дому. Привязана к этому слабоумному на всю жизнь. Представляете, Энн, каково ей живется? Такая была красавица и умница, а какая гордая! И вот ее будто похоронили заживо.
— Бедняжка! — повторила Энн. Ей стало словно бы даже стыдно за собственное счастье.
— Расскажите мне подробно, что говорила Лесли, когда вы с ней встретились на берегу, и как она себя вела, — попросила мисс Корнелия.
Она внимательно выслушала рассказ Энн и в конце его удовлетворенно кивнула.
— Это вам показалось, что она вела себя отчужденно и холодно, Энн, милочка. Вы ей, видно, очень понравились. Я очень этому рада. Может, вам удастся скрасить ей жизнь. Я возблагодарила Господа Бога, когда узнала, что в этом доме будет жить молодая чета. Глядишь, думаю, у Лесли появятся друзья, особенно если они окажутся из племени, что знало Иосифа. Вы ведь постараетесь подружиться с ней, Энн, милочка?
— Обязательно — если она мне это позволит, — с жаром ответила Энн.
— Нет, вы должны стать ей другом независимо от того, позволит она вам это или нет, — решительно заявила мисс Корнелия. — Если она будет отталкивать вас — не обращайте внимания. Вспомните, какая у нее была жизнь — и есть, и всегда будет — потому что такие, как Дик, доживают до глубокой старости. Посмотрели бы вы, как он растолстел, хотя раньше был сухощавый. Заставьте Лесли дружить с вами — вы ведь это умеете. И не стоит вам на нее обижаться. Ходите к ней, даже если вам покажется, что она этого совсем не хочет. Она знает, что некоторые женщины брезгуют Диком — говорят, что он на них жуть наводит. Приглашайте ее почаще к себе. Лесли нелегко отлучаться из дому: Дика нельзя надолго оставлять одного. Он Бог знает что способен натворить — дом, например, сжечь. Она свободна только, когда он спит. Но он ложится рано и спит как убитый до утра. Поэтому вы и встретили ее на берегу. Она часто уходит туда побродить по вечерам.
— Я сделаю для нее все, что смогу, — обещала Энн. После рассказа мисс Корнелии ее интерес к Лесли, зародившийся еще в тот раз, когда она увидела ее с гусями, возрос. Ее тянуло к этой женщине — такой красивой, но такой несчастной и одинокой. Энн не встречала в жизни никого, похожего на Лесли: все ее подруги были нормальными веселыми девушками, как и она сама, и их девичьи мечты омрачали лишь мелкие невзгоды. А Лесли Мор постигла настоящая трагедия: ее лишили права на простое женское счастье. Энн решила, что обязательно проникнет в ее мир, пробьется в темницу, куда заключили ее душу жестокие жизненные обстоятельства.
Глава двенадцатая ЛЕСЛИ ПРИХОДИТ В ГОСТИ
Лесли пришла в гости к Энн морозным октябрьским вечером. Пронизанная лунным светом серебристая дымка окутывала бухту. Когда Джильберт открыл дверь, Лесли взглянула на него с сомнением, словно сожалея о своем приходе, но тут примчалась Энн, схватила Лесли за руку и потащила в гостиную.
— Как я рада, что вы пришли именно сегодня, — весело прощебетала Энн. — Я приготовила сливочных помадок и мечтала, чтобы кто-нибудь помог нам их съесть. Сядем перед камином и будем пить чай и рассказывать разные истории. Вы согласны? Может, и капитан Джим зайдет на огонек.
— Нет, капитан Джим дома на маяке, — сказала Лесли. — Это он заставил меня пойти к вам, — с вызовом добавила она.
— Вот и прекрасно, я ему очень благодарна, — отозвалась Энн, пододвигая кресла к камину.
— Не подумайте, что мне самой не хотелось к вам зайти, — Лесли слегка покраснела. — Я уже давно собиралась… но как-то все не получалось.
— Конечно, вам ведь не хочется оставлять мистера Мора одного, — сказала Энн как о чем-то само собой разумеющемся. Она заранее решила, что не следует нарочито избегать этой больной темы. И она была права. — Лесли сразу же оттаяла. Видимо, она не была уверена, знает ли Энн о ее муже, и испытала облегчение, поняв, что ей не придется давать никаких объяснений. Она позволила миссис Блайт унести свою шляпку и жакет и уютно устроилась в кресле рядом с Магогом. На Лесли было красивое платье, украшенное букетиком красной герани — она любила оживить свой наряд всплеском чего-то красного. В теплом свете камина волосы миссис Мор мерцали, как расплавленное золото. Голубые глаза засияли: казалось, в этом уютном, освященном любовью доме она на какое-то время забыла о своих горьких разочарованиях и вернулась в беззаботные девические годы. Мисс Корнелия и капитан Джим, наверно, с трудом узнали бы ее. Даже Энн не могла поверить, что это оживленное создание — та самая холодная, сдержанная женщина, которую она встретила на берегу. А с какой жадностью Лесли смотрела на стоявшие в простенках книжные шкафы!
— У нас не очень большая библиотека, — сказала Энн, — но каждая книга на этих полках — добрый друг. Мы собирали их много лет и никогда ничего не покупали, предварительно не прочитав и не убедившись, что это — родственная душа.
Лесли засмеялась своим прелестным грудным смехом:
— У меня осталось несколько книжек от папы — совсем немного. Я их столько раз перечитывала, что знаю почти наизусть. Мне негде брать книги. В магазине есть библиотека, но люди, которые покупают для нее книги, плохо в них разбираются, или им все равно. Мне так редко попадались там хорошие книги, что я вообще перестала туда ходить.
— Наши книги — в вашем распоряжении, — откликнулась Энн. — Берите любую, не стесняйтесь.
— Обязательно воспользуюсь вашим предложением, — радостно воскликнула Лесли. Но тут часы пробили десять раз, и она неохотно встала.
— Надо идти. Я и не заметила, что уже так поздно. Капитан Джим говорит, что просидеть в гостях час — минутное дело. Ну а я просидела два… И как же мне было у вас хорошо! — откровенно добавила она.
— Вот и приходите почаще, — хором сказали Энн с Джильбертом. Лесли посмотрела на этих молодых, счастливых, полных надежд людей — воплощение всего того, чем ее обделила судьба, — и свет в ее глазах померк. Перед ними вновь была печальная женщина, которая холодно поблагодарила их за приглашение и ушла с поникшей головой.
Энн глядела вслед Лесли, пока та не скрылась в туманной ночи. Потом медленно вернулась в свой теплый радостный дом.
— Правда, она замечательно красива, Джильберт? Какие волосы! Мисс Корнелия говорит, что они достают ей до пят. У Руби Джиллис были красивые волосы, но у Лесли каждая прядь — как живое золото.
— Да, она очень красивая, — с готовностью отозвался Джильберт, и Энн ощутила в сердце укол ревности.
— А тебе не хотелось бы, чтобы у меня были волосы, как у Лесли? — грустно спросила она.
— Нет, не хотелось бы, — сказал Джильберт, обнимая ее. — Ты не была бы моей Энн, если бы у тебя были золотистые волосы, или вообще любого другого цвета…
— …кроме рыжих, — уныло заключила Энн.
— Да, рыжих, которые так оттеняют твою молочно-белую кожу и твои серо-зеленые глаза. Золотистые волосы тебе совсем не подошли бы, королева Анна — моя королева Анна — королева моего дома, моего сердца и моей жизни.
— Ну ладно, тогда можешь сколько хочешь восхищаться Лесли, — великодушно разрешила Энн.
Глава тринадцатая ВЕЧЕР ПРИЗРАКОВ
Примерно через неделю Энн решила сходить вечером к Лесли — вроде как забежать по-соседски. Над бухтой повис густой туман, моря не было видно — лишь слышался рокот прибоя. Бухта Четырех Ветров предстала перед Энн в новом обличье — заманчиво-таинственном, немного пугающем и навевающем ощущение одиночества. Джильберт уехал на конференцию в Шарлоттаун и должен был вернуться лишь на следующий день. Энн захотелось побыть в обществе своей сверстницы. Конечно, капитан Джим и мисс Корнелия прекрасные люди, но молодость тянется к молодости.
«Как было бы замечательно, если бы неподалеку жил кто-нибудь из подруг: Диана, или Фил, или Присцилла, или Стелла, — с грустью подумала Энн. — Какой-то сегодня жутковатый вечер. Так и кажется, что если сдернуть пелену тумана, то увидишь входящие в гавань суда-призраки с командой утопленников на борту. Еще немного, и мне начнет мерещиться, что напротив меня сидит привидение кого-то из прежних обитательниц дома. Даже Гог и Магог, кажется, навострили уши и прислушиваются к шагам невидимых гостей. Сбегаю-ка я к Лесли, а то совсем испугалась собственных выдумок. А дом пусть принимает своих старых жильцов без меня. Они согреются у веселого огня и к моему возвращению уйдут с миром. И дом будет опять принадлежать мне. А сейчас я чувствую, что он хочет повидаться с прошлым».
Посмеиваясь над своими фантазиями, но все же ощущая, как по спине бегут мурашки, Энн послала воздушный поцелуй Гогу и Магогу и вышла из дому в туманную ночь, захватив с собой несколько свежих журналов для Лесли.
— Лесли обожает читать, — сообщила ей мисс Корнелия, — а читать-то ей нечего. У нее нет денег, чтобы подписаться на журналы или покупать их в магазине. Лесли страшно бедна, Энн, мне даже непонятно, как она умудряется сводить концы с концами. И ведь никогда не жалуется, даже словом не обмолвится о том, как ей трудно. Но я-то знаю. Она всю жизнь прожила в бедности, но когда была молода и строила радужные планы, бедность ее не тяготила. Я очень рада, что она пришла к вам в хорошем настроении. Капитан Джим говорит, что он чуть ли не силой вытолкал ее за порог. Поскорей нанесите Лесли ответный визит, Энн, а то она подумает, что вам неприятно увидеть Дика, и опять спрячется в свою раковину. Дик — просто большой и безобидный младенец, но его дурацкая ухмылка очень часто действует людям на нервы. Слава Богу, у меня вообще нет нервов. Мне Дик Мор сейчас нравится даже больше, чем когда он был в полном уме — хотя, по правде говоря, иногда он и меня выводит из себя. Как-то я пришла к ним помочь Лесли и стала жарить пончики. А Дик вертелся рядом и, как всегда, клянчил их. И вдруг схватил горячий пончик, который я только что выудила из кипящего масла, и сунул мне его за шиворот. И принялся хохотать до упаду. Поверите ли, Энн, я едва удержалась, чтобы не вылить кипящее масло ему на голову!
Идя по тропинке, Энн вспомнила гневное лицо мисс Корнелии и рассмеялась. Но смех прозвучал как-то странно в туманном мраке и отрезвил Энн. Подойдя к дому Лесли, она увидела, что в комнатах нет света, обошла дом и поднялась на веранду. Остановившись перед открытой дверью, которая вела в маленькую гостиную, Энн замерла.
Лесли сидела за столом, положив на него руки и опустив на них голову, и приглушенно, но страшно рыдала. Казалось, вся боль ее души рвалась наружу и душила ее. Старая черная собака сидела рядом с ней, положив голову ей на колени и устремив на нее взгляд, полный молчаливой преданности и сочувствия. Энн попятилась. Она не вправе навязывать Лесли свое общество в такую горькую минуту. Эта гордая женщина не простит этого никому.
Энн на цыпочках спустилась с крыльца и прошла через двор. Тут она услышала доносящиеся из мрака голоса и увидела огонек. В воротах она встретила капитана Джима с фонарем. С ним был крупный толстый мужчина с круглым красным лицом и отсутствующим взглядом — видимо, Дик Мор.
— Это вы, миссис Блайт? — спросил капитан Джим. — Зря вы ходите одна в такую ночь. В тумане ничего не стоит потеряться. Погодите, я отведу Дика спать, а потом провожу вас до дому. А то, не дай Бог, вернется доктор Блайт и узнает, что вы в тумане шагнули вниз с обрыва. Сорок лет назад это случилось с одной женщиной…
— Значит, навещали Лесли? — спросил капитан Джим, вернувшись.
— Нет, я не вошла в дом, — ответила Энн и рассказала капитану Джиму, что она увидела. Капитан Джим вздохнул:
— Бедная девочка! Она не так-то часто плачет, миссис Блайт. У нее много мужества. Видно, ей стало совсем невмоготу. В такую ночь на людей обрушиваются все их горести и страхи.
— Кажется, что тебя окружают призраки, — передернула плечами Энн. — Поэтому я и пришла сюда — мне хотелось увидеть живого человека и услышать чей-нибудь голос. А то все вокруг какое-то потустороннее. Даже мой родной дом кажется полным призраков. Они прямо-таки вытолкали меня наружу. Вот я и пошла к Лесли.
— Но вы правильно сделали, что не вошли к ней, миссис Блайт. Лесли это не понравилось бы. Дик пробыл у меня весь день. Я стараюсь брать его почаще, чтобы немного облегчить ей жизнь.
— А почему у него такие странные глаза? — спросила Энн.
— Вы заметили? Один глаз голубой, а другой карий. И у его отца были такие же. Я по глазам и узнал его на Кубе. А то как было узнать — с бородой и такого толстого? Вы, наверно, знаете, что это я его нашел и привез домой? Мисс Корнелия много раз говорила, что зря я это сделал, но я с ней не согласен. Иначе я поступить не мог, тут у меня и сомнений нет. Но за Лесли душа болит. Ей всего двадцать восемь, а горя она хлебнула больше, чем иная восьмидесятилетняя старуха.
Некоторое время они шли молча. Потом Энн сказала:
— Знаете, капитан Джим, мне никогда не нравилось ходить в темноте с фонарем. Кажется, что оттуда, из темноты, за мной злыми глазами следят враждебные существа. И это чувство у меня с детства. С чего бы это? Когда темнота как бы обнимает меня, я ничего подобного не ощущаю, и мне совсем не страшно.
— У меня и самого бывает такое чувство, — признался капитан Джим. — Наверно, когда темнота близко, она кажется нам другом. Однако туман редеет. С запада задул ветер — чувствуете? Пока дойдете до дому, на небе появятся звезды.
Так и случилось. Когда Энн вошла в дом, в очаге еще тлели угли, а все призраки исчезли.
Глава четырнадцатая НОЯБРЬСКИЕ ДНИ
Яркие краски, которыми несколько недель полыхали берега бухты Четырех Ветров, наконец выцвели, и серо-голубое покрывало поздней осени легло на окрестные холмы. Целыми днями поля мокли под моросящим дождем или ежились под порывами холодного морского ветра. По ночам часто разыгрывался шторм, и Энн, просыпаясь от сильных ударов ветра по стеклу, молилась, чтобы какое-нибудь судно не отнесло к скалистому берегу бухты, потому что тогда его не спасет даже яркий и надежный огонь маяка.
— В ноябре мне иногда кажется, что весна никогда не наступит, — вздыхала Энн, грустно глядя на свой оголенный мокрый садик. Пирамидальные тополя и березы, по словам капитана Джима, «торчали как палки», хотя еловый лесок по-прежнему зеленел, презирая непогоду. Но и теперь, когда изредка выпадали солнечные дни, бухта сверкала и переливалась так беспечно, а залив так нежно голубел вдали, что бешеный ветер и шторм казались дурным сном.
Энн с Джильбертом часто проводили вечер на маяке. Там всегда было тепло и уютно. Даже когда восточный ветер пел в минорном ключе и море было свинцово-серым, в доме капитана Джима, казалось, поблескивали солнечные искры. Может быть, причиной этого был Старпом, шуба которого искрилась золотом. От огромного кота исходило сияние, вполне заменявшее солнце, а его оглушительное мурлыканье создавало приятный фон для разговоров и смеха, звучавших у камина.
Джильберт и капитан Джим обсуждали самые разные проблемы, а Энн слушала их или мечтала. Иногда с ними приходила и Лесли, и тогда они с Энн вдвоем бродили по берегу в призрачных сумерках или сидели на камнях на берегу, пока ночь не загоняла их к веселому голубому пламени. Капитан Джим заваривал чай и вспоминал о своих бесчисленных приключениях.
Лесли, казалось, получала огромное удовольствие от этих походов на маяк и искрилась остроумием и весельем. В ее присутствии разговор становился особенно оживленным. Даже когда сама Лесли ничего не говорила, она как бы вдохновляла других. Рассказы капитана Джима звучали увлекательнее, Джильберт больше острил, а у Энн разыгрывалось воображение.
— Лесли рождена, чтобы блистать в столичных интеллектуальных кругах, — поделилась как-то Энн с Джильбертом по дороге домой. — Как обидно, что такая яркая личность пропадает впустую в бухте Четырех Ветров!
— Видно, ты не слушала нас, когда в прошлый раз мы с капитаном Джимом обсуждали эту тему. Мы пришли к утешительному выводу, что Создатель, наверно, не хуже нас знает, как руководить миром, и такой вещи, как «жизнь, потраченная впустую», просто не бывает — разве что человек сам выбрасывает свои способности на ветер и зря прожигает жизнь, — а Лесли Мор ничего подобного не делает. Между прочим, некоторые, может быть, считают, что бакалавр искусств Редмондского университета «пропадает впустую» замужем за провинциальным лекарем.
— Джильберт!
— Если бы ты вышла замуж за Роя Гарднера, то блистала бы в интеллектуальных кругах далеко от бухты Четырех Ветров.
— Джильберт Блайт!
— Но ты же была одно время в него влюблена, Энн.
— Джильберт, я никогда не была в него влюблена. Мне просто так показалось. И тебе это отлично известно. Ты знаешь, что я не променяю наше счастливое гнездышко ни на один королевский дворец.
В ответ Джильберт сжал ее в объятиях, и оба они начисто забыли про бедную Лесли, идущую через поля к дому, который не был ни дворцом, ни счастливым гнездышком.
Над грустным темным морем поднялась луна, но дальний берег бухты, где угадывались темные низины и мерцали окна домов, еще оставался в тени.
— Посмотри, Джильберт! — воскликнула Энн. — Правда, эта цепочка огней над гаванью кажется золотым ожерельем? А вон и наш дом! Как я рада, что оставила свет в гостиной. Терпеть не могу приходить в темный дом. Это наш свет, Джильберт!
— Да, Энн, это — наш путеводный маяк. Если у тебя есть дом, а в нем любимая рыжекудрая жена, то чего еще хотеть от жизни?
— Ну, можно захотеть и еще кое-чего, — счастливым голосом прошептала Энн. — Ой, Джильберт, я никак не дождусь весны.
Глава пятнадцатая РОЖДЕСТВО В БУХТЕ ЧЕТЫРЕХ ВЕТРОВ
Поначалу Энн с Джильбертом собирались на Рождество в Эвонли, но потом решили остаться в Четырех Ветрах.
— Я хочу провести наше первое Рождество в собственном доме, — объявила Энн.
И они не поехали в Эвонли, а вместо этого к ним на Рождество приехали Марилла, миссис Рэйчел Линд, Дора и Дэви. У Мариллы был такой вид, точно она совершила кругосветное путешествие. Она ни разу не выезжала из Эвонли дальше чем на шестьдесят миль и ни разу не справляла Рождество где-нибудь кроме Грингейбла.
Миссис Рэйчел, убежденная, что женщина с университетской степенью не способна приготовить настоящий рождественский пирог, привезла с собой огромный сливовый пудинг. Но в остальном она одобрила, как Энн содержит дом.
Когда они с Мариллой ложились спать в комнате для гостей, миссис Линд сказала:
— Энн — прекрасная хозяйка. Я заглянула в хлебницу и помойное ведро. По ним я сужу о том, как женщина ведет хозяйство. Так вот, в ведре не было ничего, что могло бы еще пригодиться, а в хлебнице не оказалось заплесневелых корок. Разумеется, это — твое воспитание, Марилла, но ведь потом она три года провела в университете. И я заметила, что мое полосатое покрывало лежит у них на постели, а перед камином на полу расстелен мой плетеный коврик. И я сразу почувствовала себя дома.
Первое Рождество в доме Энн удалось на славу. День выдался ясный, накануне выпал снег, а незамерзшая бухта голубела и искрилась на солнце.
К обеду пришли капитан Джим и мисс Корнелия. Энн пригласила и Лесли с Диком, но Лесли отказалась, сказав, что они всегда празднуют Рождество у дяди Айзека.
— Ей так лучше, — сказала мисс Корнелия. — Она не хочет показывать Дика посторонним. Для Лесли Рождество — тяжелая пора. Когда был жив ее отец, они старались, чтобы в доме в этот день был настоящий праздник.
Нельзя сказать, чтобы миссис Линд и мисс Корнелия очень понравились друг другу. Но они и не повздорили. Миссис Линд почти все время провела на кухне, помогая Энн, а Джильберт развлекал капитана Джима и мисс Корнелию — или, вернее, они развлекали его своей обычной дружеской перебранкой.
— Давно уже в этом доме не справляли Рождество, миссис Блайт, — заметил капитан Джим. — Мисс Рассел всегда уезжала на Рождество в город. Но я был приглашен на первый рождественский обед в этом доме — его приготовила жена учителя. С тех пор прошло шестьдесят лет. День был очень похож на сегодняшний — снежок побелил холмы, а бухта синела, как в июне. Я был совсем мальчишкой, и меня в первый раз официально пригласили в гости. Я до того стеснялся, что почти ничего не ел.
— Это проходит со временем, особенно у мужчин, — заверила мисс Корнелия, яростно работая спицами. Она не могла сидеть без дела даже на Рождество. Дети рождаются и в будни, и в праздники, и в бедном рыбацком домике как раз появился новорожденный. Мисс Корнелия отослала этому семейству свой рождественский обед и теперь со спокойной совестью собиралась встретить Рождество у друзей.
— Ты же знаешь, Корнелия, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, — сказал капитан Джим.
— Может, и так, если у него вообще есть сердце, — возразила мисс Корнелия. — Наверно, поэтому женщины и убиваются за плитой. Бедняжка Амелия Бакстер, которая умерла на прошлое Рождество, перед смертью сказала, что это — первое Рождество за всю ее замужнюю жизнь, когда ей не нужно готовить праздничный обед на двадцать персон. Надо же так заездить женщину, что она рада отдохнуть хоть в гробу. Ее нет на свете уже год, и надо полагать, что Хорас Бакстер скоро начнет искать себе новую кухарку.
— По-моему, уже начал, — капитан Джим подмигнул Джильберту. — Слышал я, будто он заходил к тебе в прошлое воскресенье в костюме и накрахмаленной рубашке.
— Нет, не заходил. А как зашел, так тут же и вышел бы. Я могла его заполучить давным-давно, когда он еще был свеженький. А подержанный товар мне не нужен, тем более такой. Можете себе представить — в прошлом году у Хораса Бакстера были денежные трудности и он молился Богу, чтобы тот помог ему из них выбраться. А когда умерла его жена, он получил за нее страховку и заявил, что, видно, Бог услышал его молитву. Одно слово — мужчина!
— А откуда тебе это известно, Корнелия?
— Методистский пастор сказал, если только можно верить методисту. То же самое сказал и Роберт Бакстер, но на его-то слова и вовсе нельзя положиться. Этот не упустит случая соврать.
— Полно, Корнелия, не так уж много он врет, просто очень часто меняет свои мнения.
— А кажется, что врет всякий раз, когда его слушаешь. Но, само собой, вы, мужчины, стоите друг за дружку. А мне Роберт Бакстер не по нутру. Подумать только — перешел к методистам потому лишь, что пресвитерианский хор случайно запел псалом «Вот идут жених с невестой», когда они с Маргарет вошли в церковь на следующее воскресенье после свадьбы. Да хоть бы и так — пусть не опаздывают! Он заявил, что, дескать, хор это сделал нарочно, чтобы его оскорбить. Подумаешь, тоже мне шишка! Но у них все семейство такое: чересчур много о себе воображают. Его брат Элифалет говорил, что его все время подзуживает дьявол — будто дьяволу больше и делать нечего, как его подзуживать.
— Ну, не знаю, — задумчиво произнес капитан Джим. — Элифалет Бакстер жил совсем один — даже кошки или собаки у него не было. А когда человек один, то так и жди, что начнет якшаться с дьяволом. Ему надо сделать выбор — с Богом он или с дьяволом. Если дьявол все время подзуживал Элифалета, то, значит, он выбрал себе его в товарищи.
— Одно слово — мужчина, — подытожила мисс Корнелия и умолкла, поглощенная укладыванием сборочек на платьице. Но вскоре капитан Джим опять ее задел, заметив словно бы между прочим:
— А я в прошлое воскресенье был в методистской часовне.
— Лучше бы сидел дома и читал Библию, — взвилась мисс Корнелия.
— Полно, Корнелия, какой вред в том, чтобы зайти к методистам, когда в твоей собственной церкви нет службы? Я уже семьдесят шесть лет как пресвитерианин.
— Ты подаешь плохой пример, — заявила мисс Корнелия.
— А потом, — с усмешкой в глазах продолжал капитан Джим, — мне хотелось послушать хорошее пение. Ты же не можешь отрицать, Корнелия, что у методистов отличный хор, а в нашей церкви, после того как хористы между собой перессорились, поют отвратительно.
— Ну и что? Они стараются как могут, а для Господа Бога нет разницы между пением вороны и соловья!
— Полно, Корнелия, — мягко возразил капитан Джим. — Я не верю, что у Всевышнего такой плохой слух.
— А из-за чего поссорились хористы? — спросил Джильберт, с наслаждением слушавший их пикировку.
— Это началось три года назад, когда у нас задумали строить новую церковь, — ответил капитан Джим. — Из-за этой церкви мы вообще все переругались — никак не могли договориться, где ее строить. Прихожане разделились на три лагеря: одни хотели строить церковь на восточном участке, другие — на южном, а третьи считали, что надо строить на том месте, где стоит старая церковь. Споры шли повсюду — на собраниях комитета, во время службы, на рынке и в супружеских постелях. На свет Божий выволокли все скандалы за последние сто лет. Из-за этой свары расстроились три свадьбы. А что творилась на собраниях! Ты ведь помнишь, Корнелия, какую речь закатил на одном таком собрании Лютер Бэрнс?
— Речь! Скажи уж прямо, что он расчихвостил всех членов комитета. Да и было за что! Что это был за комитет — одни недоумки. И среди них ни одной женщины! Они провели двадцать семь заседаний и не продвинулись ни на шаг. Если на то пошло, то даже назад откатились, потому что, войдя в раж, снесли старую церковь. Вот мы и остались безо всякой церкви и службы стали проводить в клубе.
— Но ведь методисты предлагали нам свою часовню.
— В Глен Сент-Мэри до сих пор не было бы церкви, — продолжала мисс Корнелия, игнорируя реплику капитана Джима, — если бы за дело не взялись женщины. Мы провели одно собрание, выбрали комитет и начали сбор взносов. Когда мужчины пытались что-нибудь вякать, мы им говорили, что они два года командовали, и толку никакого, а теперь наша очередь. Так мы им заткнули рты, и церковь была построена за полгода. Конечно, когда мужчины увидели, что дело у нас идет на лад, они перестали спорить и принялись за работу. Еще бы! Им бы только верховодить. Хоть женщинам и не разрешается читать проповеди или быть церковными старостами, но собирать деньги и строить церкви им еще никто не запрещал.
— А у методистов женщинам разрешается читать проповеди, — ввернул капитан Джим. Мисс Корнелия бросила на него уничтожающий взгляд.
— Я и не отрицаю, что у методистов хватает здравого смысла. Я просто сомневаюсь в их религиозной догме.
— Вы, наверно, считаете, что женщинам надо дать избирательное право, мисс Корнелия? — спросил Джильберт.
— Нет, мне не так уж нужно избирательное право, — ответила мисс Корнелия. — Достаточно я уж подчищала за мужчинами. Но попомните мои слова: когда мужчины поймут, что заварили кашу, которую сами не могут расхлебать, они с радостью предоставят нам избирательное право и спихнут на нас все заботы. Хорошо, что у женщин достаточно терпения!
— А как насчет Иова — у него разве не было терпения? — спросил капитан Джим.
— У Иова! Все были так поражены, что нашелся терпеливый мужчина, что решили увековечить его память,
— торжествующе отрезала мисс Корнелия. — Но вовсе не все мужчины, которых зовут Иов, наделены терпением. Вспомни старого Иова Тейлора.
— Ну, его терпение подвергалось слишком тяжелым испытаниям. Даже ты вряд ли сможешь сказать что-нибудь хорошее о его жене. А я помню, что сказал на ее похоронах старый Уильям Макалистер: «Она, конечно, была набожная женщина, но по характеру — сущий дьявол».
— Это верно, характер у нее был тяжелый, — согласилась мисс Корнелия, — но все же это не оправдывает того, что сказал Иов, когда она умерла. Он ехал с кладбища с моим отцом и всю дорогу молчал, пока они не подъехали к дому. И тут он глубоко вздохнул и говорит: «Поверишь ли, Стивен, сегодня — счастливейший день в моей жизни».
— Видно, жена ему здорово надоела, — заметил капитан Джим.
— Как бы ни надоела, а приличия надо соблюдать. Даже если человек в глубине души радуется смерти жены, не обязательно это провозглашать во всеуслышание. И, между прочим, сколько Иов Тейлор ни натерпелся от жены, он вскоре женился снова. Вторая жена держала его в ежовых рукавицах. Первым делом она велела ему поставить памятник первой жене и оставить на нем место для ее собственного имени. Мол, когда она умрет, никто уж не заставит Иова поставить памятник еще и ей.
— Кстати, о Тейлорах. Доктор, как дела у жены Льюиса Тейлора? — спросил капитан Джим.
— Поправляется, хотя и медленно — ей приходится слишком много работать, — ответил Джильберт.
— Ее мужу тоже приходится много работать на своей свиноферме, — вставила мисс Корнелия. — Свиней он выращивает отменных. И гордится ими куда больше, чем своими детьми. Да и то сказать — свиньи у него первоклассные, а дети так себе. Он выбрал для них болезненную мать, да еще держит их всех впроголодь. Свиньи получают сливки, а дети — снятое молоко.
— Иногда я вынужден с тобой соглашаться, Корнелия, — заметил капитан Джим. — Про Льюиса Тейлора ты говоришь чистую правду. Когда я вижу его голодных, тощих детишек, мне несколько дней кусок в горло не лезет.
Тут Энн молча поманила Джильберта пальцем из кухни, закрыла дверь и сделала ему супружеское внушение:
— Джильберт, хватит вам с капитаном Джимом дразнить мисс Корнелию. Я этого не потерплю!
— Энн, мисс Корнелия рада-радешенька высказать все, что она думает о мужчинах. Ты и сама это знаешь.
— Ну и пусть. А вам незачем ее подзуживать. Обед готов, и, пожалуйста, Джильберт, не давай миссис Рэйчел резать гуся. Она обязательно предложит свои услуги, потому что считает, что ты это сделать как следует не сумеешь. Покажи ей, что сумеешь.
— Еще бы не суметь! После того как я целый месяц изучал по книгам, как это делается! Только ничего мне не говори, когда я буду этим заниматься, а то я собьюсь и все перепутаю, как ты, когда учитель менял буквы в задачах по геометрии.
Даже миссис Рэйчел была вынуждена признать, что Джильберт образцово справился с гусем. И все с удовольствием его ели. Первый рождественский обед, приготовленный Энн, прошел с большим успехом, и она вся лучилась гордостью. Когда закончилось долгое и веселое пиршество, все собрались у пылающего камина, и капитан Джим неспешно рассказывал им о своих приключениях, пока красное солнце не стало опускаться в море и тени пирамидальных тополей не легли поперек заснеженной дорожки.
— Ну, мне пора на маяк, — сказал капитан Джим. — Как раз успею до захода солнца. Спасибо за прекрасное Рождество, миссис Блайт. Приведите как-нибудь на маяк мастера Дэви.
— Да, я хочу посмотреть на каменных идолов, — радостно отозвался Дэви.
Глава шестнадцатая НОВЫЙ ГОД НА МАЯКЕ
После Рождества гости из Грингейбла уехали домой. С Мариллы Энн взяла страшную клятву, что весной та приедет погостить. Вскоре после Рождества был сильный снегопад, бухта замерзла, но залив все еще синел вдали, свободный от ледяных оков. Последний день года выдался солнечным и очень холодным. Небо резало глаза синевой, снег ослепительно искрился, голые деревья были как-то особо прекрасны. Не было мягких полутонов, не было ласковых полутеней и все сглаживающего марева: все было высвечено безжалостным блеском. Только ели сохранили свою индивидуальность — ель ведь дерево темное и таинственное, она не поддается яркому свету.
Но к вечеру эта сияющая красота как бы притихла и в ней появилась какая-то задумчивость: острые углы сгладились, яркий блеск сменился приглушенными отсветами, белое поле замерзшей бухты окрасилось в серо-розовый цвет, дальние холмы полиловели.
— Как красиво уходит старый год, — заметила Энн. Она, Джильберт и Лесли шли на мыс: капитан Джим пригласил их встретить Новый год на маяке. Солнце село, и на юго-западе засияла золотистая Венера, которая в это время года максимально приближается к своей сестре Земле. Впервые в жизни Энн с Джильбертом увидели бледную таинственную тень, которую отбрасывает эта яркая звезда и которую можно увидеть только на белом снегу, и только углом глаза — если посмотреть на нее прямо, она исчезает.
— Не тень, а призрак тени, правда? — прошептала Энн. — Когда смотришь вперед, чувствуешь, что она идет за тобой по пятам, а когда повернешь голову, ее уже нет.
— Я слышала, что тень Венеры можно увидеть только раз в жизни и это означает, что в следующем году с тобой непременно случится что-то очень хорошее, — сказала Лесли. Но она сказала это жестким голосом: видимо, подумала, что ей тень Венеры ничего хорошего принести не может. Энн загадочно улыбнулась: она-то знала, что ей обещала мистическая тень.
На маяке они застали Маршалла Эллиотта. Поначалу Энн была очень недовольна, что в их тесный кружок вторгся этот длинноволосый эксцентричный чужак. Но Маршалл Эллиотт вскоре доказал, что с полным правом может находиться в обществе людей, знавших Иосифа. Это был начитанный, интеллигентный и остроумный человек, который умел рассказывать интересные истории не хуже капитана Джима. Так что все были весьма рады, когда он согласился дождаться вместе с ними наступления Нового года.
Джо, внучатый племянник капитана Джима, тоже пришел к дедушке встретить Новый год, но не дождался его и заснул на диване, прижавшись к пушистому Старпому.
— Правда, славный парнишка? — глядя на мальчика, умиленно спросил капитан Джим. — Ужасно люблю смотреть на спящих детей, миссис Блайт. Ничего красивее этого нет на свете. Джо очень любит ночевать у меня, потому что я разрешаю ему спать со мной, а дома он спит с двумя братьями. Как-то малыш меня спросил: «Почему мне нельзя спать с папой, дядя Джим? В Библии сын всегда спит с отцом». Ну и вопросики же он задает! Их у него наготове тысячи. «Дядя Джим, если бы я был не я, то кто бы я был?» или: «А что случится, если Бог умрет, дядя Джим?» Это он меня спросил сегодня перед тем, как заснуть. А какое у него воображение! Мать запирает его в шкаф, чтобы он не выдумывал всякие враки. Ну, он посидит в шкафу и сочинит еще какую-нибудь басню, которую рассказывает матери, как только она его выпустит.
Они провели последние часы старого года перед пылающим камином. Капитан Джим рассказывал истории из своей жизни, а Маршалл Эллиотт красивым тенором пел шотландские баллады. Потом моряк снял со стены старую скрипку и начал играть. Играл он неплохо, и всем очень понравилось, кроме Старпома, который при первых звуках скрипки соскочил с дивана как ужаленный, возмущенно завопил и ринулся вверх по лестнице.
— Никак не научу этого кота любить музыку, — засмеялся капитан Джим. — Просто не удержишь в комнате. Когда мы купили орган для церкви, при первых его звуках старый Ричарде вскочил с места и бегом кинулся из церкви. Он так напомнил мне Старпома, что я чуть не расхохотался во время службы.
Капитан Джим так заразительно играл танцевальные мелодии, что Маршалл Эллиотт начали отбивать такт ногами. В молодости он был заправским танцором. Он вскочил и протянул руку Лесли. Та с готовностью встала, и они грациозно закружились по комнате. Лесли танцевала самозабвенно, словно бы отдавшись стихии музыки. Энн смотрела на нее с восхищением, такой она Лесли никогда не видела. В пламенеющих щеках, сияющих глазах и изящных движениях как бы вырвались наружу все богатство, все обаяние, вся глубина ее натуры. Длинная борода и волосы Маршалла Эллиотта не портили картины, а словно бы придавали ей особое очарование. Казалось, викинг из давно ушедших дней танцует с голубоглазой и золотоволосой дочерью Севера.
— Видал я хороших танцоров, но вы всех побили, — заявил капитан Джим, когда смычок наконец выпал из его усталой руки. Запыхавшаяся Лесли со смехом упала в кресло.
— Я обожаю танцевать, — тихо призналась она Энн. — Я не танцевала с шестнадцати лет, но любовь к танцам по-прежнему жива во мне. Музыка бежит по моим венам, как кровь, и я все забываю — все! — с наслаждением сливаясь с ее ритмом. Я не чувствую под собой пола, не вижу над собой крыши — я плыву среди звезд.
Капитан Джим аккуратно повесил скрипку на место, рядом с рамкой, в которой красовались несколько банкнот.
— У вас есть знакомые, которые вешают на стены банкноты вместо картин? — спросил он. — Тут двадцать десятидолларовых банкнот, и они не стоят и рамки, в которую вставлены. Это — деньги, которые в свое время выпускал банк острова Принца Эдуарда. Купюры остались у меня, но банк лопнул, и я вставил их в рамку и повесил на стену, отчасти, чтобы никогда больше не доверять банкам, а отчасти, чтобы чувствовать себя миллионером. Заходи, Старпом, не бойся, музыка и танцы на сегодня кончились. Старый год побудет с нами еще только час. Это — семьдесят седьмой год, который я встречаю, миссис Блайт.
— Ты и сотню встретишь, — вставил Маршалл Эллиотт.
Капитан Джим покачал головой.
— Нет, не встречу — по крайней мере, не хотелось бы. С годами смерть уже не кажется такой страшной. Хотя, конечно, никто не хочет умирать. Возьми хоть старую миссис Уоллес. Всю жизнь с бедняжкой происходили всякие несчастья, она потеряла почти всех близких и родных людей и все время твердит, что будет рада умереть, потому что ей надоела эта юдоль слез. Но стоит ей прихворнуть, какая начинается суматоха! Вызывают докторов из города, нанимают сестру-сиделку, покупают гору лекарств. Может, жизнь и юдоль слез, но некоторым, видно, нравится плакать.
Последний час старого года они провели, тихо сидя перед камином. За несколько минут до двенадцати капитан Джим встал и открыл дверь.
— Надо впустить Новый год, — сказал он.
Ночь была ясной, и они стояли в дверях, ожидая наступление нового года. Часы на полочке пробили двенадцать.
— Здравствуй, Новый год, — поклонился капитан Джим. — Я желаю вам всем, чтобы это был самый счастливый год в вашей жизни. Так или иначе, я уверен, что Всевышний приведет наше судно в добрый порт.
Глава семнадцатая ЗИМА В БУХТЕ ЧЕТЫРЕХ ВЕТРОВ
После Нового года зима вступила в свои права. Вокруг маленького домика намело огромные сугробы, мороз нарисовал на окнах узоры из пальмовых листьев. Бухту сковало толстым и прочным льдом, по нему, как всегда зимой, местные жители проложили санный путь, и днем и ночью оттуда доносился веселый звон бубенцов. Залив тоже замерз, и свет маяка больше не мелькал в ночи. Зимой, когда навигация прекращалась, должность капитана Джима становилась чистейшей синекурой. — Нам со Старпомом теперь до весны будет нечего делать, кроме как дремать у камина. Предыдущий смотритель на зиму переезжал в Глен, но мне больше нравится жить на маяке. В Глене Старпома либо отравят, либо загрызут собаки. Конечно, нам немного одиноко без света маяка и шума прибоя, но если нас будут часто навещать друзья, то кое-как перезимуем. У капитана Джима были санки, и Энн с Джильбертом и Лесли часто катались на них по гладкому льду бухты. Женщины подружились и часто катались на лыжах по окрестным полям и лесам. Беседы и даже просто дружелюбное молчание обогащали их жизнь. Обе радовались, зная, что недалеко, за занесенным снегом полем, живет подруга. Но все-таки между ними оставалась скованность: Энн отчетливо ощущала, что Лесли держит ее на некотором расстоянии. — He знаю, почему она не подпускает меня ближе, — сказала как-то Энн капитану Джиму. — Лесли так мне нравится — я просто восхищаюсь ею. Мне хочется открыть ей свое сердце, и я жду, что она распахнет передо мною свое. — У вас была счастливая жизнь, миссис Блайт, — задумчиво ответил капитан Джим. — Наверно, поэтому вы и не можете по-настоящему сблизиться с Лесли. Вас разделяют горести, выпавшие ей на долю. — У меня было довольно несчастливое детство до тех пор, пока я не попала в Грингейбл, — отозвалась Энн, глядя в окно на неподвижные тени печальных, голых тополей, лежащие на освещенном луной снегу. — Может быть — но это было несчастливое детство ребенка, о котором некому позаботиться, — такое случается со многими. Но настоящей трагедии в вашей жизни не было, миссис Блайт. А у бедной Лесли почти вся жизнь — трагедия. Ей, наверно, кажется, что многого вы не способны понять, и она боится, как бы вы нечаянно не причинили ей боль. Вы же знаете, что когда у нас что-нибудь болит, мы стараемся, чтобы никто не касался больного места. А у Лесли душа — сплошная рана. — Если бы дело было только в этом, капитан Джим, я, наверно, не расстраивалась бы. Это я понимаю. Но бывают моменты — не часто, но бывают, — когда я чувствую, что Лесли испытывает ко мне неприязнь. Иногда у нее в глазах мелькает прямо-таки жгучая ненависть. Она тут же исчезает, но я ее видела, в этом я уверена. И это меня задевает, капитан Джим. Я не привыкла, чтобы ко мне испытывали неприязнь. Я так стараюсь завоевать дружбу Лесли. — Вы ее и завоевали, миссис Блайт. И зря вы выдумываете, что Лесли плохо к вам относится. Если бы это было так, она не стала бы с вами общаться, тем более дружить. Я хорошо знаю, что за человек Лесли Мор. — Когда я ее увидела в первый раз на дороге, Лесли посмотрела на меня с неприязнью, что бы вы ни говорили, капитан Джим, — упорствовала Энн. — Я это почувствовала, хотя и была поражена ее красотой. — Может быть, она была чем-нибудь раздражена, миссис Блайт, а вы просто оказались под рукой. У Лесли бывают периоды, когда она зла на весь белый свет, и ее нельзя за это осуждать. Я же знаю, каково ей приходится. Подумать только, как это несправедливо: такая умница и красавица, что, кажется, ей на роду написано быть королевой, а вместо этого она живет в нищете, лишенная всех радостей, и до конца своих дней обречена ухаживать за Диком Мором. Вы ей очень помогли, миссис Блайт — с тех пор как вы к нам приехали, Лесли не узнать. Вам это, может, не видно, но нам, ее старым друзьям, это ясно как Божий день. Так что и думать забудьте, что Лесли плохо к вам относится. Но Энн порой инстинктивно чувствовала, что Лесли в глубине души ее недолюбливает. Порой сознание этого омрачало ее отношение к Лесли, а порой совершенно забывалось, но миссис Блайт постоянно чувствовала, что их дружба может налететь на подводный камень. Так случилось в тот день, когда она сказала Лесли, что ждет ребенка. Взгляд Лесли вдруг стал жестким и враждебным. — Так у тебя еще и это будет? — как-то придушенно проговорила она. Затем, не говоря ни слова, повернулась и пошла через поле к себе домой. Энн страшно обиделась; ей показалось, что их дружбе с Лесли пришел конец. Но когда миссис Мор через несколько дней пришла к ним, она вела себя так мило, была так искренна и остроумна, что Энн все забыла и простила. Но больше никогда не касалась в разговоре с Лесли этой темы, и та тоже ни разу об этом не обмолвилась. Но однажды вечером, уже в самом конце зимы, она пришла к Энн поболтать и, уходя, оставила на столе белую коробочку. Энн обнаружила ее только после ухода Лесли, открыла и нашла там очаровательное белое платьице, украшенное вышивкой. Воротничок и манжетики были из настоящего валансьенского кружева. Поверх платьица лежала открытка с надписью: «От Лесли с любовью». — Сколько же часов она положила на этот труд! — воскликнула Энн. — И такой дорогой материал — совсем ей не по карману! Однако когда Энн поблагодарила Лесли за платьице, та довольно резко отмахнулась, и Энн опять почувствовала в ней отчуждение. Мисс Корнелия на время забыла про бедных, никому не нужных младенцев и тоже принялась шить приданое для первого и желанного ребенка. Филиппа Блейк и Диана Райт прислали по прелестному подарку для новорожденного; а миссис Рэйчел Линд — несколько детских одежек, правда, без вышивки и оборочек, но пошитых из добротной материи. Энн и сама много шила для ребенка, и часы, проведенные за этим занятием, были ее самыми счастливыми в ту зиму. Капитан Джим часто наведывался к ним в гости, и его всегда встречали с радостью. Энн все больше привязывалась к простосердечному старому моряку. Он как бы вносил в их дом дуновение свежего морского ветра, а его забавные комментарии и словечки неизменно веселили Энн. Капитан Джим был одним из тех редких людей, которые никогда не говорят скучно. Моряк никогда ничему не огорчался. — Я как-то привык радоваться всему на свете, — сказал он однажды, когда Энн заметила, что у него всегда хорошее настроение. — Мне кажется, что я даже радуюсь неприятностям. Ничего, думаю, все это скоро пройдет и будет забыто. «Ну ты, ревматизм, — говорю я, когда он меня прихватывает, — чего это ты разыгрался? Чем больше будешь болеть, тем скорее небось пройдешь. Может, мне от тебя даже станет лучше — не телу, так душе». Как-то вечером, сидя у камина, капитан Джим показал Энн свою жизненную книгу. — Я все это написал, чтобы оставить малышу Джо, — сказал он ей. — Как-то совсем не хочется думать, что после того как я отправлюсь в свое последнее плавание, все, что я видел и делал, будет забыто. А Джо будет рассказывать мои истории своим детям. Жизненная книга представляла собой толстую тетрадь в кожаной обложке, куда капитан Джим записывал рассказы о плаваниях и приключениях. Правда, литературными достоинствами книга не обладала. Когда капитан Джим брался за перо, дар рассказчика совершенно его покидал, да к тому же орфография и синтаксис тоже оставляли желать лучшего. В жизненной книге капитана Джима присутствовало и забавное, и трагическое. Энн чувствовала, что одаренный писатель на основе этих записей сумел бы создать замечательное произведение. На пути домой Энн сказала об этом Джильберту. — А почему ты сама не попробуешь ее обработать, Энн? Энн покачала головой: — Нет, у меня не получится. Ты же знаешь, Джильберт, что я могу писать только милые пустячки. А историю жизни капитана Джима должен описать автор с энергичным стилем и тонким вкусом. Он должен быть проницательным психологом и одновременно прирожденным юмористом и трагиком. Может быть, это было бы по силам Полю, будь он постарше. Так или иначе, я собираюсь пригласить его к нам следующим летом и познакомить с капитаном Джимом. «Приезжай к нам, Поль, — написала Энн своему молодому другу. — Я познакомлю тебя со старым моряком, который рассказывает замечательные истории». Но Поль ответил, что, к его глубокому сожалению, летом он к ним приехать не сможет, так как уезжает учиться за границу на два года. «Когда вернусь, я обязательно к вам приеду, дорогая мисс Энн», — написал он. — А капитан Джим тем временем стареет, — грустно сказала Энн. — И некому написать его жизненную книгу.
Глава восемнадцатая ВЕСНА
Под лучами мартовского солнца лед, сковывавший бухту, почернел и истончился, и в апреле залив опять голубел чистой водой, а маяк опять сверкал в сиреневых сумерках.
— Как я рада видеть его свет, — сказала Энн в тот вечер, когда капитан Джим снова зажег маяк. — Мне его очень не хватало зимой.
Зазеленела молодая нежная травка, перелески окутала изумрудная дымка. На заре низины заполнялись молочно-белым туманом.
Задули ветры, принося с собой брызги соленой пены. Море смеялось, блистало, охорашивалось и манило, как кокетливая женщина. Сельдь сбивалась в косяки, и бухта белела парусами рыбачьих лодок. Издалека опять стали приходить большие суда.
— Весной мне иногда мнится, что из меня мог бы получиться поэт, — сказал капитан Джим. — Вдруг замечаю, что повторяю стихи, которые нам читал вслух учитель шестьдесят лет тому назад. В другое время года они никогда не приходят мне на ум. А сейчас мне хочется выкрикивать их ветру, забравшись на высокий берег, или уйдя в поле, или уплыв далеко в море.
Капитан Джим принес Энн ракушек для ее садика и пучок пахучей травы.
Сейчас она редко попадается, — сказал старик. — А когда я был мальчишкой, этой травы было полно в Дюнах. Идешь по дюнам, и вдруг тебе в нос ударяет аромат. Смотришь — вот она, травка, у тебя под ногами. Я очень люблю этот запах. Он напоминает мне мать.
— Она тоже любила эту травку? — спросила Энн.
— Этого я не знаю. Может, она ее и в глаза ни разу не видела. Просто в этом запахе есть что-то материнское: вроде как не очень молодое, выдержанное, доброе и надежное. А жена учителя перекладывала ею носовые платки. Я не люблю, когда платки пахнут духами, но запах этой травки украсит любую леди.
Энн не пришла в восторг от предложения обложить свои клумбы большими ракушками. Ей показалось, что это их вовсе не украсит, но получилось совсем неплохо. Где-нибудь в городе, или даже в Глене, ракушки были бы неуместны, но в садике на морском берегу они смотрелись просто прекрасно.
— Как красиво! — от души воскликнула она.
— Жена учителя всегда украшала клумбы ракушками, — сказал капитан Джим. — Она замечательно понимала растения: стоило ей только поглядеть на росток, потрогать его — вот так — и, глядишь, он уже цветет. Мне кажется, что этот дар есть и у вас, миссис Блайт.
— Не знаю. Я люблю свой садик, мне нравится возиться с растениями: будто помогаешь Создателю в сотворении мира.
— Меня всегда удивляет, какие краски заложены в маленьких жестких семенах, — заметил капитан Джим. — Глядя на них, почти начинаешь верить, что у нас есть души, которые живут в других мирах. Ведь если бы мы не видели это чудо собственными глазами, трудно было бы поверить, что в этих крупинках заложена жизнь, не говоря уж о красках и запахах.
Энн уже не могла совершать далекие прогулки. Но мисс Корнелия и капитан Джим часто навещали ее. Мисс Корнелия была для Энн и Джильберта неистощимым источником веселья. Каждый раз после ухода пожилой леди они покатывались со смеху, вспоминая ее высказывания. А когда она встречала в их доме капитана Джима, между ними шли бесконечные словесные баталии, которые молодая пара слушала с наслаждением. Энн однажды упрекнула моряка, что тот нарочно поддразнивает мисс Корнелию.
— Смерть как люблю это дело, — со смешком ответил сей нераскаявшийся грешник. — И уж признайтесь, что вы с мужем обожаете ее слушать не меньше моего.
Над садиком Энн струились влажные вечерние ароматы приморской весны. По кромке моря стелился белый туман, в небе сияли веселые звезды. По ту сторону бухты задумчиво бил церковный колокол. Его сочный звон плыл в сумерках, смешиваясь с весенними вздохами моря. Цветы, которые капитан Джим поднес Энн, придали полноту этому чарующему вечеру.
— Этой весной я еще не видела подснежников, — сказала Энн, вдыхая их свежий аромат. — Как я по ним скучала.
— Они здесь у нас не растут — только на пустоши позади Глена. Это — последние, больше этой весной их, наверно, не будет.
— Спасибо за заботу, капитан Джим. Кроме вас никто — даже Джильберт, — Энн кивнула на мужа, — не вспомнил, что весной я мечтаю о подснежниках.
— У меня, правда, было там и другое дело — я отнес мистеру Говарду парочку форелей. Он любит рыбку, и это все, чем я могу ему отплатить за то добро, что он мне однажды сделал. Он любит со мной поговорить, хотя он человек с образованием, а я простой старый моряк. Он из тех людей, которым обязательно надо с кем-то разговаривать, иначе просто жизнь не мила, а соседи его избегают, потому что считают безбожником. А он не то чтобы безбожник — его скорей можно назвать еретиком. Еретики, может, и грешники, но люди очень интересные. Не думаю, что мне вредно послушать рассуждения мистера Говарда. Уж во что я привык верить с детства, с тем и умру. А беда мистера Говарда в том, что он чересчур умен. Он считает, что его ум обязывает его найти какой-то другой путь на небо, а не идти по той же дороге, что и простые невежественные люди.
— Мистер Говард поначалу был методистом, — заметила мисс Корнелия: дескать, от этого уже недалеко до ереси.
— Знаешь, Корнелия, — серьезным тоном сказал капитан Джим, — я часто думаю, что если бы я не был пресвитерианином, то стал бы методистом.
— Ну что ж, — миролюбиво согласилась мисс Корнелия. — Если бы ты не был пресвитерианином, то было бы неважно, кем бы ты был. Кстати, раз мы уж заговорили о ереси, я принесла назад книгу, что вы мне дали, доктор, — «Законы природы в духовном мире». Я и до середины ее не смогла дочитать.
— Да, считается, что в ней есть еретические положения, — признал Джильберт, — но я вас об этом предупреждал, мисс Корнелия.
— Я не возражаю против ереси, но не выношу глупости, — спокойно сказала мисс Корнелия, одной фразой расправившись с нашумевшей книгой.
— Кстати, о книгах, — вмешался капитан Джим, — в журнале наконец-то кончили печатать «Безумную любовь». Всего набежало сто три главы. Конец наступил, когда герои поженились. Вроде бы все беды остались позади. Хорошо, что хоть в книгах так получается, если не в жизни, правда, Корнелия?
— Я не читаю романов, — отрезала мисс Корнелия. — А ты не слышал, как себя чувствует Джорди Рассел?
— Я к нему зашел на обратном пути. Он понемногу выздоравливает, но, как всегда, жаловался на свои беды.
— Он ужасный пессимист, — заметила мисс Корнелия.
— Не то чтобы пессимист, Корнелия, просто ему все на свете не нравится.
— Разве это не пессимизм?
— Нет, пессимист — это человек, который и не надеется, чтобы ему что-нибудь понравилось. До этой крайности Джорди еще не дошел.
— Ты за самого дьявола сумеешь замолвить словечко, Джим Бойд.
— Нет, Корнелия, о дьяволе я ничего хорошего сказать не могу.
— Ну и слава Богу. Кстати, по-моему, Билли Бут одержим дьяволом. Ты слышал, что он недавно выкинул?
— Нет, а что?
— Сжег новое платье жены, за которое она заплатила в Шарлоттауне двадцать пять долларов. Дескать, когда она его надела в церковь, на нее пялились все мужчины. Как тебе это нравится?
— Миссис Бут — красивая женщина, и коричневый цвет ей очень идет, — заметил капитан Джим.
— И ты считаешь, что поэтому можно бросить в печку ее новое платье? Билли Бут — ревнивый болван, и жену его можно только пожалеть. Она целую неделю плакала из-за этого платья. Ах, Энн, если бы у меня был литературный дар, как у вас. Уж я бы расписала этих мужчин!
— У Бутов в семье все малость чокнутые, — сказал капитан Джим. — Билли вроде был самым нормальным, пока не женился и не оказалось, что он полоумный ревнивец. А его брат Дэниель всегда был чудной.
— Каждую неделю на него находило и он отказывался вставать с постели, — с удовольствием подхватила мисс Корнелия. — И всю работу по ферме приходилось делать его жене. Когда он умер, ей присылали письма с соболезнованиями, но, но я бы поздравила ее с избавлением от подобного муженька. А их отец Абрам Бут вообще был старый пропойца. Представляете: явился пьяным на похороны собственной жены, качался и икал: «Нич-ч-его вроде и не п-п-ил, а что-то в г-г-голову ударило». Я его хорошенько ткнула зонтиком в спину, и он на какое-то время протрезвел — пока гроб не вынесли из дома. На вчера была назначена свадьба молодого Джонни Бута, а он взял и заболел свинкой. Одно слово — мужчина!
— Но не нарочно же бедняга схватил свинку!
— Была бы я Кейт Стерн, я бы ему показала. Не знаю, нарочно он заболел или нет, но к тому времени, когда он выздоровеет, свадебный ужин надо будет готовить заново. Сколько добра пропало! Свинкой надо было болеть в детстве!
— Ну, Корнелия, ты уж требуешь от человека невозможного!
На это мисс Корнелия не ответила и повернулась к Сьюзен Бейкер, сердитой на вид, но доброй сердцем старой деве из Глена, которую Блайты наняли на несколько недель в прислуги. Сьюзен ходила в Глен навестить больную тетку и только что вернулась.
— Ну и как себя чувствует твоя бедная тетя Манди? — спросила мисс Корнелия.
Сьюзен вздохнула:
— Совсем плохо, Корнелия. Боюсь, что бедняжка скоро отправится на небо.
— Да неужели? Какой ужас! — с сочувствием воскликнула мисс Корнелия.
Капитан Джим и Джильберт поглядели друг на друга. Потом вдруг оба встали и вышли из комнаты, едва сдерживая смех.
— Слушая этих достойных женщин, и мертвый расхохочется, — проговорил капитан Джим. — Храни их Бог!
Глава девятнадцатая СВЕТ И СУМРАК
В начале июня, когда холмы расцвели розовым буйством шиповника, а в Глен цвели яблони, в маленький домик Энн и Джильберта прибыла Марилла в сопровождении черного сундука с медными заклепками, который полстолетия, никем не тревожимый, пребывал на чердаке Грингейбла. Сьюзен Бейкер, которая, прожив у Блайтов несколько недель, стала буквально боготворить «молодую миссис доктор» и поначалу встретила приезд Мариллы с ревнивым неудовольствием. Но, поскольку Марилла не мешала ей вести хозяйство и никак не препятствовала Сьюзен ухаживать за «миссис доктор», преданная служанка смирилась с ее присутствием и сообщила своим подружкам в Глене, что мисс Кутберт — отличная старуха и знает свое место.
Однажды вечером в маленьком домике вдруг поднялся страшный переполох. По телефону из Глена вызвали доктора Дэйва и медицинскую сестру. Марилла ушла с сад и, шепча молитву, шагала взад и вперед между обложенными ракушками клумбами, а Сьюзен засела на кухне, заткнув уши ватой и накрыв голову фартуком.
Увидев, что у Блайтов всю ночь горит в окнах свет, Лесли и вовсе не смогла заснуть.
Июньские ночи коротки, но тем, кто ждал, когда же Энн разрешится от бремени, она показалась бесконечной.
— Господи, ну когда же это кончится? — воскликнула Марилла. Но, увидев озабоченные глаза доктора Дэйва и сестры, больше вопросов задавать не осмелилась. Вдруг Энн… — Нет, об этом Марилла отказывалась думать.
— Только не говорите, — яростно сказала Сьюзен в ответ на боль и страх в глазах Мариллы, — что Бог может быть так жесток, чтобы отнять у нас нашу любимую девочку.
— Отнимал же он других, которых любили не меньше, — сипло заметила Марилла.
На заре, когда лучи восходящего солнца разорвали пелену тумана над песчаным берегом и пронизали ее радужными бликами, в дом пришла радость. Энн наконец родила, и рядом с ней положили малютку с большими, как у матери, глазами. Посеревший за эту страшную ночь Джильберт спустился вниз и сообщил об этом Марилле и Сьюзен.
— Слава тебе, Господи, — дрожащим голосом выговорила Марилла.
Сьюзен встала и вынула из ушей вату.
— Надо готовить завтрак, — деловито заявила она. — По-моему, нам всем не помешало бы закусить. Передайте миссис доктор, чтобы она ни о чем не беспокоилась — Сьюзен у штурвала. Пусть думает только о ребеночке.
Джильберт улыбнулся и ушел наверх. Осунувшейся от перенесенных страданий Энн не надо было говорить, чтобы она думала о ребеночке. Ее глаза лучились святым счастьем материнства.
— Моя крошка Джойс, — промурлыкала Энн, когда Марилла пришла посмотреть девочку. — Мы давно решили, что, если родится девочка, мы назовем ее Джойс. О, Марилла, я думала, что была счастлива, но теперь я понимаю, что это была только мечта о счастье. А вот это — счастье.
— Тебе нельзя много разговаривать, Энн. Подожди, пока немного окрепнешь, — предупредила ее Марилла.
— Но ты же знаешь, Марилла, как мне трудно удержаться от болтовни, — с улыбкой возразила Энн.
В первые часы Энн была слишком слаба и слишком счастлива, чтобы заметить, что и у сестры, и у Джильберта подавленный вид и что Марилла смотрит на нее с невыразимой грустью. Потом в ее сердце прокрался страх — холодный и безжалостный, как морской туман, наползающий на берег. Почему Джильберт совсем не радуется? Почему он не хочет говорить с ней о дочке? Почему они унесли девочку, дав ей побыть с матерью лишь один — такой счастливый! — час? Неужели с ней что-то не так?
— Джильберт, — умоляюще прошептала Энн, — как наша девочка? С ней все в порядке? Скажи, что с ней все в порядке!
Джильберт отвернулся и долго не мог собраться с силами и посмотреть Энн в глаза. Потом Марилла, которая подслушивала под дверью, услышала горестный вскрик и убежала на кухню, где рыдала Сьюзен.
— Бедная голубка, бедная голубка! Как она это переживет, мисс Кутберт? Боюсь, что это ее убьет. Она была так счастлива, так ждала этого ребенка, такие строила планы! Неужели ничего нельзя сделать, мисс Кутберт?
— Боюсь, что нет, Сьюзен. Джильберт говорит, что надежды нет. Он с самого начала знал, что бедная крошка не выживет.
— Такая прелестная малютка! — рыдала Сьюзен. — Такая беленькая! Обычно ведь новорожденные бывают красные или желтые. И глазки такие большие и умненькие, словно ей уже несколько месяцев. Бедная, бедная крошка! Как же мне жалко миссис доктор!
Маленькая душа, которая пришла в этот мир на заре, ушла из него на закате. Мисс Корнелия взяла крошечную беленькую девочку из добрых, но чужих рук сестры и надела на нее нарядное платьице, которое сшила Лесли. Лесли просила, чтобы девочку похоронили в нем. А потом Марилла отнесла ее наверх и положила рядом с ослепшей от горьких слез матерью.
— Бог дал, Бог взял, дорогая, — плача сказала Марилла.
И ушла, оставив Энн и Джильберта наедине с их умершей дочкой.
На следующий день беленькую малютку Джойс положили в крошечный, обитый бархатом гробик, который Лесли выложила яблоневым цветом, и отнесли на кладбище. Мисс Корнелия и Марилла убрали подальше так любовно пошитые для нее одежки, так же как и украшенную оборочками и кружевами колыбель, в которой должно было лежать маленькое существо с ямочками на ручках и ножках. Маленькой Джойс уже не придется в ней спать; ей была уготована другая, холодная и жесткая постель.
— Как это все грустно, — вздохнула мисс Корнелия. — Я так ждала этого ребенка.
— Остается только благодарить Всевышнего, что Энн осталась жива, — сказала Марилла, с ужасом вспомнив те ночные часы, когда ее любимую девочку осенило крыло смерти.
— Бедняжка! Ее сердце разбито, — всхлипнула Сьюзен.
— А я завидую Энн, — вдруг страстно откликнулась Лесли. — Я бы завидовала ей, даже если бы она умерла. Она целый день была матерью. За это я отдала бы жизнь!
— Не надо так говорить, Лесли, — с укором сказала мисс Корнелия. Она опасалась, что этими порывистыми словами Лесли уронила себя в глазах достойной мисс Кутберт.
Энн поправлялась очень медленно. Ей было невыносимо смотреть на залитый солнцем цветущий мир. Но если шел ливень, она содрогалась, представляя себе, как он безжалостно хлещет по маленькой могилке, в шуме ветра чудились печальные голоса.
Посещения соболезнующих соседей и их банальные утешения только расстраивали ее, нисколько не смягчая горе утраты. Веселое поздравительное письмо от Фил Блейк, которая прослышала о рождении ребенка, но не знала, что девочка умерла, еще добавило боли и заставило Энн разрыдаться на груди Мариллы.
— Если бы малышка была жива, как обрадовалась бы я письму Фил! Но когда ее нет, оно кажется издевательством — хотя я знаю, что Фил ни за что на свете сознательно не причинила бы мне боли. О, Марилла, мне кажется, что эта рана никогда не заживет и я больше не смогу радоваться жизни.
— Время тебя вылечит, — утешала ее Марилла, у которой сердце сжималось от боли за Энн.
— Но это же несправедливо! — негодующе воскликнула Энн. — Дети, которые никому не нужны, благополучно живут, хотя их родители плохо за ними ухаживают. А я бы так любила свою доченьку, так бы о ней заботилась, старалась бы дать ей все для счастья! Но у меня ее отняли.
— Такова Божья воля, Энн, — беспомощно сказала Марилла, тоже не понимая, почему ее Энн должна так страдать. — Бедненькой Джойс лучше на небе.
— Я в это никогда не поверю! — горько рыдала Энн. — Зачем же тогда ей было рождаться? Зачем вообще кому-нибудь рождаться, если мертвому лучше? Я не верю, что ребенку лучше умереть при рождении, чем прожить жизнь, любить и быть любимым, радоваться и страдать, делать что-нибудь полезное, выработать характер и стать полноценной человеческой личностью. И откуда ты знаешь, что такова была Божья воля? Может, это силы Зла помешали осуществлению Его воли? А с этим мы мириться не обязаны.
— Что ты говоришь, Энн! — воскликнула Марилла, испуганная еретическими высказываниями Энн. — Нам не дано этого понять, но мы должны верить, что все, что делается, к лучшему. Я понимаю, что сейчас тебе трудно так думать. Но постарайся быть мужественной — хотя бы ради Джильберта. Его так беспокоит, что к тебе никак не возвращаются силы.
— Я знаю, что веду себя эгоистично, — вздохнула Энн. — Я люблю Джильберта еще больше, чем раньше, и ради него мне хочется жить. Но у меня такое чувство, будто часть меня похоронили на том кладбище. От этого мне так больно, что я боюсь жить, Марилла.
— Со временем тебе станет легче, Энн.
— Но мысль, что мне станет легче, причиняет мне еще большую боль, Марилла!
— Да, я понимаю, у меня тоже так было. Но мы все тебя любим, Энн. Капитан Джим каждый день приходит справляться о твоем здоровье. Миссис Мор бродит вокруг дома, как привидение, а мисс Брайант, кажется, тратит все время на то, чтобы приготовить для тебя что-нибудь вкусненькое. Сьюзен совсем не одобряет этого. Она считает, что умеет готовить ничуть не хуже мисс Брайант.
— Милая Сьюзен! Все так обо мне заботятся, все так добры и полны сочувствия. Я не такая уж неблагодарная… и, может быть… когда эта страшная боль немного утихнет… я смогу жить дальше.
Глава двадцатая ПРОПАВШАЯ МАРГАРЕТ
Постепенно Энн начала втягиваться в жизнь, и наконец пришел день, когда она опять улыбнулась одному из патетических высказываний мисс Корнелии. Когда миссис Блайт достаточно окрепла, чтобы прокатиться в коляске, Джильберт первым делом отвез ее на маяк и оставил там с капитаном Джимом, а сам на лодке поплыл в рыбацкую деревню, куда его вызвали к больному.
— Я рад снова видеть вас здесь, миссис Блайт, — сказал старик. — Устраивайтесь поудобнее. Извините, я несколько дней не протирал пыль, но зачем смотреть на пыль, когда перед тобой такой прекрасный вид, правда?
— Я не возражаю против пыли, — улыбнулась Энн, — но Джильберт говорит, что мне надо больше бывать на свежем воздухе. Я пойду посижу там на камнях.
— Можно, я пойду с вами? Или вам хочется побыть одной?
— Нет, мне совсем не хочется быть одной. Я буду рада вашему обществу, — ответила Энн со вздохом. Раньше она любила бывать одна, но теперь, когда рядом никого не было, ей становилось невыносимо одиноко.
— Давайте устроимся в этом тихом закоулке — здесь совсем нет ветра, — сказал капитан Джим, когда они дошли до скал. — Я сюда часто прихожу посидеть и помечтать.
— Помечтать? — горько переспросила Энн. — Я разучилась мечтать, капитан Джим.
— Что вы, миссис Блайт, — возразил капитан Джим. — Я знаю, каково вам сейчас, но жизнь продолжается, и вы опять научитесь ей радоваться, а потом и не заметите, как опять начнете мечтать. И спасибо за это Отцу Небесному! Если бы не способность мечтать, то зачем жить. Как бы мы вынесли эту жизнь, если бы не мечтали о бессмертии? И эта мечта обязательно осуществится, миссис Блайт. И вы опять увидите крошку Джойс.
— Но это уже не будет мой ребенок, — дрожащим голосом сказала Энн. — Это будет небесный ангел — существо, мне чужое.
— Думаю, что Бог на этот случай что-нибудь придумал, — утешал капитан Джим.
Оба помолчали. Потом капитан Джим тихо проговорил:
— Можно, я расскажу вам про пропавшую Маргарет, миссис Блайт?
— Конечно, — мягко ответила Энн. Она не знала, кто такая была «пропавшая Маргарет», но почувствовала, что капитан Джим собирается рассказать ей историю своей любви.
— Мне часто хотелось вам про нее рассказать, — продолжал капитан Джим. — Мне хочется, чтобы о ней хоть кто-нибудь вспоминал, когда меня не станет. Так тяжело думать, что все забудут ее имя. И так уж кроме меня никто о Маргарет не помнит.
И капитан Джим рассказал забытую историю — прошло уже пятьдесят с лишним лет с того дня, как Маргарет уснула в лодке отца и ее унесло течением в залив — так, по крайней мере, предполагали, потому что точно никто ничего не знал. В тот день налетел внезапный шквал, который, наверное, опрокинул ее лодку.
— После этого я много месяцев часами ходил вдоль берега, — грустно говорил капитан Джим. — Я надеялся, что море выбросит ее тело, но оно не вернуло мне ее даже мертвой. Но когда-нибудь я ее найду, миссис Блайт, обязательно. Она меня ждет. Мне хотелось бы описать вам ее внешность, но я не могу. Как-то полоска серебристого тумана напомнила мне Маргарет. А как-то — березка в лесу. У Маргарет были светло-русые волосы, маленькое нежное личико и длинные тонкие пальцы, как у вас, миссис Блайт, только руки у нее были загорелые — она ведь жила на побережье. Иногда я просыпаюсь по ночам и слышу, как меня зовет море — и мне кажется, что это Маргарет. А когда на море шторм и я слышу, как волны рыдают и стонут, мне кажется, что она оплакивает свою судьбу. А когда веселым солнечным днем волны смеются, я слышу ее смех — нежный лукавый смех Маргарет. Море отняло ее у меня, но когда-нибудь я ее найду, миссис Блайт. Море не может разлучить нас навеки.
— Я рада, что вы мне про нее рассказали, — сказала Энн. — А то я удивлялась, почему вы всю жизнь прожили холостяком.
— Я не смог полюбить другую женщину. Маргарет ушла, забрав с собой мое сердце. Вы не возражаете, если я вам буду рассказывать о ней, миссис Блайт? Мне приятно о ней говорить: боль потери ушла за столько лет и осталось только счастье. Я знаю, что вы про нее не забудете, миссис Блайт. И если с годами, как я надеюсь, у вас в доме появятся детишки, обещайте мне, что расскажете им про Маргарет, чтобы ее имя не было предано полному забвению.
Глава двадцать первая СТЕНА РУШИТСЯ
— Энн, — призналась Лесли после небольшой паузы, во время которой обе прилежно шили, — ты не представляешь себе, какое это наслаждение: опять сидеть вместе с тобой, шить, разговаривать — и молчать вместе.
Они сидели на берегу ручейка, который протекал через сад Энн. Вода искрилась и напевала свою песенку, березы бросали на них кружевную тень, вдоль дорожек цвели розы. Солнце начало клониться к западу, и воздух был полон музыки: ветерка в елях, шума прибоя, колокольного звона, доносившегося из церкви, возле которой вечным сном спала бедненькая малышка Джойс. Энн любила слушать этот звон, хотя он и навевал на нее грустные мысли.
Сейчас она посмотрела на Лесли с удивлением: та говорила с такой откровенной порывистостью, которая обычно не была ей свойственна.
— В ту жуткую ночь, когда тебе было так плохо, — продолжала Лесли, — я с ужасом думала, что, может быть, нам никогда уже больше не придется вместе гулять, разговаривать, работать. И я поняла, как важна для меня твоя дружба, как важна для меня ты и какой я была гадкой злюкой.
— Лесли! Я никому не позволяю дурно отзываться о моих друзьях!
— Это правда. Я и есть гадкая злюка. Я должна сделать тебе признание, Энн. Ты, наверно, станешь меня презирать, но я должна тебе признаться. Энн, бывали моменты, когда я тебя ненавидела.
— Я это чувствовала, — спокойно ответила Энн.
— Чувствовала?
— Я видела это в твоих глазах.
— И все же продолжала дружить со мной?
— Но ведь ты меня ненавидела только изредка, Лесли. А в остальное время любила — разве не так?
— Конечно, так. Но это злое чувство сидело у меня в сердце и отравляло нашу дружбу. Я загоняла его в глубину, порой даже забывала о нем, но были моменты, когда оно как бы вскипало и захватывало надо мной власть. Я тебя ненавидела, Энн, потому что завидовала тебе — завидовала до боли. У тебя такой очаровательный дом, любимый муж, счастье, радостные мечты — все, чего я жаждала, но никогда не имела. И не надеялась получить! Меня эта мысль просто жгла огнем. Я бы тебе не завидовала, Энн, если бы у меня была хоть маленькая надежда, что моя жизнь когда-нибудь изменится к лучшему. Но такой надежды у меня не было — и это казалось мне жуткой несправедливостью. Мне было очень стыдно, но я ничего не могла с собой поделать. А в ту ночь, когда я боялась, что ты умрешь, я решила, что наказана за злые мысли, и поняла, как я тебя люблю, Энн. Мне некого было любить с тех пор, как умерла мама, кроме нашей старой собаки, и это так ужасно, когда некого любить, — жизнь так пуста! Нет ничего хуже пустоты. Я могла бы тебя очень сильно любить, но эта проклятая зависть все портила…
Лесли дрожала, и ее речь становилась почти бессвязной — так страшно она волновалась.
— Лесли, не надо! — взмолилась Энн. — Я все понимаю. Давай не будем больше об этом говорить.
— Нет, будем, я должна… Когда я узнала, что ты выживешь, я дала себе клятву рассказать тебе все, как только ты поправишься. Я решила, что больше не буду принимать твою дружбу, не сказав тебе, как я ее недостойна. И я боялась, что, узнав про это, ты от меня отвернешься.
— Ты напрасно этого боялась, Лесли.
— Как я рада, как я рада, Энн! — Лесли стиснула свои огрубевшие от работы руки. — Но раз уж я начала, хочу рассказать тебе все до конца. Ты, наверно, не помнишь тот день, когда я впервые тебя увидела — не в тот раз, не на берегу…
— Отлично помню! Это было в тот день, когда мы с Джильбертом приехали в наш дом. А ты гнала стадо гусей. Еще бы мне это забыть, ты показалась мне невероятно красивой!
— Но я-то знала, кто ты, хотя до этого не видела ни тебя, ни Джильберта. Я просто знала, что в доме мисс Рассел будет жить новый доктор с молодой женой. И я возненавидела тебя, Энн, еще до того как увидела тебя.
— Я заметила неприязнь в твоем взгляде, но не могла понять ее причины и решила, что ошиблась.
— Причиной тому было твое счастье. Теперь ты согласишься, что я гадкая злюка — возненавидеть другую женщину лишь за то, что она счастлива! Поэтому-то я и не шла с тобой знакомиться. Я знала, что надо пойти — у нас так принято, — но не могла. Я следила за тобой из окна: как ты с мужем гуляешь по вечерам в саду или бежишь ему навстречу по аллее. Мне было больно на вас смотреть и одновременно хотелось с вами познакомиться. Я чувствовала, что, если бы не это разъедающее чувство зависти, ты бы мне понравилась и я нашла бы в тебе то, чего у меня никогда не было — настоящую подругу. А помнишь тот вечер на берегу? Ты боялась, что я сочту тебя сумасшедшей. А сама небось тоже подумала, что я не в своем уме.
— Нет, этого я не подумала, но я не могла тебя понять, Лесли. Ты то тянулась ко мне, то отталкивала меня.
— В тот вечер у меня было особенно тяжело на душе. Дик весь день меня не слушался. Обычно он вполне миролюбив, и с ним легко справляться. Но иногда ему словно вожжа под хвост попадает. Когда он наконец заснул, я ушла на берег, служивший мне единственным прибежищем. Я сидела и вспоминала, как бедный папа наложил на себя руки. Может быть, и я дойду до того же? Мое сердце было полно черных мыслей! И вдруг на берегу, пританцовывая, как беззаботное дитя, появляешься ты. Я задохнулась от ненависти! И в то же время так жаждала твоей дружбы. Ненависть то накатывала на меня волной, то исчезала. Вечером, придя домой, я плакала от стыда: что ты обо мне подумала? Но даже когда я стала ходить к вам в гости, меня по-прежнему раздирали противоречивые чувства. Иногда мне было у вас хорошо и радостно. А иногда зависть захлестывала меня, и все в твоем доме причиняло мне боль. У тебя столько милых вещиц, которых я не могу себе позволить. И знаешь, Энн, я особенно злилась на твоих фарфоровых собак. Иногда мне хотелось схватить Гога и Магога и стукнуть их курносыми носами, чтобы они разлетелись вдребезги. Ты улыбаешься, Энн, а мне было совсем не до смеха. Я приходила к вам в дом и видела тебя с Джильбертом, ваши цветы и книги, и любовь друг к другу, которая светилась в ваших глазах и звучала в каждом слове. А потом уходила домой, где меня ждал — ты знаешь кто! От природы я не завистлива и не ревнива. В детстве мы жили очень бедно, но я никогда не завидовала товарищам в школе, у которых было то, чего не было у меня. А теперь вот стала завистливой злюкой…
— Лесли, дорогая, перестань самоуничижаться. Ты вовсе не злюка и не завистница. Просто тебя ожесточили несчастья, выпавшие тебе на долю; но человека, который не был бы от рождения наделен твоей чистотой и благородством души, такая жизнь погубила бы вконец. Хорошо, что ты выговорилась и очистилась от скверны. Но не надо ни в чем себя винить.
— Хорошо, не буду. Я просто хотела, чтобы ты знала, какая я на самом деле. А когда ты мне сказала, что ждешь весной ребенка, я чуть с ума не сошла от зависти. Я никогда не прощу себе тех слов, что я тебе сказала. Но знала бы ты, как я в них раскаивалась, сколько пролила слез! И платьице для твоего ребеночка я шила с искренней любовью. Хотя могла бы догадаться, что способна сшить только саван.
— Лесли, выкини эти ужасные мысли из головы! Я была так рада, когда ты принесла мне это платьице. И если уж мне было суждено потерять крошку Джойс, меня утешает мысль, что мы похоронили ее в платьице, которое ты сшила с любовью ко мне.
— Знаешь, Энн, мне кажется, что моя любовь к тебе больше никогда и ничем не будет омрачена. Вот я выговорилась и навсегда изгнала зависть из своего сердца. Как странно! Я думала, что она засела во мне на всю жизнь. У меня такое чувство, словно я открыла дверь темной комнаты, чтобы показать тебе страшного монстра, а монстр исчез при свете дня, как призрак. И больше никогда не будет стоять между нами.
— Да, теперь мы будем настоящими друзьями, Лесли, и я этому очень рада.
— Мне хочется сказать тебе еще одну вещь, Энн. Я была убита горем, когда умерла твоя девочка, и если бы я могла ее спасти, отрубив себе руку, я бы это сделала не задумываясь. Но твоя печаль сблизила нас. Твое безоблачное счастье больше не стоит стеной между нами. Только ради Бога, не подумай, дорогая, что я радуюсь твоему горю. Боже меня упаси! Но раз уж так случилось, нас уже не разделяет пропасть.
— Это я тоже понимаю, Лесли. И давай забудем о прошлом и обо всех горестях, которые в нем были. Теперь все будет иначе. Мы будем откровенны друг с другом. Я восхищаюсь тобой, Лесли, и я убеждена, что тебя еще ждет в жизни что-то хорошее. Лесли покачала головой:
— Нет. На это я не надеюсь. Дик никогда не поправится. А если бы к нему и вернулась память, то все стало бы еще хуже — гораздо хуже, чем сейчас, Энн. Вот этого ты понять не можешь. Тебе мисс Корнелия рассказывала, как получилось, что я вышла замуж за Дика?
— Да.
— Очень хорошо, я хотела, чтобы ты это знала, но сама об этом говорить не могла. Энн, мне кажется, что с двенадцати лет у меня в жизни не было ничего, кроме горя. До двенадцати лет я была счастливым ребенком. Мы жили бедно, но нас это не заботило. У меня был такой замечательный отец — такой умный, и добрый, и все понимающий. Мы с ним были настоящими друзьями. И мама была такой нежной. Она была очень красива. Я похожа на нее, но она была еще красивее меня.
— А мисс Корнелия говорит, что ты красивее.
— Она ошибается. Фигура у меня, может, и получше — мама была слишком худа, и спина у нее согнулась от тяжелой работы, — но у нее было лицо, как у ангела. Иногда мне хотелось встать перед ней на колени. Мы все ее обожали — и папа, и Кеннет, и я.
Энн вспомнила, что мисс Корнелия нарисовала совсем другой портрет матери Лесли. Но, может быть, любовь видит зорче? Тем не менее заставить дочь выйти замуж за Дика Мора — это действительно эгоизм.
— Я так любила своего братика Кеннета, и он погиб так страшно, — продолжала Лесли. — Ты знаешь, как?
— Да.
— Я видела его лицо, когда его переезжало колесо. Он упал на спину. Энн, я до сих пор вижу это лицо. Оно всегда будет стоять у меня перед глазами. Я об одном молю Бога — чтобы он стер у меня из памяти эту картину.
— Лесли, давай не будем об этом говорить. Я знаю, как это случилось. Если ты начнешь рассказывать мне подробности, то только разбередишь рану. Вот увидишь, Бог сотрет это воспоминание.
Лесли помолчала и как будто взяла себя в руки.
— А потом папа стал болеть и впал в депрессию… ты это тоже знаешь?
— Да.
— И после этого у меня осталась одна мама. Но у меня были честолюбивые планы. Я собиралась учительствовать и заработать на оплату курса в университете. Я собиралась достичь самой вершины — но об этом тоже не стоит говорить. Зачем? Ты знаешь, что произошло. Я не могла допустить, чтобы мою дорогую несчастную мамочку, которая всю жизнь трудилась, как рабыня, вышвырнули из ее собственного дома. Конечно, я зарабатывала достаточно, чтобы нам хватило на жизнь. Но мама просто не представляла себе жизни вне родного дома. Она вошла в него молодой женой, — а как она любила папу! — и все ее воспоминания были связаны с этим домом. Я до сих пор не жалею о том, что сделала, Энн: по крайней мере, я скрасила ей последний год жизни. Что же касается Дика, то он не был мне противен, когда я выходила за него замуж. Я просто не испытывала к нему ничего, кроме безразличного дружелюбия, — как ко всем своим одноклассникам. Я знала, что он выпивает, но про ту девушку из рыбацкой деревни я не слышала. Если бы мне рассказали, я не вышла бы за него замуж даже во имя спокойствия мамы. Но потом… потом я его возненавидела. Только мама этого не знала. Она умерла, и я осталась одна. Мне было всего семнадцать лет, и я была одна как перст. Дик ушел в плавание на «Четырех сестрах». Я надеялась, что он будет редко приезжать домой. Его все время манило море. Это была моя единственная надежда. Так нет же, капитан Джим привез его домой. Больше и рассказывать нечего. Теперь ты обо мне знаешь все, Энн, даже самое плохое, — и между нами больше нет стены. Ты все еще хочешь дружить со мной?
— Я твой друг навсегда, Лесли, — ответила Энн, — а ты мой. У меня было много дорогих подруг, но в тебе есть что-то, чего не было ни в одной из них. Мы обе — женщины и друзья навеки.
Они взялись за руки и сквозь слезы улыбнулись друг другу.
Глава двадцать вторая МИСС КОРНЕЛИЯ НАХОДИТ ЛЕСЛИ КВАРТИРАНТА
Джильберт настаивал, чтобы Сьюзен продолжала работать у них все лето. Энн сначала воспротивилась.
— Нам так хорошо вдвоем, Джильберт. Присутствие третьего человека все портит. Сьюзен — прекрасная женщина, но она посторонняя. А мне будет полезно опять взяться за домашнюю работу.
— Тебе надо слушаться доктора, — ответил Джильберт. — Есть поговорка, что жены сапожников ходят без сапог, а жены докторов рано умирают. Я не хочу, чтобы так случилось в моем доме. Сьюзен будет работать у нас, пока ты не поправишься.
— Не надо рваться к работе, миссис доктор, голубушка, — сказала Сьюзен, входя в комнату. — Отдыхайте себе и забудьте про кухню. Сьюзен у штурвала. Какой смысл держать собаку и самому лаять на чужих? Я буду подавать вам завтрак в постель.
— Ни в коем случае! — засмеялась Энн. — Тут я согласна с мисс Корнелией: завтрак в постели — позор для женщины, которая не настолько больна, чтобы быть не в силах с нее встать, и он почти оправдывает бессовестное поведение мужчин.
— А, мало ли что скажет Корнелия, — пренебрежительно фыркнула Сьюзен. — Неужели вы ее принимаете всерьез, миссис доктор, голубушка? И чего она вечно поливает мужчин, в толк взять не могу. Что с того, что она старая дева? Я тоже старая дева, но никогда не браню мужчин. Мне они нравятся. Я вышла бы замуж, если бы мне кто-нибудь сделал предложение. Разве не странно, что мне ни разу не сделали предложения, миссис доктор, голубушка? Я не красавица, но уж и не хуже иных прочих, которые преспокойно вышли замуж. А за мной никто даже не ухаживал. Как вы думаете, почему это?
— Может быть, так было предопределено свыше, — серьезным тоном предположила Энн.
— Я тоже часто так думаю, миссис доктор, голубушка, и эта мысль меня очень утешает. Если так в своей мудрости предопределил Господь, то мне и обижаться не на что. Но иногда в сердце закрадывается сомнение — а что, если тут поработал лукавый? Вот с этим я смириться не могу! Но, может, я еще выйду замуж, — повеселев, сказала Сьюзен. — В конце концов, пока женщина не умерла, она не должна терять надежды выйти замуж. А пока что пойду-ка я напеку пирожков с вишней. Я заметила, что доктору они очень по вкусу, а я люблю готовить для человека, который ценит мои старания.
Вечером к Энн зашла мисс Корнелия. Она вспотела и слегка запыхалась.
— Иногда вполне отчетливо ощущаешь недостатки существования во плоти, — призналась она Энн. — А вам, голубушка, вроде никогда не бывает жарко. Чем это пахнет? Пирожки с вишней? Пригласите меня к чаю. За все лето ни разу не попробовала пирожков с вишней. Все мои ягоды оборвали гилмановские пострелята.
— Но, Корнелия, — возразил капитан Джим, который в углу гостиной читал морской роман, — у тебя же нет доказательств. Нельзя называть ворами бедных сирот лишь потому, что их отец не отличается честностью. Скорей всего, твои вишни склевали малиновки. Их в этом году прямо пропасть.
— Малиновки! — презрительно отозвалась мисс Корнелия. — На двух ногах!
— Так ведь это можно сказать про большинство малиновок, — без тени улыбки произнес капитан Джим.
Мисс Корнелия несколько секунд смотрела на него в упор, потом откинулась в кресле и расхохоталась.
— Ну, тут ты меня поймал, Джим Бойд, никуда не денешься. Нет, Энн, вы только посмотрите, как он доволен. Ухмыляется, точно Чеширский Кот. Ну, если у малиновок длинные голые загорелые ноги в рваных штанах, какие я видела у себя на вишне неделю назад, тогда я готова просить у этих сорванцов извинения. Только я выбежала из дому, их и след простыл. Я все удивлялась, как это они ухитрились так быстро скрыться, но капитан Джим мне все объяснил. Они просто улетели.
Капитан Джим рассмеялся и стал прощаться, с сожалением отказавшись от приглашения остаться к ужину и отведать пирожков с вишней.
— А я иду к Лесли, — заговорила мисс Корнелия, когда он ушел. — Я получила вчера письмо из Торонто от миссис Дэли, которая снимала у меня комнату два года тому назад. Она спрашивает, не сдам ли я комнату на лето ее приятелю Оуэну Форду. Он газетчик и, оказывается, внук того учителя, который построил ваш дом. Старшая дочь Джона Селвина вышла замуж за человека по имени Форд, который жил в Онтарио, и Оуэн — ее сын. Он хочет посмотреть старый дом, в котором жили его дед и бабка. Весной он тяжело болел брюшным тифом и до сих пор полностью не поправился. Доктор посоветовал ему пожить на море. Но гостиницы Оуэну не нравятся — он хочет пожить в тихом доме. Я его взять не могу, потому что в августе уеду. Меня выбрали делегатом на съезд Союза помощи миссионерам в Кингспорте. Не знаю, захочет ли Лесли взять на себя мороку с квартирантом, но иначе ему придется поискать жилье в поселке у гавани.
— Сходите к Лесли, а потом возвращайтесь и помогите нам расправиться с пирожками, — предложила Энн. — И приводите Лесли с Диком, если можно. Значит, вы собираетесь в Кингспорт? У меня там живет подруга — миссис Блейк. Надо отправить с вами ей письмо.
— Я уговорила миссис Холт поехать со мной, — довольным голосом сказала мисс Корнелия. — Пора уж ей немного отдохнуть. Она так себя замучила работой, что чуть с ног не падает. Том Холт отлично вяжет крючком, но семью прокормить ему не по силам. Не может, видите ли, рано встать, чтобы успеть переделать все дела на ферме. А вот когда он соберется на рыбалку, ему ничего не стоит встать на заре. Одно слово — мужчина!
Энн улыбнулась. Она уже давно поняла, что отзывы мисс Корнелии о мужчинах не стоит принимать всерьез. Послушать ее, так в окрестностях живут сплошные негодяи и бездельники, а все их жены — рабыни и страдалицы. Но она знала, что этот самый Том Холт — добрый муж, любящий отец и отличный сосед. Если даже он и вправду немного ленив и предпочитает рыбную ловлю работе на ферме, к которой у него не лежит душа, и если даже он позволяет себе такое эксцентрическое увлечение, как рукоделие, никто кроме мисс Корнелии его за это не упрекает. А жена его — неутомимая хлопотунья, которая обожает крутиться на ногах с утра до позднего вечера; дохода с фермы на жизнь семье вполне хватает, а из рослых сыновей и дочерей Тома Холта, унаследовавших напористость своей матери, судя по всему, получатся хорошие работники и добрые жены. Так что семья Холтов жила в мире и благополучии.
Вернувшись от Лесли, мисс Корнелия удовлетворенно сообщила, что та готова взять квартиранта.
— Она так и подскочила от радости. Ей нужны деньги, чтобы перекрыть осенью крышу, и она все ломала голову, где их взять. А капитану Джиму, наверно, будет интересно познакомиться с внуком Селвинов. Лесли велела вам передать, что ей смерть как хочется пирожков, но у нее куда-то забрели индюшки и надо идти их искать. Так что оставьте ей парочку пирожков, она забежит вечером, после того как отыщет птиц. Как же мне было приятно слышать смех Лесли, когда она передавала вам это послание, Энн. Она очень изменилась за последнее время. Стала шутить и смеяться и, кажется, часто бывает у вас.
— Каждый день — или я у нее. Не знаю, что бы я делала без Лесли, особенно теперь, когда Джильберт так занят. Он почти не бывает дома — только вечером. Вот уж кто замучил себя работой. За ним все время присылают из Глена.
— Могли бы обойтись и собственным доктором, — заметила мисс Корнелия. — Хотя я их особенно не виню — он у них методист. А с тех пор как доктор Блайт поднял на ноги миссис Аллонби, они там решили, что он может оживлять мертвых. Мне кажется, доктор Дэйв немного ему завидует: одно слово — мужчина! Считает, что доктор Блайт чересчур увлекается всякими нововведениями. «Что ж, — сказала я ему, — одно из его нововведений спасло жизнь миссис Аллонби. А если бы ее лечили вы, то она спокойно умерла бы, и на ее могильном камне написали бы, что Господу Богу было угодно забрать ее к себе на небо». Доктору Дэйву полезно послушать правду. Сколько лет он у нас в Глене был царь и бог. Кстати, Энн, попросите доктора Блайта сходить к Морам и посмотреть фурункул на шее Дика. Лесли никак не может его вылечить. Тоже мне выдумал — фурункулы заводить, будто ей без того с ним возни мало!
— Знаете, а Дик ко мне привязался, — заметила Энн. — Ходит за мной, как собака, и так радостно улыбается, когда я с ним заговариваю.
— А вам не бывает от него не по себе?
— Нет. Мне он даже нравится. Такой жалкий, и есть в нем что-то душевное.
— Раньше он не показался бы вам душевным. До чего же был вздорный мужик! Но я рада, что вы его не боитесь — Лесли так легче. Когда приедет квартирант, у нее еще прибавится хлопот. Надеюсь, он окажется приличным человеком. Вам-то он наверняка понравится — он ведь писатель.
— И почему это всем кажется, что у двух писателей обязательно должно быть много общего? — сердито сказала Энн. — Почему-то никто не думает, что два кузнеца будут страстно привязаны друг к другу просто потому, что они оба кузнецы.
Тем не менее она с нетерпением ждала приезда Оуэна Форда. Если он окажется молодым и симпатичным, это будет очень приятное добавление к их маленькому обществу.
Глава двадцать третья ПРИЕЗД ОУЭНА ФОРДА
Однажды вечером у Энн раздался телефонный звонок.
— Приехал ваш писатель, — услышала она голос мисс Корнелии. — Я его встретила на станции и привезу к вам, а вы уж покажите ему дорогу к дому Лесли. Так будет короче, чем ехать в объезд, а я очень спешу. У Ризов ребенок упал в ведро с горячей водой и обварился чуть не до смерти, и они умоляют меня быстрей приехать. Что они думают, я ему новую кожу надену, что ли? Миссис Риз — жутко безалаберная женщина, а другие должны исправлять ее ошибки. Вы не возражаете, милочка? Его сундук привезут завтра.
— Хорошо, — согласилась Энн. — Каков он из себя, мисс Корнелия?
— Каков он снаружи, вы увидите, когда я его привезу. А каков он внутри, знает лишь Господь Бог. Больше я ничего не скажу — не забывайте, что весь Глен слушает наш разговор.
— Видно, мисс Корнелия не нашла недостатков во внешности мистера Форда, а то бы она мне о них сообщила, несмотря на то, что нас подслушивает весь Глен, — усмехнулась Энн. — Так что, очевидно, мистер Форд довольно красивый мужчина, Сьюзен.
— Вот и прекрасно, миссис доктор, я очень люблю смотреть на красивых мужчин, — разоткровенничалась Сьюзен. — Может быть, предложим ему чаю? Я тут испекла пирог с клубникой, который так и тает во рту.
— Нет, не надо. Лесли его ждет и приготовила ему ужин. А клубничный пирог мы лучше отдадим нашему собственному заработавшемуся мужчине. Он приедет домой поздно, так что оставь ему кусок пирога и стакан молока, Сьюзен.
— Обязательно оставлю, миссис доктор. Сьюзен у штурвала. Конечно, лучше скармливать пироги своим собственным мужчинам, а не посторонним, которым только бы набить брюхо. Да и доктор наш красавец хоть куда.
Когда мисс Корнелия ввела в дом Оуэна Форда, Энн убедилась, что он и на самом деле весьма хорош собой: высокий, широкоплечий, с густой темно-русой шевелюрой. У него были правильные черты лица и большие серые глаза.
— А вы обратили внимание на его уши и зубы, миссис доктор? — спросила Сьюзен вечером. — Я давно уже не видела у мужчины таких красивых ушей. К ушам я отношусь очень придирчиво. Когда я была молодая, я боялась, что мне придется выйти замуж за мужчину, у которого уши торчат, как лопухи. Только напрасно я волновалась — никакого мне не досталось, ни с большими ушами, ни с маленькими.
Энн не обратила внимания на уши Оуэна Форда, но зубы его она заметила, потому что он широко, по-дружески улыбался. А когда мистер Форд не улыбался, у него на лице было какое-то отсутствующее и грустное выражение, что напомнило Энн загадочного и неулыбчивого героя ее девичьих грез. Во всяком случае, снаружи, как выразилась мисс Корнелия, Оуэн Форд выглядел весьма неплохо.
— Вы не представляете, как я рад здесь оказаться, миссис Блайт, — сказал он, с живым интересом оглядывая ее дом. — У меня какое-то странное чувство, будто я приехал домой. Вы, наверно, знаете, что здесь родилась и выросла моя мама. И она мне очень много рассказывала про свой старый дом. Я знаю расположение комнат так, словно сам здесь вырос, и, конечно, она также рассказала, как дед строил этот дом и как он терзался, когда пропал пароход с его невестой. Я думал, что старый дом уже исчез с лица земли, не то давно приехал бы его посмотреть.
— Ну, на этом заколдованном берегу дома так просто не исчезают, — улыбнулась Энн. — Здесь все остается по-прежнему — почти все. Дом Джона Селвина даже не очень изменился, а розы, которые ваш дед посадил для своей невесты, сейчас как раз в полном цвету.
— Сама мысль об этих розах сближает меня с дедушкой. Можно, я как-нибудь приду и как следует тут все рассмотрю?
— Конечно, приходите. А вы знаете, что смотрителем маяка у нас старый морской капитан, который мальчиком отлично знал Джона Селвина и его жену? Он рассказал мне их историю в первый же вечер, как мы сюда приехали.
— Правда? Какое открытие! Мне надо его обязательно найти.
— Его и искать не надо. Мы с ним друзья, и он тоже жаждет с вами познакомиться. Но миссис Мор, наверно, ждет вас. Идемте, я покажу кратчайшую дорогу.
Энн шла с Оуэном Фордом через луг, белый от ромашек. Издалека, с лодки, плывшей по бухте, доносилось пение. Приглушенные расстоянием звуки казались тихой неземной музыкой, которую ветер нес над поблескивающим морем. На мысу мерцал свет маяка.
— Так вот она какая — бухта Четырех Ветров, — сказал Оуэн Форд. — Несмотря на мамины восторженные рассказы, я не предполагал, что это такое очаровательное место. Какие краски… какие пейзажи… какая красота! Я здесь моментально поправлюсь. И если, как говорят, красота способствует вдохновению, я, наконец, начну писать свой большой роман о Канаде.
— А вы еще не начали? — спросила Энн.
— К сожалению, нет. Как-то от меня прячется сюжет… поманит и исчезнет… Может быть, в этой тиши и красоте он мне, наконец-то, дастся в руки. Мисс Брайант говорила, что вы тоже пишете.
— Только небольшие рассказики для детей. Да и то давно уже ничего не писала — с тех пор как вышла замуж. И уж, во всяком случае, у меня нет планов написать большой роман про Канаду, — засмеялась Энн. — Это мне не по зубам.
Оуэн Форд тоже засмеялся.
— Боюсь, что это и мне не по зубам. Но все-таки я хочу попробовать — если только соберусь с силами и найду время. У газетчика не так-то много остается досуга. Я написал довольно много рассказов для журналов, но у меня никогда не было столько свободного времени, сколько нужно, чтобы написать большую книгу. Сейчас у меня впереди три месяца полной свободы. Я надеюсь хотя бы начать свой роман — если найду стержень, так сказать, душу книги.
И тут Энн осенила потрясающая идея. Но она не успела поделиться ею с Оуэном Фордом, потому что они уже дошли до дома Моров. Когда они вошли во двор, Лесли как раз вышла на веранду и вглядывалась в вечерний полумрак — не идет ли ее гость? Теплый свет из открытой двери освещал фигуру молодой женщины. На ней было дешевенькое платьице из кремового муслина, перетянутое красным поясом. Для Энн эта потребность вносить в костюм алый акцент символизировала саму личность Лесли, полную внутреннего огня. Платье Лесли было с вырезом на груди и с короткими рукавами. Ее руки светились, словно были изваяны из мрамора цвета слоновой кости, а волосы золотились на фоне темно-лилового неба.
Энн услышала, как ее спутник тихо ахнул. Даже и она заметила на лице Оуэна восхищенное изумление.
— Кто это обворожительное создание? — спросил он.
— Это — миссис Мор, — ответила Энн. — Очень красивая женщина, правда?
— Я никогда не встречал красивее, — ошеломленно проговорил Форд. — Я был не готов… я не ожидал… Господи, кто же предполагает, что квартирной хозяйкой окажется богиня! Если бы на ней было одеяние цвета морской волны, а в волосах светились аметисты, ее можно было бы принять за царицу подводного царства. И она пускает к себе квартирантов?
— Даже богиням надо пить и есть. А Лесли вовсе не богиня. Она очень красивая женщина, но такой же человек, как вы или я. Мисс Брайант рассказала вам о Дике Море?
— Да, он слабоумный или что-то в этом роде — так ведь? Но она ничего не сказала мне о миссис Мор, и я считал, что это будет обычная деревенская женщина, которая пускает квартирантов, чтобы немного подзаработать.
— Так оно и есть. И это ей не очень легко и приятно. Хочется надеяться, что Дик не будет вас раздражать. Если это случится, постарайтесь, чтобы Лесли этого не заметила. А то она очень расстроится. Он просто большой ребенок, но иногда жутко действует на нервы.
— Да Бог с ним. Вряд ли я буду сидеть в доме — только что приходить обедать и ужинать. Но как же ее жаль! У нее, наверно, очень тяжелая жизнь.
— Это так. Но она не любит, чтобы ее жалели.
Лесли вернулась в дом и встретила их у входной двери. Она поздоровалась с Оуэном Фордом с холодной вежливостью и сказала деловым тоном, что его комната готова и ужин ждет. Дик с радостной ухмылкой на лице потащил чемодан Оуэна на второй этаж. Так состоялось вселение Оуэна Форда в окруженный ивами старый дом.
Глава двадцать четвертая ЖИЗНЕННАЯ КНИГА КАПИТАНА ДЖИМА
— У меня родилась идея, — сказала Энн Джильберту, вернувшись домой. Доктор приехал раньше, чем ожидал, и уписывал клубничный пирог Сьюзен, а кухарка стояла в дверях и, кажется, радовалась не меньше Джильберта.
— Что за идея? — спросил он.
— Я тебе пока не скажу — надо сначала посмотреть, осуществима ли она.
— А что из себя представляет этот Форд?
— Симпатичный.
— А какие красивые уши, дорогой доктор, — вмешалась в разговор Сьюзен.
— Ему лет тридцать, и он собирается писать роман. У него приятный голос, очаровательная улыбка, он хорошо одет. Но все-таки мне кажется, что жизнь его не слишком баловала.
Оуэн Форд пришел к ним на следующий вечер с запиской от Лесли; втроем они погуляли по саду, а потом катались на лодке при луне. Оуэн очень понравился и Энн и Джильберту, и у них быстро возникло чувство, что они знакомы уже много лет.
— У него не только уши красивые — он и сам очень милый человек, миссис доктор, — сказала Сьюзен, когда Форд ушел. Он навсегда завоевал ее чувствительное сердце, заявив, что никогда в жизни не едал ничего вкуснее ее пирога.
— Такой приятный в обращении, — вслух рассуждала Сьюзен, убирая со стола остатки ужина. — Просто странно, что он не женат: за такого любая девушка пойдет с радостью. Наверно, до сих пор не встретил свою суженую. Вроде как я.
Через два дня Энн отвела Оуэна Форда на маяк и познакомила его с капитаном Джимом. Тот только что вернулся из Глена.
— Мне нужно было сказать Генри Поллоку, что он умирает. Никто другой этого сделать не осмеливался. Они боялись, что это его совсем сокрушит: он строил планы на осень и вообще, похоже, собирался жить еще очень долго. Вот жена и решила, что надо ему сказать и что лучше всего это сделать мне. Мы с Генри старые приятели, много лет вместе плавали на «Серой чайке». Так вот, пришел я к ним, сел рядом с кроватью и выложил все напрямик: «Ну вот, приятель, пришла тебе пора уходить в последнее плавание». А у самого внутри все дрожит: не так-то легко сказать ничего не подозревающему человеку, что он скоро умрет. И что вы думаете, миссис Блайт? Зыркнул на меня Генри своими черными глазами, которые одни только еще и живы на его сморщенном лице, и говорит: «Если хочешь меня удивить, Джим Бойд, скажи что-нибудь новенькое. А про это я уже неделю как знаю». Я аж поперхнулся от удивления, а он продолжает с этакой ухмылочкой: «Является со скорбной физиономией, усаживается рядом, складывает руки на животе и выдает эдакую новость — животики надорвешь!» — «Кто тебе сказал?» — глупо спрашиваю я. «Никто не говорил, — отвечает Генри. — Просто неделю тому назад лежал я без сна ночью — и вдруг понял. Я и раньше подозревал, но тут понял: все! А толковал про амбар, просто чтобы не расстраивать жену. Да мне и вправду хотелось бы достроить тот амбар — Эбен обязательно где-нибудь напортачит. Ну да ладно, Джим, ты свою новость выдал, а теперь сделай рожу повеселей и расскажи мне что-нибудь интересное». Вот как получилось. Они боялись ему сказать, а он и так все знал. Природа сама дает нам знать, что близится смертный час. Я вам не рассказывал историю про то, как Генри попался на рыболовный крючок, миссис Блайт?
— Нет.
— Мы с ним как раз сегодня про это вспоминали и страшно смеялись. Это случилось лет тридцать тому назад. Мы отправились большой компанией ловить макрель. Ловля шла отлично — нам попался огромный косяк — сроду такого не видал. Генри вошел в раж и как-то ухитрился проткнуть нос крючком: с одной стороны носа торчало острие, а с другой — грузило из свинца. Что тут было делать: вытащить крючок не было никакой возможности. Хотели мы отвезти его на берег, но не тут-то было. Пропустить такой косяк, говорит, черта с два! Подумаешь, крючок! Не столбняк же скрутил! И продолжал ловить. Бросает в лодку одну рыбину за другой и только постанывает время от времени. Наконец косяк прошел, и мы вернулись в гавань. Я раздобыл напильник и стал перепиливать крючок. Послушали бы вы, как Генри ругался, хоть я и старался делать это поосторожнее. Впрочем, нет, вам такое слушать совсем ни к чему. Хорошо, что поблизости не было женщин. Вообще-то Генри не имел привычки ругаться, хотя, конечно, слышать брань моряков и рыбаков ему доводилось. Вот из него так и посыпались все эти выражения. Наконец он сказал, что терпеть этого больше не в силах, потому что во мне нет ни капли сострадания. Тогда я отвез его к доктору в Шарлоттаун — за тридцать пять миль! Ближе у нас тогда врача не было. Ну и что, пришли мы к доктору Крэббу, он достал напильник и принялся перепиливать крючок точно так же, как это делал я, только совсем не беспокоясь, больно Генри или нет.
Энн воспользовалась паузой и спросила моряка:
— А вы знаете, капитан Джим, кто такой мистер Форд? Догадайтесь-ка.
Старик покачал головой.
— Я плохой отгадчик, миссис Блайт. Но вот глаза его мне как будто знакомы — где-то я их видел.
— Вспомните сентябрьское утро много лёт тому назад, — тихо сказала Энн. — Вспомните корабль, подплывающий к пристани — корабль, который так долго ждали и почти отчаялись дождаться. Вспомните, как на палубе «Короля Вильгельма» вы в первый раз увидели невесту своего учителя.
Капитан Джим вскочил со стула.
— Это глаза Перси Селвин! — почти закричал он. — Но вы не можете быть ее сыном… значит, вы…
— Ее внук. Да, я сын Алисы Селвин.
Капитан Джим принялся заново трясти руку Оуэна Форда.
— Боже — сын Алисы Селвин! Как я рад вас видеть! Сколько раз я спрашивал себя: где же живут дети и внуки моего учителя? Я знал, что на острове нет ни одного. Алиса… Алиса… первый ребенок, который родился в этом доме. И сколько же она принесла радости! Я ее сотни раз держал на коленях! Учил ходить. До сих пор помню, с какой гордостью смотрела на нее мать. С тех пор прошло почти шестьдесят лет. А Перси жива?
— Нет, она умерла, когда я был еще мальчиком.
— Как это грустно — я жив, а ее уже нет, — вздохнул капитан Джим. — Но я очень рад вас видеть. На меня словно пахнуло молодостью. Вы пока еще не представляете себе, какое это счастье. Вот и в обществе миссис Блайт я всякий раз молодею.
Капитан Джим еще больше разволновался, когда узнал, что Оуэн Форд «настоящий писатель». Он смотрел на него с почтением, как на существо высшего порядка. Старик знал, что Энн писала для журналов рассказы, но не принимал это всерьез. Он прекрасно относился к женщинам, считал, что им надо дать право голоса на выборах и вообще все, чего они хотят, но был уверен, что «настоящего писателя» из женщины получиться не может.
— Мистер Форд хочет послушать ваши истории, капитан Джим, — сказала Энн. — Расскажите ему про сумасшедшего капитана, который вообразил себя Летучим Голландцем.
Это был самый интересный из рассказов капитана Джима. В нем ужас сочетался с юмором, и хотя Энн слышала его уже несколько раз, она и сейчас так же хохотала и так же ежилась от страха, как и Оуэн Форд. Потом капитан Джим, у которого давно не было столь благодарной аудитории, рассказал, как в его парусник врезался пароход, как на него напали малайские пираты, как на судне случился пожар, как он помог политическому заключенному бежать из южноафриканской тюрьмы, как он однажды осенью потерпел кораблекрушение в заливе Святого Лаврентия и был вынужден зимовать на маленьком островке, как тигр, которого они везли в Европу, вырвался из клетки и носился по палубе, как команда взбунтовалась и высадила его на необитаемом острове. Много-много историй, и страшных и смешных, поведал им в тот вечер капитан Джим. Оуэн Форд слушал, не отводя глаз от обветренного лица рассказчика и поглаживая мурлыкавшего у него на коленях Старпома.
— Может быть, вы покажете мистеру Форду вашу жизненную книгу? — спросила Энн, когда капитан Джим наконец заявил, что устал «молоть языком».
— Да зачем она ему? — возразил капитан Джим, которому в глубине души до смерти хотелось показать Оуэну эту книгу.
— Пожалуйста, покажите, капитан Бойд, — попросил Оуэн. — Если она хоть наполовину так хороша, как ваши истории, ее, конечно же, стоит почитать.
С притворной неохотой капитан Джим достал рукопись из старого сундука и подал Оуэну.
— Вряд ли у вас хватит терпения разбирать мои каракули. Я очень мало учился в школе. А это я все записал для своего племянника Джо. Он вечно требует от меня рассказов. А вчера пришел и, увидев, как я вынимаю из лодки здоровенную треску, говорит мне с этаким упреком: «Дядя Джим, а разве треска не бессловесное животное?» Вспомнил, как я ему говорил, что нельзя обижать бессловесных животных. Я прямо не знал, что и сказать. Выкрутился кое-как: дескать, треска, конечно, бессловесная тварь, но животным ее назвать нельзя. Но у Джо в глазах осталось сомнение, да и сам я не уверен, что прав. С этими детьми надо держать ухо востро. Скажешь что-нибудь, а потом они же тебя на этом и поймают.
Произнося эту речь, капитан Джим искоса наблюдал за Оуэном Фордом, который перелистывал страницы жизненной книги. Заметив, что гость увлекся чтением, капитан Джим заулыбался и принялся заваривать чай. Когда Оуэна Форда позвали пить чай, он оторвался от книги с таким же трудом, с каким скупец отрывается от созерцания сундука с золотом. Торопливо выпив чашку, он опять углубился в чтение рукописи.
— Да, если хотите, можете взять эту штуку домой. — небрежно бросил капитан Джим, словно «эта штука» не была его самым дорогим сокровищем. — Пойду-ка я вытащу шлюпку подальше на берег, а то ветер поднимается. Заметили, какое вечером было небо?
Оуэн с благодарностью ухватился за предложение капитана Джима. По дороге домой Энн рассказала ему историю пропавшей Маргарет.
— Какой замечательный старикан! — Оуэн был в восторге. — Ну и жизнь же он прожил! У большинства людей за век не бывает столько приключений, сколько с ним происходило за неделю. Как вы думаете, это все правда? — Я в этом абсолютно уверена. Капитан Джим просто неспособен на ложь. Кроме того, окрестные жители подтверждают его рассказы. Раньше в поселке жило много моряков, ходивших с ним в плавания. Он чуть ли не последний из вымершего племени местных капитанов.
Глава двадцать пятая ОУЭН ФОРД БЕРЕТСЯ ПИСАТЬ РОМАН
На следующее утро Оуэн Форд пришел к Энн в страшном волнении.
— Миссис Блайт, это потрясающая книга, просто потрясающая! Если бы капитан Джим разрешил использовать ее как исходный материал, мне кажется, что у меня получился бы превосходный роман. Как вы думаете, он разрешит?
— Разрешит? Да он будет в восторге! — воскликнула Энн. — Признаться, я за этим и повела вас вчера на маяк. Капитан Джим все время мечтал, чтобы его книгу обработал настоящий писатель.
— Пойдемте к нему сегодня вечером, миссис Блайт. Я сам попрошу у него разрешения. А вы, пожалуйста, признайтесь ему, что рассказали мне историю пропавшей Маргарет, и спросите, можно ли мне использовать ее как канву для романа, чтобы объединить все его истории в одно целое.
Когда Оуэн Форд поведал свой план капитану Джиму, тот действительно пришел в восторг. Наконец-то его мечты осуществятся, и его жизненная книга станет достоянием широкой читающей публики. А мысль объединить все эпизоды историей его любви к Маргарет старику очень понравилась.
— Тогда ее имя не будет забыто, — сказал он. — Конечно, расскажите о ней.
— Это будет наш совместный труд, — радовался Оуэн Форд. — Вы дадите ему душу, а я — тело. Это будет замечательная книга, капитан Джим. Я завтра же сяду за работу.
— Подумать только, что эту книгу напишет внук моего учителя! — воскликнул моряк. — Твой дед был моим дорогим другом, парень. Я уважал его больше всех на свете. Теперь понятно, почему мне пришлось так долго ждать. Эту книгу нельзя было доверить кому попало. Ты здесь дома, тебе сродни этот старый морской берег, кроме тебя никто и не смог бы написать эту книгу.
Они тут же договорились, что Оуэн будет писать в маленькой комнатке рядом с гостиной Джима Бойда. Ему было необходимо постоянно советоваться со старым капитаном о морских поверьях и терминах, в которых Оуэн ничего не смыслил. Он принялся за работу на следующее же утро.
Капитан Джим в то лето был счастливейшим из людей. Маленькая комната, в которой работал Оуэн, была для него священным храмом. Форд делился с моряком всеми своими сомнениями, но написанное ему не показывал.
— Подождите, пока книга выйдет из печати, — говорил он. — Тогда прочитаете все сразу.
Оуэн так много думал о пропавшей Маргарет, так сроднился с ее историей, что она стала для него реальностью и ожила на страницах его романа. Он работал над книгой с лихорадочным воодушевлением, буквально был одержим ею. Оуэн разрешал Энн и Лесли читать рукопись и прислушивался к их замечаниям; заключительная глава романа, которую критики впоследствии назвали «идиллической» и о которой они были очень высокого мнения, была написана по предложению Лесли.
Энн была в восторге от своей идеи.
— Когда я в первый раз увидела Оуэна Форда, я сразу поняла, что это тот человек, который нужен капитану Джиму, — сказала она Джильберту. — Я не сомневалась, что у него хороший слог. Как сказала бы миссис Рэйчел Линд, ему было предопределено свыше написать эту книгу.
Оуэн Форд писал по утрам, а вторую половину дня проводил с Блайтами. К ним часто присоединялась Лесли, оставив Дика на попечение капитана Джима. Они катались на лодке по морю, заходили в красивые речки, впадавшие в бухту, жарили на костре моллюсков, собирали землянику на заросших травой дюнах. Мужчины ловили треску и охотились на ржанок и диких уток. По вечерам молодые люди вчетвером бродили под луной по лугам или сидели в гостиной у Блайтов перед горящим камином и без устали беседовали на разнообразные темы.
С того дня, как Лесли все рассказала Энн, она изменилась до неузнаваемости. Куда девалась былая холодность, сдержанность, тень неизбывной горечи! Миссис Мор раскрылась, точно яркий цветок: никто не смеялся радостнее ее, никто не острил удачнее. Проснувшаяся в Лесли жизнь освещала ее красоту изнутри, как если бы в изящную вазу из алебастра поставили розовую лампу. Что же касается Оуэна Форда, то, хотя у его героини Маргарет были темно-русые волосы и нежное личико девушки, которая много лет назад исчезла в море, в ее характере было многое от той Лесли Мор, которую он узнал в это безмятежное лето в бухте Четырех Ветров.
В общем, это были незабываемые дни — каких не так уж много выпадает на человеческую долю, но которые оставляют после себя счастливые воспоминания на всю жизнь.
— Слишком уж нам хорошо — так долго продолжаться не может, — со вздохом сказала себе Энн в сентябрьский день, когда в воздухе вдруг повеяло холодом, а густая синева морской воды дала понять, что осень не за горами.
В этот вечер Оуэн Форд сообщил, что он закончил роман и что ему пора уезжать.
— Работы еще много — книгу надо подчистить, сократить, отредактировать, — сказал он. — Но в целом она закончена. Сегодня утром я написал последнюю фразу. Если найду издателя, то, возможно, она выйдет следующим летом или осенью.
Оуэн не сомневался, что найдет издателя. Он знал, что написал прекрасную книгу, которая будет пользоваться успехом и останется в памяти людей. Но завершив свой труд, писатель долго сидел, уронив голову на рукопись, и думал вовсе не о ней.
Глава двадцать шестая ПРИЗНАНИЕ ОУЭНА ФОРДА
— Мне так жаль, что Джильберту пришлось уехать, — сказала Энн. — Аллан Лайонс сильно повредил себе ногу. Муж, наверно, вернется поздно, но он просил вам передать, что обязательно зайдет завтра утром попрощаться с вами. Как жаль, а мы с Сьюзен собирались в ваш последний вечер устроить развеселую пирушку.
Энн сидела у ручья на скамейке, которую специально для нее поставил здесь Джильберт. Оуэн Форд стоял перед ней, опершись спиной на ствол березы. По-видимому, он провел бессонную ночь и был очень бледен. Энн подумала, что он не очень-то окреп за лето. А может быть, чересчур прилежно работал над романом? Что-то он последнюю неделю плохо выглядит.
— Я даже рад, что доктора нет дома, — медленно проговорил Оуэн. — Я хотел поговорить с вами наедине, миссис Блайт. Мне нужно с кем-то поделиться, или я сойду с ума. Вот уже неделю я пытаюсь принять решение и не могу. Я знаю, что вам можно довериться и вы меня поймете. Таким, как вы, хочется рассказывать самое сокровенное. Миссис Блайт, я люблю Лесли.
Люблю!Это слово не может выразить всей глубины моих чувств.
Голос Оуэна прервался от сдерживаемой страсти, он отвернулся и прижался лбом к дереву. Все его тело содрогнулось. Энн побледнела и смотрела на него с ужасом в глазах. Ей это и в голову не приходило! А с другой стороны — почему, собственно, не приходило? Сейчас это показалось ей неизбежным, и миссис Блайт поразилась собственной слепоте. Но… но… чтоб такое случилось в бухте Четырех Ветров! Где-то в других краях страсть может смести со своего пути общепринятые условности и законы человеческого общежития, но не здесь, не в их тихой заводи! Лесли вот уже десять лет пускает квартирантов на лето, и ничего подобного ни разу не случалось. Но те квартиранты, наверно, не были похожи на Оуэна Форда, а живая, яркая Лесли, которую они видели этим летом, не была похожа на холодную хмурую женщину прошлых лет. Но как же это никому не пришло в голову? Почему об этом не подумала мисс Корнелия? Она всегда ждет от мужчин одних неприятностей. Через секунду Энн поняла, что сердиться на мисс Корнелию не было ни малейшего повода, и тихо вздохнула. Какая разница, кто виноват? — беда уже стряслась. А что чувствует Лесли? Это беспокоило Энн больше всего.
— Знает ли Лесли о ваших чувствах? — спросила она.
— Нет-нет, разве что догадалась. Во всяком случае, я ей ничего не говорил. Не такой уж я подлец, миссис Блайт. Но я полюбил ее и ничего не могу с собой поделать. Я так несчастен!
— А она вас любит? — спросила Энн. И в следующую минуту, услышав слишком жаркое отрицание Форда, поняла, что спрашивать этого не следовало.
— Нет, конечно, нет! Но если бы она была свободна, я сумел бы завоевать ее любовь. Я в этом не сомневаюсь.
«Она его любит, и он это знает», — подумала Энн, а вслух напомнила:
— Но она не свободна, мистер Форд. Единственное, что вам остается, — это уехать, ничего ей не сказав, и дать ей жить по-своему.
— Я знаю, знаю, — простонал Оуэн. Он опустился на заросший травой берег ручья и мрачно уставился в воду. — Я знаю, что ничего сделать нельзя… только сказать ей банальные слова: «До свидания, миссис Мор, благодарю вас за чудесное лето», — как сказал бы заботливой хозяйке, которую ожидал увидеть на ее месте. А потом, как честный квартирант, заплатил бы причитающиеся ей деньги и уехал.
В голосе Оуэна звучала такая мука, что у Энн сжалось сердце. Но что ему сказать, как ему помочь? Винить его не в чем, посоветовать ему нечего, сочувствием его страдания не облегчить. Можно только вместе с ним сожалеть о невозможном. И как же жалко Лесли! Неужели бедная девочка мало настрадалась, чтобы ей выпало еще и это?
— Мне было бы не так трудно уехать и оставить ее в покое, если бы она была счастлива, — страстно продолжал Оуэн. — Но сознавать, что я ее оставляю на мученья — это самое ужасное. Я с радостью пожертвовал бы самой жизнью, чтобы сделать ее счастливой — но я ничем не могу даже облегчить ее участь, ничем! Она до конца своих дней привязана к этому слабоумному, и ее ждет чреда пустых, бессмысленных, безотрадных лет и одинокая старость. Я с ума схожу от этой мысли. А мне придется жить, не видя ее, но зная, как безрадостна ее доля. Это страшно, просто страшно!
— Да, это тяжело, — печально отозвалась Энн. — Все мы, ее друзья, знаем, как тяжела ее жизнь.
— Красота — это даже не главное ее достояние, хотя она самая красивая женщина, какую я знал. А как она смеется! Все лето я старался шутить, чтобы услышать ее заливистый смех. А ее глаза! Я никогда не видел такого глубокого синего цвета — и такого золота волос! Вы когда-нибудь видели ее с распущенными волосами, миссис Блайт?
— Нет.
— А я однажды видел. Я пошел было на маяк — мы с капитаном собирались на рыбалку. Но на море было сильное волнение, и я вернулся домой. А Лесли решила воспользоваться моим отсутствием, чтобы вымыть голову. Я увидел ее на веранде — она сушила волосы на солнце и, казалось, была с головы до пят облита живым золотом. Увидев меня, она поспешила в дом, но ветер подхватил ее волосы и закружил вокруг нее — прямо Даная в облаке золотого дождя, подумал я. Вот тогда я и понял, что люблю ее, что полюбил ее в ту самую минуту, когда впервые увидел ее на веранде в свете, падавшем из открытой двери. И такая женщина обречена всю жизнь прозябать в бедности и ублажать этого Дика! Сегодня ночью я бродил по берегу почти до утра, понапрасну ломая голову. И все же, несмотря ни на что, я не жалею, что приехал в бухту Четырех Ветров. Как это ни ужасно, мне кажется, что не встретить Лесли было бы еще ужаснее. Любить ее и расстаться с ней — невыносимая мука, но по крайней мере судьба наградила меня этой любовью. Не надо было вам ничего говорить, но от того, что я выговорился, мне стало немного легче. По крайней мере, этот разговор дал мне силу соблюсти приличия и уехать домой, не устраивая бесполезной и мучительной сцены. Только, пожалуйста, миссис Блайт, пишите мне хоть изредка. Я хочу хоть что-нибудь знать о Лесли.
— Я буду вам писать. И мне жаль, что вы от нас уезжаете — нам будет вас очень не хватать. Мы так все подружились. Если бы не это осложнение, вы могли бы приезжать сюда снова и снова. Может быть, когда-нибудь… когда все это забудется…
— Это никогда не забудется, и я никогда не вернусь в бухту Четырех Ветров, — сказал Оуэн.
Над садом стояла предсумеречная тишина. Слышался лишь монотонный шум набегающих на песчаный берег волн. Вечерний ветер перебирал струны пирамидальных тополей, наигрывая какую-то причудливую грустную мелодию. Тонкая молодая осинка вырисовывалась перед ними на фоне бледно-розового, с изумрудными прожилками заката, который наделил трепетно-призрачным очарованием каждый ее листок, каждую веточку.
— Красиво, верно? — сказал Оуэн тоном человека, решившего закончить мучительный разговор.
— Так красиво, что даже больно на душе, — тихо ответила Энн. — Мне всегда делается больно, когда я вижу совершенство. Ребенком я это называла «как-то чудно щемит на сердце». Отчего нам больно, когда мы встречаемся с совершенством? Может быть, от ощущения, что это предел, что лучше быть не может?
Тут появилась мисс Корнелия, как воплощение комедии, которая всегда из-за угла подглядывает за жизненными трагедиями. В присутствии мисс Корнелии любовь, страсть как бы съеживались и исчезали из виду. Однако положение вещей уже не казалось Энн таким безнадежным и горьким, как несколько минут назад. Но ночью она долго не могла сомкнуть глаз.
Глава двадцать седьмая НА ПЕСЧАНОЙ КОСЕ
На следующее утро Оуэн покинул бухту Четырех Ветров. Вечером Энн пошла навестить Лесли, но не застала никого дома. Дверь была заперта, и в окнах не горел свет. Казалось, будто дом вдруг утратил душу. На следующий день Лесли не зашла к Блайтам, и Энн решила, что это дурной признак.
Вечером Джильберт должен был поехать в рыбацкую деревню, и Энн решила доехать с ним до маяка и побыть с капитаном Джимом. Но на маяке она обнаружила Алека Бойда, который заменял дядю, а капитана Джима не было.
— Ну и куда ты теперь? — спросил Джильберт. — Поедешь со мной?
— Не знаю. Спускаться вниз мне не хочется. Пожалуй, переправлюсь с тобой и погуляю на песчаной косе, пока ты не вернешься. Здесь на скалах сегодня скользко и страшно.
Оказавшись на песчаной косе, Энн отдалась колдовскому очарованию этой ночи. Было довольно тепло, и под вечер пал туман. Но когда взошла полная луна и туман немного рассеялся, гавань и берега превратились в волшебный, фантастический мир, скрытый за серебристой завесой. Черная шхуна Джона Крофорда, груженная картофелем, казалась кораблем-призраком, направлявшимся в страну, достичь которой не суждено никому. В криках невидимых чаек чудились вопли обреченных на гибель моряков. Большие песчаные дюны обернулись спящими великанами из северных сказаний. Энн бродила в тумане, дав простор своему богатому воображению.
Но тут впереди что-то замаячило… превратилось в человеческую фигуру… и двинулось к ней по утрамбованному волнами песку.
— Лесли! — изумленно воскликнула Энн. — Что ты здесь делаешь?
— Если на то пошло,
ты-то что здесь делаешь?— спросила Лесли, пробуя засмеяться. Но попытка эта не удалась. Вид у миссис Мор был усталый.
— Я жду Джильберта. Он поехал в деревню. Я хотела побыть на маяке, но капитан Джим куда-то уехал.
— Ну, а я пришла сюда, потому что мне захотелось побродить. А на скалистом берегу особенно не погуляешь. Прилив сейчас высокий, и пляж скрыт водой. Я переплыла сюда на лодке капитана Джима и, наверное, уже час хожу здесь. Я не могу стоять на месте. Ох, Энн!
— Лесли, милая, что случилось? — спросила ее подруга, хотя прекрасно знала, в чем дело.
— Я не могу тебе сказать… не спрашивай. Я, собственно, не возражала бы, чтобы ты знала, но рассказать тебе об этом не могу. Никому не могу рассказать. Какой я была дурой, Энн, и как мне сейчас больно. Мне никогда в жизни не было так больно.
Лесли горько рассмеялась, Энн обняла ее за талию.
— Лесли, ты полюбила мистера Форда? Лесли резко остановилась.
— Как ты об этом узнала? — вскричала она. — Как ты узнала, Энн? Неужели это написано у меня на лице? Неужели это так заметно?
— Нет-нет, просто мне это пришло в голову. Почему ты так на меня смотришь, Лесли?
— Ты меня презираешь? — яростным шепотом спросила миссис Мор. — Ты считаешь, что я безнравственна, лишена женской гордости? Или просто я кажусь дурой?
— Ничего подобного. Дорогая, давай обсудим это спокойно. Ты замучила себя мрачными мыслями и Бог знает чего напридумывала. Ты же знаешь, у тебя есть склонность, когда что-то не заладится, видеть все в черном свете. Но ты обещала не впадать в меланхолию.
— Да, но мне так стыдно, — прошептала Лесли. — Полюбить человека, которому ты не нужна, — да я вообще не имею права никого любить.
— Тут нечего стыдиться. Но мне очень жаль, что ты полюбила Оуэна, потому что от этого ты станешь только еще несчастнее.
— Но я же не виновата, что так случилось. Если бы я что-нибудь заподозрила, я приняла бы меры. Мне и в голову ничего подобного не приходило, пока он неделю назад не сказал, что закончил книгу и ему пора уезжать. И тогда… тогда я поняла… Мне показалось, что на меня обрушился потолок. Я ничего не сказала… просто не могла ни слова вымолвить… но Бог ведает, что у меня отразилось на лице. Боюсь, лицо меня выдало. Я умру от стыда, если он что-нибудь заметил… или заподозрил. Энн хранила вынужденное молчание — она-то знала, что он заметил. Лесли же как будто прорвало:
— Я была так счастлива этим летом, Энн, счастливее, чем когда-нибудь в жизни. Я приписывала это тому, что мы с тобой объяснились и между нами больше нет пропасти. Мне казалось, что это твоя дружба наполнила мою жизнь красотой и содержанием. Так оно и было отчасти, но не полностью. Теперь я знаю, почему мир предстал мне в новом свете. И вот все кончилось — он уехал. Как мне жить, Энн? Когда я вошла в дом после его отъезда, одиночество просто оглушило меня.
— Постепенно тебе станет легче, дорогая, — утешала Энн. Она всегда чувствовала боль своих друзей как свою собственную и потому не могла найти слов утешения, которые другие произносят без труда. Кроме того, миссис Блайт помнила, как слова утешения только усугубили ее боль.
— А мне кажется, что мне только тяжелее, — несчастным голосом сказала Лесли. — Мне нечего ждать от жизни. За одним утром будет следовать другое, а он уже не вернется. Он не вернется никогда. Когда я думаю, что никогда его больше не увижу, кажется, что огромная рука стиснула мое сердце и рвет его у меня из груди. Когда-то давно я мечтала о любви и думала, какое это будет счастье! А он так холодно и безразлично со мной попрощался. «До свидания, миссис Мор», — и это все, словно мы даже не были друзьями, словно я для него совершенно ничего не значу. Да я и не хочу, чтобы Оуэн в меня влюбился, но он мог бы проститься со мной поласковее.
«Господи, хоть бы Джильберт скорей вернулся», — подумала Энн, которая буквально разрывалась, всем сердцем сочувствуя Лесли и одновременно стараясь не выдать того, в чем ей признался Оуэн. Она-то знала, почему Оуэн так холодно простился с Лесли, почему не сказал ей обычных теплых дружеских слов, но объяснить это подруге она не имела права.
— Энн, это случилось помимо моей воли, — проговорила бедная Лесли.
— Я знаю.
— Ты считаешь меня виноватой?
— Нисколько.
— Ты не скажешь Джильберту?
— Лесли, да как ты могла подумать?
— Не знаю. Вы с Джильбертом так дружны. Я думала, что ты ему все рассказываешь.
— Все, что касается меня самой, но не секреты своих друзей.
— Я не вынесу, если он узнает. Но я рада, что ты знаешь. Мне не хочется ничего от тебя таить. Как бы только мисс Корнелия не догадалась. Иногда мне кажется, что ее проницательные добрые глаза видят меня насквозь. Хоть бы этот туман никогда не рассеивался: как бы мне хотелось спрятаться в нем… от всех. Не знаю, как я смогу жить дальше. До приезда Оуэна у меня бывали ужасные минуты, когда я была с тобой и Джильбертом, а потом я возвращалась домой одна. А когда появился Оуэн, он шел обратно со мной, и мы болтали и смеялись, как вы с Джильбертом. И меня никогда не одолевало одиночество и ревнивая зависть. А теперь! Конечно, я была дурой. Давай перестанем об этом говорить. Я никогда больше не буду надоедать тебе подобными излияниями.
— А вон и Джильберт, и ты вернешься вместе с нами, — сказала Энн, которая ни за что не согласилась бы оставить Лесли одну на косе в такую ночь и в таком настроении. — У нас в лодке полно места, а твою плоскодонку мы привяжем сзади.
— Что ж, видно, мне надо опять привыкать быть третьей лишней, — горько усмехнулась Лесли. — Прости меня, Энн, я опять делаюсь злюкой. Я должна быть благодарна судьбе — да я и благодарна! — что у меня есть двое добрых друзей, которые рады моему обществу. Не обращай на меня внимания. Просто у меня не душа, а сплошная рана.
— Что-то Лесли была сегодня неразговорчива, — заметил Джильберт, когда они с Энн пришли домой. — И что она делала на той косе одна-одинешенька?
— Она просто устала. Ты же знаешь, что когда Дик чудит, ей хочется вечером сбежать на берег.
— Какая жалость, что ей не попался в свое время такой человек, как Форд, — задумчиво произнес Джильберт. — Они идеально подходят друг другу.
— Господи, Джильберт, не хватает тебе только заняться сватовством! — резко ответила Энн, опасаясь, как бы Джильберт вдруг случайно не докопался до истины.
— Господь с тобой, Энн, я вовсе не собираюсь никого сватать, — возразил Джильберт, удивленный ее тоном. — Просто подумал, как бы это было хорошо.
— Зачем думать о том, что невозможно? Пустая трата времени, — сказала Энн. И вдруг добавила: — Как бы мне хотелось, чтобы все были так же счастливы, как мы с тобой!
Глава двадцать восьмая МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
— Я вчера получила письмо от мистера Форда, — сказала Энн мисс Корнелии, которая забежала к ней с шитьем поболтать и попить чаю. — Он передает вам поклон.
— Не нужны мне его поклоны, — отрезала мисс Корнелия.
— Почему? — изумилась Энн. — Мне казалось, что он вам понравился.
— Вообще-то он мне понравился, но я никогда ему не прощу того, что он сделал с Лесли. Бедная девочка вся извелась, как будто ей без того было мало горя. А он небось как ни в чем не бывало разгуливает по Торонто. Одно слово — мужчина!
— Как вы догадались, мисс Корнелия?
— Энн, милочка, что ж у меня, глаз нет, что ли? Я знаю Лесли с пеленок. У нее такая тоска в глазах, и ей не с чего взяться, кроме как из-за этого писателишки. Никогда себе не прощу, что порекомендовала его Лесли. Но кто же знал, что он окажется совсем не таким, как прежние квартиранты. Те были самодовольные хлыщи, на которых она чихать хотела. Один попробовал было за ней приударить — так она его так отшила, что он, наверно, до сих пор не опомнился. Мне и в голову не приходило, что может случиться что-либо подобное.
— Только, ради Бога, не показывайте Лесли, что вы знаете ее тайну. Она будет очень расстроена.
— Не беспокойтесь, Энн, милочка, я понимаю, что к чему. Наказание с этими мужчинами! Сначала один сломал ей жизнь, а теперь другой еще добавил ей горя. Чтоб они все провалились!
— Кому это вы желаете провалиться? — спросил Джильберт, входя в комнату.
— Ясно кому — мужчинам. Одно зло от них.
— Но яблоко-то в райском саду съела Ева, мисс Корнелия.
— А кто ее обольстил и уговорил его съесть? Тварь мужского пола! — с торжеством парировала мисс Корнелия.
Лесли пережила первую остроту разлуки и нашла в себе силы жить дальше — как это бывает со всеми нами, какая бы беда нас ни постигла. Иногда, оказавшись в кругу друзей, она даже радовалась жизни. Но надежды Энн на то, что она постепенно забудет Оуэна Форда, не оправдывались: при каждом упоминании его имени в глазах Лесли, как она ни старалась это скрыть, мелькала мучительная жажда узнать хоть что-нибудь о дорогом ей человеке. Чтобы как-то удовлетворить эту жажду, Энн старалась рассказывать Джильберту и капитану Джиму о том, что пишет Оуэн, когда в доме бывала Лесли. В такие минуты на щеках Лесли вспыхивал лихорадочный румянец, или, наоборот, ее лицо резко бледнело. Но она никогда не заговаривала с Энн об Оуэне и никогда не вспоминала тот вечер на песчаной косе.
А тут еще умер ее старый пес. Лесли горько его оплакивала.
— Он столько лет был моим верным другом, — грустно говорила она Энн. — Его завел еще Дик примерно за год до нашей свадьбы. А когда он уплыл на «Четырех сестрах», то оставил Карло со мной. Пес очень ко мне привязался, и его привязанность помогла мне пережить тот страшный первый год после смерти мамы, когда я осталась совсем одна. Когда я узнала, что возвращается Дик, я подумала, что Карло больше не будет моей собакой. Но он совсем не обрадовался Дику, хотя раньше его очень любил. Он рычал на него, как на чужого, даже пытался укусить. А я была рада. Хоть одно существо на свете любило только меня. Этот старый пес согревал мне душу, Энн. Осенью мне стало ясно, что он не переживет зиму. Но я все-таки надеялась и старалась его поддерживать. Сегодня утром он был как будто в порядке. Лежал себе на коврике перед камином. Потом вдруг встал, подошел ко мне и положил голову мне на колени. Посмотрел на меня преданным взглядом своих добрых глаз, содрогнулся и умер. Мне его ужасно не хватает.
— Хочешь, я подарю тебе щенка, Лесли? — спросила Энн. — Я хочу купить Джильберту на Рождество щенка сеттера. Хочешь, я и тебе куплю?
Лесли покачала головой:
— Нет, не надо, Энн. Мне пока не хочется заводить другую собаку. Я не смогу ее полюбить. Может быть, когда-нибудь, когда пройдет время. В общем-то мне нужно иметь надежного сторожа. Но в Карло было что-то человеческое: сразу заменить моего старого друга новой собакой мне просто совестно.
За неделю до Рождества Энн уехала погостить в Эвонли. Следом за ней приехал Джильберт, и они весело встретили Новый год в компании старых друзей — Барри, Блайтов и Райтов. В мгновение ока они расправились с праздничным обедом, который миссис Рэйчел и Марилла долго и тщательно готовили.
Когда Энн и Джильберт вернулись в бухту Четырех Ветров, их домик был почти по крышу заметен сугробами: зима выдалась очень снежной. Но к их приезду капитан Джим расчистил дорожки и крыльцо, а мисс Корнелия разожгла камин и натопила домик.
— Как я рада вас видеть, душечка, — приветствовала она Энн. — Нет, вы когда-нибудь видели такие сугробы? Дом Моров весь занесло — мне его видно только со второго этажа. Как Лесли обрадуется вашему возвращению! Она там просто похоронена заживо. Благодарение Богу, что Дик умеет расчищать снег и даже очень любит эту работу. Сьюзен велела вам передать, что придет завтра. А ты куда собрался, капитан Джим?
— Да хочу добраться до Глена и посидеть со старым Мартином Стронгом. Ему недолго осталось жить и одному тоскливо. Друзей у него мало — всю жизнь был занят тем, что зарабатывал деньги, а на друзей времени не осталось.
Капитан Джим вышел и тут же вернулся, вспомнив важную новость:
— Я получил письмо от мистера Форда, миссис Блайт. Он пишет, что книгу взяли в издательство и она выйдет осенью. Как же я рад! Все-таки мне доведется увидеть ее в напечатанном виде!
— Он просто помешался на своей книге, — сказала мисс Корнелия, когда капитан Джим ушел. — А по мне, книг и так написано слишком много.
Глава двадцать девятая ДЖИЛЬБЕРТ И ЭНН РАСХОДЯТСЯ ВО МНЕНИЯХ
Джильберт положил на стол толстый медицинский труд, который прилежно изучал, пока сгустившиеся мартовские сумерки не заставили его бросить это занятие. Он откинулся в кресле и задумчиво поглядел в окно. Стояла ранняя весна — самое малопривлекательное время года. Даже оранжевый закат был не в силах украсить мертвые раскисшие поля и почерневший лед в бухте. Лишь большой черный ворон медленно летел над свинцово-серым полем. Интересно, лениво подумал Джильберт, куда летит этот ворон? Есть ли у него черная, милая его сердцу жена, которая ждет его в роще за Гленом? Или он молодой ворон и только собирается заняться поисками подруги? Или закоренелый старый холостяк, который считает, что не стоит связывать себя семьей? Кем бы он ни был, ворон скоро скрылся из виду в надвигающейся темноте, и Джильберт отвернулся от окна.
Языки пламени бросали блики на бело-зеленых Гога и Магога, на блестящую коричневую голову красавца сеттера, растянувшегося перед камином, на вазу с нарциссами, которые расцвели у Энн в ящике на подоконнике, и на саму Энн, сидящую за своим маленьким столиком с шитьем в руках. Однако она не шила, а мечтательно смотрела в огонь, ибо опять жила счастливой надеждой, стараясь не давать волю не покидающему ее ни днем ни ночью страху.
Джильберт, который называл себя «старым женатиком», по-прежнему глядел на Энн влюбленными глазами. Он до сих пор не мог до конца поверить, что она его жена. А вдруг ему это только снится?
— Энн, послушай меня, — начал Джильберт. — Я хочу с тобой поговорить.
— О чем? — весело спросила Энн. — У тебя необыкновенно серьезный вид, Джильберт. Честное слово, я сегодня ни разу тебя не ослушалась. Можешь спросить Сьюзен.
— Нет, я хотел поговорить не о тебе и не о нас. Это касается Дика Мора.
— Дика Мора? — насторожилась миссис Блайт. — Что ты можешь такого мне сообщить о Дике Море?
— Последнее время я много о нем думал. Помнишь, я осенью лечил у него фурункулы?
— Да, помню.
— Я тогда внимательно осмотрел шрамы у него на голове. Я всегда считал, что Дик Мор очень интересный медицинский случай. А последнее время я изучал историю трепанации и различные случаи ее применения. Энн, я пришел к выводу, что если Дика Мора положить в хорошую больницу и сделать трепанацию черепа, к нему может вернуться память и все его умственные способности.
— Джильберт! — протестующе воскликнула Энн. — Неужели ты это всерьез?
— Вполне. И я решил, что мой долг сообщить об этом Лесли.
— Не надо, не говори! — пылко вскричала Энн. — Джильберт, пожалуйста — пожалуйста! — не надо этого делать! Это жестоко! Обещай мне, что не скажешь!
— Но почему, Энн? Я не предполагал, что ты так к этому отнесешься. Будь же благоразумна…
— Я не хочу быть благоразумной… я не могу быть благоразумной… да, я и так благоразумна! Это ты хочешь поступить неблагоразумно. Джильберт, ты хоть на секунду задумался над тем, каково будет Лесли, если к Дику Мору вернутся его умственные способности? Ну подумай хорошенько! Она и так несчастна, но ей в тысячу раз легче быть нянькой Дика, чем его женой. Я это точно знаю! Не надо, Джильберт. Пусть все остается как есть.
— Я думал об этом, Энн. Но я считаю, что для врача превыше всего телесное и душевное здоровье пациента. Если есть хоть малейшая надежда вернуть человеку здоровье и умственные способности, врач обязан это сделать. А все остальные соображения отходят на второй план.
— Но Дик в этом смысле вовсе не твой пациент, — убеждала его Энн. — Если бы Лесли спросила тебя, можно ли для него что-нибудь сделать, — это было бы другое дело. Тогда твоим долгом было бы сказать, что ты об этом думаешь. Но ты не имеешь права вмешиваться в ее жизнь.
— Я не считаю это вмешательством. Дядя Дэйв сказал Лесли двенадцать лет назад, что Дику помочь нельзя. И она, конечно, в это верит.
— Но почему дядя Дэйв стал бы так говорить, если бы это не было правдой? Разве он хуже тебя разбирается в этом вопросе?
— Хуже, хотя ты, может быть, сочтешь, что я чересчур самонадеян. Но ты же знаешь, что дядя Дэйв отрицательно относится ко «всей этой новомодной резне», как он называет хирургические способы лечения. Он даже против операции при аппендиците.
— И правильно, — заявила Энн. — Я тоже считаю, что современные врачи чересчур увлекаются экспериментами над человеческим телом.
— Если бы я побоялся провести эксперимент, миссис Аллонби не было бы в живых, — возразил Джильберт. — Я пошел на риск и спас ей жизнь.
— Мне надоело без конца слушать про Роду Аллонби! — воскликнула Энн. В этом она была несправедлива: Джильберт ни разу не упомянул миссис Аллонби с того дня, как сказал Энн, что операция прошла успешно. А в том, что «чудесное» излечение миссис Аллонби без конца обсуждали в деревне, не было его вины.
Джильберт обиделся.
— Я не ожидал, что ты займешь такую позицию, Энн, — холодно сказал он, направляясь к двери своего кабинета. В первый раз Джильберт и Энн были на грани ссоры.
Но Энн бросилась за Джильбертом и затащила его обратно в гостиную.
— Джильберт, только не надо на меня сердиться. Садись. Я сейчас буду просить у тебя прощения. Я напрасно это сказала. Но если бы ты только знал…
Энн осеклась. Она не имеет права выдавать секрет Лесли.
— …если бы ты мог поставить себя на ее место, — закончила она фразу.
— Я постарался это сделать. Я обдумал этот вопрос и пришел к выводу: мой долг — сказать Лесли, что Дика, вероятно, можно вылечить. На этом моя ответственность кончается. Пусть она сама решает, как ей следует поступить.
— Ты не имеешь права взваливать на нее такую ответственность. Ей и так тяжело. Кроме того, Лесли бедна — ей просто нечем заплатить за операцию.
— Это тоже она должна решить сама, — упорствовал Джильберт.
— Гы говоришь, что Дика, может быть, удастся вылечить. А ты в этом уверен?
— Разумеется, нет. В таком случае не может быть уверенности. Если поражен сам мозг, нарушены его функции, тогда он может не поддаться лечению. Но если, как я считаю, потеря памяти и умственных способностей вызвана давлением вмятин в черепе на мозговые центры, тогда Дик, возможно, будет полностью излечен.
—
Возможно!— воскликнула Энн. — Представь себе, что ты скажешь Лесли и она решится на операцию. Стоить эта операция будет очень дорого. Ей придется занять денег или продать ферму. А потом операция окажется безрезультатной, и Дик останется каким был. Как она сможет расплатиться с долгами, на что она будет жить и содержать этого беспомощного большого ребенка, если продаст ферму?
— Все это я понимаю. Но я убежден, что мой долг — сказать ей.
— Ты просто проявляешь знаменитое блайтовское упрямство, — простонала Энн. — Ну хоть не бери на себя всю ответственность. Посоветуйся с доктором Дэйвом.
— Я уже советовался, — неохотно пробурчал Джильберт.
— Ну и что он сказал?
— Вкратце то же, что и ты: оставь все как есть. Кроме его нелюбви к хирургии, боюсь, что он подходит к этому так же, как и ты: надо пожалеть Лесли.
— Ну вот! — торжествующе воскликнула Энн. — Джильберт, ты должен прислушаться к мнению человека, которому почти восемьдесят лет, который много видел и сам спас десятки жизней! Он гораздо опытней, чем ты!
— Спасибо.
— Не смейся. Это слишком серьезно.
— Вот и я то же самое говорю: это слишком серьезно. Человек превратился в беспомощное животное. А его можно вернуть к полезной жизни…
— Много от него раньше было пользы, — презрительно бросила Энн.
— У него есть возможность исправиться и искупить свою вину. Его жена этого не знает. А я знаю. Поэтому мой долг — сказать ей, что такая возможность существует. Таково мое решение.
— Не говори «решение», Джильберт. Посоветуйся с кем-нибудь еще. Спроси, что об этом думает капитан Джим.
— Хорошо. Но я не обещаю, что его мнение будет решающим. В таких вопросах человек должен решать сам за себя. Если я ничего не скажу Лесли, меня всю жизнь будет мучить совесть.
— Ох уж эта твоя совесть! — простонала Энн. — А у дяди Дэйва, по-твоему, нет совести?
— Есть. Но послушай, Энн, если бы дело не касалось Лесли, если бы это была чисто абстрактная дилемма, ты ведь согласилась бы со мной?
— Нет, не согласилась бы, — возразила Энн, стараясь уверить себя в своей правоте. — Ох, Джильберт, ты все равно меня не убедишь, хоть бы мы всю ночь проспорили. Спроси, что об этом думает мисс Корнелия.
— Ну, Энн, если ты берешь в союзницы мисс Корнелию, значит, ты исчерпала все доводы. Она, конечно, скажет: «Одно слово — мужчина!» и примется бесноваться. Нет, такое дело решать не мисс Корнелии. Решение должно принадлежать Лесли.
— Ты отлично знаешь, как она решит, — сказала Энн, которая была на грани слез. — У нее тоже есть понятие о долге. Я не понимаю, как ты можешь брать на свою совесть такую тяжесть. Я бы не смогла.
— Я могу привести в свою защиту слова из Библии: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Я от всего сердца верю этим словам. Главный долг человека — следовать истине так, как он ее видит и понимает.
— Только эта истина не даст свободы бедняжке Лесли, — вздохнула Энн. — Скорей всего, она закабалит ее еще больше. Ох, Джильберт, я не могу признать, что ты прав.
Глава тридцатая РЕШЕНИЕ ЛЕСЛИ
Следующие две недели Джильберт был страшно занят — в Глене и в рыбацкой деревне вспыхнула эпидемия гриппа, — и он не смог, как обещал Энн, сходить к капитану Джиму. Энн хотелось думать, что он забыл про Дика Мора, и она никогда не напоминала об их разговоре.
«Имею ли я право сказать ему, что Лесли любит Оуэна Форда? — размышляла она. — Он никогда не проговорится, так что ее самолюбие не пострадает. А его это, может быть, убедит оставить Дика Мора в покое. Сказать? Нет, наверно, все же не надо. Я поклялась Лесли хранить тайну. Совсем я себя истерзала! Даже весне не радуюсь по-настоящему — и вообще ничему».
И вот наступил вечер, когда Джильберт вдруг предложил Энн сходить к капитану Джиму. У Энн упало сердце, но она согласилась, и супруги отправились на маяк. На дюнах мальчишки, пришедшие ловить корюшку, выжигали прошлогоднюю сухую траву. Розовая полоса огня ползла кверху и вот уже вздыбилась алыми знаменами на фоне темнеющего вдали залива, освещая бухту и рыбацкую деревню. Это живописное зрелище привело бы Энн в восторг, не будь она так сердита на Джильберта. Того, в свою очередь, тоже угнетала размолвка с женой, недовольство которой выражалось в самой ее походке, в надменно вскинутой голове, в холодной любезности ее замечаний. Губы Джильберта были упрямо сжаты, но во взгляде сквозила озабоченность. Он все равно выполнит свой врачебный долг так, как он его понимает, но ссора с Энн была слишком дорогой ценой. В общем, оба были рады, когда наконец дошли до маяка, и оба огорчились своей радости.
Капитан Джим, чинивший рыбацкую сеть, отложил ее в сторону и радостно приветствовал гостей. Энн показалось, что он сильно постарел. Волосы моряка стали совсем белыми, а руки немного тряслись. Но взгляд его голубых глаз был по-прежнему ясен и тверд.
Капитан Джим выслушал Джильберта в изумленном молчании. Энн, которая знала, что старик буквально боготворит Лесли, была уверена, что он встанет на ее сторону, хотя и не надеялась, что это заставит Джильберта изменить свое решение. Поэтому она была несказанно удивлена, когда капитан Джим грустно, но без малейших колебаний заявил, что Лесли, конечно, надо сообщить, что появилась возможность вылечить Дика.
— Вот уж не ожидала этого от вас, капитан Джим! — с упреком воскликнула она. — Я думала, что вы не захотите еще больше осложнить ее жизнь.
Капитан Джим покачал головой:
— Я и не хочу. Я вас вполне понимаю, миссис Блайт, мне самому ее очень жалко. Но, прокладывая курс по жизни, мы не должны руководствоваться нашими чувствами. Это может привести к кораблекрушению. Надежный компас только один — справедливость, и мы должны идти по нему. Я согласен с доктором. Если есть надежда вылечить Дика, надо сказать об этом Лесли. Тут, по-моему, не может быть двух мнений.
— Что ж, говорите, — с отчаянием сказала Энн. — Только не ждите пощады от мисс Корнелии.
— Да, Корнелия нас расстреляет с обоих бортов, — подтвердил капитан Джим. — Вы, женщины, — прелестные создания, миссис Блайт, только мыслите вы не очень логично. В этом вы, образованная дама, и Корнелия, которая едва умеет читать и писать, похожи как две капли воды. Собственно говоря, это не умаляет ваших достоинств. Логика — вещь жестокая и беспощадная. А сейчас я вскипячу чай, и поговорим о чем-нибудь более приятном.
— За чаем и разговором Энн немного успокоилась и по дороге домой не была так холодна с Джильбертом, как собиралась. Наболевшую проблему она не поминала совсем и вполне дружелюбно болтала о другом. Джильберт понял, что, хотя с ним и не согласились, его простили.
— Капитан Джим сильно сдал за зиму, — грустно сказала Энн. — Боюсь, что он скоро отправится на поиски своей пропавшей Маргарет. Мне невыносимо об этом думать.
— Да, бухта Четырех Ветров осиротеет, когда капитан Джим «уйдет в последнее плавание», — согласился Джильберт.
На следующий день, к вечеру, он отправился к Лесли. Ожидая его возвращения, Энн в беспокойстве бродила по дому.
— Ну, что сказала Лесли? — спросила она, едва Джильберт переступил порог.
— Почти ничего, по-моему, я ее совершенно ошеломил.
— Но она согласилась на операцию?
— Она сказала, что подумает и скоро примет решение.
Джильберт устало опустился в кресло у камина. Разговор с Лесли дался ему нелегко. А ужас, который он увидел в ее глазах, когда до нее дошел смысл сказанного доктором, тяжелым грузом лежал у него на совести. Теперь, когда жребий был брошен, он сам начал сомневаться в правильности своего решения.
Энн покаянно посмотрела на мужа, потом опустилась на ковер у его ног и прижалась лбом к его руке.
— Джильберт, я тебе сильно отравила жизнь из-за этого дела. Но я больше не буду. Назови меня морковкой и прости.
Из этих слов Джильберт вывел, что Энн не будет его упрекать, как бы ни обернулось дело. Но все-таки на душе у него было неспокойно. Одно дело — долг в его абстрактном понимании, и совсем другое — реальность, особенно когда видишь переполненные ужасом глаза и без того несчастной женщины.
Следующие три дня Энн инстинктивно избегала Лесли. На третий вечер Лесли сама пришла к Блайтам и сказала Джильберту, что она приняла решение: она отвезет Дика в Монреаль на операцию.
Лесли была очень бледна и вновь куталась в покрывало отчужденности. Но в глазах миссис Мор уже не было отчаяния, воспоминание о котором терзало Джильберта все эти дни. Взгляд был холоден, и она тут же принялась обсуждать с Джильбертом практическую сторону дела. Надо было о многом подумать и многое предусмотреть. Получив нужную ей информацию, Лесли ушла домой. Энн предложила проводить ее.
— Лучше не надо, — отрывисто бросила Лесли. — После дождя земля совсем раскисла. До свидания.
— Похоже, я потеряла подругу, — со вздохом сказала Энн. — Если операция пройдет удачно и Дик Мор станет таким, как прежде, Лесли скроется в недоступные глубины своей души, где мы ее уже никогда не сможем отыскать.
— Может быть, она разойдется с ним? — предположил Джильберт.
— Лесли никогда этого не сделает. В ней очень сильно развито чувство долга. Ее бабушка внушила ей, что, если уж берешь на себя ответственность, то уклоняться от нее нельзя, каковы бы ни были последствия твоего решения. Это главное правило, которым Лесли руководствуется в жизни. Теперь такие взгляды, наверно, считаются старомодными.
— Не надо говорить с такой горечью, Энн. Ты же так не думаешь, ты и сама считаешь исполнение долга святым делом. И совершенно правильно. Беда нашего времени в том и заключается, что многие пытаются уклониться от ответственности. Отсюда все недовольство и все беспорядки в мире.
— Так сказал проповедник, — насмешливо отозвалась Энн. Несмотря на насмешливый тон, она знала, что Джильберт прав. Но как болела ее душа за Лесли!
Через неделю на их домик, как лавина, обрушилась мисс Корнелия. Джильберта не было дома, и Энн пришлось принять удар на себя.
Мисс Корнелия бросилась в бой, едва успев снять шляпку.
— Энн, неужели это правда? Неужели доктор Блайт и в самом деле сказал Лесли, что Дика можно вылечить? И она собирается ехать с ним в Монреаль, чтобы ему сделали операцию?
— Да, это правда, мисс Корнелия, — храбро ответила Энн.
— Тогда доктор Блайт поступил жестоко! — негодующе вскричала мисс Корнелия. — А я еще считала его порядочным человеком!
— Доктор Блайт считает, что это его долг. И я с ним согласна, — добавила Энн, считая себя обязанной встать на сторону мужа. —
— Нет, дорогая, вы с ним не согласны, — заявила мисс Корнелия. — Ни один человек, в ком живо сострадание, не может с этим согласиться.
— Капитан Джим согласился.
— Не говорите мне об этом безмозглом старикашке! — воскликнула мисс Корнелия. — Знать я не хочу, кто с кем согласился. Только подумайте, каково будет этой замученной, затравленной бедняжке!
— Мы об этом думали. Но Джильберт считает, что врач должен ставить на первое место физическое и душевное здоровье пациента.
— Одно слово — мужчина! Но о вас, Энн, я была лучшего мнения, — сказала мисс Корнелия уже без гнева, но со скорбью. И стала приводить Энн все те аргументы, которые та в свое время приводила Джильберту, а Энн мужественно защищала мужа тем оружием, которое он использовал для собственной защиты. Перепалка продолжалась долго, но наконец сама мисс Корнелия положила ей конец.
— Это чудовищно! — заявила она, едва удерживаясь от слез. — Просто чудовищно! Бедная, бедная Лесли!
— А о Дике разве не нужно подумать? — взмолилась Энн.
— О Дике? Дике Море? А чем ему плохо? Он сейчас гораздо лучше себя ведет и достоин уважения больше, чем раньше. Да кто он был? Пьяница и даже хуже! И вы собираетесь опять дать ему возможность безобразничать!
— Может быть, он исправится, — беспомощно предположила Энн.
— Как же, ждите! Дик Мор получил эти увечья в пьяной драке. Он наказан Господом Богом по заслугам. И я не верю, что доктор имеет право оспаривать волю Всевышнего.
— Никто не знает, как это случилось с Диком, мисс Корнелия. Может, не было никакой пьяной драки. Может быть, его избили грабители.
— Всякое бывает, да только верится в это с трудом, — отрезала мисс Корнелия. — Так или иначе, я поняла одно: дело сделано и всякие разговоры бесполезны. В таком случае, я замолкаю. Какой смысл биться головой о стену? Главное теперь — постараться утешить и поддержать Лесли. И, может, еще от этой операции не будет никакого проку, — добавила мисс Корнелия с надеждой в голосе.
Глава тридцать первая ИСТИНА ОСВОБОЖДАЕТ
Приняв решение, Лесли с присущей ей твердостью принялась за его осуществление. Но сначала надо было сделать весеннюю уборку. С помощью мисс Корнелии дом был приведен в идеальный порядок. Та, высказав Энн все, что она думает о затее Джильберта, а затем повторив это — разумеется, не стесняясь в выражениях — Джильберту и капитану Джиму, с Лесли на эту тему не разговаривала вовсе. Она смирилась с фактом, что Дику будут делать операцию, иногда обсуждала с Лесли связанные с нею дела, но сама об этом никогда не заговаривала. Лесли тоже ни разу не попыталась обсудить с кем-нибудь предстоящее ей испытание, стала как-то необычайно молчалива и холодна. Она редко навещала Энн, и хотя в разговоре с ней была неизменно вежлива и дружелюбна, сама эта вежливость встала между ней и ее прежними друзьями ледяной стеной. Лесли не реагировала на шутки, никогда не смеялась, в ее отношениях с Энн и Джильбертом совершенно пропала былая легкость. Энн старалась не принимать этого близко к сердцу. Она понимала, что душа Лесли застыла от ужаса и отгородилась от маленьких радостей и веселых минут, которые она знала в домике Блайтов. Когда душу охватывает сильное чувство, все остальное отодвигается на задний план. Лесли не смела даже заглядывать в будущее, где ей виделась лишь бездна отчаяния. Тем не менее она непоколебимо шла по избранному пути, как в былые времена христианские мученики шли на смерть.
Финансовый вопрос разрешился легче, чем опасалась Энн. Лесли взяла у капитана Джима нужную сумму в долг под залог своей фермы. Он отказывался от залога, но Лесли настояла.
— Ну, хоть о деньгах бедняжке не надо больше ломать голову, — вздохнула мисс Корнелия. — И мне тоже. Если Дик поправится и сможет работать, то он постепенно выплатит долг, а если нет, то я уверена, что капитан Джим сумеет как-нибудь устроить, чтобы Лесли не пришлось ничего выплачивать. Он так мне и сказал: «Я стар, Корнелия, и у меня нет ни детей, ни внуков. Лесли отказывается принять подарок от живого человека, но, может быть, не откажется взять у мертвого». Так что с этим, по крайней мере, все в порядке. Если бы так же легко уладилось и все остальное! Дик стал просто невыносим. В него словно бес вселился. Когда мы убирали дом, чего он только не вытворял. Гонял уток по двору так, что они чуть не околели. А нам не хотел помогать ни в чем. Иногда ведь он рад услужить, приносит воду, дрова и все такое. А тут, когда мы послали его за водой, он попытался спуститься в колодец. Я еще подумала: «Свалился бы ты туда вниз головой, и делу конец».
— О, мисс Корнелия!
— А что такого я сказала? Это любому пришло бы в голову. Если монреальские доктора смогут сделать из Дика Мора разумного человека, то они просто чудодеи.
Лесли отвезла Дика в Монреаль в начале мая. Джильберт поехал с ней. Вернувшись, он сообщил, что хирург, который осматривал Дика в Монреале, тоже считает, что операция может ему помочь.
— Вот счастье-то, — иронически отозвалась мисс Корнелия.
Энн только вздохнула. Лесли простилась с ней очень холодно, но обещала писать. Через десять дней после возвращения Джильберта Энн получила от нее письмо. Лесли писала, что операция прошла успешно и что Дик выздоравливает.
— Что значит «успешно»? — спросила Энн Джильберта. — Как это понимать — к Дику, что, вернулась память?
— Не думаю, поскольку она ничего об этом не пишет, — ответил Джильберт. — Видимо, операция прошла «успешно» с точки зрения хирурга — никаких осложнений и так далее. Но пока неизвестно, восстановятся ли умственные способности Дика и в какой степени. Память вряд ли вернется к нему сразу. Это будет происходить постепенно — если вообще произойдет. А больше она ничего не пишет?
— Нет. Вот письмо, почитай. Оно очень коротенькое. Бедняжка, видимо, живет в страшном напряжении. Джильберт, я многое могла бы тебе сказать, только я обещала этого не делать.
— Ничего, все это мне за тебя говорит мисс Корнелия, — с горькой усмешкой ответил Джильберт. — Она снимает с меня стружку при каждой встрече. По ее словам, я едва ли не убийца, и она очень жалеет, что доктор Дэйв передал мне свою практику. Она даже сказала, что методистский доктор и то лучше меня. Худшего от мисс Корнелии услышать невозможно.
— Однако если мисс Корнелия Брайант заболеет, то она пошлет не за доктором Дэйвом и не за методистским доктором, — вмешалась Сьюзен. — Если ей занеможется, она вытащит вас из постели посреди ночи, это уж как пить дать. А потом еще скажет, что вы предъявили ей слишком большой счет. Не обращайте на нее внимания, доктор. Люди всякие бывают.
От Лесли некоторое время не было никаких известий. Под лучами майского солнца берега бухты Четырех Ветров покрылись пестрым цветочным ковром. Как-то в конце мая, вернувшись домой, Джильберт обнаружил, что его у конюшни ждет Сьюзен.
— Миссис доктор чем-то очень расстроена, — таинственным голосом сообщила она Джильберту. — Она получила письмо и с тех пор весь день ходит по саду и разговаривает сама с собой. А вы же знаете, доктор, что ей в ее положении вредно так много ходить. Что в том письме, она мне не говорит. Раз мне не говорят, я не хочу допытываться. Но что-то ее сильно взволновало. А ей вредно волноваться.
Обеспокоенный Джильберт поспешил в сад. Может быть, что-нибудь случилось в Грингейбле? Но у Энн, которую он нашел на скамейке у ручья, вид был отнюдь не расстроенный, хотя и взволнованный. Ее глаза потемнели, а на щеках пылали пятна румянца.
— Что случилось, Энн?
Энн как-то странно засмеялась.
— Боюсь, что ты мне не поверишь, Джильберт. Я сама никак не могу в это поверить. Как на днях выразилась Сьюзен, я себя чувствую как сонная муха, которую согрело солнышко и она вдруг ожила. Это невероятно! Я сто раз перечитала письмо и каждый раз изумляюсь заново. Джильберт, ты был прав, тысячу раз прав! Теперь мне это ясно, и я очень стыжусь своего поведения. Ты сможешь меня когда-нибудь простить?
— Энн, да скажешь же ты наконец вразумительно, что произошло? А еще называется выпускница Редмонда — двух слов связать не может!
— Ты не поверишь… ты просто не поверишь…
— Я пойду вызову дядю Дэйва, — бросил Джильберт, притворяясь, что направляется к дому.
— Сядь, Джильберт. Я попытаюсь тебе сказать. Я получила письмо, и — о Джильберт! — это так поразительно… просто невероятно… нам никому и в голову не приходило… и во сне не снилось…
— Видимо, мне остается только набраться терпения, — обреченно сказал Джильберт, опускаясь на скамью рядом с Энн. — Я сам буду задавать вопросы. От кого письмо?
— От Лесли… О, Джильберт!..
— От Лесли? Наконец-то ты хоть что-то вразумительное выговорила! И что она пишет? Как дела у Дика?
Энн драматическим жестом протянула ему письмо.
— Никакого Дика не существует! Человек, которого мы считали Диком Мором, которого все в Четырех Ветрах двенадцать лет принимали за Дика Мора, на самом Деле его кузен Джордж Мор из Новой Шотландии, который, оказывается, всегда был очень похож на Дика. Дик Мор умер на Кубе от желтой лихорадки тринадцать лет тому назад.
Глава тридцать вторая РЕАКЦИЯ МИСС КОРНЕЛИИ
— Неужели это правда, Энн, милочка, что Дик Мор оказался вовсе не Диком Мором, а совсем другим человеком? Вроде вы так сказали мне по телефону?
— Да, мисс Корнелия. Поразительно, верно?
— Одно… одно слово — мужчина! — беспомощно выговорила мисс Корнелия, снимая трясущимися руками шляпку. Впервые в жизни она не знала, что сказать.
— До меня никак не дойдет, Энн, — спросила она. — Я слышу ваши слова… и верю вам… но до меня это не доходит. Значит, Дик Мор умер Бог знает когда… и Лесли свободна?
— Да. Истина освободила ее. Джильберт был прав, когда процитировал мне эти слова из Библии.
— Расскажите мне все по порядку, Энн, милочка. С тех пор как вы позвонили мне по телефону, у меня в голове сплошная каша. Никогда еще Корнелия Брайант не впадала в такую одурь.
— Да рассказывать-то особенно нечего. Письмо Лесли очень коротенькое. К этому человеку — Джорджу Мору — вернулась память, и он знает, кто он такой. Он говорит, что Дик заболел на Кубе желтой лихорадкой и шхуна ушла без него. Джордж остался, чтобы за ним ухаживать, но Дик вскоре умер. Джордж не стал писать об этом Лесли, потому что надеялся скоро вернуться домой и все ей рассказать.
— И почему же он этого не сделал?
— Наверно, потому, что его так зверски избили. Джильберт говорит, что Джордж Мор наверняка не помнит, как и почему это произошло, и никогда не вспомнит. Видимо, это случилось вскоре после смерти Дика. Может быть, Лесли скоро пришлет более подробное письмо.
— А она пишет, что собирается теперь делать? Когда она вернется?
— Она пишет, что побудет с Джорджем, пока он не выпишется из больницы. Она написала его родным в Новую Шотландию. Собственно, у Джорджа только одна родственница — замужняя старшая сестра. Когда Джордж уходил на «Четырех сестрах», она была жива и здорова, но кто знает, что произошло с тех пор. Вы когда-нибудь видели Джорджа Мора, мисс Корнелия?
— Видела. Теперь я все припоминаю. Он приезжал в гости к дяде Абнеру восемнадцать лет тому назад, когда Дику было лет семнадцать. Они кузены. Их отцы были братьями, а их матери — сестрами-двойняшками. Джордж и Дик были действительно страшно похожи. То есть не настолько похожи, чтобы близкие не могли отличить их друг от друга. Вблизи их распознать ничего не стоило. Другое дело, если тебе встречался один из них или ты видел обоих на расстоянии. А эти два балбеса обожали морочить людям голову и страшно веселились, когда их путали. Джордж был немного выше Дика и поплотнее — хотя оба они были скорей худощавыми. У Дика был румянец во всю щеку и волосы посветлее. Но они были очень похожи, и у обоих были разные глаза — один голубой, а другой карий. Но Джордж был очень славный парень, хотя и большая шкода. И о нем даже тогда говорили, что он закладывает за воротник. Но все равно всем нравился гораздо больше Дика. Он прожил здесь около месяца. Лесли его никогда в глаза не видела. Ей было тогда лет восемь-девять, да к тому же, как я припоминаю, она провела ту зиму у бабушки на другом берегу бухты. Капитана Джима здесь тоже не было — он потерпел кораблекрушение в заливе Святого Лаврентия и зимовал на одном из островов. Ни он, ни Лесли, наверно, даже не слышали, что у Дика в Новой Шотландии есть кузен, похожий на него как две капли воды. Когда капитан Джим привез Дика — то есть Джорджа — домой, никто об этом и не вспомнил. Конечно, мы все удивились, что Дик так растолстел, но приписали перемену его болезни. Да так оно, наверно, и было — ведь Джордж тоже не был таким уж толстым. А как еще мы могли догадаться — ведь он был совсем слабоумный. Так что неудивительно, что мы приняли его за Дика. Но подумать только, что лучшие годы своей жизни Лесли нянчилась с совершенно чужим ей человеком! Черт бы побрал всех мужчин! Обязательно как-нибудь напакостят! С ума от них можно сойти!
— Джильберт и капитан Джим — тоже мужчины, но это с их помощью мы наконец узнали правду, — возразила Энн.
— Это верно, — неохотно признала мисс Корнелия. — И я жалею, что так ругала доктора. Впервые в жизни я пожалела, что отругала мужчину. Впрочем, вряд ли я ему в этом признаюсь. Пусть сам догадается. Одно могу сказать, Энн: какое счастье, что Господь не исполняет все наши молитвы. Я изо всех сил молилась, чтобы операция не помогла Дику. То есть прямо я так не говорила, но не сомневаюсь, что Господь знал, что я имела в виду.
— Но ведь по сути дела вы просили Его, чтобы жизнь Лесли не стала еще труднее. И эту просьбу Господь выполнил. Боюсь, в глубине души я тоже надеялась, что операция не даст результатов. И очень этого стыжусь.
— А какое настроение у Лесли?
— Она совершенно ошеломлена. До нее, как и до нас, видимо, еще не дошло, как изменится ее жизнь. Она пишет: «Мне все это кажется удивительным сном, Энн». Больше она о себе не пишет ничего.
— Бедная девочка! Наверно, когда с заключенного снимают цепи, ему тоже какое-то время странно, что их больше нет. Энн, милочка, знаете, о чем я все время думаю? Как насчет Оуэна Форда? Мы обе знаем, что Лесли его полюбила. А вам не приходило в голову, что он ее тоже полюбил?
— Да, мне так показалось, — признала Энн, чувствуя, что может выдать доверенную ей тайну.
— О его чувствах я ничего не знала, но мне казалось, что он не мог ее не полюбить. Так вот, Энн, милочка, Бог свидетель, что я никогда не занималась сватовством и презираю это занятие. Но если вы будете писать Форду, не стоит ли рассказать ему, как бы между прочим, о том, что произошло с Диком? Я бы обязательно так сделала.
— Конечно, расскажу, когда буду ему писать, — сдержанно отозвалась Энн. Она не могла обсуждать чувства Оуэна с мисс Корнелией. Но не могла и отрицать, что с тех пор как она узнала про освобождение Лесли, у нее в голове поселилась та же мысль. Однако вслух об этом она говорить не хотела.
— Вообще-то спешить некуда, милочка. Но Дик Мор уже двенадцать лет как умер, и Лесли угробила на него достаточно времени. Посмотрим, что получится теперь. А что до этого Джорджа Мора, который взял и воскрес, когда все считали его мертвым, так мне его даже жалко. Непонятно, что он теперь будет делать.
— Ему не так уж много лет, и если он полностью выздоровеет, — а похоже, что так и будет, — он найдет себе место в жизни. Как ему, бедняге, все, наверно, странно. Тринадцать лет просто выпали из его жизни.
Глава тридцать третья ЛЕСЛИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ
Через две недели Лесли вернулась в свой старый дом, где она провела столько горьких лет. Ранним июньским вечером она прошла через поля к дому Энн и вдруг, как призрак, возникла в ее благоухающем саду.
— Лесли! — изумленно воскликнула Энн. — Откуда ты взялась? Мы и не знали, что ты возвращаешься. Почему ты нам не написала? Мы бы тебя встретили.
— Я почему-то не могла писать, Энн. Мне казалось, что бесполезно пытаться выразить мои чувства на бумаге. И я хотела вернуться так, чтобы меня никто не заметил.
Энн обняла Лесли и поцеловала ее. Лесли тоже горячо ее поцеловала. Она была бледна и выглядела устало, и со вздохом опустилась на траву рядом с большой клумбой нарциссов, которые золотыми звездами светились в серебристых сумерках.
— Ты вернулась одна, Лесли?
— Да. Сестра Джорджа Мора приехала в Монреаль и забрала его к себе домой. Бедняга чуть не плакал, расставаясь со мной, хотя, когда к нему вернулась память, он меня не узнал. Но все эти первые дни, когда он пытался привыкнуть к мысли, что Дик умер не вчера, а тринадцать лет тому назад, он цеплялся за меня как за единственную опору. Ему было очень трудно, и я как могла старалась ему помочь. Когда приехала сестра, ему стало легче, потому что ему казалось, что он расстался с ней совсем недавно. К счастью, она мало изменилась, и это тоже ему помогло.
— Как это все удивительно, Лесли! Мы сами еще никак не привыкнем к этой мысли.
— И я не могу привыкнуть. Когда я час назад вошла в свой дом, мне показалась, что все это был сон и что я сейчас опять увижу Дика с его детской улыбкой. Энн, я будто бы сплю наяву. Я не испытываю ни радости, ни горечи —
ничего.Из моей жизни словно вырвали кусок, и осталась зияющая дыра. Мне кажется, что это уже не я, а кто-то другой, кого я совсем не знаю. Мне как-то одиноко и не по себе. Но я рада тебя видеть, Энн: ты как якорь для моей оторвавшейся от причала души. До чего же я боюсь всех этих разговоров, и расспросов, и сплетен! При мысли о них я жалею, что вернулась. Когда я сошла с поезда, то встретила на станции доктора Дэйва — он и привез меня домой. Бедный старик страшно расстроен, что тогда сказал мне, будто Дик неизлечим. «Я искренне так думал, Лесли, — сказал он. — Но мне надо было посоветовать тебе проконсультироваться у специалиста. Если бы ты это сделала, тебе не пришлось бы мучиться столько лет, а у бедняги Джорджа Мора не пропало бы полжизни впустую. Я страшно себя виню, Лесли». Я сказала ему, чтобы он не казнил себя — ведь он поступил по совести. Он всегда был ко мне очень добр, и мне было невыносимо глядеть, как он мучается.
— А как Дик… то есть Джордж? К нему полностью вернулась память?
— Можно сказать, что да. Конечно, многих подробностей он не может восстановить, но с каждым днем вспоминает все больше. В тот день, когда он похоронил Дика, он вечером пошел пройтись. У него в карманах были деньги Дика и его часы — он собирался привезти их мне вместе с письмом. Джордж помнит, что зашел в матросский кабачок, помнит, что пил там — и больше ничего. Энн, я никогда не забуду минуту, когда он вспомнил свое имя. Я вдруг заметила, что он смотрит на меня осмысленным, но удивленным взглядом. «Ты меня узнаешь, Дик?» — спросила я. А он ответил: «Я никогда в жизни вас не видел. Кто вы? И меня зовут вовсе не Дик. Я Джордж Мор, а Дик вчера умер от желтой лихорадки. Где я? Что со мной случилось?» Энн, я упала в обморок. И с тех пор живу как во сне.
— Ничего, скоро ты привыкнешь к новому положению вещей, Лесли. Ты еще молода, у тебя вся жизнь впереди.
— Может быть, через некоторое время я тоже смогу так думать, Энн. А сейчас я чувствую только усталость и какое-то безразличие. Я… я так одинока, Энн. Мне не хватает Дика. Правда, странно? Знаешь, я действительно привязалась к бедному Дику, то есть Джорджу, как могла бы привязаться к беспомощному ребенку, который полностью от меня зависит. Я бы никогда в этом не призналась, я этого даже стыдилась, потому что ненавидела и презирала Дика до его отъезда. Когда я услышала, что капитан Джим везет его домой, то предполагала, что он опять будет вызывать у меня отвращение. Но этого не случилось. Я продолжала ненавидеть прежнего Дика, но к новому я испытывала только жалость. У меня прямо сердце разрывалось от жалости. Я думала, что жалею мужа за его беспомощность, но теперь я понимаю, что это просто был совсем другой человек. Карло это понял с первой секунды, Энн. Меня всегда удивляло, что Карло не признал Дика. Собаки ведь сохраняют преданность хозяевам, что бы с ними ни случилось. Но Карло понял, что этот человек вовсе не его хозяин. А мы все этого не знали. Я ведь никогда раньше не видела Джорджа Мора. Теперь я вспоминаю, что Дик как-то мельком помянул, что у него есть в Новой Шотландии кузен, с которым они похожи как близнецы. Но я не придала его словам никакого значения и тут же их забыла. Мне и в голову не пришло усомниться, что капитан Джим привез Дика. Если он и был другой, я приписывала это болезни. Никогда не забуду тот вечер, когда Джильберт сказал мне, что Дика можно вылечить. Я помнила Дика как злобного тюремщика, который запер меня в клетку и непрерывно надо мной издевался. Потом дверь клетки словно приоткрыли, и я смогла из нее выйти. Я все еще была прикована к ней, но уже не была в ней заперта. И вот в тот вечер я почувствовала, как безжалостная рука тянет меня обратно в клетку, где меня ждут еще более страшные издевательства, чем раньше. Я ни в чем не винила Джильберта, даже считала, что он прав. Он сказал, что, если я откажусь от операции из-за того, что у меня не хватит на нее денег, или потому, что он не гарантирует благополучного исхода, он нисколько не будет меня винить. Но я знала, какое решение мне следует принять, и мне было страшно об этом думать. Всю ночь я металась взад и вперед по комнате как бесноватая, стараясь заставить себя смириться со страшной необходимостью. Но не могла. Энн, я просто не могла себя на это обречь. И к утру решила, что никакой операции делать Дику не стану. Пусть все будет как было. Я знала, что поступаю нехорошо. Если бы я не переменила решения, то была бы наказана по заслугам. Но я выдержала только один день. После обеда я поехала в Глен за покупками. Дик в тот день вел себя спокойно и все больше дремал, так что я решилась оставить его одного. Меня не было довольно долго, и он по мне соскучился. Когда я вернулась, он побежал мне навстречу с такой радостной улыбкой — прямо как ребенок. И в эту минуту я сдалась, Энн. Эта улыбка на его бессмысленном лице меня доконала. У меня возникло чувство, что я лишаю ребенка шанса вырасти и стать мужчиной. Я поняла, что должна дать ему этот шанс, чего бы мне это ни стоило. Тогда я пришла к вам и сказала Джильберту, что согласна на операцию. О, Энн, ты, наверно, думала, что я груба с тобой. Но я просто не могла ни о чем думать, кроме того, что мне предстоит, а вокруг была тьма, в которой мелькали какие-то тени.
— Я это понимала, Лесли. Но все позади — твоя цепь разорвана, и клетки больше нет.
— Клетки больше нет, — рассеянно повторила Лесли, обрывая травинки вокруг клумбы. — Но ведь и ничего другого нет, Энн. Помнишь тот вечер на косе, когда я рассказала тебе про свое глупое увлечение? Оказывается, от глупого увлечения не так-то легко избавиться. Видно, некоторые остаются дураками на всю жизнь. А быть дурой в этом смысле — это немногим лучше, чем быть прикованной цепью.
— Тебе все предстанет в ином свете, когда ты отдохнешь и придешь в себя. — Энн была убеждена, что страдания Лесли скоро кончатся — ведь она любила и была любима, хотя еще и не подозревала об этом.
Лесли положила золотистую голову к Энн на колени.
— Во всяком случае, у меня есть ты, — сказала она. — Когда есть такой друг, жизнь не может быть совершенно пустой. Погладь меня по голове, Энн, как маленькую девочку, приласкай меня, а я тебе расскажу, раз уж у меня немного развязался мой упрямый язык, как много для меня значила твоя дружба и как изменилась моя жизнь с того вечера, когда я встретила тебя на берегу.
Глава тридцать четвертая КОРАБЛЬ МЕЧТЫ ПРИХОДИТ В ГАВАНЬ
И вот наступило утро, когда над бухтой Четырех Ветров, золотившейся в лучах только что взошедшего солнца, появился усталый аист. В клюве он нес сонное теплое и мягкое существо с серыми глазами. Аист был очень утомлен. Он вгляделся в открывшийся перед ним берег. Где-то близко была цель его путешествия, но он пока ее не видел. Большая белая башня с маяком, стоявшая на высоком скалистом мысу, выглядела довольно заманчиво, но ни один знающий свое дело аист не оставил бы там мягкого теплого младенца. Может быть, вон тот окруженный ивами старый серый дом у ручья? Нет, все-таки это не то… А ярко-зеленый дом дальше по ручью совсем не подходит. И тут аист повеселел: он увидел то, что ему было нужно — маленький белый домик, прижавшийся боком к пушистому еловому лесочку. Из его кухонной трубы вился дым. Вот этот дом, где будут рады малышу! Аист удовлетворенно вздохнул и опустился на конек крыши.
Через полчаса Джильберт сбежал вниз по лестнице и постучал в дверь комнаты для гостей. Раздался сонный голос, и через мгновение в дверь выглянуло бледное испуганное лицо Мариллы.
— Марилла, Энн послала меня передать вам, что к нам в дом прибыл некий юный джентльмен. Багажа у него с собой немного, но все-таки он, по-видимому, собирается остаться здесь надолго.
— Что это ты говоришь, Джильберт? — недоуменно спросила Марилла. — Неужели уже? Почему меня не позвали?
— Энн не велела вас беспокоить. Да и нужды в этом не было. Все началось только два часа тому назад. На этот раз все обошлось как нельзя более благополучно.
— И… и… ребеночек здоровый, Джильберт?
— Абсолютно. Он весит десять фунтов и… да вы сами послушайте. У этого с легкими все в порядке. Акушерка говорит, что он будет рыжим. Энн на нее очень рассердилась, а я рад до смерти.
Это был светлый день в белом домике.
— О, Марилла, после того что случилось прошлым летом, я просто не смею верить своему счастью. У меня весь год болело сердце, а сейчас наконец перестало.
— Этот мальчик займет в твоем сердце место Джойс, — сказала Марилла.
— Нет, Марилла, нет и нет! Он не может этого сделать — и никто не может. Но для моего мальчика будет особое место у меня в сердце. Если бы Джойс не умерла, ей был бы уже год с лишним. Она бы бегала по дому на своих маленьких ножках и, наверно, уже знала бы несколько слов… Ой, Марилла, погляди, какие у него прелестные крошечные пальчики! Правда, странно, что у него все как настоящее?
— Было бы куда более странно, если бы это было не так, — сухо отозвалась Марилла. Теперь, когда все страхи были позади, она опять стала сама собой.
— Ну конечно, но все-таки удивительно, что у младенца есть все, что положено взрослым. Смотри, даже ноготки! А ручки… нет, ты только посмотри на его ручки, Марилла!
— Ручки как ручки, — отозвалась та.
— Посмотри, как он держится за мой палец. Он уже знает, что я — его мама. Он плачет, когда няня его уносит. Марилла, неужели у него правда будут рыжие волосы? Ты ведь в это не веришь?
— Пока я у него вообще никаких волос не вижу. На твоем месте я бы подождала волноваться по этому поводу. Пусть он сначала отрастит немного волос.
— Но у него есть волосы, Марилла! Посмотри на этот пушок! Во всяком случае, акушерка сказала, что глаза у него будут карие, а лоб в точности, как у Джильберта.
— И у него очаровательные ушки, миссис доктор, голубушка, — вставила Сьюзен. — Я первым дело поглядела на его уши. Волосы могут изменить цвет, да и глаза тоже, но уши останутся такими, как есть, на всю жизнь. Посмотрите, какие они красивые и как прижаты к головке. Чего-чего, а ушей его вам не придется стыдиться, миссис доктор, голубушка.
Энн очень быстро оправилась от родов. Ее переполняло счастье. Соседи приходили полюбоваться на новорожденного. Лесли, которая постепенно привыкала к своей новой жизни, часами стояла у его колыбели, как златокудрая мадонна. Мисс Корнелия пеленала и баюкала его не хуже любой матери. Капитан Джим брал крохотное существо в свои большие загорелые руки и глядел на него с такой нежностью, словно видел перед собой детей, в которых ему отказала судьба.
— Как вы его назовете? — спросила мисс Корнелия.
— Энн уже решила, как его назвать, — ответил Джильберт.
— Джеймс-Мэтью — в честь двух самых замечательных людей, которых я знала. — Энн бросила на Джильберта веселый вызывающий взгляд. Джильберт улыбнулся.
— Я плохо знал Мэтью: он был такой застенчивый, что нам, мальчишкам, с ним было трудно познакомиться. Но я вполне согласен, что капитан Джим один из самых замечательных людей на свете. И как он счастлив, что мы назвали сына в его честь. Можно подумать, что во всем мире больше никого не зовут Джеймс.
— Что ж, Джеймс — хорошее имя, прочное и не линючее, — признала мисс Корнелия. — Я рада, что вы не выдумали ему какое-нибудь заковыристое романтическое имя, которого он будет стыдиться, когда станет дедушкой. Вот, например, миссис Друк из Глена назвала своего ребенка Берти-Шекспир. Неплохое сочетание, а? И я рада, что вы недолго раздумывали, как его назвать. В некоторых семьях начинаются бесконечные споры. Когда у Стэнли Флэгса родился первенец, родственники так долго препирались, в честь кого его назвать, что бедный мальчик два года жил вообще без имени. Потом у него родился брат, и их стали звать Большой Бэби и Маленький Бэби. В конце концов, они назвали Большого Бэби Питером, а Маленького — Исааком, в честь двух дедов, и окрестили их одновременно. Как же эти младенцы старались переорать друг друга в купели! А вы знаете семью Макнабов в Глене? У них двенадцать сыновей, и самого старшего и самого младшего зовут одинаково — Нейл: Большой Нейл и Маленький Нейл. Видно, у них воображение иссякло.
— Я где-то читала, — сказала Энн, — что первый ребенок — это поэма, а десятый — скучная проза. Может быть, миссис Макнаб решила, что двенадцатый — это просто старая сказка?
— Но все-таки иметь большую семью не так уж плохо, — вздохнула мисс Корнелия. — Я восемь лет была единственным ребенком, и мне очень хотелось, чтобы у меня были братишка и сестренка. Мама сказала, что надо молиться, и я молилась изо всех сил. Потом приходит тетя Нелли и говорит: «Корнелия, иди к маме в спальню, посмотри на своего маленького братца». Я в восторге помчалась наверх, и старуха Флэгг достала из зыбки ребенка и показала его мне. Вы себе не представляете, Энн, милочка, какое это было жестокое разочарование. Я-то молилась, чтобы у меня появился брат на два года меня старше!
— И как скоро вы пережили свое разочарование? — со смехом спросила Энн.
— Увы, не скоро. Я долго злилась на Господа Бога и даже не хотела смотреть на братика. Никто не мог понять, что это со мной — я ведь никому ничего не сказала. А потом мальчик подрос, стал такой милашка и все тянул ко мне ручки — и я понемногу к нему привязалась. Но по-настоящему я не смирилась с этим ударом судьбы, пока ко мне не пришла школьная подруга и не заявила, что для своего возраста он слишком маленький. Я жутко взбесилась, сказала ей, что она ничего не понимает в детях, если не видит, какой у нас чудный ребенок — лучше просто не бывает. И после этого я его страшно полюбила. Мама умерла, когда ему еще не было трех лет, и я была для него и сестрой и матерью. Бедняжка не отличался крепким здоровьем и умер в двадцать лет. Как же я его оплакивала! Казалось, все бы отдала, только бы он жил, — и мисс Корнелия снова вздохнула.
Джильберт пошел вниз к себе, а Лесли, которая сидела с маленьким Джеймсом-Мэтью на руках у окна и напевала ему колыбельную, уложила его в кроватку и тоже ушла. Как только она вышла, мисс Корнелия наклонилась к Энн и проговорила заговорщицким шепотом:
— Энн, милочка, я вчера получила письмо от Оуэна Форда из Ванкувера. Он спрашивает, не сдам ли я ему комнату. Он хочет сюда приехать через месяц. Вам понятно, что это значит? Надеюсь, что мы все сделали правильно.
— Мы тут ни при чем — если уж он решился сюда приехать, ему никто не смог бы помешать, — возразила Энн, которой было неприятно выступать в роли свахи. Но потом она не выдержала: — Только не говорите пока ничего Лесли. Как бы она не сбежала. Она и так собирается осенью в Монреаль поступать в школу медсестер. Говорит, что ей надо как-то распорядиться своей жизнью.
— Ну, посмотрим, — улыбнулась мисс Корнелия. — Может, жизнь распорядится по-другому. Мы с вами свое дело сделали. А дальнейшее в руках Всевышнего.
Глава тридцать пятая ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ В БУХТЕ ЧЕТЫРЕХ ВЕТРОВ
Когда Энн совершенно оправилась и вернулась к обычной жизни, она обнаружила, что весь остров, так же как и вся Канада, охвачен предвыборной лихорадкой.
— Радуйтесь, милочка, что мы не живем по ту сторону бухты, — сказала ей мисс Корнелия. — Там кипят такие страсти: все Эллиотты, Крофорды и Макалистеры чуть не в драку лезут за своих либералов. У нас тут с вами еще тихо — потому что мужчин мало. Капитан Джим — грит, но, по-моему, этого немного стыдится, потому что никогда не говорит о политике. А победят, конечно, опять консерваторы.
Но мисс Корнелия ошиблась в своих предсказаниях. На следующее утро после выборов капитан Джим явился к Энн с потрясающей новостью. Микроб политических страстей, видно, заразил и старого моряка: щеки его пылали, глаза горели боевым огнем.
— Миссис Блайт, либералы завоевали большинство в парламенте! Я хоть всегда стоял за либералов, считал себя умеренным, но когда сегодня утром узнал, что мы победили, то понял, что я-таки настоящий грит.
— Но вы же знаете, что мы с мужем — сторонники консерваторов.
— Знаю, и это единственное, что я против вас имею, миссис Блайт. Мисс Корнелия — тоже тори. Я к ней зашел по пути к вам, чтобы сообщить о нашей победе.
— Вы же рисковали жизнью, капитан Джим!
— Да, но соблазн был слишком велик.
— Ну и как она это восприняла?
— Довольно спокойно. Только сказала: «Что ж, Господь волен насылать бедствия что на человека, что на страну. Вы, гриты, голодали и холодали много лет. Спешите согреться и наесться, времени у вас немного». А я ей говорю: «А вдруг Господь решил, что на Канаду пора наслать длительное бедствие, Корнелия?»
Через неделю Энн решила сходить на маяк узнать, нет ли у капитана Бойда свежей рыбы. В первый раз она решилась оставить маленького Джима на попечение Сьюзен. Далось ей это нелегко. А что, если он расплачется, а Сьюзен не сумеет его успокоить?
— Не волнуйтесь, миссис доктор, — заверила ее Сьюзен, — я с ним занималась не меньше вас.
— С ним — да. Но у вас нет опыта ухода за другими детьми. А я вырастила три пары близнецов, когда сама еще была ребенком. Если они принимались плакать, я преспокойно давала им леденцы или касторку. Сейчас мне даже странно вспомнить, как хладнокровно я воспринимала этих детей и их слезы.
— Если маленький Джим расплачется, я положу ему на животик грелку, — сказала Сьюзен.
Наконец Энн оторвалась от малыша и ушла. Прогулка по берегу, освещенному косыми лучами заходящего солнца, доставила ей большое удовольствие. Однако капитана Джима в гостиной не оказалось. Там сидел какой-то незнакомый Энн красивый пожилой человек, который заговорил с ней тоном старого знакомого. Он не сказал ничего такого, против чего она могла бы возразить, но Энн возмутила фамильярность этого незнакомца. Она отвечала ему односложно и ледяным тоном. Но это, казалось, совсем не смущало незнакомца. Он поговорил с ней несколько минут, потом извинился и ушел. Энн заметила у него в глазах смешинку, и это рассердило ее еще больше. Кто это? В этом человеке было что-то знакомое, но Энн была уверена, что никогда в жизни его не видела.
Тут в комнату вошел капитан Джим.
— Капитан Джим, кто это был?
— Маршалл Эллиотт, — ответил капитан Джим.
— Маршалл Эллиотт! — воскликнула Энн. — Не может быть! Хотя да, это был его голос. Господи, а я его не узнала и разговаривала с ним оскорбительным тоном. Но почему он мне не сказал, кто он? Он же видел, что я его не узнаю.
— Это он нарочно. Ему, наверно, было очень весело глядеть на вашу сердитую физиономию. Не волнуйтесь — он не обиделся. Да, Маршалл наконец остриг волосы и сбрил бороду. Вы же знаете, что его партия пришла к власти. Я сам его не узнал, когда в первый раз увидел без гривы. В ночь после выборов он вместе с другими «гритами» ждал результатов в магазине Картера Флэгга. Около полуночи по телефону сообщили о победе либералов. Маршалл молча встал и вышел, оставив других орать и веселиться — ну уж и потешились же они — только что крышу у магазина не снесли. А тори, конечно, собрались в магазине Реймонда Рассела. Ну, им-то веселиться причин не было. Маршалл же пошел прямо к парикмахерской Огастуса Палмера и стал стучать в дверь. Огастус уже спал, но Маршалл барабанил в дверь, пока тот не проснулся и не спустился вниз узнать, кто это ломится в дом. «Пошли в салон — тебе предстоит замечательная работа, — сказал ему Маршалл. — Либералы пришли к власти, и тебе предстоит остричь и обрить доброго грита». Огастус так и затрясся от злобы — отчасти оттого, что его вытащили из постели, но главным образом оттого, что сам он тори. Он заявил, что в двенадцать часов ночи он никого стричь не будет. «Будешь, сынок, — сказал ему Маршалл, — а то я положу тебя к себе на колени и выдам все те шлепки, которые ты недополучил от своей матушки». Он бы так и сделал — и Огастус это знал. Маршалл силен как бык, а Огастус — этакий шибздик. Так что он сдался, пошел с Маршаллом в салон и принялся за работу. «Ладно, — говорит, — я тебя побрею, но если ты, пока я тебя буду брить, хоть слово скажешь о победе гритов, я тебе этой самой бритвой перережу горло». Ну кто бы ожидал от крошки Огастуса такой кровожадности? Вот что политика делает с людьми. Так что Маршалл помалкивал, пока ему брили бороду и стригли волосы, а потом отправился домой. Услышав, что кто-то поднимается по лестнице, его старая экономка приоткрыла дверь посмотреть, Маршалл это или их батрак. И когда увидела незнакомого человека со свечой в руках, она дико завопила и упала в обморок. Пришлось посылать за доктором. Да она и сейчас еще вздрагивает при виде Маршалла.
Рыбы у капитана Джима не оказалось. В это лето он редко ездил рыбачить, а больше сидел у окна, выходящего на бухту, и смотрел вдаль, подперев рукой белую голову. Вот и в этот вечер он несколько минут сидел молча, глядя в окно, потом сказал Энн, кивнув на лиловеющее западное небо:
— Правда, красиво, миссис Блайт? А если бы вы видели сегодня утром восход! Такая красота — просто чудо! Человек не волен выбрать час, когда ему уйти в последнее плавание — приходится ждать команды Главного Капитана. Но если бы у меня был выбор, я хотел бы умереть на восходе солнца… Так или иначе, я надеюсь, что умру легко и быстро. Я не трус, миссис Блайт, мне много раз приходилось смотреть смерти в глаза. Но когда я думаю о затяжной болезни, беспомощности, страданиях, у меня сердце холодеет от ужаса.
— Не говорите о смерти, дорогой капитан Джим, — взмолилась Энн, гладя загорелую руку, которая когда-то была такой сильной, а сейчас совсем ослабела. — Что мы без вас будем делать?
Капитан Джим ласково ей улыбнулся:
— Обойдетесь вы без меня, и все у вас будет хорошо. Но вы ведь не забудете старика, миссис Блайт? Думаю, что не забудете… А о смерти я заговорил потому, что хочу попросить вас об одном одолжении. Речь идет о моем Старпоме… — Капитан Джим протянул руку и погладил теплый оранжевый клубок, лежавший на диване. Старпом пружинисто развернулся, издал довольный горловой звук — нечто среднее между мяуканьем и мурлыканьем, — вытянул лапы, перевернулся на другой бок и опять свернулся клубком. — Вот
онбудет по мне скучать. Мне не хочется бросать его на произвол судьбы, чтобы он опять голодал, как раньше. Пообещайте мне, миссис Блайт, что приютите Старпома, когда меня не станет.
— Ну конечно!
— Тогда мне больше не о чем волноваться. Безделушки, которые я собрал в плаваньях, я оставляю вашему маленькому Джиму. Только я не хочу видеть слезы в ваших прекрасных глазах, миссис Блайт. Не надо расстраиваться. Может, я еще поживу на этом свете.
Глава тридцать шестая КРАСОТА РОЖДАЕТСЯ ИЗ ПЕПЛА
— Что пишут из Грингейбла, Энн? — Ничего особенного, — ответила Энн, складывая письмо Мариллы. — Джейк Доннелл перекрыл им крышу. Он теперь уже настоящий плотник — все-таки выбрал ту профессию, которую хотел. Помнишь, его мать мечтала, чтобы он стал профессором колледжа? Никогда не забуду, как она пришла ко мне в школу и сделала мне выговор за то, что я не называю его Сент-Клером. — А его сейчас хоть кто-нибудь так зовет? — По-моему, нет. Он сумел заставить всех забыть это имя. Даже его мать сдалась. Я была уверена, что мальчик с таким упрямым подбородком, как у Джейка, сумеет настоять на своем. Диана пишет, что у Доры появился воздыхатель. Подумать только — она же совсем ребенок! — Доре семнадцать лет. Когда нам было семнадцать, мы с Чарли Слоуном были влюблены в тебя по уши. — Ох, Джильберт, видно, мы стареем, если девочка, которой было шесть лет, когда мы считали себя взрослыми, уже обзавелась поклонником. За Дорой ухаживает Ральф Эндрюс — брат Джейн. Я его помню этаким толстеньким карапузом с белесыми волосиками, который был меньше всех в классе. А теперь он, оказывается, высокий и весьма презентабельный молодой человек. — Дора, наверно, рано выйдет замуж. Она из той же породы, что и Шарлотта Четвертая — ухватится за первого же, кто сделает ей предложение, опасаясь, что вдруг второго не будет. — Надеюсь, что Ральф окажется смелее своего брата Билли. — И что у него хватит мужества лично сделать ей предложение, — засмеялся Джильберт. — А скажи, Энн, если бы Билли сделал тебе предложение сам, а не через Джейн, ты бы вышла за него замуж? — Кто знает, может, и вышла бы, — расхохоталась Энн, вспомнив первое в своей жизни предложение. — В шоковом состоянии. Слава Богу, что он сделал это через доверенное лицо. — А я вчера получила письмо от Джорджа Мора, — проговорила Лесли с дивана, где она читала книжку. — Ну и как его дела? — спросила Энн, испытывая одновременно и интерес к судьбе знакомого человека, и какое-то странное чувство, спрашивая о человеке, которого совершенно не знает. — Он здоров, но ему нелегко приспособиться ко всем переменам, которые произошли у него дома и с его друзьями. Следующей весной он собирается уйти в плаванье. Он пишет, что море у него в крови и он только о нем и мечтает. Но есть в письме одна радостная новость. Когда он уплыл на «Четырех сестрах», он был обручен с девушкой у себя в деревне. В Монреале он мне о ней ничего не говорил, потому что считал, что она его давно забыла и вышла замуж за другого. А для него, сами понимаете, любовь и обручение казались делом совсем недавнего прошлого. И представьте: когда он вернулся домой, оказалось, что она не вышла замуж и все еще его любит. Осенью они поженятся. Я собираюсь пригласить их в гости. Он пишет, что хочет посмотреть на дом, в котором, не сознавая этого, прожил столько лет. — Как приятно слышать, что ему так повезло, — сказала неизменно романтичная Энн. — И подумать только, — покаянно добавила она, — что если бы мне удалось настоять на своем, Джордж Мор никогда бы не восстал из могилы, в которой была похоронена его личность. Как же я сражалась с Джильбертом! Но я за это сурово наказана: теперь я совсем не смею с ним спорить. Стоит ему напомнить мне о Джордже Море, и я замолкаю. — Как же, заставишь женщину замолчать! — насмешливо сказал Джильберт. — Да я и не хочу, чтобы ты превратилась в мое эхо, Энн. Жизнь станет слишком пресной. Мне не нужна такая жена, как у Джона Макалистера, которая, что бы он ни сказал, покорно говорит своим скучным голосом: «Ты совершенно прав, дорогой». Энн и Лесли рассмеялись. Но тут вошла Сьюзен и издала необыкновенно глубокий и скорбный вздох. — Что случилось, Сьюзен? — спросил Джильберт. — Сьюзен, что-нибудь с малышом? — в панике подскочила Энн. — Нет-нет, успокойтесь, миссис доктор, голубушка. Но кое-что действительно случилось. Такая у меня была неудачная неделя — все шло кувырком. Испортила хлеб, сожгла лучшую манишку доктора, разбила большое блюдо. А теперь вдобавок ко всему мне сообщили, что моя сестра Матильда сломала ногу и хочет, чтобы я приехала и пожила с ней. — Как жалко — то есть как жалко, что с вашей сестрой случилось такое несчастье Воскликнула Энн. — Что делать, миссис доктор, голубушка, наша жизнь — юдоль скорби. Но я просто не понимаю, что это нашло на Матильду. У нас в семье никто сроду не ломал ног. Как бы то ни было, она все же моя сестра, и раз ее постигло несчастье, я должна за ней ухаживать. Вы сможете обойтись без меня несколько недель? — Ну конечно, Сьюзен! Я найму на это время кого-нибудь другого. — Если вы никого не найдете, я не поеду. Бог с ней, с Матильдой и ее ногой. Никакие ноги не стоят того, чтобы вы волновались, а наш дорогой малыш плакал. — Нет-нет, Сьюзен, вы должны немедленно ехать к своей сестре. Я найду девушку в рыбацкой деревне. Перебьемся как-нибудь несколько недель. — Энн, а можно, я на это время перееду к тебе? — попросила Лесли. — Мне так хочется! Ты просто сделаешь мне одолжение, если согласишься. Мне так одиноко в моем огромном пустом доме! Делать там совсем нечего, а по ночам не только одиноко, но и страшно, хотя я запираюсь на все засовы. Два дня тому назад в окрестностях видели бродягу. Энн с восторгом согласилась, и на следующий день Лесли вселилась в ее дом. Мисс Корнелия заявила, что это не иначе как промысл Божий. — Мне, конечно, жаль Матильду, — сказала она Энн, когда они остались одни, — но раз уж ей суждено было сломать ногу, то лучшего времени она выбрать не могла. Когда ко мне приедет Оуэн Форд, Лесли будет жить у вас, и у этих старых сплетниц из Глена не будет повода трепать языками. А если бы она жила одна и Оуэн ее навещал, они такого наплели бы! И так уж злобствуют: почему, дескать, Лесли не носит траур? Я тут одной сказала: «А по ком ей носить траур? Если по Джорджу Мору, то он не умер, а скорее воскрес; а если по Дику Мору, то я не вижу смысла надевать траур по человеку, который умер тринадцать лет тому назад. И слава Богу, что умер — кроме горя Лесли от него ничего не видела!» А тут еще Луиза Болдуин: как это Лесли не поняла, что живет вовсе не со своим мужем? Ну, я ее хорошенько отчитала. «А ты, говорю, поняла? Ты жила с Диком бок о бок всю жизнь, да и подозрительности в тебе в десять раз больше, чем в Лесли». Но разве сплетникам заткнешь рты? Так что все получилось наилучшим образом. Оуэн появился у Блайтов в августовский вечер, когда Лесли и Энн играли с маленьким Джимом. Писатель остановился в дверях, не замеченный двумя женщинами, и жадно глядел на открывшуюся ему очаровательную картину. Лесли сидела на полу, держа малыша на коленях, и с восторгом ловила его пухлые ручонки и целовала их. — Ох ты, моя обожаемая крошка, — проговорила она. — Ну, плавда, холосенький лебеноцек, — ворковала Энн, перевешиваясь через подлокотник кресла. — Какие плелестные лапочки — так и хочеца их скусить. Таких пальциков нет ни у кого в целом свете, ах ты мое сокловисе. Во время беременности Энн серьезно изучала научные труды о том, как надо воспитывать детей, и прониклась доверием к книге «Сэр Оракл об уходе за младенцами и их воспитании». Сэр Оракл умолял родителей никогда не сюсюкать со своими детьми. С малышами с момента их рождения надо говорить на правильном английском языке. «Как может ребенок научиться говорить правильно, — вопрошал сэр Оракл, — если мать приучает его восприимчивый мозг к глупейшим искажениям нашего благородного языка? Как может ребенок, которого каждый день называют «моя ласплекласная клоска», достичь понимания своей личности, возможностей и судьбы?» Сэр Оракл убедил Энн, и она сообщила Джильберту, что никогда и ни при каких обстоятельствах не будет сюсюкать со своими детьми. Джильберт с ней согласился, и они заключили по этому вопросу договор, который Энн бессовестно нарушила, как только маленький Джим оказался у нее на руках: «Ах ты моя обозаемая клосечка!» И продолжала нарушать впредь. На поддразнивания Джильберта она отвечала тоном, исполненным бесконечного презрения к сэру Ораклу: — У него просто никогда не было собственных детей, Джильберт. Я в этом убеждена, а то он не написал бы такого вздора. Мать просто не может не сюсюкать над младенцем, и так оно и должно быть. Надо не иметь в себе ничего человеческого, чтобы разговаривать с этими крошечными пухленькими существами так же, как мы разговариваем с подросшими детьми. Младенцам необходимо, чтобы их любили, чтобы их тискали и над ними сюсюкали, и у нашего малыша все это будет, хлани Господь его длагоценное селдецко. — Но ты перегибаешь палку, Энн, — возразил Джильберт, который, будучи всего лишь отцом, еще не полностью уверился в неправоте сэра Оракла. — Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь разговаривал с ребенком так, как это делаешь ты. — Ну и пусть не слышал. Иди-ка ты по своим делам, Джильберт. Не я ли вырастила три пары двойняшек, когда сама была ребенком? А вы с сэром Ораклом — просто бездушные теоретики. Нет, ты посмотри на него, Джильберт! Он мне улыбается! Он знает, о чем мы говорим. И он совелсенно согласен с мамочкой, плавда, мой обозаемый птенчик? И маленького Джима любили и тискали, и над ним сюсюкали, и все это шло ему только на пользу. Лесли обожала его не меньше Энн. Когда все дела в доме были переделаны, а Джильберта не было поблизости, они устраивали над ребенком прямо-таки оргии поклонения. За одной из них их и застал Оуэн Форд. Первой его увидела Лесли. В вечернем полумраке Энн заметила, как побледнело ее красивое лицо, даже губы стали белыми. Оуэн ринулся к ней, протягивая руки, не замечая Энн. — Лесли, — впервые он называл ее по имени, а не миссис Мор. Но рука, которую подала ему Лесли, была холодна как лед. Весь вечер Лесли почти не участвовала в разговоре, хотя Энн, Джильберт и Оуэн не умолкали ни на минуту. Еще до ухода гостя она извинилась и ушла к себе в комнату. Оуэн сразу поскучнел и вскоре тоже ушел. Джильберт посмотрел на Энн. — Что ты затеяла, Энн? Что-то происходит, чего я не понимаю. Весь вечер в доме была напряженная атмосфера. Лесли сидит, как воплощение трагедии, Оуэн шутит и смеется, а сам не спускает глаз с Лесли, ты в каком-то возбуждении. Признавайся — что ты скрываешь от своего обманутого мужа? — Что за чушь ты несешь, Джильберт! — ответила Энн. — Но Лесли вела себя нелепо. Вот я сейчас поднимусь и поговорю с ней. Миссис Мор сидела, сцепив руки, у открытого окна, отчего комнату заполнил рокот прибоя. Увидев Энн, она устремила на нее негодующий взгляд. — Энн, — миссис Мор укоризненно покачала головой, — ты знала, что сюда должен приехать Оуэн Форд? — Знала, — вызывающе ответила Энн. — Но почему же ты меня не предупредила?! — страстно вскричала Лесли. — Я бы уехала, я не стала бы его здесь дожидаться. Ты должна была мне сказать. Как тебе не стыдно, Энн! Губы Лесли дрожали. Но Энн бессердечно рассмеялась. Потом наклонилась и поцеловала искаженное гневом лицо. — Лесли, ты просто глупышка. Ты что, считаешь, что Оуэн Форд примчалася с тихоокеанского побережья на атлантическое для того, чтобы повидать меня? Или он проникся страстным чувством к мисс Корнелии? Сними с себя свою трагическую маску, дорогая моя подруга, спрячь ее куда-нибудь подальше, больше она тебе не понадобится. Я не ведунья, но могу предсказать, что горькая полоса в твоей жизни кончилась и тебя ждут радости и надежды — но, наверно, также и огорчения — счастливой женщины. Помнишь то знамение — тень Венеры? Вот что оно предвещало, Лесли. Этот год принес тебе великий дар — любовь к Оуэну Форду. А теперь ложись в постель и как следует выспись.  Лесли выполнила первое приказание Энн — легла в постель, но спала она в эту ночь мало. Вряд ли она осмеливалась мечтать — ведь жизнь так жестоко до сих пор с ней обходилась, ей пришлось пройти столь тяжкий путь, что она не осмеливалась шепнуть о своих надеждах даже собственному сердцу. Но Лесли смотрела на огонь маяка, рассекавшего короткую летнюю ночь, и ее глаза постепенно смягчились. И когда Оуэн на следующий день предложил ей погулять по берегу, она без возражений пошла с ним.
Глава тридцать седьмая МИСС КОРНЕЛИЯ УДИВЛЯЕТ ВСЕХ
Сонным летним днем, когда море было выцветшего бледно-голубого цвета, что характерно для жаркого августа, а чашечки тигровых лилий в саду Энн наполнились расплавленным золотом, в дом Энн вплыла мисс Корнелия. Впрочем, ее меньше всего интересовали голубое море и жадно пьющие солнце лилии. Она села на свое обычное место — в кресло-качалку — и, к удивлению Энн, не достала ни шитья, ни вязанья. И в разговоре не отзывалась пренебрежительно о мужской половине рода человеческого. Ее высказывания были лишены обычной остроты, и Джильберт, который при ее появлении отменил рыбалку и остался дома, почувствовал себя обманутым. Что это случилось с мисс Корнелией? Она не казалась озабоченной или огорченной. Наоборот, в ней ощущался какой-то нервный подъем.
— А где Лесли? — спросила она, но это, казалось, не интересовало ее.
— Они с Оуэном пошли в лес за малиной, — ответила Энн. — Вернутся, наверно, только к ужину, а может, и позже.
— Они вообще, кажется, забыли о времени, — заметил Джильберт. — Я ничего не могу понять в этой истории. У меня такое ощущение, что вы обе тут сманипулировали. Но моя непослушная жена не хочет ни в чем признаваться. Может, вы скажете, мисс Корнелия?
— Нет. Но зато скажу другое, — заявила мисс Корнелия с видом человека, решившегося броситься в холодную воду. — Я за этим к вам сегодня и пришла. Я выхожу замуж.
Энн и Джильберт молчали. Если бы мисс Корнелия сообщила, что собирается пойти и утопиться в бухте, поверить в это было бы легче. Наверно, они не так ее поняли.
— Я гляжу, вы оба ошалели, — усмехнулась мисс Корнелия. Выговорив, наконец, роковые слова, она опять стала сама собой. — Уж не считаете ли вы, что я слишком молода и неопытна для брака?
— Знаете, вы нас действительно огорошили, — проговорил Джильберт, пытаясь собраться с мыслями. — Не вы ли твердили, что не пошли бы замуж и за самого лучшего мужчину на свете?
— Я и не собираюсь выйти за самого лучшего мужчину на свете. Маршаллу Эллиотту до самого лучшего тянуть не дотянуть.
— Так вы выходите за Маршалла Эллиотта? — воскликнула Энн, которой второе известие вернуло дар речи.
— Да. Я могла бы выйти за него давным-давно — стоило только поманить его пальцем. Но чтобы я согласилась встать перед алтарем с этой ходячей копной сена — дудки!
— Мы очень за вас рады и желаем вам счастья. — Энн растерялась, она не была готова к подобному обороту дела. Ей и не снилось, что она когда-нибудь будет поздравлять мисс Корнелию с помолвкой.
— Спасибо. Я знала, что вы за меня порадуетесь, — поблагодарила мисс Корнелия. — Поэтому я и сообщила вам первым.
— Только нам жаль терять добрую соседку, дорогая мисс Корнелия. — До Энн постепенно доходил смысл сказанного, и ее охватило чувство сентиментальной грусти.
— Да вы меня и не потеряете, — безо всякого намека на сентиментальность заявила мисс Корнелия. — Неужели вы думаете, что я соглашусь жить в одной деревне со всеми этими Макалистерами, Эллиоттами и Крофордами? Боже меня упаси! Маршалл поселится у меня в доме. Мне надоело возиться с батраками. А уж Джим Хейстингс, который у меня сейчас, хуже всех прочих. Только чтобы от него избавиться, стоит выйти замуж. Вчера опрокинул маслобойку и разлил сметану по всему двору. И думаете, хоть чуточку смутился? Как же! Глупо заржал и сказал, что сметана — отличное удобрение. Одно слово — мужчина! Мне не хватало двор еще сметаной удобрять!
— Я тоже от всей души желаю вам счастья, — серьезно проговорил Джильберт. — Вот только, — добавил он, не удержавшись от соблазна поддразнить мисс Корнелию, — боюсь, что вашей независимости пришел конец. Маршалл Эллиотт — кремень человек.
— Мне и нравятся люди, которые, если уж что решат, то стоят на своем, — ответила мисс Корнелия. — Не то что Амос Грант, который когда-то за мной ухаживал. Не человек был, а флюгер. Прыгнул однажды в пруд, чтобы утопиться, а потом передумал и выплыл. Одно слово — мужчина! Маршалл бы обязательно утопился.
— И характер у него, говорят, вспыльчивый, — упорствовал Джильберт.
— У всех Эллиоттов вспыльчивый характер. И очень хорошо! Вот будет весело его доводить. И потом, вспыльчивый человек быстро отходит, и тогда из него хоть веревки вей. А человек, который никогда не злится, только выводил бы меня из себя.
— Но он же стоит за либералов, мисс Корнелия!
— Это верно, — с некоторой грустью признала та. — И консерватора из него не сделаешь. Но, во всяком случае, он пресвитерианин. Придется этим удовольствоваться.
— А если бы он был методистом — тогда вы пошли бы за него замуж?
— Нет. Политика — дело земное, а религия — и земное, и небесное.
— Когда же будет свадьба? — спросила Энн.
— Примерно через месяц. Я буду венчаться в темно-синем шелковом платье. И я хотела вас спросить, Энн: как вы думаете, можно к темно-синему платью надеть фату? Мне всегда хотелось венчаться в фате. Маршалл говорит: какая разница — поступай как знаешь. Одно слово — мужчина!
— Ну и почему вам не надеть фату, если хочется? — спросила Энн.
— И на что же это будет похоже? — воскликнула мисс Корнелия. — Фату мне, конечно, хочется. Но, может, ее надевают только с белым платьем? Пожалуйста, Энн, милочка, скажите, что вы на самом деле об этом думаете. Я сделаю так, как вы посоветуете.
— Мне тоже кажется, что фату надевают только с белым платьем, — призналась Энн. — Но это все условности. Я согласна с мистером Эллиоттом: если вам хочется фату, то и наденьте.
Но мисс Корнелия, которая преспокойно ходила в гости в ситцевом платье и фартуке, покачала головой.
— Нет уж, раз не положено, то не надену, — сказала она, сожалея о несбывшейся мечте.
— Раз уж вы решили выйти замуж, мисс Корнелия, — серьезным тоном заметил Джильберт, — хотите замечательный совет, как держать мужа в руках? Этот совет моя бабушка дала моей матери, когда она выходила за отца.
— Я думаю, что и так сумею держать Маршалла Эллиотта в руках, — безмятежно проговорила мисс Корнелия. — Впрочем, могу послушать и твой совет.
— Он состоит из трех правил. Первое: мужа надо поймать.
— Он пойман. Дальше.
— Второе: мужа надо хорошо кормить.
— Буду печь ему пироги. Дальше.
— И третье: с мужа нельзя спускать глаз.
— Вот это верно! — с чувством произнесла мисс Корнелия.
Глава тридцать восьмая КРАСНЫЕ РОЗЫ
В августе у Энн зацвели поздние красные розы, и над ними непрерывно жужжали пчелы. Обитатели дома много времени проводили в саду, ужиная на зеленой полянке у ручья, расставив блюда на скатерти, разостланной на траве, и засиживались до тех пор, пока в бархатном сумраке не начинали летать огромные ночные бабочки. Как-то вечером Оуэн застал здесь Лесли одну. Энн с Джильбертом не было дома, а Сьюзен, возвращения которой ждали в тот день, еще не приехала. Над верхушками елей янтарно-зеленым цветом светилась северная часть неба. Было довольно прохладно — уже приближался сентябрь, и Лесли, одетая в белое платье, замотала шею красной косынкой. Они с Оуэном пошли побродить по тихим, благоухающим розами тропинкам сада. Отпуск Оуэна заканчивался, и ему надо было скоро уезжать. Сердце Лесли бешено колотилось, так как она знала, что сейчас он произнесет долгожданные слова, которые навсегда скрепят их любовь. — По вечерам по этому саду иногда разливается чудный, почти призрачный аромат, — сказал Оуэн. — Я так и не смог выяснить, какой цветок так прелестно пахнет. Запах почти неуловимый, но запоминающийся. Мне нравится думать, что это душа бабушки Селвин приходит навестить свой любимый сад. В этом домике, наверно, обитает множество дружественных призраков. — Я прожила под его крышей только месяц, но уже люблю его, как никогда не любила тот дом, в котором прожила всю жизнь. — Этот дом был построен и освящен любовью, — промолвил Оуэн. — И живущие в нем не могут не подпадать под его влияние. Этому саду шестьдесят лет, и в его цветах записана история тысячи радостей и надежд. Некоторые кусты были посажены самой бабушкой. Ее уже тридцать лет как нет на свете, а розы цветут каждое лето. Ты только посмотри на них, Лесли, какие они роскошные! Роза — это королева цветов. — Я очень люблю красные розы, — ответила Лесли. — Энн предпочитает розовые, а Джильберт — белые. Но мне больше по душе красные. Они отвечают моему эмоциональному настрою. — Эти розы цветут позже других, и в них — все тепло, вся душа лета. — Оуэн сорвал пару полураспустившихся бутонов. — Уже много веков поэты воспевают розу как цветок любви. Розовая роза — это любовь, которая только ждет и надеется, белая роза — это любовь ушедшая и покинутая, а красная роза — как по-твоему, Лесли, что такое красная роза? — Любовь торжествующая, — тихо ответила Лесли. — Да, любовь торжествующая, любовь бесконечно прекрасная. Лесли, ты же знаешь… я полюбил тебя с первой встречи. И я знаю, что ты меня тоже любишь — мне незачем тебя спрашивать о этом. Но я хочу услышать это из твоих уст, моя дорогая, моя любимая… Лесли произнесла слова любви тихим трепетным голосом. Их руки и губы встретились. Это был момент наивысшего счастья в их жизни, посетивший их в старом саду, который пылал алым цветом торжествующей любви. Вскоре вернулись Энн с Джильбертом и привезли с собой капитана Джима. Энн разожгла камин — просто чтобы полюбоваться причудливой игрой пламени, и все они уселись перед ним. — Когда я смотрю на веселый огонь в камине, я почти готов верить, что снова молод, — сказал капитан Джим. — А вы не умеете предсказывать будущее по языкам пламени, капитан Джим? — спросил Оуэн. Капитан окинул их любящим взглядом, потом внимательно вгляделся в сияющие глаза Лесли. — Ваше будущее можно прочитать, и не глядя в огонь, — сказал он. — Я вижу, что все вы будете счастливы — Лесли и мистер Форд, доктор и миссис Блайт, и маленький Джим, и дети, которые еще не родились, но обязательно родятся. Все вы будете счастливы, хотя, конечно, у вас будут заботы и печали. От них не может уберечься ни один дом, будь это лачуга или дворец. Но вы преодолеете их вместе. С таким компасом, как любовь и доверие, можно выдержать любой шторм. Какое-то время все молчали. Потом капитан Джим встал и сказал, положив одну руку на голову Энн, а другую — на голову Лесли: — Вы замечательные женщины, добрые, верные и надежные. Ваши мужья — счастливые люди, а ваши дети будут свято хранить память о вас. Он взял шляпу и долгим взглядом окинул комнату. — А теперь мне пора идти. Доброй вам ночи, — с этими словами старый моряк ушел. Энн, у которой дрогнуло сердце от его необычно торжественного прощания, пошла проводить его до калитки. — До скорого! — весело крикнул он ей. Но капитану Джиму больше не пришлось сиживать у камина в доме Джильберта и Энн. Энн вернулась к друзьям. — Мне так жаль его: пошел один-одинешенек на свою скалу, — сказала она. — И там его никто не ждет. — Да, старику, наверно, часто бывает одиноко, — отозвался Оуэн. — А сегодня он говорил как провидец, — словно ему открылось будущее. Однако мне тоже надо идти. Энн и Джильберт вышли, оставив влюбленных вдвоем. Когда они вернулись, Лесли стояла у камина. — О Лесли, я все поняла и я так за тебя рада, дорогая, — Энн обняла подругу. — Энн, мне просто страшно, что на меня свалилось такое счастье, — прошептала Лесли. — Я не могу в него поверить… я боюсь о нем говорить… даже думать. Мне кажется, что это сон и что он исчезнет, как только я уйду из вашего волшебного дома. — А ты отсюда и не уйдешь, ты останешься со мной до тех пор, пока тебя не заберет Оуэн. Неужели я пущу тебя в дом, связанный с такими печальными воспоминаниями? — Спасибо, дорогая. Я сама хотела тебя об этом попросить. Мне не хочется возвращаться в тот дом — это будет все равно, что вернуться в мою прежнюю унылую, безрадостную жизнь. Какой ты мне была замечательной подругой, Энн! — Помолчав, Лесли продолжала: — Помнишь, Энн, в тот день, когда мы впервые встретились на берегу, я сказала, что ненавижу свою красоту? Я ее тогда действительно ненавидела. Мне казалось, что если бы я была некрасивой, Дик не обратил бы на меня внимания. Я ненавидела свою красоту, потому что она привлекла Дика, но сейчас… сейчас я рада, что красива. Больше мне нечего предложить Оуэну, и его артистическая душа наслаждается моей красотой. По крайней мере я не такая уж бесприданница. — Конечно, Оуэн восхищается твоей красотой, Лесли, мы все ею восхищаемся. Но глупо говорить, что кроме нее тебе нечего ему предложить. Он сам тебе скажет, чем ты его очаровала, я об этом говорить не стану. А теперь пойду запирать двери. Сегодня обещала вернуться Сьюзен, но что-то не приехала. — А вот и приехала, миссис доктор, голубушка, — сказала Сьюзен, появляясь из кухни. — Вернее, не приехала, а пришлепала на своих двоих. А дорога сюда со станции ой-ой-ой! — Как я рада вас видеть, Сьюзен! Ну и как ваша сестра? — Она уже может сидеть, но ходить, конечно, не может. Но я ей больше не нужна — к ней приехала на каникулы дочь. Я тоже очень рада вернуться сюда, миссис доктор, голубушка. Ногу-то Матильда действительно сломала, этого отрицать нельзя, но язык у нее в полном порядке. А она до того любит поговорить — в ушах начинает звенеть. Она всегда была очень разговорчива и все-таки раньше всех сестер вышла замуж. Ей не так уж и хотелось идти за Джеймса Клоу, но и отказать ему она не смогла. Джеймс вообще-то был неплохой человек, но имел ужасную привычку начинать молитву перед едой с душераздирающего стона. У меня от этого весь аппетит пропадал. Кстати, это правда, миссис доктор, голубушка, что Корнелия Брайант выходит замуж за Маршалла Эллиотта? — Да, Сьюзен, совершенная правда. — Ну, тогда это просто несправедливо, миссис доктор, голубушка. Я вот сроду дурного слова о мужчинах не сказала и никак не могу выйти замуж. А Корнелия Брайант всю жизнь поносит их на чем свет стоит — и пожалуйста: стоило ей глазом моргнуть, и муж тут как тут. Все-таки странный это мир, миссис доктор, голубушка! — Но есть же еще и иной мир, Сьюзен. — Да, есть, — с глубоким вздохом отозвалась Сьюзен, — но там уже никто не женится и не выходит замуж.
Глава тридцать девятая КАПИТАН ДЖИМ УХОДИТ В ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАВАНИЕ
Книга Оуэна Форда, наконец, вышла в свет в последних числах сентября. Капитан Джим целый месяц ходил на почту в Глен справиться, не пришла ли ему бандероль. Но в этот день он не пошел, и книги, которые прислал Оуэн, принесла домой Лесли.
— Отнесем ее капитану Джиму сегодня вечером! — сияя от радости, сказала Энн.
Они шли по красной дороге, наслаждаясь тихим теплым вечером. Как только солнце скрылось за западными холмами, вспыхнул яркий свет маяка.
— Капитан Джим всегда точен, — отметила Лесли. Энн и Лесли на всю жизнь запомнили выражение, которое появилось на лице капитана Джима, когда они вручили ему книгу — преображенную до неузнаваемости, но несомненно
егокнигу. Побледневшие за последние недели щеки капитана вспыхнули юношеским румянцем, в глазах загорелся молодой огонь. Но руки, перелистывавшие станицы, старчески дрожали.
Оуэн Форд назвал свой роман «Жизненная книга капитана Джима», и на титульном листе было указано два имени — Оуэна Форда и Джеймса Бойда. Книгу открывала фотография капитана Джима. Он стоял в дверях башни маяка и глядел на море. Оуэн Форд сфотографировал его как-то, пока жил у него и писал роман, и капитан Джим об этом знал, но не думал, что снимок появится в книге.
— Подумать только, — воскликнул старый моряк, — моя фотография на первой странице настоящей, напечатанной в типографии книги! Это самый счастливый день в моей жизни. Как бы мне не лопнуть от гордости, девочки. Нет уж, сегодня ночью я не засну — буду читать свою книгу.
— Ну, тогда мы пойдем, а вы читайте, — сказала Энн.
Капитан Джим держал книгу в руках с каким-то благоговейным восторгом, но при этих словах он решительно закрыл ее и отложил в сторону.
— Нет, не пойдете, пока не выпьете чайку со старым моряком. Мы этого не допустим, правда, Старпом? Никуда книга не денется. Я ждал ее много лет — подожду еще часок-другой.
Капитан Джим поставил чайник на огонь и стал накрывать на стол. В его движениях не было прежней бодрости — казалось, они давались ему с большим трудом. Но Энн и Лесли не вызвались ему помочь. Они знали, что это его обидит.
— Вы пришли в очень удачное время, — сказал капитан Джим, доставая из шкафа кекс. — Мать Джо прислала мне сегодня целую корзину с пирожками и вот этот кекс. Смотрите, какой красивый — с орехами и глазурью! Готовит эта женщина замечательно, дай ей Бог здоровья! Не так уж часто я могу предложить гостям такое угощенье. Ну, девочки, садитесь, попьем чаю «за дружбу старую, за счастье прежних дней».
«Девочки» весело уселись за стол. Чай, как всегда у капитана Джима, был превосходен. Кекс, который испекла мать Джо, так и таял во рту. Капитан Джим усердно потчевал гостей, не позволяя себе даже мимолетного взгляда в сторону столика, на котором в красивом золотисто-зеленом переплете лежала его жизненная книга. Но когда за Энн и Лесли закрылась дверь, они не сомневались, что капитан Джим сразу же сел за книгу, и представляли себе восторг старика, впивавшегося взором в печатные страницы, на которых правдиво и красочно была описана история его жизни.
— Интересно, как ему понравится концовка, которую Оуэн сделал по моему предложению, — заметила Лесли.
Но этого ей не суждено было узнать. На следующее утро Энн разбудил Джильберт, который был уже одет и лицо которого выражало тревогу.
— Тебя позвали к больному? — сонно спросила Энн.
— Нет. Боюсь, на маяке что-то случилось, Энн. Уже час как взошло солнце, а он все еще горит. Ты же знаешь, что капитан Джим считает делом чести включать его на закате и гасить на восходе.
Энн вскочила с постели и выглянула в окно: на фоне голубого утреннего неба мигал побледневший огонек маяка.
— Может быть, он заснул над своей книгой? — предположила она. — Или так увлекся, что забыл про маяк?
Джильберт покачал головой.
— Это на него не похоже. Сейчас я туда съезжу.
— Подожди, я с тобой! — воскликнула Энн. — Малыш проснется не раньше чем через час. Сьюзен мы возьмем с собой: если капитан Джим заболел, тебе понадобится помощь сиделки.
Никто не отозвался на их стук. Джильберт открыл дверь, и они вошли.
В комнате было очень тихо. На столе стояли остатки их вчерашнего небольшого пиршества. На подставке в углу все еще горела лампа. Старпом, свернувшись клубком, спал на залитом солнцем полу возле дивана.
Капитан Джим лежал на диване, держа в руках книгу, открытую на последней странице. Глаза его были закрыты, а на лице запечатлелось выражение покоя и счастья, как у человека, который наконец обрел то, что искал.
— Он спит? — робко спросила Энн. Джильберт подошел к дивану и наклонился над стариком.
— Да, — сказал он, выпрямившись. — Он заснул навеки. Капитан Джим ушел в последнее плаванье, Энн.
Они не знали точно, в котором часу он умер, но Энн верила, что Бог исполнил его желание умереть на рассвете, когда первые солнечные лучи озаряют бухту, и что в этом золотисто-жемчужном сиянии душа капитана Джима отплыла в ту последнюю гавань, где не бывает ни штормов, ни штилей и где его ждет пропавшая Маргарет.
Глава сороковая ПРОЩАЙ, НЕНАГЛЯДНЫЙ ДОМИК!
Капитана Джима похоронили на маленьком кладбище, недалеко от того места, где вечным сном спала крошка Джойс. Его родственники поставили на могиле очень дорогой и безобразный памятник, над которым моряк, будучи живым, вдоволь бы посмеялся. Но настоящий памятник капитану Джиму остался в сердцах тех, кто его знал, и в книге, которую будут читать еще многие поколения. Лесли огорчалась, что капитан Джим так и не узнал, каким успехом пользовалось его детище. — Как бы он радовался рецензиям! Почти все литературные обозреватели хорошо отозвались о его книге. А если бы он еще увидел свою книгу во главе списка бестселлеров, как он был бы горд. Как жаль, что он не пожил еще немного, Энн! Но Энн, которая тоже горевала по капитану, была проницательнее Лесли: — Ему была важна сама книга, а не то, что о ней скажут, Лесли. И тут ему повезло: он держал книгу в руках и прочитал ее от корки до корки. Последняя ночь была, наверно, самой счастливой в его жизни, а утром пришел тот быстрый и безболезненный конец, на который он надеялся. Я рада за Оуэна, что роман пользуется успехом, но я знаю, что капитану Джиму было достаточно того, что его жизненная книга увидела свет. Маяк по-прежнему светил по ночам — на место капитана Джима прислали временного смотрителя. Старпом переселился в беленький домик, где пользовался любовью Энн, Лесли и Джильберта. Даже Сьюзен, которая не любила кошек, соглашалась его терпеть. — Так уж и быть, пусть живет в память о капитане Джиме. Какой же это был замечательный старик! Кормить и поить я кота буду, но большего уж от меня не требуйте, миссис доктор, голубушка. Кошки — они кошки и есть, помяните мои слова, кроме как ловить мышей, они ни на что не пригодны. И пожалуйста, миссис доктор, голубушка, не подпускайте его к нашему малышу. Если я увижу, как этот рыжий зверь подкрадывается к ребенку, я огрею его кочергой! Мистер и миссис Маршалл Эллиотт мирно и счастливо жили в зеленом доме. Лесли шила себе приданое — они с Оуэном собирались пожениться на Рождество. Энн было очень грустно думать, что рядом с ней больше не будет любимой подруги. — Сколько перемен, — вздохнула она. — Только все наладится — и пожалуйста, опять перемены. — В Глене продается дом старого Моргана, — вроде бы безо всякой связи с ее словами произнес Джильберт. — Да? — безразличным тоном осведомилась Энн. — Да. Мистер Морган умер, а миссис Морган хочет переехать к детям в Ванкувер. Она много не запросит — в маленькой деревне трудно найти покупателя на такой большой дом. — Ну, на такой красивый дом покупатель найдется, — рассеянно сказала Энн, мысли которой были заняты новыми «укороченными» рубашечками для маленького Джима. — А может, нам его купить, Энн? — тихо спросил Джильберт. Энн уронила шитье и растерянно воззрилась на мужа. — Ты это всерьез, Джильберт? — Вполне, дорогая. — Уехать из этого райского места, из нашего любимого домика? — сказала Энн, как бы не веря своим ушам. — Что ты, Джильберт, я и подумать об этом не могу! — Выслушай меня, дорогая. Я знаю, как ты любишь этот дом. Я тоже его люблю. Но мы же знали, что когда-нибудь нам придется отсюда уехать. — Но зачем же так скоро, Джильберт? Давай еще поживем тут. — Другого такого шанса нам может не представиться. Если мы не купим дом Морганов, его купит кто-нибудь другой. А другого подходящего для нас дома в Глене нет. И нет хорошего места, где можно было бы построить новый. Этот домик будет всегда для нас дорогим воспоминанием, но ты же понимаешь, что доктор должен жить ближе к своим пациентам. И потом, нам уже сейчас здесь тесно. А через несколько лет Джиму понадобится отдельная комната. — Понимаю, — со слезами на глазах кивнула Энн. — Я все это знаю. Но я так люблю этот домик… здесь так красиво. — Подумай, как тебе будет здесь одиноко, когда уедет Лесли. И капитана Джима больше нет. Дом Морганов тоже очень красивый, и со временем мы его полюбим. Он ведь всегда тебе нравился, Энн. — Да, нравился, но все это так неожиданно, Джильберт. У меня просто голова идет кругом. Десять минут тому назад я думала, какие цветы я высажу в саду весной. А кому достанется этот дом, если мы отсюда уедем? Он действительно стоит на отшибе, и его займет какая-нибудь бедная семья. Они запустят и дом, и сад — и для меня это будет осквернением святыни. У меня сердце просто кровью обливается при мысли об этом. — Знаю, но мы не можем руководствоваться такими соображениями в ущерб нашим собственным интересам, девочка. Дом Морганов нам подходит по всем статьям, и мы не вправе упустить такую возможность. Ты вспомни, какая перед домом великолепная травяная лужайка, окруженная величественными деревьями, а позади него огромная роща — целых двенадцать акров. Как привольно там будет играть нашим детям! И сад там есть. А вид на бухту, который открывается из окон дома Морганов, ничуть не хуже, чем из наших. — Но маяка оттуда не видно. — Видно из чердачного окна. Кстати, вот и еще одно преимущество, милая, — ты же всегда любила большие чердаки. — Но в саду нет ручья. — Это правда, но в кленовом лесу есть ручей, который впадает в пруд. И сам пруд совсем близко. Ты сможешь себе представить, что ты опять у своего Лучезарного Озера. — Ладно, Джильберт, давай немного отложим этот разговор. Дай мне время подумать и привыкнуть к этой мысли. — Думай. Особой спешки нет. Но если мы решим покупать этот дом, то надо переехать в него до зимы. Джильберт ушел, а Энн, у которой дрожали руки, отложила в сторону рубашонки малыша Джима. Шить в этот день она уже не могла. С глазами, полными слез, она бродила по своему маленькому королевству, где была так счастлива. Да, все, что Джильберт говорит о доме Морганов, правда. Дом дышит спокойствием и достоинством, в нем есть и традиции и современные удобства, окружающий его парк прекрасен. Энн всегда им восхищалась. Но одно дело — восхищаться, другое — любить. Энн так любила свой маленький беленький домик! Ей все здесь было мило: клумбы, за которыми она так любовно ухаживала, а до нее ухаживали другие женщины, игривый ручеек, журчавший в уголке сада, калитка, подвешенная между двумя елками, старая ступенька из песчаника, величественные пирамидальные тополя, два смешных застекленных ящичка над камином — все это было неотъемлемой частью ее самой. Как с ними расстаться? В этом доме Энн знала счастье и горе. Здесь она провела свой медовый месяц; здесь один коротенький день прожила беленькая крошка Джойс; здесь Энн вторично познала радость материнства; здесь она услышала воркующий смех малыша Джима; здесь у камина сидели ее друзья. Радость и горе, рождение и смерть освятили этот дорогой ее сердцу домик. И теперь надо отсюда уезжать. Энн это понимала, хотя и спорила с Джильбертом. Они переросли маленький домик. Джильберту надо быть ближе к пациентам. Хотя он успешно выполнял свои обязанности, все же жизнь на отшибе создавала для него лишние трудности. Энн понимала, что подошло время покинуть милое ее сердцу место. И как же болела ее душа! Если бы в дом переехала симпатичная семья! Или пусть хотя бы дом пустовал! Это все же было бы лучше, чем если здесь поселятся чуждые ему по духу люди. Лишенный заботы, старый дом быстро придет в упадок: сад будет разорен, у тополей засохнут верхушки, крыша протечет, в заборе появятся дыры, и он станет похож на щербатый рот, штукатурка осыплется, выбитые стекла заткнут тряпками… Энн живо нарисовала себе эту картину запустения и впала в такое отчаянье, будто все это уже свершилось. Опустившись на приступку, она долго и горько плакала. Здесь ее и нашла Сьюзен, которая с тревогой спросила: — Вы не поссорились с мужем, миссис доктор, голубушка? Если и поссорились, не надо так переживать. Говорят, все супруги ссорятся, хотя сама я в этом опыта не имею. Он попросит прощения, и вы помиритесь. — Нет, Сьюзен, мы не поссорились. Но он… он хочет купить дом Морганов, и нам придется переехать в Глен. У меня сердце разрывается от горя. Но Сьюзен эта новость совсем не огорчила. Более того, перспектива переехать в Глен привела ее в восторг. Если у нее и были претензии к дому Энн, так это то, что он стоял на отшибе, слишком далеко «от людей». — Да что вы, миссис доктор, голубушка, это же замечательно! Дом Морганов такой большой и удобный. — Я ненавижу большие дома, — рыдала Энн. — Ничего, когда у вас народится полдюжины детей, вы его не будете ненавидеть, — спокойно сказала Сьюзен. — Этот дом уже сейчас для нас тесен. У нас нет комнаты для гостей — в ней живет миссис Мор. И я едва могу повернуться на кухне. Кроме того, что за радость жить на краю света? И вообще, что тут хорошего, кроме красивого вида на море? Нет, если доктор Блайт купит дом Морганов, он не прогадает. Там и вода в доме, и масса замечательных кладовок и стенных шкафов, а уж, говорят, такого погреба, как у них, нет ни у кого на острове. А у нас что за погреб? Одни слезы. — Ох, Сьюзен, иди по своим делам и оставь меня в покое, — тоскливо ответила Энн. — Погреб, кладовки — будто это главное для счастья. Ты мне совсем не сочувствуешь. — Да и вам нечего огорчаться, миссис доктор, голубушка. Вытрите слезы, а то глазки распухнут. Этот дом послужил свое, но вам пора перебираться в дом получше. Большинство людей, с которыми говорила Энн, думали так же, как Сьюзен. Только Лесли сочувствовала Энн и понимала, как горько ей расставаться с таким дорогим местом. Когда Энн сообщила ей о намерении Джильберта, они вместе всплакнули. А потом вытерли слезы и стали готовиться к переезду. — Раз уж решили переезжать, то нечего с этим тянуть, — с горечью сказала Энн. — Ты полюбишь этот красивый старый дом, когда поживешь в нем несколько лет и у тебя появятся связанные с ним дорогие воспоминания, — утешала ее Лесли. — Туда тоже будут приходить друзья — так же как приходили сюда, — и там ты тоже будешь счастлива. Сейчас это для тебя чужой дом, но со временем он станет твоим. А через несколько дней Лесли вошла в гостиную с радостным лицом и воскликнула: — Энн, я получила письмо от Оуэна, и он придумал замечательную вещь. Он решил купить ваш дом у попечителей, и мы будем жить в нем летом. Ты рада, Энн? — Рада — это не то слово, Лесли! Я просто поверить не могу в такое счастье. Теперь, когда я знаю, что в моем домике не поселятся какие-нибудь вандалы и не разорят его, мне будет не так тяжело с ним расстаться. Это замечательная новость! И вот пришло октябрьское утро, когда Энн, проснувшись, поняла, что она провела под крышей своего любимого домика последнюю ночь. Но особенно вдаваться в грустные мысли ей было некогда — весь день был заполнен сборами. К вечеру в домике не осталось ничего, кроме голых стен. Лесли, Сьюзен и малыш Джим уехали в Глен вместе с мебелью, а Энн и Джильберт задержались, чтобы попрощаться со своим домом. Малиновый свет заката струился в незанавешенные окна. — Чувствуешь, с какой укоризной смотрят на нас и Дом и сад? — спросила Энн. — Как мне будет грустно сегодня ночью! — Мы были здесь очень счастливы, правда, девочка? — с чувством проговорил Джильберт. У Энн сжалось горло. Джильберт вышел и ждал ее возле калитки, подвешенной между двумя елками, а она обошла все комнаты и каждой сказала «прощай!». Она уезжает, а дом останется на прежнем месте, глядя окнами на море. Осенние ветры будут петь ему свои грустные песни, дождь будет барабанить по крыше, белые туманы будут наползать с моря; лунный свет станет освещать дорожки, по которым ходили еще учитель с молодой женой. А берег будет все так же прекрасен со своими серебристыми дюнами и плеском набегающих волн. — Но нас здесь уж не будет, — сквозь слезы проговорила Энн. Она вышла и заперла за собой дверь. Джильберт ждал ее с улыбкой на лице. Уже загорелась звезда маяка, и тени уже окутывали сад, в котором доцветали одни ноготки. Энн встала на колени и поцеловала порог, через который она переступила молодой женой. — Прощай, мой милый, ненаглядный домик!
Энн в Инглсайде
Глава первая
«Как сегодня ярко светит луна», — подумала вслух Энн Блайт, идя по дорожке сада Райтов под снегопадом лепестков вишни, облетавших под порывами солоноватого ветра с моря.
Она остановилась на минуту и окинула взглядом дорогие ее сердцу лесистые холмы, окружавшие Эвонли. Милая, родная деревня! Уже много лет Энн жила в Глен Сент-Мэри, но в Эвонли было то, чего никогда не будет в Глене. На каждом шагу ее встречала тень ее самой… ей улыбались поля, по которым она бродила девочкой… в ушах звучало эхо голосов ее детства и юности… каждый уголок нес в себе дорогие воспоминания.
Энн всегда любила приезжать в Эвонли, даже если, как сейчас, причиной приезда было грустное событие — похороны отца Джильберта. Она пробыла в деревне уже неделю, но Марилла и миссис Рэйчел Линд не хотели отпускать ее домой. Комнатка под крышей всегда ждала Энн, и когда она поднялась туда в день приезда, то увидела, что миссис Рэйчел поставила на стол большой букет весенних полевых цветов. Энн прижалась к нему лицом: от цветов исходил аромат незабвенных лет, прожитых в Эвонли. В комнате ее словно ждала
таЭнн, порывистая девочка, которую Мэтью привез домой со станции. Сердце миссис Блайт исполнилось счастьем и благодарностью. Маленькая комната как бы приняла ее в свои объятия, прижала к своей груди. Энн с любовью смотрела на свою старую постель с покрывалом, сотканным миссис Рэйчел… на белоснежные наволочки, отделанные кружевами, которые тоже связала миссис Линд… на сплетенные Мариллой тряпичные половички… на зеркало, отразившее в тот первый вечер несчастное лицо девочки-сироты, которая потом легла в эту постель и плакала, пока не заснула. На минуту Энн забыла, что она — счастливая мать пятерых детей… что в Инглсайде Сьюзен опять вяжет крошечные пинетки… и, сидя перед зеркалом, унеслась мыслями в прошлое. Тут в комнату вошла миссис Рэйчел с чистым полотенцем в руках.
— Как мы рады тебя видеть, Энн, — сказала она. — Вот уже девять лет как ты здесь не живешь, а мы с Мариллой все никак не можем к этому привыкнуть. Правда, с тех пор как Дэви женился, жизнь у нас стала повеселее. Милли такая милая девочка… а какие пироги печет!.. Только очень любопытна — все-то ей надо знать. Но я всегда говорила и никогда не устану повторять, что другой такой, как ты, нет и не может быть.
— Но это зеркало не обманешь, миссис Линд. Оно мне сказало напрямик: ты уже не та молоденькая девушка, что была, — грустно вздохнула Энн.
— У тебя по-прежнему отличный цвет лица, — утешила ее миссис Рэйчел. — А румянца на щеках у тебя никогда не было.
— Во всяком случае, у меня нет и намека на второй подбородок, — оживилась Энн, — и моя старая комната меня не забыла. Я этому очень рада. Я бы очень расстроилась, если бы она меня не узнала. А луна встает над лесом, как встарь.
— Она похожа на огромную золотую монету, правда? — вдруг проговорила миссис Рэйчел, сама пугаясь взлету своей фантазии и радуясь, что ее не слышит Марилла.
— Посмотрите, как темнеют на ее фоне остроконечные ели… а как выросли березы в низине. Когда я приехала в Эвонли, они были совсем маленькие. Глядя на них, я действительно чувствую, что постарела.
— В этом деревья похожи на детей, — сказала миссис Рэйчел. — Не успеешь отвернуться, глядь — они уже выросли. Взять хоть Фреда Райта. Ему всего тринадцать лет, а он уже ростом с отца. На ужин у нас пирог с курицей, и я испекла твое любимое лимонное печенье. Можешь спокойно ложиться в эту постель. Я сегодня утром проветрила простыни, а Марилла этого не знала и днем проветрила их еще раз… а Милли, не зная, что мы уже их проветрили дважды, проветрила еще и третий раз. Надо полагать, Мария Блайт приедет завтра на похороны — она еще ни разу в жизни не пропускала похорон.
— Ох уже эта тетя Мария — Джильберт так ее называет, хотя она всего лишь кузина его отца. Она зовет меня Анни, — пожаловалась Энн. — А знаете, что она сказала, когда увидела меня в первый раз? «Как странно, что Джильберт выбрал тебя. За него бы с удовольствием пошло столько славных девушек». С тех пор я ее невзлюбила, и я знаю, что Джильберт ее тоже недолюбливает, но никогда в этом не признается. Он считает, что родственные связи превыше всего.
— А Джильберт долго здесь пробудет?
— Нет, ему надо завтра уезжать. У него в Глене остался больной в очень тяжелом состоянии.
— Да, в общем-то ему теперь здесь нечего делать. Мать умерла в прошлом году, а теперь отец… После смерти жены старый мистер Блайт совсем затосковал: жизнь потеряла для него смысл. Грустно подумать, что теперь в Эвонли не осталось ни одного Блайта. А ведь они жили здесь исстари и пользовались общим уважением. Зато Слоунов сколько угодно! Ну, тут уж ничего не поделаешь, Энн, Слоуны всегда были и будут, от них нам не избавиться. Аминь.
— Бог с ними, со Слоунами. После ужина я пойду гулять в саду под луной. Конечно, рано или поздно придется лечь спать, хотя я всегда считала, что лунную ночь просто жаль тратить на сон. Но зато я собираюсь проснуться пораньше, чтобы поглядеть, как занимается рассвет над лесом. Небо станет кораллового цвета, по траве будут с важным видом расхаживать малиновки, на подоконник, может быть, сядет воробушек, а в саду будут пестреть анютины глазки…
— Только все нарциссы обглодали кролики, — грустно сказала миссис Рэйчел и пошла вниз по лестнице, в глубине души чувствуя облегчение от того, что ей больше не надо поддерживать разговор о луне. Энн всегда была чудачкой, и видно, уже не стоит надеяться, что с годами у нее это пройдет.
Диана вышла из дома и пошла навстречу Энн. Даже при лунном свете было видно, что волосы у нее все такие же черные, щеки все такие же розовые и глаза все такие же блестящие. Но лунный свет не мог скрыть, что она порядком располнела… да Диана никогда и не была худышкой.
— Не беспокойся, Диана, я ненадолго…
— Ну, как тебе не стыдно, — упрекнула ее Диана. — Неужели я могу из-за этого беспокоиться! Ты же знаешь, что я с большим удовольствием провела бы вечер с тобой, чем ехать на эту свадьбу. Мы так мало виделись за эту неделю, а послезавтра ты уже уезжаешь. Но что поделаешь, женится брат Фреда… мы просто обязаны туда пойти.
— Конечно, Диана, я понимаю. Я забежала на минутку. Прошла по нашей любимой дорожке через лес, мимо Дриадиного ключа, Ивового омута. Даже остановилась там, как мы с тобой всегда делали, посмотреть на ивы, отражающиеся в воде макушками вниз. Как они выросли!
— Все выросли, — со вздохом сказала Диана. — Когда я смотрю на Фреда-младшего… Мы все изменились, кроме тебя. А ты совсем не меняешься, Энн. Как ты ухитряешься оставаться такой тоненькой? Посмотри на меня!
— Да, ты располнела, — со смехом сказала Энн. — Но толстой тебя все же не назовешь. Что касается меня… миссис Доннелл тоже сказала мне на похоронах, что я совсем не изменилась. А вот миссис Эндрюс воскликнула: «Ох, Энн, как же ты сдала!» Так что все зависит от точки зрения — или от совести говорящего. А я чувствую, что уже не так молода, только когда смотрю на фотографии в журналах. Там все чересчур уж юные! Ну ничего, Ди, завтра мы с тобой опять станем молоденькими девушками. Я за этим к тебе и пришла. Давай пойдем после обеда гулять. Навестим все наши любимые уголки… все до единого. Пройдем по зеленым полям и темному лесу и там встретимся со своей молодостью. Весной ведь кажется, что нет ничего невозможного. Забудем про свои материнские обязанности, стряхнем чувство ответственности и станем такими беспечными, какой меня в глубине души все еще считает миссис Линд. Но нельзя же все время сохранять здравомыслие — со скуки умрешь!
— Узнаю свою Энн! Я бы с удовольствием, вот только…
— И слушать не хочу никаких «вот только»! Знаю, что ты думаешь: «А кто же приготовит мужчинам ужин?»
— Да нет, Энн, не совсем так. Корделия может приготовить ужин не хуже меня — даром что ей только одиннадцать лет, — с гордостью сказала Диана. — Она и так собиралась это делать. У нас завтра собрание Общества. Ну, Бог с ними, пойду с тобой. Я часто вечерами сижу на крылечке и воображаю, что мы с тобой опять стали девочками. Вот моя мечта и осуществится. Возьмем с собой чего-нибудь вкусненького и поужинаем где-нибудь на полянке.
— Может быть, в садике мисс Лаванды? Ты там не бывала в последнее время?
— Да нет. Вот Корделия у меня любит бродить по лесу, хотя я ей не разрешаю уходить далеко от дома. Как-то я сделала ей выговор за то, что она разговаривает сама с собой в саду, а она мне ответила, что разговаривает не сама с собой, а с цветочными феями. Помнишь, ты прислала ей на день рождения кукольный сервиз с розочками? Она не разбила ни одного блюдечка, ни одной чашечки. И достает его только тогда, когда к ней приходит в гости зеленый народец. Никак не могу от нее добиться, что это за народец. Знаешь, Энн, она, пожалуй, больше похожа на тебя, чем на меня.
— Может, это потому, что ты назвала ее именем, о котором я мечтала в детстве. Ничего, Диана, пусть фантазирует. Мне жаль детей, которые никогда не жили в созданной их воображением сказочной стране.
— Но у нас сейчас учительницей Оливия Слоун, — с сомнением в голосе проговорила Диана. — Она получила диплом бакалавра и решила проучительствовать у нас один год, чтобы быть рядом с матерью. Так вот она считает, что детей надо приучать смотреть правде в глаза.
— Господи, Диана, неужели ты подпала под влияние Слоунов?
— Нет, что ты! Мне она совсем не нравится. Она такая же лупоглазая, как и вся их семейка. И я вовсе не мешаю Корделии фантазировать. Успеет еще насмотреться правде в глаза.
— Ну, тогда договорились. Приходи в Грингейбл часа в два. Выпьем Мариллиного вина из черной смородины — она опять стала его делать, несмотря на возражения священника и миссис Линд. И пустимся в разгул.
— А помнишь, как ты меня напоила этим вином допьяна? — хихикнула Диана.
— Вот завтра и вспомним все наши проделки. Ну, не буду тебя больше задерживать… вон уж и Фред подъехал на коляске. Какое на тебе очаровательное платье!
— Фред велел мне сшить к свадьбе брата новое платье. Я-то считала, что раз мы построили новый сарай, мы не можем тратиться и на новое платье. Но он сказал, что не потерпит, чтобы его жена была одета кое-как, когда все остальные женщины разрядятся в пух и прах. Одно слово — мужчина.
— Ой, что-то ты заговорила, как миссис Эллиотт у нас в Глене, — сурово попеняла ей Энн. — Смотри, не превратись в мужененавистницу. Ну скажи, тебе хотелось бы жить в мире, где не было бы ни одного мужчины?
— Нет, это было бы ужасно, — признала Диана. — Сейчас, Фред, иду! Да иду же! Ну ладно, Энн, до завтра.
По дороге домой Энн постояла около Дриадиного ключа. Как она любила этот ручеек! В его журчании ей слышался ее детский смех. Детские мечты, клятвы, которые здесь звучали, секреты, которыми они с Дианой делились шепотом — ручей все это сберег, все они жили в лепете его струй. Но слушали его лишь мудрые старые ели, которым это так и не надоело за все прошедшие годы.
Глава вторая
— Какой чудесный день — словно по заказу, — обрадовалась Диана. — Только боюсь, это ненадолго. Завтра, наверно, пойдет дождь.
— Ну и пусть. Даже если завтра солнце спрячется за тучами, сегодня мы вволю насладимся красотой этого дня. И насладимся дружбой, даже если завтра нам придется расстаться. Погляди на эти золотисто-зеленые холмы, Диана, на эти дымчато-голубые долины. Сегодня они наши. Что из того, что вон тот дальний холм назван по имени Абнера Слоуна? Сегодня он принадлежит нам. Ветер дует с запада, а при западном ветре я всегда чувствую тягу к приключениям. Вот увидишь, мы замечательно погуляем.
И действительно, прогулка удалась. Они прошли по всем своим любимым местам — Тропе Мечтаний, Березовой аллее, навестили Дриадин ключ, Ивовый омут, Фиалковую поляну, Хрустальное озеро. Правда, маленькие березки в роще, где они когда-то построили дом для игр, превратились в высокие деревья, Березовая аллея, по которой столько лет никто не ходил, заросла папоротником, а Хрустальное озеро вообще исчезло: на его месте была только поросшая мхом влажная выемка. Но Фиалковая поляна синела по-прежнему, а яблоня, которую Джильберт нашел в лесу, стала просто огромной и была усыпана крошечными розовыми бутонами.
Их головы были непокрыты, и волосы Энн по-прежнему переливались на солнце как полированное красное дерево, а волосы Дианы — чернее воронова крыла. Порой они шли молча, обмениваясь веселыми дружелюбными взглядами. Энн вообще считала, что два человека, у которых есть такое взаимопонимание, как они с Дианой,
чувствуютмысли друг друга. В разговоре постоянно звучало «А помнишь?»: «А помнишь, как ты провалилась в сарай на Тори-роуд?» — «А помнишь, как мы прыгнули на тетю Жозефину?» — «А помнишь, как к тебе в гости приехала миссис Морган, а у тебя нос был измазан красным?» — «А помнишь, как мы подавали друг другу сигналы из окошка?» — «А помнишь свадьбу мисс Лаванды и голубые банты Шарлотты?» — «А помнишь наше Общество по украшению Эвонли?»
Вокруг было очень красиво. Неожиданные краски проблескивали в лесной тени и пышно расцветали на полянках. Весеннее солнце просеивало свои лучи сквозь завесу молодых листьев. Отовсюду звенели веселые птичьи трели. Иногда попадались ложбинки, где Энн и Диана словно окунались в расплавленное золото. За каждым поворотом им в лицо ударяла волна свежих весенних запахов… пряный аромат молодых папоротников… бальзам еловой смолы… здоровый дух свежевспаханной земли. Они набрели на тропинку среди цветущих диких вишен, потом вышли на заброшенное поле, где из травы, словно притаившиеся эльфы, выглядывали крошечные молодые елочки. Им встречались ручейки, через которые им еще легко удавалось перепрыгивать. Из-под елей на них глядели белые звездочки лесных цветов. Подруги увидели целый ковер из молодых кудрявых папоротников и ахнули при виде березки, с которой какой-то вандал в нескольких местах сорвал кору, обнажив коричневую древесину.
Наконец они пришли к дому мисс Лаванды и устроили пикник на каменной скамейке в солнечном уголке сада. Позади них пышно цвел куст сирени. Грозди цветов ярко лиловели в лучах заходящего солнца. Энн и Диана сильно проголодались и ели с наслаждением.
— Каким все кажется вкусным на открытом воздухе, — с удовлетворенным вздохом проговорила Диана. — А этот твой шоколадный торт, Энн… просто нет слов. Не забудь оставить мне рецепт. Фреду он страшно понравится. Вот человек — позавидуешь: может есть что угодно и нисколечко не поправляется. А я все даю себе зарок не есть пирогов и кексов. Меня просто ужас берет при мысли, что я в конце концов растолстею, как бабушка Сара, которую приходилось за руки поднимать из кресла. Но когда передо мной оказывается такой торт… или такие, что вчера подавали на свадьбе… они ведь обиделись бы, если бы я отказалась все это есть.
— Весело было на свадьбе?
— Да, все прошло очень мило. Но мне не повезло: меня зажала в угол кузина Фреда Генриетта, которая непременно хотела во всех подробностях рассказать мне про то, как ей делали операцию на аппендиците: и что она во время нее ощущала, и как ее аппендикс обязательно лопнул бы, если бы его не успели вырезать. «Они наложили мне пятнадцать швов. Ты не представляешь, Диана, какая это была пытка!» С другой стороны, раз уж она так страдала, почему бы ей по крайней мере не вознаградить себя за все это, рассказывая о своих страданиях? Так что я на нее не особенно в обиде. Джим, правда, говорил довольно странные вещи. Вряд ли это понравилось его молодой жене… Ну разве что ма-а-аленький кусочек… все равно уж я вчера согрешила… одним кусочком больше или меньше, не так уж важно… Так вот, Джим сказал, например, что в ночь перед свадьбой его охватил такой страх, что он чуть не убежал на станцию и не уехал с острова. По его словам, это бывает со всеми женихами, только не все в этом признаются. Как ты думаешь, Энн, неужели Фреду и Джильберту тоже хотелось сбежать?
— Уверена, что нет.
— Фред сказал то же самое, когда я его спросила. Он, дескать, боялся только одного — что я вдруг в последнюю минуту передумаю, как Роза Спенсер. Однако кто знает, что у мужчины на самом деле на уме. Ладно, чего уж теперь об этом волноваться — дело прошлое. Как мы замечательно провели время, Энн! Столько всего вспомнили хорошего! Как жаль, что ты завтра уезжаешь.
— Может, приедешь летом погостить в Инглсайд? Только не в августе… Тогда мне будет не до гостей.
— Я бы с удовольствием, но летом всегда столько дел, что никак не выберешься.
— К нам скоро, наконец, приедет Ребекка Дью — чему я очень рада. И боюсь, что тетя Мария тоже. Она уже закидывала удочку. Джильберт от этого отнюдь не в восторге — так же как и я, но считает, что родственников надо привечать.
— Может быть, я соберусь к вам зимой. Мне очень хочется еще раз увидеть Инглсайд. У тебя такой замечательный дом, Энн, и такие замечательные дети.
— Да, Инглсайд — очень славный дом… я его полюбила. А ведь когда-то думала, что ни за что не полюблю. Когда мы поехали его осматривать, все в нем мне казалось не так… меня раздражали сами его достоинства. Потому что они бросали тень на мой дорогой беленький домик. Я помню, что перед переездом жалобно сказала Джильберту: «Мы были здесь счастливы. Так счастливы мы нигде уже не будем». И какое-то время я прямо-таки упивалась тоской по своему беленькому домику. А потом… потом во мне стали прорастать крошечные ростки любви к Инглсайду. Ты не представляешь, как я с этим боролась. Но Инглсайд победил, и мне пришлось признаться самой себе, что я полюбила наш новый дом. И с тех пор я с каждым годом люблю его все больше. Инглсайд — не очень старый дом — в старых домах есть что-то грустное. Но он и не слишком молод — в новых домах есть что-то холодное. А он такой уютный и теплый. Я люблю каждую комнату. Они не лишены недостатков, но в каждой есть что-нибудь, отличающее ее от других, придающее ей неповторимость. Я люблю великолепные деревья, которые окружают газон. Не знаю, кто их посадил, но каждый раз, поднимаясь на второй этаж, я останавливаюсь на лестничной площадке… помнишь, там есть такое странное окошко на лестничной площадке с широким сиденьем под ним… так вот, я сажусь на это сиденье, гляжу в окно и говорю про себя: «Будь благословен тот человек, который посадил эти деревья!» По правде говоря, вокруг нашего дома растет слишком много деревьев, но мы ни за что не расстанемся ни с одним из них.
— Фред такой же. Он просто боготворит огромную иву, которая растет перед окнами гостиной. Она закрывает вид, и я столько раз ему говорила, что хорошо бы ее срубить. А он отвечает: «Срубить такое замечательное дерево только потому, что оно закрывает вид?» Так что ива стоит себе где стояла, и я не могу отрицать, что это очень красивое дерево. Поэтому мы и назвали наш дом «Ферма Одинокой Ивы».
— Теперь я рада, что у нас такой просторный дом — в маленьком доме наша семья просто не поместилась бы. И дети любят свой дом, хотя они еще маленькие.
— Они такие очаровашки! — Диана исподтишка отрезала еще один «ма-а-аленький кусочек» шоколадного торта. — У меня тоже неплохие дети, но твои какие-то необыкновенные… А близнецы до чего хороши! В этом я тебе завидую. Мне очень хотелось близнецов.
— Ну, близнецы мне, видно, просто на роду написаны. Только жаль, что они совсем не похожи друг на друга. Нэнни — хорошенькая шатенка с карими глазами и чудным цветом лица. Но Джильберт больше любит Ди — потому что у нее зеленые глаза и кудрявые рыжие волосы. Любимчик же Сьюзен — Джефри. После его рождения я долго болела, и он оказался полностью на ее попечении. По-моему, ей теперь кажется, что Джефри — ее собственный ребенок. Она называет его «мой смугленочек» и жутко балует.
— А он еще такой малыш, что можно ночью тихонько прийти посмотреть, не скинул ли он одеяло, и укрыть его снова, — с завистью в голосе сказала Диана. — Моему Джеку уже девять лет, и он мне этого больше не позволяет. Говорит, что уже большой. Как жаль, что дети так быстро растут!
— Мои, слава Богу, еще не считают, что они большие. Но я заметила, что с тех пор как Джим пошел в школу, он уже не хочет, чтобы я держала его за руку, когда мы идем по улице, — вздохнула Энн. — Но пока еще и он, и Уолтер, и Джефри хотят, чтобы я целовала их на ночь. Для Уолтера это своего рода ритуал.
— И тебе пока не надо беспокоиться о том, кем они станут, когда вырастут. Джек вот заявил, что когда вырастет, станет солдатом… Подумай только — солдатом!
— Я бы на твоем месте не волновалась по этому поводу. Потом у него появится другое увлечение, и он забудет про солдата. Джим заявляет, что станет моряком, как капитан Джим, в честь которого его назвали. А Уолтер проявляет склонность к поэзии. Он отличается от всех остальных. Но все они любят деревья и обожают играть в так называемой «Лощине». Это такая лесистая низина позади нашего сада, где масса извилистых дорожек, а внизу течет ручей. Собственно говоря, в ней нет ничего особенного, но если для всего Глена это — просто «Лощина», для моих детей это — сказочная страна. Я так рада, что завтра вернусь в Инглсайд и буду рассказывать детям сказку на ночь, и хвалить папоротники и кальцеолярии, которыми так гордится Сьюзен. Она считает, что на папоротники у нее легкая рука. Их-то я восхваляю совершенно искренне… но кальцеолярии! Они, на мой взгляд, вообще не похожи на цветы. Но я ни разу не сказала и не скажу этого Сьюзен — зачем ее обижать? Стараюсь как-нибудь обходить эту тему. Пока что это у меня получалось. Сьюзен — это моя опора! Не представляю, что бы я без нее делала. А я еще, помнится, говорила Джильберту, что не хочу, чтобы в доме были посторонние. Да, мне очень хочется домой, но одновременно мне жаль уезжать из Эвонли. Здесь так красиво… и здесь Марилла… и ты. Наша дружба — это такая замечательная вещь, Диана.
— Да… и мы всегда… то есть… я не умею говорить так, как ты, Энн… но мы остались верны своей клятве «быть друзьями до гробовой доски», правда, Энн?
— Да, остались и никогда ей не изменим.
Энн взяла Диану за руку, и они долго сидели молча. На траву легли длинные вечерние тени. Солнце село, небо, которое виднелось в просветах между задумчивыми деревьями, стало из розового сиреневым, потом бледно-серым. Вечерний воздух звенел посвистом малиновок. Над цветущими вишнями зажглась большая яркая звезда.
— Первая звезда всегда кажется мне чудом, — мечтательно проговорила Энн.
— Как не хочется отсюда уходить, — отозвалась Диана. — Так и осталась бы здесь навсегда.
— Я тоже, но надо все же помнить, что нам не пятнадцать лет и на нас лежат семейные обязанности. Как пахнет сирень! Даже голова кружится.
— Я никогда не ставлю букеты сирени в доме — очень уж сильный запах. — Диана взяла в руки тарелку, на которой лежал оставшийся кусок шоколадного торта… посмотрела на него с вожделением… покачала головой и положила в корзину с видом человека, совершившего акт самоотречения.
И они не спеша пошли домой. За холмами догорал закат, а сердца их были согреты сознанием, что их детская дружба переросла в привязанность, которую они пронесут через всю жизнь.
Глава третья
В последний день недели, которую Энн с таким удовольствием провела в Эвонли, она с утра отнесла цветы на могилу Мэтью, а потом отправилась в Кармоди и там села на поезд. В начале пути она вспоминала дорогих людей и дорогие места, которые остались позади, но потом ее мысли устремились вперед, в Глен Сент-Мэри, где ее ждали не менее дорогие люди. Ее сердце пело: она едет домой, в Инглсайд, в дом, где любой человек, переступая порог, ощущает тепло домашнего очага, в дом, заполненный смехом, и серебряными кружками, и фотографиями, и детьми… ее ненаглядными детками с кудряшками и пухлыми ножками… Она снова увидит милые комнаты… и стулья, и платья в шкафу, которые так терпеливо ее ждали… Милый Инглсайд, где так часто справляют дни рождения и где ей шепчут на ухо такие важные детские секреты. «Как это прекрасно, что мысль о возвращении домой приносит радость», — думала Энн, доставая из сумочки письмо, которое ей прислал старший сын и над которым она так весело смеялась прошлым вечером, с гордостью читая его вслух обитателям Грингейбла. Это было первое письмо, полученное ею от детей. Для семилетнего мальчика, который только год как ходит в школу, это было очень даже милое письмо, хотя орфография Джима пока хромала на обе ноги, а в углу красовалась большая чернильная клякса.
«Ди вчера праревела весь вечер, потомушто Томми Друк сказал, что сожет ее куклу на костре. Сьюзен расказываит нам скаски на ночь, но они не такие интиресные как твои мамочка. Вчера она пазволила мне посеять грятку свеклы…»
— И как я могла целую неделю быть так счастлива вдали от них? — с упреком спросила себя хозяйка Инглсайда. — Как замечательно, когда тебя встречают на станции! — воскликнула Энн, сойдя с поезда в Глен Сент-Мэри и падая в объятия Джильберта. Она никогда не была уверена, что он сможет ее встретить: в Глене все время кто-нибудь либо рождался, либо умирал. Но возвращение домой теряло большую часть своей прелести, если на станции ее не ждал Джильберт. И какой на нем красивый новый костюм! «Хорошо, что я надела под коричневый костюм эту блузку в горошек, хотя миссис Линд сказала, что в дорогу так не наряжаются. Зато Джильберт увидел меня в новой красивой блузке», — радовалась Энн. Веранда Инглсайда была увешана разноцветными японскими фонариками, и во всех окнах горел свет. Энн побежала по обсаженной нарциссами дорожке: — Я приехала, Инглсайд! Через минуту на ней повисли радостно визжащие дети, а Сьюзен Бейкер стояла, как ей, по ее понятиям, приличествовало, в дверях и улыбалась. У каждого из детей, даже у двухлетнего Джефри, в руках был букетик цветов, собранный специально для мамы. — Спасибо, мои милые! Как здесь хорошо, и как приятно видеть, что дети рады моему возвращению! — Если ты еще когда-нибудь от нас уедешь, мама, — серьезно произнес Джим, — я устрою себе апенцит. — А как ты это устроишь? — спросил Уолтер. — Ш-ш-ш, — Джим толкнул Уолтера локтем и прошептал ему на ухо: — Я знаю как: просто говоришь, что страшно болит живот… Но это я, чтобы напугать маму и чтобы она больше не уезжала. Энн хотелось сразу сделать тысячу вещей: обнять и поцеловать всех и каждого, выбежать в сад и собрать букетик анютиных глазок — в Инглсайде анютины глазки росли повсюду, поднять с пола старую куклу, выслушать все последние новости, которые так и сыпались из детей и Сьюзен. Как Нэнни засунула себе в нос крышечку от тюбика с вазелином, а доктора не было дома, и Сьюзен чуть с ума не сошла от беспокойства («Давно я так не волновалась, миссис доктор, голубушка»); …как корова миссис Палмер съела пятьдесят семь гвоздей и к ней пришлось вызвать ветеринара из Шарлоттауна; …как папа очистил газон от одуванчиков («И как только он нашел время, миссис доктор, голубушка — он за эту неделю принял восемь младенцев»); …как мистер Том Флэгг покрасил усы («А его жена умерла всего два года назад!»); …как Роза Максвелл отказала Джиму Хад-ону, и он прислал ей счет на все, что на нее истратил за время ухаживания; …как у кота Картера Флэгга собаки отгрызли кусок хвоста; …как Джефри нашли в конюшне под ногами у лошади («Я думала, у меня сердце оборвется, миссис доктор, голубушка!»); …как Ди весь день пела: «Мама скоро будет дома, будет дома, будет дома» на мотив «Как мы весело живем»; …как у Джо Риза один котенок родился зрячим и теперь страшно косит; …как Джим, одеваясь, случайно сел на липучку от мух; …как Шримп свалился в бочку с дождевой водой («Он бы обязательно утонул, миссис доктор, голубушка, но, слава Богу, доктор услышал его вопли и вытащил оттуда за задние лапы»). — По-моему, он с тех пор оправился, — сказала Энн, поглаживая черно-белого упитанного кота, который мурлыкал, лежа в кресле у камина. В Инглсайде все привыкли, что в кресло можно садиться, только удостоверившись, что в нем нет Шримпа. Сьюзен, которая поначалу не любила кошек, говорила, что ей волей-неволей пришлось их полюбить, иначе жизнь была бы невыносима. Что касается Шримпа — кличку придумал Джильберт, когда год назад Нэнни принесла в дом жалкого тощего котенка, которого она отняла у мучивших его мальчишек. Теперь она совсем не подходила холеному коту,
но его продолжали так звать по привычке. — Мама, а мы скоро будем ужинать? — жалобно спросил Джим. — У меня живот свело от голода. Да, мама, а на ужин мы приготовили всехошнее любимое блюдо! — Мы славно потрудились, — с улыбкой отозвалась Сьюзен. — Мы решили, что надо как следует отпраздновать ваш приезд, миссис доктор, голубушка. А где же Уолтер? Сегодня его очередь бить в гонг к ужину. Ужин был праздничный… но для Энн еще большим праздником было укладывать детей спать. Сьюзен даже позволила ей уложить Джефри. — Ладно уж, день сегодня особенный, — серьезно сказала она. — У нас все дни особенные, Сьюзен. Каждый чем-то выделяется. — Верные ваши слова, миссис доктор, голубушка. Даже в прошлую пятницу, когда дождь зарядил с утра на целый день и казалось, скучнее дня не придумаешь, на моем кусте герани появились бутоны — впервые за три года. А вы заметили, как прекрасно цветут кальцеолярии? — Ну, еще бы! Я таких кальцеолярий в жизни не видела, Сьюзен. И как у тебя это получается? «Что ж, Сьюзен довольна, и я тоже не покривила душой — таких кальцеолярий я и впрямь никогда в жизни не видела», — решила Энн про себя. — Просто я не жалею на них труда, миссис доктор, голубушка. Но мне надо с вами поговорить. Кажется, Уолтер что-то подозревает. Наверно, ему мальчишки наболтали в деревне. Теперешние дети слишком много знают. На днях он меня вдруг спрашивает: «А дети дорого стоят, Сьюзен?» Я прямо опешила, миссис доктор, голубушка, но все же нашлась, что ответить: «Некоторые считают, что дети — это роскошь, а мы в Инглсайде считаем, что без них просто нельзя обойтись». И сама себя отругала за то, что жаловалась, как дорого стоят детские одежки. Вот он, видно, и забеспокоился. Может быть, он и вас о чем-нибудь таком спросит, миссис доктор, голубушка, так вы уж будьте наготове. — Ты прекрасно ему ответила, Сьюзен, — с серьезным лицом проговорила Энн. — И по-моему, им пора узнать, что у них скоро будет братик или сестричка. А вечером, перед сном, когда Энн стояла у окна спальни, глядя, как с моря на низину наползает туман, к ней подошел Джильберт, обнял и сказал: — Какое это счастье — знать, что дома меня ждешь ты. А ты счастлива, любимая? — Я очень счастлива! — Энн наклонилась понюхать цветущие ветки яблони, которые Джим поставил на ее туалетный столик. Она чувствовала, что просто плывет на волнах счастья. — Милый мой Джильберт, мне было приятно побыть неделю в Эвонли, стране своего детства, но в тысячу раз приятнее вернуться в Инглсайд.
Глава четвертая
— Нет, Джим, об этом не может быть и речи, — сказал доктор Блайт.
По его тону Джим понял, что папа ни за что не передумает и что мама не станет его переубеждать. Тут они были явно заодно. Джим негодующе глядел на своих жестоких родителей, и его гнев только усиливался при виде их полнейшего равнодушия к его испепеляющим взорам. Сидят себе и ужинают, словно все в полном порядке! Конечно, тетя Мария заметила его недовольство. Бледно-голубые скорбные глаза тети Марии не упускали ничего, но его негодование только забавляло ее.
Весь вечер до ужина Джим играл с Берти Друком, а Уолтер ушел в беленький домик, где папа с мамой жили раньше, в гости к Кеннету и Перси Форд. И вот Берти сказал Джиму, что все мальчишки Глена после ужина отправятся на мыс смотреть, как капитан Билл Тейлор будет татуировать змею на руке кузена Берти Джо Друка. Берти тоже туда собирается. «Пошли с нами, Джим, — сказал он. — Это же страшно интересно». И Джиму так захотелось пойти с ними! И вот теперь ему говорят, что об этом не может быть и речи!
— Во-первых, — заявил папа, — до мыса далеко. Ребята вернутся очень поздно, а тебе положено ложиться спать в восемь часов, Джим.
— Когда я была девочкой, — вставила тетя Мария, — меня отправляли спать в семь часов.
— Вот подрастешь, Джим, тогда тебе можно будет гулять по вечерам, — добавила мама.
— Ты это уже говорила на прошлой неделе! — негодующе воскликнул Джим. — С тех пор я уже подрос. Можно подумать, будто я совсем младенец! Берти столько же лет, сколько и мне. Почему ему можно пойти, а мне нет?
— И вообще кругом все болеют корью, — мрачно сказала тетя Мария. — Еще подхватишь корь, Джеймс.
Как Джим ненавидел, когда его называли Джеймсом! А тетя Мария обращалась к нему именно так.
— Ну и пусть, — пробурчал он. — Я и хочу заболеть корью.
Но, увидев предостерегающий взгляд отца, замолчал. Папа никому не разрешал дерзить тете Марии. Какая же она противная! Другое дело тетя Диана или тетя Марилла — такие душки. А женщин, подобных тете Марии, Джиму еще встречать не приходилось.
— Ладно же, — с вызовом заявил он, глядя на мать, чтобы никто не подумал, что он дерзит тете Марии. — Не хотите меня любить, и не надо. А как вам понравится, если я сбегу стрелять тигров в Африку?
— Тигры в Африке не водятся, милый, — мягко ответила мама.
— Тогда львов! — крикнул Джим. Придираются к каждому слову! Смеются над ним! Нет, он им еще покажет! — Может, скажешь, что в Африке и львов нет? Их там миллионы. Так и кишат!
Мама и папа только улыбнулись — к большому неудовольствию тети Марии. Как это они разрешают сыну так дерзко с ними разговаривать?
— Не расстраивайся, Джим, — сказала Сьюзен, раздираемая противоречивыми чувствами — любовью к мальчику и убеждением, что его родители совершенно правы, не отпуская его ночью с оравой озорников мальчишек к этому пьянице капитану Тейлору. — Вот тебе коврижка с взбитыми сливками на сладкое.
— Не хочу я коврижки, — хмуро ответил Джим и встал из-за стола. В дверях он повернулся и крикнул напоследок:
— А спать я в восемь часов все равно не ляжу! И когда вырасту, вообще не буду спать и разрисую себя татуировкой с головы до пят! Раз вы так, то и я так. Вот увидите!
— Надо говорить «не лягу», милый, — поправила его мама.
До чего же бездушные люди!
— Тебя, конечно, не интересует мое мнение, Анни, но если бы я позволила себе так разговаривать с родителями, они спустили бы с меня шкуру, — сказала тетя Мария. — По-моему, напрасно в некоторых семьях пренебрегают розгами.
— Джим не так уж виноват, — вступилась за мальчика Сьюзен, видя, что Энн с Джильбертом молчат. Но она, Сьюзен, не даст спуску Марии Блайт! — Это все Берти Друк придумал, расписал, как будет интересно. Он играл с Джимом сегодня после обеда и стащил из кухни мою лучшую алюминиевую кастрюлю — ему, видите ли, шлем понадобился. Они, дескать, играют в солдат. Потом они понаделали корабликов из дранки и вымокли до нитки, пуская их в ручье. А потом еще целый час прыгали по двору на четвереньках и квакали, изображая лягушек. Надо же такое придумать! Конечно, Джим переутомился и сам теперь не понимает, что говорит. А вообще-то он послушный мальчик и никогда не дерзит.
Тетя Мария не снизошла до ответа. Она вообще за столом никогда не разговаривала со Сьюзен, выражая таким способом свое недовольство тем, что ее заставляют сидеть вместе с «прислугой».
Энн предупредила Сьюзен перед приездом тети Марии о странностях родственницы Джильберта. Сьюзен, которая «знала свое место», никогда не садилась за общий стол при гостях.
— Но какой же тетя Мария гость? — возразила Энн. — Она просто член семьи, но и ты, Сьюзен, тоже член семьи.
В конце концов Сьюзен сдалась, весьма довольная в глубине души. Пусть-ка Мария Блайт увидит, что Сьюзен вовсе не прислуга, а член семьи. Мисс Бейкер никогда не видела тети Марии, но ее племянница, дочь сестры Матильды, была у нее горничной в Шарлоттауне и много чего порассказала о хозяйке.
— Не буду притворяться, что меня так уж радует приезд тети Марии, особенно сейчас, — честно призналась Энн. — Но Джильберт получил от нее письмо, в котором она просит разрешения погостить у нас недели две-три… и ты сама знаешь, как мой муж относится к родственникам…
— Ну и правильно, — поддержала Джильберта Сьюзен. — От кого же еще человеку ожидать помощи, как не от родных. Вот только, миссис доктор, голубушка, не хочу каркать, но золовка моей сестры Матильды однажды приехала к ней погостить несколько недель и прожила двадцать лет.
— По-моему, нам это не грозит, — улыбнулась Энн. — У тети Марии прекрасный дом в Шарлоттауне. Но после смерти матери ей в этом доме стало одиноко. Ее мать умерла два года назад. Ей было восемьдесят пять лет, и тетя Мария за ней преданно ухаживала. Она очень скучает по матери. Давай уж постараемся, Сьюзен, чтобы ей у нас было хорошо.
— Да я-то сделаю, что могу, миссис доктор, голубушка. Вот только стол надо будет удлинить. Да и то сказать — лучше уж стол удлинять, чем укорачивать.
— Только не ставь при ней на стол цветов — у нее, кажется, астма. И она не любит перца, так что лучше не клади его в пищу. И у нее часто бывают головные боли. Надо нам будет постараться поменьше шуметь.
— Еще чего! Что-то я не замечала, чтобы вы с доктором шумели. А если мне захочется покричать, то я пойду в кленовую рощу. Но неужели нашим бедным деткам надо будет все время молчать из-за этих ее головных болей? Вы уж меня извините, миссис доктор, голубушка, но тут я с вами не согласна.
— Но это же всего две-три недели, Сьюзен.
— Будем надеяться, что так. Что поделаешь, миссис доктор, голубушка, приходится принимать жизнь такой, как она есть — и светлые полосы, и темные.
Вскоре приехала тетя Мария и первым делом осведомилась, давно ли в Инглсайде чистили печные трубы. Она, видите ли, страшно боится пожара.
— Я всегда говорила, что у вас в доме слишком низкие трубы. Надеюсь, мою постель проветрили. Я ненавижу спать на влажных простынях.
Мисс Блайт поселилась в комнате для гостей, но ее присутствие ощущалось повсюду, кроме комнаты Сьюзен. Приезд родственницы ни у кого не вызвал восторга. Джим, едва взглянув на нее, ушел на кухню и спросил у Сьюзен: «А смеяться тоже нельзя?» У Уолтера при виде тети Марии глаза наполнились слезами, и его пришлось с позором выставить из гостиной. А близнецы не стали ждать, когда их выставят, и убежали сами. Даже Шримп, по уверениям Сьюзен, бился в конвульсиях на заднем дворе. Только Джефри устоял перед тетей Марией, бесстрашно глядя ей в глаза из своей безопасной гавани на коленях Сьюзен. Та решила про себя, что дети Блайтов очень плохо воспитаны. Да и чего от них можно ожидать, если их мать «пописывает в газетенках», а отец считает своих отпрысков образцом совершенства по той лишь причине, что это — его дети. Да еще эта служанка, Сьюзен, заносится сверх всякой меры. Но она, Мария Блайт, постарается сделать все возможное для внуков бедного кузена Джона.
Глава пятая
После обеда Энн нарезала букет нарциссов для своей комнаты и пионов, выращенных Сьюзен, — чтобы поставить на стол Джильберту в библиотеке. Это были молочно-белые пионы с ярко-красной сердцевиной. После необычайно жаркого июньского дня воздух постепенно свежел.
— Сегодня будет замечательный закат, Сьюзен, — сказала Энн, проходя мимо кухонного окна.
— Мне не до заката, миссис доктор, голубушка — надо еще перемыть гору посуды.
— Пока ты ее перемоешь, все краски уже потускнеют. Посмотри на это огромное облако с розовой каймой, которое повисло над Лощиной. Тебе не хочется взлететь и опуститься на него, как на мягкую перину?
Сьюзен представила себе, как она взлетает на облако с посудной мочалкой в руках. Нет, что-то эта идея ей совсем не нравится. Но миссис доктор, в ее положении, можно извинить самые странные фантазии.
— А на розовые кусты напали какие-то вредоносные жуки, — продолжала Энн. — Надо будет завтра их опрыскать. Я бы с удовольствием занялась этим сейчас… сегодня как раз такой вечер, когда мне хочется поработать в саду.
— Ну, и почему бы вам этим не заняться, если хочется? — спросила Сьюзен.
— Потому что Джильберт пригласил меня покататься. Ему надо повидать бедняжку миссис Пакстон. Она умирает… и ей ничем нельзя помочь… все, что мог, он уже сделал… но она просит, чтобы он к ней заглядывал.
— Что ж, миссис доктор, голубушка, без нашего доктора в этой деревне никто не может ни родиться, ни умереть. А вечер сегодня подходящий для прогулки. Я и сама собираюсь, после того как уложу спать девочек и Джефри, сходить в Глен и купить кое-чего из продуктов. Мисс Блайт только что поднялась к себе наверх, стеная на каждом шагу, что у нее опять раскалывается голова. Так что хоть сегодня вечером мы от нее немного отдохнем.
— Проследи, чтобы Джим лег спать вовремя, Сьюзен. Он очень устал, только не хочет в этом признаваться. Он терпеть не может ложиться в постель. А Уолтер останется ночевать у Лесли.
Джим сидел на крылечке боковой двери и с отвращением глядел на окружающий мир, и особенно на огромную луну, которая взошла над шпилем церкви. Такая здоровенная луна мальчику не нравилась.
— Смотри, как бы эта гримаса не осталась у тебя на лице навсегда, — заметила тетя Мария, проходя мимо него.
Джим скривился еще больше. Ну и пусть останется, даже лучше!
Когда Энн с Джильбертом уехали, на крыльцо вышла Нэнни.
— Что ты за мной все время таскаешься? — прорычал Джим. — Пошла отсюда.
— Злюка, — сказала Нэнни. Но, уходя, положила на ступеньку леденцового льва, которого принесла ему в утешение.
Джим даже не взглянул на льва. У него было чувство, что все только и норовят как-нибудь его обидеть. Даже Нэнни сегодня утром сказала: «Мы все родились в Инглсайде, а ты нет!» А Ди съела днем его шоколадного зайчика, хотя отлично знала, что это его зайчик. Даже Уолтер его бросил и отправился строить замки на песчаном берегу с Перси и Кеннетом Фордами. Тоже мне занятие! До чего же Джиму хотелось пойти с Берти и посмотреть, как делают татуировку! Джим не помнил, чтобы ему раньше чего-нибудь хотелось так. И он надеялся увидеть замечательную модель парусника с полной оснасткой, которая, как говорит Берти, стоит у капитана Билла на каминной полке. Какое свинство, что его туда не пустили!
Сьюзен принесла ему большой кусок кекса, покрытого глазурью с орехами, но Джем гордо отказался от него. Могла бы оставить ему кусочек коврижки с взбитыми сливками! Наверно, все слопали. Обжоры! Джим погрузился в еще большее уныние. А ребята небось уже идут на мыс. Эта мысль была ему невыносима. Нет, надо как-то расквитаться с этой семейкой. Может, выпустить опилки из брюха Дианиного жирафа — прямо посреди ковра в гостиной? Вот Сьюзен взбесится… Знает ведь, что он ненавидит, когда в глазурь кладут орехи! Может, пойти пририсовать усы херувиму на календаре у нее в комнате? Джим терпеть не мог этого толстого розового херувима, потому что он был похож на Сисси Флэгг, которая рассказала всем в школе, что Джим — ее ухажер. Ха-ха! Но Сьюзен обожает своего херувима.
Может, снять скальп с куклы Нэнни? А может, отбить носы у Гога и Магога? Тогда мама наконец поймет, что он уже давно не младенец. Вот придет весна, тогда узнает! Каждую весну, с тех пор как ему исполнилось четыре года, Джим приносил маме подснежники. А в следующую весну не принесет. Хватит! А может, наесться зеленых яблок и заболеть? Вот они все забегают! Или раз и навсегда перестать мыть уши? Или в следующее воскресенье в церкви состроить рожи всем прихожанам? Или засунуть тете Марии за шиворот жирную волосатую гусеницу? А может, убежать в гавань, спрятаться на корабле капитана Риза и завтра утром уплыть с ним в Южную Америку? Пусть знают! И никогда больше сюда не возвращаться. Вместо этого поехать охотиться на ягуаров в Бразилии. Вот тогда они пожалеют, что так с ним обошлись! Нет, не пожалеют! Никто его не любит. Никто не подумал починить дырку в кармане его штанов. Ну и пусть! Буду показывать эту дырку всем в Глене — пусть знают, что его заставляют ходить в лохмотьях! Джим просто задыхался от всех этих обид.
Тик-так, тик-так — тикали старые напольные часы в прихожей. Их привезли в Инглсайд после смерти дедушки Блайта, и вообще-то они нравились Джиму. Но сейчас ему казалось, что часы смеются над ним: «Ха-ха, скоро пора ложиться спать. Все ребята пошли на мыс, а ты ляжешь спать. Ха-ха, ха-ха, ха-ха!»
Ну почему его каждый вечер отправляют в постель? Почему!
Вышла собравшаяся в Глен Сьюзен и с нежностью посмотрела на надутого, разобиженного мальчика.
— Можешь не ложиться спать, пока я не приду, Джим, — ласково сказала она.
— Я вообще не собираюсь сегодня ложиться спать! — отрезал Джим. — Убегу от вас, так и знай, старая грымза! Или брошусь в пруд!
Сьюзен вовсе не понравилось, что ее назвали старой грымзой, и она ушла, поджав губы. Действительно, с мальчишкой надо обходиться построже.
Вслед за ней на крыльцо вышел Шримп и сел перед Джимом. Но вместо ласки получил лишь злобный взгляд:
— Пшел отсюда! Расселся тут и таращишься, как тетя Мария! Брысь! Ах, не пойдешь? Сейчас я тебе покажу!
И Джим запустил в Шримпа игрушечной тачкой Джефри, которая весьма кстати оказалась у него под рукой. Шримп взвыл и бросился в кусты шиповника. Нет, вы только поглядите! Даже кот меня ненавидит! Зачем тогда жить?
Джим взял леденцового льва. Нэнни отъела у него хвост и задние ноги, но все же в нем можно было узнать льва. Съесть, что ли? Может, больше ему никогда не достанется леденцов. К тому времени, когда Джим покончил со львом и облизал пальцы, у него созрело решение. Раз уж тебе ничего не позволяют, остается одно.
Глава шестая
— Почему везде горит свет? — воскликнула Энн, когда они с Джильбертом в одиннадцать часов ночи подъехали к Инглсайду. — В гости кто-нибудь пришел?
Но когда Энн торопливо вошла в дом, гостей она не обнаружила. В нем вообще не было видно ни души. Свет горел и на кухне… и в гостиной… и в столовой… и в комнате Сьюзен, и в коридоре наверху… но людей не было.
— Что бы это могло… — начала Энн, но тут зазвонил телефон. Джильберт взял трубку, послушал секунду, ахнул и выбежал из дома, даже не взглянув на Энн. Видимо, случилось что-то ужасное, и вступать в объяснения не было времени.
Энн привыкла к экстренным вызовам — жена человека, который помогает людям бороться со смертью, к такому привыкает. Она философски пожала плечами и стала снимать пальто и шляпку. Что это случилось с Сьюзен? Уйти из дома, оставив повсюду горящий свет?
— Миссис… доктор… голубушка…
Неужели это Сьюзен? Да, она… Сено в волосах… платье испачкано… А лицо!
— Что случилось, Сьюзен? Сьюзен!
— Пропал Джим.
— Пропал?
— Да, — ответила Сьюзен, ломая руки. — Когда я уходила в Глен, он сидел на крыльце возле боковой двери. Я вернулась еще засветло… но его там не было. Сначала я не испугалась, но его нигде не было. Я обыскала все комнаты… он сказал, что убежит из дому…
— Какой вздор! Никуда он не может убежать, Сьюзен. Напрасно ты так нервничаешь. Он где-нибудь здесь… заснул, наверно… куда он мог деться?
— Я все обыскала, все… Прошлась по саду, поглядела в сараях. Посмотрите, на что я похожа. Я вспомнила, как он говорил, что было бы очень интересно проспать хоть одну ночь на сеновале. И я полезла на сеновал, провалилась в ту дыру над яслями и попала в гнездо с яйцами. Как я еще ногу не сломала! Хотя какая разница, сломала я ногу или нет, если пропал наш Джим!
Энн по-прежнему отказывалась принимать исчезновение Джима всерьез.
— Может быть, он все-таки пошел на мыс с ребятами, Сьюзен? Раньше он никогда не нарушал запрета, но…
— Нет миссис доктор, голубушка, не пошел… не ослушался… Я сбегала к Друкам, и Берти как раз только что вернулся домой. Он сказал, что Джима с ними не было. У меня прямо сердце ушло в пятки. Вы доверили его мне, а я… Я позвонила Пакстонам. Они сказали, что вы уже уехали, и они не знают, где вы.
— Мы поехали в Лоубридж к Паркерам…
— Я всех обзвонила, кто только пришел мне в голову. А потом побежала в деревню и подняла тревогу… мужчины отправились на розыски…
— Ну, что ты, Сьюзен, зачем это?
— Миссис доктор, голубушка, но я обыскала весь дом… все места, куда он мог пойти. Боже, как я исстрадалась… а он сказал, что бросится в пруд…
Тут Энн впервые стало страшно. Конечно, Джим не мог броситься в пруд… какая чушь… но там есть старая лодка, с которой Картер Флэгг удит рыбу. Джим был настроен так воинственно — может быть, он решил поплавать на ней. Ему всегда этого хотелось… Он мог упасть в воду, пытаясь отвязать лодку. У Энн похолодело все внутри.
«А я даже не знаю, куда поехал Джильберт», — растерянно подумала она.
— Что тут за шум? — спросила тетя Мария, вдруг появляясь на лестничной площадке в халате, украшенном драконами, и с ореолом из бигуди на голове. — В этом доме даже поспать спокойно не дадут!
— Джим пропал, — повторила Сьюзен, от страха даже не обратив внимания на тон мисс Блайт. — Мать доверила его мне, а я…
Энн сама принялась обыскивать дом. Где-то же он должен быть! Но комната мальчиков была пуста, и постель Джима не была смята. Не было его и в комнате близнецов… и в ее собственной спальне… его не было нигде. Слазив на чердак и спустившись в подвал, Энн вернулась в гостиную в состоянии, близком к панике.
— Ты только не пугайся, Анни, — зловещим шепотом проговорила тетя Мария, — но вы посмотрели в бочке для дождевой воды? Малыш Джек Макгрегор в прошлом году утонул в такой бочке.
— Посмотрела я в бочке, — сказала Сьюзен, продолжая ломать руки. — Взяла палку и… и потыкала…
Сердце Энн, на секунду остановившись от ужаса, опять забилось. Вспомнив — с некоторым опозданием, — что миссис доктор в ее положении нельзя волноваться, Сьюзен постаралась взять себя в руки.
— Давайте успокоимся, — дрожащим голосом сказала она. — Вы правы, миссис доктор, голубушка, он где-нибудь здесь. Не мог же он раствориться в воздухе.
— А в угольной яме вы смотрели? — спросила тетя Мария. — А в напольных часах?
В угольную яму Сьюзен заглянула, но часы никому не пришли в голову. Там вполне мог спрятаться маленький мальчик. Не задумываясь о том, что Джим вряд ли смог бы просидеть там скорчившись столько времени, Энн бросилась к часам. Но там Джима тоже не было.
— У меня сегодня вечером было предчувствие, что что-нибудь случится, — сказала тетя Мария, прижимая руки к вискам. — Когда я читала на ночь Библию, фраза: «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что он принесет» так и бросилась мне в глаза. Это звучало как предзнаменование. Приготовься к худшему, Анни. Может быть, он забрел в болото. Жаль, что у нас нет охотничьих собак.
Энн вымученно рассмеялась.
— Боюсь, что на острове мало охотничьих собак. Если бы был жив старый сеттер Джильберта, он живо разыскал бы Джима. Я убеждена, что ничего страшного не случилось.
— Сорок лет тому назад в Кармоди исчез Томми Спенсер… и его так и не нашли. Или нашли? Ну да, нашли его скелет. Тут не над чем смеяться, Анни. Не понимаю, как ты можешь к этому так легко относиться.
Зазвонил телефон. Энн и Сьюзен поглядели друг на друга.
— Я не могу, Сьюзен… я боюсь брать трубку.
— И я, — отозвалась Сьюзен. Впоследствии она просто ненавидела себя за то, что проявила такую слабость перед мисс Блайт, но в ту минуту у нее онемели руки и ноги. Проведя два часа в бесплодных поисках, измучив себя картинами воображаемых несчастий, Сьюзен совсем растерялась.
Тетя Мария подошла к телефону и взяла трубку.
— Картер Флэгг говорит, что они все обыскали в деревне и нигде его не нашли, — спокойно оповестила она Энн и Сьюзен. — Но он говорит, что видит лодку посредине пруда, и в ней как будто никого нет. Они собираются искать его в пруду.
Сьюзен едва успела подхватить пошатнувшуюся Энн.
— Нет-нет, Сьюзен, я не собираюсь падать в обморок, — белыми губами проговорила Энн. — Помоги мне сесть в кресло… спасибо… надо найти Джильберта…
— Если Джеймс утонул, Анни, тебе надо помнить, что он отправился в царство небесное, избежав многих мучений в этой юдоли скорби, — в порядке утешения изрекла тетя Мария.
— Я возьму фонарь и еще раз обыщу сад и рощу, — сказала Энн, как только она смогла встать на ноги. — Я знаю, что ты это уже сделала, Сьюзен… но я все-таки пойду… Я не могу просто сидеть и ждать…
— Ну, тогда наденьте теплую кофточку, миссис доктор, голубушка. Выпала холодная роса, и в воздухе сильная влажность. Сейчас я вам принесу красную кофточку из комнаты мальчиков. Подождите минутку.
Сьюзен побежала наверх. Через минуту по всему Инглсайду разнесся оглушительный вопль. Энн и тетя Мария бросились наверх и увидели в коридоре Сьюзен, которая одновременно плакала и смеялась и вообще впервые в жизни была на грани истерики.
— Миссис доктор, голубушка, он там… Джим там — спит на подоконнике. За дверью его не видно… а мне и в голову не пришло туда заглянуть… когда я увидела, что его нет в постели…
Ослабевшая от радости, Энн вошла в комнату мальчиков и опустилась на колени перед подоконником. Через час-другой они с Сьюзен будут смеяться над собой и называть себя паникершами, но сейчас по ее лицу лились слезы благодарности судьбе. Джим спал на подоконнике, накрывшись пледом и прижимая к себе старого мишку, а в ногах у него лежал простивший ему обиду Шримп. Казалось, Джиму снилось что-то приятное, и Энн не хотелось его будить. Но он вдруг открыл ясные глаза и посмотрел на мать.
— Джим, родной мой, но почему же ты не лег в постель? Мы… мы тебя обыскались… никак не могли найти… а сюда заглянуть не догадались…
— Я решил устроиться здесь, чтобы увидеть, как вы с папой приедете. Мне было так одиноко…
И вот уже мама берет его на руки и несет в постель. Как приятно, когда тебя целуют, ласково подтыкают одеяло. Нет, видно, мама его все-таки любит. Подумаешь, какая важность, что он не видел эту дурацкую татуировку! Мама такая милая, самая милая мама на свете. Вот мать Берти все зовут жадюгой… и она за всякую малость отвешивает сыну подзатыльники… он сам видел.
— Мама, — сонно пробормотал Джим, — я тебе обязательно весной принесу подснежников… и буду приносить каждую весну. Можешь не сомневаться.
— Я и не сомневаюсь, мой милый.
— Ну, побегали, поволновались досыта, теперь, надеюсь, можно идти спать? — осведомилась тетя Мария. Но даже в ее сварливом голосе слышалось облегчение.
— Как же это мы не поглядели на подоконнике? — недоумевала Энн. — Сами во всем виноваты. Джильберт нам это еще долго будет припоминать. Сьюзен, позвони, пожалуйста, мистеру Флэггу и скажи, что Джим нашелся.
— Вот кто будет надо мной насмехаться, — счастливым голосом произнесла Сьюзен. — Ну, ничего, пусть… главное, что Джим цел.
— Хотелось бы чашечку чаю, — жалобно попросила тетя Мария, запахиваясь в своих драконов.
— Сейчас вскипячу, — с готовностью отозвалась Сьюзен. — Нам всем полезно выпить чайку. Можете себе представить, миссис доктор, голубушка, когда я сказала Картеру Флэггу, что Джим нашелся, он только и произнес: «Слава Богу!» Больше я никогда не буду жаловаться на цены у него в магазине. Может, завтра приготовить на обед курицу? Надо как-то отпраздновать. А Джиму на завтрак я напеку его любимых оладьев.
Опять раздался телефонный звонок. Звонил Джильберт. Он сказал, что повезет в больницу ребенка, который страшно обварился, и чтобы его не ждали раньше утра.
Перед тем как лечь в постель, Энн выглянула в окно. С моря дул прохладный ветер. Освещенные луной деревья в Лощине трепетали точно от радости. Слава Богу, все кончилось благополучно, ее ребенок жив и здоров. А Джильберт где-то в ночи борется за жизнь другого мальчика.
— Господи, помоги малышу и помоги его матери… помоги всем матерям на свете!
Инглсайд затих в объятиях ночи, и даже Сьюзен, которой от стыда хотелось забраться в какую-нибудь нору и спрятаться там от всех, заснула под доброй крышей старого дома.
Глава седьмая
— Ему будет с кем играть… наших четверо… и к тому же сейчас у нас гостят племянник и племянница из Монреаля. Чего только они не придумывают!
Большая, добрая, веселая миссис Паркер широко улыбалась Уолтеру. Тот отвечал весьма неуверенной улыбкой. Несмотря на доброжелательность миссис Паркер, она не так уж ему нравилась. Ее мужа, доктора Паркера, мальчик любил, а что касается ее четверых детей и племянника с племянницей из Монреаля, он никого из них ни разу в глаза не видел. Паркеры жили в шести милях от Глена, в Аоубридже, и Уолтер ни разу там не был, хотя Паркеры и Блайты часто ездили друг к другу в гости. Папа и доктор Паркер были большими друзьями, хотя порой Уолтеру казалось, что мама прекрасно обошлась бы без миссис Паркер. Для своих шести лет он был весьма проницательным ребенком.
Да и вообще мальчику не хотелось ехать в Лоубридж. В некоторые места он ездил с удовольствием. Например, в Эвонли… там всегда было очень весело. А еще интереснее было остаться на ночь с Кеннетом Фордом в старом беленьком домике — хотя это по-настоящему не назовешь поездкой в гости: для детей Блайтов этот домик был почти родным. Но на две недели ехать в Лоубридж и жить там среди чужих — в этом для Уолтера было мало заманчивого. Но, похоже, вопрос был решен. Почему-то — малыш этого никак не мог понять — мама и папа хотели, чтобы он туда поехал. «Они что, решили избавиться от всех своих детей?» — с недоумением и грустью думал Уолтер. Джима позавчера увезли в Эвонли, и Уолтер подслушал какие-то таинственные намеки Сьюзен о том, что, дескать, «когда придет время», надо будет отправить Нэнни и Ди к миссис Эллиотт. Какое это время должно прийти? У тети Марии был очень мрачный вид, и она уже не раз говорила: «Скорей бы уж это все кончилось». Что «это» — мальчик не знал. Но в Инглсайде, несомненно, происходило что-то таинственное.
— Я привезу его к вам завтра, — сказал Джильберт.
— Везите — дети будут очень рады, — ответила миссис Паркер.
— Мы вам очень признательны, — сказала Энн.
— Будем надеяться, что все к лучшему, — мрачно заявила Шримпу Сьюзен, скрывавшаяся на кухне.
— Как это мило со стороны миссис Паркер взять к себе Уолтера, — заметила тетя Мария, когда Паркеры уехали. — Она мне сказала, что он ей очень нравится. Странные, однако, у людей бывают вкусы. По крайней мере, две недели можно будет спокойно заходить в ванную, не опасаясь наступить на дохлую рыбу.
— Дохлую рыбу? Как это?
— Вот именно, Анни, дохлую рыбу. Ты когда-нибудь наступала босой ногой на дохлую рыбу?
— Э-э-э, нет, но я не…
— Уолтер поймал вчера форель и положил ее в ванну, чтобы она не уснула, миссис доктор, голубушка, — объяснила Сьюзен. — Если бы она так и оставалась в ванне, все было бы в порядке, но она как-то ухитрилась оттуда выпрыгнуть и за ночь уснула. Конечно, если ходить повсюду босиком…
— Я давно поставила себе за правило ни с кем не ссориться, — отрезала тетя Мария и вышла из комнаты.
— А я сто раз говорила себе не обращать на нее внимания, — сказала Сьюзен.
— Ох, Сью, она и мне на нервы действует… но
потом,надеюсь, я не буду так раздражаться. И наверно, наступить босой ногой на мертвую рыбу действительно неприятно.
— А по-моему, лучше наступить на мертвую, мама, — заметила Ди. — Живая к тому же еще и дергается.
Надо признать, что это замечание вызвало улыбку и у хозяйки и у прислуги.
Таким образом, вопрос был решен, но все же перед сном Энн призналась Джильберту, что боится за Уолтера: вряд ли ему будет хорошо в Лоубридже.
— У него слишком тонкая нервная организация и слишком живое воображение, — сказала она.
— Вот именно, слишком, — отозвался Джильберт, который принял в тот день трех новорожденных. — Мне кажется, что он даже боится подниматься в темноте по лестнице. Ему будет очень полезно пообщаться с детворой Паркеров. Глядишь, вернется совершенно другим ребенком.
Энн не спорила. Наверно, Джильберт прав. Без Джима Уолтеру одиноко в Инглсайде. К тому же, если вспомнить, что было, когда родился Джефри, становится ясно, что Сьюзен надо по возможности освободить от хлопот с детьми — хватит ей забот по дому и капризов тети Марии, которая, кстати, прогостила у них уже четыре недели вместо двух.
Уолтер лежал в постели и пытался, дав простор фантазии, отвлечься от гнетущей мысли, что завтра его увезут из дома. У мальчика действительно было очень живое воображение. Оседлав его, как белого жеребца — такого, как на картинке в гостиной, — он привольно носился по просторам времени и пространства. Для него и Инглсайд, и Лощина, и кленовая роща, и болото, и берег бухты были населены эльфами, дриадами, русалками и троллями. Черная гипсовая кошка, которая стояла на каминной полке в библиотеке, на самом деле была ведьмой. По ночам она оживала, разрасталась до огромных размеров и бродила по дому. Уолтер вздрогнул и натянул одеяло на голову. Он часто пугался собственных выдумок. Может быть, тетя Мария и не ошиблась, когда сказала, что он «чересчур уж нервный и чувствительный», хотя Сьюзен никогда не простит ей этих слов. С другой стороны, возможно, что была права тетя Китти Макгрегор, которую считали «ясновидящей». Заглянув в дымчато-серые, прикрытые длинными ресницами глаза Уолтера, она сказала, что у него «душа старика в теле ребенка». Порой казалось, что его старая душа знала слишком много такого, с чем не мог справиться его детский ум.
Утром Уолтеру сказали, что папа отвезет его в Лоубридж после обеда. Мальчик ничего на это не возразил, но за обедом у него вдруг в горле встал комок, и он поспешно опустил глаза, на которых выступили слезы. Однако от всевидящей тети Марии ему их скрыть не удалось.
— Уж не собираешься ли ты расплакаться, Уолтер? — спросила она таким тоном, будто для шестилетнего мальчика не может быть ничего позорнее, чем расплакаться. — До чего же я презираю детей, у которых глаза вечно на мокром месте. И почему ты не съел мясо?
— Я съел мясо, только жир оставил, — ответил Уолтер, моргая изо всех сил, чтобы загнать слезы назад, но все еще не осмеливаясь поднять глаза. — Я не люблю жир.
— Когда я была ребенком, — завела свою любимую песню тетя Мария, — у меня не спрашивали, что я люблю и что нет. Надеюсь, что миссис Паркер отучит тебя привередничать. У них в семье с детьми особенно не цацкаются.
— Пожалуйста, тетя Мария, не пугайте Уолтера Паркерами, — твердо сказала Энн.
— Извини, Анни, — кротко отозвалась тетя Мария, — я совсем забыла, что мне запрещено делать какие бы то ни было замечания твоим детям.
— Пропади ты пропадом! — пробурчала Сьюзен, выйдя на кухню за десертом — любимым пудингом Уолтера.
Энн почувствовала себя виноватой. Джильберт бросил на нее укоризненный взгляд: дескать, можно быть и более терпимой к слабостям бедной одинокой старухи.
Джильберт сам чувствовал себя неважно. Он просто устал, да к тому же тетя Мария не способствовала согласию в семье, хотя он упорно отказывался в этом признаваться даже самому себе. Энн решила, что осенью, если все будет благополучно, отправит его на месяц в Новую Шотландию пострелять дупелей.
— Ну как, чай хорошо заварен? — спросила она тетю Марию, стараясь загладить свою вину.
— Слишком слабый, — отозвалась та, поджав губы. — Но это не имеет значения. Кому дело до того, нравится ли какой-то старухе поданный ей чай. А вот некоторые любят приглашать меня в гости.
Но Энн не стала доискиваться связи между последними двумя высказываниями. Она вдруг побледнела.
— Пожалуй, я пойду прилягу, — слабым голосом сказала она. — Знаешь, Джильберт, не задерживайся в Лоубридже… и позвони мисс Карсон.
Энн как-то поспешно поцеловала Уолтера — словно ее мысли были заняты другим. Уолтер мужественно крепился, чтобы не заплакать. Тетя Мария тоже поцеловала его в лоб — Уолтер терпеть не мог, когда его целовали в лоб влажными губами — и наказала:
— Смотри прилично веди себя за столом. Не хватай куски без спросу. Если будешь так делать, придет черный старик и засунет тебя в большой черный мешок.
На ее счастье, Джильберт вышел запрягать лошадь и не слышал этих слов. Они с Энн были единодушны в своей решимости никогда не пугать своих детей и не разрешать этого делать другим. Но Сьюзен, убиравшая со стола, слышала слова тети Марии. Та и понятия не имела, как мисс Бейкер была близка к тому, чтобы запустить ей в голову соусником.
Глава восьмая
Вообще-то Уолтер любил ездить с папой. Он любил все красивое, а Глен располагался в весьма живописном месте. Дорога в Лоубридж шла через луга, желтеющие веселыми лютиками, мимо окруженных темно-зеленым ободом папоротников рощиц. Но сегодня папа был неразговорчив и немилосердно гнал лошадь. Когда они приехали в Лоубридж, он что-то торопливо шепнул миссис Паркер и уехал, забыв даже попрощаться с Уолтером. Мальчик опять с трудом сдержал слезы. Ему было совершенно ясно, что он надоел своим родителям — иначе они не постарались бы от него избавиться в такой спешке. 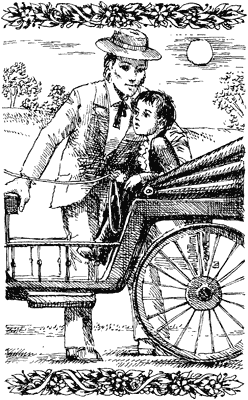 Большой запущенный дом Паркеров показался Уолтеру чужим и неприветливым. Правда, в тот момент ему бы, наверно, любой дом показался неприветливым. Миссис Паркер повела его на задний двор, откуда раздавались веселые крики и смех, и представила его детям, которых, как показалось Уолтеру, там было чересчур много. И тут же ушла заниматься своими делами, сказав детям: «Ну, вы тут сами знакомьтесь». Она всегда так делала, и в девяти случаях из десяти все получалось как нельзя лучше. Ей и в голову не пришло, что маленький Уолтер Блайт был тем самым десятым случаем. Может быть, милую женщину даже нельзя было в этом винить. Ей нравился Уолтер… ее собственные дети были веселыми и дружелюбными, и хотя Фред и Опал из Монреаля любили поважничать, она была совершенно уверена, что они никого не могут обидеть. Так что она не сомневалась, что все будет прекрасно, и была очень рада, что может помочь «бедной Энн Блайт» в тяжелую минуту хотя бы тем, чтобы взять к себе одного из ее детей. Миссис Паркер от души надеялась, что все кончится благополучно. Дело в том, что друзья Блайтов хорошо помнили, как тяжело Энн рожала Джефри, и беспокоились за нее. Во дворе, который переходил в большой яблоневый сад, вдруг наступила тишина. Уолтер серьезно и застенчиво смотрел на детей Паркеров и их кузенов из Монреаля. Билл Паркер, краснощекий крепыш, которому было уже десять лет, показался Уолтеру прямо-таки великаном. Энди Паркера, которому было девять лет, местные дети справедливо считали самым зловредным из паркеровского выводка и прозвали «свиньей». Уолтеру с первого взгляда не понравились его голубые глаза навыкате, проказливое веснушчатое лицо и щетина коротко остриженных светлых волос. Фред Джонсон был ровесник Билла и тоже не понравился Уолтеру, хотя у него было гораздо более приятное лицо с карими глазами и волнистыми каштановыми волосами. У его девятилетней сестры Опал тоже были волнистые волосы и темные глаза. Она стояла, обнявшись с восьмилетней Корой Паркер, и обе снисходительно взирали на Уолтера. Если бы тут же не стояла Алиса Паркер, Уолтер, наверно, повернулся бы и убежал в дом. У семилетней Алисы были очаровательные золотистые кудри, глаза такие же синие и ласковые, как фиалки в Лощине, и ямочки на розовых щечках. На ней было желтое платье с оборочками, в котором она походила на лютик. Девочка дружески улыбнулась Уолтеру, словно знала его всю жизнь. Разговор начал Фред: — Привет, малыш! Уолтер моментально уловил снисходительную интонацию и спрятался в свою раковину. — Меня зовут Уолтер, — четко проговорил он. Фред повернулся к остальным с выражением крайнего изумления. Ну, подожди, деревенщина, я тебе покажу! — Он говорит, что его зовут Уолтер, — иронически скривив губы, сказал он. — Он говорит, что его зовут Уолтер, — сообщил Опал Билл. — Он говорит, что его зовут Уолтер, — передала та по цепочке радостно ухмыляющемуся Энди. — Он говорит, что его зовут Уолтер, — подмигнул Коре брат. — Он говорит, что его зовут Уолтер, — хихикнув, сообщила Алисе Кора. Алиса не сказала ничего. Она просто с восхищением посмотрела на Уолтера, и этот взгляд помог ему перенести насмешки остальных, которые хором пропели «Он говорит, что его зовут Уолтер» и глумливо захохотали. «Как там детки веселятся», — удовлетворенно подумала миссис Паркер, не поднимая головы от шитья. — А мама говорит, что ты веришь в фей, — съязвил Энди. Уолтер, не смущаясь, поглядел ему в глаза. Нет уж, он не поддастся им на глазах у Алисы. — Конечно, верю, — заявил он. — Фей нету, — сказал Энди. — Нет, есть, — стоял на своем Уолтер. — Он говорит, что феи есть, — сообщил Биллу Фред… и они опять повторили свой номер. Над Уолтером никто раньше не насмехался, и терпеть это издевательство было невыносимо. Он закусил губу, чтобы не расплакаться на глазах у Алисы. — А хочешь, я защиплю тебя до синяков? — спросил Энди, который уже решил, что Уолтер — слюнтяй и что его будет очень весело дразнить. — Заткнись, свинья, — свирепо проговорила Алиса — очень свирепо, хотя и тихим нежным голосом. И что-то в ее тоне приструнило даже Энди. — Да я пошутил, — пробормотал он. Обстановка переменилась в пользу Уолтера, и они довольно мирно принялись играть в салочки в саду. Но когда вся орава вломилась в дом ужинать, Уолтера опять охватила тоска по дому. У него так защемило сердце, что он почувствовал, что вот-вот расплачется — перед всеми ними… и даже перед Алисой. Но та дружелюбно толкнула его локтем, когда они усаживались за стол, и ему стало легче. Правда, есть он ничего не смог — у него просто кусок застревал в горле. Миссис Паркер, методы воспитания которой, без сомнения, имели и свои положительные стороны, не приставала к нему, решив, что к завтраку он обязательно проголодается, а дети были слишком поглощены едой и болтовней, чтобы обращать на него внимание. Уолтер никак не мог понять, почему все так кричат, не зная, что эта привычка возникла у них, пока с ними жила очень глухая бабушка, которая к тому же страшно обижалась, если разговор шел помимо нее. Она умерла совсем недавно, и они еще не отвыкли кричать за столом. От шума у Уолтера разболелась голова. Дома сейчас тоже, наверно, ужинают. Мама улыбается, сидя во главе стола, папа шутит с девочками, Сьюзен наливает молока в кружку Джефри, Нэнни потихоньку сует под столом кусочки Шримпу. Даже тетя Мария, как часть семьи, обрела некую привлекательность. И кто, интересно, звонил в китайский гонг к ужину? На этой неделе очередь Уолтера, а Джима нет дома. Если бы только здесь было куда спрятаться и как следует всплакнуть! Но в доме Паркеров такого места, судя по всему, не было. А потом… как же Алиса? Уолтер выпил залпом целый стакан холодной воды, и ему стало легче. — А у нашей кошки бывают припадки, — вдруг сообщил Энди, толкнув Уолтера под столом ногой. — У нашего кота тоже, — ответил Уолтер. У Шримпа случались судороги. Уолтер не хотел, чтобы его кот в чем-то уступал паркеровской кошке. — Спорим, наша кошка устраивает припадки чаще вашего кота, — не отвязывался от него Энди. — Спорим, — согласился Уолтер. — Дети, не надо устраивать свару из-за кошек, — сказала миссис Паркер, которая хотела, чтобы вечер прошел спокойно и она смогла продолжить работу над статьей «Непонимание детей родителями как отрицательный фактор в воспитании». — Идите лучше играть. Скоро пора ложиться спать. Спать? Уолтер только сейчас с ужасом осознал, что ему придется провести в Лоубридже ночь… много ночей… целых две недели ночей. Какая тоска! Он пошел в сад со стиснутыми от горя кулаками и увидел, как Билл и Энди катаются по земле, крича, царапаясь и стараясь побольнее пнуть друг друга. — Ты мне дал червивое яблоко! — вопил Энди. — Я тебе покажу, как давать мне червивые яблоки. Я тебе уши откушу! Подобные драки у Паркеров случались каждый день. Миссис Паркер считала, что мальчикам даже полезно иногда подраться. У них при этом высвобождается лишняя энергия, которую они иначе пустили бы на какое-нибудь озорство. Драки не мешали им оставаться друзьями. Но Уолтер, который ни разу видел драки, пришел в ужас. Фред стоял рядом и подзуживал дерущихся. Опал и Кора смеялись, но в глазах Алисы стояли слезы. Этого Уолтер перенести не смог. Он бросился между дерущимися, которые на секунду остановились, чтобы перевести Дух. — Перестаньте драться! — закричал он. — Вы напугали Алису! Билл и Энди ошеломленно вытаращились на него. Как, эта козявка вмешивается в их драку? Им стало смешно, и оба расхохотались. Билл хлопнул Уолтера по плечу. — Смотрите, а младенец не такой уж трусишка. Может, из него еще человек получится. На тебе за это яблоко — без червяков! Алиса вытерла слезы со своих румяных щек и с обожанием посмотрела на Уолтера. Но Фреду это не понравилось. Пусть Алиса еще совсем малявка, но даже и малявке он не позволит с обожанием смотреть на других мальчишек, когда рядом он, Фред Джонсон из Монреаля. Надо одернуть этого шпендрика! Фред только что заходил в дом и слышал, как его тетка говорила по телефону с мужем. — Твоя мать тяжело заболела, — сказал он Уолтеру. — He-неправда! — воскликнул Уолтер. — Заболела! Я сам слышал, как тетя Джен говорила это дяде Дику. — Правда, тетка сказала только: «Энн Блайт слегла», но почему не сказать этому Уолтеру, что его мать тяжело больна? — Вот приедешь домой, а она уже умерла… Уолтер огляделся с ужасом в глазах. И опять Алиса была на его стороне… а остальные встали под знамя Фреда. Они чувствовали что-то чуждое в этом темноволосом красивом мальчике и с наслаждением его дразнили. — Если она и заболела, — уверено сказал Уолтер, — папа ее вылечит. Ну, конечно, вылечит! — Ничего у него не получится, — со скорбной физиономией произнес Фред, одновременно подмигивая Энди. — У папы всегда все получается, — настаивал Уолтер. — А вот Русс Картер прошлым летом на один день уехал в Шарлоттаун, а когда вернулся, его мать уже отдала концы, — сказал Билл. — И ее даже похоронили, — добавил Энди, нагнетая мраку. Какая разница, правда это или нет? — Русс ужасно злился, что опоздал на похороны — на похоронах так интересно. — А я ни разу не была на похоронах, — грустно добавила Опал. — Еще находишься, — утешил ее Энди. — Так вот, даже папа не смог вылечить миссис Картер, а твоему отцу до него далеко. — Ничего подобного! — Мой папа лучше лечит, чем твой, и он куда более представительный мужчина… — Неправда… — Когда уезжаешь из дому, там обязательно что-нибудь случается, — добавила Опал. — Как тебе понравится, если ты вернешься домой, а Инглсайд сгорел дотла? — Если твоя мать умрет, вас всех раздадут родственникам и знакомым, — веселилась Кора. — Может, ты навсегда останешься у нас. — Правда, оставайся, — нежным голосом проговорила Алиса. — Да нет, его отец никому их не отдаст, — сказал Билл. — Просто он женится еще раз, а может, тоже умрет. Папа говорит, что доктор Блайт заработался до смерти. Ой, смотрите, как он вытаращил глаза! У тебя девчоночьи глаза, малыш… девчоночьи глаза… девчоночьи глаза! — Хватит вам к нему приставать, — оборвала Опал, которой это развлечение вдруг надоело. — Не верь им. Они просто дразнятся. Пойдемте в парк и посмотрим, как играют в бейсбол, а Уолтера с Алисой оставим здесь. Больно надо, чтобы за нами повсюду таскалась малышня? Уолтер был рад, что они ушли. Алиса тоже вроде не огорчилась. Они сели на упавшую яблоню и застенчиво и удовлетворенно поглядели друг на друга. — Я научу тебя играть в камешки, — утешила Алиса, — и дам тебе на время своего плюшевого кенгуру. Спать Уолтера положили в маленькой комнате на втором этаже. Миссис Паркер оставила ему горящую свечу — все-таки она понимала, что ему может быть страшно на новом месте. На кровать она положила стеганое одеяло. Последнее время ночи были очень холодными — на острове иногда такое случалось даже в июле. Она бы не удивилась, если бы трава покрылась инеем. Но Уолтер не мог заснуть — даже в обнимку с кенгуру, которого ему дала Алиса. Если бы он был в Инглсайде в своей собственной комнате, где в большое окно было видно деревню, а перед маленьким окошком с козырьком росла кудрявая сосна! Пришла бы мама и на ночь почитала бы ему стихи… — Я большой мальчик… я не стану плакать… ни за что-о-о… — И тут слезы хлынули у него из глаз. Что ему в этом кенгуру? Ему казалось, что он уже много лет не был дома. Скоро другие дети пришли из парка и ввалились к нему в комнату, где дружелюбно расселись вокруг и начали грызть яблоки. — А ты ревел, плакса-вакса! — насмешливо воскликнул Энди. — Ты не парень, а плаксивая девчонка, мамин любимчик… — На, откуси яблочка. — Билл протянул Уолтеру полусъеденное яблоко. — И хватить кукситься. Твоей маме небось уже лучше… если только у нее есть сопротивляемость. Папа говорит, что миссис Флэгг давно бы уже умерла, если бы не ее сопротивляемость. У твоей матери есть сопротивляемость? — Конечно, есть, — ответил Уолтер. Он не знал, что такое сопротивляемость, но если она есть у миссис Флэгг, то у его мамы и подавно. — Миссис Сойер на прошлой неделе умерла, — сказал Энди, — а на позапрошлой — мать Сэма Кларка. — Они умерли ночью, — добавила Кора. — Мама говорит, что люди чаще всего умирают ночью. Я не хочу умереть ночью! Мне не хочется явиться на небо в ночной рубашке. — Дети! Дети! — позвала миссис Паркер. — Пора спать! Мальчишки еще немного потешились над Уолтером, притворяясь, что хотят задушить его полотенцем. В общем, решили они, не такой уж он плохой малышастик. Уолтер схватил Опал за руку. — Опал, это же неправда? Мама вовсе не больна? — умоляюще спросил он. Он не мог остаться наедине со своим страхом. Опал не была злой девочкой, но так интересно рассказать дурную новость! — Нет, она правда больна. Тетя Джен нам сказала… только велела не передавать тебе. А я считаю, что тебе надо знать. Может, у нее рак. — Неужели все умирают, Опал? Для Уолтера это было страшным открытием. До этого он ни разу в жизни не задумывался о смерти. — Конечно, глупыш. Но они на самом деле не умирают… а отправляются в царство небесное, — утешила его Опал. — В царство небесное попадают не все, — зловещим шепотом добавил Энди, который стоял в дверях, слушая их разговор. — А где это… царство небесное? Это дальше Шарлоттауна? — спросил Уолтер. Опал рассмеялась. — Какой же ты и в самом деле чудак! Царство небесное от нас за миллионы миль. Знаешь, что тебе надо делать? Молиться! Молитва помогает. Я раз потеряла десять центов и долго молилась. И потом нашла двадцатипятицентовик. Так что это точно помогает. — Опал, ты слышала, что я сказала? — крикнула из спальни миссис Паркер. — И задуй свечу в комнате Уолтера. Как бы не случился пожар. Ему давно пора спать. Опал задула свечу и убежала. У тети Джен покладистый характер, но лучше ее не сердить. Энди сунул голову в комнату Уолтера и прошипел напоследок: — Эти птицы ночью слетают с обоев. Смотри, чтобы они не выклевали тебе глаза! После этого все разошлись по комнатам и легли-таки спать, чувствуя, что отлично провели день. Уолт Блайт — неплохой малыш, и дразнить его очень весело. Вот завтра… «Милые крошки», — умиляясь, подумала миссис Паркер. На дом спустилась непривычная тишина, а в шести милях от Лоубриджа, в Инглсайде, новорожденная Берта-Марилла Блайт моргала карими глазами, глядя на склонившиеся над ней радостные лица. Она появилась на свете в такую холодную июльскую ночь, какой на острове Принца Эдуарда не было уже восемьдесят семь лет.
Глава девятая
Оставшись в темноте, Уолтер никак не мог уснуть. Он никогда в жизни не спал один в комнате — рядом всегда слышалось успокаивающее дыхание Джима или Кеннета. Постепенно комнату осветил слабый лунный свет, и он смог различать окружающие его предметы, но этот полумрак был хуже полной темноты. Картина, висевшая на стене в ногах кровати, казалось, зловеще ухмылялась. Картины вообще ночью совсем другие, чем днем, подумал Уолтер. Смотришь на картину и вдруг видишь там такое, о чем и не подозревал. Кружевные гардины напоминали высоких худых женщин, плачущих по обе стороны окна. В доме раздавались какие-то непонятные звуки — потрескивания, вздохи, шепот. А что, если птицы и впрямь слетят с обоев и захотят выколоть ему глаза? Уолтеру стало жутко… но потом все эти мелкие страхи вытеснились одним большим: мама больна! Раз Опал это подтвердила, значит, это правда. Что, если мама умирает? А вдруг она уже умерла?! Как же они будут жить без мамы?
И тогда Уолтер понял, что не в силах больше терпеть. Надо идти домой. Прямо сейчас. Он должен увидеть маму до того… как она… умрет. И не станет он никого будить и просить, чтобы его отвезли домой. Они не согласятся… они только посмеются над ним. До дому страшно далеко, но за ночь он дойдет.
Уолтер тихонько встал с кровати и оделся. Ботинки он взял в руки. Мальчик не знал, куда миссис Паркер положила его шапку, но это было неважно. Главное — чтобы его не услышали… Ему надо убежать и повидать маму. Жаль, что нельзя попрощаться с Алисой… она бы поняла. Он вышел в темный коридор… затаив дыхание, шаг за шагом, спустился по лестнице… когда же кончатся эти ступеньки? Ему казалось, что даже мебель прислушивается к его шагам… Ой!
Уолтер уронил один ботинок, который покатился вниз по лестнице, громко прыгая со ступеньки на ступеньку, вылетел в прихожую и с оглушительным, как показалось Уолтеру, грохотом стукнулся о входную дверь.
Мальчик прижался к перилам. Наверное, этот грохот разбудил весь дом… сейчас они все выбегут… ему не дадут уйти домой… Отчаяние сдавило Уолтеру горло.
Прошло, наверное, несколько часов, прежде чем он осмелился поверить, что никто не проснулся, и опять стал красться вниз по лестнице. Наконец она кончилась. Уолтер нашел свой ботинок и нажал на ручку двери. Паркеры никогда не запирали входную дверь. Миссис Паркер говорила, что у них в доме нечего украсть, кроме детей, а на них никто не позарится.
И вот Уолтер осторожно прикрыл за собой дверь. Надев ботинки, он пошел по улице. Дом Паркеров стоял на краю деревни, и Уолтер вскоре очутился на дороге, идущей через поля. На мгновенье его охватила паника. Позже она сменилась боязнью одиночества и темноты. Мальчик еще никогда в жизни не был ночью на улице один. Он всего боялся. Кругом такой огромный мир, а он такой маленький! Даже холодный ветер, казалось, нарочно дул ему в лицо, чтобы помешать идти вперед.
Мама умирает! Уолтер судорожно сглотнул и пошел. Мальчик шел и шел, храбро стараясь подавить страх. Светила луна, в ее неверном свете все казалось незнакомым и страшным. Когда папа однажды взял его кататься вечером, ему казалось, что нет ничего красивее освещенной луной дороги, поперек которой лежали тени деревьев. Но сейчас тени были такие черные и острые! Вдруг вскочат и набросятся на него? И поля стали какими-то странными. И деревья на обочине казались враждебными. Они словно подкарауливали его. Из придорожной канавы вдруг сверкнули два горящих глаза, и огромный черный кот перебежал ему дорогу. Неужели коты бывают такие большие? А может… Ночь была холодной, Уолтер дрожал в своей тонкой рубашке, но он сумел бы пренебречь холодом — лишь бы ему не было так страшно. Он боялся теней, непонятных звуков и неизвестных тварей, которые, наверное, притаились в роще, через которую шла дорога. Вот было бы хорошо ничего не бояться, как Джим!
— А я возьму и притворюсь, что мне совсем не страшно, — вслух сказал Уолтер и еще больше задрожал от ужаса, услышав свой одинокий голос, замиравший в ночи.
Но все равно надо идти — раз мама умирает, значит, надо к ней идти. Он упал и больно ударился коленом о камень. Потом услышал, что его догоняет тележка, и спрятался за деревом: вдруг это доктор Паркер обнаружил, что его нет, и бросился вдогонку? Потом остановился как вкопанный, увидев у обочины что-то большое и лохматое. Нет, мимо этого он пройти не посмеет… ни за что! Но все-таки прошел. Это была большая черная собака… собака ли?., но она уже осталась позади. Уолтер не осмеливался побежать — вдруг она за ним погонится! Он со страхом оглянулся: собака не торопясь трусила в противоположном от него направлении. Уолтер потрогал лицо: оно было покрыто каплями холодного пота.
Он увидел падающую звезду и вспомнил, как старая тетя Китти говорила: если упала звезда, значит, кто-то умер. Неужели мама?! Уолтеру за минуту до этого казалось, что ноги совсем не слушаются его, но страшная мысль придала мальчику новые силы. Он так замерз, что уже почти не чувствовал страха. Когда же он дойдет до дома? Он ведь так давно ушел из Лоубриджа!
Действительно, мальчик шел уже три часа. Из дома Паркеров он ушел в одиннадцать, а сейчас было два. Увидев, что он уже на дороге, спускающейся к Глену, Уолтер чуть не расплакался от облегчения. Спотыкаясь, он прошел через деревню, и даже здесь спящие дома казались чужими и далекими. Они уже забыли его. Вдруг за изгородью раздалось мычание, и Уолтер вспомнил, что у мистера Риза очень злой бык. Он запаниковал и бросился бежать. От страха мальчик даже не заметил, как оказался у ворот Инглсайда. Наконец-то он дома… дома!
И тут он остановился, весь дрожа от тоскливого чувства разочарования. Он ожидал, что в окнах будет гореть приветливый свет. Но в Инглсайде не было ни огонька!
Вообще-то одно окошко светилось, но Уолтер его не видел, потому что оно выходило на задний двор. Это была комната, где нянька спала рядом с кроваткой, в которой лежала новорожденная. Уолтер пришел в полное отчаяние. Он даже не представлял себе, что ночью Инглсайд может быть таким темным.
Значит, мама умерла!
На дрожащих ногах Уолтер прошел по подъездной аллее, пересек мрачно-черную тень от дома и подошел к двери. Мальчик тихонько постучал — до дверного молотка он дотянуться не мог, — но никто не отозвался. Да Уолтер этого и не ожидал. Прислушался: из дома не доносилось ни одного
живогозвука. Значит, мама умерла, а все остальные уехали.
Уолтер к этому времени так промерз и устал, что у него даже не было сил плакать. Он добрел до сарая и взобрался по лестнице на сеновал. Он уже ничего не боялся — ему только хотелось где-то укрыться от ветра, где-то прилечь до утра. Может быть, когда маму похоронят, кто-нибудь вернется домой.
К нему подкрался тигровый котенок, которого кто-то подарил доктору. Уолтер радостно его обнял. Он был теплый и
живой.Но котенок услышал, как в сарае шуршат мыши, и убежал охотиться на них. Сквозь затянутое паутиной окно на мальчика глядела луна, но она была холодной и безразличной. Огонек, горевший в одном из домов Глена, гораздо больше согревал Уолтера. Пока этот огонек горел, он мог терпеть и не плакать.
Но заснуть Уолтеру не удалось. Сильно болела коленка, и в животе было какое-то странное ощущение. Может быть, он тоже умирает? Хорошо бы — все равно все умерли или уехали. Неужели эта ночь никогда не кончится? Другие ночи ведь всегда кончались. Уолтер вспомнил, что капитан Флэгг, который живет на мысе, однажды сказал, что если он сильно разозлится, то не позволит утром взойти солнцу. Может быть, он наконец сильно разозлился?
Потом потух одинокий огонек в Глене. Уолтер издал тихий стон отчаяния. И тут заметил, что уже светает.
Глава десятая
Мальчик спустился по приставной лестнице и вышел из сарая. Инглсайд был освещен странным потусторонним светом. Небо над березами в Лощине слегка розовело. Может быть, можно попасть в дом сквозь боковую дверь? Иногда Сьюзен не запирает ее на случай возвращения папы с ночного вызова.
Дверь действительно была не заперта. Всхлипывая от радости, Уолтер зашел в дом. Внутри все еще было темно, и он стал осторожно подниматься по лестнице. «Пойду сейчас и лягу в свою кровать, и, если никто не вернется, так там и умру и отправлюсь к маме в царство небесное. Вот только…» Уолтер вспомнил, что сказала Опал — до царства небесного миллионы миль. Охваченный новым взрывом горя, Уолтер не заметил спящего на повороте лестницы Шримпа и наступил ему на хвост, вопль Шримпа прозвучал на весь дом.
Сьюзен, которая только недавно задремала, проснулась от этого жуткого звука. Она легла в постель в двенадцать часов ночи, совершенно измученная волнением и беготней. А тут еще мисс Мария Блайт стала приставать к ней со своим «колотьем в боку» как раз в то время, когда напряжение ожидания достигло предела. Пришлось наполнять водой грелку, натирать ей бок мазью да еще и положить на глаза смоченное холодной водой полотенце, потому что у нее, видите ли, разыгралась мигрень.
В три часа утра Сьюзен проснулась со странным ощущением, что ее кто-то зовет, что она кому-то очень нужна. Она встала с постели и на цыпочках прошла к двери миссис доктор. Там все было тихо… она слышала ровное дыхание Энн. Сьюзен обошла дом и вернулась к себе, решив, что ей померещилось. После этого случая мисс Бейкер до конца дней своих верила, что с ней произошло то, над чем она всегда насмехалась и что Эбби Флэгг, которая баловалась спиритуализмом, называла «зов другой души».
— Уолтер звал меня, и я его услышала, — утверждала она.
Сьюзен встала и вышла из комнаты. На ней была только фланелевая ночная рубашка, которая села от многочисленных стирок и едва прикрывала колени, но бледному дрожащему ребенку, который с мольбой и страхом смотрел на женщину с лестничной площадки, она показалась прекрасным видением.
— Уолтер!
Сьюзен кинулась к мальчику и с нежностью прижала его к себе.
— Сьюзен, а мама умерла? — спросил Уолтер.
Через несколько минут все переменилось как по мановению волшебной палочки. Уолтер был накормлен, обласкан, успокоен и уложен в теплую постель. Мисс Бейкер разожгла огонь в камине, принесла ему чашку горячего молока, золотистый тост и тарелку его любимого печенья, смазала ободранную коленку, укрыла его одеялом, положила в ноги грелку и поцеловала. Как же это было приятно: кто-то за тобой ухаживает… кто-то тебя любит…
— Ты точно знаешь, что мама не умерла, Сьюзен?
— Твоя мама спит у себя в комнате, мой родной, и с ней все благополучно.
— Разве она совсем не болела?
— Как тебе, сказать, детка. Вчера она себя и вправду чувствовала неважно, но теперь уже все позади, и на этот раз никакой опасности не было. Давай поспи, а утром увидишь маму… и еще кое-кого. Попадись мне в руки эти дьяволята из Лоубриджа! Просто не могу поверить, что ты прошел пешком шесть миль в такую ночь!
— У меня душа разрывалась, Сьюзен, — серьезно сказал Уолтер. Но все это уже кануло в прошлое. Он был дома… все было хорошо…
Мальчик уснул.
Проснулся он только к полудню и увидел солнце, светившее в окна его комнаты. Прихрамывая, он вышел в коридор и пошел в мамину комнату. Ему уже начинало казаться, что он вчера вел себя очень глупо. Может быть, маме вовсе не понравится, что он убежал из Лоубриджа? Но мама обняла его и прижала к себе. Она уже знала о произошедшем от Сьюзен и много чего готовилась сказать Джейн Паркер.
— Мамочка, ты не умрешь, да? И ты меня все еще любишь?
— Миленький, у меня и в мыслях не было умирать, и я тебя очень люблю, так люблю, что даже вот тут болит. — Энн показала на грудь. — Как же ты смог пройти пешком шесть миль ночью?
— Да еще на пустой желудок, — содрогнувшись, добавила мисс Бейкер. — Просто чудо, что он остался цел и невредим. Нет, чудеса все же случаются и в наше время, это святая правда.
— Молодец, храбрый малыш, — рассмеялся папа, который вошел в комнату, держа на плече Джефри. Он погладил Уолтера по голове, и тот схватил руку отца и прижался к ней щекой. Как приятно, когда тебя хвалит папа! А как ему было страшно, он никому не скажет.
— Ты меня больше не будешь усылать из дома, мама?
— Только если ты сам захочешь, — обещала она.
— Нет уж, я никогда… — начал было Уолтер и замолчал. В общем-то он был не прочь как-нибудь повидать Алису.
— Ну-ка посмотри, миленький, кто у нас есть, — сказала Сьюзен, впуская в комнату розовощекую девушку в белом фартучке и чепчике, которая несла на руках… маленького ребеночка.
Младенец! Полненький, розовый, с шелковистыми волосиками на голове и такими крошечными ручками.
— Ну, разве не красавица? — с гордостью спросила Сьюзен. — Посмотри, какие у нее ресницы… сроду не видела таких ресниц у новорожденных. А какие хорошенькие ушки! Я всегда первым делом гляжу на уши.
— Хорошенькая, — одобрил Уолтер. — Ой, смотри, какие у нее миленькие пальчики на ножках! Только… только она не слишком маленькая?
Мисс Бейкер рассмеялась.
— Восемь фунтов — это совсем не мало. И смотри, она уже глядит по сторонам. Когда этой малышке не было еще и часу от роду, она подняла голову и посмотрела на доктора. Да-да, посмотрела! Я в жизни такого не видела!
— У нее будут рыжие волосы, — довольным голосом произнес Джильберт. — Красивые волосы медного цвета, как у ее мамы.
— И карие глаза, как у ее папы, — радостно подхватила Энн.
— Жалко, что ни у кого из нас нет золотистых волос, — вздохнул Уолтер, опять вспомнив об Алисе.
— Желтых? Как у Друков? — с невыразимым презрением воскликнула Сьюзен.
— У нее такой смешной вид, когда она спит, — сказала няня. — Я никогда не видела, чтобы младенец жмурился, когда спит.
— Чудо, а не ребенок! Все наши дети были милашками, Джильберт, но эта лучше всех.
— Господи, Анни, — фыркнула тетя Мария, которая тоже зашла в комнату. — Можно подумать, что до этого ребенка на свете не было детей!
— Такого ребенка на свете никогда не было, тетя Мария, — с гордостью заявил Уолтер. — Сьюзен, можно я ее поцелую… один только разик?
— Конечно, можно, — разрешила мисс Бейкер, с негодованием глядя вслед выходившей из комнаты тете Марии. — Ну, а я пошла вниз. Испеку на радостях пирог с вишней. Мисс Блайт вчера испекла какой-то пирог — если бы вы только его видели, миссис доктор, голубушка! Словно кошка что-то притащила из подвала. Я постараюсь съесть сколько смогу — не пропадать же добру! — но уж доктору я такого пирога, пока жива и держусь на ногах, никогда не подам.
— Не все же умеют делать такое тесто, как ты, Сью, — сказала Энн.
— Мама, — спросил Уолтер, когда за разомлевшей от комплимента Сьюзен закрылась дверь. — Правда, у нас очень хорошая семья?
«Замечательная семья! — удовлетворенно думала Энн, обнимая лежавшую рядом с ней малютку. — Скоро я встану на ноги и опять буду заниматься своими детьми, учить их, любить их, утешать их. Они будут делиться со мной всеми своими маленькими радостями, надеждами, страхами и проблемами, которые кажутся им неразрешимыми, и своими маленькими бедами, которые кажутся им такими горькими. Я буду держать в руках все нити жизни в Инглсайде и ткать из них прекрасный ковер». И у тети Марии не будет оснований говорить Джильберту, как несколько дней тому назад:
— У тебя очень усталый вид, Джильберт. Неужели в этом доме о тебе некому позаботиться?
Тем временем внизу тетя Мария заметила Сьюзен, уныло покачав головой:
— Конечно, у всех новорожденных кривые ножки, но у этой девочки они просто колесом! Только не говори этого бедняжке Анни, Сьюзен.
Впервые в жизни мисс Бейкер потеряла дар речи.
Глава одиннадцатая
К концу августа Энн совершенно оправилась и от осени ожидала только приятного. Маленькая Марилла с каждым днем все хорошела, и братья и сестры ее обожали.
— А я думал, что младенец кричит с утра до вечера, — сказал Джим, протягивая Марилле палец, за который та не замедлила радостно ухватиться. — Берти Друк мне так говорил.
— Ничего удивительного, что у Друков дети вопят целыми днями, — отрезала Сьюзен — От одной мысли, что родился Друком, уже взвоешь. Но наша Марилла родилась в Инглсайде!
— Мне так жалко, что я не родился в Инглсайде, — грустно вздохнул Джим. Этим его часто дразнила Ди.
— Тебе не скучно жить в этой дыре? — как-то снисходительно спросила Энн одна из ее одноклассниц по Куинс-колледжу, которая жила в Шарлоттауне.
Скучно! Энн чуть не засмеялась в лицо посетительнице. Скучно жить в Инглсайде? Когда с каждым днем появляется что-то новое в малышке… когда сюда скоро приедут Диана, и Элизабет, моя маленькая соседка из Саммерсайда, и Ребекка Дью… когда у Джильберта на руках миссис Эллисон, у которой такая болезнь, которой болели только три человека за все время существования медицины… когда Уолтер в этом году пойдет в школу… когда Нэнни выпила целый флакон духов с материнского туалетного столика — они все были в ужасе, но с ней ничего не сделалось… когда на заднем крыльце чья-то черная кошка принесла неслыханное число котят — целых десять штук!., когда Джефри захлопнул дверь в ванной и никак не мог оттуда выбраться… когда Шримп вздумал поваляться в клейкой бумаге для мух и облепился ею с головы до ног… когда тетя Мария, отправившись глубокой ночью бродить по дому со свечой, потому что ей показалось, что пахнет дымом, каким-то образом ухитрилась поджечь гардину и своими душераздирающими воплями подняла на ноги весь дом. Нет уж, у них в доме не соскучишься!
Да, тетя Мария все еще жила в Инглсайде. Время от времени она говорила жалким голосом: «Когда я вам надоем, так и скажите, и я уеду. Я привыкла жить одна». На это, разумеется, можно было дать только один ответ, и, конечно, Джильберт каждый раз говорил, что она может у них жить, сколько ей захочется. Но надо сказать, что он это говорил уже не так радушно, как раньше. Родственники родственниками, но даже доктор начинал понимать, что от тети Марии хорошо бы избавиться, но не мог придумать, как это сделать. («Одно слово — мужчина!» — насмешливо заметила бы миссис Корнелия.) Один раз он даже осмелился намекнуть ей, сказав, что дом, в котором никто не живет, потихоньку приходит в упадок, с чем тетя Мария с готовностью согласилась и сказала, что подумывает: не продать ли свой дом в Шарлоттауне?
— Прекрасная мысль, — одобрительно отозвался Джильберт. — А у нас тут как раз продается очень миленький коттедж… Один мой приятель уезжает в Калифорнию. Он очень похож на тот, в котором живет миссис Сара Ньюмен и который вам так понравился…
— Да, но она живет там одна, — вздохнула тетя Мария.
— Ей нравится жить одной, — с надеждой в голосе сказала Энн.
— А я не могу понять человека, которому нравится жить одному, Анни, — ответила тетя Мария.
Сьюзен с трудом сдержала стон.
В сентябре у них неделю гостила Диана. Потом приехала Элизабет… которая уже не была маленькой, а превратилась в высокую стройную красивую девушку. Ее отец опять возвращается в Париж, и она будет вести там у него хозяйство. Они с Энн подолгу гуляли по берегам бухты, возвращаясь домой под тихими зоркими сентябрьскими звездами. Они без конца вспоминали жизнь в «Звонких Тополях» и карту волшебной страны, которую Элизабет бережно хранила и с которой не собиралась расставаться до конца своих дней.
— Куда бы я ни приехала, я первым делом вешаю ее на стену в своей комнате, — сообщила она.
Но вот как-то ночью задул холодный ветер, и все вдруг заметили, что лето на исходе. Пришла осень.
— С какой это стати осень началась так рано? — оскорбленным тоном спросила тетя Мария.
Но и осень была очень красивой. В Лощине цвели астры, а дети рвали душистые плоды с яблонь. Небо нежно серебрилось, и по нему проносились темные стаи улетающих птиц. Дни становились короче, и с бухты на берег наползали змейки тумана.
С давно обещанным визитом приехала Ребекка Дью. Она хотела побыть в Инглсайде неделю, но ее уговорили остаться на две. Больше всех ее уговаривала мисс Бейкер, которая с первой минуты открыла в Ребекке Дью родственную душу, возможно, потому, что они обе любили Энн и терпеть не могли тетю Марию.
И вот в один стылый осенний вечер, когда за окном дождь шуршал по палым листьям, а ветер завывал под крышей, Сьюзен излила все свои горести сочувственно слушающей ее Ребекке Дью. Доктор с женой уехали в гости, детей Сьюзен уложила спать. А тетю Марию, слава Богу, мучила мигрень, и она рано удалилась к себе, стеная, что ей «словно железный обруч сжимает голову».
— Я так скажу — если съесть на ужин столько жареной ставриды, то поневоле заболит голова, — начала Ребекка Дью, удобно устроившись в кресле и положив ноги на край открытой духовки. — Я, конечно, тоже ела рыбу… потому что так, как вы, мисс Бейкер, рыбу жарить никто не умеет — но я же не съела
четырекуска!
— Мисс Дью, дорогая, — сказала Сьюзен, опуская на колени вязанье и умоляюще глядя в черные глаза Ребекки, — за то время, что вы у нас гостите, вы, конечно, поняли, что за человек Мария Блайт. Мисс Дью, дорогая, я чувствую, что вам можно довериться. Разрешите излить вам свою душу.
— Конечно, мисс Бейкер.
— Эта женщина приехала к нам в конце июня и, по-моему, она намерена остаться здесь на всю жизнь. Ее ненавидят все в доме… даже доктор, как он это ни скрывает, терпеть ее не может. Но мистер Блайт считает, что родственников надо привечать и что кузину его отца нельзя выставить из дому. Сколько раз я просила миссис доктор сказать мужу, что она больше не намерена терпеть в доме Марию Блайт. Но у нее доброе сердце… и мы ничего не можем поделать, мисс Дью… абсолютно ничего.
— Моя бы воля, — призналась Ребекка Дью, которая сама уже выслушала от тети Марии не одно обидное замечание, — я бы высказала ей всю правду в глаза, что бы там ни говорили про законы гостеприимства.
— Да и я нашла бы что ей сказать, мисс Дью, если бы не знала свое место. Но я ни на минуту не забываю, что я не хозяйка в этом доме. Иногда я спрашиваю сама себя: «Сьюзен Бейкер, долго ты будешь позволять вытирать о себя ноги, как о половую тряпку?» Но вы же понимаете, что у меня связаны руки. Я не могу покинуть миссис доктор, и я не имею права добавлять ей забот, ссорясь с Марией Блайт. Так что придется терпеть. Потому что я живот готова положить за доктора и его жену. Как мы хорошо жили, пока она сюда не заявилась! А сейчас нам всем тошно, и, не будучи предсказательницей, я не знаю, чем все это кончится, мисс Дью. Вернее, могу предсказать, что мы все загремим в сумасшедший дом. К чему только она не придирается! Каждый день придумывает сотни жалоб. Укус одного комара можно стерпеть, мисс Дью, но представьте себе, что их миллионы!
Ребекка Дью представила себе миллионы комаров и скорбно покачала головой.
— Она все время учит миссис доктор, как ей надо вести дом и что ей надо надевать. За мной следит неусыпно, а про детей говорит, что они не ладят друг с другом. Но вы же сами видели, мисс Дью, что наши дети никогда не ссорятся — почти никогда…
— Дети у вас замечательные, мисс Бейкер.
— И вечно-то она бродит по дому, подслушивает разговоры и сует нос в то, что ее не касается…
— Я сама ее за этим застала, мисс Бейкер.
— И вечно она на всех обижается и ноет, но никогда не обижается настолько, чтобы от нас уехать. Сидит с эдаким несчастным видом, а бедная миссис доктор не знает, как ее умаслить. Все не по ней. Если окно открыто, она жалуется на сквозняк. Если закрыто — говорит, что ей не хватает свежего воздуха. Не любит лука… даже запаха не выносит. Тошнит ее, видите ли! И миссис доктор запретила мне класть в кушанья лук. А я вот что скажу — может, это и плебейский вкус, но мы в Инглсайде любим еду с луком.
— Я сама во все кладу лук, — призналась Ребекка Дью.
— Кошек она тоже не выносит. От них у нее, видите ли, мурашки по коже идут. Даже если она ее не видит, но знает, что в доме есть кошка. Бедняжка Шримп уже не смеет носа в доме показать. Я сама никогда особенно не любила кошек, но все же считаю, что и они имеют право на существование. Только и слышу: «Сьюзен, не забудь, что я не ем яиц!» «Сьюзен, может, кому-нибудь и нравится перестоявшийся чай, но я к числу таких людей не принадлежу». Перестоявшийся чай, мисс Дью! Да когда в жизни я кому-нибудь подавала перестоявшийся чай?
— Я и представить себе этого не могу, мисс Бейкер.
— Если есть вопрос, которого лучше не задавать, она обязательно его задаст. Она ревнует доктора к его собственной жене — почему, дескать, он жене рассказывает о своих делах раньше, чем ей? И всегда допрашивает его о пациентах. А он этого просто терпеть не может, мисс Дью. Доктор должен уметь держать язык за зубами, вы сами это прекрасно понимаете. А какие она закатывает сцены из-за того, что боится пожара. «Сьюзен, — говорит как-то мне, — надеюсь, ты не разжигаешь огонь с помощью минерального масла? И не разбрасываешь по дому жирные тряпки? Они самовозгораются. Тебе понравится смотреть, как горит этот дом, зная, что беда произошла по твоей вине?» Ну, мисс Дью, тут я над ней посмеялась. В ту же ночь она подожгла свечой гардины и вопила как зарезанная. И это как раз когда бедный доктор, не спавший две ночи, наконец уснул! И представьте — каждое утро она является ко мне в кладовку и пересчитывает яйца — вот это меня злит больше всего! Знали бы вы, чего мне стоит сдержаться и не сказать: «Заодно уж и ложки пересчитайте». Дети ее, конечно, ненавидят. Миссис доктор измучилась, стараясь их сдерживать. А однажды мисс Блайт посмела дать Нэнни пощечину — когда дома не было ни доктора, ни его жены — и всего лишь за то, что девочка назвала ее миссис Мафусаил — это она от Кена Форда услышала.
— Я бы ей самой дала пощечину, — зверским голосом проговорила Ребекка Дью.
— Я ей так и сказала: если она еще раз тронет детей, я сама ей дам пощечину. «По попке мы их иногда хлопаем, но пощечин не даем никогда — так и запомните!» Она неделю на меня дулась, но по крайней мере с тех пор не трогает детей. Зато обожает, когда их наказывают родители. «Если бы я была твоей матерью…» — сказала она как-то Джиму. «Нет уж, никогда вы не будете ничьей матерью», — ответил бедный ребенок. Вы же сами понимаете, что она его довела. Доктор послал его спать без ужина, но как вы думаете, кто потом принес ему кое-чего покушать?
— Действительно, кто? — хохотнула Ребекка Дью.
— Я не одобряю, когда дети неуважительно относятся к старшим, мисс Дью, но должна признаться, что когда Берти Друк однажды запустил в нее шариком из жеваной бумаги — только малость промазал, — я дала ему домой пакетик пончиков, хотя, конечно, не сказала, за что. Он был рад до смерти — пончики ведь не растут на деревьях, а эта жадина миссис Друк никогда не печет детям ничего вкусного. Нэнни и Ди — я об этом ни одной живой душе, кроме вас, не говорила — назвали свою старую куклу с треснутой головой тетей Марией и, когда старуха их выбранит, топят ее в бочке с дождевой водой — куклу, конечно, а не старуху. Сколько раз они это делали — не сосчитать. Но вы не поверите, мисс Дью, какой номер она выкинула позавчера вечером!
— Я про нее чему хочешь поверю.
— Она опять на что-то обиделась и не стала есть ужин. Но поздно вечером забралась в кладовку и
съела ужин, который я приготовила для доктора— все до последней крошки, дорогая мисс Дью. Как только Господь Бог такому попустительствует?
— Не надо богохульствовать, мисс Бейкер, — твердо заявила Ребекка Дью. — Сохраняйте чувство юмора.
— Да я отлично понимаю, что у всего есть смешная сторона, мисс Дью, смешна даже жаба, попавшая под борону. Вот только смешно ли самой жабе? Извините, что я вам все это рассказала, мисс Дью, но знаете, насколько мне полегчало. Миссис доктор я ничего этого сказать не могу, и в последнее время мне стало казаться, что если я не выговорюсь, то не иначе как лопну.
— Я вполне вас понимаю, мисс Бейкер.
— Ну, а теперь, мисс Дью, — сказала Сьюзен, деловито поднимаясь со стула и направляясь к плите, — может, чайку выпьем на ночь? А куриную ножку скушаете?
— Я никогда не отрицала, — сказала Ребекка Дью, вынимая из духовки поджарившиеся окорочка, — что, хотя нам не следует забывать о Высоком, земными радостями тоже пренебрегать не стоит.
Глава двенадцатая
Джильберт таки улучил две недели, чтобы поохотиться в Новой Шотландии… но отдохнуть целый месяц его не смогла уговорить даже Энн. На дворе стоял ноябрь. Кругом — темные холмы, на них чернеют ели, рано ложатся сумерки, но, несмотря на эту унылую картину, дополняемую заунывными песнями ветров с Атлантики, Инглсайд сверкал огнями и звенел смехом.
— А почему ветер так горько плачет? — как-то вечером спросил Уолтер.
— Потому что он вспоминает все горе, которое было в мире, — ответила Энн.
Тетя Мария пренебрежительно фыркнула:
— Просто в воздухе много сырости, и у меня невыносимо болит спина.
Но порой даже ветер радовал обитателей дома, звеня между серебристо-серыми стволами кленов. А иногда был штиль, неярко светило солнце, и в воздухе стояла морозная тишина.
— Посмотрите на эту белую звезду над пирамидальным тополем, — сказала Энн. — Когда я вижу такое, я счастлива просто потому, что живу.
— Какие же чудные вещи ты говоришь, Анни. Подумаешь, эка невидаль — звезда! — ответила тетя Мария, думая про себя: «Будто мы звезд не видели! Лучше подумала бы о том, что творится на кухне. Не знает она, что ли, как Сьюзен транжирит продукты? Яйца тратит без счету, свиной жир кладет туда, где сошел бы и говяжий. Или ей все равно? Бедный Джильберт! Немудрено, что ему приходится работать не покладая рук».
Однажды утром в конце ноября темную землю припорошило снежком, и дети вбежали в столовую, восторженно крича:
— Мама, скоро Рождество и приедет Санта-Клаус!
— Неужели ты до сих пор веришь в Санта-Клауса? — спросила тетя Мария Джима.
Энн бросила на Джильберта взгляд, взывающий о помощи.
— Мы не собираемся раньше времени лишать наших детей мира сказок, тетя, — сказал Джильберт.
К счастью, Джим не обратил внимания на слова тети Марии. Им с Уолтером слишком не терпелось поскорей выбежать в преображенный зимой двор. Энн всегда было жалко, когда пелену нетронутого снега пятнали следы, но избежать этого было нельзя. Однако вечером, сидя в гостиной перед пылающим камином, она подумала, что красоты на ее век хватит: стоит лишь поглядеть на закатное небо, пламенеющее над белыми лощинами и сиреневыми холмами. И как приятно смотреть на огонь в камине, который, точно играя, то вспыхивает, высвечивая часть комнаты, то никнет, снова погружая ее во тьму. И вся эта игра света бросала причудливые тени на газон, и тетя Мария, казалось, сидела под сосной прямо как палка.
Джильберт полулежал на кушетке, стараясь забыть, что утром у него от воспаления легких умер пациент. Маленькая Рилла сосала кулачок у себя в кроватке; даже Шримп осмелился улечься на коврике перед камином и, поджав под себя белые лапки, громко мурлыкал, к вящему неудовольствию тети Марии.
— Кстати, о кошках, — несчастным голосом заговорила она. — У нас под окнами по ночам, видимо, собираются все коты Глена. Я просто не понимаю, как вы могли сегодня спать под их вопли. Хотя я, наверное, слышала этот концерт лучше других, потому что моя комната выходит окнами во двор.
Прежде чем ей кто-нибудь ответил, в комнату вошла Сьюзен и объявила, что только что видела в магазине Флэгга миссис Эллиотт и что та обещала зайти, как только покончит с покупками. Но мисс Бейкер не сказала, что Корнелия с беспокойством спросила ее:
— Что происходит с Энн, Сьюзен? В воскресенье в церкви у нее был такой измученный и усталый вид. Не помню, чтобы она когда-нибудь так плохо выглядела.
— Я могу вам объяснить, что происходит с миссис Блайт, — мрачно ответила ей Сьюзен. — Ее вконец замучила тетя Мария. А доктор, хоть и обожает свою жену, не обращает на это внимания.
— Одно слово — мужчина, — подытожила миссис Эллиотт.
— Вот и прекрасно, — Энн подскочила от радости и принялась зажигать лампу. — Я так давно не видела миссис Корнелию. Теперь узнаем все последние новости.
— Это уж обязательно, — сухо подтвердил Джильберт.
— Эта женщина — злобная сплетница, — сурово проговорила тетя Мария.
Впервые в жизни Сьюзен бросилась на защиту миссис Корнелии.
— Это неправда, мисс Блайт, и я не позволю так о ней говорить. Злобная — надо же такое сказать! Чем кумушек считать трудиться, мисс Блайт…
— Сьюзен, — умоляющим голосом воззвала к ней Энн.
— Простите, миссис доктор, голубушка. Признаю, забылась. Но иногда просто терпения не хватает!
И мисс Бейкер вышла, оглушительно хлопнув дверью.
— Вот видишь, Анни, — со значением изрекла тетя Мария. — Ну, раз ты позволяешь прислуге такое, мне, видно, остается только терпеть.
Джильберт встал и ушел в библиотеку: может, хоть там усталый человек найдет немного покоя? А тетя Мария, которая не испытывала симпатий к миссис Корнелии, тоже встала и ушла к себе в комнату. Так что миссис Эллиотт нашла Энн в гостиной одну. Против своего обыкновения, достойная матрона не принялась сразу же выкладывать последние сплетни. Вместо этого, раздевшись, она села рядом с поникшей подругой и взяла ее за руку.
— Энн, дорогая, в чем дело? Я же вижу, что-то не так. Неужели вас так замучила эта старая зануда Мария?
Энн попыталась улыбнуться.
— О, миссис Корнелия… я понимаю, что глупо так расстраиваться из-за всяких пустяков… но сегодня у меня просто иссякло терпение. Она… она отравляет нам жизнь…
— Но почему вы не скажете ей, чтобы она убиралась восвояси?
— Не можем, миссис Корнелия. Во всяком случае, я не могу, а Джильберт не хочет. Он говорит, что если выгонит из дома родственницу, ему будет стыдно перед самим собой.
— Чушь собачья! — воскликнула миссис Корнелия. — У нее полно денег и прекрасный дом. Разве это значит выгнать — сказать, чтобы она ехала к себе домой?
— Нет, конечно… но Джильберт… по-моему, он не понимает, как мы все от нее страдаем. Он так редко бывает дома… и на самом-то деле все это такие мелочи… мне даже стыдно…
— Знаю, милочка, знаю я, как такие мелочи могут отравить жизнь. Но мужчине этого не понять. У меня есть знакомая в Шарлоттауне, и она говорит, что у Марии Блайт в жизни не было ни одной подруги. Она на всех наводит тоску. Вам нужно набраться мужества, милая, и сказать мужу, что больше вы ее терпеть не намерены.
— У меня такое ощущение, как бывает во сне — словно я хочу от кого-то убежать, но у меня вязнут ноги, — пожаловалась Энн. — Если бы это случалось изредка… но это повторяется изо дня в день. Хоть за стол не садись. Джильберт говорит, что разучился резать ростбиф.
— Вот это-то он заметил, — ядовито вставила миссис Корнелия.
— За столом совсем нельзя разговаривать, потому что, кто бы что ни сказал, тетя Мария обязательно его оборвет. Она без конца придирается к детям — дескать, не так держат вилку или ложку — и особенно любит делать это при гостях. Раньше у нас всегда было так весело за столом… а теперь… Она терпеть не может, когда люди смеются, а вы ведь знаете, как мы любим шутить и смеяться… точнее, любили. Она следит за каждым нашим словом или выражением лица. Сегодня, например, спросила: «Чего это ты куксишься, Джильберт? Вы что, поссорились с Анни?» И это просто потому, что мы молчали за столом. Муж всегда расстраивается, когда у него умирает пациент, которого, как он считает, можно было вылечить. И затем она прочитала нам целую лекцию о том, как глупо ссориться, и напомнила, что сказал апостол Павел: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». После-то мы над этим посмеялись… но в тот момент… Со Сьюзен они не в ладах. А как мы запретим Сью бурчать себе под нос в ответ на выпады тети Марии? А когда та сказала, что Уолтер страшный лгунишка — потому что она подслушала, как он рассказывал Ди длинную историю о человеке, который живет на луне и которого он якобы встретил в окрестностях, Сьюзен сказала ей, чтобы она прополоскала рот мыльной водой. Они тогда со Сью схватились не на жизнь, а на смерть. И какие жуткие вещи тетя Мария говорит детям! Нэнни она заявила, что один непослушный ребенок умер во сне, и девочка теперь боится засыпать. А Ди она сказала, что если та будет хорошо себя вести, ее родители будут любить ее так же, как любят Нэнни, хотя у нее и рыжие волосы. В тот раз Джильберт страшно рассердился и весьма резко с ней поговорил. Я надеялась, что, может, она обидится и уедет… хотя мне было бы неприятно, если бы она уехала от нас оскорбленной. Но тетя Мария просто пустила слезу и сказала, что не подразумевала ничего плохого. Ей говорили, что одного из близнецов всегда любят больше, и ей казалось, что мы больше любим Нэнни и что Ди это понимает. Тетя Мария проплакала всю ночь, и бедный Джильберт почувствовал себя извергом, так что еще и извинился перед ней!
— Одно слово — мужчина, — прокомментировала миссис Корнелия.
— Ох, не надо было мне вам жаловаться, миссис Корнелия. Когда я вспоминаю, сколько у меня в жизни хорошего, мне становится стыдно, что я обращаю внимание на такие пустяки, хотя они не делают жизнь счастливее. И потом… она не всегда такая уж противная… иногда бывает даже ничего…
— Так я и поверила, — саркастически заметила миссис Эллиотт.
— Да-да. Она даже старается быть доброй. Я как-то сказала, что мне хочется купить новый чайный сервиз, и она послала заказ в Торонто и подарила мне сервиз. Только, миссис Корнелия, он такой безобразный!
Энн засмеялась, но ее смех перешел во всхлипывания.
— Знаете, хватит о ней говорить. Мне уже легче, после того как я все вам вывалила. Посмотрите на малышку, миссис Корнелия. Правда, у нее замечательные ресницы? Их особенно хорошо видно, когда Рилла спит. Расскажите мне лучше последние новости.
К тому времени, когда миссис Эллиотт ушла, Энн совсем стряхнула с себя меланхолию. Но все-таки она долго задумчиво сидела перед камином. Она ведь не все рассказала миссис Корнелии. А Джильберту ничего из этого вообще не следует рассказывать. А все же сколько мелких неприятностей приносит ей тетя Мария!
«До того мелких, что на них вроде и жаловаться неловко, — думала Энн. — Но ведь такие пустяки и проедают дыры в жизни, как моль, и безнадежно ее портят.»
Энн вспоминала, как ведет себя тетя Мария при гостях — словно хозяйка в доме не Энн, а она. А иной раз сама приглашает гостей, ни слова не сказав Энн. «Можно подумать, что это вовсе не мой дом». Как тетя Мария переставила мебель, когда Энн не было дома: «Надеюсь, ты не возражаешь, Анни? Мне кажется, что стол должен стоять здесь, а не в библиотеке». Как тетя Мария во все сует нос… задает вопросы на интимные темы… всегда входит к ней в комнату без стука… всегда ей мерещится, что пахнет дымом… вечно намекает, что Энн слишком фамильярно болтает с Сьюзен… непрерывно придирается к детям… так трудно убедить их не огрызаться — да и не всегда получается…
Как-то раз Джефри четко выговорил: «пвотивная ставуха». Джильберт хотел его отшлепать, но Сьюзен не дала.
«Она нас совсем запугала, — думала Энн. — Только и думаем: а что скажет тетя Мария? Мы готовы на любые уступки, лишь бы она не принялась опять лить слезы. Нет, дальше так жить нельзя!»
И тут Энн вспомнила слова миссис Корнелии о том, что у Марии Блайт никогда не было подруг. Как это ужасно! Энн, у которой была так много друзей, вдруг пожалела женщину, у которой нет ни одной подруги, которую не ждет ничего, кроме одинокой старости, к которой никто не обратится в поисках утешения, тепла и любви. Нет, решила она, надо набраться терпения. Все эти раздражающие вещи — на поверхности. Не могут они отравить глубинный источник жизни и любви.
— Что-то я слишком уж стала себя жалеть, — сказала Энн, вынимая из кроватки Риллу и с восторгом прижимаясь лицом к ее шелковистой щечке. — Пожалела и хватит. Стыдно так распускаться!
Глава тринадцатая
— Почему-то у нас больше не бывает настоящей зимы, правда, мама? — мрачно заметил Уолтер.
Действительно, снег, выпавший в ноябре, давно растаял, и весь декабрь окрестности Глен Сент-Мэри лежали темные и унылые, а рядом плескалось серое море с пятнами холодной белой пены. Солнце показывалось очень редко. Напрасно дети молили Бога, чтобы Он ниспослал на Рождество снегопад. Однако приготовления к Рождеству шли в Инглсайде полным ходом, и в последнюю перед Рождеством неделю дом был полон секретов, перешептываний и вкусных запахов. И вот наступил канун Рождества. Все было готово к празднику. В углу гостиной стояла елка, которую Джим и Уолтер притащили из Лощины, на дверях и окнах висели зеленые гирлянды с красными бантами. Лестничные перила украсили ветками ползучей ели, а в кладовке Сьюзен негде было повернуться от заранее заготовленных яств. И вдруг во второй половине дня, когда все уже смирились с перспективой грязно-зеленого Рождества, за окном начали падать большие хлопья снега.
— Снег! Снег! Снег! — закричал Джим. — У нас таки будет белое Рождество, мама!
Дети легли спать счастливыми. Как приятно свернуться клубочком под теплым одеялом и слушать, как за окном подвывает вьюга. Энн и Сьюзен принялись украшать елку. «Резвятся, как маленькие дети», — презрительно думала про них тетя Мария. Она возражала против свечей на елках («Что, если от них загорится дом?») и против цветных шариков («Что, если до них доберутся дети?»). Но на нее никто не обращал внимания. Энн и Сьюзен уже поняли, что жизнь может быть прекрасна, только если полностью игнорировать тетю Марию.
— Все! — воскликнула Энн, укрепив на макушке маленькой гордой елочки серебряную звезду. — Какая же она красивая, правда, Сью? Как приятно раз в году, на Рождество, ничуть этого не стыдясь, вернуться в детство! Я так рада, что выпал снег… только жаль, если метель не окончится к утру.
— Нет уж, завтра метель не кончится, — уверенно заявила тетя Мария. — Я это чувствую по своей больной спине.
Энн прошла в прихожую, приоткрыла дверь и выглянула наружу. Метель разгулялась вовсю. Окна залепило снегом, сосна превратилась в огромного снеговика.
— Да, — грустно признала Энн, — вряд ли погода улучшится.
— Ну, пока что погодой заведует Господь Бог, а не мисс Мария Блайт, — сказала стоявшая у нее за спиной Сьюзен.
— Хоть бы сегодня Джильберта не вызвали ночью к больному, — вздохнула Энн, отходя от двери. Мисс Бейкер бросила прощальный взгляд в снежную мглу и пригрозила кому-то за окном:
— И не вздумай мне сегодня рожать!
Слова эти предназначались миссис Друк, которая ждала четвертого ребенка.
Несмотря на больную спину тети Марии, вьюга к утру утихла, и белые впадины между холмов наполнились красным вином утренней зари. Все дети встали очень рано и прямо-таки дрожали от нетерпения.
— Мама, а Санта-Клаус смог приехать в такую метель?
— Нет, он простудился и решил остаться дома, — тетя Мария пребывала в хорошем настроении и решила пошутить.
— Приехал-приехал, — поспешила успокоить детей Сьюзен, заметив, как вытянулись их личики. — После завтрака увидите, что он положил вам под елку.
После завтрака вдруг таинственным образом исчез Джильберт, но никто этого не заметил — все увлеченно разглядывали украшенную игрушками елку с зажженными свечами (шторы в гостиной не раздвигали) и лежащую под ней кучу завернутых в цветную бумагу и перевязанных шелковыми ленточками подарков. Тут появился Санта-Клаус в роскошном красном камзоле, отороченном белым мехом, с длинной белой бородой и огромным животом (Сьюзен подсунула целых три подушки под красный вельветовый камзол, который Энн сшила Джильберту). При виде него Джефри сначала закричал от страха, но все равно не дал Сьюзен увести себя из гостиной. Санта-Клаус роздал детям подарки и каждому сказал что-нибудь смешное очень знакомым, хотя и приглушенным маской голосом. Но под конец у него от свечки загорелась борода, что доставило немалое удовлетворение тете Марии, хотя не настолько ее развлекло, чтобы помешать ей влить свою ложку дегтю в бочку меду:
— Когда я была ребенком, Рождество справляли куда веселее, — она с неудовольствием глядела на подарок, который Элизабет прислала Энн из Парижа — прелестную бронзовую статуэтку, изображавшую Артемиду с серебряным луком в руках.
— Кто эта бесстыдница? — негодующе спросила тетя Мария.
— Это богиня Диана, — ответила Энн, обменявшись улыбкой с Джильбертом.
— А, язычница. Ну, тогда ладно. Но на твоем месте, Анни, я бы спрятала ее подальше от детей. Негоже им такое видеть. Иногда мне кажется, что в мире совсем забыли про скромность. Моя бабушка, — закончила тетя Мария с тем прелестным отсутствием логической связи, которое отличало большинство ее высказываний, — всегда надевала не меньше трех нижних юбок — и зимой и летом.
Тетя Мария связала всем детям по паре варежек ядовито-оранжевого цвета и такой же свитер для Энн. Джильберту она подарила бутылочного цвета галстук, а мисс Бейкер — красную фланелевую нижнюю юбку. Даже Сьюзен знала, что эти юбки давно вышли из моды, но все же принудила себя поблагодарить тетю Марию.
«Эта юбка больше пригодилась бы жене бедного миссионера, — подумала при этом Сьюзен. — Сказанула тоже — три нижних юбки! Я считаю себя скромной женщиной, но мне нравится эта статуэтка. Может, на ней и не так уж много одежды, но у нее такая фигурка, что просто грех закрывать ее одеждой. Надо пойти посмотреть начинку для индейки… впрочем, разве может быть хорошей начинка без луку!»
В тот день Инглсайд был переполнен счастьем, простым старомодным счастьем — несмотря на старания тети Марии, которой не нравилось, когда люди веселятся.
— Мне только белое мясо, пожалуйста. (Джеймс, неужели ты не можешь есть суп, не хлюпая?) Нет, Джильберт, так, как твой отец, тебе индейку никогда не нарезать. Он ухитрялся каждому дать такой кусочек, который ему больше всех нравился. (Девочки, дайте же и взрослым сказать хоть слово! Детей должно быть видно, но не слышно.) Спасибо, Джильберт, салату не надо. Я не ем сырые овощи. Да, Анни, кусочек пудинга я, пожалуй, попробую. А пироги с мясной начинкой вредны для пищеварения.
— У Сьюзен пирог с мясом — просто сказка, а яблочный пирог — поэма, — восхитился доктор. — Дай мне и того, и другого, девочка.
— Неужели тебе нравится, чтобы тебя в таком возрасте называли «девочкой», Анни? (Уолтер, ты не съел хлеб с маслом. У многих бедных детей на праздник и этого нет. Джеймс, высморкайся, пожалуйста, — хватит шмыгать носом!)
Но все равно Рождество получилось веселым. После обеда даже тетя Мария немного оттаяла и снисходительно признала, что вполне довольна подарками. И даже с мученическим видом терпела присутствие Шримпа, чем заставила всех остальных устыдиться, что они так любят это несносное животное.
— По-моему, дети вволю повеселились, — радостно сказала Энн вечером, глядя в окно на силуэты деревьев, вычерченные на фоне алого неба, и на детей, которые разбрасывали по газону крошки для птиц.
— Да уж, — согласилась тетя Мария. — По крайней мере, они вволю накричались. А сколько они съели! Ну, ничего, молод бываешь только раз, и, полагаю, у тебя в доме найдется достаточно касторки.
Глава четырнадцатая
Зима, как выражалась мисс Бейкер, шла полосами — то мороз, то оттепель, и крышу Инглсайда украсила изумительная бахрома сосулек. Дети подкармливали семерых соек, которые каждый день прилетали в сад за своей порцией хлебных крошек и даже садились Джиму на руку. Затем над бухтой, дюнами и холмами задули мартовские ветры.
— Мама, правда, март ужасно волноватый месяц! — воскликнул Джим, для которого все ветры были братья.
Правда, Энн легко обошлась бы без «волнования» по поводу распухшей руки Джима, которую он оцарапал о ржавый гвоздь. Тетя Мария пересказала им все случаи заражения крови, которые сумела вспомнить. Но когда рука зажила, Энн философски подумала, что, имея столь непоседливого сына, такого следует ожидать каждую минуту.
А тут пришел апрель! Со смехом дождей… с их шепотом, брызгами, потоками и танцами…
— Мама, как чисто умылась земля! — воскликнула однажды утром Ди, когда вновь выглянуло солнце.
Над окутанными дымкой полями засияли бледные весенние звезды, на болоте распушилась верба. Даже веточки на деревьях утратили свои четкие холодные очертания, в них появилось что-то живое и мягкое. Прилетела первая малиновка — это было целое событие. Лощина опять превратилась в любимое место игр, таящее бесчисленные сюрпризы и восторги. Джим принес Энн первый букетик подснежников — к большому неудовольствию тети Марии, которая считала, что он должен был подарить эти цветы ей. Сьюзен принялась разбирать полки на чердаке, а Энн, у которой зимой не было ни одной свободной минуты, расцвела весенней радостью и буквально поселилась в саду. Шримп выражал свой восторг по поводу прихода весны, катаясь с боку на бок на дорожках сада.
— Ты свой сад любишь больше, чем мужа, — заметила тетя Мария.
— Мой сад так добр ко мне, — мечтательно проговорила Энн и, спохватившись, что ее слова могут быть не так истолкованы, рассмеялась.
— Какие странные вещи ты говоришь, Анни. Я, конечно, понимаю, что ты вовсе не хотела сказать, будто Джильберт не добр к тебе, но если бы твои слова услышал посторонний…
— Дорогая тетя Мария, — весело сказала Энн, — весной я не отвечаю за свои слова. Это всем известно. Весной я в какой-то степени теряю рассудок. Но это так приятно! Видите клочки тумана над дюнами? Правда, они похожи на пляшущих ведьм? А такого изобилия нарциссов, как в этом году, у нас никогда не было.
— Я не люблю нарциссы. Они чересчур броские, — заявила тетя Мария и ушла в дом, чтобы уберечь свою спину от простуды.
— А вы знаете, миссис доктор, голубушка, — негодующе проговорила Сьюзен, — что сталось с ирисами, которые вы хотели высадить в том тенистом углу?
Онавзяла клубни и высадила их сегодня, когда вы уехали из дома, на самом солнцепеке.
— О, Сьюзен! Но если мы их пересадим, она очень обидится.
— Вы только скажите, миссис доктор, голубушка…
— Нет-нет, Сьюзен, пусть пока остаются где есть. Помнишь, как она плакала, когда я ей намекнула, что спирею не надо подстригать до цветения?
— Нарциссы наши ей, видишь ли, не нравятся — да ведь слава о них идет по всей округе.
— Пусть ее. Посмотри, как они смеются над тобой за то, что ты обращаешь на нее внимание. А настурции все-таки взошли в том углу, Сьюзен. Как это приятно, когда считаешь, что цветы пропали, и вдруг показываются ростки! А в юго-западном углу я хочу разбить небольшой розовый садик. Само слово «розовый садик» вызывает у меня радостную дрожь. Ты когда-нибудь видела такое голубое-преголубое небо, Сью? А ночью, если хорошенько прислушаться, слышно, как все ручейки в округе тихонько сплетничают между собой. Не провести ли мне сегодняшнюю ночь в Лощине, на перине из фиалок?
— Сыро вам там будет, — терпеливо сказала Сьюзен. Весной на миссис доктор всегда находило такое, но мисс Бейкер по опыту знала, что это пройдет.
— Сью, — вкрадчиво сказала Энн, — я хочу на следующей неделе справить день рождения.
— Ну, и давайте справим, — отозвалась Сьюзен. Правда, в мае ни у кого из их семьи дня рождения нет, но если миссис доктор хочет устроить праздник, так почему бы и нет?
— День рождения тети Марии, — продолжала Энн с решительным видом человека, вознамерившегося побыстрей сообщить о самом неприятном. — На следующей неделе ей исполняется пятьдесят пять лет, и я подумала…
— Миссис доктор, неужели вы в самом деле будете справлять день рождения этой…
— Сью, пожалуйста, сосчитай до ста… сосчитай до ста и успокоишься. Она будет так довольна. Ну, какие у нее в жизни радости?
— Сама же и виновата…
— Может быть, Сью. Но мне хочется устроить для нее праздник.
— Миссис доктор, голубушка, — зловеще сказала мисс Бейкер, — вы всегда отпускали меня на неделю, когда я вас просила. Может быть, мне взять отпуск на следующей неделе? Я попрошу племянницу Глэдис прийти вам помочь. И пусть мисс Блайт справляет хоть десять дней рождения.
— Ну, если ты так ставишь вопрос, Сьюзен, тогда мы не будем ничего праздновать, — медленно проговорила Энн.
— Миссис доктор, голубушка, эта женщина села вам на шею и собирается остаться здесь навсегда. Она действует вам на нервы… придирается к доктору… отравляет жизнь детям. Я уж не говорю о себе — кто я такая? Она только и делает, что бранится, делает пакостные намеки, ноет и ест всех поедом… И за это вы хотите отпраздновать ее день рождения? Что ж, если вы так решили, мне остается только сказать… ладно, давайте отпразднуем.
— Сью, душка ты моя!
После этого они принялись обсуждать, как все устроить втайне от тети Марии. Мисс Бейкер, сдавшись и согласившись с Энн, решила, что если уж устраивать праздник, то он должен быть столь безупречен, чтобы сама тетя Мария не нашла к чему придраться.
— Я думаю, Сью, что гостей надо позвать днем к обеду. Тогда они уйдут довольно рано, и мы с доктором еще успеем на концерт в Лоубридже. А ей ничего не скажем до последней минуты — пусть это будет сюрприз. Я приглашу всех, кто ей нравится.
— Интересно, кого это?
— Ну, по крайней мере тех, кого она терпит. Ее кузину Аделу Кэрри из Лоубриджа, кое-кого из Шарлоттауна. Испечем большой торт и воткнем в него пятьдесят пять свечей…
— А торт, конечно, должна печь я…
— Сьюзен, но так, как ты, не умеет печь торты никто на всем острове!
— Ох, миссис доктор, голубушка, вы из меня просто веревки вьете.
В течение следующей недели в доме происходили какие-то таинственные приготовления. Со всех, даже с детей, взяли клятву ни слова не говорить тете Марии. Но Энн и Сьюзен не учли, как быстро распространяются новости в Глене. За день до дня рождения тетя Мария, придя домой из Глена, вошла в гостиную, где сумерничали утомленные Энн и Сьюзен.
— Что это вы сидите в темноте, Анни? Понять не могу, какое в этом удовольствие. Мне в темной комнате делается тошно.
— Да еще не темно… сумерки… свет соединился с тенью, и от этого брака родились прекрасные дети, — почти про себя произнесла Энн.
— Ты хоть сама-то понимаешь, что говоришь? Я слышала, что завтра вы зовете гостей?
Энн подскочила в кресле.
— Откуда… как вы про это…
— Мне всегда приходится все узнавать от посторонних, — скорбно проговорила тетя Мария.
— Но мы… мы хотели сделать вам сюрприз, тетя Мария…
— Не знаю, с чего это ты вздумала звать гостей в мае, когда нельзя полагаться на погоду, Анни.
Энн вздохнула с облегчением. Видимо, тетя Мария только услышала, что они зовут гостей, но не подозревала, что это имеет какое-то отношение к ней.
— Я… я хотела позвать гостей, пока в саду еще не завяли первые цветы.
— Я надену свое платье из тафты. Если бы мне не сказали в Глене, Анни, то гости, наверное, застали бы меня в домашнем платье.
— Ну, что вы, тетя, конечно, мы бы вас предупредили заранее, чтобы вы успели переодеться.
— Вот что я скажу тебе, Анни, если только мои слова имеют для тебя хоть какой-нибудь вес — а мне начинает казаться, что никакого веса они не имеют. Хотелось бы, чтобы в будущем ты поменьше от меня скрывала. Между прочим, в Глене считают, что камень в окно методистской молельни бросил ваш Джим. Тебе это известно?
— Он не бросал, — тихо возразила Энн. — Он мне сказал, что не бросал.
— Так он тебе и признается! Ты уверена, что он не врет, Анни?
«Анни» по-прежнему тихо ответила:
— Совершенно уверена, тетя Мария. Джим не соврал ни разу в жизни.
— Ну, во всяком случае, я тебе передала, что говорят в Глене.
И тетя Мария со своей обычной любезностью развернулась и вышла из комнаты, демонстративно обойдя Шримпа, который развалился на полу, ожидая, чтобы кто-нибудь пощекотал ему животик.
Сьюзен и Энн вздохнули.
— Пожалуй, я пойду лягу, Сью. Действительно, хорошо бы завтра было солнце. Не нравится мне эта туча над гаванью.
— Вот увидите, погода будет отличная, — заверила ее мисс Бейкер. — Так сказано в календаре.
У Сьюзен был календарь, который предсказывал погоду вперед на целый год и довольно часто угадывал, так что Сьюзен в него свято верила.
— Не запирай боковую дверь, Сьюзен. Джильберт может поздно вернуться из города. Он поехал за розами… решил купить пятьдесят пять кремовых роз. Тетя Мария говорила, что признает только кремовые розы.
Глава пятнадцатая
Энн и Сьюзен встали очень рано, чтобы успеть кое-что доделать, до того как проснется тетя Мария.
— Ну, что я говорила, миссис доктор, голубушка, — самодовольно сказала мисс Бейкер. — Денек выдался, как на заказ! Попробую после завтрака испечь это новое изобретение — масляные шарики, да еще буду каждые полчаса звонить Флэггу, чтобы он не забыл про мороженое. Осталось даже время вымыть крыльцо на веранде.
— Ну, это-то зачем, Сью?
— Миссис доктор, голубушка, вы, как я понимаю, пригласили миссис Эллиотт. А она должна увидеть наше крыльцо чистым как стеклышко. А уж цветы вы сами поставьте — у меня нет вашего таланта на букеты.
— Четыре кекса? Вот это да! — воскликнул Джим.
— Уж если устраивать праздник, так чтоб это был праздник, — величественно проговорила Сьюзен.
В назначенное время начали прибывать гости, и их принимали тетя Мария в платье из бордовой тафты и Энн в платье из бежевого муслина. Она подумывала, не надеть ли белое — день выдался теплый, — но решила остановиться на бежевом.
— И правильно, — одобрила ее выбор тетя Мария. — Я всегда говорила, что белое пристало носить только молодым.
Все шло как по нотам. На застеленном белоснежной скатертью столе красовался парадный сервиз. В вазе стоял очаровательный букет из экзотических бело-лиловых ирисов. Приготовленные Сьюзен масляные шарики произвели сенсацию — ничего подобного в Глене до тех пор не видели и не пробовали. Суп-пюре был необычайно вкусен, салат с курицей был сделан из птицы, выращенной «не где-нибудь там», как сказала мисс Бейкер, а в Инглсайде. Затравленный Сьюзен Флэгг вовремя прислал мороженое. И напоследок Сьюзен внесла в столовую огромный торт с пятьюдесятью пятью свечами, походивший на голову Иоанна Крестителя, и поставила его перед тетей Марией.
Но у Энн, хотя она улыбалась и радушно потчевала гостей, уже с полчаса как кошки скребли на сердце. Все, казалось бы, шло хорошо, но в ней росло убеждение, что что-то не так. Поначалу она была слишком занята, чтобы заметить перемену, произошедшую с тетей Марией, когда миссис Корнелия от души поздравила ее с днем рождения. Но вот все сели за стол, и Энн вдруг увидела, что тетя Мария стала мрачнее тучи. За весь обед она не произнесла ни слова, а на адресованные ей реплики отвечала отрывисто и односложно. Она съела не больше двух ложечек супа и ложки салата, а на мороженое вообще не обратила внимания — будто его и не было на столе.
Когда же Сьюзен поставила перед ней торт со свечами, тетя Мария судорожно глотнула, но не смогла подавить странного звука, похожего на сдавленное рыдание.
— Тетя, что с вами? Вы нездоровы? — воскликнула Энн.
Тетя Мария глядела на нее ледяным взглядом.
— Я совершенно здорова. Что, конечно, очень странно,
учитывая мой преклонный возраст!
В эту самую минуту Нэнни и Ди внесли в столовую корзину с пятьюдесятью пятью кремовыми розами и вручили ее тете Марии, пожелав ей при этом здоровья и долгих лет жизни. Весь стол ахнул от восхищения, но тетя Мария смотрела на розы взглядом василиска.
— Хотите, девочки задуют за вас свечи, — запинаясь, проговорила Энн, — а вы, может быть, разрежете торт?
— Я сама могу задуть свечи, Анни, не настолько я
пока еще дряхла.
И тетя Мария принялась старательно задувать свечи. Потом так же старательно разрезала торт и положила нож на стол.
— А теперь прошу меня извинить.
Такой старой женщине, как я,не по силам принимать столько гостей. Мне нужно отдохнуть.
И, зашуршав юбками, она вышла из столовой, задев по дороге корзину с розами так, что та опрокинулась на пол. На лестнице раздался стук каблучков, затем хлопнула дверь.
Ошеломленные гости в гробовой тишине кое-как съели по кусочку праздничного торта. Пытаясь рассеять напряжение, миссис Мартин принялась рассказывать о докторе из Новой Шотландии, который заразил дифтеритом нескольких человек, введя им не ту вакцину. Остальные гости, считая, что она выбрала не очень удачную тему, не поддержали ее весьма похвальную попытку оживить общую беседу и вскоре разошлись.
Энн бросилась в комнату тети Марии.
— Тетя Мария, чем мы вас обидели?
— Зачем вам понадобилось разглашать мой возраст? Да еще пригласили Аделу Кэрри, чтобы она наконец точно узнала сколько мне лет! Она уже давно умирает от любопытства…
— Тетя Мария, но мы же хотели…
— Не знаю, чего вы хотели, Анни. Но за этим несомненно что-то кроется. Я даже весьма хорошо представляю себе — что, но не стану вытягивать у тебя признание. Пусть это остается на твоей совести.
— Тетя Мария, но я же просто хотела устроить вам праздник… простите меня, пожалуйста.
Тетя Мария поднесла к глазам носовой платок и героически улыбнулась.
— Я тебя, конечно, прощаю, Анни. Но ты должна понять, что после такого нарочитого оскорбления я не могу оставаться в этом доме.
— Тетя, но почему вы мне не верите?
Тетя Мария подняла худую руку с длинными шишковатыми пальцами.
— Не будем это обсуждать, Анни. Я хочу только покоя… больше ничего. Мне надо залечить душевную рану.
Вечером Энн поехала с мужем на концерт, но не получила от него полного удовольствия. А вечером Джильберт вдруг припомнил («Одно слово — мужчина! — как сказала бы миссис Корнелия), что тетя Мария всегда очень болезненно воспринимала всякие упоминания о своем возрасте.
— Еще папа, бывало, дразнил ее из-за этого. Надо было тебя предупредить… но у меня совсем из головы выскочило. Но если она и в самом деле решит уехать, не препятствуй ей, — сказал Джильберт, только из чувства родственного долга удержавшись от того, чтобы не добавить: — Скатертью дорожка!
— Да не уедет она! Дождешься такого счастья, как же! — вставила присутствовавшая при разговоре Сьюзен.
Но на этот раз мисс Бейкер ошиблась. Тетя Мария уехала на следующий же день, напоследок простив всех и каждого.
— Не вини Анни, Джильберт, — великодушно заявила она. — Я готова поверить, что она не хотела меня оскорбить. И я не сержусь на нее за то, что она всегда все от меня скрывала, хотя для человека с такой тонкой душевной организацией, как у меня… Несмотря ни на что, бедная Анни мне всегда нравилась, — продолжала она, словно признаваясь в постыдной слабости, — но вот Сьюзен Бейкер — это другого поля ягода. Могу только одно тебе посоветовать напоследок, Джильберт: приструни прислугу и не разрешай ей вольничать.
Сначала обитатели Инглсайда не могли поверить своему счастью. И только постепенно осознали, что тетя Мария в самом деле уехала… что опять можно смеяться, и никто не будет жаловаться на головную боль… что можно открыть все окна, и никто не разворчится из-за сквозняков… что можно спокойно есть поданную на стол еду, и никто не скажет, что твое любимое блюдо вызывает рак желудка…
«Никогда я так не радовалась отъезду гостя, — несколько виновато подумала Энн. — По крайней мере, опять можно жить так, как хочется».
Шримп умывался на подоконнике, в саду расцвели первые пионы.
— Какой красивый наш мир, правда, мама? — сказал Уолтер.
— Календарь предсказывает, что июнь будет погожим, — заметила Сьюзен. — Состоится несколько свадеб и по крайней мере двое похорон. Наконец-то мы опять увидим свет! И подумать только, что я наотрез отказывалась устраивать этот день рождения, миссис доктор, голубушка. Нет, все-таки Провидение печется о нас. И как вам кажется, миссис доктор, голубушка, не подать ли доктору к бифштексу жареного лука?
Глава шестнадцатая
— Не пора ли нам подумать… о собаке? — спросил как-то Джильберт.
В Инглсайде, с тех пор как отравили старого Рекса, не было собаки, но мальчикам нужен был четвероногий друг, и доктор решил купить щенка. Однако он все время был так занят, что до щенка у него никак не доходили руки. И вот наконец Джим принес домой небольшого палевого щенка с вызывающе торчащими черными ушками.
— Мама, мне подарил его Джо Риз. Его зовут Джип. Можно мне его держать?
— А какой он породы? — с сомнением спросила Энн.
— По-моему, в нем много всяких пород, — ответил Джим. — Но это же даже лучше. Так он гораздо интереснее, чем если бы он был какой-нибудь одной породы. Мама, ну пожалуйста!
— Ну, если папа согласится…
Папа не возражал, и Джип поселился в Инглсайде. Все его обитатели приветствовали появление щенка, кроме Шримпа, который весьма недвусмысленно выразил свое отношение к пришельцу. Джип нравился даже мисс Бейкер, и днем, когда Джим был в школе, щенок, пока Сьюзен сидела за прялкой на чердаке, охотился там по темным углам на воображаемых крыс. Сьюзен признавала, что ей веселей работать на чердаке, когда там щенок, и считала, что ни одна другая собака не может додуматься до того, чтобы валиться на спину и болтать в воздухе лапами для того, чтобы ей дали косточку. Когда Берти Друк пренебрежительно сказал про Джипа: «И это ты называешь собакой?», Сьюзен рассердилась не меньше Джима.
— Да, — отрезала она, — это — собака. А по-твоему, кто — гиппопотам?
И Берти пришлось отправиться домой, не получив ни кусочка замечательного изделия, которое мисс Бейкер называла «хрустящий пирог» и пекла специально для мальчиков и их приятелей. Правда, ее не было поблизости, когда Мак Риз спросил: «Где ты это нашел — морем выбросило?» — но Джим и сам сумел постоять за Джипа. Когда же Нат Флэгг сказал, что у Джипа слишком длинные ноги, Джим ответил, что у собаки ноги должны, во всяком случае, доставать до земли. Нат не отличался находчивостью и не придумал, что на это возразить.
В тот год ноябрь был пасмурным, дули холодные ветры, и Лощина почти все время была заполнена какой-то мглой — не благородным и таинственным белым туманом, а тем, что Джильберт называл «дрянной унылой сыростью». Детям приходилось играть в основном на чердаке, но зато они подружились с двумя куропатками, которые каждый вечер прилетали на ночевку на большую яблоню, и с пятью ярко раскрашенными сойками, которые являлись на задний двор и с озорным посвистом склевывали хлеб, который им крошили дети. Только сойки были очень жадные и не подпускали к еде других птиц.
В декабре три недели шел снег, и пришла зима. Поля покрылись белой пеленой, на столбы нападали высокие шапки снега, мороз разрисовал стекла прихотливыми узорами, и окна Инглсайда светились в снежных сумерках, обещая приют и отдых всем путникам. В ту зиму в Глене родилось, по мнению Сьюзен, неслыханное количество детей, и, оставляя доктору «кое-что перекусить» в кладовке, она мрачно предсказывала, что он не дотянет до весны.
— Подумать только — у Друков уже девятый! Будто они и так мало наплодили!
— Наверное, миссис Друк так же восхищается своим новорожденным, как мы Риллой, Сью.
— Скажете тоже, миссис доктор, голубушка!
Прошло Рождество, на этот раз не омраченное присутствием тети Марии. Дети находили достаточно развлечений и на улице — выслеживали по свежему снегу кроликов, бегали наперегонки со своими тенями по насту на полях, катались на санках с искрящихся на солнце холмов и опробовали новые коньки на льду пруда. И палевый щенок с черными ушками повсюду носился за Джимом или встречал его радостным визгом, когда он приходил из школы, и спал в ногах у мальчика, и лежал у ног, когда он делал уроки, и сидел рядом, когда Джим обедал, время от времени тычась носом в ногу, чтобы напомнить о себе.
— Мамочка, я просто не знаю, как я жил раньше, когда у меня не было Джипа. Он даже разговаривать умеет, честное слово — глазами.
И вдруг — трагедия! Джип ни с того ни с сего погрустнел, стал вялым и перестал есть, даже отказывался от своих любимых бараньих ребрышек, которые ему предлагала Сьюзен. Послали в Лоубридж за ветеринаром, тот покачал головой и сказал, что пес, по-видимому, подобрал какую-нибудь отраву в лесу. Может, поправится, а может, и нет. Джип неподвижно лежал на своей подстилке, не обращая внимания ни на кого, кроме Джима. Мальчик гладил собаку, а она до самого смертного час виляла хвостиком.
— Мамочка, а это грех — молиться за Джипа?
— Конечно, нет, детка. Молиться за тех, кого мы любим, никогда не грех. Только боюсь, что Джип… очень тяжело болен.
— Мама, неужели он умрет?
Джип умер на следующее утро. Это была первая смерть, с которой столкнулся Джим. Никто не забывает, каково это — смотреть, как умирает любимое существо, даже если это «всего-навсего собачонка». Но так Джипа в омраченном горем Инглсайде не называл никто, даже мисс Бейкер, которая бормотала, вытирая покрасневшие глаза:
— Вот уж не думала, что могу так привязаться к собаке!.. Никогда больше себе этого не позволю. Душа разрывается на части.
Бедный Джим провел ужасную ночь. Как назло, мама с папой уехали с вечера. Уолтер плакал, пока не уснул, и Джим был один… Ему не с кем было поговорить. Милые карие глаза, которые смотрели на него с таким доверием и любовью, остекленели.
— Господи, — молился Джим, — позаботься о моей собачке, которая сегодня умерла. Ты его узнаешь по черным ушкам. Не давай ему скучать по мне…
Джим зарылся головой в подушку, чтобы подавить рыдания. Когда он потушит свет, в окно будет заглядывать черная ночь, а Джипа не будет. Придет холодное зимнее утро, а Джипа не будет. День будет следовать за днем, год за годом, а Джипа не будет никогда. Нет, об этом даже думать невыносимо!
И тут его обняли нежные теплые руки. Все-таки любовь еще осталась на свете, хотя Джипа уже не было.
— Мамочка, мне всегда будет так больно?
— Нет, милый, не всегда. — Энн не сказала сыну, что он скоро забудет Джипа, вернее, что тот останется просто дорогой памятью. — Не всегда, сынуля. Постепенно тебе станет легче… рана заживет… Помнишь, как у тебя зажила обожженная рука, которая поначалу так очень болела?
— Папа сказал, что купит мне другую собаку. Мама, я не хочу другую собаку… я никогда не захочу другую собаку!
— Я понимаю, родной.
Мама все понимает. Ни у кого нет такой мамы, как у него. Джиму хотелось сделать для нее что-нибудь очень приятное, и тут его осенило. Он купит ей жемчужное ожерелье — из тех, что продаются в магазине мистера Флэгга. Он однажды слышал, как мама сказала, что ей ужасно хочется иметь жемчужное ожерелье, а папа ответил:
— Потерпи, девочка. Вот придет в порт наш корабль с сокровищами, и будет у тебя жемчужное ожерелье.
Только вот где взять деньги? Конечно, родители каждый месяц дают ему определенную сумму на карманные расходы, но все эти деньги уходят на нужные вещи, в число которых не входит жемчужное ожерелье. Кроме того, Джиму хотелось самому заработать деньги на ожерелье. Тогда это будет действительно
егоподарок. У мамы в марте день рождения — осталось всего шесть недель. А ожерелье стоит целых пятьдесят центов!
Глава семнадцатая
Заработать деньги в Глене было нелегко, но Джим был настойчив. Он делал волчки из старых катушек и продавал их товарищам в школе по два цента. Он продал три драгоценных молочных зуба по центу за штуку. Каждую субботу он продавал Берти Друку свою порцию хрустящего пирога. Заработанные деньги он клал в бронзовую копилку, которую Нэнни подарила ему на Рождество. Такая красивая блестящая свинка с щелью на спине, куда бросают монеты. Когда наберется пятьдесят центов, он откроет свинку, повернув ей хвостик, и достанет свое богатство. Наконец, чтобы заработать последние недостающие восемь центов, Джим продал Маку Ризу свою коллекцию птичьих яиц. Ему было очень жаль с ней расставаться — такой коллекции не было ни у кого в Глене, — но день рождения приближался, и деньги требовались срочно. Как только Мак с ним расплатился, Джим бросил восемь центов в щель на спине свинки и долго сидел, глядя на нее с глубоким удовлетворением.
— Покрути ей хвост — посмотрим, откроется ли она, — сказал Мак, который не верил, что свинка откроется. Но Джим отказался — он вынет деньги только когда соберется идти покупать ожерелье.
На следующий день в доме Энн собрались члены Общества помощи миссионерам. Это было памятное собрание. Посреди молитвы, которую читала миссис Тейлор, — а миссис Тейлор считалась замечательной чтицей, — в комнату с отчаянным криком ворвался Джим:
— Мама, моя свинка пропала!
Энн быстро увела его, но миссис Тейлор считала, что ее молитва была безнадежно испорчена, а поскольку она хотела произвести впечатление на приехавшую к ним в гости жену пастора, она много лет не могла простить Джима и отказывалась пользоваться услугами его отца.
Когда собравшиеся разошлись, Энн с детьми обыскали Инглсайд сверху донизу, но копилки нигде не было. Джим, которого сильно отругали за то, что он ворвался на собрание, не помнил себя от горя и никак не мог вспомнить, где и когда он видел свинку в последний раз. Когда позвонили Маку Ризу, он сказал, что он в последний раз видел свинку на комоде в комнате Джима.
— Сью, ты не думаешь, что это Мак?..
— Нет, миссис доктор, голубушка. Я уверена, что он ее не брал. У Ризов есть свои недостатки… они очень уж любят деньги… но только деньги, полученные честным путем. И куда подевалась эта окаянная свинья?
— Может, ее крысы съели? — предположила Ди. Джим пренебрежительно отмел это предположение, но в глубине души забеспокоился. Конечно, крысы не могут съесть бронзовую свинку с пятьюдесятью центами внутри! Или могут?
— Нет, милый, не могут, — заверила его Энн.
На следующий день, когда Джим пошел в школу, копилка все еще не нашлась. Известие о пропаже достигло школы раньше, чем туда пришел Джим. Ему много чего наговорили одноклассники, и во всем этом было мало утешительного. Но на перемене к нему со льстивым видом подошла Сисси Флэгг. Ей нравился Джим, а она не нравилась Джиму, несмотря на свои белокурые волосы и огромные карие глаза — а может быть, именно по этой причине.
Даже в восемь лет возникают проблемы в отношениях с противоположным полом.
— А я знаю, кто взял твою свинку, — шепнула Сисси.
— Кто?
— Вот если выберешь меня в игре в хлопалки, тогда скажу.
Это была горькая пилюля, но Джим мужественно ее проглотил, готовый на все, лишь бы найти свинку. Мучительно краснея, он сидел рядом с Сисси во время игры, а когда прозвенел звонок на урок, потребовал свою награду.
— Алиса Палмер сказала, что Вилли Друк сказал ей, что Боб Рассел сказал ему, что Фред Эллиотт знает, где твоя свинка. Иди и спроси Фреда.
— Это жульничество! — вскричал Джим, с негодованием глядя на Сисси. — Надувала!
Сисси надменно засмеялась. Ругайся-ругайся! А рядом со мной все-таки сидел.
Джим пошел к Фреду Эллиотту, который поначалу сказал, что знать не знает, где его свинка, и его это не касается. Джима охватило отчаяние. Фред Эллиотт был на три года старше его и обожал дразнить младших. И вдруг Джима осенило. Он ткнул пальцем в огромного краснорожего Фреда и четко проговорил:
— Ты — транссубстанционалист.
— Нечего обзываться, Блайт!
— Это не ругательство, — ответил Джим. — Это колдовство. Если я еще раз так тебя назову, тебе не поздоровится. Может, у тебя отвалятся пальцы на ногах. Считаю до десяти, и если не скажешь, я тебя заколдую.
Фред не верил этой угрозе. Но вечером он должен был участвовать в состязании на коньках и не хотел рисковать. Кроме того, пальцы на ногах тоже вещь нужная. И он сдался.
— Ну, ладно, ладно. Не повторяй свое колдовство — язык сломаешь. Мак знает, где твоя свинья. Так он, по крайней мере, говорил.
Мака в школе не было, но, выслушав рассказ Джима, Энн позвонила его матери. Через полчаса та прибежала в Инглсайд. Ее лицо пылало, и она бросилась оправдываться.
— Мак не брал свинку, миссис Блайт. Он просто хотел посмотреть, откроется ли она, если ей покрутить хвостик, и когда Джим вышел из комнаты, он повернул ее хвост. Копилка развалилась на две половинки, и он никак не мог их соединить. Тогда он положил обе половинки и деньги в один из ботинков Джима, что стоят в стенном шкафу. Конечно, ему не следовало ее трогать… и отец его как следует вздул… но он ее
не украл,миссис Блайт.
— А каким это словом ты припугнул Фреда Эллиотта, Джим? — спросила его Сьюзен, после того как нашли свинку и пересчитали деньги.
— Транссубстанционалист, — гордо сказал Джим. — Уолтер нашел это слово в словаре на прошлой неделе — ты же знаешь, что он любит длинные слова, Сьюзен, — и мы оба выучили, как оно произносится. Чтобы не забыть, мы повторили его друг другу двадцать один раз перед сном.
Джим купил ожерелье и спрятал его в среднем ящике комода в комнате мисс Бейкер, которую он посвятил в свой секрет. Теперь ему казалось, что мамин день рождения никогда не наступит. Мама и не подозревает,
чтоспрятано в комоде Сьюзен…
какой подарокона получит на день рождения.
В начале марта Джильберт заболел гриппом, который чуть не перешел в воспаление легких. Несколько дней все в Инглсайде жили в большом страхе.
Энн, как всегда, решала споры, утешала обиженных, наклонялась над залитыми лунным светом кроватками, чтобы поправить одеяла, но она совсем перестала смеяться, и дети это остро переживали.
— А что, если папа умрет? — спросил Уолтер белыми от страха губами.
— Нет, милый, не умрет. Он уже вне опасности.
Энн и сама не раз задумывалась, что станется с маленьким мирком бухты Четырех Ветров, если… если что-нибудь случится с Джильбертом. Все так привыкли полагаться на него. Многие верили, что он чуть ли не мертвых может воскрешать и не делает этого лишь потому, что не хочет препятствовать Божьей воле. А однажды он это все-таки сделал… Дядя Арчибальд Макгрегор со всей серьезностью заверил Сьюзен, что Сэмюэль Хьюлетт был мертвехонек, когда явился доктор Блайт и оживил его. Как бы ни обстояло дело с мертвыми, живые очень обрадовались, увидев похудевшее лицо Джильберта, который опять смотрел на них дружелюбным взглядом и весело говорил: «Да ничего у вас не болит!» И они верили его словам — и у них и в самом деле не переставало болеть. И скольких же мальчиков в ту зиму окрестили Джильбертом — бухта Четырех Ветров буквально кишела юными Джильбертами. Была даже одна крошечная Джильбертина.
Ну вот, папа выздоровел, мама опять смеется и… и наступила ночь перед днем ее рождения.
— Если пораньше ляжешь, Джим, то завтра наступит скорее, — посоветовала Джиму Сьюзен.
Джим попробовал последовать ее совету, но ничего не получилось. Уолтер быстро заснул, а Джим все ворочался в постели. Он боялся проспать: а вдруг все отдадут маме свои подарки раньше него? А он хотел быть первым. Надо было попросить Сьюзен разбудить его пораньше. А теперь она куда-то ушла. Ладно, решил Джим, попрошу, когда вернется. А услышу я, когда она придет? Нет, надо пойти в гостиную и там лечь на диван — тогда я ее не пропущу.
Джим прокрался вниз и улегся на диван. Он слышал ночные звуки дома: вот скрипнула половица… кто-то повернулся в кровати… угли с шумом осыпались в камине… мышь пробежала в шкафу. А это что? Лавина? А, это снег соскользнул с крыши. Что ж это Сьюзен не идет? Если бы рядом был Джип… милый Джиппи. Уж не забыл ли я Джипа? Нет, не забыл. Но уже так не щемит на сердце, когда думаешь о нем. Теперь уже часто думаешь и о других вещах. Спи спокойно, моя дорогая собачка. Может быть, когда-нибудь я все-таки заведу новую собаку. Хорошо бы, если бы она была уже сейчас… или хотя бы Шримп пришел. Но Шримп где-то шляется. Вот эгоист! Только и думает что о своих кошачьих делах!
А Сьюзен все нет. Придется о чем-нибудь помечтать, чтобы время шло быстрее. Когда-нибудь поеду на Баффинову землю и буду там жить с эскимосами. Или уйду в плаванье и на Рождество буду жарить акулье мясо, как капитан Джим. Или поеду с экспедицией в Конго изучать горилл. Или буду нырять на дно моря и гулять там по коралловым замкам. А когда мы в следующий раз поедем в Эвонли, попрошу дядю Дэви научить меня доить корову прямо в рот коту. У него это так здорово получается! А может, стану пиратом. Сьюзен хочет, чтобы я стал пастором. Пастор, конечно, делает много добра людям, но пиратом быть интереснее. А что, если этот деревянный солдатик спрыгнет с полки и его ружье выстрелит? А что, если стулья начнут разгуливать по комнате? А что, если тигровая шкура на полу оживет? Джиму вдруг стало страшно. При свете дня он легко отличал выдумку от действительности, но ночью все кажется иным.
А что, если Бог забудет приказать солнцу встать утром? Эта мысль так напугала Джима, что он натянул плед на голову. Вернувшись домой на заре, Сьюзен нашла Джима спящим под пледом.
— Джим!
Джим потянулся и сел на диване, зевая. Ура, наступил мамин день рождения!
— Я тебя ждал-ждал, Сьюзен, сказать, чтоб ты меня разбудила… а ты все не шла.
— Я ходила к Уорренам. У них умерла тетя, и они попросили меня остаться на ночь и посидеть с покойной, — спокойно объяснила Сьюзен. — Стоит мне отвернуться, и ты выкидываешь Бог знает что. Ну-ка беги в постель! Я позову тебя, когда мама встанет.
— Сьюзен, а как убивают ножом акул?
— Откуда мне знать? Я сроду не убивала акул.
Когда Джим вошел в комнату Энн, мама расчесывала перед зеркалом свои длинные блестящие волосы. Какие у нее сделались глаза, когда она увидела ожерелье!
— Джим, это мне? Миленький мой!
— Теперь тебе не нужно будет ждать, пока в порт придет папин корабль с сокровищами, — с нарочитой небрежностью сказал Джим. А что это зеленое сверкает на столике? Кольцо… Папин подарок. Ну, что ж, но кольца есть у всех, даже у Сисси Флэгг, а вот жемчужное ожерелье…
— Какой замечательный деньрожденьский подарок! — воскликнула мама.
Глава восемнадцатая
Когда через несколько дней Джильберт и Энн собрались в гости в Шарлоттаун, Энн надела новое платье, отделанное серебряным шитьем, кольцо с изумрудом, подаренное Джильбертом, и ожерелье, которое подарил Джим. — Ну, не красавица ли у меня жена? — с гордостью спросил папа. Джим думал про себя, что мама очень красивая, что ей идет это платье и что жемчуг просто замечательно смотрится на ее белой шее. Ему всегда нравилось, когда мама нарядно одевалась, но ему еще больше нравилось, когда она переодевалась в повседневную одежду. Все-таки в нарядном платье мама становилась немножко чужой… После ужина Джим по поручению Сьюзен пошел в магазин, и там-то, пока он ждал своей очереди, опасаясь, что вдруг выйдет Сисси и начнет к нему приставать, его и постигло страшное разочарование. Две девочки стояли перед застекленной витриной, где лежали ожерелья, браслеты и заколки. — Какие хорошенькие эти жемчужные бусы, — сказала Эбби Рассел. —
Почти как настоящие, — кивнула Леона Риз. И они ушли, не заметив, в какое смятение их слова повергли мальчика, сидевшего на бочонке с гвоздями. Джим долго не мог встать — у него словно отнялись ноги. — Что с тобой, сынок? — спросил его Картер Флэгг. — Ты как в воду опущенный. Джим посмотрел на хозяина магазина трагическими глазами. У него пересохло во рту. — Скажите, мистер Флэгг… разве эти… эти ожерелья… не настоящие? Мистер Флэгг засмеялся. — Нет, Джим, боюсь, что за пятьдесят центов ты настоящий жемчуг не купишь. Нитка настоящего жемчуга стоит несколько сотен долларов. А эти я купил на распродаже — потому и продаю их так дешево. Обычно такие бусы стоят доллар. Осталась всего одна нитка — раскупили, как горячие пирожки. Джим сполз с бочонка и вышел из магазина, совершенно забыв, за чем его посылала Сьюзен. Он шел домой, не разбирая дороги. Небо было темное, и чувствовалось, что того и гляди пойдет снег. Джиму очень хотелось, чтобы повалил снег и засыпал его с головой — и весь Глен тоже. На свете нет справедливости, вот и все. Джим был убит. И не надо смеяться над его разочарованием. Джим был бесконечно унижен. Он подарил маме жемчужное ожерелье — то есть, он думал, что оно жемчужное — а оно оказалось фальшивым. Что она скажет, что почувствует, когда узнает правду? Джиму ни на минуту не пришло в голову утаить от Энн правду. Нельзя больше «обманывать» маму. Она должна узнать, что это фальшивый жемчуг. Бедная мамочка! Она так им гордилась… он же видел гордость в ее глазах, когда она его поцеловала и поблагодарила за подарок. Джим незаметно проскользнул в дом сквозь боковую дверь и сразу пошел к себе в комнату, где Уолтер уже сладко спал. Но Джим не мог заснуть. Он все еще не спал, когда Энн пришла к ним в комнату посмотреть, не сбросили ли дети одеяла. — Джим, милый, что ж это ты до сих пор не спишь? Ты не заболел? — Нет, мамочка, но у меня очень болит
здесь, — сказал Джим, положив руку на живот — в уверенности, что здесь у него находится сердце. — Что случилось, малыш? — Я… я… мамочка, мне надо тебе сказать… ты очень расстроишься, но я вовсе не хотел тебя обмануть… честное слово, не хотел. — Ну, конечно, милый. Так в чем же дело? Говори, не бойся. — Мамочка, этот жемчуг не настоящий… а я думал, что настоящий… честное слово, я думал, что настоящий. Из глаз Джима потекли слезы. Он не мог говорить. Может быть, Энн и хотелось улыбнуться, но она этого не сделала. В тот день Джефри набил на лбу шишку, Нэнни подвернула ногу, Ди простудилась и потеряла голос. Весь день Энн только и делала, что бинтовала, целовала и утешала. Но
этобыло совсем другое дело. Здесь нужна была материнская мудрость. — Джим, я и не знала, что ты думаешь, будто это настоящий жемчуг. Конечно, он не настоящий. То есть в одном смысле он не настоящий, а в другом настоящей не бывает. Для меня очень дорог этот подарок, потому что в нем была и любовь, и труд, и самопожертвование. Поэтому эта нитка мне дороже самых драгоценных жемчужин, добытых со дна моря, из которых делаются украшения для королев. Мой милый мальчик, я не променяю твое ожерелье на то, которое, как писали в газетах, один миллионер подарил своей невесте и которое стоило полмиллиона долларов. Вот что значит для меня твой подарок, мой родной. Ну, как, у тебя стало легче на душе? Джим был в таком восторге, что даже стеснялся этого. Он считал, что только маленьким разрешается приходить в такой восторг. — Да, — сдержанно сказал он, — жизнь стала выносима. Его глаза опять сияли. Все хорошо. Мама его обнимает… маме нравится его ожерелье… а остальное неважно. Когда-нибудь он подарит ей ожерелье, которое будет стоить целый миллион, а не какие-то полмиллиона. А пока что… как хочется спать… в постели так тепло и уютно… руки мамы пахнут розами… и он больше не ненавидит Леону Риз. — Мамочка, тебе так идет это платье, — сонным голосом сказал Джим. Энн улыбнулась, поцеловала его и вспомнила дурацкую статью, которую как-то прочитала в медицинском журнале. «Никогда не целуйте сына, если не хотите, чтобы у вас возник комплекс Иокасты»,
— писал некий доктор В. 3. Томашевский. Она тогда посмеялась над этим утверждением и немного рассердилась. Но сейчас она чувствовала к автору статьи только жалость. Бедный! Но, конечно, В. 3. Томашевский был мужчиной. Женщина никогда бы не написала такой вздор.
Глава девятнадцатая
Детям Инглсайда не везло с домашними животными. Кудрявый черный щенок, которого Джильберт привез из Шарлоттауна, на следующей неделе убежал из дома, и больше его уже не видели. Говорили, что какой-то матрос перед отплытием пронес на свое судно черного щенка. Но все равно судьба песика навсегда осталась одной из неразгаданных тайн Инглсайда. Уолтер больше переживал по поводу исчезновения щенка, чем Джим, который еще не оправился от потери Джипа и решил никогда не любить другую собаку. В сарае жил кот по кличке Тигр, которого за воровские замашки никогда не пускали в дом, но с которым дети любили играть и кормили до отвала. Однажды его вдруг нашли мертвым. Ему устроили пышные похороны в Лощине. И наконец кролик Бан, которого Джим за двадцать пять центов купил у Джо Рассела, заболел и издох. Может быть, его смерть ускорила доза патентованного лекарства, которую в него влил Джим, а может быть, и нет. Джим сделал это по совету Джо, который хорошо понимал в кроликах. И все-таки у Джима было ощущение, как будто он своими руками убил Бана.
— Проклятие, что ли, лежит на Инглсайде? — мрачно сказал он, после того как Бана похоронили рядом с Тигром. Уолтер написал для него эпитафию, и все четверо старших детей неделю ходили с траурной повязкой на руке — к ужасу Сьюзен, которая считала это святотатством. Мисс Бейкер не особенно огорчила смерть Бана, потому что кролик однажды, сбежав из клетки, обгрыз целую грядку салата. Еще меньше ей понравились две жабы, которых Уолтер принес и поселил в погребе. Вечером она выкинула одну из них, а вторую никак не могла найти. Уолтер так о ней беспокоился, что не мог заснуть.
«Может, это были муж и жена, — думал он. — Может, они очень страдают от того, что их разлучили. Сьюзен выкинула ту, что поменьше. Наверное, это жена. Представляю, как ей страшно одной в нашем большом дворе. Она как вдова, которую некому защитить».
Уолтер не смог вытерпеть мыслей о трагедии жабы-вдовы, встал с постели и пошел в погреб искать ее мужа. Жабу он не нашел, зато свалил груду старых кастрюль, устроив при этом такой тарарам, который разбудил бы и мертвых. Но проснулась одна Сьюзен и спустилась в погреб со свечой.
— Что ты здесь делаешь, Уолтер?
— Сьюзен, я должен найти вторую жабу, — с отчаянием в голосе сказал Уолтер. — Ну, подумай, каково бы тебе было без мужа — если бы у тебя был муж.
— Что за чушь ты несешь? — изумленно спросила мисс Бейкер.
В эту минуту жаба-муж, видимо решив, что раз на сцене появилась Сьюзен, его песенка спета, выпрыгнул на открытое место из-за банок с соленьями. Уолтер бросился на него и выставил за окно, где, будем надеяться, он счастливо воссоединился со своей супругой.
— А зачем ты принес жаб в погреб? — сурово спросила Сьюзен. — Что им здесь есть?
— Я собирался ловить для них насекомых, — ответил Уолтер. — Я хотел их
изучать.
— Ну, просто управы на них нет! — простонала Сьюзен, следуя за сердитым Уолтером вверх по лестнице.
С малиновкой детям повезло больше. Они нашли птенца у себя на крыльце после страшной ночной грозы. У него была серая спинка, пестренькая грудка и глаза, как бусинки, и он с самого начала полностью доверился обитателям Инглсайда. Даже Шримп ни разу не пытался цапнуть птенца, даже когда Робин, как назвали малиновку, нахально угощался из его блюдца. Сначала дети кормили Робина червяками, и он поедал их в таком количестве, что Джефри приходилось с утра до вечера копать их в саду. Мальчик складывал червяков в консервные банки, которые стояли по всему дому, вызывая негодование брезгливой Сьюзен. Но она согласилась бы стерпеть и не такое во имя Робина, который бесстрашно садился ей на вытянутый палец и щебетал прямо в лицо. Мисс Бейкер очень привязалась к Робину и даже сочла нужным упомянуть в письме к Ребекке Дью, что его грудка стала розоветь.
«Только, пожалуйста, не подумайте, дорогая мисс Дью, — писала она, — что я тронулась умом, привязавшись к какой-то птице. Но сердце ведь не камень. Наш Робин не живет в клетке, как канарейка — этого я не смогла бы выносить, дорогая мисс Дью, — но летает на свободе по дому и саду и спит на ветке дерева, где Уолтер устроил себе помост и учит там уроки. Однажды дети взяли его с собой в Лощину, и он от них улетел, но к вечеру вернулся — к большой радости детей и, по совести говоря, моей тоже».
Лощина, между прочим, получила новое имя. Уолтер давно уже подумывал, что такое замечательное место заслуживает более романтического названия. Однажды дождливым днем они играли на чердаке, и под вечер сквозь облака прорвалось солнце, озарив своими лучами Глен и его окрестности.
— Ой, посмотлите, какая ладуга, — пролепетала Рилла.
Такой потрясающей радуги дети еще никогда не видели. Одним концом она упиралась в шпиль пресвитерианской церкви, а другой спускался в заросший тростником пруд в дальнем краю Лощины. Уолтер тут же переименовал Лощину в Долину Радуги. Долина Радуги была любимым местом игр для детей Инглсайда. Здесь все время дули игривые ветерки, и с утра до вечера звенели птичьи трели. Повсюду светились стволы берез, и Уолтер воображал, что из одной из них, которую он назвал Белой Дамой, по ночам выходит маленькая дриада и разговаривает с ними. Ель и клен, растущие так близко, что их ветви сплелись, Уолтер назвал «Влюбленной Парой» и повесил на них маленькие колокольчики, которые нежно звенели под порывами ветра. Дети построили через ручей каменный переход, который охранял дракон. В зарослях прятался Робин Гуд со своими отважными разбойниками; в ручье жили три водяных; старый заброшенный дом, стоявший рядом с поросшей травой плотиной и окруженный одичавшим садом, прекрасно выполнял роль осажденного замка. Нож для разделки мяса не раз оказывался в роли всепобеждающего меча Крестоносцев. А когда у Сьюзен пропадала крышка от сковородки, она знала, что та превратилась в щит отважного рыцаря в доспехах и с плюмажем на голове. Дети играли и в пиратов, чтобы угодить Джиму, который в свои десять лет почувствовал вкус к кровопролитию. Но Уолтер наотрез отказывался играть роль пленного капитана корабля, которого вздергивают на рее, что Джим считал самой интересной частью игры. Иногда Джим даже сомневался, достаточно ли у Уолтера доблести, чтобы быть пиратом, но он подавлял сомнения и не раз давал решительный — и болезненный — отпор мальчишкам в школе, которые дразнили Уолтера «слюнтяем»… вернее, пробовали дразнить, пока не поняли, что в этом случае придется иметь дело с Джимом Блайтом, который очень уж лихо орудует кулаками.
Теперь Джиму иногда разрешали ходить на мыс покупать рыбу. Он обожал выполнять это поручение, потому что оно давало ему возможность заходить к капитану Малаки Расселу и слушать истории капитана Малаки и его приятелей, которые когда-то были отважными молодыми капитанами. Чего только с ними не случалось! Оливер Риз, которого подозревали, что в молодости он был пиратом, однажды попал в плен к каннибалам… Сэм Эллиотт был в Сан-Франциско во время знаменитого землетрясения… «Храбрый Билл» — Уильям Макдугалл — сражался не на жизнь, а на смерть с акулой… Энди Бейхер однажды попал в смерч. Но Джиму больше всех нравился седоусый капитан Малаки. Уже в семнадцать лет он командовал бригантиной, на которой возил лес в Буэнос-Айрес. На каждой щеке у него было вытатуировано по якорю. Кроме того, у него были замечательные часы, которые заводились ключиком. Когда капитан Малаки был в хорошем настроении, он разрешал Джиму завести часы, а когда он был в очень хорошем настроении, то брал Джима с собой ловить рыбу или копать мидий во время отлива. А когда он был в распрекрасном настроении, то показывал Джиму изготовленные им модели кораблей. Джим был от них в восторге. Среди них было судно викингов с полосатым квадратным парусом и жутким драконом на носу… каравелла Колумба… «Мейфлауэр»,
«Летучий голландец» и бесконечное количество прекрасных бригантин, шхун, барков и клипперов.
— Научите меня вырезать такие корабли, капитан Малаки, — однажды попросил Джим.
Капитан Малаки покачал головой и задумчиво сплюнул.
— Этому научить нельзя, сынок. Для этого надо поплавать лет тридцать — сорок. Вот тогда ты научишься понимать корабли — и любить их. Корабли, сынок, похожи на женщин… их надо понимать и любить, а иначе они не откроют тебе своих секретов. Иной раз кажется, что знаешь судно от носа до кормы и от палубы до трюма, а оно все равно не открывает тебе своей души. Я плавал на одном судне, которое так и не далось мне в руки, хоть я и брался вырезать его модель сотни раз. Ох и упрямая была посудина! Я знал похожую на него женщину… впрочем, ладно. У меня готов корабль, который я хочу поместить в бутылку, и я тебе покажу, сынок, как это делается.
Так Джим ничего больше об этой женщине и не узнал, да не очень-то и интересовался: женщины для него пока не существовали, не считая матери и Сьюзен, которые вовсе не были женщинами, а были мамой и Сьюзен.
Когда умер Джип, Джим решил, что он никогда не заведет другую собаку, но время удивительным образом лечит раны, и Джиму уже опять хотелось завести щенка. Щенок ведь не совсем собака.
На стенах чуланчика на чердаке, где Джим держал сокровища, подаренные ему капитаном Малаки, появились вырезанные из журналов изображения бесчисленных собак: величественный мастифф, мордастый бульдог, такса, у которой такой вид, будто кто-то взял собаку за задние и передние ноги и растянул, как резинку, остриженный подо льва пудель с шариком на хвосте, фокстерьер, борзая — интересно, думал Джим, борзых вообще когда-нибудь кормят? — шпиц, далматин, спаниель с добрыми глазами. Все это были породистые собаки, и всем чего-то не хватало, а чего — Джим и сам не знал.
А потом в местной газете он прочел объявление: «Продается собака. Обращаться к Родди на ферму Крофордов». И все. Джим сам не смог бы объяснить, почему это объявление застряло у него в голове и почему он почувствовал печаль в самой его лаконичности. От Крэга Рассела он узнал, кто такой Родди Крофорд:
— У него месяц назад умер отец, и его берет к себе тетка из Шарлоттауна. А мать у него умерла уже очень давно. Ферму купил Джейк Миллисон, но он собирается снести дом. Наверное, тетка не разрешает Родди взять с собой собаку. Ничего в этой собаке нет особенного, но Родди в ней души не чает.
— А сколько он за нее, интересно, хочет? У меня есть только один доллар.
— По-моему, он больше всего хочет, чтобы у собаки был хороший хозяин, — сказал Крэг. — А потом, разве твой отец не даст на нее денег?
— Даст, но я хочу купить собаку на свои деньги, — ответил Джим. — Тогда это будет моя собственная собака.
Крэг пожал плечами. Чудаки все-таки все эти Блайты. Какая разница, кто заплатит за собаку?
В тот же вечер Джим с отцом поехали на ферму Крофордов. В старом полуразвалившемся доме они нашли Родди Крофорда и его собаку. Родди был бледный мальчик с прямыми рыжеватыми волосами и веснушками на носу, примерно одного возраста с Джимом. У его собаки были шелковистые коричневые уши, замшевый нос и замечательные добрые карие глаза. Как только Джим увидел этого прелестного пса с белой полоской на носу, он решил, что это — то, что ему нужно.
— Ты хочешь продать собаку? — спросил он Родди.
—
Я не хочуего продавать, — тоскливо сказал Родди, — но Джейк велит мне его продать, а не то грозится его утопить. Он говорит, что тетя Винни не потерпит собаки в доме.
— А сколько ты за него хочешь? — спросил Джим, опасаясь, что Родди запросит очень много.
Родди сглотнул и протянул собаку Джиму.
— Бери даром. Не хочу я за него денег. Никакие деньги не заменят мне Бруно. Только обращайся с ним хорошо…
— Конечно, я буду с ним хорошо обращаться, — радостно пообещал Джим. — Но все-таки возьми мой доллар. Если не возьмешь, я не буду чувствовать, что это моя собака.
Он сунул доллар в руку Родди, взял на руки Бруно и прижал его к груди. Собака оглядывалась на своего хозяина. Джиму не было видно его глаз, но он видел глаза Родди.
— Ну, если уж ты никак не можешь с ним расстаться…
— Не могу, но меня заставляют, — резко бросил Родди. — За ним уже приходили пять человек, но я его никому из них не отдал… Джейк страшно злился, но я не мог. Они мне не понравились… А тебе я его отдам — если уж не у меня, то пусть будет у тебя. Только уезжайте побыстрей!
Джим сел в коляску. Собака дрожала у него на руках, но не вырывалась. Всю дорогу Джим прижимал Бруно к груди.
В ту ночь мальчик почти не спал. Ни одна собака никогда не нравилась ему так, как Бруно. Неудивительно, что Родди не хотел с ним расставаться. Но Бруно скоро забудет Родди и полюбит его, Джима. Они будут дружить. Надо напомнить маме, чтобы она заказала у мясника костей.
Наконец Джим уснул. А маленький песик, который лежал под кроватью, положив голову на вытянутые вперед лапы, может быть, тоже спал. А может быть, и нет.
Глава двадцатая
Робин перестал питаться исключительно червями и научился есть рис, кукурузу, салат и семена настурций. Он сильно вырос — во всей округе знали «здоровенную малиновку» из Инглсайда — и его грудка была теперь ярко-красного цвета. Он обожал сидеть на плече мисс Бейкер и смотреть, как она вяжет. Когда Энн возвращалась откуда-нибудь, он летел ей навстречу и прыгал впереди нее по дорожке, как бы показывая дорогу к дому. Каждое утро Робин прилетал на подоконник Уолтера за хлебными крошками. И каждый день купался в корыте на заднем дворе, устраивая страшный скандал, если там не оказывалось воды. Доктор жаловался, что птица разбрасывает его карандаши и спички по всей библиотеке, но ни в ком не находил сочувствия. Да и сам сдался, когда Робин однажды бесстрашно сел ему на ладонь и склевал цветочное семечко. Все были очарованы малиновкой, кроме, пожалуй, Джима, который всей душой привязался к Бруно, но который постепенно постигал горький Урок… что можно купить собаку, но не ее любовь.
Сначала Джиму это и в голову не приходило. Он ожидал, что Бруно первые дни будет тосковать по дому и Родди, но надеялся, что это скоро пройдет. Однако это почему-то не проходило. Бруно был очень послушным песиком, делал все, что ему велели, и даже Сьюзен признала, что никогда не видела более воспитанной собаки. Но в нем не было ни искры веселья. Когда Джим звал его гулять, глаза Бруно загорались, он начинал вилять хвостом и весело бежал вперед. Но немного погодя его взор тускнел, и он покорно трусил рядом с Джимом, поджав хвост. Все обращались с псом как нельзя лучше, ему доставались самые вкусные косточки, никто не возражал против того, чтобы он спал в ногах у Джима. Но Бруно оставался безразличным… далеким… чужим. Проснувшись ночью, Джим садился в постели и трепал его по голове, но Бруно ни разу не лизнул его язычком в ответ и не вильнул хвостом. Пес разрешал себя гладить, но никак не реагировал на ласки.
Джим не хотел сдаваться. В этом мальчике было много упорства, и он не собирался позволить собаке — его собаке, купленной на собственные сбережения, — одержать над ним верх. Он добьется, чтобы Бруно перестал тосковать по Родди… перестал глядеть на всех несчастными глазами… чтобы он полюбил его, Джима.
Джиму все время приходилось защищать Бруно от насмешек товарищей, которые поняли, как он привязан к этой собаке, и вечно к ней «цеплялись».
— У твоей собаки полно блох. Блохастик он, а не Бруно, — дразнился Перри Риз. Пришлось Джиму отлупить Перри и заставить его вслух признать, что у Бруно нет ни единой блохи.
— У моего щенка каждую неделю бывают припадки, — похвастался Боб Рассел, — а у твоего небось ни разу в жизни не было. Если бы у меня была такая собака, я бы пропустил ее через мясорубку.
— У нас как-то был такой пес, — сказал Майк Друк, — но мы его утопили.
— А мой пес ужасный хулиган, — с гордостью объявил Сэм Уоррен. — Давит кур и грызет вывешенное на просушку белье. У твоего на это смелости не хватит.
Джим с грустью признал — сам себе, но не Сэму, — что смелости на это у Бруно в самом деле не хватит. Уж лучше бы он хулиганил. Джиму даже стало обидно, когда Уотти Флэгг похвалил Бруно:
— Хороший у тебя пес, с понятием. Никогда не лает по воскресеньям.
Бруно не лаял и в другие дни недели. И все-таки это был такой милый, такой очаровательный песик.
— Бруно, ну почему ты меня не любишь? — почти со слезами спрашивал Джим. — Я для тебя на все готов… нам было бы так весело…
Джим никому не признавался, что теряет надежду.
Как-то вечером Джим пошел с ребятами на берег печь мидий. Но, увидев, что надвигается гроза, он побежал домой. Море стонало, небо мерцало каким-то зловещим светом. В ту минуту, когда Джим вбежал в калитку, раздался оглушительный удар грома.
— Где Бруно? — крикнул он.
Джим впервые ушел из дому, не взяв с собой Бруно: он думал, что собаку утомит долгая дорога до мыса, не признаваясь даже сам себе, что такой долгий путь в обществе понурой собаки и ему не сулил никакой радости.
Оказалось, что никто не видел Бруно с тех самых пор, как ушел Джим. Мальчик обыскал весь дом, но собаки нигде не было. Лил проливной дождь, беспрерывно сверкала молния. Где же Бруно? Потерялся в этой страшной ночи? Но ведь пес боялся грома. Он только тогда и прижимался к Джиму, когда молния с треском разрывала небо.
Джим был в такой тревоге, что когда дождь перестал, Джильберт сказал ему:
— Мне все равно надо съездить повидать Роя Весткотта. Поедем со мной, Джим. На обратном пути завернем к ферме Крофордов. Мне кажется, что Бруно ушел домой.
— За шесть миль! Не может быть! — воскликнул Джим.
Но оказалось, что так оно и было. Когда они подъехали к заброшенному темному дому Крофордов, они нашли на крыльце несчастное вымокшее создание, глядевшее на них усталыми, печальными глазами. Бруно не стал вырываться, когда Джим взял его на руки и понес к тележке.
Джим ликовал. Как плывут по небу облака, а луна то выглядывает, то вновь прячется за ними! Как замечательно пахнет влажной землей! Теперь все будет хорошо!
— Ну, теперь Бруно поймет, что ему надо жить в Инглсайде, да, папа?
— Может быть, — коротко отозвался Джильберт. Ему не хотелось огорчать сына, но он подозревал, что теперь, расставшись с последней надеждой, песик просто зачахнет от тоски.
Бруно и раньше ел мало, а после этой ночи совсем потерял аппетит и, в конце концов, вообще отказался от еды. Послали за ветеринаром, но тот сказал, что пес здоров.
— Я знал собаку, которая умерла с горя. Боюсь, что здесь происходит то же самое, — предупредил он Джильберта, когда они остались одни.
Ветеринар оставил «укрепляющее» лекарство, Бруно покорно проглотил его, а потом опять опустил голову на лапы и тупо уставился в пространство. Джим долго глядел на него, засунув руки в карманы, а потом пошел в библиотеку поговорить с отцом.
На следующий день Джильберт поехал в Шарлоттаун, нашел там дом тетки Родди и привез мальчика в Инглсайд. Когда Родди поднимался по ступеням веранды, Бруно поднял голову и насторожился. Через секунду исхудавшее тельце метнулось в объятия бледного веснушчатого мальчика.
— Миссис доктор, голубушка, — оторопело сказала Сьюзен в тот вечер, — из его глаз лились слезы. Собака плакала! Можете мне не верить — я бы не поверила, если бы сама не видела этого.
Родди стоял, прижимая к себе Бруно, и полупросительно-полувызывающе говорил Джиму:
— Я знаю, что продал его тебе, но ведь это моя собака. Джейк мне наврал. Тетя Винни ничуть не возражает против собаки… но я считал, что не имею права требовать его обратно. Вот твой доллар… я из него и цента не истратил… Не мог.
На секунду Джим заколебался. Потом увидел глаза Бруно.
«Какая же я свинья», — с отвращением подумал он и взял доллар.
Родди вдруг улыбнулся, и улыбка до неузнаваемости преобразила его хмурое лицо.
— Спасибо, — сказал он.
В ту ночь Родди спал в одной кровати с Джимом, а наевшийся до отвала Бруно вытянулся между ними. Но когда, перед тем как лечь спать, Родди встал на колени и стал читать вечернюю молитву, Бруно сел рядом с ним на задние лапы, упершись передними в кровать. Если собаки вообще могут молиться, то Бруно в ту минуту возносил Богу благодарственную молитву за то, что Он вернул ему любимого хозяина.
Когда Родди приносил Бруно еду, пес жадно ел, ни на минуту не спуская с него глаз. А когда Джим с Родди пошли в Глен, Бруно весело побежал за ними.
— Оживела собака, — заметила Сьюзен.
Но вечером, после того как Родди и Бруно уехали, Джим долго сидел на крыльце. Он отказался пойти с Уолтером в Долину Радуги искать пиратские сокровища. У него пропал всякий интерес к пиратам. Он даже отвернулся от Шримпа, который крался сквозь заросли мяты, хлеща себя хвостом, как заправская пума. С какой стати какой-то кот весело живет в Инглсайде, а пес чуть не умер с горя?
Джим не смягчился, даже когда Рилла принесла ему в утешение своего голубого плюшевого слона. Что ему голубой слон, когда у него отобрали Бруно! Нэнни тоже получила взбучку за то, что шепотом предложила ему отругать за Бруно Бога.
— Ты что, думаешь, я виню в этом Бога? — сурово сказал Джим. — Плохо же ты соображаешь, Нэнни!
Сестра сокрушенно ретировалась, а Джим продолжал мрачно смотреть на догорающий закат. По всему Глену лаяли собаки. Дженкинсы по очереди звали домой своего пса. У всех были собаки, даже у дженкинсовской оравы — не было только у него. Будущее представлялось Джиму пустыней. У него никогда не будет собаки.
Пришла Энн и села на ступеньку ниже, стараясь не смотреть на Джима. Мальчик кожей ощутил ее сочувствие.
— Мамочка, — всхлипнул он, — почему Бруно не хотел меня признавать, когда я так его любил? Может, я вообще не могу понравиться собаке?
— Ну, что ты, родной! Вспомни, как тебя любил Джип. Просто Бруно отдал Родди всю любовь, какая была у него в сердечке, и на тебя у него не осталось. Есть такие собаки — которые всю жизнь любят только одного хозяина.
— По крайней мере, Родди и Бруно теперь счастливы, — сказал Джим, наклонился и поцеловал волнистые волосы Энн. — А я больше никогда не буду заводить собаку.
Энн думала, что Джим со временем забудет про Бруно: он говорил то же самое после смерти Джипа. Но он не забыл. Джим был уязвлен до глубины души. В Инглсайде появлялось еще много собак, но у них не было определенного хозяина. Это были славные псины, и Джим гладил их и играл с ними. Но собаки, которая принадлежала бы Джиму, не было до тех пор, пока его сердцем не завладел маленький Пятница, преданность которого превосходила даже преданность Бруно. Но до этого пройдет еще много лет, а в ту ночь в постель Джима лег очень грустный мальчик.
Глава двадцать первая
Нэнни и Ди в конце августа пошли в школу. «Мама, а сегодня вечером мы уже все про все будем знать?» — серьезно спросила утром Диана. Сейчас была середина сентября, и Энн с Сьюзен уже привыкли к тому, что каждое утро девочки убегали с ранцами на спинах, такие маленькие, чистенькие и веселые. На одной было розовое, а на другой голубое платьице. Для них школа все еще была интересным приключением. Поскольку они совсем не были похожи, Энн не одевала их одинаково. Диане, у которой были рыжие волосы, совсем не шел розовый цвет, зато он очень шел Нэнни, шатенке с большими карими глазами и замечательным цветом лица, о чем та была отлично осведомлена уже в свои семь лет. Девочка гордо держала голову, слегка выпятив хорошенький круглый подбородок, и о ней уже говорили, что она «задается».
— Манерничает, так же как ее мать, — сказала о ней миссис Дэвис.
Близнецы отличались не только внешностью, но и характером. Ди, хотя и была лицом похожа на мать, во всем остальном больше напоминала отца. У нее уже наблюдалась его практическая хватка, здравый смысл и чувство юмора. Нэнни же унаследовала от матери дар воображения и умела украшать им свою жизнь. В это лето, например, она без конца заключала сделки с Богом по принципу: «Если Ты сделаешь то-то и то-то, то я сделаю то-то и то-то».
Всех детей Энн сызмала учила простым молитвам и не препятствовала им обращаться к Богу со своими собственными просьбами. Но трудно сказать, откуда Нэнни взяла, что Бога можно убедить выполнить ее просьбу, если пообещать хорошо себя вести или храбро перенести неприятную процедуру. Может, в этом была вина хорошенькой молодой учительницы воскресной школы, которая вечно им внушала, что Бог их накажет, если они не будут хорошо себя вести. Для ребенка было вполне естественным вывернуть эту мысль наизнанку и решить, что если вести себя хорошо, можно с полным основанием рассчитывать, что Бог его вознаградит. Первый «уговор», который Нэнни заключила с Богом весной, окончился настолько успешно, что перевесил последующие отдельные неудачи. Так что все лето Нэнни общалась с покладистым Богом. Об этом не знал никто, даже Ди. Нэнни ревниво хранила свой секрет и обращалась к Богу в разное время дня и в разных местах, а не только ночью перед сном. Ди не одобряла этого и сурово сказала сестре:
— Нельзя же вмешивать Бога во все, Нэнни! Ты ведешь себя с Ним, как с обыкновенным человеком.
Услышав эти слова, Энн поправила дочь:
— Бог и есть все, милая. Бог — это друг, который всегда рядом и всегда готов ободрить и утешить. И Нэнни права, что молится, ему тогда и там, где ей хочется.
Но если бы Энн знала,
какмолится ее дочка, она была бы сильно обескуражена.
Как-то в мае Нэнни попросила Бога:
— Милый Боженька, если ты сделаешь так, чтобы к дню рождения Эми Тейлор у меня вырос новый зуб, я буду пить касторку всегда, когда скажет Сьюзен.
На следующий же день показался зуб, отсутствие которого так долго уродовало хорошенький ротик Нэнни. К дню рождения он вырос полностью. Ну, как же после этого было не поверить, что Бог честно выполняет твои просьбы, если и ты выполняешь свои обещания?
А свое обещание Нэнни выполняла честно, и после этого Сьюзен не могла надивиться на кротость, с которой она принимала касторку. Девочка не морщилась и не спорила, хотя иногда мысленно жалела, что не ограничила свое обещание каким-нибудь сроком… скажем, тремя месяцами.
Бог выполнял многие ее просьбы, но не все. Когда Нэнни попросила Его послать ей особенно красивую пуговицу для коллекции — в то лето среди девочек Глена вспыхнула эпидемия сбора пуговиц — пообещав ему, что никогда не будет возражать, если Сьюзен поставит перед ней тарелку со щербинкой, то пуговица появилась на следующий же день. Сьюзен нашла ее на старом платье, валявшемся на чердаке. Это была прелестная красная пуговица с ободком из крошечных бриллиантиков — по крайней мере, Нэнни считала их бриллиантиками. Все завидовали девочке, и, когда вечером Ди отказалась есть из тарелки со сколотым краешком, Нэнни добродетельно произнесла: «Давай ее мне, Сьюзен. Я теперь всегда буду из нее есть». Сьюзен решила, что Нэнни просто чудо как бескорыстна, и высказала эту мысль вслух, вызвав у той самодовольную улыбку.
Нэнни просила Бога, чтобы в день школьного пикника была хорошая погода, хотя все предсказывали дождь, и Бог выполнил ее просьбу — в обмен на обещание без напоминаний чистить зубы по утрам. Бог вернул ей потерянное колечко — на условии, что она будет тщательно следить за чистотой ногтей. Уолтер подарил сестре картинку, изображающую летящего ангела, которой Нэнни давно жаждала, когда она пообещала Богу беспрекословно съедать не только постную часть мяса, но и жирную. Однако когда Нэнни попросила Бога, чтобы Он вернул молодость ее облезлому и заштопанному мишке, пообещав Ему, что будет содержать в порядке свой ящик с игрушками, произошла непонятная заминка. Мишка не помолодел, хотя Нэнни каждое утро просыпалась в ожидании чуда и молила Бога поторопиться. В конце концов девочка смирилась с дряхлостью мишки — все-таки он славный и она его любит, а постоянно поддерживать порядок в ящике было бы довольно обременительно. Когда же папа купил ей нового мишку, она совсем не обрадовалась и решила, хотя и не без угрызений совести, что это не обязывает ее к выполнению условия. Но тут Бог исполнил ее следующую просьбу — чтобы нашелся пропавший глаз ее фарфорового котенка, — и доверие Нэнни к Господу было восстановлено. Глаз на следующее же утро оказался на месте — правда, он как-то косил. Сьюзен нашла его, когда подметала пол, и приклеила, как могла, но Нэнни этого не знала и безропотно выполнила свое обещание Богу четырнадцать раз обойти сарай на четвереньках.
Девочка не задумывалась о том, зачем Богу — и вообще кому бы то ни было, — чтобы она на четвереньках обходила сарай. Делать это было довольно противно: братья и так вечно заставляли близнецов изображать каких-нибудь животных во время игр в Долине Радуги… Возможно, где-то в глубине ее юного мозга сидела мысль, что таинственное Существо, которое дарует или отбирает радость, получает удовольствие, когда человек накладывает на себя какую-нибудь неприятную епитимью. Во всяком случае, в течение лета она отколола еще несколько дурацких номеров, которые каждый раз приводили Сьюзен в изумление.
— Как вы думаете, миссис доктор, голубушка, с какой стати Нэнни каждый день делает два круга по гостиной, не ступая на пол?
— Не ступая на пол? А как ей это удается, Сью?
— Перепрыгивает со стула на диван, карабкается по каминной решетке. Вчера упала с нее и ударилась головой о совок. Может, дать ей лекарства от глистов?
Этот год вошел в анналы Инглсайда как год, в котором папа
чуть не заболелвоспалением легких, а мама
заболела.Как-то вечером Энн, которая уже была простужена, поехала с Джильбертом в гости в Шарлоттаун, надев новое праздничное платье и нитку жемчуга, которую ей подарил Джим. Она была так хороша в этом наряде, что все дети пришли посмотреть на нее и очень радовались, что у них такая красивая мама.
— А нижняя юбка как шуршит! — вздохнула Нэнни. — Мама, а когда я вырасту, можно мне будет носить юбки из тафты?
— Боюсь, что к тому времени фасоны изменятся, — сказал папа. — Но готов признать, что платье — потрясающее, хоть мне и не нравятся эти блестки. И не смотри на меня так кокетливо, женщина. Больше комплиментов не дождешься. Вспомни, что мы прочитали сегодня в «Медицинском журнале»: «Жизнь — это просто тонко сбалансированный химический процесс». Так что не задавайся. Придумала нашить на платье блесток! Да еще надеть под него юбку из тафты! Не забывай, что мы просто «случайное сцепление атомов». Так, по крайней мере, утверждает доктор фон Бромберг.
— Не цитируй мне этого жуткого фон Бромберга! У него, наверное, хроническое несварение желудка. Это он, может быть, «случайное сцепление атомов», а я нет!
Через несколько дней после этого Энн представляла собой очень больное «сцепление атомов», а Джильберт — очень озабоченное. Сьюзен выглядела усталой и испуганной, наняли сиделку, которая тоже ходила с озабоченным лицом, и над Инглсайдом нависла безымянная, но пугающая тень. Детям не говорили, как серьезно больна их мать, и даже Джим полностью не понимал опасности положения. Но они почувствовали тревогу взрослых и притихли. В кленовой роще уже не раздавался смех, в Долине Радуги никто не играл в шумные игры. Самым страшным для детей было то, что их не пускали к матери. Они приходили домой из школы — и мама не встречала их нежной улыбкой… а вечером не приходила поцеловать их перед сном. Некому было им посочувствовать, успокоить, посмеяться их шуткам — а так смеяться, как мама, не умел никто. Это было гораздо хуже, чем когда она уезжала, скажем, в Эвонли: тогда все знали, что она вернется, а сейчас… сейчас они не знали ничего. Все отделывались от них отговорками. Нэнни пришла из школы бледная и напуганная.
— Сьюзен… мама ведь… мама ведь не умрет?
— Конечно, нет, — слишком резко и торопливо ответила Сьюзен. Дрожащими руками она налила Нэнни стакан молока. — Кто тебе такого наговорил?
— Эми Тейлор сказала… о, Сьюзен, она сказала, что мама будет прекрасно смотреться в гробу!
— Не слушай разных дурочек, детка. Тейлоры все болтуны. Конечно, твоя мамочка больна, но не сомневайся — она выздоровеет! Разве ты не знаешь, что твой папа у штурвала?
— Сьюзен, Бог ведь не допустит, чтобы мама умерла? — дрожащим голосом спросил Уолтер, так пристально глядя на нее, что Сьюзен с большим трудом произнесла утешительную ложь. Она сама пребывала в ужасном страхе. За час до этого сиделка покачала головой. Доктор не спустился вниз ужинать.
— Будем надеяться, что Всевышний знает, что делает, — пробормотала служанка, моя посуду после ужина и при этом разбив три тарелки. Но на самом-то деле Сьюзен впервые в жизни усомнилась во всеблагости Всевышнего. Нэнни бесцельно бродила по дому. Папа сидел за столом в библиотеке, обхватив голову руками. Туда вошла сиделка, и Нэнни услышала, как она сказала, что кризис, видимо, наступит сегодня ночью.
— Что такое «кризис»? — спросила Нэнни Диану.
— Не знаю, — ответила та. — Пойдем спросим Джима.
Джим знал, что такое кризис, и сказал им, а потом пошел и заперся у себя в комнате. Уолтер куда-то исчез… Он лежал ничком на земле под Белой Дамой в Долине Радуги. Сьюзен укладывала спать Джефри и Риллу.
Нэнни вышла из дома и села на крылечко. Позади нее в непривычной, страшной тишине стоял их дом. Перед глазами у девочки был залитый вечерним солнцем Глен, но длинная красная дорога дымилась пылью, а травы в лугах побелели от засухи. Дождя не было уже несколько недель, и цветы в саду тоже поникли… цветы, которые так любила мама!
Нэнни старательно обдумывала одну идею. Надо обязательно договориться с Богом, чтобы он помог маме выздороветь. Но что ему за это обещать? Это должно быть что-то необыкновенное, что-то, против чего Он не сможет устоять. Нэнни вспомнила, как Дики Друк однажды в школе спросил Стэнли Риза: «А ты сможешь пройти ночью через кладбище?» Тогда Нэнни вздрогнула от страха. Разве кто-нибудь осмелится пойти ночью на кладбище? Об этом даже подумать страшно. Нэнни до смерти боялась кладбища, хотя об этом не подозревал никто в Инглсайде. Эми Тейлор однажды сказала ей, что там полно мертвецов. «И они не всегда тихо лежат в могилах», — таинственным шепотом добавила Эми. С тех пор Нэнни боялась проходить мимо кладбища даже днем.
Деревья на окутанном золотистой дымкой холме касались ветками неба. Нэнни часто думала, что если бы ей удалось туда дойти, она тоже смогла бы потрогать небо. За холмом живет Бог. С холма Он, наверное, скорей услышит ее просьбу. Но туда не дойдешь… Надо что-то сделать здесь, в Инглсайде.
Нэнни стиснула на груди загорелые руки и подняла к небу заплаканные глаза.
— Дорогой Боженька, — прошептала она, — сделай так, чтобы мама выздоровела! За это я
пойду ночью на кладбище.Боженька, милый, пожалуйста, помоги маме. Если ты это сделаешь, я больше никогда не буду приставать к тебе с просьбами.
Глава двадцать вторая
В ту ночь в Инглсайд пришла жизнь, а не смерть. Уснувшие в конце концов дети даже во сне почувствовали, что накрывавшая их дом Тень ушла так же стремительно и бесшумно, как и пришла. Проснувшись, они услышали, что на дворе наконец-то идет долгожданный дождь. Помолодевшей на десять лет Сьюзен даже не понадобилось сообщать им радостную весть: кризис миновал, мама будет жить. Была суббота, и детям не надо было идти в школу. В такой ливень и думать было нечего о том, чтобы пойти играть на улицу — хотя они любили бегать под дождем, — а дома им велели вести себя очень тихо. Но все равно дети были счастливы. Папа, который совсем не спал почти неделю, свалился на кровать в комнате для гостей и заснул как убитый, но только после того, как позвонил по междугородной линии в Грингейбл, где две пожилые женщины неделю вздрагивали от каждого телефонного звонка. Сьюзен, которая давно уже не находила в себе сил и желания готовить что-нибудь вкусное, соорудила на обед роскошное апельсиновое суфле и обещала на ужин испечь бисквит с вареньем. Кроме того, она напекла гору сливочного печенья. Робин неумолчно чирикал, летая по дому. Даже стулья, казалось, вот-вот пустятся в пляс. Обильно политые дождем цветы в саду подняли поникшие головки. Но радость Нэнни была омрачена мыслью об обещании, данном Богу. Нет, она не хотела как-то выкрутиться и не сдержать слово. Но она все откладывала выполнение зарока, пытаясь набраться смелости для ночного похода на кладбище, при одной мысли о котором у нее, как любила говорить Эми Тейлор, «кровь стыла в жилах». Сьюзен заметила, что девочка не в себе, и заставила ее выпить ложку касторки. Нэнни безропотно подчинилась, хотя и подумала, что после того уговора с Богом Сьюзен стала давать ей касторку гораздо чаще. Но что такое ложка касторки по сравнению с ночным кладбищем? Нэнни просто не могла себе представить, как она решится туда пойти. Но идти-то надо. Мама все еще была очень слаба, и детей пускали к ней лишь на минуту — посмотреть на ее бледное, похудевшее лицо. Может быть, мама так плохо выглядит, потому что Нэнни до сих пор не выполнила уговор? — Дайте ей время, — говорила Сьюзен. «Как это можно дать человеку время?» — думала Нэнни. Нет, она-то знает, почему мама выздоравливает так медленно. И Нэнни решилась. Завтра она сделает то, что обещала. На следующий день с утра опять лил дождь, и Нэнни вздохнула с облегчением. Даже Бог не потребует, чтобы она пошла ночью на кладбище в такую погоду. К полудню дождь перестал, но с моря на Глен наполз туман. Нэнни все еще надеялась. В туман она тоже не пойдет. Но к ужину поднялся ветер и разогнал туман. — Сегодня будет безлунная ночь, — сказала Сьюзен. — Сьюзен, сделай, пожалуйста, чтоб была луна! — с отчаянием воскликнула Нэнни. Если уж идти на кладбище, то по крайней мере при луне! — Господь с тобой, Нэнни, кто же может сделать, чтоб была луна? — отозвалась Сьюзен. — Я хотела сказать, что луны не будет видно за облаками. И какая тебе разница, светит луна или нет? Этого Нэнни ей объяснить не могла, и мисс Бейкер опять начала беспокоиться: что это с девочкой? Она так странно ведет себя всю неделю. Мало ест, поскучнела. Или это от тревоги за мать? Но за нее уже нечего беспокоиться — миссис доктор, слава Богу, выздоравливает. Но Нэнни-то знала, что мама не поправится, если она не выполнит уговор. В вечеру облака ушли на запад, и появилась луна. Но такая страшная луна — огромная и кроваво-красная, какой Нэнни никогда не видела. Лучше уж, пожалуй, было бы совсем без луны. Девочки легли в постель в восемь часов, и Нэнни пришлось ждать, пока не заснет Диана. А той не спалось, потому что у нее случилось горе: ее подруга Элси Палмер пошла домой из школы с другой девочкой. Только в девять часов Нэнни решилась вылезти из постели и торопливо одеться, с трудом застегивая пуговицы дрожащими пальцами. Потом она прокралась вниз по лестнице и вышла в боковую дверь. Сьюзен же в это время ставила на кухне тесто и с удовлетворением думала, что все в доме, слава Богу, спят, кроме бедного доктора, которого срочно вызвали на мыс, где ребенок проглотил кнопку. Нэнни пошла по дорожке в Долину Радуги. Это был самый короткий путь на кладбище — через Долину Радуги и потом прямиком через выпас на холме. Она понимала, что если ее увидят ночью на улице Глена, то обязательно отведут за руку домой. Как же холодно — а ведь только начало октября! Нэнни не подумала о том, что ночи стали холодными, и не надела кофточку. Долина Радуги ночью выглядела какой-то чужой. Луна уменьшилась в размерах и больше не была красной, но зато по земле протянулись зловещие черные тени. Нэнни всегда побаивалась теней. Что это там шуршит в зарослях папоротника? Нэнни вскинула голову и вздернула подбородок. — Ничего я не боюсь, — храбро сказала она вслух. — Просто живот что-то подводит. А на самом-то деле я героиня. Эта приятная мысль помогла ей пройти половину холма. А потом мир вдруг потемнел — луну закрыло облако — и Нэнни вспомнила о Птице. Эми Тейлор как-то рассказала очень страшную историю про «громадную черную птицу», которая падает на тебя с неба ночью и уносит к себе в гнездо. Уж не ее ли тень закрыла луну? Но мама говорила, что никакой «громадной черной птицы» нет. «Не станет же мама врать», — подумала Нэнни и храбро пошла дальше, пока не уперлась в изгородь. За изгородью была дорога, а с той стороны дороги — кладбище. Девочка остановилась, чтобы перевести дух. Луну опять закрыло облако. Кругом лежала тусклая, неведомая Нэнни страна. Мир чересчур велик, подумала девочка, прижимаясь к изгороди. Как ей хотелось оказаться у себя дома! Но… «Господь Бог наблюдает за тобой!» — предупредила себя семилетняя девочка… и стала перелезать через изгородь. Она упала с другой стороны, ободрала коленку и порвала платье. Когда же поднялась на ноги, какая-то колючка насквозь проколола подошву ее тапочки и поранила ступню. Но Нэнни, хромая, перешла дорогу и подошла к воротам кладбища. С восточной стороны кладбище было обсажено елями, и там лежала тень. Справа стояла методистская молельня, слева — дом пресвитерианского пастора. Пастор уехал, и дом был темен и тих. Луна вдруг прорвалась сквозь облака и заполнила кладбище зыбкими тенями: так и казалось, что если к ним приблизиться, они схватят тебя и утащат неведомо куда. Ветер гнал по дороге брошенную кем-то газету. Свет луны превратил ее в танцующую ведьму, и, хотя Нэнни отлично понимала, что это всего лишь газета, она прибавила жути этой ночи. Ветер громко свистел, раскачивая ветви елей. С ивы, растущей у ворот, упал лист и тихо, как рука призрака, коснулся щеки Нэнни. Сердце девочки на мгновение замерло от ужаса, но все же она потянулась к щеколде на воротах. «А что, если мертвец протянет руку из могилы и утащит меня под землю?» Нэнни отшатнулась от ворот. Она поняла, что никакой уговор с Богом не заставит ее пройти через кладбище ночью. Совсем рядом с ней вдруг раздался утробный стон. Это всего лишь замычала корова миссис Бейкер, которая паслась вдоль дороги и сейчас показалась из-за куста. Но Нэнни не стала вглядываться. В дикой панике она бросилась к деревне, и, промчавшись через нее, поднялась к Инглсайду. Перед воротами девочка угодила в лужу. Вот он, ее родной дом, с приветливо освещенными окнами! Секундой позже Нэнни влетела к Сьюзен на кухню, вся в грязи, в мокрых чулках и с кровоточащей ступней. — Господи, спаси и помилуй! — воскликнула ошеломленная Мисс Бейкер. — Сьюзен, я побоялась пройти через кладбище, — задыхаясь, проговорила Нэнни. — Мне стало страшно. Поначалу Сьюзен не стала задавать вопросов. Она содрала с ног Нэнни мокрые чулки и тапочки, вымыла ей ноги, раздела и уложила в кровать. Потом вернулась на кухню. Надо принести Нэнни чего-нибудь поесть. Что бы там ни вытворяла эта девчонка, нельзя допустить, чтобы она заснула на голодный желудок. Нэнни съела ужин и выпила стакан горячего молока. Как это замечательно — лежать в постели в теплой светлой комнате! Но девочка отказалась рассказать Сьюзен, куда она ходила и зачем. «Это секрет, Сьюзен — наш с Господом Богом». Мисс Бейкер отправилась спать, еще раз сказав про себя: «Скорей бы уж миссис доктор выздоровела!» — Я просто не могу справиться с детьми, — беспомощно вздохнула она. «Все, — подумала Нэнни, проснувшись утром, — мама теперь обязательно умрет». Она, Нэнни, не выполнила уговора — с какой же стати будет выполнять его Бог? Всю следующую неделю девочка прожила в ожидании, что с мамой случится что-то страшное. Ничто не доставляло ей радости — даже расхотелось смотреть, как Сьюзен прядет на чердаке, — хотя раньше она подолгу зачарованно наблюдала за ней. Она уже никогда не сможет смеяться. Да какая разница, что с ней станет? Она отдала Джефри свою плюшевую собаку, у которой Кен Форд оторвал уши и которую она любила даже больше, чем мишку… Нэнни вообще любила старые игрушки… Ладно, Джефри давно клянчил у нее эту собаку, пусть владеет. А свой драгоценный домик из ракушек, который капитан Малаки привез ей аж из Вест-Индии, Нэнни отдала Рилле. Может быть, Бог удовлетворится этими жертвами? Нет, вряд ли. А когда серый котенок, которого она подарила Эми Тейлор, в третий раз вернулся домой, наотрез отказываясь жить у Эми, Нэнни поняла, что Бог ее не простил. Нет, он простит ее только тогда, когда она сходит ночью на кладбище, а бедная девочка уже поняла, что это выше ее сил. Она просто трусиха и обманщица. Только обманщики, говорит Джим, отказываются выполнять уговор.
Глава двадцать третья
Энн уже могла сидеть в постели. Скоро она совсем выздоровеет и опять сможет вести хозяйство… читать книги… есть все, что захочется… сидеть у камина… смотреть на сад… видеться с друзьями… выслушивать свежие сплетни… радоваться каждому дню… — скоро она опять станет частью красочного праздника жизни.
Энн пообедала фаршированной бараньей ножкой, которая у Сьюзен получилась просто замечательно. Как приятно опять есть с аппетитом! Она лежала, оглядывая свою комнату. Надо купить новые шторы — что-нибудь в желто-зеленой гамме. А этот новый комод надо переставить в ванную. Потом Энн глянула в окно. Сквозь ветви кленов ей была видна сверкающая поверхность бухты; береза на лужайке была словно облита золотым дождем. Как прекрасна осень, со своими яркими красками, мягким светом и длинными тенями! Вон Робин раскачивается на самой верхушке ели; дети смеются в саду, собирая яблоки. Опять в Инглсайде звучит смех. Нет, жизнь все-таки не просто «тонко сбалансированный химический процесс», со светлой улыбкой подумала Энн.
И тут в дверях появилась Нэнни с распухшими от слез глазами и носом.
— Мамочка, я должна тебе рассказать… я больше не могу.
Мамочка, я обманула Бога.
Какое счастье! Опять за нее цепляется детская ручонка, опять ее ребенку нужны помощь и утешение. Ни разу не улыбнувшись, Энн выслушала прерывавшийся рыданиями рассказ Нэнни. Миссис Блайт всегда умела сохранять на лице серьезность, когда ее дети сообщали ей о чем-то важном для них, хотя потом они с Джильбертом иногда хохотали до упаду. Она понимала, что Нэнни действительно в отчаянии, и также поняла, что ей надо вмешаться в отношения дочери с Богом.
— Ты все перепутала, детка. С Богом нельзя заключать уговор. Он помогает людям и ничего не просит взамен, кроме любви. Ведь когда ты просишь нас с папой о чем-нибудь, мы не требуем ничего взамен, правда? Неужели Бог менее добр, чем мы? Он лучше нас знает, что кому нужно.
— Мама, а Он не сделает так, чтобы ты умерла, потому что я не сдержала обещание?
— Ну конечно же нет, милая.
— Мамочка, если даже я поступала неправильно… разве мне все равно не нужно выполнить обещание, раз уж я его дала? Я же сказала, что пойду на кладбище! Папа говорит, что слово всегда надо держать. Это же стыдно — нарушить слово!
— Детка, когда я совсем выздоровею, мы с тобой сходим ночью на кладбище. Я останусь за воротами… и тогда тебе, наверное, будет совсем не страшно пройти по кладбищу. Твоя совесть будет чиста, но, надеюсь, больше ты не будешь заключать глупых сделок с Господом Богом.
— Не буду, мамочка, — пообещала Нэнни, в глубине души сожалея, что отказывается от чего-то, что при всех недостатках делало жизнь интереснее. Но глаза ее больше не были тусклыми от горя, и голос опять зазвенел радостью.
— Я пойду умоюсь, а потом приду опять и поцелую тебя, мамочка. И нарву тебе букетик львиного зева — в саду еще есть немножко. Как нам было без тебя плохо, мамочка!
— О, Сью, — сказала Энн, когда та принесла ей ужин, — чего только не творится в этом мире! Но жить все равно очень интересно, правда, Сью?
— Ну, я, пожалуй, готова признать, — сказала Сьюзен, вспомнив румяные пирожки, которые она испекла к ужину, — что жизнь не так уж плоха.
Глава двадцать четвертая
В тот год октябрь прошел в Инглсайде очень радостно. Детям так и хотелось все время бегать и петь. Мама встала на ноги и не желала, чтобы с ней больше нянчились. Она обсуждала с детьми, что посадить в саду весной, она опять смеялась. Джим всегда считал, что мама замечательно весело смеется, отвечая на их бесчисленные вопросы: «Мама, а до того места, куда заходит солнце, далеко идти?»… «Мама, а почему нельзя собрать лунный свет в кружку?»… «Мама, а что причиняет причину?»… «Мама, правда, лучше умереть от укуса гремучей змеи, чем чтоб тебя растерзал тигр?»… «Мама, Уолли Тейлор говорит, что вдова — это женщина, мечты которой наконец осуществились. Это правда?»… «Мама, а где прячутся птички, когда идет очень сильный дождь?»… «Мама, а это верно, что у нас чересчур романтичная семья?»…
Этот последний вопрос задал Джим, которому ребята в школе передали слова миссис Дэвис. Джим не любил миссис Дэвис, потому что, встретив его с мамой или папой, она всегда указывала на него костлявым пальцем и спрашивала: «Ну, как, Джимми, ты хорошо ведешь себя в школе?» Джимми, фу! Может, они все, и правда, немного романтичны… Мисс Бейкер уж точно так подумала, когда нашла на дорожке к сараю маслянистые капли красной краски. «Но мы же играли в сражение, Сьюзен, — объяснил ей Джим, — а это кровь. Какой же бой без крови?»
Вечером в лунном небе иногда пролетали стаи диких гусей. При виде них у Джима появлялось неизъяснимое желание улететь вместе с ними к далеким теплым берегам и привезти оттуда обезьян… леопардов… попугаев… или отправиться путешествовать по Южной Америке. Слова «Южная Америка» имели для мальчика особую прелесть — так же как и «тайны моря». Попасть в холодные объятия питона, сражаться с раненым носорогом — для Джима это было настоящим приключением. А слово «дракон» вызывало у него сладкую дрожь. Любимая картинка, которая была приколота к стене в ногах его кровати, изображала рыцаря в сверкающих доспехах на красивом белом коне, пронзающего копьем змея со свитым кольцами и раздвоенным на конце хвостом. А на заднем плане спокойно стоит на коленях, стиснув руки на груди, красивая женщина в розовых одеждах. Женщина эта была очень похожа на девятилетнюю Мейбл Риз, за внимание которой в школе уже скрещивались мечи. Даже Сьюзен заметила это сходство и дразнила им густо краснеющего Джима. Но вообще-то чудовище на этой картинке, пожалуй, маловато и не производит особого впечатления по сравнению с огромным конем. Невелика честь убить такого никудышного дракона. Драконы, от которых Джим в мечтах спасал Мейбл, были куда драконистее. А в прошлый понедельник он по-правдашнему спас Мейбл от злобного гусака Сары Палмер. Неужто она не заметила, как решительно и мужественно он схватил эту шипящую тварь за шею и перебросил через забор? Хотя гусак, конечно, не такое романтичное животное, как дракон.
У детей было полно дел: надо было выкапывать морковь, собирать яблоки. Весь Глен пропах дымом от сжигаемых опавших листьев. В сарае лежала целая гора огромных желтых тыкв, а Сьюзен в первый раз в этом году нажарила пирожков с клюквой. Энн каждый теплый день копалась в саду, и, когда позднее солнце озаряло алые клены, упивалась красками, как вином, наслаждаясь этой изысканно-грустной мимолетной красотой.
Но полного счастья в жизни не бывает. Весь Инглсайд был озабочен судьбой Робина. Им сказали, что он обязательно улетит на юг вместе с другими малиновками.
— Заприте его в доме и не выпускайте, пока не выпадет снег, — посоветовал им капитан Малаки. — Тогда он забудет про южные края и будет спокойно жить до весны.
И вот Робина перестали выпускать на улицу. Он сделался очень беспокойным, как-то бесцельно летал по дому или сидел на подоконнике и смотрел на своих соплеменников, которые собирались в путь, повинуясь таинственному зову. Птица стала плохо есть, отказываясь даже от червяков и от орешков, которые ему предлагала Сьюзен. Дети объясняли, какие опасности ждут Робина в дороге, если он вздумает лететь в дальние края — холод, голод, бури, черные ночи, хищные кошки. Но он слышал зов и рвался на свободу.
Мисс Бейкер сдалась последней. Несколько дней она ходила с мрачным видом и отрицательно качала головой, но потом сказала:
— Ладно уж, отпустите его. С природой не поспоришь.
Робина выпустили в последний день октября — после месячного заключения. Дети со слезами целовали его не прощанье. Птица радостно выпорхнула в окно, но на следующее утро прилетела к Сьюзен за своей порцией хлебных крошек. А затем расправила крылья и пустилась в далекий путь.
— Не плачь, детка, — утешала Энн Риллу. — Он, наверное, вернется к нам весной.
Но девочка продолжала рыдать:
— До весны есе так далеко!
Энн улыбнулась и вздохнула. Малышке Рилле казалось, что время идет очень медленно, а Энн казалось, что времена года мелькают со скоростью курьерского поезда. Вот и еще одно лето прошло. Скоро — ох, очень скоро! — дети вырастут. Но пока они еще принадлежат ей, наполняют ее жизнь нежностью и восторгом, пока она еще может радоваться им, любить их, подбадривать, а то и бранить. Потому что иногда они очень озорничают, хотя вряд ли заслуживают прозвища «чертенята из Инглсайда», которым их наградила миссис Дэвис, когда узнала, что Берти Друк немного обжегся, играя роль индейца, которого сжигали на костре в Долине Радуги. Джим и Уолтер не успели вовремя развязать веревки, но и сами обожглись — хотя их, конечно, никто не пожалел.
Ноябрь в этом году выдался мрачный и унылый. Иногда с утра до вечера ветер гнал с серого моря холодный туман. Дрожащие тополя сбросили последнюю листву. Сад стоял мертвый, не считая грядки все еще густой золотистой спаржи. Уолтеру пришлось забросить свой помост на дереве и учить уроки дома. Без конца шел дождь. «Когда же будет конец этой сырости?» — с отчаянием простонала Ди. Потом на неделю выглянуло солнце — пришло бабье лето. Холодными вечерами мама подносила спичку к растопке в камине, а Сьюзен пекла на ужин картошку.
После ужина все собирались в гостиной. Энн шила, мисс Бейкер спрашивала у детей уроки, а потом разрешала им заниматься кто чем хочет. Уолтер, жизнь которого в основном протекала в воображении и мечтах, писал письма от бурундука, который жил в Долине Радуги, бурундуку, который жил в сарае. Сьюзен притворно насмехалась над этими письмами, когда Уолтер их ей читал, но потихоньку переписывала их и посылала Ребекке Дью.
«Я эти письма прочитала с удовольствием, дорогая мисс Дью, хотя вам, быть может, они и покажутся пустяковой писаниной. Тогда уж простите старуху, которая души не чает в этих детях. Уолтера учителя считают очень способным, и по крайней мере он бросил писать стихи и пишет вместо них письма. А Джим получил на экзамене по арифметике девяносто девять очков из ста, и никто не может понять, за что у него сняли это одно очко. Может быть, я и ошибаюсь, дорогая мисс Дью, но я убеждена, что из этого ребенка вырастет великий человек. Мы до этого вряд ли доживем, но он вполне может стать премьер-министром Канады».
Шримп наслаждался, развалившись перед камином, а очаровательная серебристо-черная кошечка Нэнни, которую звали Пушинка, по очереди забиралась ко всем на колени. «У нас две кошки, — сердито говорила Сьюзен, — а мыши орудуют в кладовке, как у себя дома». Дети обсуждали свои дела, а из холодной осенней ночи за стенами дома доносился унылый гул далекого океана.
Тут на огонек заглянула миссис Корнелия — поболтать с Энн, пока ее муж обсуждает политические новости с Картером Флэггом. Дети при виде миссис Эллиотт сразу навострили ушки — от нее можно было узнать замечательно интересные вещи о соседях. И как весело потом в воскресенье сидеть в церкви и смотреть на постные физиономии этих самых соседей, зная, какие за ними водятся делишки!
— Как же у вас уютно, Энн, милочка. А на улице так холодно и снег пошел. А где же доктор?
— Уехал по вызову. Мне так не хотелось его отпускать, но с мыса позвонили, что миссис Шоу плохо себя чувствует, — ответила Энн. Мисс Бейкер тем временем подхватила с каминного коврика рыбную кость, которую притащил Шримп, надеясь, что миссис Корнелия не заметила столь вопиющего беспорядка.
— Она чувствует себя не хуже меня, — сердито ворчала Сьюзен. — Но я слышала, что она купила кружевную ночную сорочку — вот и хочет показаться в ней доктору. В ее ли годы носить кружевные сорочки!
— Это ей дочка Леона привезла из Бостона. Она приехала в пятницу с
четырьмя чемоданами, — сказала миссис Корнелия. — Помню, как она девять лет назад уезжала в Штаты с одной рваной сумкой, из которой чуть не вываливались вещи. Ее тогда только что бросил Фил Тернер, и она очень переживала, хотя и делала вид, что ей все равно. А теперь она, видите ли, вернулась, чтобы «ухаживать за больной матерью». Смотрите, Энн, она наверняка будет кокетничать с доктором. Но вряд ли он обратит на нее внимание. Да и вы не похожи на жену доктора Бронсона из Моубрей Нерроуз. Та ревнует мужа ко всем пациенткам.
— И к медицинским сестрам, — добавила Сьюзен.
— Ну, я бы сказала, что некоторые эти сестры чересчур смазливы для своей работы, — поджала губы миссис Корнелия. — Возьмите хоть Дженни Артур. Она решила было отдохнуть от своего последнего пациента, и теперь занята тем, чтобы не дать двум своим кавалерам узнать друг про друга.
— Она, конечно, хорошенькая, но не такая уж молодая, — твердо произнесла Сьюзен. — Я бы ей посоветовала поскорей выбрать одного из них и выйти за него замуж. А то получится, как у ее тетки Юдоры — та говорила, что не выйдет замуж, пока не нафлиртуется всласть, и вот вам результат — осталась старой девой. Она и сейчас не пропускает ни одного мужчины, даром что ей по крайней мере сорок пять лет. Вот так и бывает, когда привыкнешь к чему-нибудь и уже не можешь отвыкнуть. Вы слышали, миссис доктор, голубушка, что она сказала своей кузине Фанни, когда та выходила замуж: «Подбираешь объедки с моего стола?» Они, говорят, жутко поругались и с тех пор не разговаривают.
— Язык мой — враг мой, — проговорила Энн.
— Вот уж верно, милая, — согласилась миссис Корнелия. — Кстати, не мешало бы нашему пастору быть поосторожнее в своих проповедях. А то обидел Уоллеса Янга, и тот хочет переходить к методистам. Все говорят, что прошлая проповедь была направлена против него.
— Если пастор в своей проповеди попадает кому-то не в бровь, а в глаз, все решают, что он только одного его и имел в виду, — сказала Энн. — Но это часто вовсе не так.
— Верные ваши слова, — подтвердила Сьюзен. — А этот Уоллес Янг тоже тип. Три года тому назад разрешил одной фирме нарисовать рекламу силоса на своих коровах. Нельзя же до такой степени зариться на деньги.
— А его брат Дэвид наконец-то решил жениться, — продолжала миссис Корнелия. — Все ломал голову, что дешевле — жениться или нанять прислугу. «Конечно, в доме можно обойтись и без женщины, Корнелия, — сказал он мне после смерти матери, — но больно уж много на тебя сваливается дел». Прощупывает почву, думаю, но уж дудки! Так что со мной у него ничего не вышло. И вот теперь он решил жениться на Джесси Кинг.
— Джесси Кинг? Он же вроде ухаживал за Мэри Норт!
— Он сказал, что не может жениться на женщине, которая сама ест только капусту и будет кормить ею и мужа. Но говорят, что она просто ему отказала. А Джесси Кинг будто бы сказала, что предпочла бы мужа покрасивее, но придется удовлетвориться этим. Некоторым лишь бы обручальное кольцо заполучить.
— А мне кажется, миссис Эллиотт, — возразила Сьюзен, — что у нас многим приписывают слова, которых они и не думали говорить. По-моему, Джесси Кинг будет Дэвиду очень даже хорошей женой — лучше, чем он того заслуживает… хотя, если говорить о внешности, он и в самом деле похож на выброшенный морем старый матрац.
— А вы знаете, что у Альдена и Стеллы родилась дочка? — спросила Энн.
— Слышала. Надеюсь, Стелла не будет такой же полоумной матерью, как была ее мать Лизетта. Поверите ли, Энн, милочка, Лизетта прямо-таки лила слезы из-за того, что дочка ее кузины Доры пошла раньше, чем Стелла.
— Что с нас, матерей, взять? — улыбнулась Энн. — Помнится, я жутко злилась, когда у Боба Тейлора, который родился день в день с Джимом, раньше прорезался первый зуб.
— Кстати, Бобу Тейлору собираются удалять гланды, — вспомнила миссис Корнелия.
— Мама, а почему у нас никогда ничего не удаляли? — хором спросили Уолтер и Ди. Они часто говорили одно и то же, а потом брались за руки и загадывали желание. «Просто мы одинаково обо всем думаем», — объясняла Ди.
— Вот уж никогда не забуду, как Элси Тейлор выходила замуж, — задумчиво проговорила миссис Корнелия. — Ее закадычная подруга Мейзи Миллисон вместо свадебного марша заиграла похоронный. Потом она, конечно, говорила, что перепутала их от волнения, но ей никто не поверил. Все знали, что она сама хотела выйти за Мака Морсайда. Ох, и прощелыга же был, и как умел подкатываться к женщинам! А жилось с ним Элси ужасно. Впрочем, что об этом говорить, и Элси и он давно спят вечным сном, а Мейзи уже много лет замужем за Харли Расселом, и все забыли, что он сделал ей предложение, в надежде, что она ему откажет, а она возьми да согласись. Харли уж и сам про это забыл… одно слово — мужчина. Считает, что у него самая лучшая жена на свете, и очень доволен, что сумел ее заполучить.
— А зачем же он делал ей предложение, если хотел, чтобы она ему отказала? Что-то я этого не понимаю, — удивилась мисс Бейкер и тут же оговорилась: — Хотя я в этих делах, конечно, плохо разбираюсь.
— Это отец велел ему сделать предложение Мейзи, а он не стал спорить — думал, что ему ничто не грозит. А вот и доктор!
Вошел Джильберт, и вслед за ним в дверь влетел порыв холодного ветра со снегом. Он сбросил пальто и с наслаждением уселся перед огнем.
— Думал раньше приехать, да задержался.
— Не устоял перед кружевной ночной рубашкой? — с ухмылкой взглянув на миссис Корнелию, спросила Энн.
— О чем это ты? Какие-то женские шуточки, недоступные моему мужскому пониманию. Я ездил в Верхний Глен к Уолтеру Куперу.
— Вот уж зажился человек, даже непонятно, чем душа держится, — покачала головой миссис Корнелия.
— Не говорите, у меня у самого терпение лопается, — улыбнулся Джильберт. — По всем медицинским законам ему полагалось бы давным-давно умереть. Год назад я сказал, что он протянет не больше двух месяцев. Он просто губит мою репутацию.
— Если бы вы знали Куперов, как я, вы бы не рискнули предсказывать, когда они умрут. Разве вы не слышали, что его дед ожил после того, как выкопали могилу и купили гроб? Гробовщик так и отказался взять гроб назад. Насколько я понимаю, Уолтер развлекается тем, что репетирует собственные похороны: одно слово — мужчина! А вот и Маршалл подъехал — слышу его колокольчик? Эта банка маринованных груш — тебе, Энн, милочка.
Миссис Корнелию проводили до дверей. Уолтер выглянул в темноту вьюжной ночи и вздохнул:
— Где-то сейчас Робин? Интересно, скучает ли он по нам?
— Робин сейчас в теплых солнечных краях, — сказала Энн. — А весной он вернется, вот увидите. Осталось всего пять месяцев. Цыплятки, а не пора ли вам всем спать?
— Сьюзен, — спросила Ди, уютно устроившись в кладовке, — тебе хотелось бы иметь ребеночка? Я знаю место, где есть новенький, с иголочки.
— Где же это?
— У Эми. Она говорит, что его принесли ангелы, но мне кажется, что ангелам надо бы получше соображать. У Тейлоров и так уже восемь детей. А ты вчера говорила, что вот Рилла выросла и у нас теперь нет маленького. Мать Эми, наверное, с радостью отдаст тебе своего.
— Господи, чего только эти дети не придумают! У Тейлоров всегда были большие семьи. Отец Эндрю никогда не мог сказать, сколько у него детей, не пересчитав их по пальцам. Нет, Ди, чужих детей мне не надо.
— Сьюзен, Эми говорит, что ты старая дева. Это правда?
— Да, — мужественно ответила мисс Бейкер. — Так уж решило мудрое Провидение.
— А тебе нравится быть старой девой, Сьюзен?
— Нет, детка, по правде говоря, не очень. Однако, — добавила Сьюзен, вспомнив некие известные ей семьи, — я поняла, что нет худа без добра. А теперь отнеси-ка папе этот кусок яблочного пирога и скажи, что я сейчас принесу чай. Бедняга, наверное, ослаб от голода.
— Мама, правда, у нас самый лучший дом на свете? — спросил Уолтер, поднимаясь с Энн наверх. — Вот только… тебе не кажется, что он был бы еще лучше, если бы у нас была парочка привидений?
— Привидений?
— Да. У Джерри Палмера в доме полно привидений. Он однажды видел высокую даму в белом с костлявой рукой. Я рассказал об этом Сьюзен, и она ответила, что он или выдумывает, или у него желудок не в порядке.
— Сьюзен права. В Инглсайде всегда жили счастливые люди… так что привидениям здесь взяться неоткуда. А теперь прочитай на ночь молитву и ложись спать.
Глава двадцать пятая
Робин таки вернулся весной и привел с собой молодую жену. Они построили гнездо в ветвях яблони, на которой Уолтер учил уроки, и Робин зажил по-старому, но его жена побаивалась людей и улетала, когда кто-нибудь приближался к дереву. Сьюзен считала возвращение Робина настоящим чудом и каждый день писала про него Ребекке Дью.
Всю зиму в Инглсайде не случалось ничего экстраординарного, но вот в июне в центре внимания оказалась Диана, с которой случилось пренеприятное приключение.
В ее классе появилась новая девочка, которая на вопрос учительницы, как ее зовут, ответила «Я — Дженни Пент» таким тоном, каким говорят: «Я — королева Елизавета» или «Я — Елена Прекрасная». Услышав эти слова, человек понимал, что не знать Дженни Пент — просто позор, а не быть признанным ею значит, что тебя вообще вроде бы нет на свете. По крайней мере такое ощущение возникло у Дианы Блайт, хотя она, возможно, и не смогла бы его так точно сформулировать.
Дженни Пент было девять лет, а Диане — восемь, но Дженни сразу стала дружить с «большими девочками», которым было уже десять или одиннадцать. Они обнаружили, что не могут ее «отшить» или проигнорировать. Она не была хорошенькой, но имела эффектную внешность — не обратить на нее внимания было невозможно. У Дженни было круглое нежное лицо, обрамленное иссиня-черными волосами, и огромные темно-синие глаза с длинными черными ресницами. Когда девочка поднимала ресницы и обращала на тебя презрительный взгляд своих глаз, ты ощущал себя червяком, который должен испытывать благодарность за то, что на него не наступили. Уничтожающая реплика Дженни ценилась дороже, чем дружеская — любого другого. Быть избранной ею в качестве временной наперсницы было огромной честью. Потому что она рассказывала потрясающие вещи. Пенты, совершенно очевидно, все были людьми неординарными. Тете Дженни Лине, например, дядя-миллионер подарил замечательное золотое ожерелье с гранатами. У одной из ее кузин было кольцо с бриллиантом, которое стоило тысячу долларов, а другая кузина завоевала первый приз на конкурсе декламаторов, в котором участвовало семьсот человек. Одна из теток была миссионером в Индии среди леопардов. В общем, ее одноклассницы, по крайней мере поначалу, верили каждому слову Дженни, восхищались ею, завидовали ей и так много рассказывали о ней дома, что даже их родители в конце концов заинтересовались Дженни Пент.
— Сьюзен, что это за девочка, про которую Ди все время рассказывает? — спросила Энн однажды вечером, после того как Диана рассказала им, что Дженни живет в «особняке» с деревянной резьбой под крышей, пятью эркерами, каминной полкой из красного мрамора и замечательной березовой рощей позади дома. — Что-то я не слышала в Глене имени Пент. Ты что-нибудь о них знаешь?
— Они недавно купили ферму Конвея, миссис доктор, милочка. Говорят, что мистер Пент — столяр, который не смог зарабатывать на жизнь этим ремеслом и решил заняться сельским хозяйством. Как я понимаю, он не столько работает, сколько доказывает, будто Бога не существует. Судя по всему, странная семейка. Детям разрешается делать все, что им вздумается. Отец говорит, что в детстве его держали в ежовых рукавицах, и он не собирается так же обращаться со своими детьми. Поэтому Дженни и ходит в школу в Глене. Пенты живут ближе к школе в Моубрей Нерроуз, но она, видите ли, решила, что будет учиться в Глене. Половина их земли лежит в нашем районе, и мистер Пент платит налог в обе школы, так что, конечно, может посылать своих детей в любую. Но Дженни не дочь ему, а племянница. Ее родители умерли. Говорят, что это сын мистера Пента Джордж загнал овец в подвал церкви в Моубрей Нерроуз. Может, они и вполне приличные люди, но страшные неряхи. Дом у них в жутком беспорядке… и, если вы спрашиваете у меня совета, я не рекомендую вам поощрять дружбу Дианы с этой стаей обезьян.
— Но я же не могу запретить ей разговаривать с Дженни в школе, Сьюзен. В конце концов, у меня нет причин не разрешать Ди дружить с этой девочкой, хотя уверена, что она привирает, рассказывая о своих родственниках и приключениях. Будем надеяться, что Ди скоро в ней разочаруется и перестанет бесконечно говорить о Дженни Пент.
Однако Ди была очарована новой подругой. Дженни, оказывается, сказала Диане, что она нравится ей больше всех других девочек в школе, и та, восприняв это чуть ли не как королевскую милость, впала в полное обожание. На переменах они с Дженни были неразлучны; в уик-энды писали друг другу письма; обменивались «жвачкой» и пуговицами, и наконец Дженни пригласила Диану к себе домой, предлагая ей переночевать там.
— Нет, нельзя, — решительно заявила Энн, и Ди долго безутешно рыдала.
— Ты же позволяешь мне ночевать у Перси Форд!
— Это совсем другое дело, — не вдаваясь в объяснения, сказала мама. Она не хотела посеять снобизм в душе Дианы, но все, что она слышала о семействе Пентов, убедило ее, что их дети совсем не годятся в товарищи ее детям. В последнее время Энн была изрядно озабочена влюбленностью дочки в Дженни.
— Какая разница? — вопрошала плачущая Диана. — Если хочешь знать, Дженни так же хорошо воспитана, как и Перси. У нее есть кузина, которая знает все правила этикета и научила им Дженни. Дженни говорит, что это
мыничего не знаем об этикете. И у нее были такие увлекательные приключения.
— Откуда ты это знаешь? — сурово спросила Сьюзен.
— Она сама мне рассказывала. Ее семья небогата, но у них очень богатые респектабельные родственники. Один дядя Дженни — судья, а кузен ее матери — капитан самого большого корабля на свете. Дженни ездила к нему, когда корабль спускали на воду, и придумала ему имя. А у нас нет тетки, которая обращает в христианство леопардов.
— Прокаженных, а не леопардов,
детка.
— Дженни сказала, что леопардов, а ей лучше знать, кого обращает ее собственная тетка. И мне хочется посмотреть ее дом… ее комната оклеена обоями с попугаями… а в гостиной у них стоят чучела сов… на ковре в передней нарисован дом, а жалюзи на окнах все в розах… и у них есть настоящий домик для игр… его построил им ее дядя… и с ними живет бабушка, которая старее всех на свете. Дженни говорит, что она жила еще до всемирного потопа. Когда еще мне удастся увидеть человека, который жил до всемирного потопа?
— Я слышала, что бабушке почти сто лет, — вставила Сьюзен, — но если твоя Дженни говорит, что она жила до потопа, то она врет без зазрения совести. И в этом доме ты можешь подхватить Бог знает что.
— Дженни говорит, что они уже давно переболели всеми болезнями, — возразила Ди. — Дженни говорит, что у них была и корь, и свинка, и коклюш, и краснуха — и все в один год.
— Не удивлюсь, если у них и оспа была, — пробурчала мисс Бейкер. — Полоумная семейка.
— У Дженни скоро будут вырезать гланды, — рыдала Диана. — Но ведь это не заразно! Одна кузина Дженни умерла после того, как у нее вырезали гланды… истекла кровью, не приходя в сознание. Вдруг Дженни тоже умрет? У нее слабое здоровье — на прошлой неделе ей три раза было плохо. Но она
приготовилась к худшему.Поэтому она и хочет, чтобы я провела у нее в доме ночь… чтобы я помнила ее, если она умрет. Пожалуйста, мамочка, позволь! Можешь не покупать мне новую шляпку с ленточками, которую обещала.
Но Энн была непреклонна, и в тот день Диана заснула в слезах. Нэнни ей нисколько не сочувствовала. Ей Дженни совсем не нравилась.
— Прямо не узнаю свою девочку, — озабоченно сказала миссис Блайт. — Она раньше никогда так себя не вела. Эта Дженни словно околдовала ее.
— Вы поступили совершенно правильно, миссис доктор, голубушка. Не к чему ей идти в дом к неподходящим для нее людям.
— Сьюзен, я не хочу внушать дочке, что есть «подходящие» и «неподходящие» для нее люди. Но всему есть предел. Дело даже не в самой Дженни… она просто слишком все преувеличивает в рассказах… но мне говорили, что мальчики у них просто ужасные. Учительница не может найти на них управы…
— Значит, они тиранствуют над тобой, как хотят? — высокомерно хмыкнула Дженни, когда Диана сказала ей, что родители не разрешили ей провести ночь в доме Пентов. — Я бы такого не потерпела. У меня независимый характер. Я вообще сплю под открытым небом, когда мне приходит такая фантазия. Ты небось никогда не спала на открытом воздухе?
Ди завистливо смотрела на девочку, которая «спит под открытым небом, когда ей приходит такая фантазия». Как это интересно!
— Не сердись на меня, Дженни. Ты же знаешь, что мне очень хочется.
— Да нет, я на тебя не сержусь. Конечно,
некоторыене позволили бы так себя притеснять, но ты, видно, уродилась послушной. А как нам было бы весело! Я хотела пойти с тобой ловить рыбу в ручье при лунном свете. Мы часто там ловим рыбу. Мне на крючок сколько раз попадалась
вот такаяфорель. И у нас замечательные поросятки, чудный жеребенок и только что родились щенята. Что ж, придется, видно, позвать Сэди Тейлор.
Ееотец и мать не притесняют.
— Мои папа и мама очень добрые! — заступилась за родителей Диана. — И папа — самый лучший доктор на острове — все так говорят.
— Красиво это — хвастаться отцом с матерью, когда ты знаешь, что мои умерли? — уничтожающе прошипела Дженни. — Подумаешь! У моего папы сейчас крылья, а на голове золотой нимб. Но я же не задираю нос! Слушай, Ди, я не хочу с тобой ссориться, но я ненавижу, когда люди хвастаются своими родителями. По этикету этого нельзя делать. А я решила вести себя строго по этикету. Когда летом Перси Форд, о которой ты все время говоришь, приедет сюда на каникулы, я не собираюсь с ней дружить. Тетя Лина говорит, что ее мать вышла замуж за мертвого, а он ожил.
— Да что ты, Дженни, все было совсем не так! Я знаю… Мама мне рассказывала… Тетя Лесли…
— Не хочу про нее и слушать. Про такое лучше не говорить. А вот и звонок.
— Ты правда позовешь Сэди? — обиженно спросила Ди.
— Ну, не сегодня. Подожду немного. Может, дам тебе еще один шанс. Но это будет последний.
Через несколько дней на перемене Дженни подошла к Диане.
— Джим говорит, что ваши родители вчера уехали и вернутся только завтра.
— Да, они поехали в Эвонли, повидать тетю Мариллу.
— Вот это и есть твой шанс.
— Мой шанс?
— Провести у нас ночь.
— Но, Дженни, мне же запретили!
— Ну и что? Они же не узнают. Не трусь!
— Сьюзен меня не отпустит.
— А ты у нее не спрашивайся. Просто после школы пойдем ко мне. Нэнни скажет ей, где ты, и она не будет беспокоиться. А твоим родителям она не посмеет рассказать, что не уследила за тобой.
Диану раздирали сомнения. Она отлично знала, что не должна идти наперекор запрету, но ей
так хотелось.А Дженни впилась в нее своим гипнотизирующим взглядом.
— Это твой последний шанс, — театрально произнесла она. — Я не могу дружить с девочкой, которая считает, что моя семья ее недостойна. Если ты откажешься, мы сейчас
расстанемся с тобой навсегда.
Тут Диана сдалась. Она все еще была околдована Дженни и не могла расстаться с ней навсегда. В этот день Нэнни вернулась из школы одна и сообщила Сьюзен, что Ди будет ночевать у Пентов.
Если бы мисс Бейкер была здорова, она тут же отправилась бы за Дианой. Но Сьюзен утром подвернула ногу и, хотя она и могла кое-как ковылять по дому и готовить детям еду, пройти милю до фермы Пентов ей было не по силам. Телефона у Пентов не было, а Джим с Уолтером категорически отказались туда идти. Ребята позвали их печь мидий у маяка, а Ди ничего в доме Пентов не сделается. Сьюзен пришлось смириться с неизбежным.
Диана с Дженни отправились к ней домой по тропинке, идущей прямиком через поля и сокращавшей дорогу до четверти мили. Диана была счастлива, хотя время от времени и чувствовала уколы совести. Кругом было так красиво: заросли папоротников на опушке темно-зеленых рощиц, низина, где лютики доставали им до колен, извилистая дорожка, вдоль которой росли молодые клены, ручеек, окаймленный цветущими кустами, луг, розовый от земляники. Диана, которая начинала осознавать красоту природы, была в восторге и почти пожалела, что Дженни говорит без умолку. В школе — другое дело, а сейчас Диане совсем не хотелось слушать про то, как Дженни однажды чуть не отравилась — разумеется, «по нечайности», — приняв не то лекарство. Дженни красочно описывала свои предсмертные муки, но так и не объяснила, почему она все-таки не умерла. Она «потеряла сознательность», и доктор сумел вытащить ее чуть ли не из могилы.
— Но с тех пор я так полностью и не оправилась. Слушай, Ди, что ты все время пялишься по сторонам? И по-моему, ты не слышала ни одного моего слова.
— Нет, слышала, — виновато проговорила Ди. — С тобой случались удивительные вещи, Дженни. Но посмотри, какой красивый вид!
— Вид? Какой еще вид?
— Ну то, что ты видишь вокруг. Все это… — И Ди показала на панораму лугов и рощ, на холм, накрытый облачной шапкой, и на сапфирный осколок моря, голубевший среди холмов.
Дженни презрительно фыркнула.
— Что тут видеть? Деревья да коровы. Я все это сто раз видела. Что это на тебя находит, Ди Блайт? Не хочу тебя обижать, но иногда мне кажется, что у тебя не все дома. Честное слово! Но, верно, ты такая уж уродилась. Говорят, твоя мать тоже все время несет какую-то околесицу. Ну, вот мы и пришли!
Диана широко открытыми глазами смотрела на дом Пентов. Какое разочарование! Это и есть «особняк», о котором все время толкует Дженни… Дом и вправду большой, и пять окон-эркеров у него есть, но какой же он облезлый, давно не крашенный, а «деревянное кружево» во многих местах отвалилось. Веранда сильно скособочилась, а окошечко над дверью, которое когда-то, наверное, было очень красивым, зияло выбитыми стеклами. Занавески висели криво, окна во многих местах были затянуты коричневой оберточной бумагой, а «очаровательная березовая роща» состояла всего из нескольких старых и кривых деревьев. Сараи и помещения для скота полуразвалились, двор был завален ржавыми сельскохозяйственными орудиями, а сад наглухо зарос сорняками. Такой неказистой усадьбы Ди ни разу в жизни не видела. Впервые ей пришло в голову: уж не привирала ли ей Дженни и в остальном? Неужели даже за девять лет можно столько раз быть на краю гибели?
Внутри дом выглядел не лучше. В гостиной, куда привела ее Дженни, все было покрыто пылью и пахло плесенью. На потолке красовались разводы от сырости, и он весь растрескался. Знаменитый камин вовсе не был отделан красным мрамором, а просто покрашен в красный цвет — даже Диане это было очевидно. Серые от грязи кружевные гардины пестрели дырками. Жалюзи из синей бумаги, на которых действительно были нарисованы корзины с розами, тоже порвались во многих местах. А что касается «массы» чучел сов, то в углу стоял маленький стеклянный шкафчик с тремя облезлыми чучелами, у одного из которых к тому же не хватало глаза. Диане, привыкшей к красоте и достоинству Инглсайда, комната казалась просто безобразной. Самым странным было то, что Дженни как будто вовсе не осознавала вопиющего противоречия между своим описанием дома и реальностью. Диане даже стало казаться, что все рассказы Дженни ей просто приснились. Снаружи, правда, дела обстояли лучше. Домик для игр, который мистер Пент построил в углу двора, где росли елки, был действительно совсем как настоящий, только маленький. Поросята и жеребенок были «лапочки», а щенки-дворняжки до того хороши, что могли бы принадлежать к самой благородной из собачьих пород. Особенно Диане понравился один, с длинными коричневыми ушами, белой звездочкой на лбу, крошечным розовым язычком и белыми лапками, и она очень расстроилась, узнав, что на всех щенят уже есть заказы.
— Да если бы и не было, все равно сомневаюсь, чтобы дядя дал тебе щенка. Он дает щенков только верным людям, а у вас в Инглсайде, говорят, собаки просто не
хотят жить.Наверное, что-то у вас не так. Дядя говорит, что у собак на людей чутье.
— Да что же они могут чуять в нас плохого? — воскликнула Ди.
— Не знаю. Может, твой отец бьет твою мать?
— Да ты что! Никогда!
— А я слышала, что бьет… так бьет, что она
криком кричит.Но в это я, конечно, не верю. Люди такое наплетут — ужас. Ты мне всегда нравилась, Ди, и я за тебя буду всегда заступаться.
Видимо, Дженни ожидала от Дианы благодарности, но та почему-то никакой благодарности не испытывала. Ей становилось все больше не по себе, и волшебный ореол, который окружал в ее глазах Дженни, вдруг исчез. Она без интереса выслушала историю о том, как Дженни однажды упала в пруд возле мельницы и чуть не утонула. Ди ей больше не верила. Все эти истории — выдумки. И наверное, дядя-миллионер, кольцо с бриллиантом и тетя-миссионер тоже были выдумками. Ди чувствовала себя, как воздушный шарик, который прокололи булавкой.
Да, но она еще не видела бабушку! Уж наверняка бабушка — настоящая. Когда Дженни и Ди вернулись в дом, тетя Айна, полная краснощекая женщина, одетая в не очень свежее ситцевое платье, сказала им, что бабушка хочет познакомиться с гостьей.
— Бабушка не встает с постели, — объяснила Дженни. — И мы приводим к ней всех гостей. Она очень сердится, если мы кого не приведем.
— Не забудь ее спросить, не болит ли у нее спина, — предупредила Диану тетя Лина. — Она не любит, когда гости забывают про ее спину.
— И про дядю Джона, — добавила Дженни. — Не забудь ее спросить, как здоровье дяди Джона.
— А кто это? — спросила Ди.
— Это ее сын, который умер пятьдесят лет тому назад, — объяснила тетя Лина. — Он болел несколько лет, а потом умер, и бабушка привыкла, чтобы ее спрашивали про здоровье дяди Джона.
Перед дверью в бабушкину комнату Диана вдруг остановилась и попятилась. Ей стало очень страшно при мысли, что она сейчас увидит такую старую женщину.
— Ну, что ты? — спросила Дженни. — Она не кусается.
— Она… она и правда жила еще до потопа, Дженни?
— Ну, конечно, нет! Кто тебе такое наговорил? Но если она доживет до следующего дня рождения, ей стукнет сто лет. Заходи.
Диана вошла. В маленькой, загроможденной мебелью комнате на огромной кровати лежала бабушка. Ее сморщенное личико напоминало обезьянью мордочку. Она поглядела на Диану своими провалившимися глазами с красными веками и сварливо спросила:
— Чего ты на меня пялишься? Ты чья?
— Бабушка, это — Диана Блайт, — заискивающе сказала Дженни — куда девался ее гонор!
— Гм! Имя хорошее. Говорят, у тебя сестра слишком много о себе воображает.
— Неправда! — негодующе воскликнула Ди. Похоже, что Дженни наговорила тут всякого о Нэнни.
— Ишь ты, какая дерзкая! Меня учили никогда не возражать старшим. Конечно, твоя сестра задается. Дженни говорит, что она ходит задрав нос. Воображала! И не спорь со мной!
У бабушки был такой сердитый вид, что Ди поспешно спросила, не болит ли у нее спина.
— Какое тебе дело до моей спины? Выдумала тоже! Моя спина никого не касается. Ну-ка, подойди поближе.
Ди сделала шаг-другой. Как ей хотелось быть далеко отсюда и от этой жуткой старухи! Что она хочет с ней сделать?
Бабушка резво подвинулась к краю и схватила Диану за волосы.
— Рыжие, но ничего. Платье на тебе хорошенькое. А ну-ка подними его и покажи мне исподнюю юбку.
Ди повиновалась, радуясь, что надела беленькую нижнюю юбку с отделкой из кружев. Но что это за дом, где тебя заставляют показывать нижнее белье?
— Я о девочке всегда сужу по исподней юбке, — сказала бабушка. — А теперь покажи панталоны.
Ди не посмела ослушаться и подняла нижнюю юбку.
— Гм, и на панталонах кружево. Деньги твоим родителям девать, видно, некуда. А про Джона ты меня не спросила!
— Как его здоровье? — выговорила Ди.
— Нет, вы только послушайте! «Как его здоровье?» Да откуда ты знаешь — может, он давно умер? Ты вот что мне скажи — правда, что у твоей матери есть золотой наперсток — из чистого золота?
— Да. Папа подарил ей его на прошлый день рождения.
— Скажи, пожалуйста, а я не верила. Дженни мне про это говорила, да ни одному слову ее верить нельзя! Наперсток из золота! Никогда про такое не слыхивала. Ну, ладно, идите ужинать. Еда никогда не выходит из моды. Дженни, подтяни штаны, а то их видно из-под платья. Когда ты научишься следить за собой?
— Неправда, моих шта… панталон не видно из-под платья, — возмущенно проговорила Дженни.
— У Пентов штаны, а у Блайтов панталоны. В этом и есть разница между вами, и так будет всегда. И не спорь с мной!
Все семейство Пентов сидело за столом на кухне. За исключением тети Лины, Диана никого из них раньше не видела, но, взглянув на стол, поняла, почему мама и Сьюзен не хотели ее сюда пускать. Скатерть была рваная, с застарелыми пятнами. Тарелки были все разные и некрасивые. Повсюду кишели мухи. А что касается членов семейства — Диане еще никогда не приходилось сидеть за столом в подобной компании. Ей так захотелось вернуться в Инглсайд! Но делать нечего, придется терпеть.
Во главе стола сидел дядя Бен, как его называла Дженни. У него была ярко-рыжая борода и лысый череп с каймой седых волос. Его неженатый брат Паркер, тощий и небритый, уселся за стол под таким углом, чтобы ему было удобно плевать в ящик для поленьев, что он поминутно и делал. У мальчишек — Курта двенадцати лет и тринадцатилетнего Джорджа — были светло-голубые злые глаза, а сквозь дыры в рубашках просвечивало голое тело. У Курта рука была перевязана окровавленной тряпкой: он порезал ее о битую бутылку. Девочки — Аннабелла одиннадцати лет, и десятилетняя Герти — были кареглазые и довольно симпатичные. У двухлетнего малыша Таппи были очаровательные кудряшки и розовые щеки, а младенец, который сидел на руках тети Лины, был бы просто душка, если бы его как следует вымыть.
— Курт, ты почему не почистил под ногтями, хотя знал, что у нас будет гостья? — спросила Дженни. — Аннабелла, не говори с полным ртом. Я одна только и стараюсь научить их хорошим манерам, — шепнула она Диане.
— Заткнись, — гаркнул басом дядя Бен.
— Нет, не заткнусь… и ты меня не заставишь! — крикнула Дженни.
— Дженни, не груби дяде, — спокойно сказала тетя Лина. — Ведите себя прилично, девочки. Курт, положи мисс Блайт картошки.
— Слыхали?
МиссБлайт! — издевательски хихикнул Курт.
По крайней мере одно приятное событие останется в памяти Ди — ее в первый раз назвали мисс Блайт.
Еда оказалась на удивление вкусной и обильной. Ди была голодна и ела бы с удовольствием — хотя она и терпеть не могла пить чай из щербатой чашки, — если бы только была уверена, что все приготовлено чистыми руками… и если бы кругом непрерывно не переругивались: Курт с Джорджем, Курт с Аннабеллой, Герти с Дженни и даже дядя Бен с тетей Линой. Эти вообще ужасно поругались и выкрикивали друг другу страшно обидные вещи. Тетя Лина припомнила всех мужчин, за которых она могла бы выйти замуж, а дядя Бен сказал: «Ну, и выходила бы, навязалась тут на мою голову».
Как было бы ужасно, если бы мама так ссорилась с папой, думала Диана. Ох, как хочется домой!
— Не соси палец, Таппи!
Диана сказала это совершенно машинально. Она привыкла говорить это Рилле, которую они с трудом отучили от привычки сосать большой палец.
Курт покраснел от злости и заорал:
— Оставь его в покое! Пусть сосет, если хочет. Это вам в Инглсайде ничего не позволяют, а нам можно делать все, что хочется. Чего ты суешься?
— Курт, Курт! — одернула его тетя Лина. — Мисс Блайт подумает, что ты не умеешь себя вести. — Она уже совершенно успокоилась после ссоры с мужем и положила дяде Бену две ложки сахара в чай. — Не обращай на него внимания, милочка. Возьми еще кусочек пирога.
Но Диане больше не хотелось пирога. Ей хотелось одного — уйти домой… но она не знала, как это сделать.
— Ну, ладно! — прогремел дядя Бен, с громким хлюпаньем допив остатки чая из блюдечка. — Поели! Встаешь утром, вкалываешь весь день, поел и спать. И это называется жизнь?
— Папа у нас любит шутить, — улыбнулась тетя Лина.
— Кстати о шутках… Я сегодня встретил в магазине методистского пастора, и тот взялся со мной спорить, когда я сказал, что никакого Бога нет. «Вот в воскресенье залезешь на кафедру и толкуй про Бога, — говорю, — а сейчас моя очередь. Докажи мне, что Бог есть». А он мне: «Вы же говорите, что ваша очередь!» И все ну смеяться, как дураки. Можно подумать, что он победил меня в споре.
Бога нет? Диане показалось, что у нее земля ушла из-под ног, и ей захотелось заплакать.
Глава двадцать шестая
После ужина стало еще хуже. До этого они по крайней мере были с Дженни вдвоем. Теперь же собралась целая толпа детей. Джордж схватил Диану за руку и заставил ее пробежать через лужу. С девочкой никогда раньше так не обращались. Правда, Джим с Уолтером и Кен Форд иногда ее дразнили, но таких грубиянов она просто не встречала.
Курт предложил ей жвачки, вынув ее у себя изо рта, а когда она отказалась, страшно разозлился.
— Я тебе сейчас живую мышь за шиворот суну! — орал он. — Воображала! И брат у тебя слюнтяй!
— Никакой Уолтер не слюнтяй, — встала на защиту брата Диана, хоть и очень боялась Курта.
— Нет, слюнтяй! Он стихи пишет. Знаешь, что я сделал бы с братом, который пишет стихи? Я бы утопил его, как котенка.
— Кстати, в сарае полно диких котят, — сказала Дженни. — Пойдемте на них охотиться.
Но Диана не хотела охотиться на котят с этими мальчишками.
— У нас полно котят дома, — с гордостью сообщила она. — Целых одиннадцать штук!
— Врешь! — воскликнула Дженни. — Одиннадцать котят у кошки не может быть!
— У нас две кошки. Одна родила пятерых, а другая шестерых. А в сарай я все равно не пойду. Прошлой зимой я упала с сеновала в сарае у Эми Тейлор и чуть не убилась до смерти — хорошо, что попала на кучу мякины…
— Я тоже как-то чуть не грохнулась с сеновала, но Курт меня ухватил за руку, — надув губы, сказала Дженни. С какой это стати Ди вздумала падать с сеновала? Другое дело, если приключения происходят с ней, Дженни. А то с Ди Блайт! Какая наглость!
Диана уже поняла, что ее дружба с Дженни окончилась навеки. Но надо было еще как-то пережить ночь. Они долго не ложились спать — в доме Пентов не было заведено рано укладывать детей. В большой спальне, куда в половине одиннадцатого Дженни наконец привела Диану, стояли две кровати. На одной собирались спать Аннабелла и Герти. Диана посмотрела на вторую: наволочки серые, стеганое одеяло явно не стирано много лет, на обоях — знаменитых обоях с попугаями — потеки, и сами попугаи не очень-то попугаистые. На табуретке возле постели стоял кувшин и таз с грязной водой. Нет уж, тут Диана умываться не будет! Придется лечь спать, не умывшись. По крайней мере, тетя Лина дала ей чистую ночную рубашку. Когда Диана поднялась с колен, закончив читать молитву на ночь, Дженни рассмеялась.
— Какая же ты отсталая! У тебя был такой смешной вид, когда ты молилась. Молиться — пустое занятие. Зачем ты молишься?
— Чтобы спасти свою душу, — повторила Диана слова Сьюзен.
— А у меня нет души, — насмешливо сказала Дженни.
— У тебя, может, и нет, а у меня есть, — с достоинством возразила Диана.
Дженни вперила в нее свой гипнотический взгляд, но на Диану он больше не действовал.
— Ты вовсе не такая, как я думала, Диана Блайт, — проговорила Дженни тоном человека, обманутого в своих надеждах.
Прежде чем Диана успела ответить, в комнату влетели Курт и Джордж. На Джордже была страшная-престрашная маска с огромным носом. Диана закричала.
— Чего визжишь как резаная? — крикнул Джордж. — Лучше поцелуй нас на ночь.
— А не поцелуешь, запрем в кладовке — а там полно крыс.
Джордж стал надвигаться на Диану, которая опять закричала и попятилась от него. Эта маска наводила на нее ужас. Она отлично понимала, что под ней всего-навсего Джордж, которого она совсем не боится, но была уверена, что умрет, если эта жуткая маска приблизится к ней — умрет и все! Когда ужасный длинный нос уже почти коснулся лица Дианы, она сделала шаг назад, споткнулась о табуретку и упала, стукнувшись затылком об острый угол кровати Аннабеллы. Удар оглушил ее, и она лежала не шевелясь, закрыв глаза.
— Она умерла… умерла, — захныкала Герти.
— Ну, получишь порку, Джордж, если ты ее убил, — пригрозила Аннабелла.
— Может, она притворяется, — сказал Курт. — Положи ей за пазуху червяка — они вон там в банке. Если она притворяется, то живо придет в себя.
Диана слышала его слова, но была так напугана, что не открывала глаз.
(Может, если они решат, что она умерла, они уйдут и оставят ее в покое? Но червяк!)
— Уколите ее лучше булавкой! Если пойдет кровь, значит, она жива, — предложила Герти.
(Уж лучше булавка, чем червяк.)
— Ничего она не умерла, такого и быть не может, — со слезами проговорила Дженни. — Просто вы ее напугали, и она упала в обморок. А когда придет в себя, начнет орать на весь дом. Придет дядя Бен и задаст вам обоим порку. И зачем я только позвала ее в гости?
— А может, оттащить ее домой, пока она не пришла в себя? — предложил Джордж.
(Вот было бы здорово!)
— Не донесем, — сказала Дженни, — далеко.
— Если напрямик, то всего четверть мили. Возьмем за руки и за ноги — я, Курт, ты и Аннабелла.
Никто на свете, кроме Пентов, не мог бы придумать такой план и никто, кроме них, не осмелился бы его осуществить. Но эти дети привыкли делать все, что им приходило в голову, а перспектива порки мало их прельщала. Отец не так-то часто их наказывал, но уж если его довести…
— А если она придет в себя, пока мы ее будем тащить, то мы просто бросим ее и убежим, — ухмыльнулся Джордж.
Но Диана не собиралась приходить в себя. Она была рада до смерти, почувствовав, что ее поднимают за руки и за ноги. Четверо Пентов прокрались по лестнице, вышли во двор… прошли через клеверное поле… мимо рощи… спустились с холма. Два раза они, устав, клали ее на землю и совсем уже уверились, что Диана умерла. Детям только хотелось отнести ее домой так, чтобы их никто не увидел. Если Дженни Пент раньше никогда не молилась, сейчас она взывала к Богу, чтобы им никто не попался на улице деревни. Потом они скажут, что Диана не захотела провести у них ночь и ушла домой. А что там с ней дальше случилось, они, мол, понятия не имеют.
Слушая, как они обсуждают этот план, Диана на секунду приоткрыла один глаз. Вокруг было темно и страшно.
(Не нравится мне такое большое небо. Если я еще немного продержусь, то скоро буду дома. А если они поймут, что я не умерла, они бросят меня прямо здесь. В такой темноте я не доберусь до дома одна.)
Пенты бросили Диану на веранде Инглсайда и пустились бежать. Ди не сразу посмела открыть глаза, но когда открыла, увидела, что она дома. Какое счастье! Она поступила очень плохо, ослушавшись маму, но больше никогда не будет так делать. Диана села. К ней подошел Шримп и, громко мурлыча, потерся об нее. Девочка прижала его к себе. Какой он теплый и ласковый! Но как же войти в дом? Сьюзен, наверное, заперла все двери. Будить ее так поздно ночью Диана не осмеливалась. Ну, ничего! Ночь довольно прохладная, но можно завернуться в плед вместе со Шримпом и спокойно уснуть, зная, что совсем рядом, за запертыми дверьми, находятся Сьюзен, и мальчики, и Нэнни, и что вообще она дома.
Но как все-таки странно все выглядит ночью! Неужели все, кроме меня, спят? Большие белые розы у крыльца похожи на маленькие лица. И как хорошо, по-домашнему, пахнет мятой! В саду мелькает светлячок. Теперь можно похвастаться в школе, что спала «на открытом воздухе».
Но спать на открытом воздухе Диане не пришлось. В воротах показались две темные фигуры. Джильберт пошел на задний двор, чтобы открыть кухонное окно и влезть в дом, а Энн поднялась на веранду и с изумлением воззрилась на свою дочку, сидевшую на полу в обнимку с котом.
— Мама! Мамочка!
И Диана бросилась в объятия матери.
— Ди, детка, что это значит?
— Мамочка, я плохо поступила… не послушалась тебя, но я больше не буду… Ты была права… Но я думала, что вы вернетесь только завтра…
— Папе позвонили из Аоубриджа… завтра миссис Паркер будут делать операцию, и доктор Паркер попросил его приехать. Так что мы сели на поезд и пешком пришли со станции. А ты где была?
К тому времени, когда Джильберт влез в окно и открыл им дверь, Ди уже выплакала всю историю у мамы на груди. Джильберту казалось, что он влез в дом почти беззвучно, но Сьюзен всегда слышала все, что происходит в Инглсайде. Хромая, она спустилась вниз, запахнувшись в халат.
Увидев Энн и Ди, Сьюзен всплеснула руками и стала объяснять, как Ди ее ослушалась, а она не смогла пойти к Пентам, но Энн пресекла ее объяснения:
— Неважно, Сью, тебя никто и не винит. Ди поступила очень плохо, но она это поняла и, по-моему, уже достаточно наказана. Извини, что мы тебя разбудили, Сьюзен… иди спать — только сначала покажи доктору свою ногу.
— Да я и не спала, миссис доктор, голубушка. Разве я могла уснуть, не зная, как там Ди? Сейчас я дам вам чаю, Бог с ней с ногой.
— Мама, а папа когда-нибудь тебя обижает? — спросила Ди, уже лежа в собственной чистой и белой постели.
— Обижает? Как это?
— Пенты сказали, что он… что он бьет тебя…
— Милая девочка, теперь ты знаешь, что это за люди, так что не придавай значения их словам. В любой деревне есть сплетники, которые выдумывают всякие гадости. Их просто не надо слушать.
— Ты будешь меня утром бранить, мама?
— Нет, не буду. Ты и так уже наказана. А теперь спи, золотко.
«Мама все понимает», — подумала Ди и тут же уснула. А мисс Бейкер, улегшись в постель с забинтованной щиколоткой, думала: «Надо будет завтра вычесать девочке волосы и просмотреть белье… Пусть мне только попадется эта Дженни, уж я ее так отчитаю, что не скоро забудет».
Но отчитать Дженни Пент Сьюзен не удалось. Дженни больше не приходила в Глен, а стала ходить со своими кузенами и кузинами в школу в Моубрей Нерроуз, оттуда доходили слухи об историях, которые она там рассказывала. В одной из них говорилось о том, как Диана Блайт, которая живет в «большом доме» в Глене, вечно просилась к ней в гости и оставалась у нее ночевать, но однажды упала в обморок, и она, Дженни, на руках отнесла ее домой. Родители Дианы встали перед ней на колени и с благодарностью целовали ей руки, а доктор запряг своего знаменитого серого в яблоках коня в коляску с бахромой и отвез ее домой. «Если вам хоть что-нибудь будет нужно, мисс Пент, — якобы заявил он, — только скажите. За вашу доброту к моей дочери я готов для вас на все. Я просто не знаю, как вас благодарить. Если вы попросите, я поеду хоть в Экваториальную Африку».
Глава двадцать седьмая
— А я знаю секрет… а ты не знаешь… а ты не знаешь… а ты не знаешь, — напевала Дови Джонсон, раскачиваясь на цыпочках на самом краю причала.
Наступил черед Нэнни попасть в хронику чрезвычайных событий в Инглсайде. И Нэнни до конца своих дней будет краснеть при воспоминании о том, какой она была доверчивой дурой.
Нэнни с трепетом смотрела, как качается Дови — вот-вот упадет! — но одновременно это зрелище ее захватывало. Она была уверена, что когда-нибудь Дови таки упадет — и что тогда? Но Дови не падала. Ей везло.
Все, что делала Дови — или о чем она рассказывала, хотя это, наверное, было не одно и то же, — захватывало Нэнни. Ей, воспитанной в Инглсайде, где никто никогда не говорил неправды, не приходило в голову усомниться в словах Дови. Дови было одиннадцать лет, она всю жизнь жила в Шарлоттауне, и знала, и видела гораздо больше, чем Нэнни, которой было только восемь. Дови утверждала, что только жители Шарлоттауна знают жизнь. А что можно знать, живя в этой дыре Глен Сент-Мэри?
Дови приехала на каникулы в Глен к своей тете Элле, и они с Нэнни очень подружились, несмотря на разницу в возрасте. Может быть, потому, что Нэнни признавала превосходство Дови, считая ее почти что взрослой, и восхищалась ею, как мы всегда восхищаемся совершенством — или тем, что мы принимаем за совершенство. А Дови нравилось, что вокруг нее, как вокруг солнца, вращается маленькая, исполненная обожания планета.
— Нэнни — неплохая девчонка, — сказала она своей тете Элле, — только чересчур слабохарактерная.
Внимательный взор взрослых обитателей Инглсайда не обнаружил в Дови ничего предосудительного, не считая того, что ее мать была в родстве с Пайнами из Эвонли. В общем, они не препятствовали дружбе Нэнни с Дови, хотя мисс Бейкер с самого начала испытывала недоверие к зеленым, как крыжовник, глазам Дови с белесыми ресницами. Но сформулировать своих возражений она не могла: Дови была воспитанной девочкой, всегда чистенько одета и не болтала без умолку, как некоторые. Когда начнется учебный год, Дови уедет домой, так что не стоило уж чересчур придирчиво приглядываться к ней.
Нэнни проводила очень много времени с Дови на пристани, где почти всегда стоял на якоре корабль со спущенными парусами, и в это лето Долина Радуги ее почти не видела. Другим детям Блайтов Дови не очень нравилась. Она как-то довольно зло разыграла Уолтера, чем вызвала гнев Дианы, которая сказала ей «пару теплых слов». Дови вообще любила устраивать розыгрыши. Наверное, поэтому другие деревенские девочки не стремились с ней дружить.
— Какой секрет, скажи! — просила Нэнни. Но Дови только хитро подмигнула и заявила, что ей еще рано знать такие секреты. Нэнни еще больше заело любопытство.
— Ну, Дови, ну скажи!
— Не могу. Мне самой это по секрету рассказала тетя Кейт, а она уже умерла. Теперь я — единственный человек на свете, который про это знает. Я ей обещала, что никому не скажу. А ты обязательно не удержишься и разболтаешь.
— Не разболтаю, честное слово, не разболтаю!
— Говорят, вы в Инглсайде все друг другу рассказываете. Сьюзен тут же выманит у тебя этот секрет.
— Нет, не выманит! Я много чего знаю, о чем никогда не говорила Сьюзен. Я тебе тоже расскажу секрет, если ты расскажешь мне свой.
— Зачем мне секреты маленькой девочки?
Как это обидно! Нэнни считала, что знает замечательные секреты… про дикую вишню, которую она нашла в полном цвету в еловом лесочке позади сарая мистера Тейлора… про крошечную белую фею, которая ей привиделась на листе водяной лилии в пруду… про приснившийся ей парусник, который привела в гавань на буксире из серебряных цепей упряжка белых лебедей… Да мало ли чего еще! Нэнни обожала свои прекрасные волшебные секреты, и потом, подумав, решила, что хорошо сделала, не рассказав их Дови.
Но что же такое знает подружка про нее, чего она сама не знает? Любопытство зудело, как комар.
На следующий день Дови опять заговорила про секрет:
— Знаешь, Нэнни, я подумала и решила, что, пожалуй, надо тебе его рассказать — ведь он касается тебя. Наверное, тетя Кейт не имела тебя в виду, когда велела мне никому его не рассказывать. Вот что: я тебе расскажу этот секрет, если ты отдашь мне своего фарфорового оленя.
— Нет, Дови, это невозможно. Этого оленя мне подарила на день рождения Сьюзен. Она страшно обидится.
— Ну и пожалуйста. Если тебе олень дороже секрета, пусть остается у тебя. Мне все равно. Я вообще не люблю рассказывать секреты: мне нравится знать то, чего не знают другие. Это придает мне значение в собственных глазах. В воскресенье я погляжу на тебя в церкви и подумаю: «Если бы ты только знала о себе то, что знаю я, Нэнни Блайт!» Вот будет весело!
— А это хороший секрет?
— Он очень романтичный… вроде того, о чем пишут в книжках. Но какая разница? Ты же не хочешь его узнать.
К этому времени Нэнни просто умирала от любопытства. Надо узнать таинственный секрет во что бы то ни стало! Вдруг ее осенило:
— Дови, я не могу отдать тебе оленя, но если ты расскажешь мне секрет, я отдам тебе свой красный зонтик.
Зеленые глаза загорелись: зонтик был предметом жгучей зависти.
— Тот самый красный зонтик, который тебе на прошлой неделе мама привезла из города?
Нэнни кивнула. Она тяжело дышала. Может, теперь Дови расскажет секрет?
— А твоя мама позволит его отдать? — спросила та. Нэнни опять кивнула, хотя с некоторым сомнением.
Она не была полностью уверена, что мама не будет возражать.
Дови почувствовала это сомнение.
— Вот когда принесешь зонтик, тогда и скажу, — твердо сказала она. — Не будет зонтика — не будет и секрета.
— Завтра принесу, — торопливо пообещала Нэнни. Все что угодно — лишь бы узнать секрет.
— Ну, ладно, я подумаю, — протянула Дови. — Но ты не очень-то надейся. Может, я все равно не расскажу. Мала ты еще — я уж сколько раз тебе это говорила.
— Но за эти дни я выросла, — взмолилась Нэнни. — Слушай, Дови, не вредничай!
— Это мой секрет — хочу говорю, хочу нет. Ты матери расскажешь…
— Я же тебе обещала, что не расскажу ни одной душе.
— Дай клятву, что никому не расскажешь.
— Клянусь!
— Нет, всерьез.
Нэнни не знала, куда уж быть серьезнее.
— Скажи: честное-пречестное, провалиться мне сквозь землю на этом самом месте.
Нэнни повторила эти слова.
— Приноси завтра зонтик, тогда посмотрим, — сказала Дови. — Что делала твоя мама до того, как вышла замуж?
— Она преподавала в школе… была очень хорошей учительницей.
— Так я и думала. Моя мама считает, что твой отец зря на ней женился. Никто ведь не знает, кто были ее родители. Мама говорит, что за твоего папу пошла бы любая девушка. Ну, я пошла. Оревуар.
Нэнни знала, что это слово значит «до свидания». Она очень гордилась подругой, которая умела говорить по-французски. После ухода Дови Нэнни еще долго оставалась на пристани. Девочка любила сидеть на причале и смотреть, как причаливают и отчаливают рыбачьи суда. А иногда ей удавалось увидеть отплытие большого корабля, отправлявшегося в дальние края. «В дальние края…» — с удовольствием повторила Нэнни вслух. Какие волшебные слова! Как и Джим, она часто воображала, как уплывает на корабле по голубой бухте, мимо косы с дюнами, мимо высокого мыса, на котором стоял маяк, и дальше, дальше — в голубую дымку залива, к заколдованным островам в южных солнечных морях. Сидя на старом причале, Нэнни облетала на крыльях воображения весь свет.
Но сейчас девочка могла думать только о секрете, который ей обещала рассказать Дови. Расскажет ли? Что это за секрет? Что она знает? И что это она сказала про «любую девушку», которая пошла бы за папу? Нэнни часто задавала себе вопрос: что бы было, если бы папа женился на другой девушке? Тогда она была бы ее мамой. Но другой мамы быть не может! Это просто немыслимо!
— Дови Джонсон хочет рассказать мне секрет, — призналась девочка Энн, когда та пришла поцеловать ее на ночь. — Но мне нельзя будет рассказать его даже тебе, мамочка. Я обещала никому не говорить. Ты не обидишься?
— Конечно, нет, — с улыбкой ответила Энн.
На следующий день Нэнни взяла на пристань зонтик. «Это мой зонтик, — говорила она себе. — Мне его подарили, и я могу сделать с ним все, что захочу». Успокоив свою совесть этим сомнительным рассуждением, она ушла из дома так, чтобы ее никто не увидел. Девочке было жаль расставаться со своим хорошеньким ярким зонтиком, но жгучее желание знать секрет пересиливало все остальные чувства.
— Вот зонтик, Дови, — сказала Нэнни, запыхавшись — она бежала всю дорогу до пристани. — А теперь расскажи мне секрет.
Дови очень удивилась. Она не думала, что дело зайдет так далеко… не верила, что мать разрешит Нэнни отдать зонтик. Она поджала губы.
— Боюсь, что этот оттенок красного мне не пойдет. Очень уж он кричащий. Нет, не стану я тебе ничего рассказывать.
Но Нэнни тоже была с характером, и несправедливость всегда приводила ее в бурное негодование.
— Нет уж, Дови Джонсон, порядочные люди не нарушают уговор. Ты сказала: зонтик за секрет. Вот тебе зонтик, и изволь выполнить свое обещание!
— Ну, ладно, — нехотя согласилась Дови.
Все вдруг затихло. Перестал дуть ветер, вода не плескалась у свай пристани. По спине Нэнни пробежал холодок счастливого ожидания. Наконец-то она узнает секрет Дови!
— Ты знаешь Джимми Томаса, что живет на мысу? — спросила Дови. — Его еще кличут «Шестипалый Джимми Томас».
Нэнни кивнула. Конечно, она знала Томаса… Шестипалый Томас иногда наведывался в Инглсайд со своим фургоном, предлагая рыбу. Сьюзен говорила, что рыба у него бывает не такой уж свежей. Нэнни этот человек не нравился. У него была лысина с пушком кудрявых светлых волосков по краям и красный горбатый нос. Но при чем тут Томас?
— А Касси Томас ты знаешь? — продолжала Дови.
Нэнни видела Касси Томас один раз, когда та сидела в фургоне Шестипалого Джимми. Касси была примерно того же возраста, что и Нэнни. Копна рыжих волос и наглые зеленые глаза. Она тогда еще показала Нэнни язык.
— Ну, так вот, — Дови глубоко вздохнула, — слушай же: на самом деле ты Касси Томас, а она — Нэнни Блайт.
Нэнни непонимающе смотрела на Дови. В ее словах не было никакого смысла.
— Как… как это?
— Очень просто, — ответил Дови со снисходительной улыбкой. Раз уж Нэнни хочет узнать так называемый секрет, то надо ее как следует ошарашить. — Вы с Касси родились в одну ночь. Томасы тогда жили в Глене. Акушерка отнесла Касси в Инглсайд, а тебя — к Гомасам и положила им в колыбель. Она и Ди отнесла бы, но не посмела. Она ненавидела твою мать и решила таким образом расквитаться с ней. Так что на самом деле ты — Касси Томас, и тебе следовало бы жить там, на мысу, а бедной Касси полагалось бы жить в Инглсайде, а не получать колотушки от своей мачехи. Мне ее очень жаль.
И Нэнни поверила этой дурацкой выдумке — от первого до последнего слова. Ей никогда в жизни не лгали, и ей даже в голову не пришло усомниться в достоверности истории, рассказанной подругой. Девочка не могла себе представить, чтобы кто-нибудь, тем более ее обожаемая Дови, стал бы такое выдумывать. Нэнни глядела на Дови страдающим взглядом.
— А как… как про это узнала тетя Кейт? — пересохшими губами спросила она.
— Акушерка призналась ей перед смертью. Наверное, ее мучили угрызения совести. Тетя Кейт никому, кроме меня, про это не говорила. А когда я приехала в Глен и увидела Касси Томас… то есть Нэн Блайт… то убедилась, что все это правда: у нее такие же глаза, как у твоей матери, и такие же рыжие волосы. А у тебя темные глаза и волосы. Вот поэтому ты и не похожа на Ди, а близнецы всегда похожи. И у Касси такие же уши, как у твоего отца — плотно прижатые к голове. Не знаю только, что теперь можно сделать. Но мне всегда казалось, что это несправедливо: ты как сыр в масле катаешься, а бедная Касси… то есть Нэн… ходит в лохмотьях и часто ложится спать голодная. А Шестипалый Джимми бьет ее, когда приходит домой пьяный. Ну, чего ты на меня вытаращилась?
У Нэнни душа разрывалась от горя. Теперь все ясно. Их знакомые всегда удивлялись, почему они с Ди не похожи. Так вот почему!
— Зачем ты мне это рассказала, Дови Джонсон? Та пожала плечами:
— Я же не говорила, что тебе этот секрет должен понравиться. Ты сама ко мне пристала. Куда ты?
Белая как мел, Нэнни, шатаясь, встала на ноги.
— Домой. Пойду скажу маме, — со слезами в голосе прошептала она.
— Не смей! Ты обещала никому не рассказывать — забыла, что ли?
Нэнни смотрела на Дови. Верно, она обещала не проболтаться. И мама всегда говорит, что обещания надо выполнять.
— Я, пожалуй, тоже пойду, — сказала Дови, которой не понравилось выражение лица Нэн.
Она схватила зонтик и убежала, мелькая полными голыми икрами. А несчастная девочка, маленький мирок которой превратился в руины, осталась стоять на пристани. Но Дови на это было наплевать. Эта Нэнни верит каждому слову. Ее даже обманывать неинтересно. Конечно, она все расскажет матери и узнает, что Дови ее провела.
«Хорошо, что в воскресенье я уезжаю домой», — подумала Дови.
А Нэнни долго-долго сидела на пристани, раздавленная отчаянием, ослепшая от горя. Она не мамина дочка! Она дочка Шестипалого Джимми… Шестипалого Джимми, которого она всегда в глубине души побаивалась за то, что у него шесть пальцев. Ей не место в Инглсайде, ее не должны любить мама и папа. Девочка жалобно застонала. Если папа с мамой узнают об этом, они перестанут ее любить. Они полюбят Касси Томас.
Нэнни обхватила голову руками.
— Как все ужасно, — проговорила она.
Глава двадцать восьмая
— Что это ты ничего не ешь, детка? — спросила ее за ужином Сьюзен.
— Может быть, на солнце перегрелась? — забеспокоилась мама. — У тебя не болит голова?
— Д-да, — проговорила Нэнни. Но болела у нее не голова. Вот она и соврала маме. И сколько еще придется врать? Теперь, узнав жуткую правду, она никогда в жизни не сможет проглотить ни кусочка. И с мамой поделиться нельзя. Не столько из-за клятвы — Сьюзен как-то сказала, что дурное обещание лучше нарушить, чем выполнить, — а потому, что мама расстроится. Каким-то образом Нэнни знала, что мама очень расстроится. А маму нельзя расстраивать… И папу тоже.
Но как быть с Касси Томас? Нэнни ни за что не станет называть ее Нэн Блайт. Ей просто невыносимо думать о Касси Томас как о Нэн Блайт. Тогда получается, что ее самой вроде как нет совсем. Если она не Нэн Блайт, то лучше уж быть никем. Она ни за что не будет Касси Томас!
Но мысли о Касси Томас преследовали Нэнни. Целую неделю она ни о чем другом не могла думать, и все это время Энн и Сьюзен никак не могли понять, что творится с девочкой. А та отказывалась есть, играть и, как говорила мисс Бейкер, «совсем скисла». Может, она скучает по Дови Джонсон, которая уехала домой? Нэнни сказала, что нет, не скучает по подруге, и вообще с ней все в порядке. Просто она устала. Отец осмотрел ее и прописал лекарство. Девочка покорно его принимала. Оно было не такое противное, как касторка, но теперь и касторка не имела значения. Ничто не имело значения, кроме Касси Томас… и страшного вопроса, который возник в смятенном уме Нэн и не покидал ее ни на одну минуту:
Должна она уступить Касси Томас свое место в Инглсайде или нет?
Разве это справедливо, что она, Нэн Блайт — Нэнни ни за что не хотела отказываться от своего имени, — пользуется всем тем, в чем отказано Касси и на что та имеет право? Нет, это несправедливо. Эта мысль повергала девочку в отчаяние. В ней было очень развито чувство справедливости. И она постепенно убедила себя, что должна обо всем рассказать Касси.
В конце концов, может быть, никто особенно и не расстроится. Конечно, поначалу мама с папой огорчатся, но когда они узнают, что Касси — их родной ребенок, они ее полюбят и забудут про Нэнни. Мама будет целовать Касси и петь ей на ночь песенки, которые любила Нэнни, особенно про кораблик, который плывет по морю и везет им подарки.
Нэн и Ди часто гадали, что будет, когда кораблик наконец приплывет. Но теперь все подарки, вернее доля Нэнни, достанутся Касси Томас. Касси Томас будет вместо нее исполнять роль королевы в школьном концерте и наденет ее корону. Как Нэнни мечтала об этом дне! Сьюзен будет печь пирожки для Касси Томас, а Пушинка будет мурлыкать у нее на коленях. Она будет играть в куклы Нэн в шалаше в кленовой роще и спать в ее постели. Понравится ли Диане, что теперь ее сестра — Касси?
Наконец пришел день, когда девочка решила, что больше не может терпеть. Она должна поступить по справедливости. Она пойдет к Томасам и расскажет им правду. А они уж пускай скажут маме и папе. Сама Нэнни этого сделать не в силах.
Приняв решение, девочка немного успокоилась, но страшно загрустила. И постаралась съесть ужин, потому что больше ей в этом доме ужинать, видно, не придется.
«Все равно я буду звать маму «мамой», — с отчаянием думала Нэнни. — А Шестипалого Джимми ни за что не стану звать «папой». Просто буду вежливо называть его «мистер Томас». Против этого он не должен возражать».
Она почувствовала, что давится едой. Подняв глаза, Девочка встретила взгляд Сьюзен, в котором прочитала: «касторка». Сьюзен и не подозревает, что вечером ее здесь уже не будет, а касторку ей придется давать Касси. Ну, хоть в этом Касси можно не завидовать.
Нэнни ушла после ужина. Она решила, что надо пойти до темноты, а то потом у нее не хватит храбрости. Она ушла в своем клетчатом каждодневном платье, не осмелившись переодеться во что-нибудь получше: вдруг Сьюзен или мама спросят, с чего это она нарядилась. И вообще все ее хорошенькие платьица теперь принадлежат Касси Томас. Но Нэнни все-таки надела новый фартук, который ей сшила Сьюзен — такой хорошенький фартучек с фестончиками из красной ленты. Девочке он очень нравился. Неужели Касси Томас пожалеет отдать ей один фартук?
Нэнни спустилась с холма, прошла через деревню и направилась по дороге, которая вела на мыс. Маленькая девочка, решительно шагавшая по дороге, и не подозревала, что она героиня. Наоборот, ее мучил стыд: ей так трудно сделать то, что правильно и справедливо, так трудно не ненавидеть Касси и не бояться Шестипалого Джимми, так хочется повернуться и побежать домой.
Небо хмурилось. Над бухтой висела огромная черная туча, в которой нет-нет вспыхивала молния. Рыбацкая деревня на мысу была освещена красными лучами солнца, вырывавшимися из-под этой тучи. Лужи рдели, как большие рубины. Белый парусник тихо плыл мимо окутанных туманом дюн, повинуясь зову далекого таинственного океана. В небе резко кричали чайки.
Нэнни не понравился запах рыбы и грязные дети, которые с криками носились по песчаному берегу. Когда она спросила, в каком доме живет Шестипалый Джимми, они с любопытством на нее уставились.
— Вон в том, — показал один мальчик. — А зачем он тебе?
— Спасибо, — сказала Нэнни и повернула к указанному дому.
— Не можешь ответить на вопрос, воображала? — крикнула ей вслед одна из девочек.
Мальчик, показазший ей дом, вдруг возник перед Нэнни.
— Видишь тот дом, позади дома Томасов? Так вот, у меня там сидит морской змей, и я тебя туда запру, если не скажешь, зачем тебе нужен Шестипалый Джимми.
— Ну, ты, воображала, отвечай Биллу! — крикнула та же девочка. — Все вы в Глене чересчур много о себе понимаете.
— А то смотри, — добавил другой мальчик, — я тут собираюсь топить котят, могу и тебя за компанию утопить.
Другая девочка сказала с ухмылкой:
— У тебя есть десятицентовик? Могу продать тебе зуб. Вчера выдернули.
— У меня нет десятицентовика, и мне не нужен твой зуб, — набравшись храбрости, ответила Нэнни. — Отвяжитесь от меня.
— Ну-ну, не хамить, — прорычал мальчик, который собирался топить котят.
Нэнни бросилась бежать. Мальчик, который держал морского змея, подставил ей ножку, и она упала на песок. Обидчики захохотали.
— Теперь поменьше будешь воображать! — крикнула девочка, предложившая ей купить зуб. — Подумаешь — напялила фартук с фестончиками!
Тут кто-то из детей крикнул:
— Вон причаливает Мрачный Джек! — и они все побежали к лодке.
Черная туча совсем скрыла солнце. Рубиновые лужи опять стали серыми.
Нэнни встала на ноги. Платье было в грязи, чулки тоже. Но ее мучители отстали. Неужели ей придется играть с ними?
«Только не плакать, — говорила себе Нэнни, — я не должна плакать!» Она поднялась по скрипучим дощатым ступенькам дома Томасов. Как и все дома в рыбацкой деревне, дом Томасов стоял на сваях — чтобы его не залил необычно высокий прилив, а под домом была свалена битая посуда, пустые консервные банки, старые ловушки для крабов и прочий хлам. Сквозь дверной проем Нэнни открылась кухня, подобной которой она еще никогда не видела. На голом полу грязь, потолок прокопчен и весь в пятнах, в раковине полно немытой посуды. На облезлом старом столе тарелки с остатками пищи, и над ними вьются огромные мухи. В кресле-качалке сидела женщина с нечесаными седоватыми волосами и кормила грудью грязного толстого младенца.
«Моя сестра!» — подумала девочка. Ни Касси, ни Шестипалого Джимми не видно. За это последнее обстоятельство Нэнни была благодарна судьбе.
— Кто ты и что тебе нужно? — спросила женщина недовольным тоном.
Она не пригласила девочку войти, но та все равно шагнула в кухню. Начинался дождь, и от удара грома весь дом вздрогнул. Нэнни знала, что должна скорей сказать то, за чем пришла, а иначе она бросится бежать из этого кошмарного дома, от этого кошмарного ребенка и от этих кошмарных мух.
— Пожалуйста, можно поговорить с Касси? Она дома? — проговорила Нэнни. — Мне нужно сказать ей что-то очень важное.
— В самом деле? — ухмыльнулась женщина. — У такой мелюзги важное дело? Касси нет дома. Она поехала с отцом в Верхний Глен, а скоро начнется гроза, и Бог знает, когда они вернутся. Садись.
Нэнни села на сломанный стул. Она знала, что рыбаки живут бедно, но не представляла, что бедность может быть такой безобразной. Миссис Фитч в Глене называли бедной, но ее дом был такой же чистый, как и Инглсайд. Разумеется, все знали, что Шестипалый Джимми пропивает все, что зарабатывает. И здесь ей предстоит жить!
«Я попробую его отчистить», — тоскливо подумала Нэнни. На сердце у нее стало невыносимо тяжело. Пламя благородного самопожертвования, погнавшее ее в дорогу, погасло.
— А зачем тебе Касси? — спросила жена Шестипалого, вытирая грязное лицо младенца еще более грязным фартуком. — Если ты пришла насчет концерта в воскресной школе, так она в нем участвовать не будет. Ей нечего надеть. Ну, скажи, где я возьму ей приличное платье?
— Нет, я не по поводу концерта, — уныло сказала Нэнни. А почему бы ей не рассказать всю эту историю миссис Томас? Все равно той придется узнать. — Я пришла сказать ей… сказать, что она — это я, а я — это она.
Миссис Томас, естественно, опешила.
— Ты что, спятила? — спросила она. — Как это понимать?
Нэнни подняла голову. Самое страшное было позади.
— Понимать надо так: мы с Касси родились в одну ночь… и акушерка нас поменяла, потому что у нее был зуб на маму… и… и Касси должна жить в Инглсайде… перед ней откроются возможности…
Последнюю фразу она заимствовала у своей учительницы в воскресной школе и считала, что, по крайней мере, красиво закончила свою бессвязную речь.
Миссис Томас смотрела на нее, вытаращив глаза.
— Кто из нас сошел с ума — ты или я? Что ты несешь? Кто тебе такое наговорил?
— Дови Джонсон.
Миссис Томас запрокинула голову и расхохоталась. Хоть она и была оборванной и грязной, смех у нее был очень звонкий.
— Тогда все ясно. Прошлым летом я стирала у ее тетки и поняла, что это за штучка. Ее хлебом не корми, дай кому-нибудь заморочить голову. Так вот, моя милая, как там тебя звать, не верь ты всей этой брехне. Дови тебе еще не то наплетет.
— Это неправда? — ахнула Нэнни.
— Ну, конечно, это вранье. Какая же ты глупенькая, что поверила такой небылице! Во-первых, Касси, наверное, на год старше тебя. И вообще, кто ты?
— Я Нэн Блайт.
Какое счастье! Она и в самом деле Нэнни Блайт!
— Нэн Блайт? Одна из близнецов? Да я отлично помню ту ночь, когда вы родились. Я как раз зашла в Инглсайд по делу. Я тогда еще не была замужем за Шестипалым — лучше бы мне за него вообще не выходить! — а мать Касси была еще жива и здорова. Касси как раз начинала ходить. А ты похожа на свою бабушку по отцу… она в тот день была в Инглсайде и Бог знает как радовалась, что у нее родились внучки-близнецы. Ну, как ты могла поверить такой басне?
— Я привыкла верить людям, — с достоинством ответила Нэнни, поднимаясь со стула. Она ощущала такой прилив счастья, что ей не хотелось очень уж обижать миссис Томас.
— Ну, в этом мире от такой привычки лучше побыстрей отвыкнуть, — цинично посоветовала миссис Томас. — И не советую дружить с девчонками, которые обожают морочить людям голову. Садись, садись. Подожди, пока кончится гроза. Не пойдешь же ты домой в такой ливень. И темно, ни зги не видно. Ой, смотри — убежала!
Но девочка уже скрылась за стеной дождя. Конечно, она никогда бы не посмела броситься домой в такую грозу, если бы не была охвачена неизбывным восторгом. Ее хлестал ветер, она мгновенно вымокла до нитки, ей казалось, что от ударов грома небо трескается пополам. Только бесконечные вспышки молний освещали ей дорогу. Она то и дело поскальзывалась и падала. И наконец вся мокрая и облепленная грязью влетела в прихожую Инглсайда.
Навстречу ей выбежала Энн и схватила ее в объятия.
— Девочка, как же ты нас напугала! Где ты была?
— Будем надеяться, что Джим и Уолтер не схватят простуду, разыскивая тебя под дождем, — резко сказала Сьюзен, на лице которой все еще были видны следы волнения.
— Мамочка, я — это действительно я. Я вовсе не Касси Томас, и я всегда буду сама собой.
— Бедняжка бредит, — заявила Сьюзен. — Наверное, отравилась чем-нибудь.
Энн выкупала Нэнни, уложила ее в постель и только после этого согласилась ее выслушать. И тогда дочь все ей рассказала.
— Мамочка, я и в самом деле твоя дочка?
— Ну, конечно, милая. Как ты могла поверить, что это не так?
— Мне просто в голову не пришло, что Дови может мне наврать. Мама, кому же тогда верить? Дженни Пент наговорила всякого Диане…
— Дорогая, пока что тебе встретились только две девочки, которые говорят неправду. Остальные твои подруги никогда ведь тебе не лгали. Конечно, на свете есть такие люди — не только дети, но и взрослые. Вот подрастешь и научишься отличать золото от мишуры.
— Мамочка, мне не хочется, чтобы Джим, Уолтер и Ди знали, какая я глупая.
— Они и не узнают. Ди вообще уехала с папой в Лоубридж, а мальчикам скажем только, что ты далеко зашла по дороге и попала в грозу. Конечно, с твоей стороны было глупо поверить Дови, но ты показала себя благородной и храброй девочкой, когда пошла к бедной Касси Томас, чтобы предложить ей то, что, как ты считала, принадлежит ей по праву. Мама тобой очень гордится.
Гроза кончилась. С неба на счастливый умытый мир смотрела луна.
«Какое счастье, что я — это я!» — подумала Нэнни и уснула.
Вечером Джильберт и Энн пришли посмотреть на спящих дочек. Диана спала, крепко сжав губы, а Нэнни улыбалась во сне. Джильберт уже узнал про басню, которую сочинила Дови Джонсон, и так сильно на нее рассердился, что той бы не поздоровилось, если бы их не разделяли добрых тридцать миль. А Энн мучила совесть.
— Мне надо было хорошенько расспросить Нэнни. Я же видела, что с ней что-то творится, но была слишком занята другими делами, которые ничего не значили по сравнению со страданиями моей девочки. Подумай, как мучилась бедняжка!
И Энн наклонилась над кроваткой, полная одновременно и раскаянием, и радостью.
— Хотела бы я знать, что их ждет в жизни, — прошептала она.
— Ну, надеюсь, обе сумеют отхватить себе такого же замечательного мужа, как и их мать, — поддразнил ее Джильберт.
Глава двадцать девятая
— Что я слышу — Общество собирается в Инглсайде перемывать косточки, то бишь стегать одеяла для миссий, — сказал Джильберт. — Ну, Сьюзен, доставай свой лучший сервиз да запаси побольше мыла.
Мисс Бейкер вяло улыбнулась: где уж мужчине понять такие важные вещи! Но вообще-то ей было не до улыбок: у нее было еще далеко не все готово к приему дам из Общества.
— Горячий пирог с курицей, — бормотала она про себя, — картофельное пюре и зеленый горошек. И постелем новую кружевную скатерть. Такой в Глене не видывали. Вот рты разинут! Представляю, как позеленеет Аннабелла Клоу! А цветы вы поставите в синюю с серебром вазу, миссис доктор, голубушка?
— Да, анютины глазки с папоротниками из кленовой рощи. И принеси свою роскошную герань в гостиную, Сью, а если день будет теплый, на веранду. Как хорошо, что у нас еще так много цветов! Этим летом сад цвел как никогда. Впрочем, кажется, я это говорю каждую осень, да, Сью?
Дел предстояла уйма. Надо было решить, как рассадить дам. Миссис Миллисон ни в коем случае не должна оказаться рядом с миссис Маккрири: они уже много лет не разговаривают — с тех пор, как поссорились еще в школе. Хозяйка дома имела право пригласить кроме членов Общества несколько своих знакомых.
— Я хочу позвать миссис Бест и миссис Кемпбелл, — предупредила Энн.
На лице Сьюзен отразилось сомнение.
— Они ведь приезжие, миссис доктор, голубушка, — заметила она таким тоном, точно хотела сказать: «они ведь крокодилы».
— Мы с доктором тоже когда-то были приезжими, Сью.
— Да, но дядя доктора жил здесь с незапамятных времен. А про этих Бестов и Кемпбеллов никто ничего не знает. Впрочем, это ваш дом, миссис доктор, голубушка, и не мне вам указывать, кого приглашать, а кого нет. Только я помню, как много лет тому назад миссис Флэгг пригласила на такое собрание никому не знакомую женщину. Так та пришла в платье из
фланели— решила, что для простежки одеял нечего особенно выряжаться! Миссис Кемпбелл, по крайней мере, такой ошибки не сделает. Она всегда хорошо одевается… хотя я никогда бы не заявилась в церковь в платье цвета морской волны.
Энн попробовала представить себе Сьюзен в таком платье и едва сумела сдержать улыбку.
— А я подумала, что этот цвет очень подходит к ее седым волосам, Сьюзен. Кстати, она просила меня узнать у тебя рецепт соуса из крыжовника со специями. Говорит, что вкуснее соуса в жизни не пробовала.
— Что ж, миссис доктор, голубушка, этот соус мало кто умеет готовить.
И больше вопрос о платье цвета морской волны не поднимался. После такого комплимента миссис Кемпбелл могла бы заявиться в наряде туземца с островов Фиджи — мисс Бейкер и тут нашла бы ей оправдание.
Лето давно кончилось, но осень его еще не забыла, и в день собрания было по-июньски тепло, хотя уже стоял октябрь. Собрались почти все члены Общества, не хотевшие упустить возможность услышать все свежайшие сплетни и заодно вкусно поужинать. Кроме того, они надеялись, что жена доктора, которая недавно ездила в Шарлоттаун, появится в чем-нибудь сверхмодном.
Не сломленная кулинарными заботами, Сьюзен спокойно встречала гостей и провожала их в гостиную, твердо зная, что ни у одной из них нет фартука, отделанного кружевом в пять дюймов шириной. Неделей раньше мисс Бейкер получила за свои кружева первый приз на сельскохозяйственной выставке в Шарлоттауне и вернулась домой, распираемая гордостью.
Лицо Сьюзен было невозмутимо, но в мыслях она позволяла себе некоторое злопыхательство:
«Селия Риз, как всегда, ищет, над чем бы понасмехаться. Не найдешь и не надейся. Мира Мюррей вырядилась в платье из красного бархата… слишком роскошно, на мой взгляд, для простежки одеял. Но, ничего не скажешь, оно ей идет. По крайней мере, это не фланель. А у Агаты Друк очки, как всегда, висят на веревочке… Для Сары Тейлор это, может быть, последнее такое собрание: доктор говорит, что у нее очень больное сердце, но она не хочет этого признавать. Слава Богу, что миссис Дональд не привела с собой свою Мэри — но все равно она нам ею все уши прожужжит. Гляди-ка — Джейн Бэрр из Верхнего Глена. Она даже не член Общества. Придется после ужина пересчитать ложки. У них все в семье нечисты на руку. Кендес Крофорд… эта не больно-то часто появляется на собраниях, но, видно, решила похвалиться новым кольцом с бриллиантом. А у Эммы Поллок, как всегда, из-под платья выглядывает нижняя юбка. Хорошенькая женщина, но легкомысленная, как и вся ее родня. А ты, Тилли Макалистер, смотри не опрокинь на скатерть желе, как в прошлый раз у миссис Палмер. Марта Кротерс хоть раз в жизни хорошо поест. Жаль, что не привела мужа… слышала, что ему приходится сидеть на диете из орехов или чего-то в этом роде. Миссис Бакстер… говорят, что ее муж отвадил поклонника Мины, Гарольда Риза. Гарольд всегда был трусоват, а робкому никогда не завоевать сердце женщины. Ну что ж, народу набралось достаточно на два одеяла, а остальные будут вдевать нитки в иголки…»
Одеяла разложили на столах на просторной веранде, и разом заработали руки — и языки. Энн и Сьюзен готовили ужин, а Уолтер, который в этот день не пошел в школу, потому что у него болело горло, сидел на ступенях веранды, скрытый от дам завесой из дикого винограда. Он любил слушать разговоры взрослых. Они говорили такие удивительные, непонятные вещи, основываясь на которых можно было сочинить увлекательные истории про разные кланы бухты Четырех Ветров.
Из всех присутствующих дам Уолтеру больше всех нравилась миссис Мира Мюррей. Она так заразительно смеется, и у нее такие славные морщинки в уголках глаз. Самое простое событие в ее изложении кажется ужасно интересным. Стоило только появиться этой женщине, и жизнь сразу становилась веселее. Какие у нее красивые черные волосы и сережки, похожие на красные капельки, и как ей идет платье из вишневого бархата! Меньше всех Уолтеру нравилась тощая как палка миссис Чабб — может быть, потому, что она однажды в его присутствии назвала его «болезненным мальчиком». Миссис Милгрейв, подумал Уолтер, похожа на толстую серую курицу, а миссис Клоу — на бочку с ногами. А как хороша молодая миссис Рейсом с волосами медового цвета… «чересчур хороша для жены фермера», сказала Сьюзен, когда Дэйв на ней женился. Эдит Бейли, портниха, у которой одеваются все дамы Глена, совсем не похожа на старую деву: у нее такие красивые седоватые букли и веселые черные глаза. Уолтеру нравилась и миссис Мид, которая была старше всех в этой компании. У нее ласковые добрые глаза, и она больше слушает, чем говорит. Но Селия Риз, с лица которой не сходила усмешка, словно она потешалась над всеми и вся, ему вовсе не пришлась по сердцу.
Дамы еще не пустили языки в ход по-настоящему… они обсуждали погоду и каким рисунком простегивать одеяла — ромбами или веерами. А Уолтер тем временем думал, что весь мир словно бы покоится в золотых объятиях великого и доброго Существа. Желто-красные листья тихо падали на землю, но величественные мальвы все еще цвели у кирпичной стены, а тополя возле сарая еще пестрели листвой. Уолтер до того отрешился от всего, упиваясь окружавшей его красотой, что пришел в себя, только услышав слова миссис Миллисон:
— Ну, у них что ни похороны, то сенсация. Вспомните хотя бы похороны Питера Керка!
Уолтер навострил уши. Это что-то интересное. Но, к его сожалению, миссис Миллисон не стала описывать в подробностях, что там произошло. Видимо, все были на этих похоронах или слышали о них.
(Только почему им всем как будто стало неловко?)
— Разумеется, Клара Уилсон сказала про Питера чистую правду, но беднягу уже предали земле, и давайте не будем тревожить его прах, — заявила миссис Чабб с таким видом, словно кто-то предложил выкопать его из могилы.
— Моя Мэри вечно говорит такие смешные вещи, — поведала миссис Дональд. — Знаете, что она у меня спросила, когда мы собирались на похороны Маргарет Холлистер: «Мама, а мороженое на похоронах дают?»
Две-три дамы обменялись насмешливыми взглядами, но большинство просто сделали вид, что не слышали слов миссис Дональд. Ничего другого и не оставалось делать, когда она начинала к месту и не к месту цитировать свою дочку. Если проявить к ее высказываниям хоть малейший интерес, рассказать о Мэри не будет конца. Фраза: «Знаете, что сказала моя Мэри?» — у всех в Глене навязла на зубах.
— Кстати о похоронах, — вступила в разговор Селия Риз. — Когда я была еще девочкой, у нас в Моубрей Нерроуз имели место очень странные похороны. Стентон Лейн уехал в Виннипег, и потом оттуда пришло известие, что он умер. Родственники послали телеграмму, чтобы тело отправили домой, и вскоре прибыл гроб. Макалистер из похоронного бюро посоветовал не открывать его. И вот, только в церкви началось отпевание, как открылась дверь и вошел не кто иной, как Стентон Лейн собственной персоной, живой и здоровехонький. Мы так и не узнали, кто же лежал в гробу.
— А что сделали с гробом? — спросила Агата Друк.
— Закопали в землю, конечно. Макалистер сказал, что дело надо довести до конца. Но похоронами это по сути дела назвать было нельзя — так все радовались возвращению Стентона. Мистер Доусон даже поменял последний псалом. Вместо «Утешьтесь, христиане!» мы спели «Возрадуйтесь свету!». Хотя многие считали, что он это сделал напрасно.
— А знаете, что вчера спросила у меня моя Мэри? «Мама, а пасторы все-все знают?»
— Мистер Доусон в критические минуты всегда терял голову, — продолжала Джейн Бэрр, словно не слыша слов миссис Дональд. — В то время он служил пастором в Верхнем Глене и как-то раз распустил прихожан, забыв собрать пожертвования. И что, вы думаете, он сделал? Схватил блюдо для пожертвований, выскочил вслед за нами в церковный двор и стал всех обходить с этим блюдом. Знаете, в тот день он получил деньги даже с тех, кто не жертвовал ни гроша ни до этого случая, ни после. Как-то было неудобно отказывать самому пастору. Но все-таки это было недостойно его сана.
— Что меня раздражало в мистере Доусоне, — сказала миссис Корнелия, — так это то, что он невыносимо затягивал отпевание — все читал и читал молитвы. Доходило до того, что некоторые начинали завидовать покойнику. А на похоронах Летти Грант он превзошел сам себя. Я гляжу — ее мать вот-вот упадет в обморок от изнеможения. Тогда я толкнула его локтем и сказала, что пора заканчивать.
— Он отпевал моего бедного Джервиса, — со слезами прошептала миссис Карр. Она всегда плакала, вспоминая мужа, хотя со времени его смерти прошло уже двадцать лет.
— Да, а вот с похоронами Стентона Лейна вышла промашка, — вспомнила Эмма Поллок, — но все же это лучше, чем когда люди приезжают на похороны, а хоронить некого. Помните, как получилось у Кромвеллов?
Все засмеялись.
— Расскажите, пожалуйста, — попросила миссис Кемпбелл. — Я здесь человек новый, миссис Поллок, и не знаю фамильных саг.
Эмма не знала, что значит слова «сага», но рассказывать она любила.
— У Абнера Кромвелла была большая ферма неподалеку от Лоубриджа. Он был членом парламента провинции, важной шишкой у тори и знал всех мало-мальски влиятельных лиц на острове. Мать его жены Джулии Флэгг была из Ризов, а бабушка принадлежала к семейству Клоу, так что чуть ли не каждая семья в бухте Четырех Ветров была в родстве с Кромвеллами. И вот однажды выходит наша газета «Дейли энтерпрайз», а в ней объявление, что мистер Абнер Кромвелл скоропостижно скончался в Лоубридже и что похороны состоятся завтра в два часа дня. Каким-то образом Кромвеллы не заметили этого объявления… а телефонов у нас тогда не было. На следующий день Абнер уехал в Кингспорт на конференцию. И вот в два часа начали съезжаться гости на похороны. Многие приехали пораньше, чтобы занять в церкви места получше. На похоронах такого человека, как Абнер, наверняка соберется много народу, рассуждали они. Толпа таки собралась. Коляски ехали одна за другой по всем дорогам, а местные подходили пешком аж до трех часов. Миссис Кромвелл чуть с ума не сошла, пытаясь их убедить, что ее муж вовсе не умер. Некоторые ей просто не верили — чуть ли не подозревали, что она куда-то спрятала труп, — а когда наконец поверили, то страшно обиделись, словно Абнер сыграл над ними злую шутку. Затоптали ей все клумбы в садике, которыми она так гордилась. Кроме того, среди прибывших были родственники из отдаленных мест, которые предполагали, что их накормят и оставят на ночь, а у нее нечего было им предложить. Джулия, по правде говоря, была не слишком-то хлебосольной. Когда Абнер через два дня вернулся домой, то застал жену в постели в нервной горячке, и она оправилась от нее только через несколько месяцев. Шесть недель ничего не ела… ну почти что ничего. Передавали, будто она сказала, что не расстроилась бы так, если бы на самом деле похоронила Абнера. Но я не верю, что она такое сказала.
— Кто знает, может, и сказала, — вмешалась миссис Маккрири. — Чего только люди не говорят, особенно когда расстроены. Тут-то правда и выскакивает наружу. Кларисса, сестра Джулии, как всегда, пела в церковном хоре через неделю после похорон мужа.
— Ну, Клариссу ничем нельзя было пронять, даже похоронами мужа, — сказала Агата Друк. — Все-то, бывало, поет да танцует.
— Я тоже раньше пела и танцевала на берегу, где меня никто не мог увидеть, — призналась Мира Мюррей.
— Ну, с тех пор ты поумнела, — изрекла Агата.
— Нет, поглупела, — возразила Мира. — Что умного в том, чтобы никогда не танцевать на берегу?
— Так вот, — продолжала Эмма, которая хотела непременно досказать свою историю до конца, — сначала Кромвеллы решили, что объявление в газете было чьей-то глупой шуткой… потому что за несколько дней до этого Абнер проиграл на выборах. Но оказалось, что в нем речь шла о мистере Амасе Кромвелле, который жил в глуши с другой стороны Лоубриджа и который даже не был им родственником. Вот он-то на самом деле и умер. Но многие до самой смерти Абнера не простили ему разочарования, которое они пережили.
— Что ж, их тоже можно понять, — высказалась миссис Чабб. — Ехать в разгар сева в такую даль и узнать, что приехали зря.
— Да, на похороны все любят ездить, — согласилась миссис Дональд. — Мы все в какой-то степени дети. Я взяла Мэри на похороны ее дяди Гордона, и ей там очень понравилось. И знаете, что она сказала: «Мама, а нельзя его выкопать и устроить еще одни похороны?»
Это заявление Мэри все-таки рассмешило слушательниц… всех, кроме миссис Бакстер, которая поджала тонкие губы и изо всей силы ткнула иголкой в одеяло. Она считала, что в мире не осталось ничего святого. Люди надо всем потешаются. Но она, жена церковного старосты, не собирается смеяться над такой серьезной вещью, как похороны.
— Кстати, об Абнере, — сказала миссис Милгрейв. — Помните, какой некролог его брат Джон напечатал в газете на смерть своей жены? Он начинался так: «Господь, по причинам, известным лишь Ему Самому, счел нужным забрать на небо мою красивую жену, а жену моего кузена Уильяма, известную уродину, оставил жить дальше».
— Кто же такое напечатал? — спросила миссис Бест.
— А он тогда был редактором «Энтерпрайза». И он обожал свою жену… в девичестве Берту Моррис… и ненавидел жену кузена, потому что она долго препятствовала его женитьбе на Берте, считая, что у той ветер в голове.
— Но она была очень красивая, — вставила миссис Керк.
— Удивительно красивая, — согласилась миссис Милгрейв. — У Моррисов в семье все девушки были хороши собой. Но жутко ветреные. Все удивлялись, что она все-таки вышла замуж за Джона. Говорят, это ее мать не дала ей передумать. Берта вообще-то была влюблена в Фреда Риза, но тот был пустой парень — вечно менял девушек. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — сказала Берте мать.
— Всю жизнь слышу эту поговорку, — произнесла Мира Мюррей, — но не знаю, соответствует ли она истине. Синица лучше себя чувствует, когда она не в руках, а на дереве. Там она поет.
На это никто не нашелся, что ответить, но на всякий случай миссис Чабб воскликнула:
— Такие тебе в голову приходят фантазии, Мира, просто диву даешься.
— А знаете, что на днях сказала моя Мэри? — снова вмешалась миссис Дональд. «Мама, — говорит, — а что будет, если меня никто не возьмет замуж?»
— На это можем ответить мы, старые девы, — Селия Риз толкнула локтем Эдит Бейли. Селия не любила Эдит, потому что та была все еще довольно миловидна и не совсем потеряла надежду найти мужа.
— А Гертруда Кромвелл и вправду была уродиной, — улыбнулась миссис Клоу. — Фигура у нее была, как доска. Но хозяйка была отличная. Занавески на окнах стирала каждый месяц, а Берта дай Бог раз в году. И жалюзи у нее всегда висели косо. Гертруда говорила, что ей делалось нехорошо, когда она проезжала мимо дома Джона Кромвелла. И все-таки он боготворил свою жену, а Уильям только что терпел Гертруду. Странные все же они, мужчины. Говорят, Уильям в день своей свадьбы проспал и одевался в такой спешке, что явился в церковь в старых ботинках и разных носках.
— А Оливер Рэндом еще почище номер отколол, — хихикнула миссис Карр. — Он забыл заказать на свадьбу новый костюм, а его старый выходной костюм уже ни на что не был похож. Представляете — на локтях заплаты! Так он взял костюм у брата, а тот ему был в плечах узок, в рукавах короток.
— Но, по крайней мере, Уильям и Гертруда все-таки поженились, — сказала миссис Саймон. — А ее сестра Каролина так и не вышла замуж. Они с Ронни Дью поссорились из-за того, какого пастора следует пригласить их венчать. Ронни до того разозлился, что, не дав себе остыть, женился на Эдне Стоун. Каролина присутствовала на венчании. Голову она держала высоко, но была бледна как смерть.
— Ну, по крайней мере помалкивала, — вздохнула Сара Тейлор. — Не то что Филиппа Эбби. Когда Джим Моубрей ее бросил, она отправилась на его свадьбу и то и дело перебивала пастора во время церемонии. Чего она только не наговорила на Джима! Впрочем, они все англиканцы, — заключила Сара, словно это объясняло любое чудачество.
— А правда, что она потом пошла на свадебный ужин, надев на себя все побрякушки, которые ей подарил Джим, пока они были обручены? — спросила Селия Риз.
— Ничего подобного! Откуда только берутся такие сплетни? Некоторым, видно, делать нечего, кроме как повторять разные нелепости. Кстати, Джим Моубрей, наверное, потом пожалел, что не женился на Филиппе. Жена держала его под каблуком… Зато стоило ей уехать, он тут же пускался в загул.
— А я Джима Моубрея видела только раз в жизни, — сказала Кристина Крофорд, — в тот день, когда майские жуки чуть не сорвали службу в Лоубридже. Вечер был очень теплый, окна в церкви открыли, и налетела масса майских жуков. На следующее утро на хорах собрали восемьдесят семь мертвых жуков. Некоторые женщины взвизгивали, когда жук пролетал близко от лица. На другой стороне прохода от меня сидела молодая жена пастора… миссис Аоринг. На ней была гипюровая шляпа с широкими полями.
— Она всегда одевалась чересчур вызывающе для жены пастора, — вставила миссис Бакстер.
— И вот слышу, Джим Моубрей шепчет — он сидел позади миссис Лоринг: «Сейчас скину этого жука!» Наклонился вперед и прицелился в жука, который сидел на шляпе жены пастора. Но в жука не попал, а вместо этого сшиб у нее с головы шляпу. Шляпа покатилась по проходу, а Джима чуть удар не хватил. Пастор же, когда увидел, что к нему катится шляпа его жены, потерял место в проповеди и, не найдя его, закончил службу. Хор, отмахиваясь от жуков, спел последний псалом, и тогда Джим пошел и подобрал шляпу и принес ее миссис Лоринг. Он думал, что женщина будет сердиться, но она надела шляпу на свою красивую белокурую головку и со смехом сказала ему: «Если бы не вы, Питер продержал бы нас еще добрых двадцать минут, и мы бы с ума сошли от этих жуков». Конечно, было очень мило со стороны жены пастора не рассердиться, но некоторые считали, что ей не следовало так непочтительно отзываться о муже.
— А вы помните, как она родилась? — спросила Марта Кротерс.
— Нет. Как?
— В девичестве ее звали Бесси Талбот, ее родители жили на западе острова. Так вот однажды ночью их дом загорелся, сбежались люди тушить пожар, и во всей этой суматохе мать и родила Бесси — в саду… под звездами.
— Как романтично, — восхитилась Мира Мюррей.
— Романтично? — воскликнула Марта. — А по-моему, это просто неприлично.
— Нет, вы только представьте: родиться под звездами, — мечтательно повторила Мира Мюррей. — Она и была яркой, как звезда… красивой… смелой… верной… и глаза у нее так и искрились весельем.
— Да, такая она и была, — подтвердила Марта, — не знаю только, при чем тут звезды. И ей нелегко жилось в Лоубридже, где считали, что жена пастора должна ходить по струнке. Однажды церковный староста увидел, как она танцует вокруг колыбели своего новорожденного сына, и сделал ей внушение: дескать, она не должна радоваться ребенку, не узнав, угоден ли он Богу.
— Кстати, о детях, — ввернула миссис Дональд. — Знаете, что у меня на днях спросила моя Мэри: «Мама, а у королев бывают дети?»
— Это, наверное, был Александр Уилсон, — игнорируя миссис Дональд, сказала миссис Аллан. — Другого такого брюзги свет не видывал. Говорят, он запрещал своим домашним разговаривать за столом. А уж смеяться в его доме вообще никто не смел.
— Подумать только — дом, в котором никто никогда не смеется… — проговорила Мира Мюррей. — Это просто… святотатство!
— А иногда на Александра находило, и он по три дня не разговаривал с женой, — продолжала миссис Аллан. — Тут-то она и отдыхала от него, — добавила она.
— Во всяком случае, Александр Уилсон был честным человеком и добрым семьянином, — натянуто произнесла миссис Клоу. Александр Уилсон приходился ей троюродным братом, и Уилсоны всегда горой стояли друг за друга. — Когда он умер, он оставил жене сорок тысяч долларов.
— Вот небось жалел, что не может взять их с собой, — фыркнула Селия Риз.
— А его брат Джефри и цента не оставил, — продолжала миссис Клоу. — Непутевый был парень — в кого только уродился? Зато смеялся сам и другим не запрещал. Тратил все, что зарабатывал, выпивал с приятелями по поводу и без повода… и умер нищим. Ну, и что хорошего он взял от жизни — хоть и денег пошвырял и посмеялся вволю?
— Может быть, немного, — сказала Мира, — зато много отдал. Он давал людям веселье, сочувствовал их бедам, был хорошим другом. А у Александра за всю жизнь не было ни одного друга.
— Однако друзья Джефри не стали его хоронить за свой счет, — отрезала миссис Аллан. — Хоронить пришлось Александру, и памятник он поставил брату отменный. Сто долларов стоил.
— Однако когда Джефри попросил у него взаймы те же сто долларов на операцию, которая, может быть, спасла бы ему жизнь, Александр отказал, — вставила Селия Друк.
— Давайте не будем всех осуждать, — возразила миссис Карр. — В конце концов наш мир не соткан из сплошных маргариток и незабудок. У всех есть недостатки.
— Лем Андерсон сегодня женится на Дороти Кларк, — предложила новую тему миссис Миллисон — сколько можно толковать о похоронах и прочих неприятностях! — А ведь всего год назад грозился застрелиться, если Джейн Эллиотт не выйдет за него замуж.
— Да, молодые люди нынче странно себя ведут, — отозвалась миссис Чабб. — Скрывали помолвку… мы о ней узнали только три недели тому назад. Я с его матерью разговаривала на прошлой неделе, и она даже словом не обмолвилась, что у них скоро свадьба. Не понимаю, зачем из этого устраивать тайну.
— А меня удивляет, что Дороти Кларк согласилась за него выйти, — сказала Агата Друк. — Прошлой весной у них все вроде было на мази с Фрэнком Клоу.
— Дороти при мне сказала, что Фрэнк — более завидный жених, но мысль, что ей каждое утро придется видеть, как из-под одеяла торчит его длинный нос, отбила у нее всякую охоту выходить за него замуж.
Миссис Бакстер неодобрительно поежилась и не присоединилась к смеющимся.
— Такого не следует говорить в присутствии девиц, — Селия кивнула на Эдит.
— А Ада Кларк помолвлена наконец? — спросила Эмма Поллок.
— Да нет, не совсем, — ответила миссис Миллисон. — Только надеется. Но она его поймает на крючок. Все ее сестры заполучили хороших мужей. Полина так вышла за владельца лучшей фермы на другом берегу бухты.
— Полина очень хорошенькая, но ума у нее в замужестве не прибавилось, — заметила миссис Милгрейв. — Видно, так и не поумнеет.
— Поумнеет, — сказала Мира Мюррей. — Вот появятся у нее дети и научат уму-разуму.
— А где Лем и Дороти собираются жить? — спросила миссис Мид.
— Лем купил ферму Кэрри в Верхнем Глене. Ту самую, где бедняжка миссис Кэрри убила своего мужа.
— Убила мужа?
— По правде говоря, он это заслужил, но все-таки все считали, что она зашла слишком далеко. Положила гербицид ему в чай… или в суп, что ли? Все про это знали, но ей ничего за это не было. Селия, дай мне, пожалуйста, катушку.
— То есть, как, миссис Миллисон, ее не судили… и никак не наказали? — изумленно проговорила миссис Кемпбелл.
— Нет, до этого дело не дошло. У Кэрри полно родственников в Верхнем Глене. И потом, Роджер же сам ее до этого довел. Конечно, никто не одобряет убийство, но, если кто и заслуживал того, чтобы его убили, так это Роджер Кэрри. А миссис Кэрри уехала в Штаты и там опять вышла замуж. Но это было давно, она уже умерла. Ее второй муж ее пережил. Все это случилось, когда я была совсем молоденькой девушкой. У нас говорили, что в доме видели призрак Роджера.
— Неужели в наш просвещенный век кто-то еще верит в привидения? — вопросила миссис Бакстер.
— А почему бы нам не верить в привидения? — воскликнула Тилли Макалистер. — Это же очень интересно! Я знаю человека, у которого в доме было привидение. Оно все время над ним злорадно хохотало, а он очень злился. Дайте, пожалуйста, ножницы, миссис Макдугал.
Молодая женщина, еще не привыкшая к тому, что ее называют миссис Макдугал, не поняла, что обращаются к ней, и просьбу пришлось повторить дважды. Тогда она, вспыхнув, протянула ножницы.
— В старом доме Трувэксов много лет водились привидения, — сообщила Кристина Марш. — По ночам там слышались разные таинственные стуки и скрипы.
— У всех Трувэксов было плохое пищеварение, — отрезала миссис Бакстер.
— Конечно, тем, кто не верит в привидения, они не являются, — обиделась миссис Макалистер. — А вот моя сестра служила в одном доме в Новой Шотландии, где по ночам кто-то все время хихикал.
— Какое веселое привидение, — сказала Мира. — Я бы от такого не отказалась.
— Совы небось на чердаке поселились, — упорствовала миссис Бакстер.
— А моя мать, когда умирала, видела ангелов, — объявила Агата Друк.
— Ангелы — не призраки, — ответила миссис Бакстер.
— Кстати, о матерях, как себя чувствует твой дядя Паркер, Тилли? — спросила миссис Чабб.
— Иногда ему очень плохо. Не знаю, чем это кончится. Мы не знаем, что себе шить на зиму. Но я на днях сказала сестре: «Надо заказать черные платья. Тогда мы будем готовы, как бы дело ни обернулось».
— А знаете, что позавчера сказала моя Мэри? «Мама, — говорит, — я больше не буду просить Бога, чтобы у меня сделались кудрявые волосы. Я Его вот уже неделю прошу каждый вечер, а Он и не думает выполнять мою просьбу».
— Я Его уже двадцать лет кое о чем прошу, — с горечью произнесла миссис Дункан, которая до этого не вымолвила ни слова и не поднимала глаз от одеяла. Она слыла мастерицей стежки — может быть, потому, что никогда не участвовала в разговоре и сосредоточенно работала иголкой.
На секунду все замолчали, догадавшись, о чем именно просит Бога миссис Дункан. Но это не была подходящая для обсуждения тема. Больше миссис Дункан не сказала ни слова.
— А это правда, что Мей Флэгг и Билли Картер поссорились и он теперь встречается с девушкой из деревни по ту сторону бухты? — выждав приличное время, осведомилась Марта Кротерс.
— Да, но никто не знает почему.
— Жаль, что иногда пары распадаются из-за чистых пустяков, — вздохнула Кендес Крофорд. — Возьмите хоть Дика Пратта и Лилиан Макалистер. Он начал было на пикнике делать ей предложение, и вдруг у него из носа пошла кровь. Он отправился к ручью помыть лицо и там встретил незнакомую девушку, которая одолжила ему носовой платок. Он в нее влюбился, и через две недели они поженились.
— А вы слышали, что случилось в субботу вечером с Большим Джимом Макалистером в магазине Милта Купера? — спросила миссис Саймон, решив, что пора рассказать что-нибудь веселое, а не толковать о привидениях и молодых парочках. — У него за лето возникла привычка садиться там на чугунную печку. Но в субботу вечер был холодный, и Милт ее затопил. И когда бедняга Джим на нее сел, он обжег свою…
Миссис Саймон не решилась вслух сказать, что именно обжег Большой Джим, но выразительно похлопала по соответствующей части собственного тела.
— Свою попку, — подсказал Уолтер, просовывая голову между плетями дикого винограда. Он искренне думал, что миссис Саймон забыла слово.
Все в ужасе замолчали. Неужели Уолтер Блайт сидел там все это время? И стали спешно припоминать рассказанные истории — не слишком ли они были откровенны для юных ушей? Миссис Блайт, говорят, строго оберегает детей от неподходящих разговоров. Но прежде чем к дамам вернулся дар речи, из дома вышла Энн и пригласила их ужинать.
— Еще десять минут, и мы закончим оба одеяла, миссис Блайт, — сказала Элизабет Керк.
Одеяла действительно вскоре были закончены, подняты для всеобщего обозрения и получили самые лестные оценки.
— Интересно, кто под ними будет спать, — задумчиво произнесла Мира Мюррей.
— Может быть, под одним мать будет обнимать своего первенца, — предположила Энн.
— Или дети укроются им в холодную ночь в прерии, — подхватила миссис Корнелия.
— А может, оно согреет какого-нибудь бедного старика, страдающего от ревматизма, — сказала миссис Мид.
— Надеюсь только, что под ними никто не умрет, — заметила миссис Бакстер.
— А знаете, что заявила моя Мэри, когда я собиралась сюда? «Мама, не забудь, что ты должна съесть все, что тебе положат на тарелку», — сообщила миссис Дональд, когда они пошли ужинать.
Затем все расселись за столом и принялись пить и есть во славу Господа Бога: они сделали благое дело, и в общем-то не были злыми женщинами, хоть и любили посплетничать.
После ужина все разошлись по домам.
— Не забыть бы описать маме сервиз и цветы, — сказала Джейн Бэрр миссис Миллисон, не зная, что мисс Бейкер пересчитывает ложки. — Она уже никуда не может ходить сама, но любит, когда я ей рассказываю, что видела. Ей будет интересно узнать, как выглядел стол.
— Да, прямо как на картинке в журнале, — со вздохом согласилась миссис Миллисон. — Приготовить ужин я могу не хуже любого другого, но с таким вкусом сервировать стол не умею. А Уолтера я бы самого отшлепала по
попке,чтобы в другой раз не подслушивал. Как он меня напугал!
— Ну как, черной краски на всех хватило? — тем временем спрашивал жену Джильберт.
— Я над одеялами не работала, так что сплетен не слышала, — ответила Энн.
— Вы никогда их и не услышите, милая, — заявила миссис Корнелия, которая задержалась, чтобы помочь Сьюзен свернуть и упаковать одеяла. — В вашем присутствии у них связаны языки. Они считают, что вы не любите пересудов.
— Ну, смотря про что, — сказала Энн.
— Вообще-то сегодня никто ничего особенно ужасного не сказал. Все больше говорили о тех, кто уже умер или должен был бы умереть, — миссис Корнелия улыбнулась, вспомнив историю о неудавшихся похоронах Абнера Кромвелла. — Только миссис Миллисон опять притянула за уши эту старую историю о том, как Мадж Кэрри убила своего мужа. Я прекрасно помню, как все было. Никаких доказательств вины Мадж не было и в помине… не считая того, что кошка, которая поела этого супа, издохла. Но кошка до того болела целую неделю. По-моему, Роджер Кэрри умер от аппендицита, хотя в то время никто не знал про аппендикс.
— Лучше бы и дальше про него не знать, — вздохнула Сьюзен. — Все ложки на месте, миссис доктор, голубушка, и скатерть тоже не испачкана.
— Ну, ладно, пора мне домой, — сказала миссис Корнелия. — На следующей неделе, когда Маршалл зарежет поросенка, я вам пришлю отбивных.
А Уолтер сидел на крыльце и глядел в темный сад, дав волю воображению. Опускались сумерки. Откуда они берутся? Может, какой-нибудь дух с крыльями, как у летучей мыши, поливает сумерками мир из большого кувшина чернил?
— Детка, — позвала сына Энн, выходя на крыльцо, — пора в дом. Уже холодно. Не забудь, что у тебя еще не совсем прошло горло.
— Мама, а ты мне расскажешь, что случилось на похоронах Питера Керка?
Энн подумала минуту, передернула плечами и ответила:
— Нет, милый, сейчас не расскажу. Может быть, как-нибудь в другой раз.
Глава тридцатая
Миссис Блайт была одна у себя в комнате. Джильберта опять вызвали к больному. Энн села у окна пообщаться несколько минут с теплой ночью, насладиться волшебным очарованием освещенной луной комнаты.
Она немного устала от хлопот, а сейчас наступила такая славная тишина… дети заснули, дом прибран. Из окна доносились ночные звуки, которые Энн так хорошо знала и любила. В гавани слышался тихий смех. В Глене кто-то пел, и мелодия была неуловимо знакома, как песня, услышанная много лет тому назад. На водной глади лежала серебряная лунная дорожка. Деревья вокруг Инглсайда таинственно перешептывались между собой. В Долине Радуги ухала сова.
«Какое это было счастливое лето», — думала Энн… и у нее вдруг кольнуло в сердце: она вспомнила слова, которые как-то произнесла тетя Китти из Верхнего Глена: «Лето прошло, и оно уже никогда не повторится».
Да, это лето уже никогда не повторится. Наступит другое, но ее дети станут немного взрослее… Рилла пойдет в школу… «и у меня больше не будет в доме малышки», — грустно подумала Энн. Джиму двенадцать лет, и уже идет разговор о «вступительных экзаменах». Давно ли он был младенцем в беленьком домике? Уолтер очень вырос; утром Нэн дразнила Ди по поводу какого-то «мальчика» в школе, а Ди покраснела и тряхнула головой. Что ж, такова жизнь. Радость и боль… надежда и страх… и беспрерывные перемены. Надо без сожаления расставаться со старым и с радостью принимать новое, научиться его любить, а потом расстаться и с ним. Как ни прекрасна весна, она должна уступить дорогу лету, а лето — осени. Рождения… свадьбы… смерти…
Энн вдруг вспомнила, как Уолтер попросил рассказать ему про то, что случилось на похоронах Питера Керка. Она не могла забыть это происшествие. Никто, кто был там, конечно, не забыл и никогда не забудет. И сейчас, сидя в сумерках у окна, Энн вспомнила те похороны.
Это было в ноябре — вскоре после того, как они переехали в Инглсайд… Всю неделю перед похоронами стояло чудное бабье лето. Керки жили в Моубрей Нерроуз, но ходили в церковь в Глене, и Джильберт был их доктором. Так что Блайтов пригласили на похороны.
День был теплый, тихий, перламутрово-серый. Природа надела коричнево-лиловые одежды ноября. Там, где солнце прорывалось сквозь облака, на холмах и на равнине пестрели пятна солнечного света. Дом Керков стоял близко от берега, и хотя его отгораживал от моря еловый лесок, сквозь него прорывался соленый морской ветер. Дом был большой, зажиточный, но Энн всегда казалось, что с торца он напоминал узкое, злобное лицо.
Энн остановилась поговорить со стоявшими в ожидании женщинами. Все они были трудяги, для которых похороны представляли собой немалое развлечение.
— Я забыла взять носовой платок, — сказала миссис Блейк. — Чем же я буду вытирать слезы?
— А с чего это тебе плакать? — спросила ее золовка Камилла Блейк. Она не любила женщин, готовых пустить слезу по любом поводу. — Питер Керк тебе не родственник, и ты никогда его не любила.
— Я считаю, что на похоронах полагается плакать, — сказала миссис Блейк. — Этим мы выражаем уважение к ближнему, которого призвал Господь.
— Если на похоронах Питера будут плакать только те, которые его любили, боюсь, что слез мы вообще не увидим, — сухо заметила миссис Родд. — Чего уж скрывать — ханжа он был и лицемер, и все мы это отлично знаем. Ой, кто это пришел? Неужели Клара Уилсон?
— Она, — прошептала миссис Брайан, как бы не веря собственным глазам.
— Да-а. После смерти первой жены Питера она сказала ему, что ее ноги больше не будет в его доме и что она придет только на его похороны — и вот сдержала слово, — шепнула Камилла Блейк. — Первый раз он был женат на ее сестре, — объяснила она Энн, которая с любопытством взглянула на Клару Уилсон. Та прошла мимо них, устремив горящий взор вперед. Это была худенькая женщина с трагическим лицом, на котором резко выделялись черные брови. На волосах цвета воронова крыла у нее сидела смешная шляпка с перьями и короткой вуалью, которые еще носили пожилые женщины. Клара ни на кого не посмотрела и ни с кем не заговорила. Шурша черной юбкой из тафты, она поднялась по ступеням на веранду.
— Вон Джед Клинтон вышел — уже скорчил свою похоронную мину, — саркастически сказала Камилла. — Видно, пора заходить. Он вечно хвастается, что на похоронах, которые организует он, все идет как по нотам. Никак не может простить Винни Клоу за то, что она упала в обморок
передпроповедью. Ну, на этих похоронах никто в обморок не упадет. Оливия не из тех, что падают в обморок.
— А почему они обратились к похоронных дел мастеру из Лоубриджа, а не из Глена? — спросила миссис Дональд.
— К кому? Картеру Флэггу? Да что вы, милая, они с Питером всю жизнь на ножах были. Картер ведь хотел жениться на Эми Уилсон.
— Она многим нравилась, — вздохнула Камилла. — Такая была красивая девушка: волосы цвета меди и черные глаза. Но Клара была еще красивее ее. Странно, что она не вышла замуж. А вот наконец и пастор… и с ним преподобный мистер Оуэн из Лоубриджа. Ну, конечно, он же кузен Оливии. Неплохой пастор, только слишком уж много «О!» вставляет в свои проповеди. Пошли, что ли, а то Джед на стенку полезет.
Энн задержалась на секунду возле гроба. Ей никогда не нравился Питер Керк. «У него жестокое лицо», — сказала она, увидев его в первый раз. Довольно красивое, но с холодным стальным блеском в глазах, под которыми уже тогда образовались мешки, и тонкими, крепко сжатыми губами скупца. Он слыл заносчивым эгоистом, даром что изображал из себя елейно-набожного человека. «Никогда не забывает, какая он важная птица», — говорили о нем. Но в целом Питер пользовался уважением соседей.
Керк и в смерти выглядел таким же заносчивым, как в жизни, а его сложенные на груди руки с длинными пальцами вызвали у Энн неприятное ощущение. Она представила себе зажатое этими пальцами женское сердце и бросила взгляд на Оливию Керк, сидевшую рядом с гробом. Это была высокая красивая женщина с большими голубыми глазами. «Зачем мне дурнушки?» — как-то сказал Питер Керк. Ее лицо было бесстрастно, на нем не было следов слез. Но, может, это потому, что Оливия из рода Рэндомов, а те известны своей сдержанностью. Во всяком случае, она была в трауре и держалась, как подобает скорбящей вдове.
В комнате стоял тяжелый запах от множества цветов, окружавших гроб Питера Керка, который при жизни вообще не подозревал о существовании цветов. Венки прислали прихожане его церкви, Ассоциация консерваторов, попечительский совет школы, цех сыроделов. Его единственный сын, с которым он уже много лет был в ссоре, не прислал ничего, но клан Керков сложился на огромный венок из белых роз, на котором красными бутонами была сделана надпись «Мир праху твоему». Был венок и от Оливии — из белых лилий. При взгляде на него лицо Камиллы передернулось, и Энн вспомнила ее рассказ, как вскоре после второй женитьбы Керка она приехала к нему на ферму и Питер при ней выбросил в окно горшок с лилией, которая принадлежала Оливии. При этом он крикнул, что не потерпит в доме всякой дряни.
Оливия, кажется, восприняла этот инцидент спокойно, и больше в доме лилий не появлялось. Неужели этот венок?.. Энн посмотрела на спокойное лицо миссис Керк и решила, что ее подозрение необоснованно. В общем-то цветы обычно выбирает человек, ответственный за оформление похорон.
Хор запел «Смерть, как узкий пролив, отделяет наш мир от небесного». Энн поймала взгляд Камиллы и поняла, что обе они думают об одном: придется ли Питер Керк ко двору в мире небесном? Энн, казалось, слышала насмешливые слова Камиллы:
— Попробуйте представить себе Питера Керка с нимбом вокруг головы и арфой в руках!
Преподобный мистер Оуэн прочитал главу из Библии, а потом молитву, перемежая свои слова многочисленными «О!» и взывая к скорбящим сердцам. Затем пастор из Глена вознес покойнику хвалу, которая многим показалась чрезмерной, хотя, конечно, на похоронах об усопшем полагается говорить хорошее. Но назвать Питера Керка чадолюбивым отцом и нежным мужем, добрым соседом и ревностным христианином — это уже чересчур! Камилла закрыла лицо носовым платком, чтобы скрыть усмешку, а Стивен Макдональд раза два кашлянул. Миссис Брайан, видно, все-таки одолжила у кого-то носовой платок и вытирала им слезы, но опущенные вниз голубые глаза Оливии оставались сухими.
Джед Клинтон вздохнул с облегчением: все прошло как нельзя лучше. Еще один псалом… прощание с покойным… и к длинному списку удачных похорон можно будет добавить еще одни.
И тут в углу комнаты кто-то зашевелился. Клара Уилсон пробиралась между стульями к столу, на котором стоял гроб. Дойдя до него, она обернулась к собравшимся. Ее смехотворная шляпка немного сползла набок, из-под нее выбилась прядь черных волос и упала ей на плечо. Но никому не показалось, что у Клары Уилсон глупый вид. На бледном лице горел лихорадочный румянец, трагические глаза пылали гневным огнем. Она казалась одержимой. Все ее существо было исполнено горечи, иссушившей ее, как неизлечимая болезнь.
— То, что вы сейчас слышали, — это сплошная ложь. Не знаю, зачем вы сюда пришли — «отдать последнюю дань» или удовлетворить любопытство, — но это не важно. Сейчас я вам расскажу правду про Питера Керка.
Ялицемерить не буду… я не боялась его, когда он был жив, и я не боюсь его мертвого. Никто ни разу не осмелился сказать ему в лицо то, что о нем на самом деле думают, но сейчас он это услышит… на своих похоронах, где его назвали нежным мужем и добрым соседом. Это он-то был нежным мужем! Он женился на моей сестре Эми… моей красотке Эми. Вы все знаете, какое это было доброе, прелестное существо. Он отравил ей жизнь, он издевался над ней… ему просто нравилось ее унижать. Да, он ходил в церковь… подолгу читал молитвы… и платил долги. Но это был жестокий человек — даже пес Питера убегал, заслышав его шаги. Я сказала Эми, что она пожалеет, если выйдет за него замуж. Я помогла ей сшить подвенечное платье… лучше бы я сшила ей саван. Бедняжка была в него безумно влюблена, но уже через неделю после свадьбы поняла, что он за человек. Его мать повиновалась ему, как рабыня, и того же он ожидал и от жены. «В моем доме со мной не спорят», — сказал он ей. У нее не хватало духу с ним спорить… он разбил ее сердце. Я знаю, чего она от него натерпелась, моя голубка. Он запрещал ей все. Запрещал сажать цветы в саду, запрещал даже завести котенка… Однажды я принесла ей котенка, так он его утопил. От требовал от
нееотчета за каждый истраченный цент. Вы когда-нибудь видели Эми в красивом платье? Он ругал ее за то, что она надела шляпку получше, если ему казалось, что будет дождь. Как будто дождь мог испортить те шляпки, что у нее были! А сестра так любила хорошо одеваться! Он вечно насмехался над родными Эми. И он за всю жизнь ни разу не засмеялся… кто-нибудь из вас слышал, чтобы он смеялся? Да, он улыбался… он все время улыбался, этакой ласковой улыбочкой — и поступал самым бессовестным образом. Когда она родила мертвого ребенка, он с улыбкой сказал ей, что если она кроме дохлых щенков неспособна никого произвести на свет, то лучше ей было бы умереть вместе с ним. После десяти лет такой жизни она умерла… и я была рада, что она вырвалась из-под его власти. Я тогда сказала Питеру, что больше не переступлю порог его дома, а приду только на его похороны. Некоторые из вас слышали, как я это говорила. Так вот, я выполнила свое обещание и пришла рассказать вам, что это был на самом деле за человек. Это все правда… и вы это знаете, — Клара яростно ткнула пальцем в сторону Стивена Макдональда, — и вы знаете, — палец указал на Камиллу Блейк, — и вы, — Оливия и бровью не повела, — и вы! — Бедный пастор вздрогнул, точно его пронзили кинжалом. — Я плакала на свадьбе Питера Керка, но я сказала ему, что буду смеяться на его похоронах. Сейчас я это сделаю!
Клара резко обернулась и склонилась над гробом. Она отомстила за все зло, что он причинил ей. Она излила наконец свою ненависть. Глядя в холодное лицо покойника, она трепетала от удовлетворения и торжества. Все ждали, что сейчас она злорадно захохочет. Но этого не произошло. Гневное лицо Клары вдруг дрогнуло, сморщилось, как у ребенка… и Клара Уилсон заплакала.
Она повернулась к выходу. По ее увядшим щекам струились слезы. И тут Оливия Керк встала и взяла ее за руку. Какое-то мгновение женщины смотрели друг другу в глаза.
В комнате стояла такая тишина, словно кто-то невидимый приложил палец ко рту.
— Спасибо, Клара Уилсон, — сказала Оливия Керк. Ее лицо было по-прежнему бесстрастно, но в спокойном ровном голосе было что-то, от чего у Энн по спине пробежал холодок. Ей показалось, что перед ней открылась бездонная пропасть. Клара Уилсон, несомненно, ненавидела Питера Керка и живого и мертвого, но Энн поняла, что ее ненависть бледнела по сравнению с тем, что к нему испытывала Оливия Керк.
Клара вышла из дома, заливаясь слезами, а взбешенному Джеду пришлось как-то доводить до конца безнадежно испорченные похороны. Пастор, который собирался объявить последний псалом «Прими его, Христос!», вместо этого произнес прощальное благословение.
Джед не предложил, согласно обычаю, родственникам и друзьям попрощаться с усопшим. Он понимал, что после произошедшего оставалось только накрыть гроб крышкой и побыстрей закопать его в землю.
Энн спустилась по ступеням веранды и вздохнула полной грудью. Какая чудесная свежесть по сравнению с той душной комнатой, где излили свою горечь две несчастные женщины.
Набежали тучи, и стало холодно. Во дворе стояли группы людей, вполголоса обсуждая происшедшее. Им еще было видно Клару Уилсон, которая шла через пастбище к себе домой.
— Нет, каково? — ошеломленно сказал Нельсон Крейг.
— Ужасно… ужасно, — отозвался церковный староста Бакстер.
— Почему никто ее не остановил? — спросил Генри Риз.
— Потому что вам всем хотелось услышать, что она скажет, — отрезала Камилла.
— Это было нарушением… благопристойности, — сказал Сэнди Макдугал. Найдя подходящее слово, он с удовольствием его повторил: «Благопристойности. Похороны должны быть во что бы то ни стало благопристойными… благопристойными…»
— Господи, чего только не бывает в жизни, — , вздохнул Огастус Палмер.
— Я помню, как Питер начал ухаживать за Эми, — как бы подумал вслух старый Джеймс Портер. — Я тогда тоже ухаживал за своей будущей женой. А Клара была красоткой. И какой вишневый пирог пекла!
— Но на язык она всегда была резка, — сказал Бойс Уоррен. — Когда я увидел, что она пришла на похороны, я подумал: не к добру это. Но чтобы она выкинула такое, мне и не снилось… А какова Оливия? Вот уж о ком не подумаешь! Чудные они все-таки, женщины.
— Об этих похоронах мы теперь до конца своей жизни будем помнить, — заметила Камилла. — В конце концов, если бы время от времени не случалось что-нибудь в этом роде, история была бы очень скучным предметом.
Вконец деморализованный Джед собрал своих носильщиков, гроб вынесли из дома и поставили на катафалк. Когда он медленно выехал на дорогу в сопровождении траурной процессии, в сарае горестно завыла собака. Может быть, все-таки одно живое существо оплакивает Питера Керка? К Энн, дожидавшейся Джильберта, подошел Стивен Макдональд. Это был высокий человек с головой римского императора. Энн всегда симпатизировала ему.
— Снег, наверное, пойдет, — предположил он, нюхая воздух. — Ноябрь, по-моему, очень грустный месяц, правда, миссис Блайт?
— Да. Природа грустит об ушедшей весне.
— Да… весне. Я старею, миссис Блайт, и мне начинает казаться, что времена года изменились к худшему. Зима стала не такая, как раньше… и лето я не узнаю, а весну и подавно. Сейчас у нас вообще не бывает весны. По крайней мере так кажется, когда осознаешь, что с нами нет тех, с кем мы радовались весне. Бедная Клара Уилсон. Что вы обо всем этом думаете?
— У меня сердце разрывалось от жалости. Такая ненависть…
— Да-а… Видите ли, она сама была влюблена в Питера Керка… без памяти влюблена. Клара была самой красивой девушкой в Моубрей Нерроуз… черные кудри, молочно-белое лицо… но Эми была такая веселая, смешливая. И Питер бросил Клару и стал ухаживать за Эми. Странно мы все-таки устроены, миссис Блайт.
Ветер зашумел в елях, росших за фермой. Вдали, над холмом, где в серое небо вонзались пирамидальные тополя, пошел густой снег. Все заторопились домой, пока туча еще не достигла Моубрей Нерроуз.
«Какое право я имею быть такой счастливой, когда другие женщины так несчастны?» — спросила себя Энн по дороге домой, вспоминая глаза Оливии Керк, благодарившей Клару Уилсон…
Энн встала со своего места у окна. С тех лет прошло почти двенадцать лет. Клара Уилсон умерла, а Оливия Керк уехала на материк, где вторично вышла замуж. Она была много моложе Питера.
«Время добрее, чем мы думаем, — подумала Энн. — Нельзя столько лет держать в душе ненависть. Однако вряд ли я когда-нибудь расскажу эту историю Уолтеру. Она совсем не для детских ушей».
Глава тридцать первая
Рилла сидела на крыльце веранды, закинув одну ногу на другую — такие прелестные полненькие загорелые ножки! — и изнывала от горя. И если читатель спросит, какое может быть горе у девочки, которую все обожают и нещадно балуют, то пусть он вспомнит собственное детство и собственные страдания по ничтожному, как представлялось взрослым, поводу. Рилла впала в отчаяние по той причине, что Сьюзен собиралась печь «серебряно-золотой» торт для приютских детей, который ей, Рилле, надо будет отнести в церковь.
Не спрашивайте меня, почему Рилла считала, что лучше умереть, чем идти через весь Глен с тортом в руках. Детям в голову приходят самые странные идеи, и Рилла почему-то была убеждена, что показаться людям с тортом в руках постыдно и унизительно. Возможно, что эту идею заронила в головку пятилетней Риллы встреча с Тилли Корк, неопрятной старухой, которая жила на мысу. Тилли тогда несла по улице торт, а за ней бежали мальчишки и, издеваясь, пели:
Тилли Корк
Украла торт
И у нее сделался запор!
Рилле было страшно подумать, что ее поставят на одну доску с Тилли Корк. У девочки в голове прочно засела мысль, что «приличные люди» не ходят по улицам с тортами. Поэтому она и была в таком горе, и на ее милом личике отсутствовала всегдашняя радостная улыбка. Даже огромные карие глаза, которые зажмуривались, когда Рилла смеялась, были полны печали, вместо того чтобы, как обычно, излучать обаяние. Тетя Китти Макалистер однажды сказала, что не иначе как феи дотронулись до глаз малышки волшебной палочкой. А Джильберт говорил, что она родилась чаровницей и улыбнулась доктору Паркеру через полчаса после рождения. Рилла пока что говорила глазами лучше, чем языком, потому что сильно картавила. Но родители были уверены, что это пройдет. Она очень быстро росла. В прошлом году она была ростом с розовый кустик, в этом году — уже с флоксы, а вскоре, наверное, дорастет до георгинов, и придет пора ей идти в школу. Жизнь протекала радостно и беззаботно — и вдруг это ужасное поручение Сьюзен! «Ну, разве это справедливо?» — взывала Рилла к небу. У нее, правда, получалось «Лазве это сплаведливо?», но голубое ласковое небо, видимо, ее понимало.
Мама с папой уехали утром в Шарлоттаун, все остальные дети были в школе, и Рилла с Сьюзен остались в Инглсайде вдвоем. В другое время Рилла этому очень обрадовалась бы. Ей никогда не бывало скучно одной; она с удовольствием сидела бы здесь на крылечке, или в своем заповедном мшистом уголке в Долине Радуги, вообразив себе в друзья волшебного котенка, а то и двух, и придумывая сказки обо всем, что попадалось ей на глаза: об анютиных глазках, которые похожи на веселый рой бабочек… об одиноком пушистом облаке… о больших шмелях, гудящих над настурциями… о жимолости, оранжевые ягоды которой касались ее волос… о поднявшемся ветерке — а куда он, интересно, дует? Робин, который опять вернулся на лето домой, вышагивал с важным видом по перилам веранды и не мог понять, почему Рилла с ним не играет. А девочка не могла думать ни о чем кроме того, что ей придется нести через всю деревню —
торт!— предназначенный для приютских детей. Она смутно сознавала, что приют находится в Лоубридже и что в нем живут сироты — дети, у которых нет ни папы, ни мамы. Ей было их очень жаль. Но даже во имя самого сиротского сироты Рилла Блайт не желала показаться в деревне с
тортом в руках.
Может, пойдет дождь и Сьюзен ее не пошлет? Но небо было ясное. Рилла сжала на груди руки, подняла глаза к небу и взмолилась:
— Позалуйста, дологой Бозенька, сделай так, стоб посел доздь как из ведла… или… — Рилле пришел в голову другой способ избавиться от торта — или стоб толт у Сьюзен сголел дотла.
Увы, когда пришло время обедать, на столе у Сьюзен красовался покрытый глазурью «серебряно-золотой» торт. Рилла обожала этот торт, но теперь ей казалось, что она никогда в жизни не возьмет в рот ни кусочка.
Но не гром ли там гремит? Может быть, Боженька услышал ее молитву, может, он еще устроит землетрясение? Или сказать, что у нее болит живот? Нет, содрогнулась Рилла, тогда Сьюзен заставит ее пить касторку. Лучше уж землетрясение.
За обедом остальные дети и не заметили, что Рилла притихла на своем любимом стульчике, на спинке которого была вышита задорно разинувшая клюв утка. Извелги! Если бы мама была дома, она бы заметила. Мама ведь сразу заметила, как огорчилась Рилла, увидев папину фотографию в газете. Рилла тогда горько плакала в кровати, потому что думала, что в газетах публикуют фотографии одних убийц. Мама тут же все исправила. А маме понравилось бы, что ее дочь несет через Глен торт, как старуха Тилли Корк?
Рилле кусок не лез в горло, хотя Сьюзен подала ей ее любимую голубую тарелочку с розами, которую тетя Рэйчел Линд прислала ей на день рождения. Сьюзен обычно ставила ее на стол только по воскресеньям. Подумаешь, тарелочка! Когда она будет опозорена на всю деревню! Но яблоки в тесте, которые Сьюзен подала на десерт, были довольно-таки вкусные.
— Сьюзен, а Нэн с Ди не могут отнести толт после сколы? — умоляюще спросила Рилла.
— Ди пойдет после школы к Джесси Риз, а у Нэн кость в ноге, — беззаботно ответила Сьюзен, полагая, что малышка шутит. — И потом, тогда уже будет поздно. Комитет просил принести все пироги и торты к трем часам, чтобы они успели их нарезать и разложить по тарелкам. Ну, почему ты не хочешь туда идти, Булочка? На почту ты же обожаешь ходить.
Рилла действительно была полненькая, но ненавидела, когда ее называли Булочкой.
— Мне это осколбительно, — надувшись, буркнула она.
Сьюзен рассмеялась. В семье теперь часто смеялись над высказываниями Риллы, а она не могла взять в толк, чего они смеются — ведь она говорит совершенно серьезно! Только мама никогда не смеялась: она даже не смеялась, когда Рилла решила, что ее папа убийца.
— Но это же делается для бедных сироток, у которых совсем нет родителей, — объясняла ей Сьюзен — будто она сама этого не знала!
— Я тозе почти сто силотка — у меня только один папа и одна мама, — ответила Рилла.
Мисс Бейкер опять засмеялась. Никто не хотел понять бедную Риллу.
— Ты же знаешь, что мама обещала комитету прислать торт, детка. Мне самой некогда туда идти, так что придется тебе. Надевай-ка свое голубенькое платьице и иди.
— У меня кукла заболела, — с отчаянием выпалила Рилла. — Мне нузно полозить ее в кловать и ухазивать за ней. Мозет, у нее нимония.
— Твоя кукла может подождать до твоего возвращения. Всего и дела-то на полчаса, — бессердечно ответила Сьюзен.
Надежды не было. Даже Бог не услышал ее молитв… дождем и не пахло. Едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться, Рилла пошла и надела свое новое платье и новую шляпку с ромашками. Может быть, если у нее будет приличный вид, никто не подумает, что она похожа на Тилли Корк?
Рилла боялась, что Сьюзен велит ей снять воскресный наряд, но Сьюзен вручила ей корзинку с тортом и только сказала, чтобы она вела себя хорошо и, ради Бога, не останавливалась побеседовать с каждой встречной кошкой.
Рилла скорчила страшную рожу Гогу и Магогу и ушла. Сьюзен ласково смотрела ей вслед.
«Подумать только, наша малышка уже так выросла, что ее можно послать одну в церковь», — подумала она с гордостью и печалью одновременно, а затем вернулась к своим делам, не подозревая, на какие муки обрекает ребенка, за которого с радостью отдала бы жизнь.
У Риллы только раз в жизни было так же плохо на душе — когда она заснула в церкви и свалилась со скамейки. Обычно она очень любила ходить в деревню: там было столько всего интересного. Но сегодня она даже не глянула на веревку, на которой миссис Флэгг развешала выстиранные ватные одеяла — все разного цвета и рисунка; и даже при виде чугунного оленя, стоявшего во дворе Огастуса Палмера, она не стала мечтать, чтобы завести такого же перед Инглсайдом. Ей было не до чугунных оленей. Залитая солнечным светом улица просто кишела народом. Мимо, перешептываясь, прошли две девочки. Рилле показалось, что они говорят о ней. Человек, ехавший в телеге, внимательно посмотрел на девочку. На самом-то деле он подумал: «Неужели это малышка Блайтов так выросла и какая же она красотка», — но Рилле казалось, что он вперился в ее корзинку и, конечно, догадался, что там лежит торт. А когда мимо на тележке проехала Анни Друк с отцом, Рилла решила, что смеется она, конечно, над ней. Анни было десять лет, и Рилла считала ее чуть ли не «взрослой девочкой».
На углу возле дома Расселов ей повстречалась целая ватага мальчишек и девчонок.
И надо пройти мимо них!Они все смотрят на нее! Рилла прошла мимо детей с таким гордым видом, что они решили осадить эту воображалу. Слишком много о себе понимает, как все эти Блайты! Подумаешь — они живут в большом доме! Ну, и что с того?
Милли Флэгг пошла вслед за Риллой, передразнивая ее походку и загребая ногами тучи пыли.
— Куда это идет корзина с девчонкой? — крикнула Слики Друк.
— У тебя лицо в варенье, грязнуля! — хихикнул Билл Палмер.
— Чего молчишь — язык проглотила? — спросила Сара Уоррен.
— Задавака! — прошипела Бини Бентли.
— Иди по своей стороне дороги, а то суну в рот майского жука. — Сэм Флэгг перестал на секунду грызть морковку.
— Смотрите, покраснела! — фыркнула Мейми Тейлор.
— Небось торт несешь в церковь? — спросил Чарли Уоррен. — У вашей Сьюзен все торты кислые.
Гордость не позволяла Рилле расплакаться, но сколько же можно терпеть? Сказать такое о торте, который испекла Сьюзен!
— Вот если кто из вас заболеет, я сказу папе вас не лецить, — отпарировала Рилла.
И вдруг она увидела, что на дороге показался Кеннет Форд. Не может быть! Точно он!
Надо же, чтобы так не повезло! Кен дружил с Уолтером, и Рилла в глубине души считала его самым красивым и добрым мальчиком на целом свете. Он редко обращал на нее внимание… но однажды дал ей шоколадную утку. А в один незабываемый день сел рядом с ней на поросший мхом камень в Долине Радуги и рассказал сказку про трех медведей. Но Рилла была согласна боготворить его издали. И теперь этот замечательный мальчик видит ее с
тортом в руках!
— Привет, Булочка! Жарко, правда? Надеюсь, мне достанется кусочек твоего торта?
Он знает, что у нее в корзинке торт! Все это знают!
Но Рилла уже прошла деревню и думала, что самое худшее позади. И тут-то и случилось самое худшее. Она увидела в переулке свою учительницу из воскресной школы мисс Эмми Паркер. Та была еще довольно далеко от дороги, но Рилла узнала ее по платью — светло-зеленому платью с гроздьями белых цветочков, похожих на цветы вишни. В прошлое воскресенье мисс Эмми пришла в нем в школу, и Рилла решила, что красивее платья она никогда не видела. Вообще-то мисс Эмми всегда носила красивые платья, с кружевами и фестончиками, а иногда даже шелковые.
Рилла обожала мисс Эмми. Она такая красивая! У нее белая кожа, карие глаза и грустная улыбка. Одна девочка сказала Рилле, что у мисс Эмми грустная улыбка, потому что у нее умер жених. Рилла так радовалась, что попала в класс к мисс Эмми, а не к мисс Флорри Флэгг.
Флорри Флэгг некрасива, а Рилла не хотела, чтобы у нее была некрасивая учительница.
Когда Рилле случалось повстречать мисс Эмми за пределами воскресной школы и та улыбалась ей и говорила ласковые слова, для девочки это был настоящий праздник. Даже если мисс Эмми только кивала ей на улице, у Риллы сердце пело от радости. А когда мисс Эмми пригласила весь класс к себе в гости и они там пускали мыльные пузыри, подкрашенные клубничным соком, Рилла была на седьмом небе от счастья.
Но чтобы мисс Эмми увидела ее с тортом в руках — нет, этого девочка не могла и не собиралась выносить! Кроме того, в следующем школьном концерте мисс Эмми собиралась поставить сценку, и Рилла втайне мечтала получить роль феи в красном платье и зеленой шапочке. Но если мисс Эмми увидит, что она
несет торт,о роли феи придется забыть.
Нет, мисс Эмми не узнает о ее позоре! Рилла как раз стояла на мостике через ручей, который в этом месте был довольно глубок. Она выхватила из корзинки торт и бросила его в ручей, там, где он был затенен нависшей над ним ольхой. Торт пролетел сквозь ветви ольхи, шлепнулся в воду и с бульканьем ушел на дно. Испытывая огромное облегчение и чувствуя, что спаслась от позора, Рилла повернула в переулок навстречу мисс Эмми, которая, как она теперь заметила, несла большой сверток, завернутый в коричневую бумагу.
Учительница улыбнулась ей из-под зеленой шляпки с оранжевым пером.
— Какая вы красивая, мисс Эмми, — проговорила охваченная восторгом Рилла. Мисс Эмми опять улыбнулась. Даже когда твое сердце разбито, — а мисс Эмми считала, что это так, — приятно все же услышать искренний комплимент.
— Это тебе, наверное, понравилась моя новая шляпка, милая? Очень красивое перышко, правда? А ты, наверное, относила в церковь торт? — спросила мисс Эмми, глянув на пустую корзинку Риллы. — Жалко, что нам не по пути — ты уже возвращаешься, а я только иду туда. Я тоже несу торт — огромный шоколадный торт.
Рилла глядела на нее жалобным взглядом, не в силах вымолвить ни слова. Мисс Эмми
несет торт!Значит, в этом нет ничего зазорного! А она… ой, что же она наделала! Бросила замечательный торт Сьюзен в ручей… Сейчас шла бы вместе с мисс Эмми до самой церкви. И обе несли бы по торту!
Мисс Эмми пошла своей дорогой, а Рилла вернулась домой со страшной тяжестью на сердце. Она пряталась от Сьюзен в Долине Радуги до самого ужина, во время которого опять никто не заметил, что она все время молчит. Рилла ужасно боялась, что Сьюзен спросит, в чьи руки она передала торт, но та ничего не спросила. После ужина все остальные дети пошли играть в Долину Радуги, а Рилла сидела одна на крылечке, пока не зашло солнце и в Глене не зажглись огни. Рилла всегда любила наблюдать, как в окнах домов один за другим вспыхивают огоньки, но сегодня ее ничто не интересовало. В таком горе она не пребывала еще ни разу в своей короткой жизни. Как же жить дальше? Из кухни доносился восхитительный запах булочек с кленовым сахаром — Сьюзен оставила выпечку на вечер, когда будет прохладнее, — но булочки, как и все остальное, утратили для Риллы всякую привлекательность. Она уныло пошла к себе в комнату и легла в постель под новое одеяло с розовыми цветочками, которым она когда-то так гордилась. Ей все время мерещился утопленный ею торт. Мама обещала дамам из комитета прислать торт… что они теперь о ней подумают? Это был бы самый красивый торт из всех! Как уныло свистит ветер! Это он ее укоряет: «Ду-у-урочка! Ду-у-урочка!»
— Ты почему не спишь, детка? — спросила Сьюзен, принеся ей свежую булочку.
— О, Сьюзен, я устала сама от себя.
Сьюзен посмотрела на нее с тревогой. За ужином у девочки тоже был усталый вид.
«И доктора, конечно, нет дома. У сапожников жены босы, а у докторов болеют дети», — подумала Сьюзен. А вслух сказала:
— Давай померяем температуру, детка.
— Нет, Сьюзен, не надо. У меня нет темпелатулы. Плосто… я сделала сто-то узасное. Сьюзен… это меня Сатана подговолил… Нет, нет, неплавда, я сама… Я блосила толт в луцей.
— Матушки! — ахнула Сьюзен. — Да с какой же стати ты это сделала?
— Что она сделала? — раздался голос мамы. Она вернулась! Мисс Бейкер с радостью ушла, предоставив миссис доктор разбираться в этой загадке. Рилла с рыданиями рассказала матери про свой поступок.
— Миленькая, но я не понимаю: почему ты решила, что отнести торт в церковь — это стыдно?
— Мама, я думала, сто я похоза на сталую Тилли Колк. Я тебя опозолила… Мамоцка… если ты меня плостись, я больсе никогда не буду… Я сказу дамам из комитета, сто ты посылала толт…
— Да ладно, родная, Бог с ними, с дамами. У них, наверное, и так тортов набралось больше, чем нужно.
Так всегда бывает. Никто и не заметит, что нет нашего. А мы никому не скажем. Но впредь запомни, Берта Марилла Блайт, что ни Сьюзен, ни мама никогда не стали бы заставлять тебя делать что-нибудь постыдное.
Как прекрасна жизнь! Папа пришел попрощаться с Риллой на ночь: «Спокойной ночи, котеночек!», а Сьюзен пришла ей сказать, что завтра на обед будет пирог с курицей.
— И много-много подливки, да, Сьюзен?
— Сколько влезет.
— А мозно мне на завтлак колицневое яицко, Сьюзен? Я его не заслузила, но…
— Да хоть два коричневых яичка, если хочешь. А теперь съешь булочку и спи, детка.
Рилла съела булочку, но прежде чем заснуть, вылезла из постели и встала на колени.
— Дологой Бозенька, позалуста, сделай, стоб я слусалась взлослых, сто они ни сказут. И посли свое благословение мисс Эмми и всем бедным силотам.
Глава тридцать вторая
— Можно, я буду твоей лучшей подругой? — спросила Диану на перемене Делила Грин. У Делилы были круглые синие глаза, темно-русые кудри, маленький розовый ротик и таинственный слегка вибрирующий голос. Этот голос сразу очаровал Диану.
В школе знали, что у Дианы Блайт нет близкой подруги. Два года она дружила с Полли Риз, но семья Полли уехала из Глена, и Диане стало очень одиноко. Полли была славная девочка. Правда, она не обладала мистическим очарованием уже почти забытой Дженни Пент. Зато она была веселая и
здравомыслящая— наивысшая похвала в устах мисс Бейкер, которую вполне устраивала такая подруга для Дианы.
Диана с сомнением посмотрела на Делилу, а потом бросила взгляд на Лауру Карр, которая тоже появилась у них в классе в новом учебном году. Диана с Лаурой проболтали всю первую перемену и расстались весьма довольные друг другом. Но у Лауры были веснушки на носу и вихрастые, песочного цвета волосы. Делила же отличалась красотой и некоей аурой загадочности.
Делила правильно истолковала взгляд Дианы. Ее лицо затуманилось, и глаза наполнились слезами.
— Если ты любишь ее, то меня, конечно, любить не сможешь. Тебе придется выбирать, — сказала Делила своим вибрирующим голосом, драматическим жестом вытягивая вперед руки. У Дианы даже холодок пробежал по спине. Она взяла руки Делилы, и они обменялись серьезным взглядом, навсегда закрепляющим их дружбу. Так, по крайней мере, думала Диана.
— Ты будешь любить меня всегда-всегда? — страстно спросила Делила.
— Всегда-всегда, — поклялась Диана.
Они обнялись и пошли к ручью. Четвертый класс понял, что создался новый союз. Лаура Карр тихонько вздохнула. Ей очень нравилась Диана Блайт, но она понимала, что не может соперничать с Делилой.
— Я так рада, что ты позволила мне себя любить, — говорила Делила Диане. — Мне нужно кого-то любить… Я легко привязываюсь к людям. Пожалуйста, Диана, не обижай меня. Я — дитя печали. На мне с детства лежит проклятие. Меня никто…
никтоне любит.
Делила сумела вложить в одно слово «никто» ощущение бесконечного одиночества и трепетной красоты. Диана крепче обняла ее за талию.
— Тебе больше никогда не придется так говорить, Делила. Я тебя всегда буду любить.
— До конца света?
— До конца света.
Они поцеловались, и ритуал был завершен. Двое мальчишек на заборе заулюлюкали, но кто обращает внимание на мальчишек?
— Вот увидишь, я понравлюсь тебе больше, чем Лаура Карр, — заверила ее Делила. — Теперь, когда мы стали подругами, я могу тебе сказать то, чего никогда бы не сказала, если бы ты выбрала ее. Она лжива. Притворяется твоей подругой, а у тебя за спиной смеется над тобой и говорит о тебе гадкие вещи. Я знаю девочку, которая была с ней в одном классе в Моубрей Нерроуз, и она мне все про нее рассказала. Ты вовремя от нее избавилась. А я совсем не такая. Я буду тебе верна, Диана.
— Я и не сомневаюсь. Но что ты имела в виду, когда сказала, что ты дитя печали?
Глаза Делилы стали огромными.
— Я живу с мачехой, — прошептала она.
— С мачехой?
— Когда у тебя умирает мама и отец женится снова, его новая жена называется мачехой, — еще более таинственным голосом поведала Делила. — Теперь ты все знаешь, Диана. Ты не представляешь, как она со мной обращается! Но я никогда не жалуюсь. Я страдаю молча.
Если Делила страдала молча, непонятно, откуда у Дианы взялось столько сведений о ее несчастьях, которые она в течение следующих недель изливала за столом в Инглсайде. Она страстно привязалась к несчастной, преследуемой Делиле и без конца рассказывала о ней всем, кто соглашался ее слушать.
— Надеюсь, эта новая привязанность постепенно войдет в рамки, — улыбнулась Энн. — Кто эта Делила, Сью? Я не хочу, чтобы дети росли снобами, но после того случая с Дженн?
— Грины — вполне достойные люди, миссис доктор, голубушка. Их хорошо знают в Лоубридже. В этом году они купили дом Хантера. Миссис Грин — вторая жена, и у нее двое своих детишек. Я плохо ее знаю, но, по-моему, характер у нее легкий и добрый. Что-то не верится, чтобы она так плохо обращалась с Делилой, как рассказывает Диана.
— Не принимай на веру все, что говорит Делила, — предупредила Энн дочку. — Она, наверное, преувеличивает. Вспомни Дженни.
— Но, мама, Делила совсем не похожа на Дженни, — негодующе воскликнула Диана. — Ну, нисколечко. Она никогда не говорит ни слова неправды. Если бы ты только на нее посмотрела, мама, ты бы убедилась, что она не способна солгать. Дома к ней придираются, потому что она непохожа на других. А она такая привязчивая. Но ее с рождения преследуют. Мачеха ее ненавидит. У меня сердце разрывается от жалости, когда она мне про нее рассказывает. Мама, ей даже есть досыта не дают! Она всегда голодная. Ее часто отправляют спать без ужина, и она засыпает в слезах. Ты когда-нибудь плакала от голода, мама?
— Часто, — ответила Энн. Диана с изумлением воззрилась на мать. Она не ожидала такого ответа.
— До того как я приехала в Грингейбл, я очень часто была голодной. В приюте… и до него. Я просто не люблю вам про это рассказывать.
— Ну, тогда ты должна понять Делилу, — сказала Диана, постепенно преодолевая свое изумление. — Когда она голодна, она сидит и представляет себе то, чего бы ей хотелось съесть. Ну, подумай — представлять еду!
— Вы с Нэн тоже это делаете, — возразила Энн, но Ди ее не слушала.
— Она страдает не только физически, но и духовно. Она хочет стать миссионершей, посвятить свою жизнь благому делу… а они смеются над ней.
— Бессердечные люди, — согласилась Энн. Но что-то в ее тоне вызвало у Ди подозрения.
— Ну, почему ты так против нее настроена, мама? — укоризненно спросила она.
— Я еще раз хочу напомнить тебе про Дженни Пент. Ты и ее каждому слову верила.
— Я тогда была ребенком, меня было легко обмануть, — с достоинством ответила Диана. Она чувствовала, что мама почему-то не хочет понять и пожалеть Делилу Грин, хотя она обычно полна симпатии к людям. После этого разговора Диана стала рассказывать про Делилу только Сьюзен, поскольку Нэн при упоминании имени Делилы насмешливо фыркала. «Ревнует», — грустно думала Диана.
Не то чтобы Сьюзен выказывала особое сочувствие, но надо же было Диане кому-то рассказывать о Делиле, а насмешки Сью были не так обидны, как мамины. От нее Диана и не ждала понимания. Но мама сама была девочкой… у мамы такое доброе сердце. Почему же плохое отношение мачехи к Делиле нисколько ее не трогает?
«Может быть, мама тоже немножко меня ревнует, за то что я так сильно люблю Делилу? — размышляла Диана. — Говорят, что с мамами это бывает. Считают, что ты их собственность и ничья больше».
— У меня просто кровь в жилах стынет, когда я слышу, как с ней обращается мачеха, — говорила Диана Сьюзен. — Эта девочка — страдалица! На завтрак и на ужин ей не дают ничего кроме овсянки… всего несколько ложек. И сахаром посыпать не позволяют. Я тоже перестала посыпать овсянку сахаром — мне просто стыдно, что нас так хорошо кормят, а ее…
— Ах, вот в чем дело. Ну, что ж, сахар подорожал на цент, так что, может, оно и к лучшему.
Диана чала себе клятву, что больше никогда не станет рассказывать Сьюзен про Делилу, но на следующий день пришла в такое негодование, что не удержалась.
— Сьюзен, мачеха Делилы гонялась за ней с кипящим чайником! Ты только подумай! Правда, Делила говорит, что такое бывает не очень часто… только когда она уж очень разозлится. Чаще она запирает Делилу на темном чердаке… где водятся привидения! Она их видела! Сьюзен, Делила же так с ума сойдет! Когда ее там заперли в прошлый раз, ей привиделось какое-то странное черное существо, которое сидело за прялкой и напевало!
— Какое существо? — серьезно спросила Сьюзен. Она уже начинала получать удовольствие от бедствий, обрушивающихся на Делилу, и от восклицаний Дианы, и они с Энн частенько смеялись над ними потихоньку от девочки.
— Не знаю… существо, и все. Она чуть не покончила с собой. Боюсь, что они ее до этого доведут. Знаешь, Сьюзен, у Делилы был дядя, который дважды покончил с собой.
— А что, одного раза не хватило? — бессердечно спросила Сьюзен. Ди обиделась и ушла, но на следующий день принесла новую скорбную историю:
— У Делилы никогда не было куклы, Сьюзен. На прошлое Рождество она так надеялась, что Санта-Клаус подарит ей куклу, и, что ты думаешь, она нашла у себя в чулке?
Розгу!Они секут ее почти каждый день. Ну, подумай, Сьюзен, разве можно так обращаться с девочкой?
— Меня тоже секли в детстве, и ничего со мной не сделалось, — сказала Сьюзен, которая задушила бы собственными руками любого, кто попытался бы высечь кого-нибудь из детей Блайтов.
— Когда я рассказала Делиле про нашу рождественскую елку, она заплакала. У них никогда не наряжают елку на Рождество. Но она говорит, что на этот год сама устроит себе елку. Она нашла старый зонтик без материи, но со спицами, и хочет его нарядить, как елку. Ну, разве это не раздирает тебе сердце, Сьюзен?
— А она что, не может сорвать маленькую елочку? Вон их сколько кругом растет. Позади дома Хантеров все заросло молодыми елками. Хоть бы у этой девочки было человеческое имя! Ну, что это за имя для христианки — Делила?
— Но оно же есть в Библии, Сьюзен. Делила очень гордится своим библейским именем. Я ей сказала на уроке, что у нас завтра на обед будет курица, и она попросила — как ты думаешь, что она попросила?
— Да где уж мне догадаться, — ответствовала Сьюзен. — А ты зачем на уроках разговариваешь?
— Нет, мы на уроках не разговариваем. Делила говорит, что нельзя делать того, что запрещено. Она вообще ведет себя идеально. Но мы пишем друг другу записки. Так вот, Делила написала мне: «Диана, принеси мне, пожалуйста, косточку». У меня прямо слезы на глазах выступили. Я обязательно отнесу ей косточку, только не косточку, а толстенькую ножку. Ей нужно хорошо питаться. Она работает с утра до ночи, как прислуга. Вся работа по дому лежит на ней… ну, почти вся. А если Делила не успевает ее сделать, ее трясут, как щенка, или заставляют есть на кухне со слугами.
— У Гринов только один работник — молодой французик.
— Ну, вот ей и приходится есть с ним. А он снимает за столом башмаки и пиджак. Но Делила говорит, что теперь ей все это легче переносить — у нее есть я, и я ее люблю. Кроме меня ее любить некому.
— Ужасно! — с серьезной миной кивнула мисс Бейкер.
— Делила говорит, что, если бы у нее был миллион долларов, она отдала бы его мне. Я бы, конечно, не взяла, но видишь, какая она щедрая?
— Миллион долларов подарить не труднее, чем сотню — если у тебя нет ни того ни другого.
Глава тридцать третья
Диана была в восторге. Оказывается, мама вовсе не ревнует ее к Делиле… не считает ее своей собственностью… мама все понимает.
Мама с папой уезжали на уик-энд в Эвонли, и мама сказала Диане, что та может пригласить Делилу в Инглсайд на субботу и воскресенье.
— Я видела Делилу на пикнике воскресной школы, — сказала Энн Сьюзен. — Она миленькая воспитанная девочка… хотя наверняка склонна к преувеличениям. Может, мачеха и впрямь с ней неласкова, а отец ее, говорят, тоже суровый человек. Так что у нее, возможно, и есть причины для недовольства, но она еще все приукрашивает, чтобы вызвать сочувствие Дианы.
Сьюзен отнеслась к этому скептически.
Во всяком случае, ребенок Гринов должен быть чистоплотным, утешила она себя. Вычесывать Диане волосы не придется.
Диана напридумывала тысячу способов развлечь Делилу.
— Сьюзен, может, приготовишь на обед фаршированную курицу… и испечешь пирог? Ты не представляешь, как бедная Делила мечтает о пироге. У них никогда не пекут пирогов — ее мачеха такая жадная…
Сьюзен проявила редкую покладистость. Джим и Нэн поехали с родителями в Эвонли, а Уолтер гостил у Кеннета Форда. Так что ничто не должно было омрачить пребывание Делилы в Инглсайде. И на самом деле все прошло очень хорошо. Делила пришла утром в субботу, на ней было хорошенькое розовое платье… по крайней мере, мачеха, видимо, не жалела денег на ее одежду. И Сьюзен сразу увидела, что у девочки чисто вымыты уши и так же чисто под ногтями.
— Это самый счастливый день в моей жизни, — сказала Делила Диане. — Какой у вас огромный дом! И какие замечательные фарфоровые собаки!
Все было замечательно. Делила не успевала повторять это слово. Она помогла Диане накрыть стол к обеду и нарвала букетик душистого горошка, чтобы поставить его в вазу посреди стола.
— Ты не представляешь, как я люблю делать то, что меня не заставляют. Еще ничем не надо помочь?
— Можешь очистить от скорлупы орехи для кекса к ужину, — сказала Сьюзен, которая сама начинала поддаваться обаянию внешности и голоса Делилы. Кто знает, может, Лаура Грин и вправду злая мачеха? Когда видишь человека только на людях, нельзя судить, каков он с домашними. Сьюзен положила Делиле на тарелку огромную порцию курицы с начинкой и подливкой и дала ей второй кусок пирога, не дожидаясь просьбы с ее стороны.
— Я часто думала: как это — есть столько, сколько хочется? Оказывается, это — замечательно! — сообщила Делила Диане, когда они встали из-за стола.
Они отлично провели день. Сьюзен дала Диане коробку конфет, и Диана с Делилой съели все до единой. Делиле очень понравилось одно из колечек Дианы, и та ей его подарила. Они пропололи клумбу с анютиными глазками и выкопали одуванчики, которые выросли на газоне. Девочки помогли Сьюзен чистить серебряные приборы и готовить ужин. Делила все делала так умело и была такой опрятной, что мисс Бейкер окончательно капитулировала. За весь день случилось только два неприятных события: Делила капнула чернилами на свое платье и потеряла бусы. Но Сьюзен сумела отчистить чернила лимонной кислотой — правда, краска в этом месте немного поблекла, — а про бусы Делила сказала, что это пустяки. Подумаешь, какое дело — бусы, когда она в Инглсайде со своей дорогой Дианой!
— А где мы будем спать? — спросила Диана у Сьюзен, когда подошло время ложиться. — Можно в комнате для гостей? Гости ведь всегда там спят.
— Завтра с мамой и папой приедет тетя Диана, — сказала Сьюзен. — Я уже приготовила эту комнату для нее. Зато в твоей комнате вы можете положить с собой Шримпа, а в комнату для гостей его не пускают.
— Как хорошо пахнут твои простыни, — восхитилась Делила, когда девочки улеглись в кровать.
— Сьюзен кипятит их с фиалковым корнем. Делила вздохнула:
— Ты сама не понимаешь, как хорошо тебе живется, Диана. Если бы у меня был такой дом… но мне этого не суждено. Приходится терпеть.
Обходя дом перед сном, мисс Бейкер зашла к девочкам, дала обеим по две горячие булочки и сказала, чтобы они переставали болтать и засыпали.
— Я никогда не забуду вашу доброту, мисс Бейкер, — трепетным голосом сказала Делила. Ложась спать, Сьюзен подумала, что никогда не видела девочки с более приятными манерами. Нет, она была к ней несправедлива. Но ей тут же пришло в голову, что для ребенка, которому никогда не дают поесть досыта, Делила слишком в теле.
На следующий день Делила ушла домой. Вечером приехали мама с папой и тетя Диана. А в понедельник Диана перенесла страшное потрясение.
Возвратившись в школу после большой перемены, девочка услышала с крыльца свое имя. Она остановилась и прислушалась. В классе Делила Грин вещала группе с любопытством слушающих ее учениц:
— Я была очень разочарована. Послушать Ди, так Инглсайд — это роскошный особняк. Конечно, дом большой, но мебель в нем старая. На стульях вся обивка протерлась.
— А фарфоровых собак ты видела? — спросила Бесси Палмер.
— Ничего в них нет особенного. На них даже шерсти нет. Я Диане так и сказала, что ожидала большего.
Диана, как говорится, «приросла к месту»… Ей не пришло в голову, что подслушивать нехорошо… она просто окаменела от изумления.
— Мне стало очень жаль Диану, — продолжала Делила. — Ее родители совсем не уделяют детям внимания. Мать вечно где-то таскается, бросая малышей на Сьюзен — а Сьюзен эта почти что выжила из ума. Она еще доведет их до работного дома. Сколько продуктов пропадает зря — вы себе представить не можете. Даже когда докторша дома, ей лень готовить, и Сьюзен все делает по-своему. Представляете, она хотела кормить нас на кухне, но я ей твердо сказала: «Неужели ты кормишь гостей на кухне?» Сьюзен тогда пригрозила мне, что если я буду ей дерзить, она запрет меня в чулане. «Не посмеешь!» — заявила я ей, и она на самом деле не посмела. Я ей сказала: «Со своими детьми можешь вытворять, что хочешь, но со мной это у тебя не выйдет!» Так что с Сьюзен я справилась. И не позволила ей дать Рилле сиропу от кашля. «Ты что, не знаешь, что этим можно отравить ребенка?» — спросила я ее. Но она мне отомстила за обедом. Видели бы вы, какую жалкую порцию она положила мне на тарелку! Она зажарила на обед курицу, но мне дала только гузку и даже не предложила еще кусочек пирога. Она хотела положить меня спать в комнате для гостей, а Ди это ей не позволила — от зависти. Ди такая вредная. Но все-таки мне ее жаль. Она мне рассказала, что Нэн ее вечно щиплет — и очень больно. У нее все руки в синяках. Мы спали у нее в комнате, и в ногах у нас валялся какой-то драный кот. Я сказала Ди, что это просто негигиенично. И у меня пропали перламутровые бусы. Я не говорю, что их взяла Сьюзен… она, по-моему, все-таки честная… но как-то странно — куда они подевались? А Джефри запустил в меня бутылкой с чернилами и вконец испортил мое платье. Ну да ладно, мама купит мне другое. Я выкопала у них на газоне все одуванчики и вычистила столовое серебро. Видели бы вы это серебро! Его, по-моему, сто лет не чистили. Сьюзен не больно-то надрывается, когда докторши нет дома. Но я ей этого не спустила. «Почему ты никогда не моешь кастрюли?» — спросила я ее. Видели бы вы, как она скривилась! Посмотрите, какое у меня колечко! Мне подарил его один мальчик из Аоубриджа.
— Я видела это колечко на руке Дианы Блайт, — презрительно сказала Пегги Макалистер.
— А я вообще не верю ни одному слову из того, что ты наговорила про Инглсайд, — возмутилась Лаура Карр.
Делила не успела ей ответить. Диана, к которой вернулись способность двигаться и дар речи, влетела в класс.
— Иуда! — крикнула она. Лживость Делилы поразила ее в самое сердце.
— Никакая я не Иуда, — буркнула Делила, краснея, кажется, впервые в жизни.
— А кто же ты? У тебя нет ни капли совести! Я с тобой до конца жизни не буду разговаривать!
Диана выскочила из школы и побежала домой. Нет, оставаться в школе в тот день она не могла… просто не могла! Она влетела в Инглсайд, изо всех сил хлопнув входной дверью, и побежала на кухню, где Энн с Сьюзен обсуждали меню на обед.
— Что с тобой, детка? — спросила Энн, увидев плачущую дочь. Та с рыданиями стала рассказывать о происшедшем.
— Я ей так искренне сочувствовала, мама, а она… Я больше никому в жизни не буду верить!
— Милая, но не все же твои подруги такие. Полли была другая.
— Но это уже второй раз, — с горечью сказала Диана, убитая столь подлым предательством. — Нет уж, третьего не будет.
— Мне жаль, что Ди утратила веру в людей, — грустно сказала Энн, когда Диана ушла к себе наверх. — Для нее это — настоящая трагедия. Ей действительно не везет на подруг. Дженни Пент… а теперь вот Делила Грин. Беда в том, что Диане нравятся девочки, которые рассказывают интересные истории. А Делила очень увлекательно разыгрывала страдалицу.
— А я вам скажу, что эта Делила — просто дрянь, — непримиримо сказала Сьюзен, раздосадованная тем, что Делила и ее провела своими хорошими манерами. — Назвать Шримпа драным котом! Конечно, есть на свете драные коты, миссис доктор, голубушка, и вообще я не очень-то люблю кошек, но нашему Шримпу уже семь лет, он заслуживает по крайней мере уважения. А уж что касается моих кастрюль…
Тут Сьюзен даже не нашла слов.
А Диана у себя в комнате думала, что, пожалуй, еще не поздно подружиться с Лаурой Карр. Лаура, может быть, человек обыкновенный, но зато надежный. Диана вздохнула. Вместе с верой в несчастную участь Делилы ее жизнь как-то утратила яркие краски.
Глава тридцать четвертая
Холодный восточный ветер брюзжал за стенами Инглсайда, как сварливая старуха. Когда в конце августа выдается такой пронизывающе-сырой, почти осенний день, думала Энн, страшно портится настроение и происходят всевозможные неурядицы. Новый щенок, которого Джильберт привез детям, обгрыз ножку стола в столовой… Сьюзен обнаружила, что в кладовке, где они держат одеяла, чудовищно расплодилась моль… новый котенок Нэнни переломал в саду самые лучшие декоративные папоротники… Джим и Берти весь день барабанят по жестяным ведрам на чердаке. Сама Энн разбила цветной стеклянный абажур от лампы. Но звон бьющегося стекла даже принес ей некоторое облегчение. У Риллы заболело ухо, а Джефри расчесал себе до крови шею. Энн показала расчес Джильберту, тот мельком глянул на него и сказал, что это пустяки. Еще бы не пустяки! Джефри всего-навсего его родной сын! А то, что Джильберт на прошлой неделе пригласил к обеду Трентов, а Энн узнала об этом, только когда те позвонили в дверь — это, конечно, тоже пустяки! Они с Сьюзен так наработались в тот день, что хотели на ужин подать то, что осталось от обеда! И вдруг пожалуйста — миссис Трент, которая прославилась на весь Шарлоттаун своими зваными обедами! И куда подевались голубые носки Уолтера?
— Неужели ты совсем не способен класть свои вещи на место? Нет, Нэн, я не знаю, где это: «за семью морями». И перестань без конца задавать вопросы! Неудивительно, что Сократа заставили выпить цикуту. Так ему и надо!
Уолтер и Нэнни смотрели на мать с недоумением. Она никогда раньше не разговаривала с ними таким тоном. Взгляд Уолтера еще больше разозлил Энн.
— Диана, сколько раз тебе говорить, чтобы ты не обвивала ногами стул, когда играешь на пианино? Ты запачкал вареньем еще не читанный журнал, Джефри! И может, хоть кто-нибудь скажет мне, куда подевались подвески от люстры?
Этого никто ей сказать не мог… На самом деле их сняла Сьюзен, чтобы вымыть. Энн ушла наверх, чтобы не видеть обиженных глаз детей, и принялась лихорадочно расхаживать взад и вперед по комнате. Что это с ней происходит? Неужели она становится сварливой женщиной, которая без конца ко всем придирается? Последнее время ее все раздражает. Раздражают даже некоторые привычки Джильберта, на которые она раньше не обращала внимания. Ей надоели бесконечные однообразные заботы… надоело потакать капризам своего семейства. Раньше она с наслаждением вела дом и воспитывала детей. Теперь ей все было не в радость. Жизнь напоминала ей кошмарный сон, в котором все время пытаешься кого-то догнать, но не можешь, потому что у тебя спутаны ноги.
Самое ужасное, что Джильберт ничего этого не замечает. Он занят днем и ночью, и кроме работы его ничто не интересует. Сегодня за обедом он произнес всего одну фразу: «Передай мне, пожалуйста, горчицу».
«Конечно, я могу разговаривать со столами и стульями, — с горечью думала Энн. — Видимо, любовь у нас превратилась в привычку. Вчера вечером он не заметил, что на мне новое платье. И как давно он уже не называл меня «девочкой»! Впрочем, так, наверное, бывает в любом браке. И всем женщинам, наверное, приходится через это проходить. Я для него утратила прелесть новизны. Теперь весь смысл жизни для него в работе. И куда я дела носовой платок?»
Энн нашла носовой платок и села под окном, все больше растравляя себе душу. Джильберт ее больше не любит. Целует ее с отсутствующим видом, «по привычке». Из их жизни ушла романтика. Энн вспомнила старые шутки, над которыми они, бывало, смеялись, и ощутила только боль. Теперь ей казалось, что в них нет и не было ничего смешного. Как они потешались над Монти Тэрнером, который целовал жену раз в неделю… и даже делал запись в календаре, чтобы не забыть.
(И зачем жене такие поцелуи?)Или над Кэртисом Адамсом, который не узнал жену в новой шляпке. Или над словами миссис Дэр: «Не так уж я люблю мужа, но если он куда-нибудь денется, мне его будет не хватать».
(Наверное, Джильберту меня тоже будет не хватать, если я куда-нибудь денусь. Неужели дело уже дошло до этого?)Или над словами Ната Эллиотта, который сказал своей жене после десяти лет брака: «Если хочешь знать, мне просто надоело быть женатым».
(А мы женаты уже пятнадцать лет!)Что ж, вероятно, мужчины все такие. Корнелия Эллиотт была права: «Одно слово — мужчина!» Приходит время, когда их становится трудно удерживать возле себя.
(Зачем мне такой муж, которого надо «удерживать»?)Но вот миссис Клоу с гордостью сказала как-то на собрании Общества: «Мы женаты уже двадцать лет, и мой муж и сейчас любит меня так же, как в день свадьбы». Но, может быть, она обманывается или старается сделать хорошую мину при плохой игре. Она ведь вовсе не моложава — выглядит на свои годы, даже старше.
(Может быть, и я выгляжу старше своих лет?)
Впервые в жизни Энн почувствовала на плечах груз лет. Она подошла к зеркалу и критически посмотрела на свое отражение. В углах глаз морщинки, но их видно только при ярком освещении. Подбородок и шея в порядке. Бледной она была всегда. Волосы все еще густые и волнистые, седины нет и в помине. Но неужели кому-нибудь могут действительно нравиться рыжие волосы? Нос по-прежнему хорош. Энн погладила его, как старого друга, вспоминая то время, когда нос был ее единственным утешением. Но Джильберт и носа ее больше не замечает. Он вообще забыл, что у нее есть нос. Как миссис Дэр, он, может, и хватился бы его, если бы он куда-нибудь делся.
«Ладно, надо пойти к Рилле и Джефри, — подумала Энн. — Им я, по крайней мере, все еще нужна. И что это я придиралась к детям? Небось говорят у меня за спиной: «Бедная мама все время не в духе».
Дождь продолжал идти, ветер все завывал. Ведерная бравура на чердаке прекратилась, но теперь Энн раздражало стрекотание сверчка в комнате.
Принесли почту. Одно письмо было от Мариллы. Энн вздохнула, развернув его. Какой у Мариллы стал дрожащий старческий почерк! Другое письмо пришло от миссис Фаулер из Шарлоттауна, с которой Энн была едва знакома. Мистер Баррет Фаулер с супругой приглашают мистера и миссис Блайт на обед в следующий вторник. «Пожалуйста, приезжайте к семи. Вы у нас встретитесь со своей давней знакомой миссис Доусон из Виннипега, в девичестве Кристиной Стюарт».
Энн уронила письмо на стол. На нее нахлынули воспоминания… отнюдь не самого приятного свойства. Кристина Стюарт, которую они знали в Редмонде. Девушка, про которую говорили, что Джильберт с ней обручен… девушка, к которой Энн когда-то его страшно ревновала… Да, сейчас, через двадцать лет это можно уже признать… Она ревновала к ней Джильберта… она ненавидела Кристину Стюарт. Энн много лет не вспоминала Кристину, но отлично помнила, как она выглядела. Высокая девушка с кожей цвета слоновой кости, с большими синими глазами и густыми черными волосами. И уверенной манерой держаться. Вот только нос… нос у нее был определенно длинноват. Красивая? Да, нельзя отрицать, что Кристина была очень хороша. Кто-то говорил, что Кристина «удачно» вышла замуж и уехала в Виннипег.
Джильберт забежал домой перекусить: в Верхнем Глене свирепствовала корь. Энн молча подала ему письмо миссис Фаулер.
— Кристина Стюарт? Конечно, поедем. Я с удовольствием с ней повидаюсь, — сказал Джильберт, оживившись впервые за последние недели. — У бедняжки все не так уж удачно сложилось. Четыре года назад у нее умер муж.
Энн этого не знала. А откуда это известно Джильберту? И почему он ей ничего не сказал? Кроме того, в следующий вторник у них годовщина свадьбы. Неужели он забыл? В этот день они никогда не принимали приглашений, а ехали и праздновали где-нибудь вдвоем. Но Энн не собиралась ему напоминать. Хочется ему повидать Кристину — пусть. Одна девушка в Редмонде как-то ей сказала: «Напрасно ты думаешь, Энн, что между Кристиной и Джильбертом ничего не было». Тогда она только посмеялась… Клара Халлет любила говорить неприятные вещи. Но, может быть, она все-таки была права? У Энн вдруг похолодело сердце: она вспомнила, что вскоре после свадьбы нашла у Джильберта в старой записной книжке маленькую фотографию Кристины. Джильберт тогда равнодушно сказал: «А, вот куда она задевалась». Пустяк вроде бы, но… из таких пустяков и складываются серьезные вещи. Неужели Джильберт… когда-то любил Кристину? А она, Энн, оказалась его женой, потому что та ему отказала? Утешительный приз, так сказать?
«Что это я, ревную?» — подумала Энн и попыталась рассмеяться. Все это вздор. Нет ничего удивительного в том, что Джильберту хочется повидать старую знакомую. Нет ничего удивительного в том, что такой занятой человек, который женат уже пятнадцать лет, забывает, какой сейчас месяц и число. Энн написала миссис Фаулер, что они принимают приглашение… а следующие три дня прожила надеждой, что во вторник около половины шестого у кого-нибудь в Глене начнутся роды.
Глава тридцать пятая
Роды начались слишком рано. За Джильбертом прислали в понедельник в девять часов вечера. Энн заснула в слезах и проснулась в три часа ночи. Раньше, проснувшись среди ночи, она наслаждалась, лежа в постели и глядя на бархат неба за окном… слушая мерное дыхание Джильберта… думая о детях, спящих рядом, о том, что завтра ее ждет новый прекрасный день. Но сейчас! Энн все еще не спала, когда небо на востоке посветлело и окрасилось в нежно-зеленый цвет и когда Джильберт наконец вернулся домой. «Близнецы», — глухо проговорил он, упал в постель и мгновенно уснул. Близнецы! У них сегодня пятнадцатая годовщина свадьбы, а муж только и нашел, что сказать ей: «Близнецы». Он даже не помнит, какой сегодня день.
Видимо, Джильберт не вспомнил этого и когда спустился вниз в одиннадцать часов. В первый раз за всю их совместную жизнь он не поздравил ее и ничего не подарил. Ну, что ж, она тоже не отдаст ему подарок, который давно уже купила: перочинный нож с серебряной отделкой, с одной стороны которого была выгравирована дата, а с другой — его инициалы. Раз он забыл, так и она забудет! Пусть ножик валяется у нее в ящике.
Весь день Джильберт был сам не свой. Он уныло околачивался в библиотеке и ни с кем не разговаривал. Что это с ним? Никак не дождется встречи в Кристиной? Может быть, в глубине души он мечтал о ней все эти годы? Энн отлично понимала, что это глупое подозрение, но когда это ревность была осмысленной? Трезво размышлять она не могла. Да это и не помогло бы.
Они собирались ехать в Шарлоттаун на пятичасовом поезде.
— Мама, мозно мы будем смотлеть, как ты налязаесся? — спросила Рилла.
— Смотрите, если вам так хочется… — ответила Энн, но тут же одернула себя: нельзя разговаривать с детьми таким сварливым тоном. — Конечно, детка, идем, — добавила она с раскаянием в душе. Рилла обожала смотреть, как мама собирается в гости. Но даже она почувствовала, что сегодня мама это делает безо всякого удовольствия.
Энн не сразу решила, что наденет. Хотя, с горечью подумала она, это не имеет никакого значения. Последнее время Джильберт не замечал, во что она одета. Ей было неприятно смотреть на себя в зеркало — бледная, усталая…
надоевшая.Но Энн не может позволить себе предстать перед Кристиной отставшей от моды провинциалкой.
(Еще не хватает, чтобы она начала меня жалеть!)Так что же надеть? Новое платье из нежно-зеленой кисеи на чехле с розовыми бутонами или кремовое шелковое платье с отложным кружевным воротником? Энн померила оба и выбрала зеленое. Попробовала несколько разных причесок и решила, что, пожалуй, новомодная «помпадур» смотрится неплохо.
— Мамоцка, ты такая класивая! — восторженно выдохнула Рилла. Предполагается, что дети говорят то, что думают. И Ребекка Дью сказала ей однажды, что она «относительно красива»? И Джильберт раньше часто делал ей комплименты, но за последние месяцы она не слышала ни одного!
Джильберт прошел мимо нее к своей туалетной комнате, не сказав ни слова по поводу ее нового платья. У Энн внутри все перевернулось от негодования. Ах, так? Она сорвала с себя новое платье и бросила его на кровать. Тогда она наденет старое черное, которое местные дамы считают «шикарным», но которое никогда не нравилось Джильберту. А что же на шею? Бусы, подаренные Джимом, хотя она их очень берегла, потеряли вид. Собственно говоря, у нее нет приличного ожерелья или кулона. Ладно… Энн достала коробочку, в которой хранила розовое эмалевое сердечко, подаренное ей Джильбертом в Редмонде. Она редко его теперь носила — розовый цвет не идет к рыжим волосам, — но сегодня наденет. Интересно, заметит ли его Джильберт? Ну, вот, она готова. Что это Джильберт так долго возится? Бреется с особой тщательностью? Энн резко постучала в дверь.
— Джильберт, живей, а то мы опоздаем к поезду.
— Ты говоришь тоном строгой учительницы, — пошутил муж, выходя из туалетной комнаты. — Что с тобой, разболелись старые мозоли?
Ах, он еще и шутит? Энн не хотела думать о том, как ему идет фрак. В конце концов, теперешняя мужская мода совершенно смехотворна. В ней нет никакой романтики. Как, наверное, роскошно выглядели мужчины в дни королевы Елизаветы, когда они могли носить атласные камзолы, кружевные манжеты и плащи из вишневого бархата! И при этом они вовсе не казались женоподобными. Мужчины той эпохи были великолепны и неустрашимы.
— Ну, раз ты так спешишь, пойдем, — рассеянно сказал Джильберт. Последнее время он всегда говорил с ней рассеянно. Она для него стала просто мебелью… просто мебелью.
Джим отвез их на станцию. Сьюзен и миссис Корнелия, которая зашла к Сьюзен узнать, не поможет ли она им приготовить праздничный ужин в церкви, с восхищением посмотрели им вслед.
— Энн по-прежнему молодо выглядит, — заметила миссис Эллиотт.
— Да, — согласилась Сьюзен, — но что-то она в последние недели киснет. А выглядит хорошо. А доктор все такой же стройный.
— Идеальная пара, — одобрила миссис Корнелия. Идеальная пара почти не разговаривала до самого Шарлоттауна. Разумеется, Джильберт в таком ажиотаже от перспективы встречи со своей старой любовью, что ему не до разговоров с женой! Энн чихнула. Уж не насморк ли начинается? Вот будет ужасно, если она весь обед будет сморкаться и шмыгать носом под взглядом миссис Доусон, в девичестве Кристины Стюарт! И губа что-то побаливает — может, еще простуда выступит? Интересно, Джульетта когда-нибудь чихала? А у Порции были на губах болячки? А у Клеопатры болели мозоли?
В прихожей Фаулеров Энн споткнулась о голову лежавшей на полу шкуры медведя и, пытаясь удержаться на ногах, влетела головой вперед в дверь заставленной громоздкой мебелью гостиной, угодив, слава Богу, на мягкий диван той частью, на которой положено сидеть. Она смятенно осмотрелась: неужели Кристина наблюдала этот ее пьяный выход? Но той, к счастью, еще не было. Джильберт даже не спросил, не ушиблась ли она. Он уже увлеченно разговаривал с доктором Фаулером и неким доктором Мюрреем, который жил в Нью-Брунсвике и был автором монографии о тропических болезнях, произведшей фурор в медицинских кругах. Но Энн заметила, что, как только в гостиную вошла распространяющая аромат гелиотропов Кристина, про монографию тут же забыли. Джильберт встал навстречу ей, и в его глазах загорелся несомненный интерес.
На какое-то мгновение Кристина задержалась в дверях. Она-то не споткнулась о голову медведя! Энн вспомнила, что Кристина и раньше имела обыкновение эффектно останавливаться в дверях. А тут ей предоставлялась прекрасная возможность продемонстрировать Джильберту, чего он лишился.
На Кристине было платье из лилового бархата с длинными рукавами, отделанными золотым шитьем, и со шлейфом из золотого кружева. Ее черные волосы стягивал золотой обруч, а шею украшала золотая цепочка с вделанными в нее бриллиантами. Взглянув на нее, Энн немедленно почувствовала себя плохо и безвкусно одетой, на полгода отставшей от моды. И зачем только она повесила на шею это нелепое эмалевое сердечко?
Кристина, несомненно, выглядела отлично. Правда, было ощущение, что она не молода, а просто хорошо сохранилась… да, и изрядно располнела. Но нос у нее не укоротился, и подбородок был дрябловатый. Глядя, как она стоит в дверях, Энн заметила, какие у нее большие ноги. Да и этот ее изысканный вид как-то утратил свежесть. Но ее щеки были все еще гладкими, а огромные синие глаза все еще загадочно блестели из-под необычных, словно по линейке проведенных бровей, которые так нравилась студентам Редмонда. Да, миссис Доусон была очень красивой женщиной… и не создавала впечатление вдовы, сердце которой погребено в могиле мистера Эндрю Доусона.
Как только Кристина вошла в гостиную, она сразу завладела разговором, а Энн ощутила себя совершенно лишней.
Но она сидела, выпрямив спину. Нет уж, она не даст Кристине оснований сказать, что миссис Блайт согнулась под тяжестью лет! Посмотрим еще, кто кого! Глаза Энн зазеленели, как у кошки, а щеки окрасил румянец.
И не забывай про свой нос!Доктор Мюррей, который поначалу не обратил на нее внимания, с удивлением подумал, что у Блайта весьма неординарная жена. Эта кичливая миссис Доусон и в подметки ей не годится.
Тем временем Кристина кокетливо говорила Джильберту:
— Господи, Джильберт, ты все такой же эффектный мужчина! Совсем не изменился!
(Говорит все так же врастяжку. Как я всегда ненавидела этот ее бархатный голос!)
— Когда глядишь на тебя, кажется, что времени просто не существует, — галантно ответил Джильберт. — Может, поделишься секретом вечной молодости?
Кристина засмеялась.
(Смех у нее стал какой-то металлический.)
— Ты всегда умел делать комплименты, Джильберт. Знаете, — она обвела гостей кокетливым взглядом, — доктор Блайт мне очень нравился в те далекие времена, про которые он говорит, будто они были вчера. А, Энн Ширли! Ты не так сильно изменилась, как мне говорили… хотя, пожалуй, встретив на улице, я бы тебя не узнала. Волосы у тебя как будто немного потемнели, да? Как
дивно,что мы снова встретились! Я боялась, что ты не приедешь из-за своего радикулита.
— Радикулита?
— Да. Разве ты не страдаешь от радикулита? Мне говорили…
— Это я, наверное, все напутала, — извиняющимся голосом пояснила миссис Фаулер. — Кто-то мне сказал, что у вас тяжелый приступ радикулита.
— Это не у меня, а у миссис Паркер из Аоубриджа. У меня в жизни не было радикулита, — без всякого выражения проговорила Энн.
— Вот и прекрасно, я рада за тебя, — бросила Кристина несколько вызывающим тоном. — Радикулит — ужасная штука. Моя тетя очень от него мучается.
Этими словами Кристина словно бы причислила Энн к поколению, к которому принадлежала ее тетка. Миссис Блайт сумела улыбнуться — но только ртом, а не глазами. Как ей хотелось отбрить Кристину! Она знала, что в три часа ночи обязательно придумает что-нибудь уничтожающе-остроумное, но сейчас ничего не приходило в голову.
— Говорят, у тебя семеро детей, — покачала головой Кристина, обращаясь как будто к Энн, но глядя на Джильберта.
— Выжило только шестеро, — с болью в голосе ответила Энн. Она до сих пор не могла спокойно думать про беленькую Джойс.
— Ну и выводок! — фыркнула Кристина таким тоном, будто иметь столько детей — признак дурного тона.
— А у тебя, кажется, совсем нет детей, — заметила Энн.
— Я не люблю детей, — сказала Кристина, небрежно пожав своими мраморными плечами, но голос ее звучал несколько напряженно. — У меня нет материнских задатков. Да я и не считаю, что главное назначение женщины — приумножать наше и без того избыточное население.
Пригласили к столу. Джильберт подал руку Кристине, доктор Мюррей — миссис Фаулер, а доктор Фаулер, толстенький человечек, который умел разговаривать только о медицине, повел к столу Энн.
Энн казалось, что в комнате душно. Какой-то в ней стоял тяжелый аромат. Может быть, миссис Фаулер жгла в ней ладан? Обед подали отменный. Энн делала вид, что с удовольствием ест, хотя у нее совершенно не было аппетита. Она непрерывно улыбалась, пока не почувствовала себя сродни Чеширскому Коту. Она не могла отвести глаз от Кристины, которая улыбалась Джильберту, демонстрируя свои белые и ровные — чересчур белые и ровные — зубы. Они напоминали Энн рекламу зубной пасты. Разговаривая, Кристина изящно жестикулировала. Руки у нее красивые, но немного велики, думала Энн.
Кристина разговаривала с Джильбертом о ритмических закономерностях жизни. Что бы это значило? Сама-то она хоть знает?
Затем они переключились на мистерии.
— Ты когда-нибудь была в Обераммергау?
— спросила Кристина Энн, отлично зная, что та не бывала в Европе.
(И почему она разговаривает со мной таким высокомерным тоном?)
— Ну, конечно, с такой семьей особенно не попутешествуешь, — снисходительно пропела Кристина. — А знаешь, кого я в прошлом месяце встретила в Кингспорте? Твою подругу… ту, что вышла замуж за пастора, забыла, как его зовут. Такой некрасивый.
— Джонас Блейк, — ответила Энн. — За него вышла замуж Филиппа Гордон. И мне он никогда не казался некрасивым.
— Неужели? Ну, это смотря на чей вкус. Так или иначе, я их встретила. Бедная Филиппа!
— Почему «бедная»? — спросила Энн. — По-моему, она очень счастлива с Джонасом.
— Счастлива? Да ты посмотрела бы, где они живут! Какая-то паршивая рыбацкая деревушка, где никогда ничего не происходит — разве что свиньи залезут в сад! Мне сказали, что у этого Джонаса был отличный приход в Кингспорте, но он от него отказался, потому что считал своим «долгом» поселиться среди рыбаков, которым, видите ли, он «нужен». Нет, такие фанатики мне не по душе. «И как ты можешь жить в такой дыре?» — спросила я Филиппу. Знаешь, что она мне ответила?
Кристина выразительно повела сверкающей от колец рукой.
— Наверное, то же самое, что я сказала бы о Глен Сент-Мэри — что только здесь я и могу жить, — предположила Энн.
— Не понимаю, как тебя может удовлетворять такая жизнь, — улыбнулась Кристина.
(Боже, какая зубастая пасть!)— Неужели тебе и в самом деле никогда не хотелось большего? Помнится, у тебя были запросы и честолюбие. Ты, кажется, писала рассказики для журналов, когда училась в Редмонде? Немного эксцентричные фантазии, но все же…
— Я писала их для людей, которые и выросши сохраняют веру в сказочную страну. Хочешь верь, хочешь нет, таких людей не так уж мало, и они любят получать оттуда известия.
— А больше ты не пишешь?
— Рассказов не пишу… Перешла на живые поэмы.
Кристина недоумевающе смотрела на Энн, не узнавая цитаты. Что, собственно, хочет этим сказать Энн Ширли? Впрочем, она еще в Редмонде прославилась загадочными речами. Выглядит она очень молодо, но, наверное, принадлежит к разряду женщин, которые, выйдя замуж, совсем перестают думать. Бедный Джильберт! Она его поймала на крючок еще до Редмонда и так и не дала с него сорваться.
— А сейчас все еще ценится орех-двойчатка? — спросил доктор Мюррей, которому попался двойной орешек миндаля. Кристина повернулась к Джильберту:
— Помнишь, как нам однажды попался орех-двойчатка?
(Это мне кажется, или они в самом деле обменялись значительным взглядом?)
— Ну, неужели я когда-нибудь забуду! — ответил Джильберт. И они ударились в воспоминания, а Энн тупо смотрела на висящий перед ней натюрморт, на котором были изображены рыба и несколько апельсинов. Она и понятия не имела, что у Джильберта и Кристины столько общих воспоминаний. «А помнишь пикник на косе?» — «А помнишь, как мы ходили в негритянскую церковь?» — «Помнишь тот маскарад? Ты была в костюме испанки в черном бархатном платье с кружевной мантильей и веером в руках».
Джильберт, оказывается, все помнит. А про годовщину их свадьбы забыл!
Когда все встали из-за стола и перешли в гостиную, Кристина выглянула в окно, где за темными силуэтами тополей серебрилось светлеющее на востоке небо.
— Джильберт, пошли погуляем в саду. Я хочу вспомнить, как восходит луна в сентябре.
(А чем отличается восход луны в сентябре от других месяцев? И что она собирается «вспоминать»? Между ними что-нибудь было… в сентябре?)
Джильберт с Кристиной вышли в сад. У Энн было ощущение, что ее ловко и ласково оттерли локтем. Она села в кресло, которое стояло у окна в сад… хотя она даже самой себе не призналась бы, что выбрала его по этой причине. Кристина и Джильберт шли по дорожке. О чем они говорят? Говорит, кажется, одна Кристина. Может быть, Джильберт так взволнован, что потерял дар речи? Наверное, он улыбается воспоминаниям, в которых ей, Энн, нет места? Энн вспомнила, как они с Джильбертом гуляли по залитым лунным светом садам Эвонли. Неужели он забыл?
Кристина посмотрела на небо. Разумеется, она это сделала, чтобы он полюбовался на ее полную шейку. И что же луна так долго не всходит?
Когда Кристина с Джильбертом вернулись, пришли еще гости. В гостиной говорили, смеялись, играла музыка. Кристина спела… очень неплохо. Она всегда была музыкальна. Она пела, глядя на Джильберта: «Счастливые дни, безвозвратно ушедшие…» Джильберт сидел, откинувшись в кресле, и молчал. Неужели он вспоминает те безвозвратно ушедшие дни? Неужели представляет себе, какова была бы его жизнь, если бы он женился на Кристине?
(Раньше я всегда знала, о чем думает Джильберт. Еще немного, и я запрокину голову и начну выть. Слава Богу, что наш поезд рано уходит.)
Когда Энн спустилась к выходу, Кристина стояла на крыльце рядом с Джильбертом. Она сняла с его плеча листок, и жест этот напоминал ласку.
— Ты здоров, Джильберт? У тебя очень усталый вид. Ты, наверное, слишком много работаешь.
Энн вдруг с ужасом осознала, что у Джильберта действительно усталый вид… очень усталый… а она этого не заметила, пока об этом не заговорила Кристина! Это чувство стыда останется с ней навсегда.
(Я сама перестала обращать внимание на Джильберта, а обвиняю в этом его!)
Кристина повернулась к Энн.
— Я была рада с тобой повидаться, Энн. Кажется, что мы опять в Редмонде.
— Да, кажется, — ответила Энн.
— Я тут говорила Джильберту, что у него усталый вид. Ты плохо о нем заботишься, Энн. Было время, когда мне твой муж очень нравился. Более симпатичного кавалера у меня так и не было. Но ты уж меня прости — я ведь не отбила его у тебя.
Энн опять окаменела.
— Может быть, он жалеет, что ты этого не сделала, — произнесла она тем «королевским» тоном, который Кристина помнила еще со времен Редмонда. И села в коляску доктора Фаулера, чтобы ехать на станцию.
— Какие глупости ты говоришь, — фыркнула Кристина, пожав своими роскошными плечами. Она глядела им вслед с таким видом, словно ее что-то страшно забавляло.
Глава тридцать шестая
— Ну, как тебе у них понравилось? — еще более рассеянным голосом, чем обычно, спросил Джильберт, когда они сели в поезд. — Очень, — ответила Энн, у которой было ощущение, будто она провела вечер на дыбе. — А зачем ты так странно причесалась? — так же рассеянно спросил Джильберт. — Это — новая мода. — Она тебе не идет. Может, для каких-то волос и годится, но не для твоих. — Жаль, конечно, что у меня рыжие волосы, — ледяным тоном ответила Энн. Джильберт благоразумно решил оставить эту опасную тему. Энн всегда болезненно реагировала, когда заговаривали о ее волосах. А он к тому же так устал, что вообще был не в силах разговаривать. Он откинулся головой на спинку сиденья и закрыл глаза. Впервые Энн заметила проблескивавшую у него на висках седину. Но, ожесточившись сердцем, она не стала его жалеть. Они молча дошли до дома по тропинке, ведущей от станции к Инглсайду. Воздух был напоен запахом хвои и папоротников. Луна освещала серебрящиеся росой поля. Они прошли мимо заброшенного дома с грустными пустыми окнами, которые когда-то горели теплым домашним светом. «Как моя жизнь», — подумала Энн. Теперь для нее все было наполнено каким-то тоскливым смыслом. Белая ночная бабочка, пролетевшая мимо них, показалась ей призраком умершей любви. Потом она зацепилась ногой за ворота для крокета и чуть не упала в куст флоксов. Не могли убрать, сердито подумала она про детей. Завтра она им покажет. Джильберт только сказал: «Осторожней!» и подхватил ее под локоть. Интересно, он так же небрежно поддержал бы Кристину, если бы она споткнулась, пока они в саду выясняли значение восхода луны? Как только они вошли в дом, Джильберт ринулся в свой кабинет, а Энн молча поднялась в спальню, где на полу лежала холодная полоса лунного света. Она подошла к открытому окну и выглянула наружу. Пес Картера Флэгга, видно, решил сегодня ночью повыть в свое удовольствие и вкладывал в это всю свою душу. В доме, казалось, раздавался какой-то таинственный зловещий шепот, словно ее дом перестал быть ей другом. У Энн было холодно, пусто и горько на душе. Золотой наряд жизни пожух и осыпался. Все как-то утратило смысл, все казалось далеким и нереальным. Далеко внизу прилив, как и тысячелетия назад, ласково гладил берег. Теперь, когда Норман Дуглас срубил большую ель, из окна открылся вид на тот беленький домик, где началась их с Джильбертом совместная жизнь. Как они были счастливы там просто оттого, что они вместе, в своем собственном доме, со своими мечтами и ласками, им даже не нужны были слова! Как красочно было утро их жизни. Джильберт глядел на нее так, как не глядел ни на кого, он каждый день по-новому говорил ей: «Я люблю тебя!», и они делили счастье и печаль. А теперь… теперь она надоела Джильберту. Мужчины такие… всегда были и всегда будут. Она думала, что Джильберт — исключение, но теперь она знает правду. И как жить с этой правдой? «У меня же дети, — тускло думала Энн. — Надо жить для них. И никто не должен ничего знать —
никто\Я не хочу, чтобы меня жалели». Что это? Кто-то бежит вверх по лестнице, перескакивая через три ступеньки сразу — как делал Джильберт в беленьком домике… как он уже очень давно не делал. Нет, не может быть, чтобы это был Джильберт. Но это он! Он ворвался в спальню… бросил на стол какой-то пакетик, схватил Энн в объятия и закружил ее по комнате, как полоумный мальчишка. Наконец он остановился — как раз посреди потока лунного света. — Я был прав, Энн… слава Богу, я был прав! Миссис Гэрроу поправится… так сказал онколог! — Кто эта миссис Гэрроу, Джильберт? Ты что, с ума сошел? — Разве я тебе не говорил? Наверняка говорил… а впрочем, это был для меня такой больной вопрос, что я просто не мог про это разговаривать. Последние две недели я прожил в такой тревоге… не мог думать ни о чем другом ни днем, ни ночью. Миссис Гэрроу живет в Лоубридже, ее лечит доктор Паркер. Он пригласил меня на консультацию… я не согласился с его диагнозом… мы чуть не подрались… я был уверен, что прав… настаивал на операции… и мы отправили ее в Монреаль. Паркер сказал, что она оттуда живой не вернется, что мы только подвергаем ее ненужным страданиям, а ее муж грозился застрелить меня из охотничьего ружья. Когда она уехала, я совсем извелся: а вдруг я ошибся, вдруг я и вправду подверг ее ненужным страданиям? И вот только что нашел у себя на столе письмо… я был прав… ее прооперировали… и она почти наверняка будет жить. Девочка моя, как я счастлив! С меня словно двадцать лет свалилось. Энн не знала, смеяться ей или плакать — и она засмеялась. Как замечательно, что она снова может смеяться! Все вдруг встало на свои места. — Поэтому ты и забыл про нашу годовщину? — поддразнила она Джильберта. Джильберт выпустил ее из рук и схватил пакетик, который он бросил на стол. — Ничего я не забыл! Две недели тому назад я заказал в Торонто вот это. Но пакет пришел только сегодня вечером. А утром мне было так стыдно, что у меня нет для тебя подарка, что я даже не упомянул про годовщину… думал, что ты тоже про нее забыла… надеялся, что забыла. А когда я сейчас вошел в кабинет, там лежало письмо Паркера и вот это. Посмотри, нравится тебе мой подарок? Это был кулон с бриллиантом. Даже в лунном свете он горел живым огнем. — Джильберт… а я… — Примерь его. Как жаль, что его не прислали утром… тогда ты смогла бы надеть его к Фаулерам вместо этого старого эмалевого сердечка. Хотя и сердечко выглядело неплохо на твоей белой шейке, любимая. А почему ты сняла зеленое платье? Мне оно понравилось… напомнило о том платье с розами, что было у тебя в Редмонде.
(Так он заметил новое платье! И помнит то, которое ему так нравилось в Редмонде!)
Энн почувствовала себя, как птица, которую выпустили из клетки… она опять может летать! Джильберт держит ее в объятиях, смотрит ей в глаза. — Так ты все еще любишь меня, Джильберт? Я не стала для тебя привычкой? Ты так давно не говорил, что любишь меня. — Моя бесценная! Я думал, что тебе не нужны слова, что ты и так это знаешь. Да я жить без тебя не могу! Ты даешь мне силу, ты даешь мне радость… Жизнь, которая всего несколько минут назад казалась такой серой и бесцельной, вдруг расцвела всеми красками радуги. Забытый на минуту кулон упал на пол. Он очень красивый… но на свете есть столько гораздо более важных вещей… уверенность в любимом, покой на душе, смех и доброта… замечательное ощущение надежности поддерживающей тебя руки. — Ох, Джильберт, если бы это мгновение можно было остановить! — У нас еще будет много таких мгновений. Нам пора устроить второй медовый месяц. Энн, в Лондоне в феврале будет крупный медицинский конгресс. Мы с тобой туда поедем… а потом попутешествуем по Старому Свету. Пора нам с тобой отдохнуть и развлечься. Мы опять будем молодыми влюбленными… словно мы только что поженились. А то ты давно сама не своя.
(Так он заметил!)Ты переутомилась… тебе нужно сменить обстановку.
(И тебе тоже, любимый. Как я была слепа!)Я не хочу, чтобы мне говорили, что для жены у доктора никогда не хватает пилюль. Мы отдохнем и развеемся, и к нам вернется былое чувство юмора. Ну, а теперь примерь кулон и давай ложиться спать. Я прямо с ног падаю… так давно не высыпался — тут и близнецы, и беспокойство из-за миссис Гэрроу. — А о чем вы с Кристиной так долго разговаривали в саду? — спросила Энн, любуясь в зеркале своим новым украшением. Джильберт зевнул. — Не помню. Кристина говорила без умолку. Вот одно я запомнил — блоха может прыгнуть на расстояние, превышающее ее собственную длину в двести раз. Ты об этом знала, Энн?
(Они обсуждали блох, а я корчилась от ревности. Какая дура!)
— А чего это вы вдруг заговорили про блох? — Не помню… может быть, в связи с доберман-пинчерами. — Доберман-пинчерами? Кто это такие? — Это новая порода собак. Кристина большая любительница собак. У меня из головы не шла миссис Гэрроу, и я не очень-то слушал, что она там говорит. Иногда ухватывал что-то про комплексы и депрессии… это из новых психологических веяний… про подагру… политику… и лягушек. — Лягушек? — В Виннипеге какой-то ученый проводит на них эксперименты. С Кристиной всегда было скучно разговаривать, а сейчас она просто тоску наводит. И яд из нее так и сочится. Раньше она такой не была. — А что она сказала такого ядовитого? — с невинным видом осведомилась Энн. — Разве ты не заметила? Ты, наверное, не уловила ее намеков, потому что сама так далека от этого. Ладно, неважно. А от ее смеха меня прямо передергивало. И растолстела страшно. Как хорошо, что ты все такая же тоненькая, моя девочка! — Не так уж она и растолстела, — снисходительно отозвалась Энн. — Она все еще очень красивая женщина. — Не очень. У нее стало какое-то жесткое лицо… вы с ней одного возраста, но она выглядит на десять лет старше тебя. — А кто восклицал про секрет вечной молодости? Джильберт виновато ухмыльнулся: — Ну, надо же быть вежливым. В цивилизованном обществе нельзя обойтись без некоторой доли лицемерия. Да Кристина не такая уж плохая баба, хоть и не принадлежит к людям, которые знали Иосифа. Не ее вина, что в ней нет этой самой изюминки. Что это? — Это мой подарок тебе по случаю годовщины нашей свадьбы. И пожалуйста, дай мне за него традиционный цент… Не хочу рисковать своим счастьем. Я таких сегодня натерпелась мук! Просто изнывала от ревности. Джильберт поглядел на нее с изумлением. Ему никогда не приходило в голову, что Энн может его к кому-то приревновать. — Да что ты, девочка! Вот уж не знал, что ты ревнивая. — Конечно, ревнивая! Когда-то я жутко ревновала тебя к Руби Джиллис — за то, что ты с ней переписывался. — Я переписывался с Руби Джиллис? Не помню такого. Бедняжка Руби! А как насчет Роя Гарднера? Кто бы уж говорил! — Господи, Рой Гарднер! Филиппа мне недавно написала, что видела его и что он стал поперек себя толще. Джильберт, доктор Мюррей, может быть, и большой ученый, но худ как щепка. А доктор Фаулер похож на пончик. На их фоне ты был таким красивым… таким элегантным… — Спасибо за комплимент. Именно такие вещи жена и должна говорить мужу. Могу и тебе сделать комплимент, Энн: ты тоже сегодня выглядела превосходно — несмотря на это платье. Щеки порозовели, а глаза — чудо! Ох, как приятно наконец лечь… Спокойной ночи… Джильберт уснул, едва коснувшись головой подушки. Бедный Джильберт, как он устал! Господи, если какой-нибудь ребенок вздумает появляться на свет сегодня ночью, ни за что не подниму трубку. Пусть телефон себе звонит! Энн не спалось. Она была слишком счастлива, чтобы спать. Она тихо двигалась по комнате, убирая одежду, заплетая волосы на ночь, излучая покойную радость женщины, которая знает, что ее любят. Наконец она надела неглиже и пошла в комнату мальчиков. Все трое, Джим, Уолтер и Джефри, крепко спали. Шримп, переживший поколения игривых котят, которых дети приносили домой, и укоренившийся, как фамильная традиция, спал, свернувшись, в ногах у Джефри. Джим заснул, читая «Жизненную книгу капитана Джима»… и она лежала поверх его одеяла. Как же Джим
вытянулся!И как повзрослел! Такой славный, надежный парень! Уолтер улыбался во сне, словно ему рассказали очаровательный секрет. Луна освещала его подушку и рама окна отбрасывала на стену четкое очертание креста. Через много лет Энн вспомнит это крест и подумает, что это было предзнаменование креста на могиле «где-то во Франции». Но пока это была просто тень… и больше ничего. У Джефри совсем прошла ранка на шее. Джильберт был прав. Он всегда прав. В соседней комнате спали Нэн, Диана и Рилла. У Дианы рыжие кудряшки рассыпались по подушке, и загорелая рука была подсунута под щеку. У Нэнни длинные ресницы отбрасывали тени на щеки. А Рилла спала, лежа на животе. Энн перевернула ее, и зажмуренные глазки даже не приоткрылись. Как быстро они растут! Через несколько лет это будут уже девушки и молодые люди, юность, замершая на цыпочках в ожидании чуда… исполненная сладких и странных грез… маленькие суда, покидающие спокойную гавань, чтобы уплыть в неизвестность. Мальчики найдут дело своей жизни, а девочки… ах, какие красивые невесты под белой фатой сойдут с крыльца Инглсайда! Но пока они еще принадлежат ей… и Джильберту. Энн вышла в коридор и села у окна в эркере. Все ее подозрения, ревнивые мысли и обиды ушли туда, куда уходит ущербная луна. Она была спокойна, весела и уверена в себе. — Как мне хорошо! Как в то утро, когда Пасифик сказал, что Джильберт поправится. Внизу лежал прекрасный, таинственный ночной сад. Дальние холмы были припорошены лунным светом. Скоро она увидит лунный свет на горах Шотландии, над церковью в Стратфорде-на-Эйвоне, где покоится прах Шекспира… может быть, даже над Колизеем… Акрополем… над грустными реками, текущими мимо мертвых империй. Энн отвернулась от окна. В своем белом неглиже, с заплетенными косами, она была похожа на ту девочку, что жила в Грингейбле… на студентку Редмонда… на молодую жену в беленьком домике. Она по-прежнему как бы светилась изнутри. Через открытые двери ей было слышно тихое дыхание детей. А Джильберт, который редко храпел, всхрапывал от усталости. Энн улыбнулась, вспомнив ядовитые слова Кристины, бедной бездетной Кристины: «Ну и выводок!» — Ну и выводок! — с восторгом повторила Энн.
Люси Монтгомери
ИСТОРИЯ ЭНН ШИРЛИ
В трех книгах
Книга 3
Редактор
К. Петренко
Художественный редактор
И. Марев
Технический редактор Т.
Фатюхина
Корректор
Т. Семочкина
Компьютерная верстка
И. Понятых
ТЕРРА — Книжный клуб.
Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|
|