 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: БСЭ :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Лондон Джек :: Лесков Николай Семёнович Популярные книги:: The Boarding House :: Муму :: Тень Ангела Смерти :: Дюна (Книги 1-3) :: Граф Монте-Кристо :: Урс и Кэт :: Прометей в Гранаде :: Беспардонный лжец Том Кастро :: Оправдание лже-Василида :: Чайная |
Книга царствModernLib.Net / Историческая проза / Люфанов Евгений Дмитриевич / Книга царств - Чтение (стр. 10)
Софья посмотрела туда-сюда, оперлась на кавалерову руку и прикрыла глаза. – Ах, чего-то голова закружилась. Кавалер подвел ее к месту, опять руками, ногами, всем корпусом учтивую изысканность проявил, и Софья села, начав платочком обмахиваться, – душно, мол, ей. Да и правда, жарко. В каждой комнате много народа, а потому казалось еще жарче. Знатные дамы чувствовали себя весьма стесненно в своих модных одеждах; затянуты они в тугие корсеты, в юбках с широченными фижмами, растопыренными на китовом усе, в тесных башмаках на высоких, чуть ли не в два вершка, каблуках, с пышно взбитыми напудренными волосами, похожими на вздувшуюся мыльную пену, да еще с весьма длинным шлепом, сиречь шлейфом, словно хвостом, волочащимся позади. В этих нарядах не могли дамы грациозно поворачиваться в танцах и затруднялись даже присесть. Стой неподвижно, чтобы вся амуниция не нарушилась. Но спустя некоторое время, освоившись со всем, что их окружало, да откушав чарку-другую забористого вина, начали держать себя посвободнее и уже не обращали внимания на непогрешимость своего наряда. Можно было ослабить корсет, слегка распустив шнуровку, а если мешал, путался под ногами шлейф, то подоткнуть его да высвободить ноги, – вот и вся недолга. Глава третья 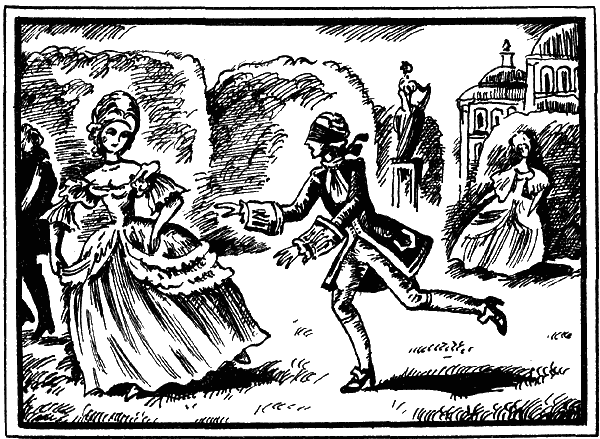 I На столе, покрытом бархатной скатертью, в изукрашенном драгоценными камнями ковчеге лежали два золотых кольца. Одно – массивное, предназначенное жениху, другое – несколько изящнее, изготовленное ювелиром по мерке с безымянного пальца невесты. Преосвященный Феофан в золотистого цвета парчовой епитрахили сотворил благодарственную молитву, сказал свое напутственное слово с пожеланием счастья, процветания и всяческого благополучия, дал жениху и невесте приложиться к кресту и обручил их кольцами. Светлейший князь подарил жениху богатый гардероб французской новомодной одежды, и стоял жених в роскошном наряде, еще не виданном никем из гостей. Родители снабдили дочь богатым приданым. В день обручения ей в подарок было выделено свыше восьмидесяти тысяч рублей и много драгоценностей. Граф Петр Сапега был в полном расцвете своей молодости, красив и хорошо сложен. Разные возлюбленные одаривали его цветами, а то и дорогими безделушками, и он к подаркам уже давно привык. Был он единственным сыном графа Яна Сапеги, бобруйского воеводы, одного из богатейших и влиятельнейших польских магнатов. После смерти короля Августа II простирал свои притязания на польскую корону и, подобно герцогу голштинскому, надеялся на помощь русских войск. Мария Меншикова гордилась женихом и обожала его с первого дня встречи. Обручение с ним было для нее великим счастьем. Она походила на свою мать, слывшую одной из красивейших женщин. Высокого роста, стройная, с тонко очерченным выразительным лицом и нежным румянцем. Ей чуждо было непомерное отцовское честолюбие, но перечить ему ни в чем не могла, безропотно покорная родительской воле. Большие, под густыми ресницами, темные глаза, приятная улыбка производили на Петра Сапегу самое хорошее впечатление, и он был вполне доволен предназначенной ему невестой, блиставшей красотой, пышными нарядами и бриллиантами высокой цены. Во время обряда обручения императрица Екатерина благословила нареченных и подарила им драгоценные перстни и, следом за ней, один за другим подходили к обручившимся гости и поздравляли их. После той торжественной церемонии был большой пир с иллюминацией и пушечной пальбой. Взмывали в небо фейерверки с изображениями, разных приличных случаю, брачных аллегорий. Пили очень много. Венгерское и другие фряжские вина лились рекой. А потом – опять гремела музыка, раздавались громкие «виват!» и снова начались танцы, в которых принимали участие и обрученные. Екатерина оставалась до конца и своим присутствием поддерживала общее веселье, «изволила дать себе позволение на забаву танцами». Под конец гостям следовало выпить «посошок» – кубок вина из рук самой императрицы и стоя перед ней на коленях. Один из гостей встал, да мгновенно и уснул, свалившись на пол. Для ради освежения ему вылили за шиворот вино из кубка. Он мычал, но так и не проснулся. И многих в этот час одолевал «Ивашка Хмельницкий». Перед самым отъездом из дворца светлейшего раздумалась Екатерина и позавидовала счастью молодой невесты. Хотя и смазливой, но голенастой девчонке такой жених достанется, и со сластолюбивым своенравием самодержавного величества захотелось Екатерине поделить с Марией Меншиковой такого красавца жениха. С этой мыслью возвратилась к себе и провела всю ночь без сна в неотвязчивых хмельных видениях о новом фаворите, которым может стать молодой Сапега. Утром, подлечив себя венгерским, отдала приказ возвести отца Петра Сапеги в чин фельдмаршала и тем привлечь на свою сторону, а самого Петра определить действительным камергером; чтобы чаще видеть около себя, объявить женихом племянницы Софьи Скавронской, которая будет меньше держаться за мужа, нежели Мария Меншикова. Надо порвать ту связь. Под утро и у светлейшего князя появилась новая, еще не западавшая в голову мысль. Понеже старшая дочь обручена с Петром Сапегой, то не породниться ли еще с другим Петром, сыном царевича Алексея. Может случиться, что он наследником станет, и тогда навсегда будет родство с царствующим домом. Никому об этом Меншиков не сказал, но расстаться с такою мыслью бы уже невозможно. Пока помолвить великого князя Петра с его, меншиковской, младшей дочерью Александрой, а пройдет несколько лет, царственный отрок подрастет и свершится задуманное. Светлейший был в отличном настроении, можно бы опять созвать гостей и веселиться. А они, эти гости, – тут как тут. Всем опохмелиться надобно после вчерашнего торжества. Петр Андреевич Толстой привел с собой Тихона Никитича Стрешнева, Федора Матвеевича Апраксина да еще троих московских гостей, тоже пировавших тут накануне, и случай для их появления был необыкновенный. – Новость отменная, Александр Данилыч, – стал рассказывать Толстой. – Явились в Петербург ходоки-азияты из туркменской земли. Без малого два года были в пути и пришли бить челом, просить великого государя Петра, чтобы он дал их земле воду. – Государя Петра… – раздумчиво повторил Меншиков. – Так ведь нет его, помер он. – Они в пути были и не знали об этом, а когда узнали, все равно пошли дальше. – Завистливо смотрели на Неву, на взморье: «Ай, ай, ай, как воды много…» – Как же с ними беседовали? – Один из них, как толмач. Малость знает по-русски. – Ну, и как же государь воду б им дал? – Надеялись на него. Упирали на то, что большой путь прошли и ни с чем им вертаться никак нельзя. – Где же они сейчас? – Остерман беседует с ними. Вроде бы и смешно – азияты за водой пришли! Но ведь пришли, и вон из какого далеча. – Понадеялись на царя, – скривил Меншиков губы горькой усмешкой. – Целый народ в детских розмыслах пребывает. Разуверили вы их в царской силе? – Разуверили, сказали, что такое несбыточно, и они совсем огорчились, – пояснил Апраксин. – Не случилось бы так, что, отчаявшись, станут иной защиты себе искать, – заметил Стрешнев. – А кто же другой от себя воду им даст?.. Послать к ним надо толковых людей, чтобы разъяснили всю неразумность такой просьбы, а в чем можно, в том нужно им помогать, дабы видели заботу о них, – предлагал Апраксин. Старик Тихон Никитич Стрешнев отмахнулся рукой. – Какое поведешь общение с ними, когда в один конец весть подать, так для этого около двух лет надобно, да ответа столько же годов надо ждать. Вон они какие дальние поселенцы. – А для того нарочный естафет держать надобно, а не пеши ходить, – сказал Меншиков. – Верное слово, Александр Данилович молвил, – подхватил Апраксин. – Знаем места гораздо отдаленные, однако сообщаемся с ними. Несколькими годами назад дошло ко мне в Адмиралтейский приказ известие, что буря выбросила на камчатский берег японьца и тот стал жить там. От меня указ был, чтобы втолковать тому японьцу учить своему японьскому языку и грамоте камчатских ребят, человек пять либо шесть. Покойный государь Петр Алексеевич зело борзо любознательность к тому проявлял. По нарочному почтовому естафету велел справляться, учит ли тот японец кого, а еще через год стало ведомо, что в помощь тому японьцу приискан еще другой, и они погодя приедут к нам. Государь тому весьма радовался, Говорил, что по их прибытии откроем в Петербурге школу того японьского языка и наберем школяров из солдатских да из поповских детей. – Не слыхал, чтоб так было, – усомнился Стрешнев. – Потому и не слыхал, что государь в тот год помер, а из японьцев покуда никто еще не приехал… Да, загадочен и зело заманчив к познанию дальний камчатский край. Государь мыслил послать туда экспедицию, чтоб описали Камчатку с прилегающими к ней землями и водами и чтоб все на карту исправно внесли, а также установить, сошлась ли Америка с Азией и, ежели так, то в каком именно месте. Я и сам с великой охотой поехал бы про все то разузнать, – с загоревшимся взором проговорил сухопутный адмирал Федор Матвеич Апраксин. – Ой, опасно такое, – неодобрительно качнул головой Стрешнев. – Мало ли чего в столь дальнем пути может статься и, может, даже погибельно. Опасаться надо. – Аль ты не слыхал, Тихон Никитич, что окольничий Засекин дома у себя, когда студень ел, то от свиного уха задохся? – посмеялся Толстой опасениям старика. – То – так, – неохотно соглашался Стрешнев. – А все-таки, мол, говорится, что береженого и бог бережет. – А волков страшиться – в лес не ходить. Так или нет? – Тоже и так будет, – посмеялся и Стрешнев. – Глаза страшатся – руки делают. Присказок много таких. – Ладно. Обо всем – потом, – сказал Меншиков. И то верно. Хотели опохмелить себя, а завели разговор, словно в Верховном тайном совете. – Будь, Тихон Никитич, виночерпием, наливай. Присаживайтесь, почтенные, где кому любо, – приглашал хозяин московских гостей. – Благодарствуем, ваша светлая милость… – И, присаживаясь в конце стола, тихо, но с явным осуждением своему московскому земляку: – Слыхал, как разговаривают? На камчатский край захотелось, а то своей земли мало. Ох, грехи, грехи… – Наливай, знай. Вся душа истомилась, – потер другой московский гость свою грудь. У светлейшего князя опять пир горой. Опять не протолкнуться. Для увеселения собравшихся играет музыка. Сизыми волнами стелется по апартаменту табачный дым, окутывая голландские изразцы. Говор, смех. – Подвинься ближе сюда, я тебе расскажу… Когда мы в чехском городе Праге были, то там сказывали, как у них со старины повелось, что бабы хоша и могли вместе с мужиками пировать, но только за столом им сидеть не дозволялось, а стояли они за мужичьими спинами. А чтоб со стола какую-нибудь еду себе доставать, для того у них были ложки с длинными черенками. – А во Франции парижский женский пол никакого запрета ни в чем не имеет. Свободно обходится с мужским полом, и любой другой кавалер для мадамы наравне с мужем значится. – Ага. Это – истинно так. Я знаю. Французенка – она для полюбовника создана. – Погоди, доскажу… Тамошние бабы, кои тоже мадамами называются, когда беспрепятственно одна с другой сходятся, то на музыках беззазорно играют и поют во весь рот. И когда к ним чужие мужья понаведаются, то тому сильно рады становятся и… – и уже совсем тихим шепотом, одними губами в самое ухо слушателю-собеседнику, так что тот спешный шорох лишь слышит. А на другом конце стола князь Борис Куракин, воодушевляясь с каждым словом, вспоминает свое: – Получили мы из Посольского приказа справку, что имя папы римского Иннокентий Двенадцатый, отчина его есть Неаполис, а породою он принцепс Пинятелий, и герб его есть три горшка стоящие. Так, хорошо. А титул пишется – блаженнейшему, либо светлейшему епископу римскому. А сам папа в титул добавляет еще от себя – раб рабов божьих. Ладно, узнали про то. А в государевом его царского величества наказе нам говорилось, что буде при первой аудиенции папские служители скажут, чтобы мы целовали папу в ногу, то отнюдь не соглашаться на такое и стоять на том крепко, чтобы поцелуй папе был только в руку. Мы и стоим на своем, а те согласия не Дают. Дни идут, впору нашему посольству вобрат домой возвращаться без встречи с папой. Так мы об этом и заявили. Еще после долгого спора, касательно церемонии при представлении папе, договорились, чтоб я, вместо полагающихся по их правилам двух раз, поцеловал бы папу как бы в ногу лишь один раз и так, чтобы только видимость тому сделать. Так все и свершилось. Перед папской ногой только воздух поцеловал. – Перехитрил его, папу энтого! – Молодец! – одобряюще смеялись слушатели. – Так ему, еретику, и надо. – Я вот… прощенья прошу, что перебью ваше слово, – обращаясь к Куракину, заговорил москвич из старого боярского рода. – Понятно, что покойный государь хлопотал, дабы русские люди в иные страны ездили и другим обычаям подражали, а ведь есть государства, кои не гораздо добры и столь плохое у себя завели, что дети от отца воровать, а от матерей распутничать научаются. Или вот в Литве город Вилия есть, так там во время недели три дня подряд празднуют: христиане, хоша они и не православные, но все-таки христиане, в воскресенье празднуют, жиды – в субботу, а которые турки; – в пятницу. Такое, что ли, перенимать у них? Вовсе в басурманов из русских людей оборотимся. – Все наше старинное русское на износ идет. Скоро самое слово «боярство» забудется. – Стало уж так, что лучше не поминать про него, не то на смех поднимут. Пришло время – знатность не по роду считать, а по годности. – Больно уж высоко иные теперь заносятся. – Высоко-то станешь глядеть, глаза запорошишь. Нет уж, не в пример лучше по-нашему: лежи низенько, ползи помаленьку, и упасть тебе некуда, а хоть и упадешь, так не зашибешься. II Ну, нет… С такими людьми государственной каши не сваришь. Им бы запечными тараканами быть, а у светлейшего князя Менщикова, у адмирала Апраксина, у Толстого, у Стрешнева и паки и паки с ними на жизнь и на людскую в ней деятельность совсем другие понятия. До того, как был обретен Петербург с его морской гаванью, иноземцы вывозили из Архангельского порта лучшие товары, и русские купцы жаловались царю Петру: «Не изволь, царское величество, нас иноземцам в обиду давать, раскуси немецкий умысел: они хотят нас заставить только лаптями торговать на нашей земле, а мы и поболе можем. Промыслишко и корабли свои надобны. Мы – твоя опора, царь-государь, а ты – наша милость. Разум твой царский, наши деньги в обороте да мужицкие руки при деле – и мы горы свернем». Иноземные купцы вывозили из России лес, хлеб, лен, пеньку, икру и мед; везли русские люди в Архангельск на ярмарку сотнями тысяч соболиные, беличьи, заячьи, лисьи, кошачьи шкуры; доставляли шкуры моржовые и тюленьи, ворвань и сало, деготь и смолу, – и все эти товары, дешево ценимые иностранцами, уплывали на их кораблях в европейские страны, где расценивались дорогой ценой. А как стали ходить свои корабли с теми же товарами, сразу проявилась великая выгода русским купцам, и то ли еще стало, когда главный торговый путь перенят был от Архангельска в Петербург. Вот она, главная и постоянная прибыль! Но случалось всякое, о чем тоже не следует умолчать. Ох, купцы, купцы!.. Наш резидент в Дании сообщал в письме, что прибыл в Копенгаген русский торговый корабль и приехали с ним купцы с разной мелочью: привезли немного льняного полотна, деревянные ложки да орехи каленые, и некоторые из сих негоциантов, сидя на улице, кашу себе на костре варили у места, где корабли пристают. Узнавши об этом, резидент запретил им продавать орехи да ложки и сказал, чтобы с такой безделицей не приезжали и кашу на улице не варили, а наняли бы себе дом и повариху. Один купец был с большой бородой, и датчане потешались над ним. И то еще было худо, что купцы никакого послушания не отказывали, бранились и даже дрались между собой, отчего немалое бесчестье русскому званию, и хотя им указывалось, чтобы смирно жили и чисто себя содержали, но они в старой русской одежде, без галстука да еще бородатыми бродили по городу. А те московские тугодумы, что догащивали у светлейшего князя, все жундели и жундели свое, прикрывая ладонью рот, чтобы другие не слышали, а своему можно не таясь говорить: – Прежнее звание не в уважении, и сам государь, царство ему небесное, проходил военную службу свою с бомбардирского чина, – надо же было до такого додуматься, так унизить себя! – осуждающе качал головой боярин. – Родовитую свою фамилию прочь откинул, Петром Михайловым себя прозывал. Словно царское звание постыдным было. – Так, истинно так. Тогда и началось падение лучших наших фамилий потому, что все нынешние вельможные господа были домов самых низких и государю внушали с молодых его лет быть противу знатных. И, похоже, не возвернется к тому, чтобы прежняя знатность стала в большом почтении, а безродная подлость – в страхе. – Да еще такое добавь, – все так же шепотливо подсказывал другой родословный ревнитель попираемой теперь знати, – что рядом с выслужившимися новиками получили первейшие места в государстве множество чужаков, иноземцев да инородцев. Не перечислить их всех – немец на немце сидит. – Дал бы бог выморозить их от нас, этих пруссаков-тараканов. – Он, немец-то, гуляет по Петербургу да посмеивается, сам себе говорит: царь Петр для того тут город поставил, чтобы мне, Гансу, хорошо жилось в нем. Очень, мол, такое приятственно! Умудренные жизнью люди говорят, что теперь не по-прежнему и само солнце светит: петербургские дни хотя в весенне-летнюю пору много длиннее московских, но зато часто бывают пасмурны и дождливы. Не плачет ли само небо о злосчастной судьбе тутошних поселенцев?.. Беседы светлейшего князя Меншикова с другими теперешними властителями, коими были господа верховники, касались разных вопросов. Говорили о прошлом, о текущих и предстоящих делах, сравнивали одно с другим, и разительнейшим было московскому боярину, к примеру, такое сопоставление: закурил вот светлейший князь трубку, набитую мерзопакостным зельем, еже есть табак, а за это при царе Алексее Михайловиче нещадно били кнутом и вырывали ноздри, из коих тот дым выходил. Теперешние же правители видят в поганом курении заграничный форс жизни. Тьфу, окаянство какое!.. Напрочь перевели былую одежду – долгополый охабень с прорехами под рукавами, в коем и тепло и удобно было, а чем заменили? Вон – хотя бы у того царедворца – короткий кафтанишко из белого атласа на собольих пупках: и зябко, и марко в нем, и срамно. В Петербурге, в сем «парадизе» – поганое слово какое! – в гости едучи, пришлось грех на душу взять – лик оголить и в кургузое обрядиться, благо что это временно, а дома можно будет снова в охабень закутаться и бороду отрастить. Было о чем боярину рассказать по возвращении в Москву и также удивить слушателей. Но всего ведь боярин не знал, не при нем вел царь Петр тут свои беседы с людьми, а они были весьма поучительны. Думая о будущем, говорил царь, бывало, сидя в кругу своих приближенных: – Предвижу, что россияне когда-нибудь, а может, еще и при моей жизни, удивят самые просвещенные народы своими успехами и неутомимостью в трудах, всем величием громкой славы. Военную победу мы, считай, уже одержали и победим еще во многом другом, и все лучшее, что пока имеет место в Европе, неотъемлемо будет у нас. Годов тридцать назад никому из вас, други мои, не грезилось и во сне, что в недолгом предбудущем времени станем мы плотничать здесь, у своего моря, новый, вельми славный город возведем, доживем до того, что увидим своих русских храбрых солдат и матросов, и множество иноземных художников, и своих сынов, возвратившихся из-за моря смышлеными да разумными. Доживем до того, что меня и всех вас станут почитать чужие государи. Ученые мужи полагают, что колыбель многих наук была в Греции, а оттуда переместилась в Италию и в другие европейские страны и токмо худо проникли науки на Русь. Теперь пришел черед пребывать им у нас. Мнится мне: внезадолге иные науки совсем оставят Англию, Францию и Германию и перейдут в нашу империю. Будем надеяться, что еще на нашем веку пристыдим мы другие образованные страны, кои пока смотрят на нас свысока, и вознесем мы российское имя в славе и почестях на веки веков. Хочешь, Европа, не хочешь, а уважай, считайся с Россией, цени ее. Мы тебе не захудалые дальние родичи, а родная сестра. Даже старшая. Да, можно и нужно имя российское возносить! И еще говорил: – Я в Петергофе от одного чухонца такое поверье услышал, что и вам в назидание оно будет. Сказывают, что в давние годы люди принимались строить город на приневских топких местах, но каждый раз болото поглощало постройку. Но пришел раз туда русский богатырь и тоже захотел строить город. Поставил он один дом – поглотила его трясина, поставил другой, третий – так же и они один по одному исчезали. Рассердился тогда богатырь и придумал небывалое дело: взял и сковал целый город да и поставил его на болоте. Не смогло оно тогда поглотить богатырский тот город, и он стоит по сей день. Многими своими действиями Петр напоминал такого былинного богатыря, не гнушавшегося простым людом. Как могучий и неустрашимый Илья Муромец пивал с кабацкими голями, так и царь Петр в часы отдохновения любил приятельские застолья с простолюдинами, якшаясь к ними и в делах, и в гульбе. Подобно былинному богатырю, мог бы тоже стрелять по божьим церквам и рушить их золотые маковки, – порушил же колокольни, обезгласив многие из них снятием колоколов, чтобы переплавить их на пушки. И во многих других делах проявлял Петр богатырские повадки, готовый переиначить содеянное самим богом. Нет, никогда не забудутся и даже не померкнут дела и задумки цари Петра. Куда ни глянь, все напоминает о нем, словно продолжает он свою жизнь, смертию смерть поправ, остается жить в людской памяти, на веки вечные обессмертив себя. А когда заболевал, то как бы обет давал: только бы вот на ноги поскорее подняться, тогда лучше жизнь поведет. Много дней в ней потрачено зря, а их уже не вернуть. Многое сделано, а надлежит во сто крат больше сделать. Он лежал тогда и поучал сам себя; словно умудренный опытом, затевал начинать действительно новую жизнь. Всю свою печаль готов был возвести на бога: зачем так устроил, что к склону дней прибывает у человека мудрость, а телесные силы сякнут?.. Что он есть вот сейчас – хворый, немощный? Столь большой – вон куда ноги-то протянул! – а находится в мизерном положении. Эх, подняться бы поскорей. Всешутейшие, всепьянейшие, всеглупейшие соборы начисто разогнать, повести жизнь – не смирную, нет, но разумную, на погляденье всем людям. Неужто тщетно сие?.. Много было раздумий у царя Петра. Он напряженно думал о том, кому доверить все содеянное им с первого дня сего восемнадцатого века. Свершенные им преобразования являлись служением Российскому государству, всенародной пользе. Теперь каждому ясно, сколь сильной и славной стала Россия, но как непросто было достичь этого. Чтобы разбогатеть государству, следовало вести большую торговлю, развивать промыслы, пробиваться к морю, освобождаться от дани, которую платили крымскому хану, как поминки. А кто противился происшедшим преобразованиям? Раскольники, косные хранители старины, древлего благочестия?.. Не благочестие оберегали они, а свое невежество да изуверство. Постыдную жизнь вели и ведут в своих скрытых скитах, противясь всему новому, лучшему. Их ли примеру следовать?.. Не терпя гулящих людей, не пристроенных ни к какому делу, Петр приказывал хватать их на улице и отправлять в работу. Во время таких облав попадались носители иноческого, монашеского чина, и не каждому из них удавалось вернуться в свой монастырь. И то хорошо, зря не станут шататься, а к нужному делу приставлены. III Встряхнуться, хоть на час-другой отвлечь себя от нескончаемых забот или сбросить отягощающие вериги уныния помогали Петру празднества, которые устраивал он, давая пиры, зажигая фейерверочные огни, проводя шумные маскарадные шествия, где ему же приходилось больше трудиться, нежели отдыхать, – руководить всеми играми. Он без устали колотил в барабан, называясь тамбур-мажором, трубил в трубу, предводительствовал в замысловатых танцах. Многие новшества вводил царь Петр в жизненный обиход, а вот угощение велось по-старому русскому обычаю: хочешь не хочешь, а пей. Ежели в доме пир, то можно дверь держать на запоре, чтобы гости не выскочили, а на вольном воздухе, в Летнему саду, например, караульщики у всех выходов, – тоже никак не уйдешь. Дюжие гвардейцы Преображенского полка разносили большие чаши с вином; майоры гвардии выкликали, за чье здоровье выпивать – как же уклониться от этого и своим отказом обидеть кого-то? И пили, и угощались. Высшее петербургской епархии духовенство, тоже приглашенное в Летний сад, веселилось не меньше других. А день летний долгий, да и ночи в Петербурге как сумерки, – времени для гульбы много. Коробила царя Петра мысль о том, что, несмотря на все меры, принимаемые полицией, много нищих в самом Петербурге, а в других городах и подавно. Хватали их на улицах, нещадно батожьем били, чтобы они по миру не смели ходить; которые оказывались на самом деле слепые и убогие, те отсылались в богадельни, а здоровые – к прежним хозяевам с приказом, чтобы им была дадена работа, дабы они даром хлеба не ели. Кроме нищих, полиция воевала с кликушами, выявив среди них немало притворных. Забирала полиция гулящих девок и баб, отправляя их на прядильный двор да на ткацкую фабрику. … Три пули ловили жизнь Петра во время Полтавской битвы, а сколько их гонялось за Меншиковым, свистя над его головой то справа, то слева. Из скольких схваток с врагом он выходил победителем! Храбрость, доблесть, бесстрашие, смелость, удаль, геройство, дерзновенная решимость, отвага, мужество, – все эти качества сопутствовали боевым действиям Меншикова, и было за что царю Петру награждать его. Многое из того, что совершалось Петром, жило в делах и смекалке бывшего его денщика. Недостроенной храминой назвал Меншиков оставленное царем Российское государство, а кому же достраивать неокоченное, как не ему, всю жизнь служившему правой рукой государя?.. Вот какое наследство достается теперь ему, некоронованному властелину всея Руси. Сумеет справиться со всем, что одолевал царь? Должен, обязан суметь, будучи множество лет первым и главным его помощником. Он, Александр Меншиков, – продолжатель царственной жизни Петра I, уступившего своему Алексашке недожитые годы. Светлейший князь на своем досуге перебирал в памяти многое из того, что видел и слышал, чему бывал и участником и свидетелем, и что связано было с жизнью царя Петра. Вся она с мальчишеской озорной поры до последнего дня прошла на глазах, многими делами и помыслами жили они неразрывно один от другого. О мертвом – только хорошее. Этому бытовавшему в народе обычаю следовал и он, Меншиков, думая о Петре. И во множестве самых разных своих дел и помыслов будто бы оживал царь Петр перед его мысленным взором. Было в воспоминаниях и такое, на чем Меншиков старался не задерживаться, довольствуясь тем, что спина или бока памятно хранили отметины царевой дубинки, сопутствуемой строгому словесному наставлению. Бывало такое, – из песни слова не выкинешь и от самого себя не утаишь. А наряду с тем – дружеские объятия и братские, почти родственные поцелуи. И наедине и на людях стыдил его Петр за безграмотность, однажды пробовал сам обучать, но, разозлившись на его, Алексашкину, бестолковость, плюнул с досады да наградил незадачливого ученика веской затрещиной. И удивлялся: как же у Алексашки хватает смекалки, упорства, выносливости на геройские дела и поступки, а не может одолеть такой нехитрой премудрости, как сложить буквицы в слово. А изустно слово к слову лепить – мастак. Иной раз такое выскажет, что только диву дашься – где и как он поднаторел?! Но прости, государь, своего Алексашку, не взыщи на такой неполадливости, довольствуйся тем, что все же кое-что умел, получая от тебя похвалу. Когда же уличал в прохиндействе и в других непотребных деяниях – стыдил, ругал, бивал, не желал больше знаться с таким обалдуем, но вскоре же был и отходчив, и снова велась их неразлучная дружба. – Прости, Петр Алексеевич-голуба, за лихое, содеянное. Под конец устрашился твоей неотвратимой угрозы и опередил тебя в сведении последних жизненных счетов, – прошептал Меншиков, осеняя себя крестным знамением. Теперь решается он искупить свою вину перед тобой – доделать если не все, то многое из того, что не успел сделать ты, преобразуя свое государство. Все предпосылки для этого налицо. Екатерина не проявила себя преемницей твоих дел. Только в разгульной жизни переняла твои навыки, но у тебя случалось то между дел, а у нее – взамен их. Только пирушки да свои, бабьи, утехи на уме. Он, Меншиков, за всю свою жизнь девять миллионов накопленных рублей в иноземных банках хранит, а она за неполные последние два года, в начале своей вдовьей жизни, более пяти миллионов потратила. И куда только девала их?.. Левенвольда одаривала, а потом – зятя, голштинца, за то, что в добавку к родству еще и фаворитом стал. Долго ей не процарствовать, понимает это, заговаривая о наследнике. А он – только один: богоданный внучок Петр. Старшая дочь Анна Петровна клятвенное заверение дала, что на трон не позарится; Елисавета значится невестой епископа Любского, выйдет в замужество за него, и, подобно сестре, тоже клятву даст – не заботить себя тронным замыслом, – только он, малолетний великий князь, подлинным наследником остается. Ему русское царство предназначено. Он, хотя еще не помолвленный, но, можно считать, уже предрешенный в недальнем будущем супруг Александры, младшей дочери светлейшего князя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|||||||