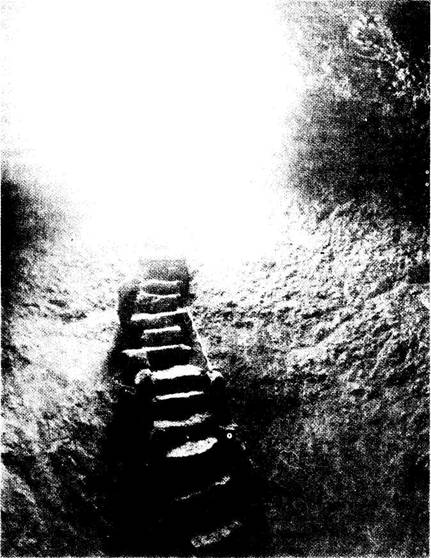Обзор Ветхого завета
ModernLib.Net / Религия / Ла Уильям / Обзор Ветхого завета - Чтение
(стр. 29)
|
Автор:
|
Ла Уильям |
|
Жанр:
|
Религия |
|
-
Читать книгу полностью
(2,00 Мб)
- Скачать в формате fb2
(3,00 Мб)
- Скачать в формате doc
(582 Кб)
- Скачать в формате txt
(553 Кб)
- Скачать в формате html
(3,00 Мб)
- Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
|
|
В заключительных главах Книги взгляд пророка на Слугу отражает начальную часть его пророчества: "Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не искавшие Меня: "вот Я! вот Я — говорил Я народу, не именовавшемуся именем Моим. Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному…." (65.1–2). Однако отражено также и исполнение вечного замысла Божия: "Ибо вот. Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не услышится в нем более голос плача и голос вопля… Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь"(65.17–25). ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ: Childs, B.S
Isaiah and the Assyrian Crisis.SBT. 2nd ser. 3 (London: 1967). Clements, RE. Isaiah 1-39. NCBC. Grand Rapids: 1981. (Рассматривает гл.36–39 как раннюю связку между гл. 1-35 и 40–55). Holladay, W.L.
Isaiah: Scroll of a Prophetic Heritage.Grand Rapids: 1978 (Руководство no изучению для мирян; каноническая книга представляет собой "целый ряд голосов"). Kauffmann.Y
The Babylonian Captivity and Deutero-lsaiah.Trans. C.W. Efroymson. New York: 1970 Оспаривает мнение, что Израиль впервые принял монотеизм в период после пленения. Kissane, E.J
The Book of Isaiah. 2vols. Rev ed. Dublin: 1960. (Хорошее исследование, выполненное римско-католическим авторов) Knight, G.A.F.
Deutero-lsaiah: A Theological commentary on Isaiah 40–55.Nashville: 1965. K-ruse, C.G. "The Servant Songs: Interpretive Trends Since C.R. North".
Studio Biblica et Theologica%{\91 %)3-21. Millar. W.R.
Isaiah 24–27 and the Origin of Apocalyptic.HSM II. Missoula: 1976. Muilenburg, J. "Introduction to Isaiah 40–66". /A5:381–414. Neubauer, A., and Driver, S.R., eds.
The Fifty-third Chapter of Isaiah According to the Jewish Interpreters. 2vols. 1876-77; repr. New York: 1969. (Тексты и переводы) North, C.R.
The Suffering Servant in Deutero-lsaiah.2nd ed. London: 1956. (Тщательное исследование с исчерпывающей библиографией) Power, E. «Isaiah».
CCHS§§ 419a-451s. (Тщательная библиография; интересное развитие пророческого послания) Skinner, J.
The Book oftjie Prophet Isaiah. 2vols. Cambridge Bible. Cambridge: 1897-98. (Классическая работа) Smart, J.D.
History and Theology of Second Isaiah.Philadelphia: 1965. Ward, J.M.
Amos and Isaiah.Nashville: 1969. (Pp. 143–279; усматривает литературное и богословское сходство между Книгами "Первого Исайи" и Амоса). Westermann, С.
Isaiah 40–66.Trans D.M.G. Stalker. OTL. Philadelphia 1967. Whybray, R.N.
Isaiah 40–66.NCBC. Grand Rapids: 1981. Young, E.J.The Book of Isaiah. 3 vols. Grand Rapids: 1965–1972. (Консервативная, тщательная экзегеза, проверенная догматическ
(лакуна)
ГЛАВА 30. МЕССИАНСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО
Слово «Мессия» в Ветхом Завете не встречается. Как же можно тогда говорить о "мессианском пророчестве"? Поскольку христиане интересуются, в первую очередь, Христом, то в Ветхом Завете они с особым вниманием ищут пророчества о Нем. Некоторые христиане в Ветхом Завете ищут только это. В Книге Исайи и в меньшей степени в Книге Михея мы уже встречались с пророчествами, которые обычно связываются с Иисусом Христом. Еще больше мы найдем их у других пророков. Поэтому, на данном этапе представляется целесообразным рассмотреть предмет мессианского пророчества. МЕССИАНСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО И ПРОРОЧЕСТВО ВООБЩЕ Как и пророчества вообще (см. гл.22), мессианские пророчества — это не "история, написанная заранее".
Слово «Мессия».Это производное от евр.
masiah(иногда пишется
mashiach),нарицательного прилагательного со значением «помазанный». На греческий язык оно было переведено как
christos —отсюда «Христос». Слова «Мессия» и «Христос» имеют одно и то же исходное значение,
и, называя Иисуса «Христом», авторы Нового Завета отождествляют Его с Еврейским Мессией. Однако начинать рассмотрение с Христа означает двигаться в обратном направлении. Напротив, вначале необходимо узнать, какие мысли вызывало у израильского народа это еврейское слово. Использованное как прилагательное со значением «помазанник», оно встречается неоднократно, часто как "помазанный священник" и несколько раз в отношении царей. Иногда оно используется в значении существительного — «помазанный», даже в отношении персидского царя Кира (Ис.45.1). Однако нигде в Ветхом Завете оно не имеет значения титула Мессии.
В период между Заветами — после завершения ветхозаветного канона, но до времен Христа — слово стало использоваться как специальный термин, обычно с артиклем — «Помазанник» (Пс. Сол-17.36; 18.8; ср. 1 Енох.48.10; 52.4). Ко времени Христа это слово широко использовалось как титул.
Когда правители послали священников и левитов опросить Иоанна Крестителя, тот ответил: "Я не Христос" (Ин. 1,20). Его ответ был прекрасно понят, потому что следующим вопросом был: "Ты Илия?" (согласно еврейскому учению, Илия должен был прийти перед пришествием Мессии; см. Мал.4.5 [МТ 3.24]). Аналогичным образом, когда Иисус спросил апостолов: "А вы за кого почитаете Меня?", Петр ответил: "Ты Христос…" (Мф. 16.15). Ранняя христианская Церковь приняла этот титул для Иисуса (см. Деян.2.36), а впоследствии "Иисус, Христос (Мессия)" было упрощено до "Иисус Христос" и стало именем собственным.
Мессианское пророчество без Мессии?Вопрос о том, как могли существовать в Ветхом Завете мессианские пророчества, если слово «Мессия» не встречается, уже был поставлен. Чтобы на него ответить, необходимо вначале понять, что пророчество — это послание от Бога (см. гл.22), которое связывает настоящую ситуацию с Его непрерывной искупительной деятельностью. Кульминация этой деятельности — Иисус Христос. Поэтому, любое пророчество, связывающее настоящее с конечной целью Божией может быть названо «мессианским». Однако, хотя термин "мессианское пророчество" используется в широком смысле, представляется полезным его сузить и, указав несколько отличительных признаков, придать ему точность. (1) Сотериологическое пророчество. Многие пророческие места выражают общую мысль, что Бог трудится, чтобы спасти Свой народ, и настает время, когда эта цель будет достигнута. Такую надежду можно найти в рассказе о грехопадении, когда Бог говорит змею, что семя жены сокрушит его главу — т. е., что противник творения Божиего будет в конечном итоге побежден (см. Быт.3.15). Хотя это место часто называется "мессианским пророчеством", оно больше подходит под определение сотериологического пророчества, которое провозглашает окончательную победу Бога над всем, что противится Его спасительному замыслу. (2) Эсхатологическое пророчество. Ряд пророчеств, особенно в Книгах, написанных после падения Самарии, относится к наступающим дням или к концу века. Еще у Амоса
встречаются; такие утверждения, как: "В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние" (Ам.9.11). "Вот, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля… И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них (ст. 13–14). Эти пророчества относятся к "мессианскому веку" (см. ниже). Однако в них не упоминается Мессии; Сам Бог является Центральной Фигурой. Поскольку такие места относятся к концу времен, их можно классифицировать как эсхатологическое пророчество. Апокалиптическое пророчество. В некоторых пророчествах, особенно периода пленения и после него, Божественное вмешательство приносит окончательную победу над врагами народа Божиего. Иногда это связывается с "днем Яхве" — выражением, употреблявшимся еще до времени Амоса (см. Ам-5.18). День Яхве, или День Господень, — это день суда (Ис.2.12–22), гнева (Соф. 1.7-18) и спасения или победы (3.8-20). Когда Гог из земли Магог выступает против Израиля "в последние дни", Сам Бог, используя землетрясение, чуму, всепотопляющий дождь и другие ужасы, побеждает его и спасает Свой народ и его землю (Иез.38.1-39.29). Такое вмешательство Бога в обычный ход исторических событий называется «апокалипсисом», а такие пророчества лучше классифицировать как апокалиптические. Мессианское пророчество. Пророчество следует называть мессианским лишь когда ясно имеется в виду Мессия или описывается мессианское правление. Иначе может возникнуть большая путаница.
Однако, если термин «Мессия» не встречается в Ветхом Завете, как же можно узнать о Личности или царстве Мессии? ЛИЧНОСТЬ И СЛУЖЕНИЕ МЕССИИ
Сын Давидов.Согласно еврейскому пониманию междузаветного и новозаветного периодов (ок.300 г. до. РХ.-300 г. от Р.Х.), слово «Мессия» означало именно Сына Давидова, Который должен стать Мессианским Царем. В Новом Завете оно используется именно в этом значении. Так, Иисус спросил фарисеев: "Что вы думаете о Христе? Чей Он сын?" И они ответили: «Давидов» (МФ.22.42). Когда Иисус въезжал в Иерусалим так, что это указывало на исполнение пророчества Захарии (Мф.21.5; ср. Зах.9.9), толпа кричала: "Осанна Сыну Давидову!" (Мф.21.9). Когда апостолам нужно было подтвердить мессианские права Иисуса, они обращались к местам Ветхого Завета, в которых упомянут Давид (Деян.1.16; 2.25), утверждали, что фактически имеется в виду Мессия (см.2.29–31, 34–36, слово «Мессия» заменяется на слово "Христос").
Династия Давидова.Когда Давид собирался построить храм (или "дом") Господень, был послан пророк Нафан, чтобы сначала запретить этот план, а затем обещать: "Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом" (2 Цар.7.11). Следующие слова взяты из "Давидова завета": "Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих… Я утвержу престол его царства на веки… И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки"(ст. 12–16).
Могила Царя Давида от которого должна была произойти "Ветвь праведная" (Иер.33.15).
На основании этого завета термины "дом Давидов", "престол Давидов", "сын Давидов" приобретают большое значение в ветхозаветном пророчестве. В обзоре Книг Царств (см. выше гл. 17–20) было отмечено, что династия Давида продолжалась вплоть до падения южного царства. Пророки периода после пленения и агиографы (Ездра и Неемия) показывают, что линия Давида была вновь утверждена в лице Зоровавеля. В новозаветных родословиях Иисуса Он принадлежал к линии Давида (по поводу места Давида в верованиях ранней Церкви, см. выше). Это центральное положение династии Давида стало существенным элементом мессианской надежды и выражено разнообразными способами. Исайя провозглашал надежду, касающуюся "последующего времени" (Ис.9.1), когда родится Младенец, Который возьмет на себя владычество, "чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века". Владычество это должно было быть "на престоле Давида" (ст. б и далее). Исайя также упоминал "отрасль от корня Иессеева, ветвь… от корня его" (11.1), имея в виду Давида, сына Иессеева и то, что, хотя и срезанная, ветвь Давида возродится от тех же корней. Иеремия указывает на завет с Давидом (Иер.33.17, 20 и далее), упоминая "Отрасль праведную" и возвращение Давиду Отрасли праведной (Иер.23.5 и далее; 33.14–16). Он даже объявляет, что "будут служить… Давиду, царю своему, которого я восстановлю им" (30.9). Иезекииль говорит: "И поставлю над всеми одного пастыря, который будет пасти их, раба Моего Давида", который будет "князем среди них" (34.23–24). Аналогичные утверждения встречаются и у других пророков.
Царские псалмы.Вне какой-либо конкретной теории коронационных ритуалов (см. ниже, гл.40)
следует указать, что ряд Псалмов, на первый взгляд, представляются адресованными царю, однако они содержат выражения, которые, похоже, указывают на Большего, чем конкретный человек, в данный момент сидящий на престоле. Пс.2, например, говорит о Царе над Сионом (частью Иерусалима, в которой был расположен царский дворец), однако он обращается к Нему как к «Сыну» Яхве (ст.7) и обещает, что Бог даст Ему все народы в наследие и пределы земли во владение (ст.8). Это утверждение предвосхищает время, когда Царь будет править не только Израилем, но и языческими народами. Пс.44 адресован «Царю» (ст.2 [МТ 2]) и описывает славу Его царства. Однако он идет еще дальше и говорит: "Престол Твой, Боже, вовек" (ст. 18 [МТ 7]),
и, наконец, заключает: "Сделаю имя Твое памятным в род и род; посему народы будут славить Тебя во веки и веки" (ст. 17 [МТ 18]). Это, конечно, выходит за рамки царствования действующего царя! Пс.109 открывается следующими словами: "Сказал Господь (Яхве) Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих" (ст. 1). Используются и другие выражения, связанные с концом века, например, "день гнева Своего" (ст.5) и "совершит суд над народами" (ст.6). Эти несколько примеров показывают, что царь, который сидел на престоле Давида, был символом чего-то большего в пространстве и времени, чем он сам и его царствование, и мог символизировать даже Яхве. Псалмы, выражающие веру в Божественное обетование установить вечное царство и упоминающие также царя и престол Иерусалима, могут, собственно, называться мессианскими псалмами. Они близко связаны с мессианским пророчеством.
Мессианское царство.Внимательное рассмотрение деталей, выраженных в мессианских пророчествах, показывает, что пророки предвидели нечто большее, чем продолжение династии Давида. Само выражение "Сын Давидов" несет в себе более широкую и глубокую мысль; хотя отдельные цари всегда называются "сыном Иеровоама", "сыном Навата" или "сыном Ахаза", пророческие послания, касающиеся продолжения династии, всегда указывают на "Сына Давида". Таким образом, приходит на ум первоначальный завет с Давидом, а с ним и первоначальный идеал царя и царства. Как указано выше, царство, которое будет установлено в последние дни, будет "во веки". Оно включает все народы или языки и простирается до краев земли. Однако это больше, чем простое расширение Иудейского царства в пространстве и времени. Оно отличается самой сущностью, будучи основано на праведности и мире. Дух Господень почивав! на Мессианском Царе, Который судит по правде и истине (Ис, 11.2–4). Даже изменение природного порядка — часть пророческой картины мессианского царства: "Тогда волк будет жить с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их… Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море" (ст. б-9). Хотя в настоящей главе рассматривались, в основном,
царскиеаспекты Мессианства, предмет, как он представлен в Новом Завете, значительно шире. Иисус показан в нем не только исполнением царского идеала как Сын Давида, но и многого другого, сказанного в Ветхом Завете: как Мудрец, Он больше Соломона (Мф. 12.42); как Сын Человеческий, Он — исполнение видения Даниила (Дан.?. 14); как Пророк и Законодатель, Он — Второй Моисей (Мф.5–7); как Священник, Он больше Аарона (Евр.5–7); как Отрок Господень, Он отдает Свою жизнь в выкуп за многих (Мк. 10.44). Эти нити, включая царскую, первоначально существовали отдельно в Ветхом Завете. Христос сплел их воедино в Себе, как части Его сознания Своей помазанности и избранности Богом.
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ:
Bentzen, A.
King and Messiah.London: 1954. (Излагает скандинавскую точку зрения). Klausner, J. The Messianic Idea in Israel. Trans. W.F. Stinespring. New York: 1955. (Co времени Моисея до III в. отР.Х.) Landman, L.
Messianism in the Talmudic Era.New York: 1979. (Очерки происхождения, естественных и сверхъествественных аспектов еврейского и христианского мессианских феноменов.) Motyer, J.A. «Messiah».
IBD,pp. 987–994. Mowinckel, S.
He That Cometh.Trans. G.W. Anderson. Nashville: 1956. (Включает рассмотрениетемы "Сына Человеческого"). O'Doherty, E. "The Organic Development of Messianic Revelation.
CBQ19 (1957): 16–24. Ringgren, H.
The Messiah in the Old Testament.SBT 18. London: 1956. (Поддерживает традиционное толкование, используя историческую экзегезу.) Rivkin, E. "The Meaning of Messiah in Jewish Thought".
USQR26 (1971): 383–406. (Самопроизвольное решение проблем- иудаизма и греко-римского мира.) Scholem, G.
The Messianic Idea in Judaism.Trans. M.A. Meyer and H. Halkin. New York: 1971. (Очерки, подчеркивающие сложные отношения между еврейским мистицизмом и мессианством.) Teeple, H.M.
The Mosaic Eschatological Prophet.JBL Monograph. Philadelphia: 1957. (Рассматривает взгляды, согласно которым в эсхатологические времена возвратится Моисей или пророк, подобный ему.)
ГЛАВА 31. ИЕРЕМИЯ
Смутные времена требуют и сами порождают людей, способных принять их вызов. Время Иеремии — наиболее серьезный период длительной истории Иудеи — имело своим основным толкователем пророка, не имеющего себе равных в понимании сущности пророческого послания и способности выразить ее. В течение четырех беспокойных десятилетий Иеремия, рискуя собой, провозглашал Слово Божие как царям, так и простолюдинам. Он являл не только то, что пророк должен говорить, но и то, каким он должен быть сам. Его Книга рассказывает о его жизни и послании и дает образец истинного пророчества.
ВВЕДЕНИЕ
Пророк.Биографическая и автобиографическая части Книги позволяют нам узнать о Иеремии больше, чем о любом другом пишущем пророке. Рожденный в селении Анафоф, расположенном к северу от Иерусалима (1.1; 11.21,23; 29.27; 32.7–9), он был сыном священника Хелкии. Неясно, был ли род Хелкии, как это часто утверждается, лишен права заниматься своим делом в результате радикальных реформ Иосии, которыми были запрещены жертвенники вне Иерусалима. Вполне вероятно, что они были потомками священника Авиафара, которого Соломон сослал в Анафоф за участие в попытке Адонии захватить престол (3 Цар.2.26). Мы не знаем, какова была обстановка в семье Иеремии, однако следует обратить внимание на предположение Г.Л. Эллисона: "То, как взгляды Иеремии проникнуты пророчествами его предшественников, особенно Осии, наводит на мысль, что его дом мог быть одним из тех мест, где свет преследуемой пророческой традиции в темные века не угасал".
Это бережное отношение к наследию означает, что семья Иеремии всегда понимала и принимала его послание. Напротив, мужи Анафофа, включая его братьев и домочадцев отца, решительно нападали на него, по-видимому, из-за его поддержки реформ Иосии (см. 11.21; 12.6). Иосия и Иеремия были приблизительно одного возраста. Пророк называет себя юношей, когда к нему впервые было слово Божие в тринадцатый год царствования Иосии, т. е. прибл. 627 г. от Р.Х. (1.2).
Таким образом, он, очевидно, родился вскоре после 650 г. Хотя его пророческое призвание произошло задолго до того, как реформы Иосии получили толчок в результате нахождения книги закона (4 Цар.22.8 и далее), большая часть записанных пророчеств касается событий после трагической смерти Иосии в 609 г. Служение Иеремии простирается более чем на сорок лет (завершаясь после 586 г., когда Иерусалим был захвачен Навуходоносором) и охватывает царствование четырех преемников Иосии — последних царей Иудеи.
Его призвание.Иеремия с самого начала отмечен непониманием. Его призвание утвердило его как истинного пророка и задало тон его служению: "И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать" 1.9-10). Как и Моисей, Иеремия чувствовал свое несоответствие поставленной задаче, особенно ввиду своей молодости, которая могла помешать донести это мрачное слово враждебно настроенным слушателям. Такая проповедь не могла быть популярна. Поэтому, чтобы Иеремия смог принять эту тягостную обязанность, нужна была гарантия того, что Бог проследит за исполнением Своих слов. Она выразилась в видении жезла миндального дерева (см.20.7-18). Осия переживал стыд и упреки из-за своей порочной жены; Иеремия был полностью лишен брака и отцовства, чтобы символизировать бесплодность осуждаемой земли. (16.1-13). Такое безбрачие было редким среди евреев и, несомненно, ставило вопрос о его полноценности. Кроме конфликтов внутренних, Иеремию изнуряли постоянные угрозы извне. Действительно, "конфликт — лейтмотив общественной жизни Иеремии".
Жители его родного города и домочадцы его, отца выступили против него (11.21–23; 12.6). Позже священники в союзе с пророками обвинили его в богохульстве за предсказание о разрушении храма (26.1–6). Его воинственная позиция была оправдана, когда вспомнили, что аналогичное предсказание сделал Михей во времена Езекии и остался невредим. Однако народ был так раздражен, что лишь заступничество еврейского аристократа Ахикама спасло жизнь пророка (26.24). Избитый и посаженный в колоду священником Пасхором (20.1–6), оставленный князьями иудейскими умирать в наполненной грязью яме (38.6-13), Иеремия не раз смотрел смерти в глаза. Хуже всего был гнев Иоакима, разъяренного обвинением его народа в грехах и объявлением осуждения страны (36.1–7). Иеремия и его верный писец Варух избежали царского гнева лишь благодаря Божественной защите (ст.26). В довершение всех несчастий Иеремии было еще и непонимание и противодействие со стороны лжепророков — профессионалов, которые более подчинялись прихотям людей, чем слову Божиему. Вместо поддержки послания Иеремии они противоречили ему, предсказывая мир и безопасность, а не осуждение. Они так погрязли в грехах своих соотечественников, что не могли уже восклицать против них: "Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия" (23.14). Они утверждали, что знают слово Божие, однако, это утверждение было пустым: "Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их" (ст.21–22). Контраст между истинным и ложным пророками особенно очевиден в столкновении Иеремии с Ананией (28.1-17). Как пророк над всеми народами, а не только Иудеей (1.10), Иеремия провозгласил, что окружающие царства — Едом, Моав, Аммон, Тир, Силон — должны подчиниться власти Навуходоносора, несмотря на любые другие советы пророка или предсказателя. Чтобы продемонстрировать это подчинение, Иеремия одел на шею деревянное ярмо и привязал его ремнями. Претендуя на бого-духновенность, Анания объявил, что пленение будет кратковременным, и пленники, включая депортированного царя Иехонию, возвратятся в течение двух лет (28.2–5). Затем он разбил деревянное ярмо Иеремии (ст. 10-И). Не нужно много воображения, чтобы почувствовать, как такое противодействие огорчало праведную душу пророка.
Его характер.Многочисленный автобиографический и биографический материал в Книге позволяет постичь характер пророка. При этом можно выделить пять его основных черт:
(1) Иеремия обладал глубокой личной честностью, особенно в его отношениях с Богом, в отличие от лжепророков, он не давал гладких ответов, но боролся с Самим Богом за точное понимание Его слов в каждой конкретной ситуации. Эта искренность граничит с неповиновением или даже богохульством: Под тяготеющею рукою Твоею я сидел одиноко; ибо Ты исполнил меня негодования. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели Ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою? (15.17–18). И вновь: Ты увлек меня, Господи, и я увлечен; Ты сильнее меня, и превозмог; и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною (20.7). Иеремия охотно признавал, что временами его служение было ему неприятно. Он чувствовал себя в ловушке. Он не мог избежать Божественного призвания, и слово жгло его изнутри. Однако, когда же он действительно проповедовал. Бог выставлял его на посмешище, задерживая исполнение пророчеств (см.20.8-10). Однако Иеремия верил в Бога так сильно, что его прямота была добродетелью. Как и Аввакум, он хотел верить и кричал о помощи в своем безверии. В своем личном содружестве с Богом он находил силы продолжать свое служение, несмотря на сомнения и страхи, ибо Бог заверил его:
Водоем в Иерусалиме. Поздний бронзовый век. (см. Иер.38.6)
"Если ты обратишься, то Я восстановлю тебя, и будешь предстоять пред лицем Моим; и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною; они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо Я с тобой, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь" (15.19–20). (2) Иеремия бесстрашно отстаивал свои убеждения. Как видно из частичного перечня его страданий от рук его врагов, угрозы, исходящие от семьи, царской власти или священства не могли заставить его смягчить свое пророчество. Он знал, что он должен делать, и делал это… не всегда удачно, но всегда верно и отважно. (3) Иеремия проявил также страстную ненависть к нравственно и духовно нездоровому поведению. Вспышки его ярости против идолопоклонства (напр., гл.2–5), социальной несправедливости (напр., 5.26–29) и лжепророчества (напр., ст. ЗО-31) — пример его праведного негодования. Его требование суда было таким неумолимым, что временами его молитвы о подтверждении его пророчества становятся просьбой о мщении его врагам: "Вспомни, что я стою пред лицем Твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев Твой. Итак, предай сыновей их голоду и подвергни их мечу; да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне" (18.20–21). Если временами он и выражался слишком сильно, то это было больше признаком величия, чем слабости. Иеремия серьезно относился к греху, потому что он серьезно относился к Божественной правде. Уже позднейшему Страдальцу надлежало показать, как нужно ненавидеть грех и в то же время заступаться за грешников. (4) Иеремия сочетал чувствительность к страданиям своего народа и милосердное человеколюбие. Его роль пророка осуждения часто вступала в конфликт с его любовью к своему народу и земле.
Видеть нераскаянность и безразличие перед лицом надвигающегося осуждения было мечом для его сердца: "Да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают; ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом" (14.17). Хотя и будучи серьезным, как того требовала его доля, Иеремия не был мрачным. Он находил определенную радость в своем близком общении с Богом, и помощи таких пламенных преданных друзей, как Варух. То, что его послание находило отклик у священника Софонии (29.29); что князь Иудейский Ахиким защищал его (26.24); что эфиопский евнух посмел спасти его из грязевой ямы (38.7-13); и что Седекия тайно слушал его, — все это наводит на мысль, что Иеремия был способен на теплую дружбу, несмотря на его пророческую суровость. (5) Последней и замечательной характеристикой была надежда Иеремии на будущее, надежда, основанная не на бойком оптимизме, а на суверенности и верности Божией. Такой же Неослабной, как и его провозглашение осуждения, была его весть о будущей надежде для земли, после того как она будет очищена судом. В преддверии катастрофы он проявил свою уверенность покупкой собственности в Анафофе, свидетельствуя тем самым о своем ожидании, что Бог позволит Своему народу вновь поселиться в их земле (32.1-44).
Композиция Книги.
О том, как составлялась Книга Иеремии, известно больше, чем о любой другой пророческой книге, хотя и не со всеми подробностями. Часть пророческого послания была записана в четвертый год царствования Иоакима (ок.605). Очевидно, письменные пророчества были исключением, поскольку Бог дает особое распоряжение Иеремии записать все, что Он ему сказал, начиная со дней Иосии (36.1–3). Первый манускрипт Варуха был написан во исполнение этого повеления и, по-видимому, охватывал первые двадцать лет служения Иеремии. Очевидно, он содержал многое из того, что записано в гл. 1-25, основное ударение делая на страшной участи, ожидающей Иудею и Иерусалим за их глубокое нравственное и духовное падение. После того, как Иоаким беззастенчиво сжег первый свиток, Иеремия продиктовал второй, еще более длинный свиток (36.32), который, вероятно, еще ближе соответствовал гл. 1-25. То, что существенные части первой половины книги написаны от первого лица, говорит о том, что они либо были продиктованы самим Иеремией, либо были сохранены в том виде, в каком они были первоначально проповедованы. Вторая половина Книги употребляет третье лицо и содержит гораздо больше прозы, чем поэзии. Согласно обычной теории, имеющей большие достоинства, первая часть книги содержит пророчества (как прозаические, так и поэтические), личные молитвы (исповедания) и несколько автобиографических очерков (призвание, 1.4-19; символическое захоронение пояса, 13.1-11), а вторая часть — в основном, рассказ об эпизодах из жизни Иеремии во время царствований Иоакима и Седекии и после падения Иерусалима. Эти повествования обычно приписываются Варуху, который, будучи близким другом и товарищем пророка, записал эти события и приложил их к раннему собранию, написанному по приказу Иеремии. В отличие от преобладания поэтических пророчеств в гл. 1-25, фактически, вся вторая часть (гл.26–52) написана прозой (даже передаваемая речь). Основные исключения — гл.30–31, составляющие часть Книги Утешения (гл.30–33) и пророчества против народов в гл.46–51.
Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
|
|