 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Чапек Карел :: Горький Максим :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Станюкович Константин Михайлович :: Картленд Барбара Популярные книги:: Рагнарёк :: Скандальная леди :: The Boarding House :: Елка для взрослых :: Дочь Льва :: Бегущая по волнам :: У любви свои законы :: Часовые Вселенной :: Опаловый кулон :: Дюна (Книги 1-3) |
Жизнь после БогаModernLib.Net / Современная проза / Коупленд Дуглас / Жизнь после Бога - Чтение (стр. 3)
Мы с Эллен как раз бросились к ним, когда накатилась взрывная волна — словно прорвало плотину, — выбив все стекла, потянула Брента, Трейси и всю офисную мебель в окно на противоположной стене здания, выходящее на служебную стоянку. Меня тоже поволокло в ту сторону, и я схватился за звукоотражатель, который почернел и дымился, и помню, как главный компьютер, покачиваясь, стоял на краю зияющего оконного провала, словно раздумывая, прыгать ему или нет, и наконец упал, увлекая за собой спутанные провода. Помню, как Трейси пыталась уцепиться за меня, борясь с вихрем, который утягивал ее за собой: кровь текла у нее из ушей, волосы отлетели назад, бутылка «Жидкой Бумаги» разбилась о ее череп, и помню, что я дотянулся до ее руки, прежде чем нас выдуло из здания и мы погибли вместе. Где-то в воздухе, не долетев до земли.
 Нас больше с вами нет. Теперь все уже давно прошло. Пожалуйста, переведите дыхание, потому что дыхание — это то, что нужно вам, — кислород, свет и вода. И время. Вам, но не нам. Нас более нет рядом с вами. Мы больше не принадлежим к миру живых. Теперь рядом с нами птицы — вот куда они улетели. И рыбы в море, и растения, и все дивные твари Божьи. Здесь прохладнее и тише. И мы уже не те души; теперь мы глядим на вещи иначе. Потому что было время, когда мы были готовы к худшему. Но ведь потом худшее и случилось, разве нет? И нас уже больше ничем не удивишь. Геттисберг  Мы с твоей матерью проводили медовый месяц как бродяги, колеся на раздолбанном «монте-карло» образца 1978 года, взятом напрокат. Мы останавливались в грязных, сомнительных мотелях по всем Аппалачам и воображали себя преступниками, погрязшими в мире преступности, — мы удерживали в заложниках искусственные спутники, проворачивали религиозные телеаферы и спускались по стеклянному фасаду «Дворца Цезаря» с адидасовскими сумками, набитыми похищенными бриллиантами. В Северной Каролине мы купили пистолет и палили по дорожным знакам; мы отказались от ванн и душей, прыская под мышки «Этернити» Кельвина Кляйна, мы проигрывали деньги в церковных лотереях и поедали зубатку, зажаренную в кипящем жире. Это были десять дней, когда не надо было быть собой, когда можно было побыть невидимыми и свободными, — десять дней надежды на то, что ребячливость нашего поведения уравновесит взрослый факт нашего брака. 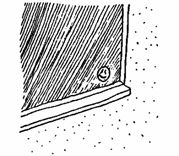 Ты была зачата в любви в дешевом мотеле в один из тех первых дней. В нашу брачную ночь твоя мать решила отказаться от контрацептивов и немедля зачать дитя. В ту первую ночь, где-то в одном из мотелей Западной Вирджинии, она приказала мне не задергивать занавески, пока мы вершили обряд нашей любви, после чего она рассказала мне о своем первом детском сексуальном опыте — о том, как однажды утром, во время семейной поездки в Диснейленд, она заглянула в окошко метельного номера на втором этаже и увидела, как двое молодоженов занимаются любовью: женщина сидела верхом на мужчине, откинувшись на руки, выгнув спину, и ее груди подпрыгивали высоко-высоко. В самый разгар этой откровенной сцены твоя мать вдруг услышала гудок отцовской машины, и ей пришлось спуститься. Но что-то заставило их задержаться, и твоя мать снова прошмыгнула на второй этаж — вот только занавески на окне, в которое она подглядывала, были уже задернуты, а на стекле она увидела маленькую Счастливую Рожицу, нацарапанную бриллиантом обручального колечка.  В тот медовый месяц мы заехали и в Геттисберг — место, которое я всегда хотел посетить, но которое совсем не тронуло твою мать, она, надувшись, бродила по бесчисленным сувенирным лавкам, а я гулял среди памятников и по кладбищу, размышляя о прошлом, о войне, о том, как странно течет время, и об уважении к прекрасным идеям. Настрой у меня был возвышенный; думается мне, твоей матери не хотелось, чтобы настроение этой недели было затуманено чем-то большим, чем наше собственное маленькое счастье. Вернувшись в машину, я увидел, что твоя мать купила тебе расписной кукольный домик, который ты так любишь, — старинный городской особняк, и обстановку к нему, и тряпичных кукол, которым предназначалось жить в нем. Думаю, она уже тогда знала, что беременна тобой.  Что— то меня потянуло на воспоминания. Ты уж меня прости. Настроение у меня переменчивое, как погода. С неба разом капает дождь, сыплется град, светит солнце, а там, над горой Грауз, даже, кажется, идет снег. Небо просто никак не может решить, на чем остановиться. Вот почему мои мысли и чувства тоже в полном разброде: твоя мать оставила меня неделю назад и забрала тебя с собой. Она звонит мне от своей матери, и мы разговариваем каждый день. Все лучше, чем ничего. Она говорит, что разлюбила меня. Говорит, что не может разобраться в себе. Говорит, что чувствует себя потерянной, вроде того как чувствовала, когда была моложе. Я сказал ей, что в молодости все чувствуют себя потерянными. Но она говорит, что это другое. Что когда она была моложе, то чувствовала себя потерянной по-своему. А теперь — просто потерянной, как все. Я спросил, а может, она была несчастлива, но она ответила, что дело не в счастье. Она говорит, что помнит еще одну вещь про свою молодость — что мир тогда был полон чудес, а жизнь казалась цепочкой волшебных мгновений, чередой одна за другой открывающихся тайн, — ей казалось, что она живет будто в трансе. Она вспоминает, что чтобы почувствовать себя частью звездного неба, ей стоило всего лишь завести разговор о таких вещах, как жизнь, смерть или вселенная. А теперь она не знает, как вернуть обратно это волшебное чувство. Я попросил ее подождать — сказал, что, может быть, причина вовсе не в этом. Она сказала, что не хочет, чтобы мы превращались в гадких людей, которые делают друг другу гадости, потому что тогда нам не будет прощенья. Она старается говорить со мной отважным, веселым голосом, но это всегда длится недолго. Она уверяет, что не может жить в браке без любви. Я пробовал шутить с ней. Говорил, что в начале любых отношений люди готовы каждые выходные прыгать с «тарзанки», а через полгода они уже берут напрокат видеокассеты и покупают чипсы и попкорн, как и все на свете, а на следующий день даже не могут вспомнить, что за видео смотрели.  Обычно мы разговариваем недолго. В какой-то момент она вешает трубку, и я снова остаюсь один, пытаясь понять, что она мне только что говорила. Пытаюсь сообразить, когда произошла в ней эта перемена. Я брожу по дому, но теперь это не имеет никакого смысла — лестницы кончаются ничем, комнаты стоят слепые, будто без окон. Случается, я расставляю по местам немногие твои оставшиеся игрушки, машинально надеваю наушники доставшегося тебе в «Макдональдсе» плейера. Иногда телефон звонит снова, иногда оставляет меня в одиночестве на всю ночь. Думая обо всем об этом, я сижу за кухонным столом в своем фланелевом халате и ем тосты с ореховым маслом. Иногда немецкая овчарка соседей лает, если ей что-нибудь примерещится, или какой-нибудь оболтус протарахтит на своем мотоцикле неподалеку по Лонгсдейл-авеню. Но в общем здесь тихо, в этой неприметной розово-серой коробке постройки 50-х, глядящей на огни кораблей в гавани и на высокие здания центра.  Теперь хочу, чтобы ты знала: по натуре я нежный и ласковый, но мне всегда нелегко проявить это. Когда я был моложе, я все время переживал, что могу остаться один — что никто не полюбит меня или я окажусь неспособен полюбить. Годы шли, и меня стали одолевать другие тревоги. Я начал переживать, что уже не способен на близкие отношения, на подлинное слияние душ. Мне казалось, что весь мир скрылся внутри теплого дома, ночью, и только я один остался снаружи, так что меня даже не видно, потому что кругом ночная тьма. Но теперь я попал в этот дом, а чувство не проходит. Когда я сейчас сижу здесь один, во мне понемногу воскресают все мои старые страхи — страхи, которые, как мне казалось, я, женившись, навсегда похоронил: страх одиночества; страх, что, многократно полюбив и разлюбив, человек делается невосприимчивым к любви; страх, что я так никогда и не полюблю по-настоящему; страх, что кто-нибудь влюбится в меня, станет совсем близким, узнает обо мне все, а потом возьмет и бросит; страх, что любовь имеет смысл только до определенной точки, после которой уже нет ничего несомненного. Много лет я прожил в одиночестве, и жизнь казалась мне сносной. Но я знал, что, если по-настоящему не сближусь с кем-нибудь и не поделюсь с ним своим чувством, жизнь моя не пойдет дальше определенной точки. Помню, я думал, что если мне не удастся хотя бы раз проникнуть в чужие мысли, увидеть мир чужими глазами, то меня просто разорвет на части.  Звонит телефон. Это она. Я пересказываю ей мысль, которая у меня мелькнула. Я говорю ей о том, как странно, что мы заперты внутри нашего тела на семьдесят с чем-то лет и ни разу за все это время не можем, ну, допустим, оставить наше тело в какой-нибудь пещере хотя бы на пять минут и эти пять минут парить в пространстве, освободившись от земных пут. Потом я рассказал ей о своих старых страхах. Что близость с другой душой — это минимально известное мне приближение к тому, чтобы покинуть свое тело. В ответ она спросила, были ли мы когда-нибудь близки. По-настоящему близки? Конечно, у нас было то, что обычно бывает во всех семьях,-наши тела со всеми их телесными жидкостями, пятнами и подтеками, энциклопедическое знание болевых точек другого, знание затаенных школьных обид, кулинарных предпочтений и привычек в обращении с телевизионным пультом. И все же?… И все же? И все же — отдавали ли мы себя друг дружке целиком и полностью? Знал ли каждый из нас в действительности, что это такое — поделиться с другим частицей самого себя? Представь, что в доме пожар и ты пытаешься спасти одну вещь — какую? Ты знаешь? Представь, что я тону и пытаюсь сохранить то единственное воспоминание, которое и есть я, — какое? Ты знаешь? Что любой ценой попытается сохранить каждый из нас? Ни ты, ни я не знаем ответа. После стольких лет мы все равно не знаем ответа.  Ты родилась через десять месяцев после нашей свадьбы, куда позже положенного срока. И, едва ты родилась, наша жизнь, словно по мановению волшебной палочки, превратилась из беззаботной бедности в борьбу за принадлежность к среднему классу. Одно из обстоятельств, связанных с появлением детей, о дочь моя, состоит в том, что даже самые беспутные нищие внезапно обнаруживают, что живут в собственном доме. Родители начинают тайком совать вам деньги; незнакомые люди в аптечной очереди начинают от всей души рассказывать, как важен процесс роста, пока вы ждете, чтобы заплатить за молокоотсос. Все это быстро затягивает. Однако в конце концов именно вам приходится платить по закладным. Так общество потихоньку связывает вас по рукам и ногам. А теперь позволь рассказать еще немного о моей нынешней жизни — соберись с духом, потому что она отнюдь не ослепительна: я живу в разъездах. Работаю на средних размеров компьютерную фирму, которая называется «Иммудин». Я отнюдь не высоколобый интеллектуал — просто молодой человек в костюме, который ездит на наводящей тоску обыкновенной машине, вечно торчит в аэропортах с чемоданом, полным брошюр, дискет, зубной пасты для курильщиков, а потом жует раздаваемые в самолете жареные орешки, сидя в перекондиционированном номере гостиницы перед телевизором, по которому демонстрируют какую-нибудь ночную программу. Я чувствую себя героем анекдота, который мог бы рассказать лет десять назад. Но, как известно, жизнь рано или поздно загоняет тебя в ловушку. Пока ты молод, тебе всегда кажется, что жизнь еще не началась, что «жизнь» запланирована на следующую неделю, следующий месяц, следующий год, после каникул — когда-нибудь. Но вдруг ты понимаешь, что уже не молод, а запланированная жизнь так и не наступила. И ты спрашиваешь себя: «Ладно, а как же тогда называется то, что происходило со мной до сих пор, — эта интерлюдия, это лихорадочное безумие?»  Еще один день: я небрит, немытые тарелки киснут в кухонной раковине, а моя рубашка пахнет, как спальня подростка. Во всем доме не нашлось ни одной чистой ложки, так что я ел творог пластмассовым, под черепаху, рожком для обуви, который валялся рядом с кроватью, — таким образом, полагаю, я докатился до низшей точки своего падения. Телевизор выключен; передо мной — кофейная кружка, полная отживших свой век фломастеров и блокнотов на пружинке, оставшихся после вечерних курсов аутотренинга, которые я посещал два года назад. За окном дождик капает на листья лаврового дерева. Еиядя в окно, я вспоминаю, как твоя мать однажды сидела на подоконнике, грызла печенье и разговаривала с ласточками, гнездившимися под стропилами. Я вспоминаю, как однажды твоя мать в новогоднюю ночь танцевала с кухонным стулом, которому она дала прозвище «Отис». Все эти мелочи и заставляют нас любить людей и в то же время понимать, как мало мы их знаем. Не знаю, за что полюбила меня твоя мать. Но что бы то ни было, этого оказалось недостаточно, чтобы перевесить ее нынешние чувства.  Я человек тихий, я склонен додумывать свои мысли про себя и по возможности не говорить лишнего. Но сейчас, по-моему, я слишком разговорился. Думаю, дело в том, что внутри у меня скопилось слишком много чувств, которые так и просятся наружу. При мысли об этом мне становится легче, потому что едва ли не самой большой моей заботой в последние годы было то, что я теряю способность чувствовать остро и ярко — так, как это было, когда я был моложе. Это пугает — осознавать, как твои эмоции отдаляются от тебя, а тебе все равно. Думается, по-настоящему страшно именно то, что тебе все равно. Думается, именно на это отреагировала твоя мать. Я отмечаю про себя, что надо поговорить с ней об этом.  Телефонный звонок; я говорю твоей матери: «Я знаю, что в последнее время чувствовал меньше, но обещаю, что постараюсь чувствовать больше». Она смеется — не зло, искренне. Я говорю: «Я знаю, что наша жизнь слишком стремительно и слишком необратимо превратилась в скуку — и что ни я, ни ты не были к этому готовы. Я никогда не думал, что в конце концов мы окажемся в пригороде, будем стричь лужайки и подвешивать качели. Никогда не думал, что буду приговорен к пожизненному заключению в какой-то дурацкой фирме. Но разве это не общий порядок вещей? Взрослая жизнь, зрелость, воспитание детей?» Удар ниже пояса. Она говорит, что самое жестокое по отношению к другому человеку — это притвориться, что любишь его сильнее, чем на самом деле. Трудно сказать, кого она имеет в виду, себя или меня. Я спрашиваю ее, и она говорит, что не знает. Она говорит: «Прости, но я просто разлюбила. Так уж вышло. Однажды я проснулась, и все ушло, и я испугалась, почувствовала, что лежу рядом с тобой, совершенно опустошенная, притворяясь „женой". Больше я так не могу. Я люблю тебя, но это не та любовь». Я: Но я все еще люблю тебя. Она: Да? Правда? Я: Да. Тогда она говорит: «Значит, я делаю тебе больно. Пожалуйста, перестань спрашивать меня обо всем этом».  Почему так трудно быстро подвести черту под всем тем, что мы узнали, чему научились, живя на этой Земле? Почему я не могу просто сказать тебе: «Через десять минут тебя собьет автобус, так что давай-ка за эти десять минут подытожь побыстрее все, что узнала за свою жизнь». Вполне вероятно, что лист останется чистым. И даже если ты сосредоточишься изо всех сил, он все равно, скорее всего, останется чистым. И все же в глубине души мы знаем, что самому великому и сокровенному мы научаемся, вдыхая воздух, глядя вокруг, чувствуя, снова и снова обретая и утрачивая любовь.  Мать зашла навестить меня, и, пока она перемывает посуду, мы говорим. Ей все представляется не так, как мне. Она говорит, что твоя мать еще молода и спустя какое-то время все представится ей в ином свете. Надо просто потерпеть. Еще она говорит, что такое случается в большинстве семей и что это один из самых печальных моментов в жизни, но от этого не умирают. Я не спрашиваю, откуда она это знает, — боюсь, ответ еще больше расстроит меня. Она моет, трет, внося порядок в хаос. Она говорит: «Сначала любовь, потом утрата иллюзий, а потом вся остальная жизнь». Я говорю: «А как же быть с этой оставшейся жизнью, расскажи, что с ней делать». А она говорит: «Остается дружба. Или по крайней мере привязанность. И чувство защищенности. А потом — сон». Я думаю про себя: откуда мы могли знать, что все так кончится? Что все сведется к этому? «О, Господи», — говорю я. А мама говорит: «Голубчик, Господь-то и заставляет нас держаться вместе, когда любви уже нет».  Ты уже достаточно взрослая, и тебе уже нравится слушать разные истории, так что, детка, позволь мне рассказать одну историю. Позволь рассказать историю о Геттисберге — городе медовых месяцев, — о человеке из Геттисберга, которому после битвы поручили убрать останки, — и вот, засучив рукава, он принялся подбирать тела убитых, складывая их штабелями, рыть бесконечные ряды могил, сооружать костры из искалеченных лошадей и искалеченных мулов, окруженный тучами мух, дыша парами крови и земли, зарывая и откапывая, зарывая и откапывая разорванные на части тела, — и так день за днем, день за днем. Он возвращается домой и, не в силах вымолвить ни слова, садится у очага. Дочери окружают его, но мать говорит им: «Тише», — и они замолкают. Они знают, что раньше отец был не такой. «Почему папа не хочет говорить?» — спрашивают они шепотом, и мать отвечает: «Не хочет, и все»; она и сама встревожена, но что она может сказать мужу? Она подгоняет дочерей, чтобы те поскорее шли спать, — их игрушки так и остаются лежать на полу, — а потом и сама отправляется на покой, но перед этим, оглянувшись на пороге, долго смотрит на мужа, который по-прежнему сидит у огня, по-прежнему молча. Ночь проходит, и дети просыпаются. Они бегут вниз и слышат доносящееся со двора птичье пенье, чувствуют задувающий в окно ветерок и видят отца, уснувшего в кресле рядом с потухшим очагом. Они рады, что он отдыхает, и идут завтракать. Только позже, затеяв игру, они понимают, что что-то не так, но не могут точно сказать что и, не придав этому особого значения, то и дело смеясь, тянутся к своим куклам, которые ровными штабелями сложены возле игрушечного домика. В пустыне Майклу Стайпу Вы — первое поколение, выросшее без религии Округ Кларк, Невада Округ Сан-Бернардино, Калифорния Округ Риверсайд, Калифорния  Я ехал на юг из Лас-Вегаса в Шалм-Спрингс, и мне все время не давало покоя Ничто. Я не уставал поражаться огромности пейзажа — тому, как далеко может простираться ничто, — сидя во взятой напрокат машине, одолевая: один за другим спуски и подъемы пустыни Мюхаве, считая отметины, оставленные покрышками давно столкнувшихся автомобилей на белом бетонном покрытии Пятнадцатой магистрали, созерцая сразу за плотиной Гувера пожилую женщину в роскошном «линкольне», красившую губы, и мужчину за рулем, то и дело заходившегося кашлем. 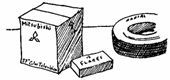 Время шло к полудню, блеклые пряди облаков затуманивали солнце, и было довольно-таки прохладно. На сиденье рядом со мной лежала почти пустая бутылка тепловатой минеральной воды, кое-как сложенная карта Невады и несколько фишек, оставшихся после посещения казино «Шоубоут»; в багажнике стояла картонная коробка из-под телевизора «мицубиси» с 27-дюймовым экраном; ее содержимое было слишком незаконно и слишком неприлично, чтобы рассказывать о нем здесь. Радиоприемник в режиме автопоиска то и дело отыскивал новые станции. Причуды радиационного пояса Ван-Аллен позволяли мне принимать передачи со всего Запада — фрагменты культурной памяти и информации, составляющие невидимую структуру, которую я считаю своим настоящим домом — своей виртуальной родиной. До меня доносилась информация, которая наверняка преисполнила бы меня тоски по дому, случись мне застрять в Европе или погибать во Вьетнаме: температура в Сан-Франциско была четырнадцать, а в Дейли-Сити — двенадцать градусов; христианское ток-шоу из Лас-Вегаса призывало слушателей помолиться за здравие домохозяйки, страдающей от волчанки; движение на шоссе под Санта-Моникой было парализовано из-за цистерны с пропаном, перевернувшейся на Нормандском виадуке; мэр Альбукерка отвечал на звонки слушателей. Я находился на Пятнадцатой магистрали где-то между микроскопическим городком Джин и пестрым комплексом казино на границе штата. Вокруг не было ни деревьев, ни рекламных щитов, ни растений, ни животных, ни зданий — даже изгородей, — только радиоволны и вулканический гранит пустыни Мохаве, мелькающий со скоростью семьдесят семь миль в час.  Помню, что это был день моего рождения — тридцать первое, — и еще помню, что я не чувствовал себя одиноким, хоть это и был день моего рождения и я был один невесть где. Пару лет назад в подобной ситуации я, наверное, взвыл бы от тоски, но в последнее время ощущение одиночества притупилось. Я изучил пределы одиночества и разметил его границы; больше в нем не было ничего нового или пугающего — просто одна из сторон жизни, которая, будучи раз опознана, казалось, исчезала. Но я понимал, что способность не чувствовать себя одиноким имеет вполне реальную цену, а именно угрозу перестать чувствовать себя вообще. Ничто пыталось просочиться в машину каким угодно способом. Я поднял стекло, хотя знал, что оно и так уже поднято выше некуда, и еще раз нажал кнопку автопоиска.  А теперь я расскажу вам, что же было в картонной коробке из-под телевизора «мицубиси»: 2000 шприцов, украденных из Кайзеровской больницы в северном Лас-Вегасе, плюс 1440 пятидесятикубиковых ампул парастолина — анаболического стероида, контрабандой вывезенного из Мексики. Я должен был доставить коробку персональному тренеру телезнаменитостей по имени Оскар, который жил в Лас-Палмасе, одном из районов Палм-Спрингс. Скажу прямо: я считаю, что тело человека принадлежит ему и только ему, поэтому все, что он делает с ним, это его личное дело. Соответственно, меня не обременяют нравственные проблемы, связанные с употреблением стероидов, хотя я признаю, что многих они очень даже обременяют. Конечно, я знаю, что стероиды запрещены, а повторное использование игл — причина заражения СПИДом. Именно из-за СПИДа я считал, что делаю благое дело — снабжаю стерильными шприцами культуристов американского юго-запада. Впрочем, это тонкий нравственный вопрос, который не место обсуждать здесь. Другое дело, что шприцы были краденые, и хотя я и не крал их собственноручно, если бы меня задержали, то обвинили бы в сообщничестве. Не хочу даже представлять себе, что произошло бы, если бы такое случилось, так как мой послужной список противозаконных деяний пусть и не слишком внушителен, но отнюдь не представляет собой чистый лист. Я слышал, как ампулы позвякивают в багажнике, а сам между тем подпевал старой песне «Четыре паренька», звуки которой пробивались из Солт-Лейк-Сити. Ехал я по средней полосе — между скоростной полосой и полосой для грузового транспорта. Двигатель радовал слух бесшумной работой. Я пел громко и заставлял себя прислушиваться к собственному голосу, глуховатому и обнадеживающе безличному, потому что я всегда старался, чтобы мой голос не имел никакого характерного акцента и звучал как голос ниоткуда. И действительно, я никогда не чувствовал, что я «откуда-то»; дом для меня, как я уже говорил, это электронная греза, в которой перемешались воспоминания о мультфильмах, получасовых фарсах и национальных трагедиях. Я всегда гордился отсутствием у себя акцента — любого мало-мальски ощутимого местного привкуса. Раньше я считал, что у меня акцент жителя северо-западного побережья, откуда я родом, но потом понял, что мой акцент — это акцент человека ниоткуда, человека, мысли которого не привязаны к какому-то определенному дому.  Вот о чем я думал: в последнее время меня стало тревожить, что мои чувства куда-то исчезают, я заметил, что они словно бы стираются. Чем дальше я ехал, тем более сильной и пронзительной становилась эта тревога. Мне показалось, что я превращаюсь в рептилию, в сидящую на камне игуану со слабеющей памятью и отсутствующим чувством сострадания. Я подумал о телезвездах, которых Оскар терроризирует своими набившими оскомину упражнениями, о стариках с ввалившимися кожистыми щеками, которые видели все на свете по крайней мере дважды, но которые по-прежнему готовы улыбаться папарацци на тротуаре у выхода из кинокомплекса «Одеон», — рептилиях, для которых жизнь стала напоминать засасывающий сериал с первых же дней возникновения телевидения. Вот во что превращаются люди, старея: в рептилий, а старые телезвезды — всего лишь укрупненный вариант. Я продолжал путь, и тревога об исчезающих чувствах оставалась со мной как радиационный фон. Но водить машину тем и хорошо, что само по себе это занятие занимает добрую долю мозговых клеток, которые в противном случае перегружали бы вас все новыми мыслями. Новые пейзажи стирают старые, как запись на магнитофонной пленке; воспоминания сбиваются в комок, на них навешиваются новые ярлыки, и наконец они забываются. Жуешь резинку, нажимаешь кнопки, опускаешь и поднимаешь стекла. Быстро движущийся автомобиль — единственное место, где вы можете с полным правом отключиться от своих проблем. Это как вынужденная медитация — и это хорошо.  Меня обогнал грязный черный «камаро», за рулем сидела Дебби — языческая богиня «Молочного королевства». Станция, которую я слушал, заглохла, ее сменила другая, из Юмы, передававшая церковные песнопения. Трансляция прерывалась шипением и треском. Я всерьез задумался над тем, что ждет меня в конце пути, во всех смыслах этого слова. В Палм-Спрингс меня никто не ждал; Оскар должен был приехать из Беверли-Хиллз только завтра, и его вряд ли можно было принимать в расчет. И вообще никто и нигде меня не ждал. Я думал о том, каков логический конечный продукт того, что мои чувства все больше и больше притупляются. Является ли полная неспособность чувствовать неизбежным конечным результатом неспособности верить? И тут я испытал чувство страха при мысли о том, что человеку не во что верить. Я подумал о том, какая это скверная шутка — прожить еще несколько десятков лет, ни во что не веря и ничего не чувствуя. Дом— автофургон притулился на обочине. Справа к северу, пара реактивных истребителей с военно-воздушной базы Неллис сплетала в небе свои белые слезы. Я стал думать: во что именно я верил до сих пор, что привело меня к моему нынешнему эмоциональному состоянию? Ответить на этот вопрос было нелегко. Точно сформулировать, во что человек верит, вообще трудно. Стоявшая передо мной задача была тем более трудна, что я воспитывался без религии родителями, которые порвали со своим прошлым и переехали на западное побережье, которые воспитывали своих детей вне какой бы то ни было идеологии в современном доме, выходящем окнами на Тихий океан, — как им хотелось верить, на закате истории.  Я постарался забыть о своих мыслях и просто слушать радио. По радио передавали историю о человеке из Аризоны, которого подстрелили в голову, но который, находясь в приемном покое, чихнул, и пуля, сидевшая у него в гайморовой пазухе, звякнув, упала на блестящий черный пол.  По радио передавали историю о вдове из Центральной Калифорнии, которая добивалась эксгумации тела своего недавно похороненного мужа, мотивируя это тем, что перед смертью он назло ей проглотил ее бриллиантовое кольцо и она хочет вернуть свою драгоценность. Но в конце концов она призналась, что не спала много недель подряд, проводила ночи, лежа на могиле мужа и пытаясь разговаривать с ним, и единственное, чего ей на самом деле хотелось, это еще раз увидеть его лицо. 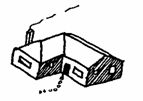 По радио передавали историю о маленьком мальчике, который, услышав о том, что его родители собираются разводиться, исчез. Поисковая партия прочесала окрестности и через два дня нашла мальчика, живого, он схоронился в сделанном из розового стекловолокна закуте чердака, пытаясь стать частью дома, пытаясь притвориться мертвым.  Были и христианские радиостанции в большом количестве, и голоса по ним звучали такие вдохновенные и доверительные. Казалось, они искренне верят в то, о чем говорят, и поэтому я в кои-то веки раз решил сосредоточиться на этих голосах, стараясь точно уяснить, во что они верят, стараясь проникнуть в само понятие Веры. Станции толковали о Христе и спасении, и слушать было тяжеловато, потому что эти религиозные типы всегда максималисты и говорят так, словно готовы тут же все поставить на кон. Мне кажется, что они воспринимают все слишком буквально и очень многое упускают из-за своего буквализма. Это всегда было основным слабым местом религии — или так меня научили, или я просто сам в это поверил. Выходит, есть по крайней мере одна вещь, в которую я точно верю. Все радиостанции толковали о Христе без передышки, и в результате все это вылилось в безумную оргию требований, каждый требовал от Христа противоядий от того, что у него неладно сложилось в жизни. Он есть Любовь. Он есть Всепрощение. Он есть Сострадание. Он есть Мудрый Советчик в делах карьеры. Он есть Дитя, возлюбившее меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
|||||||