 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Компьютерра :: Нортон Андрэ :: Херберт Фрэнк Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Храм Диониса :: Рагнарёк :: Аквариумист :: Ифтах и его дочь :: Тюремные дневники :: Сказка про Evil Джека :: Ночной экспресс :: Сельский быт |
Отчаянное путешествиеModernLib.Net / Приключения / Колдуэлл Джон / Отчаянное путешествие - Чтение (Весь текст)
Джон Колдуэлл Отчаянное путешествие Мэри ПЕРЕД ОТПЛЫТИЕМ 
Яхта моя в полном порядке и готова к долгому и опасному пути. Мне предстоит проплыть от Панамы до Австралии восемь тысяч пятьсот миль по различным морям, через экватор, мимо тропических островов и рифов, сквозь ураганы и штили… и все это в одиночестве. Риск, разумеется, большой, но что поделаешь? Стечение обстоятельств, изменить которое не в моих силах, толкало меня на этот риск. Я должен был плыть – так мне тогда казалось. В моем распоряжении был маленький парусный тендер, купленный две недели назад в Бальбоа. Я не мог найти другого способа вернуться в Австралию, где за год перед тем в Сиднее состоялась моя свадьба. Был май 1946 года, война недавно кончилась. Пароходы ходили редко и без всякого расписания. Я застрял на американском континенте, Мэри, моя жена,– в Австралии. Она ждала меня в Сиднее, беспомощная и растерянная, а я все не приезжал, и разлука грозила затянуться до будущего года. Ничего удивительного – ведь судоходство почти прекратилось. Я делал все возможное, чтобы уехать к жене, но мне это не удавалось. Со времени женитьбы я объездил полсвета, пересек всю Америку и теперь очутился в Панаме; не найдя здесь попутного парохода, я купил маленькую яхту. Впервые я увидел «Язычника» у причала яхт-клуба в городе Бальбоа (Зона Панамского канала). Яхта была в полном порядке и готова выйти в море. Длина ее от носа до кормы по ватерлинии составляла немногим меньше двадцати шести, а наибольшая длина – около двадцати девяти футов. Ширина – десять футов, осадка – три фута десять дюймов. Высокомерно задирая нос навстречу волне, «Язычник», словно светский франт тросточкой, помахивал своей сорокафутовой мачтой. Низкий надводный борт придавал ему сходство с каноэ, а малейшее движение воды заставляло чутко вздрагивать. Рубка длиной около восьми футов расположена между мачтой и кокпитом и на восемнадцать дюймов возвышается над планширем фальшборта. Наверху – ничего, кроме этой рубки и такелажа. Палуба чистая и для своих двадцати девяти футов довольно просторная. Бушприт выдается на семь футов вперед, обеспечивая стоящим на нем кливером устойчивость на курсе. Паруса бермудские; корма, как и нос, острая для лучшей маневренности. У яхты был такой вид, что, даже у сухопутной крысы, вроде меня, не возникало сомнений относительно ее мореходных качеств. И хотя я плохо разбирался в яхтах – лишь раз в жизни довелось мне быть на борту небольшого парусного судна,– «Язычник» мне понравился. Я решил рискнуть и отправиться на нем к берегам Австралии. И вот уже две недели яхта принадлежит мне. На борту есть все необходимое для дальнего плавания, оснастка в полной исправности – нет никаких причин откладывать отплытие. После месяца вынужденного безделья в Панаме я горел желанием выйти в открытое море. Чем скорее я тронусь в путь, думалось мне, тем скорее встречусь с Мэри. Я не умел управлять парусным судном, но почему-то верил, что в свое время все уладится само собой. Главное – выйти в океан, где яхта с наполненными ветром парусами возьмет курс на юго-запад и помчится вперед, оставляя за кормой пенистый след. Вряд ли я отважился бы на такой риск, если бы не желание вернуться к жене. Но приближался день отплытия, и мной все сильнее овладевала тревога. Приключения притягивали меня к себе, как магнит. Проплавав три года на тяжелых грузовых судах и танкерах торгового флота, я ни разу не испытал романтики моря. Зато теперь эта романтика меня захватила: на собственной яхте я мог плыть куда угодно по просторам южных морей. Я стоял и глядел вдоль канала, туда, где открывалось море, такое тихое и спокойное с виду. Какие опасности подстерегают маленькую хрупкую яхту в ближайшие шесть месяцев? Я не мор предвидеть их, я мог только стремиться вперед, им навстречу, чтобы сократить расстояние между мной и Мэри. Не долго думая, я избрал, как мне казалось, самый простой и легкий путь. Ведь откажись я от этого путешествия, мне пришлось бы по-прежнему жить в разлуке с женой, которую я не видел вот уже целый год. В душе я всегда испытывал тягу к далеким, неизведанным местам. Когда Америка вступила в войну, я рассчитывал многое повидать, служа в рядах американской армии. Я просился в авиацию, но медицинская комиссия обнаружила у меня перфорацию барабанной перепонки. Я стал моряком и плавал матросом на судах торгового флота. За два года я дважды объехал вокруг света на американских и на иностранных судах. Потом мне надоели душные, грязные матросские кубрики и спесь судовых начальников. В январе 1944 года я ушел в Сиднее со шведского судна и поступил в австралийскую авиационную часть. За год я побывал в Брисбене, Даббо (Новый Южный Уэльс), Сиднее и Канберре. Там мы с Мэри и встретились. Это случилось на второй месяц моего пребывания в столице Австралии. Я совершил какой-то мелкий проступок и получил неделю гауптвахты. За эту неделю мне пришлось выполнить множество работ, например мыть полы в прихожих. Работал я под начальством офицера женского вспомогательного корпуса – голубоглазой миловидной девушки, подчиняться которой было даже приятно. Вскоре после этого мы объявили о своей помолвке. Через неделю мое звено было переведено в Сидней, где в феврале 1945 года я был демобилизован. Представитель американской военно-морской администрации тотчас же предложил мне поступить на одно из судов американского торгового флота в качестве матроса первого класса. Мне, однако, гораздо больше улыбалось стать студентом Сиднейского университета и продолжить образование, прерванное войной,– три года назад я учился в колледже Санта-Барбара (Калифорния). Как демобилизованный я мог при поступлении в университет воспользоваться льготами. Но война еще не кончилась, и людей на флоте не хватало. Мэри советовала мне принять предложение. Сама она уже третий год состояла в женском вспомогательном авиационном корпусе и намерена была служить там до тех пор, пока этого требует ее родина. На следующий день я уже был на американском транспортном судне типа «Либерти». Пыльный, ржавый, окрашенный в серый маскировочный цвет, этот транспорт взял курс на север в Таунсвилл, после чего зашел в четыре порта на Соломоновых островах. Вскоре мы были уже на Новых Гебридах, затем трижды останавливались на северном берегу Новой Гвинеи и окончательно разгрузились на островах Биак и Моротай. Потом транспорт принял на борт роту австралийских солдат и доставил их с Новой Гвинеи на Борнео. Там мы получили приказ идти в Брисбен за новыми подразделениями австралийских войск. Я попал в Брисбен в мае, почти через четыре месяца после разлуки с Мэри. В Америке это время – разгар весенней поры, в Австралии же май – холодный зимний месяц. Но любовь не разбирает времен года. Свадьбу мы отпраздновали в Сиднее, а затем вернулись в Брисбен. Наш медовый месяц длился три дня – в воскресенье после полудня я снова был на судне. Транспорт должен был доставить на Борнео очередную партию солдат и через шесть недель вернуться обратно. Такие рейсы ему предстояло совершать до самого конца войны. Мы с Мэри расстались без грусти, так как не подозревали, что ждет нас впереди. Прощаясь, мы надеялись встречаться каждые шесть недель, а когда война кончится, не расставаться никогда. Тяжело груженное судно медленно прошло вдоль Большого Барьерного рифа и, миновав Папуа, пустилось в далекий путь к Борнео. Около Маданга в ночной тьме на перегруженный транспорт обрушился жестокий ураган. До самого утра судно, потеряв управление, носилось по волнам во власти бушующего моря и свирепого ветра. На рассвете транспорт со всего хода врезался в берег Новой Гвинеи, к западу от небольшого тропического порта Финшхафен. Со времени нашего отплытия из Брисбена не прошло и недели. Нос судна на пятьдесят футов углубился в прибрежные заросли, ветви деревьев нависли над верхней палубой. Солдаты сошли на берег и рассыпались цепью перед транспортом, опасаясь, что мы попали на территорию, занятую японцами. Экипаж принялся за дело, пытаясь спасти судно. Якоря были брошены на землю, груз из передних отсеков трюма выкинут за борт. С кормы спустили буксирные концы, которые приняли судовые шлюпки. На юте был сложен груз и поставлены бочки с водой, чтобы увеличить осадку кормы и, подняв нос, освободить его от коралловых тисков. Через пять дней при помощи трех шлюпок, дав «полный назад», судно сдвинулось с места и, зарываясь осевшим носом в воду, поплелось в соседний с Финшхафеном порт Лангемак. Там судно осмотрели, заделали зияющие пробоины в носу цементом. Из Лангемака мы поплыли во Фриско[1]. На третью ночь помощнику капитана показалось, что он видит берег. На деле это был небольшой торпедный катер. Пришлось дать задний ход; транспорт содрогнулся, словно от удара гигантского тарана. Цементные заплаты треснули, и нос судна зарылся в воду. С большим трудом мы добрались до Мануса (острова Адмиралтейства). Через тридцать дней американское военное судно взяло на буксир наш транспорт, лежавший в сухом доке. Все усилия отремонтировать транспорт оказались тщетными, и его нелегко было отбуксировать через Тихий океан в Америку, чтобы там схоронить на корабельном кладбище. Сойдя с него в последний раз на берег, я нанялся грузчиком в порту Сан-Педро. Работая там, я мог следить за приходящими в порт пароходами. Недели через две я был принят матросом первого класса на танкер, шедший в Мельбурн. В эту ночь я.был уже на пути к Мэри. Прошло еще две недели. Стоял август. Война только что кончилась, и на танкере царило радостное возбуждение, матросы делились друг с другом своими планами. Для многих из нас это плавание должно было стать последним перед возвращением к мирной жизни. Танкер оставил позади Самоа, неделя пути отделяла нас от Порт-Филиппа. Еще неделя – и я увижу Мэри. Трудно было поверить, что после трех с половиной месяцев разлуки мы снова будем гулять по знакомой Флиндерс-стрит в Мельбурне. В ту же ночь, пока я предавался мечтам о нашей встрече, капитан танкера получил приказ изменить курс и доставить груз нефти в Манилу. Простояв две недели в Маниле, танкер пошел через Панамский канал в Техас-Сити. Но из Панамы нас послали на остров Аруба (Нидерландская Вест-Индия). В Ораньестаде танкер припал к грязным, вонючим нефтехранилищам, как поросенок к раскормленной матке, и высосал оттуда сто двадцать пять тысяч баррелей[2] мазута. Повинуясь приказу, он направился в Гонолулу, а затем в Иокогаму. Две недели мы пробыли в Иокогаме, неделю в Нагойе, восемь дней в Йокосуке, после чего прибыли в Шанхай. Мы стояли девять дней на быстрой реке Хуанпу, а вокруг то и дело сновали бесчисленные сампаны и джонки. Потом мы прошли к мутной Янцзы, через Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря. Пройдя за двадцать восемь дней десять тысяч миль по Тихому океану, танкер вернулся в Панаму. Простояв здесь несколько дней, наше огромное черное судно направилось к соседнему с Арубой острову Кюрасао. Затем мы пересекли Атлантический океан и, пройдя Бристольский канал, остановились в английском порту Эйвонмут. А через две недели, 1 апреля 1946 года, я сошел на берег уже в Нью-Йорке. Списавшись с танкера, я стал изыскивать способ вернуться к Мэри, не теряя времени понапрасну. Пароходные компании не могли доставить меня в Австралию ни в качестве пассажира, ни в качестве матроса. Представители Красного Креста сочувственно выслушали меня, но и они ничего не могли поделать. Объединенное бюро по найму моряков запросило все свои агентства, но безрезультатно. Никто не мог мне помочь: лишь несколько пароходов курсировало между Америкой и Австралией, все они в это время, находились уже в пути и должны были вернуться лишь через несколько месяцев. «Попытайте счастья во Фриско»,– посоветовали мне. Я добрался до западного побережья на попутных автомобилях. Это оказалось быстрее, чем ехать автобусом или поездом, и, кроме того, я экономил деньги на проезд от Америки до Австралии. Наличными у меня было тысяча шестьсот долларов, то есть около половины заработанных на танкере денег; вторую половину я положил в банк. В Сан-Франциско, разыскивая попутный пароход, я испытал те же затруднения, что и в Нью-Йорке. Четыре дня спустя, запорошенный пылью шести штатов, я уже шагал со своим морским сундучком по многолюдной Кэнелстрит в Новом Орлеане. Здесь я снова попытался найти пароход, идущий в Австралию. За два дня я обошел все бюро по найму моряков и пароходные агентства. Самое большее, чего мне удалось добиться,– это разрешения через два месяца уехать пассажиром в Панаму на пароходике, который шел туда за бананами, и то при условии, если получу визу. В конце концов, придя в отчаяние, я устроился помощником кока на военный транспорт, следовавший через Пуэрто-Рико в Панаму. Очутившись в Зоне Панамского канала, я собрал свое имущество и на рассвете сбежал с корабля, удачно проскользнув мимо таможенной стражи. Я надеялся сесть на один из английских пароходов, следующих в Австралию или к какому-нибудь из островов Малайского архипелага, откуда можно было бы добраться до Сиднея. Но, увы, расчеты мои не оправдались. Судоходство замерло. Я обошел все пристани от Кристобаля до Бальбоа без всякой надежды на успех. В конце концов я тайком пробрался на голландский пароход, шедший в Индонезию, но по чистой случайности меня там быстро нашли. Пароход плыл по каналу, когда неожиданно засорился гудок. Механик поднялся к трубе, чтобы исправить повреждение, и заметил в темной высокой нише мою скрюченную фигуру. Посветив фонариком, он увидел у меня в руке ломоть хлеба и бутылку воды и удивился присутствию постороннего на этом судне, никогда не бравшем пассажиров. Лоцман отвез меня на берег, и я предстал перед суровыми иммиграционными властями. Моя история не вызвала никакого сочувствия. Меня поместили в пустой домик, обнесенный изгородью, где я должен был сидеть до тех пор, пока на какой-нибудь проходящий по каналу пароход не потребуется матрос. В этой «тюрьме» я познакомился с Джорджем, австралийцем, отчаянным парнем, который исколесил весь свет и теперь горел желанием вернуться на родину. В Шотландии он опоздал на австралийский пароход, а потом по состоянию здоровья не смог устроиться в английский торговый флот и был лишен всякой возможности вернуться в Австралию. Денег у него не было, и он спрятался на английском судне. Его вскоре нашли, и, когда пароход пришел в Панаму, капитан сдал Джорджа местным властям, которые поступили с ним так же, как и со мной. Джорджа должны были отправить в Англию и судить за то, что он тайком пробрался на корабль. В первый же день мы принялись ломать голову, изыскивая способ вырваться на волю. Терять нам было нечего. Я знал, что меня сдадут на первый же проходящий пароход, капитан которого заявит, что ему нужны матросы. Шансы на то, что пароход этот пойдет в Австралию или куда-нибудь по соседству от нее, были незначительны, и даже более того – они равнялись нулю. Скорее всего я окажусь на борту какой-нибудь ржавой посудины, которая завезет меня на край света. Когда Джордж предложил найти шлюпку и «переплыть эту проклятую лужу», такая мысль мне очень понравилась. Я уже знал, что в Бальбоа продается небольшой тендер. Услышал я об этом на борту «Воли ветров» – яхты Кима Пауэлла, на которой побывал недавно, бродя по набережной. Ким, старый морской волк, долго плававший по Карибскому морю и превосходно знавший парусное дело, объявил, что тендер ему нравится; для меня этого было достаточно. Я рассказал обо всем Джорджу, и мы решили купить яхту. Вечером мы перелезли через ограду и разыскали хозяина яхты, запросившего с нас тысячу долларов. Я заговорщически подтолкнул Джорджа и принялся рассказывать, как я плавал на гоночных яхтах у Гонолулу и вдоль всего калифорнийского побережья. Я сообщил также, что Джордж в качестве штурмана и помощника капитана плавал на небольшой двухместной яхте по Тасманову морю до Новой Зеландии. Проторговавшись до двух часов ночи, мы стали собственниками яхты и ушли радостные и сияющие. Утром я заявил местным властям, что являюсь владельцем судна, которое стоит у причала яхт-клуба в Бальбоа, и намерен вернуться на борт. Я заверил их, что через некоторое время смогу представить необходимые документы и объяснить причины, вынуждающие меня на собственный страх и риск плыть в Австралию. Сначала они колебались, но, видя, что я полон решимости, согласились отпустить меня, как только я сумею подтвердить свои слова. Мы договорились с Джорджем, что я подготовлю яхту, которую мы еще не видели, к отплытию, а он взойдет на борт в последнюю минуту, перед самым выходом в море. Ночью мы снова перелезли через забор и пошли взглянуть на свое приобретение. В яхт-клубе нам указали какую-то расплывчатую тень около пирса – это и был «Язычник». Мы подплыли к нему на лодке и при свете карманного фонарика осмотрели палубу, оснастку, трюм. Никогда еще двадцать девять футов не казались мне такими короткими; Джордж, вероятно, испытывал то же чувство. Во всяком случае, осмотрев яхту и увидев, что она собой представляет, он стал больше говорить о предстоящем суде, чем о нашем путешествии. Он надеялся, что приговор не будет слишком суров. Я не стал смущать Джорджа вопросом, поедет ли он со мной. 
На следующий день иммиграционные власти с большой неохотой выпустили меня на свободу. К тому времени сообщения обо мне уже появились в газетах. Люди приходили на пристань, глядели, как я привожу яхту в порядок, и покачивали головами. Но я не обращал на них внимания: я был владельцем яхты, гордился этим и, стремясь быстрее подготовить ее к путешествию, целиком ушел в работу. Вскоре я объявил, что хочу взять с собой кого-нибудь, желательно человека, умеющего управлять яхтой, так как сам я в парусах ничего не смыслю. Но до последней минуты я мало интересовался тем, кто будет моим товарищем. Претендентов оказалось трое. Первым пришел Джим, демобилизованный матрос. Его жена тоже была в Австралии, в Мельбурне, и никак не могла выехать оттуда; он не виделся с ней уже семнадцать месяцев. Как и я, Джим безуспешно пытался найти попутный корабль. Он всерьез подумывал о том, чтобы сесть в спасательную шлюпку и выйти на ней в океан; в это время он и услышал о моей затее. Договорившись предварительно по телефону, мы встретились в баре в Бальбоа. Джим тоже никогда не плавал под парусами, но твердо верил, что «нет такой вещи, которую два американца не смогли бы сделать: там, где не справится один, поможет другой». Джиму не терпелось увидеть яхту, и я предложил пойти взглянуть на нее. Этого делать не следовало, нужно было промолчать и привести его на судно лишь перед самым отплытием. Когда я показал Джиму тендер, он решил, что я его разыгрываю: до последней минуты он был убежден, что речь идет о большой яхте, длиной футов в пятьдесят, стоявшей рядом с «Язычником». Не найдя на яхте камбуза и ванной, Джим скривил губы и заметно приуныл. Когда мы расставались, я понял, что больше не увижу его. Имя второго претендента я так и не узнал – на яхте он долго не задержался. Он заявил, что «ищет приключений», но лишь таких, какие он испытал, когда служил в торговом флоте. Я давно привык к тому, что какой-нибудь третий помощник капитана небольшого торгового судна носит на себе не меньше золотых галунов, чем капитан «Куин Мэри». Мой предполагаемый спутник оказался человеком именно такого сорта. Он рассыпался в похвалах при виде огромной яхты и поинтересовался, скоро ли мы отправимся. Я объяснил ему, что моя яхта всего двадцати девяти футов длиной, а отплывем мы, как только он перевезет свое имущество. 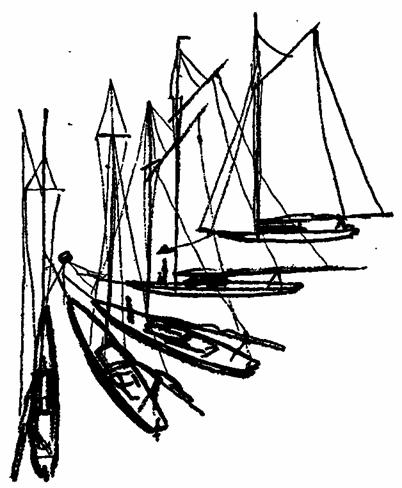
Он никак не мог примириться с мыслью, что «Язычник» в самом широком месте всего в два раза шире обыкновенной кровати и только в четыре раза длиннее ее. Места для «приключений» оказалось маловато. Наконец появился и третий претендент, вернее, сразу двое,– то были близнецы, способные лишь бездельничать да любоваться красотой южных морей. Я сразу решил взять их и вряд ли сделал бы лучший выбор (разве что принял бы на борт капитана, обогнувшего на паруснике мыс Горн). Это были два котенка, изгнанные за ненадобностью из близлежащей механической мастерской. Увидев их, я забыл все сомнения и разочарования последних дней и решил, что котята вполне заменят мне экипаж. Я надеялся, что по объявлению в газете ко мне придет хотя бы неопытный моряк. Я мечтал о товарище – все равно, будет ли он черным, белым, красным или желтым. Только бы он не оказался желторотым и не вздумал на другой же день вернуться обратно. Но когда двадцать четвертого мая, через две недели после покупки яхты, ко мне никто не пришел, я погрузил последние припасы, привел в порядок оснастку и стал ждать благоприятной погоды. Время летело быстро. Я знал, что сейчас над Тихим океаном небо сияет голубизной и такая погода продержится до октября, а потом начнутся штормы. В моем распоряжении было четыре месяца – время, достаточное, чтобы доплыть до Тасманова моря и до Австралии, если отправиться в путь немедленно. Я распрощался со всеми знакомыми. Перед самым отплытием мои доброжелатели навалили на пристани целую гору книг, журналов, продуктов, кухонной утвари и посуды. Вечером, стоя на палубе, я с наслаждением вдыхал чистый, прохладный воздух. Ночь была светлая и звездная, с севера дул свежий, ровный ветерок. В ПУТЬ Ближайшей моей целью после отплытия из Панамы были острова Галапагос, расположенные примерно в тысяче миль к юго-западу от Панамы. Если же я пройду мимо Галапагоса (а это казалось мне вполне возможным, так как я не знал навигации и не имел времени основательно изучить ее), то возьму курс на Маркизские острова, еще на три тырячи миль западнее. Снова и снова я размышлял, как поднять паруса и благополучно провести яхту по фарватеру. Целую неделю я дрожал, думая о первых минутах после отплытия. Как будет вести себя яхта, когда я подниму паруса? У меня была книжка с заглавием «Как управлять парусным судном». Каждый день я открывал ее, запоминал специальные термины и мысленно рисовал себе порядок постановки парусов. В такие минуты я весь как-то съеживался и казался себе маленьким и беспомощным. Начало путешествия я продумал в мельчайших подробностях: оттолкнувшись от буя, бросаюсь к свернутым парусам. Отплывать я буду, конечно, рано утром. Подниму сперва кливер, потом стаксель, потом грот… все, как написано в книге. Если ветер будет с севера, «Язычник» сразу ляжет фордевинд. Если, наоборот, ветер будет южный, я поведу яхту, лавируя от одного берега канала к другому. Несмотря на отсутствие опыта, я надеялся вывести яхту в океан при любом ветре. Час отплытия приближался. Наступило двадцать пятое мая, суббота. С юга дул легкий ветер. Мое суденышко и я сам были в полной готовности. В шесть утра я уже вышел на палубу, так как намеревался пройти канал прежде, чем появятся другие яхты. Я не хотел, чтобы люди видели мои первые попытки справиться с парусами и румпелем. По той же причине я отказался от пробного плавания по заливу. Знатоки в форменных фуражках, развалившиеся в креслах около яхт-клуба, обрушили бы на меня целый поток «соленых» острот при любом маневре, не соответствующем их аристократическим спортивным приемам. Втащив наверх маленький ялик, я закрепил его у правого борта рядом с рубкой, снял чехлы с парусов, освободил фалы и шкоты. Потом я завел мотор, и винт начал медленно вращаться. Тогда я побежал на нос и стал возиться со скобой, прикреплявшей якорную цепь к бриделю буя. Через несколько секунд «Язычник» был свободен и медленно двинулся вперед. Встав у румпеля, я направил яхту по каналу. Я решил не поднимать пока паруса, и «Язычник» медленно шел только на моторе. Закрепив румпель, я поспешил на нос, чтобы подготовить якорь на случай необходимости. Цепь намоталась на якорь и, запутанная, валялась возле переднего люка. Я поднял якорь, потянул за цепь, чтобы распутать ее, и хотел положить якорь поближе к клюзу. В это мгновение палуба слегка накренилась, я споткнулся о погон и спиной шлепнулся в воду. Якорь сразу же увлек меня вниз. Выпустив его, я вынырнул на поверхность. Когда я вновь обрел способность видеть, «Язычник» был уже довольно далеко и плавно скользил к стоявшим на бриделе яхтам. Цепь продолжала с грохотом разматываться. Когда якорь достиг дна, она натянулась, «Язычник» повернул и начал кружиться вокруг якоря. Пройдя рядом с буем, оц едва не задел ближайшую яхту и поплыл по течению. Якорь волочился по дну. «Язычник» двигался туда, где тесно стояли в ряд лодки и яхты. Я рванулся вперед. Энергично рассекал я руками воду, не поднимая головы. Когда я снова поднял голову, яхта уже плыла по ветру. Внезапно мне пришлось остановиться. Яхта развернулась и, слегка задев буй, быстро двинулась прямо на меня. Я метнулся в сторону, и волна, поднятая ее носом, плеснула мне в лицо. Выбрав момент, я ухватился за вант-путенсы и вскарабкался на палубу. Повернув румпель, я направил яхту на свободное пространство, где можно было остановиться и прийти в себя. Натянув якорную цепь, «Язычник» повернулся и кормой вперед двинулся к месту скопления лодок. В панике я заглушил мотор и тут же пожалел об этом. Теперь все зависело от якоря. Но выдержит ли цепь? «Язычник» продолжал двигаться вспять. Лодки все ближе, ближе. Я решил бежать вниз и снова запустить мотор. «Язычник» проплыл мимо причала и поравнялся с первыми лодками. Тут я вспомнил о парусах, подскочил к мачте и принялся тянуть фалы грота. Тяжелая белая парусина шелестела и билась на ветру, вскоре она наполнилась ветром, раздулась, и шкоты сразу вытравились. Я бросился к румпелю. «Язычник» шел крутым бакштагом правого галса. Повернув румпель, я обогнул лодки. Внезапно из головы у меня вылетело все, что я вычитал в книге об управлении яхтой. Я похолодел от страха и стал растерянно хвататься за такелаж. Помнится, я был поражен внезапной скоростью яхты и ничего не мог понять. В это время цепь снова натянулась, секунду яхта постояла на месте, затем опять рванулась в сторону, тяжелый гик с шумом перекинулся с правого борта на левый. Я вовремя пригнулся, не то он сбросил бы меня в воду, кинулся вперед, освободил якорь и вытащил его на палубу. Потом я выбрал шкоты; «Язычник» лег на левый галс, поймал ветер и заскользил мимо яхт к фарватеру. Тем временем на пирсе собралось уже много яхтсменов, намеревавшихся выйти на прогулку. Эти спецы по прибрежному плаванию всегда придирчиво следили за всем, что происходит на канале, и многие из них стали свидетелями моих первых неудач. Чтобы восстановить свою репутацию, я решил вывести яхту в океан по всем правилам морского искусства. Я шагнул вперед, поднял и туго натянул стаксель-шкот, потом ненадолго вернулся к румпелю. Вскоре на носу взвился и кливер. Теперь «Язычник» выровнялся и стал под правильным углом к ветру. Скорость его была около пяти узлов. Когда яхта приблизилась к песчаной мели у входа в канал, я, как предписывало руководство, налег на румпель и привел яхту к ветру. «Язычник» рыскнул, паруса заполоскали, но он тут же лег на прежний галс. Когда «Язычник» набрал скорость, я снова положил руль на ветер. Яхта повернула, постояла на месте и опять, как и в первый раз, увалилась на прежний галс. Я снова стал набирать скорость. Внезапно яхта остановилась и стала мерно раскачиваться, словно повиснув на проволоке. При этом она накренилась самым нелепым образом. Котята карабкались вверх по наклонившейся палубе. Я подхватил их и швырнул в люк на койку. Убрав все паруса, я запустил мотор и дал полный назад. Никакого результата. Я потащился на нос, спрыгнул в мелкую воду, уперся плечом в форштевень и изо всех сил навалился на него. Нажал раз, другой. Потом передохнул несколько минут, глядя, как уходит отлив, и размышляя о том, что скоро яхта окажется на сухом месте. И все это перед самым яхт-клубом! В отчаяньи я вскарабкался на палубу и принялся ругать мель на чем свет стоит. Но тут пришло неожиданное избавление: волна, поднятая проходившим пароходом, подхватила яхту и снова опустила ее на песчаное дно. Я включил мотор, дал задний ход, спрыгнул в воду и, когда подошла новая волна, снял яхту с мели. Поднявшись на яхту, я пробрался к румпелю по заваленной парусами палубе. Не рискуя больше ставить паруса, я повел яхту по каналу в открытое море, где было больше простора для моих экспериментов. Когда яхта покидала Панаму, на ее палубе валялась груда мокрых парусов, гик раскачивался из стороны в сторону, фалы болтались на ветру, но все-таки «Язычник» бодро вышел в океан. ***
Наступил вечер. Я был один в открытом море. «Язычник» медленно пробирался во влажном мраке, словно ощупью отыскивая путь. Я напряженно всматривался и вслушивался в темноту, боясь пропустить сушу. Котята мирно дремали у меня на коленях, не подозревая о моей тревоге. Опершись на румпель, я тщетно надеялся увидеть в кромешной тьме путеводный огонек. Я потерял ориентацию. Три часа назад я был уверен, что знаю, где нахожусь, но теперь яхта то и дело меняла курс, и я растерянно оглядывался по сторонам, надеясь увидеть или отыскать на слух какую-нибудь гавань, где можно было бы стать на якорь, отдохнуть и поразмыслить, как.быть дальше. Минувший день принес немало сложных вопросов. По моим расчетам, я удалился от берега миль на пятьдесят-шестьдесят и где-то недалеко от меня, как я надеялся, находился Педро Гонсалес – один из Жемчужных островов. Часы показывали десять. Я обессилел от голода и непривычной возни с парусами. Весь день я ставил и убирал их, пробовал идти различными галсами, брал первые и вторые рифы, плыл по течению и бесцельно носился по морю. К вечеру я ближе познакомился с яхтой, но все же чувствовал себя довольно неуверенно. Я все еще знал ее недостаточно. Незаметно подкрались сумерки. К тому времени я очутился на одном из оживленных морских путей, а ведь мне необходимо было хорошенько отдохнуть за ночь. В сумерках островок Педро Гонсалес казался голубым пятном на горизонте, которое быстро таяло в темноте. Поставив все паруса и запустив мотор, я, вероятно, успел бы до темноты подойти к острову так близко, что стать на якорь было бы совсем нетрудно. Но я замешкался в надежде, что вскоре после наступления сумерек поднимется ветер и я мигом буду у берега. Вместо этого наступил штиль, паруса заполоскали, блоки заскрипели, и «Язычник» потерял ход. Не убирая парусов, я включил мотор и неуверенно повел яхту вперед. Внезапно я услышал частые удары волн, перемежавшиеся время от времени почти полной тишиной. Я стал внимательно вслушиваться и вглядываться в ночь. Что-то, что было чернее мрака, надвигалось на меня, и вскоре шум стал явственнее. Я различал лишь скалы, высившиеся на берегу острова и заслонявшие звезды. Временами волны, набегая на крутой берег, разбивались об него, шум прибоя становился все громче. Мыс приближался. Я положил руль право на борт и увидел другую бесформенную тень на левом траверзе. Развернувшись, направил яхту между двумя темными тенями, рассчитывая подойти поближе к берегу и там при помощи лота отыскать удобную стоянку. По мере того как «Язычник» медленно продвигался вперед, шум прибоя нарастал. Слева, почти у самого борта, курчавились серые буруны, но мне казалось, что до них еще довольно далеко. Впереди огромные волны с шумом разбивались о скалистую отмель. Воздух был влажный, словно насыщенный водяной пылью. Да, за один день плавания нельзя научиться чувствовать опасность так, как ее чувствует опытный моряк. Я зажег карманный фонарик и несколько раз мигнул им. Внезапно из темноты послышались громкие крики: «No pase роr aquil. Piedrasl Peligrosoh»[3]. Скалы! В ужасе я резко положил руль на правый борт. Яхта остановилась. Вокруг пенилась и бурлила вода. Выключив мотор, я подбежал к мачте, отдал фал и убрал грот. Через мгновение почти не сознавая что делаю, я бросил якорь, который достиг дна на глубине десяти морских саженей. Подводные скалы были уже у самого форштевня. По обе стороны от меня волны плескались о. камни, и я больше часа просидел на палубе дрожа от страха, хотя «Язычник» спокойно стоял на якоре. Рыбаки метисы подплыли ко мне на своих хрупких челноках. Взобравшись на борт, они заверили меня, что яхта находится сейчас в полной безопасности. Дрожащий свет фонарика освещал их бородатые улыбающиеся лица. Скоро они уехали. Сидя на палубе, я глядел на бурлящую воду и в раздумье прислушивался к ее зловещему шуму. Я вспоминал минувший день и те уроки, которые он мне принес, пытался представить себе, что ждет меня впереди, когда я окажусь один в океане. Чем дольше я размышлял, тем яснее мне становилось, что я не подготовлен к такому путешествию. Я не знал свою яхту и не умел управлять ею – первый же день показал это с полной очевидностью. Мне следовало попрактиковаться неделю, а то и две. Следовало провести это время так, как я провел сегодняшний день – тогда я хорошо изучу своё судно, все его особенности и смогу уверенно управлять им. Я решил сделать это в водах острова Педро Гонсалес, используя его в качестве базы и крейсируя вдоль всей цепи Жемчужных островов. Осветив фонариком карту, я нашел в тесной кучке островов превосходное место для осуществления этого плана. Там были удобные гавани для упражнения в постановке на якорь, узкие проливы, где так трудно лавировать, мели, рифы и островки, которые надо было научиться обходить. Я с нетерпением ожидал рассвета, чтобы приняться за дело. Спускаясь в каюту, я чувствовал, что избавился от неуверенности, так долго не покидавшей меня. Теперь, наконец, я сумею как следует потренироваться. Я научусь всему, что необходимо, а затем с легким сердцем выйду в океан. Возясь с парусами и румпелем, я целый день почти ничего не ел и теперь вдруг почувствовал, как от голода у меня сводит желудок. Готовя себе пищу, я не придерживался какого-либо определенного рациона. Когда наступало время еды, я просматривал список съестных припасов и выбирал себе что-нибудь по вкусу и настроению. Затем принимался обшаривать вещи, пока не находил то, что мне было нужно. Я решил вести тщательный учет всех запасов, чтобы в любую минуту знать, чем я располагаю. Закупая продукты, я руководствовался примерно теми же соображениями, что и человек, отправляющийся в охотничью экспедицию. Однако охотничьи экспедиции обычно бывают непродолжительны, а мое путешествие могло затянуться на четыре с лишним месяца. Я старался приобретать продукты вкусные и вместе с тем недорогие, которые нетрудно приготовить и можно хранить долгое время. Я погрузил на яхту по одному галлону[4] риса, муки, толокна, кукурузной муки, чая, кофе, меда, джема, маргарина и сахара. Я измерял продукты галлонами только потому, что единственная тара, которую мне удалось раздобыть в яхт-клубе,– это дюжина бутылок из-под сидра вместимостью в один галлон каждая. Герметические ящики для хранения продуктов были мне не по карману, поэтому я воспользовался бутылками: наглухо заткнув их пробками, завернул бутылки в одеяла и разместил их под койками. В две из двенадцати бутылок я насыпал сахару. Вместо хлеба я захватил большой жестяной ящик твердых флотских галет. Хозяйки, жившие близ набережной, снабдили меня множеством банок вместимостью в одну кварту[5], и я положил туда чернослив, сушеные яблоки и персики. С потолка каюты свисали свиная грудинка и большой окорок, они раскачивались в такт движению судна и наполняли помещение аппетитным запахом. Но основная часть моих запасов состояла из двухсот сорока восьми больших банок с консервами. Я предпочитал именно большие банки: несколько поворотов консервного ключа – и вот уже готов сытный обед или завтрак. У меня был широкий выбор продуктов – от кетчупа до рыбных консервов для котят. Больше всего я любил бобы со свининой. Морская жизнь возбуждает аппетит и меняет обычные вкусы. Самая грубая пища кажется превосходной. У меня не было ни желания, ни времени готовить сложные, изысканные блюда. Средства позволяли мне приобрести лишь самые простые и необходимые припасы. К тому же чувствовал я себя превосходно и не мог пожаловаться на отсутствие аппетита, поэтому меня интересовало скорее количество, а не качество пищи. Маленький низкий столик в левом заднем углу каюты служил кухней. На нем стоял небольшой примус – сложное приспособление, работавшее на смеси сжатого воздуха и керосина. Примус можно было быстро разжечь, и я варил на нем великолепную уху. Кроме банок, панамские хозяйки подарили мне кастрюли и горшки, а также несколько старых разрозненных ножей и вилок. Все это хранилось на «кухне», и если мне надоедало есть холодные консервы прямо из банки, я имел возможность сервировать стол по всем правилам. С самого начала меня серьезно беспокоила проблема хранения питьевой воды. Какой-то яхтсмен дал мне два десятигаллонных молочных бидона, которые я наполнил водой и привязал в рубке к мачте. Потом я раздобыл два дубовых бочонка – на четыре и на десять галлонов. На скалах у выхода из гавани я подобрал авиационный бак для горючего вместимостью в пятнадцать галлонов. Затем я приобрел шесть пятигаллонных канистр по пятьдесят центов за штуку – одну из них я использовал под керосин, а в остальные налил воды. Кроме того, я купил на военном складе два десятигаллонных бочонка, заплатив неслыханно высокую цену – по пять долларов за каждый. В полученные от хозяек банки я тоже налил три галлона воды и поместил их под передней койкой. Таким образом, в день отплытия на яхте было свыше девяноста пяти галлонов воды. Для небольшого судового двигателя системы «кермат» я захватил восемьдесят галлонов бензина. Двадцать галлонов я залил в специальный бак на юте, шесть канистр стояли в кокпите, две были привязаны к мачте на палубе, еще две закреплены у ахтерштевня, а одна – принайтовлена к комингсам кокпита. Кроме запасов продовольствия и горючего, на яхте было еще много всякой всячины: походная аптечка, приобретенная на распродаже армейских излишков, большой дамский несессер и другие подарки, вроде нейлоновых вещичек, для Мэри, порошок для выведения блох у котят, два новых с иголочки костюма, пальто и шляпа, в которых я намеревался предстать перед женой в Сиднее, надувная спасательная лодка, блесна для ловли акул и две нехитрые остроги, при помощи которых я надеялся разнообразить свой рацион свежей рыбой. Была у меня и маленькая библиотечка, около двадцати пяти книг,– почти все они были мне подарены. В это число входили журналы и комиксы. Комиксы я бы с удовольствием выбросил, но подумал, что смогу по пути отдать их каким-нибудь любителям подобного чтения. Свои пожитки я уложил в матросский сундучок, оставшийся у меня еще со времени службы в торговом флоте. У меня было семь хлопчатобумажных костюмов цвета хаки, несколько непарных рубашек и брюк, башмаки и штормовка. Я взял с собой множество навигационных инструментов, с которыми совершенно не умел обращаться, рассчитывая, что в океане у меня будет достаточно времени на практике изучить мореходное дело. Моих запасов, по самым примерным подсчетам, должно было хватить по меньшей мере на четыре месяца. Если я буду ловить рыбу или по пути запасаться провизией на островах, то продержусь и все пять. Это казалось мне более чем достаточным, так как через четыре месяца я надеялся быть уже в Сиднее. ПРАКТИКА Жемчужные острова – невысокие, лесистые, расположены они в юго-восточной части Панамского залива. В бедных, но живописных деревеньках, сильно удаленных друг от друга, живут люди, в чьих жилах течет индейская, негритянская и испанская кровь. Они влачат жалкое существование, собирая дикие тропические фрукты и овощи и ловя рыбу, которой так много в прибрежных водах. Деревушки расположены в подветренной части острова, обычно у небольших заливов. В первую ночь я бросил якорь в заливе Перри у острова Педро Гонсалес. Рано утром я снова поднял паруса. Свежий, насыщенный дождевой влагой ветер погнал яхту на восток, и я стал подыскивать удобную бухту, в которой можно было бы стать на якорь. Вскоре у острова Сеньора я заметил песчаную косу и начал маневрировать, пытаясь подвести к ней яхту. Стоя на корме, я ногой поворачивал румпель и непрерывно измерял глубину ручным лотом. Выбрав подходящий момент, я привел яхту к ветру, положил руль на наветренный борт, и паруса заполоскали. Я отдал якорь и освободил цепь, которая с грохотом поползла в клюз. Потравив дирик-фал, я убрал грот, потом отдал фалы кливера и стакселя, рывком спустил стаксель и поспешил на нос, чтобы убрать и аккуратно сложить кливер. Яхта стояла на якоре! И так как я проделал все это очень легко, уверенности у меня прибавилось. Я решил спуститься вниз и сделать запись в судовом журнале. Но не тут-то было: голыми ступнями я ощутил подрагивание палубы и понял, что киль бьется обо что-то твердое. 
Как выяснилось, я забыл закрепить якорную цепь, она размоталась до конца, и яхту понесло кормой к берегу. Дождь хлестал как из ведра, вода заливала палубу, не успевая стекать за борт. Море вокруг так и бурлило. Когда я понял, что сел на мель у этого голого, необитаемого островка, дождь впервые показался мне холодным. Был отлив, вода быстро убывала, и через два часа «Язычник» сидел на мели уже всем днищем. Устроившись на поручнях, я грелся в лучах солнца, проглянувшего сквозь тучи, и пытался найти какой-нибудь выход. Котята, вымокшие и жалкие, как крысы, понуро ползали у моих ног и, сочувствуя моему горю, скребли когтями накренившуюся палубу. Мне подумалось, что вот и конец моему путешествию. Я уже слышал торжествующие голоса недоброжелателей: «Вот видите, так я и знал!». Думал я о жене и о том, как вернусь в Панаму без яхты. Несколько часов просидел я на палубе, надеясь, что из-за мыса вдруг появится какой-нибудь корабль и снимет меня с мели. Начался прилив, и нос яхты стал слегка раскачиваться: ясно было, что либо он скоро совсем зароется в песок, либо его занесет ближе к берегу. Вода подбиралась к палубе, она лизала борт, словно ощупывала его. Злой и растерянный, я решил бороться до конца. Большую часть груза я перенес на берег, прихватив заодно и котят, после чего нос приподнялся и яхта немного выровнялась. Я подставил под носовую часть яхты бочонок с водой, рванул изо всех сил якорную цепь, завел маленький мотор и, когда он затарахтел, пустил его на полную мощность. Вода продолжала прибывать, и я рассчитывал, что яхта скоро снимется с мели. Спрыгнув в воду, где мне было почти по пояс, я всей тяжестью навалился на ахтерштевень. Нос был свободен, но корма прочно застряла в песке. Тогда я перенес часть груза с юта на бак. Никакого результата. Прилив кончился, и я решил: теперь или никогда! До отказа повернув рычаг двигателя, я спрыгнул в воду и, напрягая все силы, снова попробовал сдвинуть с места махину весом в три с половиной тонны. Яхта поддалась на дюйм-другой, потом снова застряла. Я передохнул минутку и опять взялся задело. Дюйм… еще дюйм.., два дюйма… Вконец обессиленный, я прислонился спиной к яхте и уперся ногами в дно. «Язычник» сдвинулся, скользнул вперед и наконец снялся с мели. Судно было спасено. Посадка на мель была далеко не единственной ошибкой, совершенной мной за ту неделю, которую я провел у Жемчужных островов. У меня было немало промахов. Однажды в сумерках я принял песчаные шхеры близ острова Виверос за грязное пятно на воде, нос «Язычника» с размаху наскочил на песок и высоко задрался кверху. Лишь переждав отлив, мне удалось сняться и выйти на глубокую воду. Потом произошел случай в Кассайе. Я выбрал место для якорной стоянки у самой деревни, под прикрытием песчаной косы, на глубине двух саженей. В этом и была моя ошибка – в водах, где при отливе уровень понижается на шестнадцать футов, я стал на такой маленькой глубине. Ночью меня разбудил толчок. По накренившимся еланям каюты, перешагивая через беспорядочно разбросанные вещи, я добрался до люка и увидел, что «Язычник» сидит на мели, глубоко погрузившись в вонючую трясину. Меня окружал сонм каких-то жутких теней, кое-где дрожали тусклые блики лунного света. Нужно было приниматься за работу. Пришлось бродить до колен в вонючем иле, выравнивая яхту разгружать ее, чтобы, когда наступит прилив, она не затонула. Через три часа, голый и весь облепленный грязью, я с фонарем в руках любовался результатами спасательных работ. Дверь в каюту была закрыта, все люки и порты наглухо задраены. Очистив борта яхты от ила, я привязал у днища два бочонка, из которых специально для этого вылил воду. Тяжелые ящики с провизией я перенес с правого борта, на который накренилась яхта, на левый. Значительную часть груза пришлось перетащить на берег. Позднее, когда вода начала прибывать и поползла вверх по обшивке яхты, я, увязнув по пояс в грязи, напрягал все силы, чтобы помочь своему суденышку освободиться. Но самую постыдную оплошность я совершил в бухточке у острова Рей, близ полуразрушенной деревеньки Сан-Мигуель. Я отдал якорь, не закрепив конец цепи, которая у меня на глазах исчезла под водой. Течение несло меня прямо на скалы. Мотор почему-то никак не запускался. Вскоре «Язычник» ткнулся носом в риф, и мне не оставалось ничего другого, как спустить ялик и на веслах оттащить яхту от опасного места. Но, налегая на весла изо всех сил, я все же не мог побороть течения и отчаянными криками стал призывать на помощь жителей деревни. Вскоре они подоспели на своих каюках, и шесть лодок совместными усилиями вытащили мое судно на середину бухты. Поднявшись на борт, я положил в свой сундучок инструменты и использовал его в качестве временного якоря. Утром я совершил еще одну ошибку, предложив доллар в награду тому, кто отыщет на дне залива мой якорь. Семь человек бросились в воду и, хотя они рассыпались не менее чем на сто футов, все семеро нашли якорь одновременно, и каждый потребовал доллар! Таким образом, чтобы вернуть якорь и цепь, мне пришлось уплатить семь долларов. Не проходило дня, чтобы я не сделал какого-нибудь промаха. Но чем дальше, тем уверенней я обращался с парусами, тем лучше знал я свое судно. В довершение всего я снова потерял якорь. Случилось это в превосходно укрытой бухточке около Забоги. Якорь исчез при весьма загадочных обстоятельствах. В судовом журнале я описал этот случай под заголовком: «Тайна пропавшего якоря». Вот как все это произошло. В послеполуденную пору я приближался к деревне. Меня заметили издалека, и навстречу вышло несколько лодок. Польщенный столь торжественным приемом, я решил показать свое искусство и проделать недалеко от берега несколько рискованных маневров. В бухте Забога ветра не было, но я влетел туда на всех парусах. Я хотел провести яхту через узкий просвет между двумя лодками и поразить островитян своим мастерством. «Язычник» быстро бежал вперед, с легким плеском рассекая воду. Я заранее предвкушал удовольствие от удачного маневра. Однако в последний миг, когда лодки были уже совсем близко, весь мой энтузиазм испарился и я передумал, но было уже поздно. Парусные суда не имеют тормозов и не могут делать крутых поворотов, по крайней мере «Язычник» не был к этому приспособлен. Я рванул румпель и мысленно взмолился: «Только бы яхта сразу послушалась руля». Когда гребцы увидели, что я поворачиваю, они сделали то же самое. Весла дружно ударили по воде. Вместо того чтобы дать мне дорогу, лодки сгрудились еще теснее и плыли прямо на яхту. Впрочем, может быть, мне это только померещилось. Я уже ничего не видел: паруса скрыли от меня все, что происходило впереди. Толчок, треск ломающегося дерева, град испанских ругательств… Я бросился на бак, предполагая, что одна из лодок серьезно повреждена, увидев же, что обе лодки получили пробоины и тонут, а гребцы барахтаются в воде, совершенно растерялся. Через мгновение первый из них вскарабкался на яхту, лицо его выражало глубокую скорбь и обиду. Следом за ним появились остальные потерпевшие, в руках они держали небольшие кисеты с намокшим табаком. Потом они заговорили. На меня обрушились столь изощренные проклятия, какие мыслимы лишь на языке Латинской Америки в устах разгневанного латиноамериканца. Я только преминался с ноги на ногу и бормотал что-то невразумительное. Эти люди потребовали по десять долларов за каждую лодку. С таким же основанием можно было бы запросить сто долларов за рваный шнурок от ботинок. Для меня это было особенно тяжело, потому что после расплаты за найденный якорь и покупки бананов, вяленой рыбы и редких, встречающихся лишь у этих островов жемчужин своеобразной формы для Мэри у меня осталось всего двадцать пять долларов. Я предложил за обе лодки пять долларов, что вызвало бурю возмущения. Пока мы объяснялись с помощью немногих слов, понятных обеим сторонам, наступили сумерки, сменившиеся полной темнотой. В конце концов обиженные островитяне покинули яхту, взяв мой маленький удобный ялик в возмещение за свои выдолбленные бревна. Я отдал ялик ради успокоения деревни и собственной совести. В эту самую ночь и пропал якорь. Как это произошло – я не знаю. Но когда утром я вышел на палубу, его уже не было. Я, как обычно, подготовился к плаванию и вытянул тяжелую якорную цепь, способную и без якоря удержать яхту на месте в этой тихой, защищенной от ветра и течений гавани. Выбирая цепь, я почувствовал: якоря нет, но решил, что он просто сорвался со своей скобы. Запустив мотор, я начал крейсировать взад и вперед по бухте, внимательно взглядываясь в прозрачную воду, но видел лишь обросшие мхом камни да коралловые колонии. Вскоре появились островитяне и стали помогать мне. К полудню я начал подозревать, что якорь попросту украден. Во всяком случае на дне залива его не было. Я решил, что благоразумнее всего покинуть остров, пока у меня не пропало еще что-нибудь, и стал готовить яхту к отплытию. Снова уложив инструменты в сундучок, я привязал его к цепи вместо якоря, поднял паруса и взял курс на остров Педро Гонсалес. Было первое июня. Прошла неделя моей практики. За это время я побывал в заливах и бухтах каждого из Жемчужных островов, кроме острова Сан-Хосе, где был установлен карантин, так как там находилась военная база. Я водил яхту через узкие проливы, ходил против ветра и течения, перепробовал все курсы и галсы, не раз попадал в долгий штиль и сделал достаточно ошибок, чтобы извлечь из них полезные уроки. Теперь я чувствовал себя гораздо увереннее. Я приобрел опыт. Пожалуй, я даже начал овладевать яхтой. Из всякого положения, в которое я попадал по собственной вине, мне удавалось найти выход. Я чувствовал себя заправским моряком, хоть плавал совсем недолго. Мой маленький бойкий тендер показал себя лихим мореходом. Даже сев на мель или наскочив на рифы, он не терял лоска и изящества. Предстоящее путешествие было вполне по силам «Язычнику». Я полюбил тендер и привык думать о нем как о живом существе. Однако, несмотря на всю любовь и доверие к «Язычнику», я не мог решиться выйти на нем в Тихий океан. Я не раз отгонял эту мысль. Следовало бы еще потренироваться, но дольше тянуть было нельзя. Я мог подождать неделю, самое большее-десять дней. Ведь до начала штормов оставалось менее четырех месяцев. ВЕРА В УСПЕХ После восьми дней морской практики я решил предпринять что-нибудь посерьезнее, чем эта детская забава у берега. Утром второго июня я отправился в «длительное путешествие» вокруг всей цепи Жемчужных островов. Котята вылезли на крышу рубки и глядели по сторонам, широко раскрыв глаза. Яхта вышла из бухты Перри и взяла курс на юг. Плывя по прямой, я рассчитывал пройти все расстояние за двадцать четыре часа. Но я не предусмотрел многих неожиданностей, с которыми приходится сталкиваться парусному судну в Панамском заливе. Стоял почти непрерывный штиль, нарушаемый лишь слабыми ветрами, и «Язычник» полз черепашьим шагом. Огибая остров Рей с юга, вдоль мыса Пунта-де-Кокос, «Язычник» оказался к востоку от острова Пачека (последнего в цепи Жемчужных островов). Оставляя этот остров на западе, я направился к северо-западу вдоль берега и приготовился дрейфовать здесь всю ночь. Это была моя первая ночь в открытом море. Мне не терпелось узнать, как яхта будет вести себя с закрепленным румпелем, двигаясь самостоятельно, пока я буду отдыхать внизу в каюте. Не зная, как поступать в подобных случаях, я оставил все паруса на мачте. «Язычник» шел на северо-запад; положив яхту в крутой бейдевинд, я слегка увалился и вытравил грота-шкот. Когда паруса наполнились, яхта стала поворачиваться носом к ветру. В таком положении паруса заполоскали. Кливер и стаксель едва тянули, но все же яхта медленно двигалась вперед. Когда, повинуясь рулю, «Язычник» уваливался к западу, шкоты натягивались и за кормой появлялась пенистая полоса. Так я и оставил его на ночь. Поздно ночью я проснулся от громкого хлопанья парусов, завывания ветра и шума дождя. Шквал обрушился на яхту. Круто накренившись, она мчалась вперед в ночном мраке. Мне не приходилось еще встречать на яхте шквал – то было мое первое боевое крещение. Я поспешно убрал грот, и «Язычник» сразу же выровнялся. Опасность миновала, а я понял, что во время шквала нужно оставлять только кливер и стаксель. Рассвет застал меня к западу от Забоги. Дул легкий юговосточный ветерок. Я взял курс на юго-запад и пошел галфвинд вдоль подветренного берега. Весь день румпель быль закреплен, и все обошлось благополучно. К полудню ветер исчез. Исчезло и мое рыбацкое счастье, голодные котята, не получившие обычной порции рыбы, громко мяукали. Они бродили по баку, прятались под якорем и не желали иметь со мной никакого дела. Однако вскоре мне удалось поймать сверкающую желтохвостку – ее хватило на всех троих. Мой ранний обед состоял из жареной рыбы с ломтиками бекона и горячих маисовых лепешек, политых соком кокосового ореха. Экипаж «Язычника» обладал одним неоценимым достоинством – он никогда не жаловался на плохую еду. День клонился к вечеру. Яхта была уже довольно далеко от юго-восточной оконечности острова Сан-Хосе. Я вел ее на восток, к Мафафе – самому южному населенному пункту на Жемчужных островах, до которого оставалось не менее двух часов хорошего хода. До Мафафы я должен был добраться уже ночью, но это меня не пугало, ибо я считал себя достаточно опытным моряком. Нужно было обогнуть Пунта-де-Кокос и наметить себе какой-нибудь ориентир, а потом идти в темноте по компасу. Пунта-де-Кокос – скалистая оконечность вытянутого, словно палец, мыса на юге острова Рей. Мафафа расположена на «суставе» этого пальца – стоило мне обогнуть мыс, и впереди показалась бы деревня. Но сумерки опередили меня. Я опрометчиво решил провести яхту у самого берега. Рокочущие валы обрушивались на мыс, а затем, отброшенные грядой рифов, откатывались обратно в море. Волны вздымались высоко вверх и, громоздясь друг на друга, простирали к небу свои белые, пенистые руки. Хорошенько рассчитав все, я мог проскочить мимо мыса в промежутке между двумя волнами. Ведь если бы человек не рисковал иногда, надеясь на удачу и счастливый исход, жить на свете было бы просто скучно! Когда я повернул яхту, намереваясь обогнуть мыс у самого берега, две большие волны обрушились на меня с траверза. Никогда не забуду, с какой силой они окатили палубу. Произошло это так неожиданно и в такое, казалось бы, спокойное мгновение, что я совсем растерялся. Мачта почти исчезла в водяной пыли. Я вцепился в румпель и смотрел, как вода перекатывается через палубу,– впервые с тех пор, как яхта принадлежит мне. Отвесные скалы были уже совсем рядом. Подошла новая волна, но она разбилась далеко от яхты, и на палубу обрушились только брызги. Я вспомнил о моторе и пожалел о том, что не воспользовался им. Яхту занесло так близко к скалам, что я различал даже крабов, сидевших на камнях. Вся палуба была залита водой. Подняв голову, чтобы прикинуть, сумею ли я оттолкнуться от скал, я увидел котят, барахтавшихся на юте, у самых поручней – из воды торчали только их мордочки с испуганными глазами. Через какую-нибудь минуту яхта должна была наскочить на камни. Положив руль на ветер, я схватил котят и приготовился забросить их на скалы. Волна, ударившись о камни, схлынула и ослабила удар следующей. «Язычник» привелся к ветру, замедлил ход, переменил галс и продвинулся еще на несколько футов. Но тут его настигла новая волна. Разбившись о скалы, она тоже устремилась обратно в море. Я не знал что делать; с котятами в руках, удерживая ногой румпель, я замер и ждал, что будет дальше. Четвертая волна ударила в борт, перехлестнула через поручни и швырнула яхту на первую гряду рифов. Ощутив резкий толчок, я подумал, что мачта может сломаться и упасть мне на голову. Даже не глядя на нее, я чувствовал, как она раскачивается из стороны в сторону. Все это время румпель был поставлен под ветер. Яхта отвернула от полосы скал и носом встретила следующую волну. Вот корма снова приблизилась к камням, и я уже представлял себе, как руль и винт ломаются в щепки. Но яхта почти не сдвинулась с места. Она поднялась на волну, опустилась и снова пошла вперед. То вздымая бушприт к небесам, то зарывая его в воду, «Язычник» уходил от опасного мыса. Он двигался во всю мощь своих парусов – только это и могло нас спасти. Вскоре яхта вышла на спокойную воду, а я все не мог оторвать взор от мыса, где волны с шумом разбивались о скалы и где «Язычник» чуть не потерпел крушение. Мне удалось сохранить судно, и я чувствовал себя сродни настоящим морским волкам. В трудную минуту я оказался на высоте. Радостная улыбка, не сходила с моего лица. Теперь, когда я окончательно обрел веру в успех, можно было начинать путешествие. Тихий океан звал меня. Где-то там, за темным горизонтом, ждала моя терпеливая жена. Я решил, что с утра тронусь в путь. Но когда наступило утро, мой завтрак был прерван шумом и громкими, бодрыми голосами, какие бывают у людей на заре. Я поднялся на палубу и увидел шлюпку, в которой сидели солдаты с военной метеорологической станции, расположенной на берегу бухты. Солдаты поднялись на борт. Узнав, что я моряк и добираюсь домой, они отнеслись ко мне по-товарищески. Их очень заинтересовало мое судно и предстоящее плавание. Они выразили искреннее желание помочь мне привести в порядок яхту, и я решил отложить выход в море еще на день. 
Вшестером мы энергично взялись за работу и справились с целой кучей дел. Мы выкрасили мачту и весь рангоут, разрисовали палубу, рубку и кокпит красками четырех цветов, имевшимися на борту, смазали стоячий такелаж, зашпаклевали щели и иллюминаторы и подшили оторвавшийся кое-где ликтрос у парусов. Один из солдат, механик по специальности, разобрал мотор и к вечеру рассказал нам, какой основательный ремонт ему пришлось проделать. Он прочистил свечи, наладил карбюратор, промыл бензиновый шланг, проверил генератор, отрегулировал клапаны и починил еще много всяких деталей. Другой, специалист по электротехнике, так электрифицировал яхту, что стоило повернуть выключатель, как в каюте загоралась лампочка, питаемая аккумулятором мотора. В случае необходимости теперь можно было включать даже ходовые огни. Он же каким-то чудом наладил никуда не годный радиоприемник, который я хотел было вышвырнуть за борт. Третий, чей скрытый талант и изобретательность обнаружились внезапно, оказал мне огромную услугу, соорудив под правой койкой большой ящик. Только владелец судна может по достоинству оценить такое приспособление. Четвертый укрепил мачту на случай непогоды. Таким образом, через десять дней после прибытия на Жемчужные острова я был готов к выходу в океан. Мой тендер от кливер-галса до грота-шкота был в полном порядке. Можно было трогаться в путь. Но солдаты никак не могли успокоиться. В благодарность за великодушную помощь я предложил покатать их на яхте. Откровенно говоря, самому мне это было не очень по душе, больше всего мне хотелось быть уже на пути к Мэри. Но я не мог не выразить свою признательность тоскующим на чужбине людям. Мы обогнули юго-восточную оконечность острова Рей и поплыли к острову Сан-Мигуель. Для «Язычника» это был единственный светлый день с тех пор, как он принадлежал мне. Вернулись мы на следующий вечер, пройдя мимо грозного мыса Пунта-де-Кокос. «Язычник» совершил последний прогулочный рейс – отныне и до своего злополучного конца он должен был выполнять серьезную, подчас даже тяжкую и изнурительную работу. Ночью я завершил последние приготовления, бочонки были залиты водой и закупорены, продукты уложены, багаж упакован – и закреплен на своих местах. Солдаты подарили мне даже запас рыбных консервов для котят. Я был твердо уверен, что яхта выдержит путешествие. Десять дней испытаний у Жемчужных островов подтверждали это. Прошлое «Язычника» служило залогом того, что яхта не подведет меня в открытом море. «Язычник» был построен и спущен на воду в Норвегии. Обшивка, палубный настил, шпангоуты и кницы были изготовлены из доброкачественного леса, вывезенного с сурового севера. Много лет яхта бороздила бурные воды Скандинавии, доставляя продовольствие на маяки Балтики. В 1934 году «Язычник» прибыл в Панаму из Польши через Атлантический океан. На борту находились четыре поляка, желавшие переселиться в Австралию. Они пережили много опасных приключений, не раз попадали в шторм, после чего тропическая, дождливая Панама стала для них милее далекой солнечной Австралии. Они тут же продали свою яхту, которая называлась тогда «Двайя», и этот шлюп с гафельными парусами двенадцать лет мирно проплавал «во внутренних водах». Легкий ветер раздувал светлые паруса. Тихо и безмятежно, как и подобает почтенной прогулочной яхте, плавала она от Колона до Бальбоа, и вымпел яхт-клуба развевался на ее мачте. Частенько на ней совершались увеселительные прогулки. Под оригинальным названием «Язычник» она скоро стала известна на атлантическом и тихоокеанском побережьях Панамы. За те двенадцать лет, что «Язычник» совершал прогулочные рейсы у берегов, он был оснащен бермудскими парусами и стал быстроходным тендером, одним из лучших в Панаме. Редко кому удавалось его обогнать. Итак, яхта моя была быстрой и надежной, и теперь, проплавав на ней столько времени, я изучал ее, поверил в нее и благодаря ей поверил в собственные силы – чего еще мне оставалось желать? Я вышел в кокпит, осветил фонариком палубу, такелаж, нашел все в полном порядке. Спустившись вниз, я долго не мог уснуть, разглядывал низкий потолок каюты и радовался, что завтра начну, наконец, свое путешествие. ТОНЕМ! Ранним утром 7 июня я привязал свою маленькую надувную лодку к мачте, поднял на борт сундучок с камнями, которыми я заменил заржавевшие инструменты, и отвел яхту подальше от берега. Потом я повернул на запад, и восточный ветерок, который был свежее, чем обычно в этих местах, погнал яхту в открытое море. Как я уже говорил, мне предстояло плыть на острова Галапагос – уединенный вулканический архипелаг, лежащий на пороге оживленного морского пути. Я хотел остановиться на острове Сеймур, где была военная метеорологическая станция, и пробыть там некоторое время, разумеется, если станция еще не ликвидирована. Отплывая из Панамы, я слышал от рыбаков, возвращавшихся с Галапагоса, что армейские части должны покинуть острова первого июля. В моем распоряжении было три недели, срок более чем достаточный – я рассчитывал добраться до Галапагоса за одиннадцать дней. Там я хотел задержаться на неделю, еще раз проверить такелаж и корпус судна, чтобы потом выйти на южный морской путь и безостановочно плыть до самого Сиднея. Приближался период штормов, и мне нужно было спешить, чтобы не застрять где-либо на три-четыре месяца в ожидании погоды. На всякий случай у меня были карты и координаты островов, расположенных на моем пути. Если возникнут какие-нибудь трудности, можно будет зайти туда, чтобы исправить повреждения или послать телеграмму. Когда Жемчужные острова из зеленых стали сперва голубыми, а затем серыми, я начал размышлять о том, каким курсом вести яхту, чтобы попасть туда, куда мне нужно. На этот счет у меня было немало сомнений, но припомнив, что кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая, я положил на карту линейку и карандашом соединил Жемчужные и Галапагосские острова. Эта линия, проходившая на юго-запад, обозначала мой истинный курс. Нужно было только придерживаться ее – и через несколько дней я увижу землю. Вскоре, однако, мне пришлось убедиться, что в открытом море теория и практика удивительно не соответствуют друг другу. К полудню восточный ветер начал понемногу стихать. Но за несколько часов он все же сослужил мне хорошую службу. Далеко позади на горизонте виднелись Жемчужные острова. Справа по борту угадывались туманные очертания берегов Панамы. Я скоротал утро на палубе со своей кошачьей командой. Румпель был закреплен, и «Язычник» мягко покачивался на волнах. Соломенная шляпа защищала мою голову от солнечных лучей, удобные плетеные сандалии ловко сидели на ногах. Я разделся до трусов. Утро было в самом разгаре, когда я достал удочку, наживил на крючок хвост пойманной накануне рыбы и через двадцать минут вытащил извивающуюся макрель, которую бросил котятам. Как обычно, котята затеяли забавную возню вокруг бившейся на палубе рыбы. Сцена повторялась без изменений, но никогда не надоедала мне. Сначала котята приближались к рыбе с естественным любопытством. Обоняние говорило им, что это изысканное блюдо, кошачий деликатес. Они в ярости прыгали на здоровенную рыбину, урча и готовясь вцепиться в нее зубами. Рыба могучим ударом отбрасывала их, а они, перепуганные, с развевающимися хвостами, кубарем летели на бак. Через мгновение их снова начинал тревожить аппетитный запах, они осторожно крались обратно с невинным видом, затаив надежду в душе. Они подползали к своей жертве, распластавшись, припадали к палубе, издали принюхивались, готовясь к прыжку. Тут я бросал позади котят молоток, и они с жалобным мяуканьем пулей летели на бак. Выждав секунду-другую, они неуверенно выглядывали из-за угла рубки, поблескивая круглыми глазами. Они рассматривали свой обед, лежавший на палубе. Потом снова ползли к рыбе, останавливались около лакомства и с наслаждением нюхали его. Наконец, позабыв об осторожности, они со злобным урчанием брали рыбу на абордаж. Словно лихие ковбои, они, оседлав рыбу, выдерживали несколько ее скачков, а затем снова летели прочь, отплевываясь и натыкаясь друг на друга. Терпению нельзя научить, таким вещам учатся самостоятельно. К моему удовольствию, эти бестолковые зверьки так и не научились терпению в обращении с рыбой. Они забавляли меня до того горестного дня, когда я вынужден был расстаться с ними. Около полудня ветер совсем упал. Я сделал в судовом журнале первую запись относительно погоды. Журнал мне заменяла записная книжка, в которой было девяносто страниц – на каждый день по странице. Последнюю страницу я надеялся заполнить перед входом в порт Сидней. Не зная, как вести судовой журнал по всей форме,– если такая форма вообще существует,– я попросту записывал: «7 июня, 11.00-12.00. Ветер стихает». Так началось мое путешествие. Завтрак мой состоял из продуктов, запасенных на острове: авокадо, половины ананаса, двух бананов, молока кокосового ореха. Две грозди бананов были привязаны к мачте, по палубе перекатывались кокосовые орехи, авокадо, плоды манго, дынного дерева, ананасы – дары изобильных тропических лесов. Все это я погрузил на борт, думая, что не увижу больше свежих фруктов до самой Австралии. После полудня с северо-запада задул слабый ветерок, вскоре он засвежел, и на волнах появились белые гребни. К закату он еще более окреп и дул теперь с запада, поднимая волнение на море. На небе появились облака. «Язычник» сильно накренился, и я начал размышлять, время ли брать рифы и если время, то как это сделать. Я выполнял эту операцию в тихую погоду, но сейчас, когда ветер и волны раскачивали и подбрасывали судно, дело обстояло совсем иначе. Спустившись вниз, я углубился в книжку «Как управлять парусным судном». Увы, она была рассчитана на плавание в прибрежных, закрытых водах, в ней ни слова не говорилось о том, как нужно брать рифы. Цепляясь за переборки, я выбрался из каюты на мокрую палубу. Вглядываясь в низко нависшие облака, я искал признаков перемены погоды, но не находил ничего утешительного. «Итак Тихий океан встречает меня штормом»,– подумалось мне. Я огляделся и увидел, что подветренный борт касается воды. Яхта дрожала, то и дело слышался треск рангоута. А ветер все крепчал, вода бурлила у бортов, волны вздымались с шумом и свистом. Я не был уверен, что теперь «самое время» брать рифы, но все же решил, что это не помешает. Как убрать парус? Как закрепить рангоут в такую погоду? В Индии говорят: как ни работай, только бы дело спорилось. Но на судне нужен порядок. Никто не станет отвязывать фал и выпускать его из рук при сильном ветре… как это сделал я. Подобная небрежность очень опасна, так как парус сразу же обезветривается и свободный его конец бурно полощется в воздухе. В конце концов парус может лопнуть как раз посередине, ликтрос рвется, и парус вмиг расползается по швам на шесть лоскутов. Я так хорошо знаю все подробности потому, что именно это и произошло у меня на яхте. Пока я ловил болтавшийся по ветру фал, парус был изорван в клочья. Я кинулся к мачте и попробовал ухватить концы лоскутов; оставшийся без присмотра гик, словно взбесившись, перемахивал с борта на борт. Кое-как закрепив паруса, я вцепился в гик изо всех сил, а потом за двадцать минут, потребовавшихся для того чтобы справиться с остальными парусами, обежал палубу никак не меньше тысячи раз. Когда я покончил с этим, волнение на море еще больше усилилось и небо озаряли частые вспышки молний. Я понял, что убрав паруса, нужно было соответственно передвинуть румпель, а теперь ветер гнал «Язычника» как раз туда, откуда я плыл целый день. Довольно сомнительным маневром я лег на обратный курс, приведя яхту к ветру, причем волны несколько раз сильно ударили в борт. Но мне все же удалось положить яхту на правый галс, повернув румпель к ветру и обезветрив передние паруса. Вокруг медленно сгущались сумерки. То и дело огромная волна ударяла в нос, задирая его высоко в небо; валы пенились под яхтой, бросая ее из стороны в сторону. Оказалось, что во время шторма не нужно почти ничего делать. Детские игрушки! Пусть грот разлетается в клочья, стаксель и кливер остаются на местах, руль надо положить под ветер – вот и все. Накладно, но зато просто. Всматриваясь в наступившую темноту, я внезапно ощутил спазмы в желудке и едва заметное головокружение. Решив, что это от усталости, я спустился вниз. Там царил хаос. Слышался стук и грохот сорванных с мест грузов, в трюме бушевала вода, а в каюте было жарко и душно, котята, жалобно мяукая, ползали по полу. Настойчивые удары волн и плеск воды, словно погребальный звон, звучали в моих ушах. Я внезапно почувствовал тошноту и с трудом выбрался на воздух. Ухватившись за ванту, я опустился на колени и стал «кормить рыб». Зловеще завывал ветер, гремел гром, океан ревел, и между приступами рвоты я все яснее понимал, что шторм усиливается. Все чаще сверкала молния, все влажнее становился воздух: с минуты на минуту должен был хлынуть ливень. Кливер наполнился ветром до предела, и я боялся, что старая парусина не выдержит. Стаксель был поставлен на гике, грота-гик принайтовлен. Я примостился у правого борта, и меня охватило ощущение полной пустоты; я мог еще думать, чувствовать, но не был в силах пошевелиться. Я знал, что кливер натянут и может в любую минуту сорваться. Задняя шкаторина его то и дело сотрясалась, и тотчас же начинала дрожать палуба, на которой я лежал животом вниз. Я повернулся на бок и молча наблюдал жестокую, безнадежную схватку между всемогущей природой и маленьким созданием рук человеческих. Кливер тяжело вздыхал и отдувался, как человек, несущий непосильный груз. Наконец шкот оборвался, лопнул. Парус неистово заполоскал. Старый изношенный ликтрос лопнул с оглушительным треском – так трещит одежда на толстяке, который нагнулся слишком низко. Злополучный парус вмиг был разорван, и клочья его смыты за корму набежавшей волной. Я сделал попытку взять себя в руки и спокойно обдумать положение. Ветер все свежел, море ревело все грозней, вокруг пенились буруны. Молнии вспыхивали и гасли, как огни в окнах домов, превращая ночь в день. Порывами налетал дождь. С полощущимся стакселем «Язычник» медленно продвигался вперед. Теперь, придя в себя, я почувствовал неодолимый страх. По всей видимости, было «самое время» взять рифы на стакселе, только так я мог спасти его. Отвязав фал и крепко зажав его в руке, я спустил парус пониже, чтобы дотянуться до рифов. Постепенно мне удалось завязать риф-штерты на непокорном парусе. Со стакселем бывает особенно много возни. Немыслимо взять на нем рифы, чтобы в лицо тебе не плеснуло по меньшей мере десять ведер воды. Нелегко бывает справиться и с самим парусом, который неистово бьется над головой. Яхта то скачет, как дикая лошадь, когда все паруса убраны, то испытывает бортовую качку, и тогда на баке не за что ухватиться. Нет ничего удивительного в том, что один яхтсмен называл свою капризную супругу «Мой стаксель». Прежде чем спуститься вниз, я вгляделся в ревущую темноту, и то, что я увидел, отнюдь не облегчило страданий, причиняемых мне морской болезнью; «Язычника» валяло и швыряло, как щепку. Теперь он мчался вперед по воле ветра, и я боялся, как бы он не врезался в берег. Спустившись в каюту, я надел на себя спасательный жилет и сунул за пазуху обоих котят. Но они были недовольны теснотой, и мне пришлось их вытащить обратно. Взяв спасательный пояс устаревшего образца, я срезал с него пробковые поплавки. К двум поплавкам я прикрепил веревки, а к веревкам за задние лапы привязал по котенку. Меня снова начало тошнить, и я выбежал на палубу. У меня началась так называемая «сухая рвота», и чем больше я напрягался, тем хуже себя чувствовал. Сознавая свою беспомощность, я огляделся по сторонам и пробормотал: «Ну, кажется все». Град водяных брызг обрушился на палубу с наветренной стороны, ветер завывал в рангоуте, океан ревел и бушевал за кормой. Стаксель испытывал такой натиск ветра, что сотрясалась вся яхта. «Что тут поделаешь!» – подумал я и спустился вниз. Котята, запутавшись в веревках, яростно барахтались возле поплавков. Я отвязал котят и, посадив их к себе на колени, опустился на койку, встревоженный ревом волн и ветра, рисуя себе всякие ужасы. Еще в Панаме кто-то сказал мне, что штормовой парус лучше всего поднять на грот-мачте. У меня не было штормового паруса, но ведь его можно сделать. Разрезав дюймовый линь на десяток коротких кусков, я отыскал старый запасной стаксель и с трудом вытащил его на палубу. Куски линя я свободно привязал к мачте, соединил их с передней шкаториной паруса, а затем при помощи грота-фала поднял его. Нижняя шкаторина осталась свободна, и парусина сильно деформировалась под ветром, но все же она заменила штормовой парус, и яхта пошла плавнее.Убрав и свернув стаксель, я поспешил вниз. Вместе с котятами я забылся тяжелым, беспокойным сном, но вскоре был разбужен треском разрывающейся парусины. Штормовой парус лопнул сверху донизу, и края его развевались по ветру. «Язычник», разумеется, снова сошел с курса и беспомощно качался и кружился на волнах. Что делать дальше? Вспышки молний непрерывно озаряли ночную тьму, ветер порывами обрушивался на яхту. Говорят, первый блин всегда комом, а ведь это был мой первый шторм. Я всерьез начал опасаться, что «Язычник» прямиком отправится «в порт мертвых кораблей». В такие минуты, когда не знаешь как быть, невольно даешь клятву никогда больше не покидать тихие гавани. «Язычник» очутился между двумя волнами. Клокочущая вода, перекатываясь через палубу, грозила перевернуть яхту. Я поспешил поднять стаксель – последнюю мою надежду. Здоровенная волна едва не смыла меня в океан. Движимый страхом, я подхватил сундучок с камнями и швырнул его за борт, а затем с трудом дополз до кокпита и стал ждать, что будет дальше. Падая, сундучок увлек яхту в сторону и повернул ее. Была глубокая ночь. Морская болезнь, усталость, тревога окончательно измотали меня. Я с трудом спустился вниз к перепуганным котятам и тут же уснул. А на рассвете случилась беда. К счастью, ветер немного стих, но вокруг еще возвышались гигантские валы. Сокрушительный удар обрушился на киль яхты. Я слетел с койки. Котята жалобно мяукали. Я вскочил на ноги и, спотыкаясь, полез на палубу. Вокруг звучала адская какофония: громыхали сорванные с мест грузы, трещал рангоут. Я добрался было до люка, но тут новый толчок опрокинул меня на пол, «Язычник» резко накренился и задрожал, при этом раздались десятки различных звуков, перекрывавших друг друга. На мгновение яхта выровнялась, но тут же новый толчок снова свалил меня. Я был уверен, что «Язычник» наткнулся на подводные скалы. «Крушение!» – мелькнуло у меня в голове. Я был рад, что вовремя надел спасательный пояс. Ощупью я разыскал котят, предвидя, что мне придется прыгать на острые скалы, и не желая бросать свою команду на верную гибель. Котята пытались удрать от меня, но я нашарил пробковые поплавки и кинулся на палубу, держа котят на весу. Я ожидал увидеть угрюмый берег, окаймленный остроконечными скалами. Но ничего подобного! Вместо этого у самых своих ног я увидел гигантскую тушу кита, хвост которого вспенивал воду у правого борта яхты. С другого борта лениво покачивался на волнах еще один кит, немного поменьше первого. Я слышал, что киты иногда нападают на маленькие суда, но в такой шторм это казалось мне невероятным. Я с ужасом подумал, что чудовище может уничтожить меня одним взмахом своего огромного хвоста. Но вскоре этот огромный хвост принял более ясные очертания, и я понял – передо мной плавучее дерево, но такое большое, что из него можно было бы сделать две, три или даже пять таких яхт, как мой «Язычник». Ствол был погружен в воду, а ветки высоко поднимались над поверхностью; дерево непрерывно покачивалось на волнах. Очевидно, взлетев на гребень, яхта опустилась прямо на дерево. Я бросил котят в каюту и попытался сняться с дерева отпорным крюком. Однако мне это не удалось. «Язычник» засел поперек ствола, раскачиваясь из стороны в сторону и с такой силой ударяясь о дерево, что в любую минуту могла произойти катастрофа. Гигантские валы швыряли лесного великана, как щепку, ствол и сучья давили на днище, и «Язычник» жалобно стонал, словно тяжело раненный человек. Каждая новая волна сдвигала киль на один-два дюйма вперед, и наконец, выдержав десяток таких ударов, яхта освободилась и поплыла дальше. Я побежал вниз и зажег фонарь, чтобы взглянуть, нет ли течи или других повреждений. Я не обнаружил ничего подозрительного. Но вдруг на дне трюма мелькнула серебристая полоска. Протянув руку, я нащупал в воде что-то скользкое, живое и юркое. Я схватил это существо и бросил за трюмный настил. Кальмар! Живой кальмар длиной в два дюйма и полдюйма в обхвате. У меня сразу же мелькнула мысль, что где-то должна быть пробоина, через которую он попал сюда. Я пошел в кокпит, где стояла помпа, выкачал воду и, осмотрев трюм, увидел тонкую струйку, сочившуюся сквозь днище. Осмотр шпангоутов, переборок каюты и подводной части бортов не принес результатов. Видимо, яхта дала течь в глубине, где-то около киля. Я решил срочно плыть к берегу. Ближе всего был остров Рей. Снова выкачав воду из трюма, я лег на другой курс. Не отдавая рифы у стакселя, поднял его повыше и завернул шкоты. Потом вытащил на борт сундучок с камнями. Обливаясь потом, несмотря на сырой, холодный ветер, я торопливо развернул свой крепкий кливер и поднял его. Я горько сожалел теперь о том, что по собственной небрежности остался без грота. Как он бы мне сейчас пригодился! Но и под стакселем и кливером «Язычник» резво бежал вперед, подгоняемый волнами и ветром. Я направил яхту на юго-восток, предполагая, что во время шторма меня отнесло к северу. Край неба посветлел, солнце медленно поднималось над горизонтом, освещая верхушки парусов. Яхта шла к Жемчужным островам. Я снова взялся за помпу и заметил, что теперь вода прибывает быстрее. На всякий случай я запустил мотор и дал «полный вперед». Пока я заводил мотор, трюм снова залило. Я вернулся к помпе и качал до тех пор, пока в шланге вместо бульканья не раздалось шипение воздуха – звук, милый сердцу моряка, чье судно дало течь. Но заглянув в трюмный колодец, я увидел, как он снова упорно наполняется водой. «Язычник» шел быстро, но все же этого было мало. Я подумал о запасном гроте, лежавшем в парусном ящике, и о том, как хорошо бы его поставить. Спустившись вниз, чтобы достать его, я с ужасом обнаружил, что трюм уже затоплен и даже пол каюты залит водой на целый дюйм. Я бросился к помпе и работал до тех пор, пока не выбился из сил, а в трюме не осталось ни капли. Я напряженно всматривался поверх седых бурунов в полоску земли на горизонте – и она казалась мне такой далекой! Прошло полчаса. Я все глядел на острова, отрываясь лишь для того, чтобы проверить уровень воды в трюме. До острова Рей было около восьми миль, до Пунта-де-Кокос еще дальше. Сан-Хосе находился на левом траверзе в пяти-шести милях от меня. Должно быть, я слишком загляделся на остров, так как, посмотрев вниз, обнаружил, что пол каюты не меньше чем на три дюйма залит водой. Течь усилилась. Я снова принялся изо всех сил откачивать воду, время от времени меняя руку, но вода все плескалась в трюме– Когда, наконец, в шланге зашипел воздух, я облегченно вздохнул, но взглянув вперед, убедился, что до острова Кокос еще очень далеко, В трюме снова забурлила вода, пришлось опять взяться за дело. Проработав довольно долго, я обнаружил, что справляюсь с большим трудом. А когда я отрывался, чтобы взглянуть вперед, вода быстро поднималась. Я побежал на корму, отвязал румпель и повернул яхту прямо на восток. Теперь я взял курс на остров Сан-Хосе, который был в трех милях с подветренной стороны. Вода угрожающе прибывала, она просачивалась сквозь переборки, пугая свернувшихся на койке, дрожавших от холода котят. Я качал изо всех сил, пытаясь справиться с этим потоком. Впереди виднелась пустынная отмель, слева от нее – скалистый мыс, за которым был защищенный берег. Мне оставалось только выброситься на сушу. Повернув яхту на три румба влево, я направил ее носом к берегу и снова стал лихорадочно качать, не решаясь взглянуть, далеко ли еще до берега. Вдруг мотор захлебнулся, глухо кашлянул раз-другой и, наконец, заглох. Взглянув на мотор, я увидел, что он залит водой. Я продолжал качать, надеясь, что «Язычник» будет двигаться по инерции, потому что маленькие передние паруса почти не тянули. Берег медленно приближался. Я налег на помпу, но яхта оседала все глубже, борта были уже у самой воды. Снизу, из каюты, доносились жалобные вопли котят; я понял, что вода смыла их с койки. Я был готов к тому, что палуба вот-вот скроется под водой и «Язычник» пойдет ко дну. Но тут киль зашуршал по песку, и яхта остановилась. Из люка выплыли котята, тащившие за собой пробковые поплавки. Я забросил их на крышу рубки и начал убирать паруса, затем постарался прочно закрепить яхту на берегу. Палуба была затоплена, внутри все плавало в воде. Я отдраил носовой люк и, погрузившись по пояс в воду, выудил из трюма двухдюймовый трос. Один конец его привязал к кнехту, другим обвязался вокруг пояса. Схватив котят, я швырнул их к берегу, и они упали в воду футах в двадцати от песчаного пляжа. Я прыгнул с носа в воду, подплыл к ним и увидел, что они пытаются сделать невозможное – вскарабкаться на качающиеся поплавки. Пришлось вытащить котят на берег. Очутившись на суше, они начали зябко ежиться и дрожать от холода. Я подошел к пню мангрового дерева и крепко привязал к нему конец троса. 
Моя кошачья команда, потерпевшая вместе со мной кораблекрушение, ковыляла по песку, смертельно уставшая от моря и его капризов. Вдруг котята увидели, что рядом хмурый, неприветливый лес, погруженный в грозное молчание. С жалобным мяуканьем они затрусили обратно к берегу, горько сетуя на превратности судьбы моряка, и мокрые перепуганные присели на задние лапы. Я с нежностью взял на руки своих маленьких друзей, измученных морским путешествием. До этого я звал их просто «киски». Теперь же как-то сами собой появились для них имена. Маленькую светлую кошечку я назвал Нырушкой, более темного котенка Поплавком. К сожалению, для их крестин выдался слишком уж безрадостный денёк. Я решил накрыть их ведром, чтобы они не удрали в лес, где могли бы угодить в пасть крокодила. Сидя на сыром песке, я с грустью глядел на свою несчастную яхту, затонувшую до самых поручней у необитаемого острова. У меня на глазах она завалилась на бок. Правый борт скрылся под водой, мачта показалась на поверхности в футах трех от борта и торчала вверх под каким-то невероятным углом. Это была мачта судна, потерпевшего крушение. На ней все еще болтались обрывки штормового паруса. ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ В то утро, сидя на неприветливом берегу и глядя на свою затонувшую яхту, я думал, что путешествию моему пришел конец. Я убедился, как скверно быть новичком во всяком деле. Какая насмешка! «Добраться до Сиднея во что бы то ни стало»,– с этим лозунгом отправился я в путь. И вот теперь в шестидесяти милях от Панамы моя яхта затонула, а впереди всего только восемь тысяч четыреста сорок миль! Котята, видимо сочувствуя мне, глубже зарылись в мои колени. Я отправился на яхту вплавь. С тяжелым чувством ступал я по накренившейся палубе. Положение казалось безвыходным. Я считал, что все мои неудачи начались в тот день, когда яхта села на мель около острова Сеньора. Все утро я сыпал отборными ругательствами, доказав этим, что я моряк до мозга костей. Израсходовав весь запас бранных слов, как ни странно, я почувствовал облегчение. Я отыскал сухое местечко и присел, созерцая знакомую картину – лежащую у берега яхту. До сих пор добрую половину того времени, что я провел на «Язычнике», яхта просидела на мели. Плавание, которое прежде казалось «слишком скучным», стало что-то слишком уж увлекательным. Яхта села на мель во время прилива. Через час почти вся палуба очутилась над водой, а около киля воды было мне до колен. Я спрыгнул вниз и обошел помятый корпус яхты, внимательно осматривая каждую царапину. Попав в мои руки, яхта очень пострадала. Но вместе с тем она показала, на что способна. Вполне можно было рассчитывать, что если мне удастся отремонтировать свой резвый тендер и спустить его на воду, он без труда переплывет Тихий океан. Мое обучение мореходному делу, так дорого стоившее «Язычнику», оставило на нем заметные следы в виде многочисленных вмятин и царапин. Я открыл бортовые иллюминаторы, чтобы выпустить из трюма воду. Просунув голову и плечи в машинное отделение, я открыл кингстон в трюме. Внутри яхты было такое нагромождение всякого хлама, которое привело бы в восторг любого старьевщика. Но мне не хотелось об этом думать. Меня интересовали только пробоины, а их не пришлось искать слишком долго. Шпунтовый пояс обшивки с левого борта надвинулся на форштевень, обнажив залитую цементом скулу. Пенька во многих местах вылезла из пазов, и сквозь щели сочилась вода. Кроме того, были и другие повреждения. Ахтерштевень выскочил из своего гнезда. Обшивка, прилегавшая к ахтерштевню и форштевню, покоробилась, гребной винт был погнут. Осмотрев повреждения, я убедился, что они вполне исправимы. Потом отыскал молоток, отвертку, гвозди и старую рубаху. Прежде всего я приколотил обшивку к килю, ахтерштевню и форштевню. Затем, разорвав рубаху, временно законопатил пазы лоскутьями при помощи отвертки и молотка. Работать пришлось быстро, чтобы успеть все сделать, прежде чем начнется прилив. Когда вода начала прибывать, я уже закончил временный ремонт яхты. Теперь оставалось только предотвратить течь через палубу: задраить вентиляторы, бортовые иллюминаторы, кингстон и сходной люк. Море наступало на берег, охватывая яхту своими цепкими руками, и словно ощупывало отремонтированные места, готовясь проникнуть внутрь судна. Я ждал. Вот «Язычник» снова на воде. Теперь течи почти нет, откачать воду ничего не стоит. Уже в темноте, когда уровень воды поднялся до предела, я подвел свое суденышко к самому берегу, где киль прочно зарылся в песчаное дно, а нос смотрел прямо в сторону леса. Утомленный волнениями и тяжелой работой, я поплелся по берегу к своим голодным друзьям. Целый день я ничего не ел, не выпил даже глотка воды. Я был так измучен, что даже мысль о том, чтобы вернуться на яхту и отыскать банку рыбных консервов для котят, была мне невыносима. «Отдохну несколько минут и пойду»,– решил я. А когда встал, было уже совсем светло. Котята прыгали и резвились вокруг меня. День выдался погожий, был отлив, яхта стояла параллельно берегу. Нужно было приниматься за работу, но я и моя команда умирали от голода. Поднявшись на борт, я обнаружил, что со всех банок смыты этикетки, пришлось выбирать наугад. Я протянул руку и взял две банки. В одной из них оказались ананасы, в другой – шпинат. Котята, вынужденные привыкать к превратностям жизни на море, получили на завтрак дольки ананаса. Мне же в это утро холодный шпинат из консервной банки казался вкуснее яичницы с ветчиной, а ананасы были лучше всякого кофе. Десять дней я вел блаженный и беспорядочный образ жизни. Я не носил одежды, копна волос на голозе, давно уже не знавшая ножниц, заменяла мне шляпу, брился я в последний раз перед отплытием из Панамы и, кстати, тогда же дал себе слово не бриться до встречи с Мэри. Босой, покрытый бронзовым загаром, я все время проводил возле яхты, ремонтируя ее поврежденные и сломанные части, чтобы снова вступить в единоборство с океаном. Питался я холодными консервами, открывая наугад банку за банкой, и сочетания получались самые неожиданные. Я разнообразил свой рацион фруктами и овощами, собранными на острове. Рядом была банановая роща, а около нее – большое мангровое дерево, чуть подальше я нашел авокадо, кокосовые пальмы и дынное дерево. Я с аппетитом уплетал свежие фрукты. Работал я очень много, но в то же время много ел, хорошо спал и ни в чем не испытывал недостатка. Ночевал я на песке под навесом, сооруженным из весел и стакселя. Ни до, ни после этого не ощущал я такого единения с природой, никогда не было у меня такого здорового аппетита и сна. В эти дни мне не хватало только Мэри, будь она со мной, я не стал бы торопиться с ремонтом яхты. Да и вообще ремонт был бы ни к чему. Все эти десять дней я много и упорно работал.Когда наступал отлив, я возился у борта «Язычника», пуская в ход все свои инструменты. Когда начинался прилив и тендер вертелся на отмели, я чинил и латал грот, сшивал три больших лоскута, стремясь сделать парус еще прочнее, чем раньше. На всякий случай я прошелся иглой по швам всех парусов, проверил все ликтросы и крепление передней шкаторины к раксам, заново срастил кренгельсы, прочно принайтовил бухты тросов. Целый день ушел у меня на то, чтобы освободить рубку, перенести весь груз на берег и сложить его у опушки леса. Собственно, с этого я и начал. Потом оставалось только починить яхту и, как я надеялся, выйти в море. Отодрав доски обшивки, я законопатил все отверстия от винтов в бортах и киле, просверлил новые и прочно привинтил доски. Все пазы я законопатил ватой, предусмотрительно захваченной из Панамы, при помощи специальной лопатки. Затем я забил пазы свинцом, покрыл их шпаклевкой и покрасил. Свинцовые заплаты я положил по обе стороны форштевня, на стыках планок и на ахтерштевне. Затем тщательно очистил борта и днище яхты и покрыл их краской. После этого я исправил руль и выровнял молотком гребной винт. Теперь, наконец, можно было думать о выходе в море. Труднее всего было снять яхту с мели и отвести ее подальше от берега. К тому же у меня не было якоря, и я в первую очередь взялся за его изготовление. Мне было ясно, что так как заменить якорь нечем, нужно сделать его из подручных материалов. Сундучок с камнями в качестве верпа не годился, мне нужен был такой якорь, который можно было бы завести подальше от берега и подтянуть к нему яхту, если удастся снять ее с мели. 
Свалив на опушке маленькое деревце, я распилил его на две неравные части – одна была толстая и длинная, другая тонкая и короткая. Длинная деревяшка предназначалась для веретена якоря. К ней я приколотил наискосок короткую жердь длиною около четырех футов, которая должна была служить рогами якоря. На концах ее я укрепил длинные шипы с таким расчетом, чтобы они вонзались в песчаное дно при любом положении рогов. Такой якорь не нуждался в штоке и обладал только одним недостатком – плавучестью. Недостаток этот я устранил, привязав к нему две большие свинцовые пластины, которые спилил с киля яхты и приладил одну к веретену, а другую – к лапе якоря. Потом я определил расстояние от застрявшей на мели яхты до чистой воды. Опыт, накопленный ранее, когда я садился на мель, очень мне пригодился. Я натаскал в трюм тяжелых камней, чтобы яхту не швыряло во время прилива. План у меня был такой: поскольку большая часть груза перенесена на берег, а камни, лежащие в трюме, тяжелее груза, я дождусь прилива и разом выброшу камни в воду, после чего яхта сразу же всплывет. Тогда я оттяну ее за якорную цепь подальше от берега и поставлю на якорь. Накачав резиновую надувную лодку, я погрузил на нее новый якорь и отвез его на глубокое место. Метрах в тридцати от берега я бросил самодельный якорь в воду, и он быстро пошел ко дну. Вернувшись на берег, я присел отдохнуть возле груды имущества, снятого с яхты и сложенного у опушки леса. Поплавок и Нырушка забрались ко мне на колени, и мы наблюдали, как первые волны – вестники прилива – осторожно лизали киль. Некоторое время спустя «Язычник» вздрогнул и зашуршал днищем по песку, стремясь оторваться от мели. Когда воды прибыло достаточно, я натянул цепь верпа и прикрепил его к погону. «Язычник» порывался всплыть, но тяжелые камни в трюме удерживали его. Когда же я быстро побросал камни за борт, яхта легко всплыла. Ухватившись за цепь, я начал подтягиваться к якорю. Теперь меня больше всего волновало: даст ли судно течь. Если даст – я буду вынужден вернуться в Панаму для капитального ремонта, если нет – стану продолжать путешествие. Спустившись вниз, я зажег фонарь и тщательно осмотрел трюм. Все было в порядке, ни одна капля воды не проникла внутрь. Когда я снова вышел на палубу, яхта уже развернулась носом к океану, словно движимая каким-то инстинктом. То же обманчивое предчувствие, которое заставило меня отплыть из Панамы в одиночку, теперь побуждало меня продолжать путешествие. Приближался вечер. Я торопился выйти в океан. Подтянув надувную лодку к борту, я сел в нее и поплыл к берегу, где, накрытый парусом, лежал весь груз, а Поплавок и Нырушка пронзительно и жалобно мяукали под ведром. Целых три часа я перевозил багаж с берега на судно. Последний рейс я сделал уже в сумерках; испуганные котята, забравшись на груду припасов, удивленно смотрели на темную воду. Меньше чем через час я привязал резиновую лодку на баке, поднял свой необычный якорь и закрепил его на палубе. Под всеми парусами, подгоняемый свежим ветерком, «Язычник» вышел из бухты. Какой-то внутренний голос подсказывал мне, что теперь началось настоящее путешествие. Конечно, подумывал я и о возвращении в Панаму для ремонта. Это было бы самое разумное. Но прошел час – и ни одна капля воды не просочилась в трюм. Я вспомнил, что уже потерял почти целый месяц, а в соревновании с надвигающимися штормами мне был дорог каждый день, каждый час. Уже одно то, что «Язычник» снова держался на воде и шел своим ходом, казалось, приближало меня к Мэри на тысячу миль. В полночь, когда яхта была уже далеко от берега, я взял курс на юго-запад, закрепил румпель и лег спать вместе со своей командой. ПРИКЛЮЧЕНИЕ От Жемчужных островов до Галапагоса около девятисот миль. В Панаме мне сказали, что на парусном судне этот переход может продолжаться от семи дней до целой вечности. Этим и ограничивались полученные мной сведения. Даже те, кто уже плавал в этих неприятных местах, не могли сказать мне ничего путного. Когда об этом заходил разговор, люди хмурились и смотрели в сторону моря. «К Галапагосу нужно подходить с востока,– говорили они.– Не вздумайте огибать его с запада, там вы не одолеете пассатов и течений». Я решил поступить так: плыть на юг, пока не окажусь на широте Галапагоса, а потом повернуть на запад. Кто-то сказал, что стоит мне достигнуть Галапагоса – и все остальное плавание до самой Австралии будет похоже на морскую прогулку. Мне начнут помогать пассаты. Нужно только пробиться к ним – в этом заключалась теперь основная задача. Я мечтал о спасительных пассатах и был преисполнен уверенностью в успехе. Говоря о погоде в зоне между Панамой и полосой юго-восточных пассатов, нельзя ограничиваться словами «плохая» или «ужасная» – этого далеко не достаточно. Хуже всего, что штормы здесь не случайное, а самое обычное явление. Погода крайне неустойчива, а поэтому путешественник испытывает на себе каждый вид ненастья в отдельности, не говоря уже о всевозможных сочетаниях. У Жемчужных островов я выдержал один шторм и один шквал, и в то время они показались мне очень сильными. Но когда «Язычник» вышел из Панамского залива, Пандора приоткрыла, как видно, свой сосуд[6], и я очутился буквально в аду. Собственно говоря, настоящих штормов не было. Но уж лучше бы меня потрепало с неделю, а потом я мог бы спокойно плыть под парусами целый день, чем подвергаться таким резким переменам погоды. Чуть ли не каждую ночь я брал два ряда рифов на гроте и ложился в дрейф. А потом вдруг наступал мертвый штиль или ветер настолько слабел, что яхта не могла двигаться против течения. В промежутках между этими крайностями внезапно налетали тропические шквалы. Единственным признаком, по которому можно было угадать налетевший шквал, был вихревой ветер да треск разрываемых парусов. Поистине эти воды – сущее наказание для моряков. Здесь сталкиваются три враждебных океанических течения, и под килем судна клокочет и бурлит вода. С севера, от берегов Японии и острова Уналашка, движется холодное Калифорнийское течение. Наперерез ему с запада проходит экваториальное противотечение, бурное и стремительное, дышащее зноем тропических морей. А вдоль побережья Южной Америки, из Антарктики, движется холодное Перуанское течение, которое называют также Гумбольдтовым. При столкновении трех этих течений происходит то же caмое что случилось бы, если бы блондинка, брюнетка и рыжая передрались из-за одного мужчины! 
И среди всего этого хаоса дул порывистый юго-западный ветер, то крепчая на мгновение, то снова слабея. А так как мой путь лежал на юго-запад, ветер дул мне прямо в лоб. Приходилось лавировать – сначала на юг, затем на запад, борясь с течением, старавшимся отбросить меня назад к Панаме и, надо сказать, порой не без успеха. В иные дни я простаивал целые часы, попав в мертвый штиль. Затем штормовой ветер налетал сбоку, заставляя меня ложиться в дрейф и терять время. А утром вновь наступал штиль, и на яхту потоком обрушивался тропический дождь или налетала гроза, озаряя небо зловещими вспышками молний. В первый же день моего плавания поднялся южный ветер, крепчавший с каждой минутой. Я взял первые рифы и подумывал уже, не спустить ли один парус, как вдруг ветер мгновенно упал. Огромные волны катились мне навстречу и исчезали за кормой. Через двадцать минут чудовищная туча нагнала яхту, глухо заворчал гром. По правилам мне следовало убрать все паруса и спуститься вниз. Но я боялся, что меня отнесет на юго-восток. Целый день я вертелся на одном и том же месте, борясь с встречным ветром. И теперь попутный ветер был для меня настоящим счастьем. Я поглубже нахлобучил шляпу и остался на палубе. Налетел шквал и наградил яхту энергичным пинком. Через мгновение я уже мчался со скоростью семи узлов! Ну что ж, это меня вполне устраивало. Представьте себе, как швыряло яхту, захваченную ураганом, как нос ее зарывался в волны! Взлетая на гребень одного вала, «Язычник» врезался в другой, и брызги взлетали высоко вверх до самой верхушки мачты. Вода перекатывалась по палубе и стекала за корму. Яхта с шумом проваливалась между седыми валами, и тут же нос ее рассекал следующую волну. Я решил было привести яхту к ветру и взять все рифы, но потом сказал себе: «Не беда! Куда-нибудь да приплывем!» – а яхта мчалась все дальше и дальше. Шквал не отпускал меня минут сорок, потом ветер упал, и только океан продолжал бурлить и волноваться. ***
На другой день я впервые наблюдал борьбу двух течений. Внезапно, неизвестно откуда, на поверхности океана появились бесчисленные, конусообразные, юркие волны. Они взлетали и опускались в бесконечной пляске, как бы простирая к небу множество рук. Никогда в жизни не приходилось мне наблюдать подобное зрелище. Казалось, океан страдает от жуткой эпилепсии. Волны попадали и на яхту, но тут же выплескивались из самоотливного кокпита, не причинив никакого вреда. Это под килем встретились два различных течения: рыжая и блондинка вцепились друг другу в волосы. ***
Вскоре произошел еще один необычный инцидент. Дул слабый изменчивый, как говорят иногда в шутку моряки, «дамский» ветерок. День выдался жаркий. Несколько часов я, запустив мотор, тщетно пытался найти свежий ветер. Перед вечером я примирился с судьбой и прекратил поиски. Однако внезапно разыгрался шторм – настолько внезапно, что я не успел спустить паруса. Пока я брал первые и вторые рифы на гроте, шторм разбушевался не на шутку. Седые валы вздымались вокруг меня, и яхту сильно качало. Пришла пора убрать кливер, чтобы не рисковать потерей бушприта. Плавание под парусами на яхте с бушпритом в штормовую погоду напоминает цирковой номер – балансирование на катящейся бочке. Всякий раз, как бушприт опускался, я оказывался до колен в воде. Примерно каждая четвертая волна была выше других, и вода оказывалась у меня даже в карманах – в жилетных карманах! Отчаянно вцепившись в ванту, я пытался свободной рукой управлять парусами. В такую бурную, темную ночь упасть за борт отнюдь не желательно. Поэтому я крепко держался и быстро работал. Но в подобные минуты невольно становишься рассеянным. Именно это и произошло со мной. У Жемчужных островов я уже несколько раз плавал с бушпритом во время шторма и считал это пустяковым делом. Но на парусных судах нужно всегда быть начеку. «Язычник» как-то особенно резко накренился, глубоко зарылся в воду, потом задрал нос кверху, нацелив бушприт в небо. Не удержавшись, я кубарем покатился прямо в набегавшие волны. Я мигом вынырнул на поверхность. Волны обрушивались на меня и увлекали к корме. Боканец был в каком-нибудь футе от меня, и я понимал, что нужно поскорее ухватиться за него или еще за что-нибудь, иначе следующая волна отбросит меня под ветер. «Язычник» плыл так медленно, что, напрягая все силы, я почти не отставал от него. Соленая вода застилала мне глаза и затрудняла дыхание. И вот в этот отчаянный миг я почувствовал прикосновение какого-то предмета: сначала подумал, что коснулся руля, но это были штаны, которые я спустил на веревке за корму, чтобы выстирать их. Я подтянулся к поручням и смог, наконец, перевести дух. Море обрушивало вокруг сокрушительные удары, поражая меня своей беспредельной мощью. Прослужив четыре года в торговом флоте, я и не подозревал о его всесильном могуществе. Находясь на борту большого транспорта, человек чувствует себя не в море, а над морем, он защищен прочными стальными переборками. Когда матрос торгового судна ощущает на губах соленые брызги, для него это целое приключение. Пока я купался в пене за кормой яхты, не имея сил вскарабкаться на палубу, мне стало ясно, что необходимо спустить с кормы леер, за который можно будет ухватиться, если я снова окажусь за бортом. Взобравшись, наконец, на судно, я прошел к бушприту и с трудом спустил кливер. Но перед этим я полежал немного на палубе, провожая спокойным взглядом убегавшие назад волны. С ревом исчезали они в ночной тьме. Разумеется, я думал о том, что могло со мной произойти. Моряку, плавающему в одиночку, всегда угрожает такая опасность. Мне здорово посчастливилось, но в следующий раз счастье может отвернуться от меня. Я чувствовал себя неразрывной частью судна, я как бы слился с ним воедино, сражаясь с беспощадным океаном. Я подумал о том, решился бы я на это путешествие или нет, если бы знал, какие неожиданности подстерегают меня. «Да, решился бы»,– таков был мой ответ. То, что я сделал, было увлекательно, несло с собой сильные ощущения. Несмотря на опасность, я был в восторге. Я испытывал жажду, знакомую всем мужчинам,– жажду приключений. И вдобавок ко всему я приближался к единственной в мире женщине, о которой мечтал,– к Мэри! ***
Утро четвертого дня моего плавания мало чем отличалось от трех первых. Яхта ползла на юго-запад, подгоняемая попутным ветерком. Как всегда, небо казалось мне подозрительным, но я уже успел привыкнуть к этому. Минувшей ночью я взял все рифы на парусах, а на рассвете снова отдал их. Но теперь это было бесполезно: ветер стихал и на море, над которым низко нависло свинцовое небо, начинался штиль. Я запустил свой трескучий мотор и два часа плыл без парусов, пока не почувствовал дуновение ветра. Он дул, как всегда, с юго-востока и лишь слегка расправил паруса. Все эти дни я изучал мореходную астрономию, которой раньше не мог заняться, поглощенный другими делами. Кроме того, я определял расстояние, пройденное за сутки, вычисляя скорость пузырей, убегавших из-под киля. Таким путем я установил, что двигался до сих пор со скоростью семи узлов и, повидимому, преодолел половину расстояния до Галапагоса. В десять часов случилось еще одно происшествие. Большая тупорылая акула лениво проплыла рядом с «Язычником». Она поглядела на меня крошечными, как у свиньи, глазками и внезапно ударилась о борт своей массивной тушей. Мне уже давно приходилось видеть и слышать нечто подобное. Не раз, днем или ночью, раздавались удары в борт. Акулы, вероятно, желали почесаться о судно, а может быть, они делали это с каким-то злым умыслом. Впервые я услышал этот зловещий шум, когда плавал у Жемчужных островов. Была ночь. Яхта лежала в дрейфе недалеко от Забоги, и я мирно спал в своей каюте. Меня разбудил страшный удар, от которого содрогнулось все судно. Я кинулся на палубу, думая, что яхта наскочила на риф, так как не знал, где нахожусь. Сначала я решил, что яхта легла на другой галс и повернула к берегу. С палубы ничего не было видно. Ночь была тихая и темная, «Язычник» лениво покачивался на воде. Я растерялся и долго не мог понять, что произошло. Но вот на поверхности показался светящийся след – там двигалась какая-то масса. У самых моих ног эта масса с шумом ударилась о борт, с каким-то жутким скрежетом скользнула вдоль корпуса и скрылась из виду. Это была акула. С этим я не мог примириться. «Язычник» был обшит дубовыми досками всего в дюйм толщиной, прослужившими уже двадцать шесть лет. Если акулы часто станут пользоваться яхтой вместо скребницы, я рискую очутиться в воде. Поэтому, когда акула снова приблизилась, я изо всех сил метнул в нее гарпун. Испуганная хищница кинулась прочь, вырвала линь у меня из рук и ушла в глубину. Гарпун был безвозвратно потерян. Тогда я привязал к веслу длинный охотничий нож и, как только акула подплывала близко, всаживал ей в бок стальное лезвие на добрых шесть дюймов. Но вернемся к нашему рассказу. Акула, которая двадцать третьего июня в десять часов утра слегка шлепнула мою яхту, была настоящим чудовищем. Я невольно залюбовался ею. Великолепный экземпляр! Она была длиной в половину моей яхты, с зубами в человеческий палец и держалась с наглостью настоящего бандита. При виде ее страшных зубов мне захотелось добыть их, чтобы потом показать Мэри. Пусть посмотрит и пощупает эти могучие челюсти. Достав спортивную острогу и толстую лесу, я привязал к ней самый большой стальной крюк для ловли акул. На крюк я насадил уже порядком обглоданную Поплавком и Нырушкой макрель. Когда акула подплыла, я забросил наживку перед самым ее носом и тут же отвел в сторону, прежде чем хищница успела понять, что к чему; целью этой простейшей психологической уловки было разъярить жадную хищницу. Во второй раз она ткнулась рылом в наживку, которая мгновенно исчезла в ее зубастой пасти. Я изо всех сил потянул леску. Крюк впился в пасть акулы; испытывая мучительную боль, она попыталась оборвать лесу, потом внезапно заметалась, вздымая фонтаны воды, и рванулась прочь. Яростно ударяя могучим хвостом, акула уплывала все дальше от яхты, с легким жужжанием разматывай лесу. Когда леса длиной в шестьдесят ярдов размоталась до конца, акула завертелась на крюке, поблескивая серебром в облаке пены. Хищница тяжело билась в воде, то сгибаясь пополам, то свиваясь почти в кольцо и щелкая зубами. Вот она вынырнула за кормой, потом появилась у самого носа, оставляя кровавые пятна на гладкой поверхности воды. Она переворачивалась на спину и судорожно билась или начинала описывать круги около яхты, сопровождаемая рыбой-лоцманом. Один раз она нырнула прямо под яхту, футов на сто в глубину, так что я совершенно потерял ее из виду, несмотря на кристальную прозрачность воды. Но самый эффектный рывок она сделала через полчаса после того, как попалась на крюк. Натянув лесу до отказа, она уплыла далеко за корму яхты. Брызги летели во все стороны, позади акулы оставался пенистый след. Описав несколько кругов, акула на секунду замешкалась, потом сделала скачок футов на пятьдесят в сторону, повернулась и кинулась вперед так стремительно, словно хотела могучим рывком оторвать себе голову и оставить ее на крюке. Не натянув лесу до конца, она вдруг выпрыгнула из воды, перевернулась на спину и так дернулась всем туловищем, что если бы леса, будь она даже прочнее металлического троса, была натянута, она бы лопнула, как нитка. После этого акула ослабела и лишь слегка сопротивлялась, когда я подтягивал ее к яхте. Зубы акулы казались мне просто необыкновенными: длиной не менее двух дюймов и толщиной с карандаш, они двумя неровными рядами торчали в разные стороны, такие острые и огромные, что ей ничего не стоило перекусить любую кость. Невольно завидуя ее силе и гордясь одержанной победой, я перегнулся через перила и слегка щелкнул акулу по носу, который оказался не менее твердым, чем палуба моей яхты. Огромные челюсти и острые зубы были великолепны. Но как их заполучить? По своей наивности, я думал, что это очень Просто: нужно только втащить акулу на борт, отрубить ей голову, а туловище выбросить в море. Поплавок и Нырушка, положив передние лапы на поручни, принюхивались к запаху рыбы, шедшему из пасти хищницы, ерзали на месте и мяукали, предвкушая скорое пиршество. Я решил поднять акулу на палубу. Сперва я попробовал сделать это одним рывком, но едва сдвинул акулу с места – ведь она весила сотни фунтов. Тогда я привязал грота-фал к остроге, вонзал ее в жабры акулы и, подтягивая дюйм за дюймом огромную тушу, с трудом втащил ее через транец на палубу. Какое чудовище! Голова лежала в кокпите, а хвост свешивался за корму. Туловище еще заметно вздрагивало. Взяв топор, я несколько раз всадил его в спину акуле, пока она не замерла в неподвижности. Кровь фонтаном окатила меня. Внезапно огромное туловище пришло в движение. Перепуганные котята ринулись на нос. Я поглядел им вслед. Раздался громкий треск – и румпель, обломанный у ахтерштевня, упал в море. На яхте начался разгром. Гигантская акула ожила и перешла в нападение. Могучими ударами хвоста и головы она сбила меня с ног и чуть не сбросила за борт. Хвост действовал подобно огромному молоту, разбивая, сплющивая и сметая все вокруг. Бак с горючим был смят в одно мгновение, другой медный бак сплющился в лепешку, и содержимое его потекло в трюм. Охваченный страхом, я прижался к поручням. Комингс кокпита зашатался, затрещал и повалился в мою сторону,– не успей я пригнуться, он мог бы меня искалечить. Тем временем крышка люка свалилась в каюту, послышался треск заднего бортового иллюминатора. Настил кокпита мог рухнуть в любую секунду. «Язычник» прыгал по воде, словно под ударами чьих-то гигантских кулаков. Я подобрался как можно ближе к чудовищу и всадил топор ему в спину. Акула снова стала яростно извиваться. Переборка между кокпитом и машинным отделением треснула, настил обрушился, канистры с бензином покатились в машинное отделение, голова акулы почти коснулась мотора. Подскочив к ней, я снова и снова вонзал топор в ее тушу. 
Разрушение продолжалось. «Язычник» разваливался на моих глазах. Я работал топором, словно обезумевший лесоруб, на голове и на спине акулы образовались уже зияющие раны, спинной плавник был срублен почти до основания. Но акула не унималась. Я боялся, что она проломит палубу или повредит мачту. Я рубил и рубил без передышки, отчаявшийся, весь перепачканный кровью. Акула головой угодила в мотор, выбила свечи и порвала провода. Потом она перевернулась, легла прямо на гребной вал и несколькими ударами погнула его. Теперь я опасался, что она пробьет борт. Я лег на бок как раз над мотором, изловчился, топором раздробил ей нижнюю челюсть и распорол брюхо. Акула судорожно дернулась. Я продолжал наносить смертоносные удары, вышиб ей глаз, разрубил туловище от жабер до остатков спинного плавника, но хвост по-прежнему рассекал воздух, подобно хлысту. Я подполз ближе, чтобы ударить наверняка, и лег поудобнее, собирая все силы. Теперь я нацелился в рыло, которое считал ахиллесовой пятой акулы, и раздробил его до самых верхних зубов. Акула все еще отчаянно билась. Тогда я придвинулся почти вплотную и всадил топор ей в брюхо, чтобы поразить жизненно важные органы. Я выбился из сил и едва попадал топором в акулу. Но неожиданно все кончилось: широко разинув пасть, она вдруг замерла. Я долго лежал рядом с акулой, надеясь, что она больше не оживет, так как иначе она бы придавила меня, а я не смог бы пошевельнуться. Все вокруг было переломано и залито кровью, я тоже был весь в запекшейся крови. Прежде чем выбросить изуродованную тушу за борт, мне пришлось заняться другими делами. Нужно было выкачать из трюма не один галлон бензина, кислоты, пролитой из аккумуляторов, и крови. Затем я вымыл палубу, каюту, борта и внутреннюю обшивку. И, наконец, убрал обломки, сложив их в каюте. Кокпит превратился в зияющую дыру. Посреди нее голодные котята громко мяукали на туше акулы, жадно поводя усами. Я отрезал им порядочный кусок мяса и бросил его на крышку переднего люка. Вскрыв желудок хищницы, я нашел там целую коллекцию – останки жертв, послуживших ей пищей. Там были два кальмара, большая макрель, множество уже почти переваренной мелюзги, еще одна макрель, на которую я и поймал акулу, несколько костей и кусков мяса, вырванных, очевидно, из тела какой-то крупной рыбы. После столь упорной борьбы челюсти акулы приобрели в моих глазах особую ценность. Отрубив голову хищницы, я вымыл и вычистил ее желтые ужасные зубы. Чтобы перебросить через борт тушу акулы, я разрубил ее надвое, но и после этого мне пришлось напрячь все свои силы. Ну, а что касается повреждений, то ремонт кормы отнял у меня более двух недель. К усвоенным мною правилам прибавилось еще одно: никогда не втаскивать акулу на борт. Мотор совершенно вышел из строя, и починить его можно было, лишь вернувшись в Панаму. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что должен был вернуться в Бальбоа и отдать его в ремонтную мастерскую. Благодаря этому я в конечном счете выиграл бы время. Тогда мое путешествие через Тихий океан было бы не только более быстрым, но и более спокойным и скучным. Пожалуй, главной причиной того, что я не вернулся в Панаму, было плачевное состояние моих финансов. У меня оставалось всего двадцать пять долларов – сумма, явно недостаточная для капитального ремонта яхты. Кроме того, по моим расчетам, яхта проходила в сутки от восьмидесяти до ста миль, и я надеялся через неделю добраться до Галапагоса, где мотор уже не понадобится. Мне сказали, что там начинаются юго-восточные пассаты, которые дуют непрерывно, и я вполне смогу обойтись без мотора. Итак, я продолжал свой путь теперь уже только под парусами. ЗА БОРТОМ Главная опасность для человека, плывущего в одиночку на парусном судне, заключается в том, что если яхта перевернется, некому поднять ее и оказать помощь потерпевшему. Мысль о такой возможности постоянно преследовала меня, и я всячески старался соблюдать осторожность. На следующий день после битвы с акулой я спустил с кормы спасательный леер длиной около шестидесяти футов, чтобы, если я упаду за борт, мне было за что ухватиться. Иногда я привязывал к его концу крючок, наживленный лоскутом белой материи, и ловил таким способом свежую рыбу для себя и котят, а то спускал на нем грязные штаны или рубашку, чтобы выстирать их в морской воде. Кроме того, я использовал леер и в качестве лаглиня для определения скорости яхты. Однако главное – он должен был спасти мне жизнь, если я упаду за борт. И все же в одно прекрасное утро, даже несмотря на спасательный леер, я чуть не остался в океане. Едва взошло солнце, как с юго-запада на меня обрушился шквал. Море забурлило вокруг яхты. Грот и стаксель были зарифлены. Я не торопился убирать кливер, надеясь, что ветер скоро утихнет. То, что бушприт то и дело зарывался в воду, меня уже не смущало. Бушприт у моей яхты был длинный – около семи футов – и очень тонкий. Я никак не мог хорошенько разобраться, что именно нужно делать, чтобы убрать кливер в штормовую погоду. Ни разу мне не удалось проделать это как следует, до самого конца плавания я так и не научился убирать его. Обычно я поступал следующим образом: сначала пробирался вперед и растравливал талреп. Потом пятился назад и на один-два фута травил фал, опуская паруса. Снова бежал вперед, чтобы освободить две бухты троса, оттягивал вниз шкотовый угол паруса и цеплял его за поручни на форпике. Потом снова травил фал, отпускал несколько зажимов, спускал парус, купая его в воде и укладывая на палубе. Я всегда оставлял кливер до последней минуты. Я не умел обращаться с ним, и поэтому мне было все равно, убирать ли его в легкую непогоду или в настоящий шторм. В то утро ветер засвежел, и я приготовился к борьбе с кливером, заранее ругаясь и кляня его на чем свет стоит. Забравшись на бушприт, я обнаружил, что стяжная муфта штага почти совсем развинтилась. Я попытался закрепить ее рукой, но, видимо, повернул не в ту сторону, так как внезапно она соскочила. Я уцепился за парус, раздуваемый ветром, и повис на нем. В мгновение ока я взлетел на воздух, не выпуская полощущийся кливер. Я очутился на высоте пятнадцати футов и примерно на таком же расстоянии в стороне от яхты. Вцепившись в парус, я прикидывал, смогу ли доплыть до яхты, если спрыгну в воду. Решив не рисковать, я продолжал держаться за кливер. Внезапно парус обезветрился, и я полетел на палубу, ударившись с разгону о мачту. Прежде чем я успел разжать руки, меня снова подняло на воздух. Ветер хлестал по парусу и трепал меня, как треплет терьер пойманную крысу. Но вот кливер сорвался с леера и, поникнув, упал вместе со мной в море. Узел на конце фала застрял в блоке, и меня потащило к корме. Я уцепился за неподатливый парус и барахтался в море, пытаясь свернуть кливер, в надежде, что смогу как-нибудь спасти его. Парусина упорно не поддавалась. Вдруг фал выскользнул из блока, и я поплыл по воле волн. Теперь я мог держаться только за парус. Яхта начала удаляться, я крепко ухватил парус и поплыл к спасательному лееру. Но слизь и морские водоросли облепили леер, и он стал таким скользким, что висеть на нем, удерживая парус, было совсем нелегким делом. Я хотел во что бы то ни стало спасти парус. Мой запасной кливер порвался во время шторма у Сан-Хосе. Теперь у меня оставался только один. Он был необходим мне. Без кливера трудно обойтись при попутном ветре. Но тут же я понял, что не сумею взобраться на борт по скользкому лееру с парусом в руке. С трудом продвинулся я на несколько футов вперед, но волна тут же отбросила меня обратно. Я с содроганием вспомнил о стальном рыболовном крюке, привязанном к концу леера. Остановившись передохнуть, я заметил, что веревка скользит у меня в руках. Как ни сжимал я кулаки, удержаться было невозможно. Крюк приближался, еще немного – и он вонзился бы мне в ногу. Вода, увлекая за собой парус, тащила меня назад. Кливер скомкался у меня под животом. Я отпустил его, и он исчез в пучине. Конечно, я очень не хотел терять его, но ничего другого не оставалось. «Язычник» со взятыми вторыми рифами, резко накренившись под ветром, отважно встречал волны, высоко вздымавшиеся над ним; корпус его был ободран, часть рангоута переломана, вокруг тучей вздымались брызги. Мне было слышно, как нос яхты с шумом рассекает набегавшую волну. Я стал медленно подтягиваться по скользкому лееру, преодолевая сопротивление воды. Взобравшись на борт, я лег на палубу и долго смотрел на белые гребни убегавших волн, слушал их рев, похожий на грохот проходящего поезда. Со страхом думал я о том, что могло со мной произойти; вдруг, невольно провожая взглядом волну, я увидел за кормой какую-то рябь. Присмотревшись, я узнал свой кливер, случайно зацепившийся за рыболовный крюк на леере и теперь тянувшийся за яхтой. Я стал быстро выбирать конец, надеясь, что парус не оборвется. Так оно и вышло. Подтянув кливер к поручням, я увидел, что крюк зацепился за ликтрос. В судовом журнале я записал так: «С трудом удалось спасти кливер».  ОСТРОВ МАЛЬПЕЛО В первые девять дней я определял пройденное расстояние приблизительно. Каждый вечер я наносил на карту предполагаемое местонахождение яхты и радовался, что отплыл уже так далеко. Вода под килем двигалась со скоростью не менее семи узлов, и, по моим расчетам, «Язычник» приближался к Галапагосу. Но так ли это было в действительности? Меня терзали сомнения. Еще в Панаме кто-то предупредил меня: «Не вздумайте полагаться на счисление при подходе к Галапагосу – это равносильно самоубийству». Первая же попытка определиться с помощью секстана привела меня в замешательство. Дело это оказалось хлопотливым и неприятным. Весь день я провозился, измеряя угол между горизонтом и солнцем, упорно убегавшим от меня, и стараясь разбираться во множестве сомнительных цифр, полученных в результате обсерваций. Поздно вечером после долгих вычислений я, наконец, пришел к выводу, что нахожусь на суше, где-то посреди Панамы. Пришлось отложить работу до утра. В последующие два дня я получил новые координаты – но какие это были координаты! Сколько ни проверял я свои расчеты, результат был один: яхта находилась всего в 350 милях от берегов Панамы. Взглянув на карту, я увидел, что где-то рядом должна быть одинокая голая скала, носящая название остров Мальпело. Я отказывался верить секстану, так как, по прежним моим расчетам, должен был находиться уже в девятистах милях от Панамы. Наутро я еще раз проверил все расчеты. Но снова и снова получалось, что яхта находится где-то близ Мальпело. Тогда я залез на мачту и внимательно осмотрел горизонт. Со всех сторон меня окружал безбрежный простор океана. Лишь на юго-западе маячила туманная дымка. Над водой летали птицы, и я уверился, что земля близко. Но этого не могло быть: ведь до Галапагосских островов еще сутки пути… неужели это действительно Мальпело? К полудню показались очертания суши. Далеко впереди, милях в десяти от судна, поднимался из океана скалистый, пустынный островок. Эта встреча с островком, затерянным в беспредельном океанском просторе, показалась мне настоящим чудом. Одиннадцать дней провел я в открытом океане и лишь однажды увидел далекий пароходный дымок. Но вот расчеты и вычисления на маленьком листке бумаги сказали мне, ято впереди должна показаться земля… и она действительно показалась. Передо мной была одинокая скала, о подножие которой с плеском разбивались волны. Я почувствовал облегчение. Навигация вдруг показалась мне детской забавой, от неуверенности не осталось и следа, все стало простым и ясным, а ведь прежде, в течение стольких лет, я трепетал при одной мысли о кораблевождении. До того как я стал владельцем яхты, мне казалось, что провести ореховую скорлупку от одного края таза с водой к другому можно, лишь хорошо усвоив дифференциальное исчисление. Начитавшись учебников, я тщетно пытался разобраться в туманных дебрях науки о мореплавании. Так обстояло дело, когда я впервые ступил на борт «Язычника». Я рвался в открытое море, но меня терзала засевшая где-то в глубине души мысль о полном моем невежестве в навигации. Хуже всего было то, что за две недели, пока яхта стояла в порту, у меня не было свободного времени, чтобы заняться мореходным делом. Я столь глубоко почитал таинства этой науки, что не хотел выходить в плавание с теми скудными крохами знаний, которыми располагал. Ведь я умел определять курс лишь визуально. Но выбора у меня не было. Времени оставалось мало. Я должен был проплыть Тихий океан прежде, чем в Коралловом и Тасмановом морях начнется период штормов. Нечего было и думать о том, чтобы уделить недели две изучению навигации в морской школе. Обстоятельства требовали немедленного отплытия. В день отплытия на борту моей яхты имелись следующие навигационные приспособления: секстан, подаренный мне капитаном Бэверштоком из Бальбоа; точные и надежные карманные часы; дешевый компас, приобретенный вместе с яхтой; ручной лот. Кроме того, у меня была книга Баудича, которую мне дали перед отплытием, хотя мне она была ни к чему, и я воспользовался ею только один раз, чтобы разжечь примус; книга Уорвика Томпкинса «Плавание в открытом море», стоившая полтора доллара и сослужившая мне бесценную службу; бюллетень гидрографического ведомства № 211 за девяносто центов; маленький картонный транспортир за десять центов; шестидюймовая линейка за десять центов; подробные карты островов, расположенных на пути моего плавания, за четыре доллара; лоция и описание маяков и сигнальных огней для вод, по которым мне предстояло плыть, за два доллара тридцать центов. Когда кто-нибудь из моих читателей захочет предпринять морское путешествие, пусть приобретет то, что здесь перечислено, и спокойно поднимет паруса. Если через десять дней он не научится определять свое местонахождение, пусть возвращается назад и плавает у берегов, ибо ему никогда не стать настоящим моряком. Всякий здравомыслящий человек, который способен видеть солнце и горизонт, легко справится с этими инструментами даже в кругосветном плавании. Мальпело не представлял для меня ни малейшего интереса, так как я совершал отнюдь не туристскую прогулку. Но даже будь я туристом, этот остров меня бы не прельстил. Он так отполирован ветрами, дождями и океаном, что на нем не может удержаться даже помет птиц, которых здесь так много. У основания острова торчат острые зубчатые скалы. Вид у него угрюмый и неприветливый. Увидев его, я обрадовался, что подтвердились мои навигационные расчеты, но в то же время разочаровался, узнав, что за одиннадцать дней яхта прошла всего триста пятьдесят миль. Такую медлительность я объяснил своей неопытностью и неблагоприятной погодой. К тому же я не имел представления о скорости и направлении течений в этом районе. Но основной причиной неудачи было отсутствие мотора. С ним я за какой-нибудь час мог бы выйти из зоны штиля. До наступления ночи я благополучно миновал остров и взял курс на юг. Но вскоре ветер упал. Убрав грот, чтобы не слышать, как он без толку полощется на мачте, я спустился в каюту и лег спать. Утром тридцатого июня я обнаружил, что за ночь течение отнесло меня к северо-востоку от Мальпело. По-прежнему был штиль, и я забросил удочку с палубы, чтобы как-нибудь скоротать время до тех пор, пока свежий ветер не погонит меня во второй раз мимо острова Мальпело. Перед полуднем поднялся ветерок. Я держал курс на запад, пока не миновал Мальпело, потом резко повернул на юг, к экватору. Весь день «Язычник» плыл, подгоняемый попутным ветром, и Мальпело остался далеко позади. Ветер крепчал, я взял все рифы и приготовился убрать паруса. Опасаясь фронтального шквала, я спустил грот и лег на ночь в дрейф. Прежде чем спуститься вниз, я бросил прощальный взгляд на Мальпело, надеясь, что вижу его в последний раз. На рассвете я проснулся оттого, что дождь непрерывно барабанил по крыше каюты. Стояла отвратительная погода. Видимости совсем не было, дул резкий ветер, море клокотало и бурлило. Весь день не рассеивались сумерки. Даже вездесущие морские птицы куда-то скрылись. Я не рискнул поднять ни клочка парусины и вернулся в каюту. Хотя я и не мог видеть проклятый остров, но знал, что он где-то рядом. Вот уже три дня «Язычник» кружился около него, и я постепенно примирился со своей беспомощностью перед лицом погоды. До полудня все оставалось по-прежнему, только раз я услышал с правого борта плеск волн. Сперва я подумал, что рядом какое-то судно. Но сирена молчала. Вскоре я понял, что шторм снова отнес меня к Мальпело. Поздно ночью ветер стих. Я вылез из теплого спального мешка и вышел на палубу. В просветах между тучами мерцали звезды, по морю тяжело катились высокие валы, стояла гнетущая духота, как всегда бывает при перемене погоды. Я решил, что можно поставить паруса, взяв рифы, и поднял грот. Через несколько часов я в третий раз миновал Мальпело, казавшийся серым в предрассветной мгле. Солнце медленно поднималось над горизонтом, ветер усиливался. К полудню я взял последние рифы и убрал кливер. Потом ветер переменился – теперь он дул с юго-востока. С юга надвигалась сильная зыбь, вскоре ветер и океан вступили в ожесточенную схватку. «Язычника» швыряло во все стороны. Низкая облачность скрыла от меня остров. С наступлением ночи я снова лег в дрейф. Котята с трудом ковыляли по каюте, страдая морской болезнью. Я прижал к себе их поникшие тельца, чтобы они согрелись и почувствовали, что в беде у них есть друг. Ветер постепенно принял своз обычное направление, волнение усиливалось. Сквозь завывание ветра в снастях и громкий шум моря я снова услышал грохот волн, разбивавшихся о берег Мальпело. Я лег и проспал довольно долго. Меня разбудил шум прибоя, и, сбрасывая с себя одеяло, я понял, что это опять Мальпело. Проклятый остров, неужели я никогда не избавлюсь от него? Выйдя на палубу, я внимательно вслушивался и вглядывался в сырой мрак, волны грохотали где-то за кормой. Я не мог дальше отклоняться от курса, а потому поднял стаксель и попытался лавировать вдоль подветренного берега. Через час шум прибоя стал громче. Теперь уже легко было определить на слух, где находится берег. «Язычник» мог бы справиться с ветром, но течение относило его к острову. Я зарифил стаксель и поднял грот, взяв на нем вторые рифы. До рассвета яхта не приблизилась к берегу. Утром – на пятый день после того, как я впервые увидел Мальпело – берег оказался всего в сотне ярдов от судна по ветру, а ветер крепчал! Он дул прямо в корму, и с каждым его порывом яхта все ближе подходила к берегу. Как мне в этот миг не хватало мотора! Ветер свирепствовал. Нужно было немедленно убирать паруса, но я не посмел сделать этого. Иногда мне казалось, что если я спущу паруса и предоставлю яхту ее судьбе, она благополучно минует остров. У меня появилось желание повернуть ее и пройти мимо острова курсом фордевинд. Но я боялся, что при такой волне яхта слишком резко рыскнет к ветру или будет захлестнута с кормы. Поскольку кокпит еще не был приведен в порядок после схватки с акулой, я не решался на рискованные маневры. Чем дольше смотрел я на остроконечные скалы, тем более зловещими они мне казались. Ветер разогнал тучи, и небо прояснилось. С голубого небосвода на меня равнодушно взирало холодное солнце, поднимавшееся к зениту. Я хмуро смотрел вперед. Сегодня мне не нужно было определять свое местонахождение: остров напоминал о нем каждую минуту. Я уже мог бы легко забросить на ближайшую скалу галету. Шум прибоя перерос в оглушительный грохот. Просто непонятно, как Мальпело выдерживал бешеный натиск волн. Я как можно ближе подошел к разрушенному непогодой берегу, надеясь, что либо ветер стихнет, либо яхта как-нибудь проскочит опасное место. Я решил прибегнуть к единственно возможному в таком положении средству. Но прежде я перенес надувную лодку с носа на корму и принайтовил к боканцу, чтобы в случае необходимости сразу же спустить ее на воду. Поплавка и Нырушку я привязал к пробковым кружкам и положил их в углу кокпита. Затем, схватив нож, я перерезал найтовы и риф-сезни вдоль гика, освобождая грот, и тут же вздернул его повыше. Парус наполнился ветром, и яхта вздрогнула. Подветренный борт лег на воду, возле рубки пенились волны. Бросившись к румпелю, я увалил яхту под ветер как можно полнее. Она резко повернулась, и я чуть не выпустил румпель. Каждая волна высоко подымала яхту. Я с огромным трудом удерживал румпель. Гигантские валы обрушивались на наветренный борт, прибой бушевал совсем рядом. Я знал, что парус долго не выдержит, но нескольких минут было бы достаточно, чтобы удалиться от скал на безопасное расстояние. Если бы парус лопнул по швам, у меня осталось бы только одно спасение – надувная лодка. Поплавок и Нырушка даже не подозревали о моей тревоге. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, похожие на два меховых шарика, и невозмутимо смотрели вперед. Так продолжалось минуть пять. Вглядываясь в туман, я уже начал надеяться, что яхта благополучно минует остров. Но тут нижняя шкаторина грота оторвалась от гика, раздался треск, и парус шумно заполоскал на ветру. Я резко положил руль на ветер. «Язычник» мгновенно увалился и пошел фордевинд. Я знал, что теперь он либо налетит на скалу, либо пройдет почти рядом с ней. И действительно, яхта прошла около самой скалы, брызги от волн, разбивавшихся о камни, полетели на палубу. Мне невольно вспомнился Пунта-де-Кокос. Котята, дрожа от холода, забрались ко мне на колени. В эту ночь меня отнесло далеко к северо-востоку от Мальпело. На рассвете ветер был еще довольно свежим, по морю катились громадные валы, и «Язычник» с поднятыми стакселем и кливером был далеко от злополучного скалистого выступа. Никогда еще не видел я над Тихим океаном такого ясного неба: ни тучки, ни облачка, только бездонная синева. Ровный, свежий ветер дул весь день, и белые гребешки волн то и дело лизали палубу. Я сидел в холодной каюте и сшивал порванный грот. Парус лопнул по швам, углы немного протерлись, кое-где попадались дыры, с которыми тоже пришлось повозиться. Я с гордостью заметил, что лопнули только фабричные швы, а те, которые я прошил в Сан-Хосе, остались целы. Работая иглой, я раздумывал: к чему продолжать бесполезную борьбу с ветрами и течениями? Вот уже шесть дней я почти не двигаюсь с места. Не лучше ли вернуться в Панаму, отдохнуть там, отремонтировать яхту и начать все сначала? Чем больше я думал, тем разумнее казались мне эти доводы. Но обманчивое предчувствие опять успокаивало меня. Я вспоминал о попутных пассатах, которые дули где-то совсем рядом, и чувствовал непреодолимое желание плыть дальше. По наивности, я все еще не терял надежды. Вечером я закончил работу и в сумерках тревожно глядел через иллюминатор на море. Ветер свирепствовал всю ночь, и лишь на рассвете он немного утих. Я поднял паруса и в четвертый раз повел яхту к Мальпело. Все утро я простоял у румпеля. К полудню яхта снова подошла к скалистому острову. Весь день я плыл под безоблачным небом, надеясь, что попутный ветер будет дуть до самой ночи. Я решил, что несчастье мне приносит Мальпело, стоит ему только скрыться из виду – и все беды останутся позади. Проплывая мимо него, я стоял у мачты и с ненавистью смотрел на острые скалы, темневшие в поздних сумерках. В десять часов вечера попутный ветер все еще держался. Я закрепил румпель и, довольный, пошел отдыхать. Утром, выйдя на палубу, я в течение нескольких минут мог еще видеть на горизонте маленькую точку. С облегчением я подумал, что скоро избавлюсь от зрелища этой уродливой скалы. А к полудню, впервые за восемь мучительных дней, вокруг не было видно ничего, кроме безбрежной глади океана. НАВИГАЦИЯ Несколько дней дули умеренные ветры. Старик Феб выглянул из-за серой пелены облаков и ласкал поверхность океана. Я с удовольствием проводил на палубе целые дни. Не было ни тропических шквалов, ни ночных штормов, ни переменчивых ветров. В моем судовом журнале появились странные записи о голубом небе, солнечных днях, теплых тропических ночах. В эти тихие дни я смог, наконец, закончить ремонт кормы. Сняв перегородку, я удлинил кокпит почти до румпеля; теперь он стал таким просторным, что в случае необходимости в нем можно было спать. Поскольку мотор стал мертвым грузом, я демонтировал его и продолжил кокпит до самого переднего люка. 
Акула сорвала крышку люка, и я завешивал его полотенцем, которое снимал всякий раз, когда поднимался на палубу. Я исправил и это повреждение. Я соорудил маленькую шарнирную дверцу, открывавшуюся наружу, которая казалась мне гораздо надежнее и лучше прежней тяжелой выдвижной крышки. Между машинным отделением и каютой я установил водонепроницаемую переборку. Я собирался сделать это еще до отплытия из Панамы, но у меня не хватило времени. Водонепроницаемая переборка гарантировала ту степень безопасности, о которой я давно мечтал. К счастью, я сделал ее достаточно прочной,– впоследствии она спасла мне жизнь. Работы были закончены через несколько дней после того, как яхта оставила позади Мальпело. Теперь я мог посвятить свободное время котятам, рыбной ловле и дальнейшему изучению навигации. ***
Все измерения приходилось делать по солнцу. Несколько раз я пытался определиться в сумерках или на заре по луне и звездам, наблюдая через зрительную трубу одновременно два небесных светила, но быстро убедился в бесполезности таких попыток и вернулся к прежнему, более простому способу. Определяться по солнцу лучше всего на малой скорости. Вскоре навигационные измерения стали отнимать у меня не более часа в сутки. Я производил так называемую полуденную обсервацию, определяя меридиональную высоту солнца. Так я определял широту, то есть расстояние, на котором судно находилось к северу или югу от экватора. Для этого я пользовался только секстаном и после несложных вычислений быстро получал довольно точный результат. Днем, примерно в половине четвертого или в четыре часа, я снова «ловил» солнце. По его высоте я «легко и быстро» (как сказано в книге мистера Томпкинса «Плавание в открытом море») определял линию, в одной из точек которой я находился. Зная широту, направление, движение судна и расстояние, пройденное после полудня, я определял свои точные координаты. Определяя скорость, я использовал вместо лаглиня свой спасательный леер. Привязав к концу леера ведро, я бросал его в воду, а свободной рукой пускал секундомер и останавливал его, как только веревка натягивалась. Если, к примеру; проходило десять секунд – значит, за это время яхта прошла шестьдесят футов. Путем простого умножения и деления я мог рассчитать, сколько узлов делает судно. Но правильность этих расчетов зависела прежде всего от устойчивости ветра. Так как мне нужно было как можно точнее знать свою скорость между двенадцатью и четырьмя часами пополудни, я в это время несколько раз забрасывал ведро в воду и брал средний результат. Как правило, я определял свое местонахождение ежедневно. Но иногда, заигравшись с котятами или увлекшись рыбной ловлей, я упускал часы, наиболее подходящие для обсерваций. ***
Каждое утро я вылавливал спортивной леской, которую привязывал к длинному бамбуковому удилищу, обычную порцию рыбы для котят. Несмотря на ограниченный выбор наживки, я обычно вполне удовлетворял вкусы рыб. Мое рыболовное снаряжение, кроме лесы, состояло главным образом из снастей, купленных вместе с надувной лодкой. Здесь был десяток всевозможных крючков-от самых маленьких до огромных, на которые можно было поймать целого дельфина, две жерлицы, большая белая блесна, несколько разных лесок и два сорта наживок. Кроме этого, я приобрел в Панаме крюк для ловли акул и две небольшие блесны для лютианусов и макрелей. В этих водах, очень богатых рыбой, не требовалось особой ловкости, часто вместо наживки я прицеплял к крючку простой лоскут материи. Обычно мне удавалось поймать хорошую рыбу за какой-нибудь час, а в штилевую погоду – еще быстрее, забросив удочку с десяток раз. А потом начиналась забава – нетерпеливая «команда» набрасывалась на добычу. Котята прыгали вокруг трепещущей рыбы, отскакивали, кувыркались, доставляя мне немало веселых минут. На палубе происходила веселая возня. Котята с одинаковой отвагой атаковали и маленьких летучих рыб, не более трех дюймов в длину, и крупных шестифутовых макрелей. Получив отпор, они стремглав мчались на бак, высоко задрав хвостики. Через несколько секунд они снова шли в наступление – все в таком же боевом порядке,– мягко ступая по палубе, не сводя с рыбы горящих глаз. Мне никогда не надоедало следить за этими маленькими вояками.  В хорошую погоду котята, насытившись, сворачивались клубками на носу рядом с моим самодельным якорем. Иногда они спали в тени рубки, а если паруса были свернуты, забирались под грот или стаксель. До самого вечера они совершали паломничества к рыбе, о чем все домашние и уличные кошки могли бы только мечтать. И хотя Поплавку и Нырушке частенько приходилось испытывать неудобства морской жизни, я все же думаю, что они не отказались бы от путешествия даже за целую тонну мышей. ***
В эти дни я обнаружил, что следом за моей яхтой все время плывет штук двенадцать тупорылых, лоснящихся, пронырливых дельфинов. Они следовали за мной, по-видимому, от самого Мальпело. Целыми днями дельфины лениво плескались в тени у киля яхты или плыли впереди, охотясь на беззащитных летучих рыб или на серебристую мелкую рыбешку. Я был рад новым спутникам и частенько бросал им остатки своего улова. Они жадно хватали мои подачки, но с полнейшим безразличием относились к наживке, насаженной на крючок. Но один дельфин, самый глупый в стае, все же попался. Никогда не забуду то утро, когда я поймал его. Я не раз слышал рассказы рыбаков о предсмертной агонии дельфинов но считал, что они преувеличены. Но когда я вытащил из воды своего первого дельфина, моим глазам представилось необычайное зрелище. Пока я освобождал крючок, дельфин судорожно вздрагивал, хватая ртом воздух. Потом я увидел то, о чем рассказывали рыбаки. Из зеленовато-серого дельфин внезапно стал голубым, тело его заволновалось, как нива под ветром, потом он стал пурпурным, золотистым, зеленовато-коричневым, серо-коричневым, серебристым и, наконец, светло-серебристым с голубыми пятнами, а затем снова окрасился в прежние пастельные тона. Самое интересное, что в этих водах мне редко попадались рыбы одного вида. Каждый раз я вылавливал что-нибудь новое. Иногда я вытаскивал из моря испанскую макрель, иногда тунца, акантоцибиума и других рыб, названий которых я не знал. Нигде в мире не бывает таких уловов, как между Панамой и Галапагосом. Океан здесь буквально кишит рыбой. Огромные стаи птиц без отдыха носятся над водой и в изобилии находят здесь корм. На поверхности плавают небольшие коричневатые медузы с темными шнурообразными щупальцами. Часто попадаются огромные скопления каких-то белых существ величиной с серебряную монету и различные виды морских водорослей. Огромные скопища икринок узкими полосами тянулись вокруг насколько хватал глаз. Они служили пищей рыбам, из них рождались рыбы, которые служили пищей для других рыб, и так без конца – вся эта борьба за существование ежедневно происходила у меня на глазах. Даже в пригоршне морской воды можно было обнаружить бесконечно малые организмы, служившие пищей юрким рыбешкам, стаи которых издали можно было принять за подводные рифы. За этими рыбешками охотились прожорливые акулы, красивые дельфины и морские птицы. Время от времени из океанских глубин появлялся огромный скат, он взлетал в воздух, переворачивался и с шумом плюхался обратно в воду. Иногда акула сильно толкала киль яхты, и тогда я, выбежав на палубу, хватал весло с привязанным к нему ножом. Порой рядом с яхтой резвились стаи морских черепах. Не раз мне приходилось видеть фонтаны китов, а один раз в океане мелькнул огромный черный плавник косатки. ***
Однажды утром меня разбудил громкий плеск. Выглянув из люка, я увидел впереди, в пятидесяти ярдах от яхты, большой круглый бугор, похожий на днище перевернувшегося судна. Это был огромный кит, лениво лежавший на поверхности. Должно быть, приближающееся судно напугало его. С неожиданной быстротой он изогнул свое гигантское тело и, хлестнув по воде широким блестящим хвостом, скрылся в глубине. Яхта высоко взлетела на поднятой им волне. Подплыв к месту, где только что был кит, я вгляделся в зеленоватую воду. Он был еще там, похожий на кита из книги Мелвилла «Моби Дик»; описывая широкую спираль и оставляя за собой пенящийся след, он быстро уходил в бездонную глубину. В другой раз перед вечером я заметил на горизонте фонтаны и увидел трех небольших китов, резвившихся на просторе. Мне приходилось видеть китов и раньше, когда я служил в торговом флоте. Бывалые капитаны, с которыми я плавал, тоже видели их не раз. Но иногда, став капитаном, человек перестает обращать внимание на природу и интересуется только тарой и грузами. Как часто жалел я о том, что стоя на вахте у руля, не могу изучать тайны морских глубин. Не удивительно, что теперь, заметив китов, я положил яхту на другой галс и направил ее к резвящемуся стаду. Два кита нырнули, когда «Язычник» подошел к ним почти вплотную. Третий остался на поверхности. Я и не подозревал, что он спит. Положив руль на ветер, я направил яхту прямо на гигантскую тушу. Тень парусов упала на спину кита, а через мгновение нос яхты мягко толкнул его в бок. Паруса заполоскали. Проснувшийся кит от неожиданности взмахнул хвостом, и на палубу обрушилась огромная зеленоватая волна, хлестнувшая меня по лицу. Круглая голова кита внезапно высунулась из пены и фыркнула, окатив яхту градом брызг. Потом кит нырнул – и новая волна затопила кокпит. Я оказался до колен в воде. За кормой расходились белые круги. Впоследствии я еще не раз видел китов, но уже воздерживался от подобных опытов. Утром на крюк попалась великолепная меч-рыба. Продержав ее за бортом два часа и понаблюдав за пляской этого блестящего меченосца глубин, я подтянул его к поручням. Некоторое время мечрыба провисела у борта на крюке, пока я не убедился, что она мертва. Только после этого я поднял рыбу на палубу, подробно осмотрел ее и зарисовал в судовом журнале. Вся эта рыба от конца костяного меча до могучего хвоста, с помощью которого она развивает большую скорость и резвится в воде, имела классическую обтекаемую форму. Это была моя первая меч-рыба, но я надеялся, что теперь сумею поймать еще не одну. Вспоров рыбе брюхо и осмотрев ее внутренности, я отрезал большой кусок для себя и лакомый кусочек для котят. Потом я отрубил на память меч, спинной плавник и хвост. Меч я прикрепил к бушприту, спинной плавник подвесил к потолку каюты, а блестящий хвост прибил к боканцу – бывалые морские волки утверждают, что это приносит удачу. 
После того как Мальпело скрылся за горизонтом, небо три дня было безоблачным, а ветер благоприятным. Я считал, что яхта проходит в среднем по сорок пять миль в сутки. В судовом журнале появились бодрые записи. Ведь я плыл без мотора против течения, и чуть ли не каждый час ветер на несколько минут стихал, а ночью яхта по восемь часов лежала в дрейфе, поэтому скорость в общем можно было считать вполне приличной. Мало-помалу я приближался к цели, но временами я испытывал внезапный упадок духа. Тяжелые, мокрые снасти, капризная неустойчивая погода, непрочный такелаж и, главное, невозможность двигаться быстрее портили мне настроение. Когда становилось невмоготу и меня утомлял бескрайний простор океана, я спускался в каюту, сажал на колени своих милых спутников и перечитывал старые письма, полученные от Мэри за время нашей долгой разлуки. Эти письма рассеивали мрачное настроение и усталость, вселяли в меня терпение. Кроме того, меня утешала мысль о юго-восточных пассатах. «Когда я достигну зоны пассатов, все будет иначе»,– уверял я себя. Я представлял себе, как свежий попутный ветер и легкие волны гонят яхту на запад, и нет ни шквалов, ни встречных течений. Плавание в зоне пассатов рисовалось мне каким-то раем, и я упорно продолжал путь к югу. Три дня я отдыхал от непогоды, но это была лишь короткая передышка. Вскоре океан как бы пожелал в последний раз испытать меня, прежде чем я удалюсь от этих вод, подгоняемый пассатами; погода вновь резко переменилась. Каждый день на яхту обрушивались два-три шквала, штормовые ветры в сумерках сменялись мертвым штилем по утрам. МОЙ ЭКИПАЖ Утром 8 июля я, как обычно, вышел на палубу, осмотрел такелаж и обвел взглядом океан. Дул свежий ветер. Внезапно справа по борту появилось нечто, заставившее меня насторожиться: к небу, подобно гигантской согнутой руке, поднялось плотное облако. Это был тропический смерч. Сколько раз, плавая на торговых судах, видел я такие смерчи! Сколько раз, перегибаясь через перила, я вглядывался вдаль, стремясь разгадать их тайну и мечтая стать капитаном. Теперь я стал капитаном; и я сделал то, что раньше обещал себе сделать, если увижу смерч с борта собственного судна,– встал к румпелю и направил яхту ему навстречу. О смерчах я слышал немало рассказов, когда служил в торговом флоте. Одни говорили, что смерч вздымает воду к облакам и оказаться в его центре – все равно что попасть под водопад. Другие утверждали, что внутри смерча бушуют ураганные ветры. Третьи доказывали, что там, где проходит смерч, образуется глубокая воронка, и судно неизбежно будет затянуто в глубину. Десятки раз наблюдая смерчи с палубы пароходов, я думал, что они безвредны. Я не уставал доказывать, что смерч – это лишь кратковременный вихрь. И вот теперь я решил проверить себя на практике. Бросив котят в каюту, я задраил иллюминаторы и люки. Все рифы на гроте были взяты еще ночью, когда дули сильные, порывистые ветры. Яхта медленно приблизилась и высокому темному столбу свистящего воздуха. Закрепив румпель, я побежал на нос, чтобы взглянуть на смерч поближе и решить, не лучше ли, пока не поздно, свернуть в сторону. Но в эту минуту смерч изменил направление и двинулся прямо на меня. Ухватившись за мачту, я крепко прижался к ней. Порывистый ветер и холодный сырой туман поглотили «Язычника». Палуба накренилась, целый водопад брызг обрушился на яхту. Такелаж застонал. Стало темно, как ночью. Волосы мои упали мне на глаза, от сырого воздуха перехватило дыхание, холодный ветер пронизывал меня до костей. «Язычник» зачерпнул бортом воду, и бурные волны захлестнули его. И все же вода не вздымалась к облакам, ураганные ветры не ломали мачты и не срывали паруса, страшная воронка не поглотила меня вместе с яхтой. Я просто очутился внутри высокого воздушного столба от семидесяти пяти до ста футов в диаметре, где кружил сырой ветер со скоростью тридцати узлов. Яхта вышла из смерча так же внезапно, как и вошла в него. Темный свистящий столб воздуха умчался прочь. Мне удалось разгадать еще одну тайну природы. Убрав рифы на гроте, я поднял все паруса и спустился в каюту, чтобы записать свое новое приключение в судовой журнал. ***
На следующую ночь я положил яхту в дрейф, бросив плавучий якорь. Я мирно спал на своей койке. Все люки были плотно задраены. «Язычник» жестоко качало, на мачте не было ни клочка парусины. Пока я спал, бочонок с водой, принайтовленный к правой переборке, сорвался с места. Он упал на пол, налетел наменя и покатился к левому борту. Не успел я подняться, как он снова сбил меня с ног. Так он таранил меня несколько раз. Он метался и прыгал по каюте, как живой, и его невозможно было остановить. Он швырял меня, словно пушинку. Едва я приподнимался, чтобы улизнуть, он бил меня по ногам, подминал под себя и катился дальше. Я сорвал с койки тюфяк и пытался защититься им от бочонка. С помощью подушки, одеял и спасательного пояса я, наконец, притиснул его к койке. Можно только удивляться, как я не переломал себе кости и не вывихнул суставы, а судно не получило серьезных повреждений. Я не знал, что происходило в это время с котятами. Вдруг послышалось их мяуканье – они жаловались и вполне справедливо. Оказалось, что котята попали под построенную мной баррикаду и протестовали, считая что я превысил свои капитанские права. Ободрав себе локти и колени, я освободил их, а потом водворил на место и бочонок. Не одному мне приходилось страдать от капризов океана. Однажды я вместе с котятами грелся в лучах полуденного солнца. Я развалился в кокпите, а котята резвились на крыше рубки, затевая забавные игры около ящика, который я выставил на палубу, чтобы просушить и потом покрасить. С юго-запада дул легкий ветерок с неожиданно сильными порывами. Один из таких порывов резко накренил яхту, ящик упал на палубу, а котята мгновенно очутились за бортом. Я хотел было броситься за ними, чтобы потом залезть на судно по лееру, но надежда спасти обоих или хотя бы одного котенка была очень слаба. Бросив за борт пробковый пояс, чтобы найти потом место происшествия, я стал торопливо разворачивать яхту. Каждый фут мог оказаться роковым, ведь в океане небольшой предмет теряется из виду в каких-нибудь двадцати пяти ярдах. Однажды с корабля, где я служил, упал за борт человек. Ему бросили спасательный круг, и было видно, как он за него ухватился. Но пока судно развернулось, несчастный скрылся в волнах. Мы искали его на двух шлюпках, осматривая море в сильные бинокли, но не нашли ни матроса, ни спасательного круга. Помня об этом случае, я освободил румпель, положил руль под ветер и перебросил кливер. Кольца шкотов со скрипом скользили по своим погонам. Яхта взрогнула от резкого толчка. Я выбрал шкоты кливера, потравил грот и направил яхту туда, где, по моим предположениям, котята упали за борт. Мне казалось, что яхта очень долго плыла в этом направлении. Ничего не найдя, я решил повернуть назад и зигзагами прочесать весь этот участок океана. Приведя яхту к ветру, я положил ее на правый галс, потом залез на крышу рубки, обхватил одной рукой мачту и, держа бинокль в другой, стал пристально осматривать каждый дюйм поверхности океана. Выбрав удобный момент, я переменил галс, чтобы волны не мешали мне смотреть. Котят по-прежнему не было видно. Я начал приходить в отчаяние. Бедные глупые малыши остались совершенно одни в пустынном и враждебном океане! Если даже их и заметят с какого-нибудь судна, кто станет возиться с котятами? Охваченный жалостью, я продолжал поиски. Яхта сделала еще два длинных галса, но океан упорно не желал отдавать добычу. Должно быть, прошло несколько часов. Бросив прощальный взгляд на пенящиеся волны, я положил яхту на прежний курс. И вдруг слева по борту мелькнул мой пробковый пояс! Теперь я был уверен, что если котята еще не утонули или не отплыли слишком далеко от пояса, я сумею их спасти. Вот желтый спасательный пояс показался у самого носа яхты, но котят около него не было. Оглядев в бинокль воду вокруг судна, я ничего не увидел. Я осматривал гребень каждой волны, оборачивался на каждый случайный плеск. Вокруг расстилался лишь равнодушный океан, и на его поверхности нигде не было видно несчастных котят. Вскоре я понял, в чем дело. Когда снова показался спасательный пояс, я увидел, что котята сидят на нем, прижавшись к его упругой поверхности, и хнычут так жалобно, как могут хныкать только потерявшиеся малыши. Когда я вытащил котят из воды, в их глазах было выражение бесконечной благодарности. Проведя три часа на зыбком спасательном поясе, они вымокли, продрогли и вконец обессилели. Я отнес котят вниз и завернул в шерстяные одеяла, чтобы они спокойно выспались в тепле. Вскоре после этого случая на палубу яхты села крупная птица, вероятно глупыш. Она устроилась на крыше рубки и, когда я подошел поближе, чтобы познакомиться, дружелюбно взглянула на меня. Когда я впервые взял ее в руки, она испачкала мне одежду, отрыгнув множество полупереваренных рыбешек, и ударила меня своим длинным тупым клювом. Вскоре мы подружились. Найдя у нее паразитов, я посыпал ее перья порошком, предназначенным для котят. А когда в штормовую ночь я отнес глупыша вниз и посадил на край ящика с инструментами, он стал моим преданным другом. С тех пор как только я подходил к нему на палубе, глупыш издавал хриплый крик, выражая свою радость по поводу того, что он стал членом экипажа, бил длинными крыльями, но сразу же успокаивался от моего ласкового прикосновения. Каждый день глупыш улетал на охоту, но позднее, когда я стал выделять ему наряду с Поплавком и Нырушкой часть дневного улова, он перестал заботиться о своем пропитании. К сожалению, новый пассажир возненавидел котят. Первое столкновение произошло при дележе рыбы. Бурная ссора закончилась потасовкой, в которой котятам здорово досталось. Услышав шум, я выскочил на палубу. Котята шипели и выгибали дугой спины. Птица бросалась от одного к другому, нанося им удары крыльями и клювом. После этого случая пришлось держать их подальше друг от друга. Я прозвал глупыша Увальнем – такое имя подходило ему как нельзя лучше. Впервые это слово пришло мне в голову, после того, как он упал с гика на рубку и неуклюже прыгнул за борт, когда я шутя дунул ему в глаза. Вскоре Увалень стал таким же полноправным членом экипажа, как котята и сопровождавшие яхту дельфины. Вожаку дельфинов, покрытому многочисленными шрамами после победоносных битв с мелкими и крупными противниками, я дал кличку Старый Бандит. Он никогда не шнырял впереди яхты в поисках добычи, как остальные, а плыл рядом, нежась в тени возле борта, и набрасывался на ничего не подозревающую жертву, настигая ее у самого судна. Однажды утром на борту яхты произошел удивительный случай. Я чинил порванный кливер-шкот. Покончив с этим, я спустился вниз и увидел, что рядом с койкой спокойно и невозмутимо сидит большая серая крыса. Она была крупнее обоих котят, ее глаза, похожие на крохотные черные бусинки, неотрывно смотрели на меня, усики нервно подергивались. Толстый голый хвост, неподвижно лежавший на полу, указывал, куда она повернулась, когда я спугнул ее. Крыса шевельнулась, намереваясь улизнуть. Тогда я схватил первый попавшийся под руку предмет – им оказался будильник – и швырнул его в крысу; осколки стекла и части будильника разлетелись по маленькой каюте. Я тут же пожалел, что напугал несчастного зверька. «Живи и давай жить другим»,– подумал я и решил зачислить крысу в состав экипажа наряду с Поплавком, Нырушкой и Увальнем. Ведь здесь, среди океанских волн, мне было все равно, кто находился на борту моего суденышка. Появление на яхте крысы показалось мне очень странным. Как и когда проникла она сюда? Как могло случиться, что в течение стольких недель я не обнаружил ее на таком маленьком суденышке? Я не замечал никаких следов ее присутствия. Почему котята не разыскали ее? Где она добывала пищу и воду? Эта мысль заставила меня подскочить. Неужели крыса добралась до моих запасов? Я проверил бочонки, перевернул каждый в отдельности и убедился, что они целы и невредимы. Затем я осмотрел продовольствие в ящиках под койками и нашел там крысиный помет, которого не видел раньше. В жестянки с консервами, банки и кувшины крыса проникнуть не могла. Пробравшись в носовую часть трюма, я обнаружил у правого борта под койкой место, где крыса пряталась все это время. В Панаме я уложил кое-какие продукты в корзину из под лимонов, накрыл ее брезентом и выкрасил покрышку. Крыса прогрызла корзинку и добралась до сыра, ветчины и чернослива. Пила она, должно быть, воду, пролитую мной во время еды, или слизывала капли, попадавшие на пол, когда я открывал банки с молоком. Очень быстро я понял, что котята знали о присутствии крысы. Когда я принес их вниз, они сразу же направились в носовую часть трюма и остановились как вкопанные у маленькой дырки, в которую не могли пролезть. После того как «Язычник» покинул Жемчужные острова, я был слишком занят и не заметил, какая драма разыгрывалась внизу. Безбилетница, как я прозвал крысу, очутилась здесь, вероятно, когда я сел на мель у Сан-Хосе. Вполне возможно, что она пробралась из леса к моему продовольствию, сложенному на берегу, и я вместе с грузом перенес ее на яхту. С давних времен существует поверье, что крысы не живут на обреченных судах, и я был очень рад появлению такого спутника. Безбилетница стала новым членом моего экипажа и начала получать причитающийся ей паек. Каждый вечер я оставлял на днище у мачты немного пищи и воды для крысы. Я хотел накормить и напоить ее, чтобы она забыла свои крысиные привычки и не грызла бочонки с водой. В свободное время я сколотил из досок небольшой ящик вррде скворечника. Этот ящик я привязал к мачте у самого днища, чтобы наш робкий спутник мог входить и выходить незаметно. Безбилетница вела замкнутый образ жизни, и мне редко удавалось ее увидеть, но паек свой она уничтожала добросовестно.. Очевидно, новое жилище пришлось ей по вкусу, и она вскоре окончательно туда переселилась. Я стал замечать, что котята частенько вертятся около ящика; при этом вид у них был такой же нетерпеливый, как и в то мгновение, когда я швырял им пойманную рыбу. Не раз пытались они пролезть в маленькое круглое отверстие, служившее входом в ящик. Для крысы его было достаточно, но котята могли просунуть туда только голову. Ящик стал для них источником танталовых мук. Я до сих пор помню, как они, похожие на маленьких львят, выпустив когти, засовывали лапы в отверстие и громко выражали свою досаду. Поплавок и Нырушка стали настоящими моряками и привыкли к рыбному рациону, и я был удивлен, что они с таким упорством охотятся на простого грызуна. Несмотря на свой морской опыт, они преследовали крысу, как обыкновенные сухопутные кошки. ***
Так мы и жили… Ничем не замечательные события изредка нарушали однообразие долгого плавания. Самые обыденные вещи вызывали у меня живейший интерес. Меня часто спрашивали, не скучал ли я на суденышке, которое было не больше кухни или ванной в большом доме. Но жизнь никогда не казалась мне скучной, где бы я ни был. Судьба моя сложилась так, что все свободное от работы время я проводил в одиночестве и рано научился заполнять эти свободные часы по собственному разумению. На яхте у меня всегда, даже в самые спокойные дни, было довольно дела. Главным моим занятием,– разумеется, не считая управления и починки яхты, отнимавших большую часть времени,– было чтение; на судне имелось много самых различных книг, от детективных романов до сочинений Дарвина. Читал я все подряд – сегодня детектив, завтра повесть, послезавтра философские произведения или стихи. Больше всего мне нравились рассказы Мопассана, «Братья по духу» Кэри Мак-Вильямса, «Размышления о революции нашего времени» Гарольда Ласки и «Дворцы философии» Дюранта. Часто я погружался в размышления. Часами я мог смотреть на безбрежный океан, неторопливо раздумывая обо всем, что приходило мне в голову. Нередко моя мысль обращалась к прошлому, и я как бы снова переживал всю свою биографию. Старший среди шестерых детей – пяти братьев и одной сестры… Смерть отца в годы кризиса, когда мне было всего пятнадцать лет. Четыре года упорного труда, чтобы помочь матери. Заводы, фабрики, потогонная система – в те дни я не мог даже мечтать о том, чтобы учиться в школе. Вскоре мать во второй раз вышла замуж. Отчим мой, к счастью, оказался хорошим человеком. Я был освобожден от тяжкой обязанности содержать семью и мог теперь расходовать на себя весь свой заработок. Но деньги меня не интересовали: я хотел учиться, хотел стать образованным человеком. Бросив работу, без гроша в кармане, с незаконченным средним образованием я отправился в колледж. Другого пути у меня не было. Не мог же я в двадцать лет, проработав четыре года на южных окраинах Лос-Анжелеса, сесть за школьную парту рядом с маленькими детишками. Колледж в городе Санта-Барбара… я был туда принят после многочисленных просьб. Деньги пришлось взять в долг. Учебу я совмещал с работой, играл в футбол. На втором курсе был старостой группы, а перед окончанием колледжа плавал матросом на торговых судах. Во время призыва в армию я просил направить меня в бомбардировочную авиацию, но врачи обнаружили у меня перфорацию барабанной перепонки – результат перенесенного в детстве туберкулеза. Я получил назначение в торговый флот. Два года морской службы. Два кругосветных плавания. Плавание от Рейкьявика до мыса Горн. Год службы в Австралийской военной авиации. Женитьба на голубоглазой австралийской девушке – самое значительное событие в моей жизни. Снова служба в торговом флоте, на этот раз больше года. Потом война кончилась, и мы с Мэри оказались за тысячи миль друг от друга. И вот теперь я плыву через Тихий океан на яхте, которую швыряет по волнам, как щепку. Часть времени я простаивал у румпеля – разумеется, это зависело от погоды. Каждое утро я рыбачил, занимался навигацией; если котята были в игривом настроении, мы резвились на палубе. Иногда я начинал беседу или шутливую драку с Увальнем. Часами наблюдал я, как Старый Бандит и его стая охотились на летучих рыб. Остальное время я читал. Часто я садился за письмо к Мэри, которое собирался отправить с острова Сеймур. Каждый день я приписывал к нему по нескольку строчек, и оно росло по мере того, как росли мои надежды на нашу скорую встречу. Но временами мне казалось, что нас разделяет непреодолимое расстояние. Вот уже скоро два месяца, как я оставил Панаму, и если яхта будет и дальше двигаться с такой скоростью, потребуется не меньше года, чтобы доплыть до Австралии. По моим первоначальным расчетам, я должен был сейчас находиться где-то на полпути. Нужно было спешить, чтобы меня не застигли штормы. С каждым днем я все больше надежд возлагал на попутные пассаты. С каждым днем они становились все ближе. С каждым днем позади оставалось еще несколько долгих миль. В полдень 15 июля я определил свои координаты: 1° южной широты и 85° западной долготы. До Галапагоса оставалось около трехсот миль. Я повернул яхту на запад. Теперь каждый день был на счету. Наконец-то я мог держать курс прямо на запад. Счастье повернулось ко мне лицом. В заполненном на две трети судовом журнале впервые появилась бодрая запись: «12 часов 15 минут. Курс – на запад. Я уже чувствую юго-восточные пассаты!» Холодное Гумбольдтово течение, отражаемое к западу мысом Париньяс на западном побережье Южной Америки, подгоняло яхту. Ветер дул с юга, океан был совершенно спокоен, стечение благоприятных обстоятельств казалось мне просто невероятным. Целый месяц я кружил на месте, хотя мне нужно было плыть прямо по ветру. Но теперь я плыл по расписанию, я покрывал милю за милей, и это было замечательно. В трехстах милях от меня, на экваторе, находился Галапагос. Впервые за долгое время я отдал рифы парусов, спасательный леер натянулся в пенистой струе за кормой, и яхта пошла так, как это описывается в книгах и спортивных журналах. За несколько дней на яхту не обрушился даже самый маленький шквал, не выпало ни капли дождя, не видно было ни одной тучи. Вокруг царило такое безмятежное спокойствие, что я и мои котята спали прямо на палубе, под открытым небом. Даже ленивый старина Увалень присоединился к нам. Он устраивался на своем излюбленном месте – на закрепленном румпеле, и яхта так плавно двигалась по водной глади, что он не рисковал сорваться со своего насеста. Каюту мы предоставили Безбилетнице. Вскоре должна была показаться земля, и я торопился закончить длинное письмо к Мэри. К этому времени я исписал уже с обеих сторон шестьдесять два листа. Там были все ласковые слова, какие могут прийти в голову молодому человеку, спешащему к любимой. Чтобы высказать свои чувства, мне было мало этих шестидесяти двух листов… Я рассчитывал отправить письмо с острова Сеймур, где была военная метеорологическая станция. Мне предстояло задержаться там дня на два, осмотреть такелаж, поспать две ночи спокойно и снова двинуться в путь. Триста миль до Зачарованных островов «Язычник» прошел меньше чем за четыре дня. Утром 19 июля над горизонтом, справа по ходу судна, показалось темное пятно – остров Чатам. Впервые за много дней я снова увидел землю. Закончился первый этап путешествия: позади тысяча миль, впереди еще семь тысяч пятьсот. «НЕЗАЧАРОВАННЫЕ» ОСТРОВА Ясный солнечный день. Я стою на крыше рубки и, прислонившись к мачте, осматриваю северную оконечность острова Чатам, расположенного в восточной части Галапагосского архипелага. На Чатаме есть бухта Крушений – место стоянки судов, принадлежащих здешним властям. Галапагос, известный также под названием Зачарованных островов, принадлежит Эквадору. Но официальные визиты отнюдь не входили в мои планы. Я намеревался причалить к острову Сеймур, побывать на военной базе, запастись кое-какими продуктами и плыть дальше. Но штили, штормы, встречные течения, потеря мотора спутали мои планы; и теперь, в середине июля, добравшись до Галапагоса, нечего было и думать найти здесь военную базу. По имевшимся у меня сведениям, ее должны были эвакуировать к первому июля. На всякий случай я решил все же зайти на остров – вдруг база еще там. Ветер по-прежнему дул с юга, но теперь он заметно усилился. Мне нужно было провести яхту на север, пользуясь сильным южным течением. Я следил за северной оконечностью острова, которая оставалась к югу от меня. Обогнув остров, я повернул румпель, взял курс на юг, рассчитывая одним галсом поздно ночью подойти к Сеймуру и пристать к нему на рассвете. Чатам я миновал еще до темноты. Через некоторое время я обнаружил, что меня сильно снесло к северу, несмотря на то, что я учел дрейф. Тогда я передвинул румпель и, спустившись в каюту, принялся за чтение. В этот вечер я читал «Божественную комедию». Час-другой я наслаждался изящной словесностью, время от времени вглядываясь в ночную тьму. В девять часов я отложил книгу и поднялся на палубу, находясь еще под впечатлением прочитанного. Ветер утих, и яхта покачивалась на легкой зыби. Паруса болтались, бегучий такелаж бессильно повис, блоки поскрипывали. Наступил мертвый штиль. Всю ночь ветра не было и вода глухо плескалась у бортов яхты. Я не знал, с какой скоростью течение сносит ее на север: на карте местами была указана скорость в два узла, местами – три. Полной уверенности у меня не было. Карта была превосходная, выпущенная Британским Адмиралтейством, но она давно устарела, а другой мне достать не удалось. Всю ночь я пытался определить, далеко ли меня отнесло. Где-то к северу должны находиться три островка – Тауэр, Марчена и Пинта. Если верить карте,– это пустынные, безводные, каменистые островки вулканического происхождения. Я внимательно прислушивался, не послышится ли шум волн, разбивающихся о скалы. Поздно ночью тучи обложили небо, и звезды уже больше не отражались в черной воде. Непроглядная темень окутала яхту, и я стал еще внимательнее вслушиваться в ночь. Прошел час, несколько раз мне казалось, что я слышу какие-то звуки. Наконец я достал из трюма громоздкие весла, вставил их в уключины, сел в кокпите и стал ждать. Благодаря небольшой осадке и легкости яхты я мог идти и на веслах, и яхта сохраняла при этом хорошую маневренность. Вокруг царила зловещая тишина, с мерцающей поверхности океана не доносилось ни звука. Я посадил котят в аварийный ящик, который сделал для них после случая у острова Мальпело, и поставил ящик рядом с собой. Ящик хорошо держался на воде. В нем был запас пищи, достаточный для того, чтобы котята просуществовали до того времени, пока их выбросит на берег. Я напряженно прислушивался к каждому звуку, доносившемуся с севера. Прошло довольно много времени. Вдруг с юго-запада потянул порывистый ветерок, продержавшийся всего несколько минут. Он стих прежде, чем я успел поставить паруса. Снова очутившись наедине со своим воображением и ночным мраком, я предался тревожным размышлениям. Что означает этот порыв ветра с юго-запада? Откуда дул ветер, когда я читал? Тоже с югозапада? Кажется, я ни разу не взглянул на компас. Последние три дня я беспечно считал, что ветер дует с юга. Неужели он переменился? Неужели я все время плыл на северо-запад, полагая, что держу на запад? Прошел еще час томительного ожидания. Стояла мертвая тишина. А еще через час я услышал явственный шум прибоя. Шум доносился с северо-запада – видимо, берег был милях в двух от меня. Волны с грохотом разбивались о крутые скалы. Я взялся за весла, повернул яхту на восток и начал грести изо всех сил. Грохот прибоя вскоре усилился. Воздух был неподвижен. Паруса полоскали при малейшей волне с однообразным, раздражающим шумом. Блоки скрипели, шкоты купались в волнах, с них капала вода. Я вспоминал остров Мальпело и мечтал о хорошем шторме. Небо на востоке начало светлеть. Я приналег на весла. По правому борту, совсем близко, вырисовывалась высокая зубчатая стена, у подножия которой ритмично разбивались волны. B рассеивающейся мгле я смутно видел путь к спасению: нужно было только обогнуть мыс на восточном берегу. На рассвете, лихорадочно работая веслами, я провел яхту на расстоянии каких-нибудь двух корпусов от скал и, разрезая носом волны, гонимые ветром с юга, стал удаляться от острова. Спереди и сзади, вдоль всего побережья высились крутые скалы, у подножия которых бушевал прибой. Взглянув на карту, я увидел, что это остров Марчена, скалистый и негостеприимный. Течение несло меня все дальше. Впереди скал, по-видимому, не было. Немного севернее находился остров Пинта, которого я еще не мог видеть. Судя по карте, это был маленький островок, обогнуть который не составит большого труда. Нужно только миновать его северную оконечность и ждать ветра. Небо было свинцовое, а океан гладкий, как паркет. Я надеялся, что утром поднимется ветер, но и после восхода солнца на море был полнейший штиль. Вскоре берега Марчены скрылись из виду, но милях в двенадцати впереди уже показался остров Пинта. Я никак не мог решить, находится ли он по курсу яхты, или нет. То мне казалось, что так оно и есть, то я снова начинал сомневаться. Бушприт, глядя на который я пытался установить курс, все время дергался, как палец у нервного человека. В конце концов я решил, что независимо от того, лежит ли Пинта у меня на пути, или нет, нужно браться за весла. Течение несло меня к островку со скоростью более двух узлов. В южной части острова, неподалеку от берега, был действующий вулкан. Он возвышался над морем более чем на сотню футов, и над его плоской вершиной стоял широкий столб серого дыма. Подножие вулкана спускалось к самому морю, и мне казалось, что вода там должна быть горячей. Рядом тянулся усыпанный галькой пляж, а за ним виднелась высушенная солнцем гора, увенчанная еще одним кратером. Остров был голый, пустынный и засушливый. Лишь кое-где торчали растения, похожие на кактусы, высохшие серовато-бурые кусты и низкорослые чахлые деревья. Да, вид у острова был мало гостеприимный! Я начал грести, когда был довольно далеко от берега, но скоро пожалел, что не взялся за весла еще раньше. Я греб на запад, решив, что это гораздо легче, чем плыть на восток, преодолевая течение. Нужно было пройти около восьми миль. Несколько часов я работал веслами ритмично, делая широкие, редкие взмахи,– ведь до этого, надеясь, что мне легко удастся обогнуть остров, я потерял много драгоценного времени, работая не в полную силу. Когда яхта приблизилась к острову, я увидел стадо тюленей, резвившихся в воде. Завидев яхту, они высунули из воды свои глянцевитые головы и уставились на меня, похожие на каменные изваяния и вместе с тем на какие-то таинственные призраки. Один из тюленей, не подозревая о моем бедственном положении, подплыл, видимо желая со мной познакомиться. Он приблизился к яхте почти вплотную, часто ныряя, чтобы увернуться от весла. Я убежден, что мы стали бы большими друзьями, не будь я в это время занят такой напряженной работой. Я с удовольствием ловил бы для него рыбу и кормил бы его из рук – для установления товарищеских отношений этого было бы вполне достаточно. Вдруг я заметил, что плыву к берегу с угрожающей быстротой. Яхта находилась как раз против середины острова Пинта, и Марчена больше уже не прикрывала его. Течение подхватило яхту и понесло ее вперед. Хотя вулкан оставался в стороне, я чувствовал его горячее, злобное дыхание. Не поднимая головы, я греб изо всех сил, пока у меня не свело руки. Оглядевшись, чтобы оценить результаты своей работы, я пришел в ужас. Яхта находилась в каких-нибудь ста ярдах от берега, а до мыса на возвышенной оконечности острова было несколько сот ярдов. Положение казалось безвыходным. Я начал грести с такой лихорадочной поспешностью, что весла скользнули по поверхности воды и я головой вниз полетел в каюту. Весла выскочили из уключин и упали в воду. Сгоряча я чуть было не бросился за ними, но, прислушавшись к плеску воды у скал, понял всю бессмысленность такого поступка. В каюте было еще три весла, я хотел спуститься за ними, но, взглянув вокруг, увидел, что и это напрасно: положение было слишком безнадежное. Обычно я не так-то скоро опускаю руки, но после того, что я увидел, нечего было и думать спасти яхту. До высокого, каменистого обрыва оставалось каких-нибудь семьдесят пять ярдов, а мыс по-прежнему был в сотнях ярдов от меня. Якорю на дне не за что было зацепиться. Я ничего не мог поделать. Нужно было думать о спасении собственной жизни. Я стал соображать, за что взяться в первую очередь. Котята! Они сидели в своем ящике. Я сбросил их в надувную лодку, и вытолкнул ее за поручни, чтобы в нужный момент быстро спустить на воду. До берега оставалось меньше ста футов. Море било о скалы с глухим, но грозным шумом. Надо было подумать о воде, пище и одежде. Но я вспомнил, что придется преодолевать течение при помощи маленьких весел; нельзя было терять ни минуты. И тут, сам не знаю зачем,– вероятно, хватаясь за соломинку,– я побежал на нос и бросил в воду свой самодельный якорь. На месте его падения забурлили пузырьки. Якорная цепь размоталась до конца и теперь свободно раскачивалась в воде. Якорь волочился по дну. Я повернулся, намереваясь бежать к лодке и отчалить от яхты, пока не поздно. Вдруг на воде появилась темная полоса, приближавшаяся к яхте с левого борта. Едва я успел схватиться за румпель, как на яхту обрушился шквал, который начал трепать паруса и туго натягивать их, осыпая яхту крупными каплями дождя. «Язычник» резко накренился. Я торжествующе кричал, видя, что он удаляется от берега, на который теперь с грозным ревом обрушивались волны. Через каких-нибудь двадцать минут, оставив позади пустынный остров, я привел яхту к ветру и спустил грот. Прежде чем взять рифы, я оттащил на место надувную лодку и выпустил из ящика присмиревших котят. Они заковыляли в каюту, должно быть, проклиная море и его внезапные капризы. Я растер их мохнатым полотенцем и завернул в теплое одеяло. Чтобы поднять им настроение, я вынес на палубу удочку, насадил на крючок хорошую наживку и забросил его в воду. Увалень, покинувший меня в трудную минуту, снова вернулся на яхту и уселся на крыше рубки. Я отнес его вниз, чтобы он не мок под дождем. Я повернул яхту на юго-запад, боясь налететь на какой-нибудь островок, расположенный севернее. Сеймур остался к юго-востоку, и я взял курс на Албемарл, самый большой из островов, расположенный в западной части Галапагоса. Я рассчитывал укрыться за островом от ветра, отдохнуть и прийти в себя, а главное – спокойно выспаться за ночь. Ветер был свежий, и яхта быстро шла против течения на юг, В сумерках я заметил серую пенящуюся полосу к северу от Албемарла, простиравшуюся не менее чем на милю. Нет ничего страшнее для моряка, чем рифы, вокруг которых злобно клокочет вода. 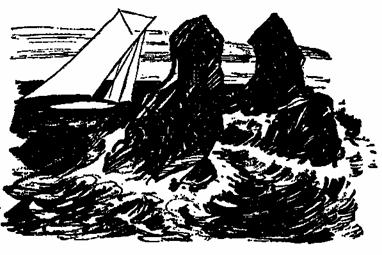
Огибая полосу рифов, я увидел жалкие останки двух потерпевших крушение судов. Они поднимались над поверхностью воды на несколько футов, одинокие, покинутые и беспомощные. Вероятно, это были суденышки неосторожных рыбаков, слишком резко огибавших мыс, а может быть, течение или одна из тех приливных волн, которыми славится Галапагос, выбросили эти суда на остроконечные скалы. Я постарался обойти опасное место как можно дальше. Вид изуродованных останков удручающе подействовал на меня. Я отказался от намерения укрыться за скалами и стать на якорь; вместо этого я направил яхту вдоль северо-западного берега, чтобы обогнуть остров с запада и войти в бухту Тагус, куда я рассчитывал прибыть на другое утро. За время плавания днище яхты обросло ракушками. Я мечтал теперь о бурном приливе и песчаном пляже, как на Жемчужных островах. Воспользовавшись отливом, я мог бы почистить яхту и покрасить ее. Я подумал даже о возвращении на Сеймур, чтобы поискать там военную базу, но сразу же отбросил эту мысль, вспомнив останки кораблей возле мыса. Кроме того, я боялся, что какая-нибудь непредвиденная случайность задержит меня, угрожая безопасности моего плавания. Заходить на Сеймур не было необходимости, и я решил не делать этого. Милях в ста от меня находился остров Флореана, и я серьезно подумывал о том, чтобы впоследствии привести в порядок корпус яхты у его берегов. Судя по карте, берег там пологий, песчаный и, кроме того, там есть почтовый ящик. Таким образом, я убью сразу двух зайцев – отремонтирую судно и отправлю свое длинное письмо Мэри. Кроме того, в глубине души я был уверен, что без посторонней помощи быстрее справлюсь с работой и поплыву дальше. Еще в Панаме я узнал, что почтовый ящик на Флореане существует очень давно. Его установили там китобои, ходившие на промысел мимо Галапагоса. Здесь они оставляли письма на родину и запасались пресной водой, овощами, фруктами и ловили огромных черепах, заменявших им свежее мясо. Когда какое-нибудь судно возвращалось домой, оно обязательно забирало все письма, лежавшие в ящике на берегу. Теперь вместо ящика там стоит пустая бочка. И в наши дни рыбачья лодка, плывущая на северо-восток, или какое-нибудь судно по пути с островов на материк забирает всю корреспонденцию и сдает ее на почту в Панаме или Сан-Диего. И как ни странно, оставленные здесь письма – с марками или без марок – доходят до адресата… рано или поздно. Ночью я вел судно почти наугад, изредка оставляя румпель, чтобы вздремнуть, а на рассвете очутился между Нарборо и бухтой Тагус. Я ввел судно в бухту и поставил его на якорь. Через час я спустился вниз «немного вздремнуть» и проспал весь день и всю следующую ночь. БУХТА ПОЧТОВАЯ Бухта Тагус оказалась очень уютной стоянкой, единственный ее недостаток заключался в том, что там я не смог отремонтировать корпус яхты. Настоятельной необходимости в таком ремонте, пожалуй, не было. Но собираясь плыть прямо до Сиднея, я хотел сперва почистить и привести в порядок свое судно. Океан простирался к западу более чем на семь тысяч миль. До начала штормов оставалось немногим более двух месяцев, и, чтобы благополучно миновать опасные воды, задерживаться было нельзя. А очистив корпус яхты здесь, где есть надежная гавань с высоким приливом, я бы сберег время. Здесь же я мог, так сказать, «отправить» письмо Мэри, воспользовавшись старинным дедовским способом. Поэтому я решил на другой день обогнуть Флореану в поисках подходящего места. Но прежде нужно было внимательно осмотреть весь такелаж. Я привязал люльку к грота-фалу и поднялся в ней наверх. За день я выкрасил мачту и прочно затянул болты. Кроме того, я заменил все фалы, поставил новую ванту и выкрасил гик. Разобрав блоки грота-гика, я смазал штыри. Потом снял погон и попытался закрепить его прочнее, но мне это не удалось. С тех пор как погон был искарежен акулой, его нельзя было исправить как следует, но пользоваться им я мог. К вечеру все было в полном порядке, если не считать днища и некоторых мелочей, с которыми я вполне мог справиться во время плавания в «свободное от вахты» время. Мой храбрый маленький тендер натягивал якорную цепь, словно стремился навстречу непогодам. Я тщательно распределил время с таким расчетом, чтобы успеть наловить рыбы для котят и Увальня. Этот плут до того обленился, что не желал самостоятельно добывать себе пищу. Но пока яхта стояла на якоре, он частенько совершал прогулки среди скал, оставляя палубу в распоряжении Поплавка и Нырушки. Котята, сытые и довольные, дремали в складках лежавшего на палубе грота. Время от времени они просыпались и ковыляли к своему «горшочку» – ящику с песком, который я поставил для них на корме. Потом они со скучающим видом подходили к рыбе, словно желая сказать: «Ну так уж и быть, поедим от нечего делать», и нехотя отрывали кусок-другой. После этого котята выискивали для сна местечко поудобнее: они растягивались на теплой палубе, валялись в тени поручней, спускались в прохладный носовой отсек. В последнее время они страшно обленились. «Нелегко им будет,– думал я,– вернуться к цивилизованной жизни и объедкам с хозяйского стола». ***
Хоть я и совершал далеко не увеселительную прогулку, красота бухты Тагус захватила меня. Не понимаю, почему она не прославилась как один из живописнейших уголков мира. Шириной она была в сотню судовых корпусов, со всех сторон ее окружали отвесные скалы. На высоких берегах гнездилось множество диковинных птиц, и вокруг стоял несмолкаемый гомон. Бухта представляет собой кратер потухшего вулкана, передняя стенка которого размыта морем. Бухта Тагус – пустынна и таинственна. В ее прозрачных водах плавают акулы, тюлени, скаты, морские львы, электрические скаты, рыбы-парусники, угри и пингвины. Да, да, пингвины! Двух я видел собственными глазами, а позднее один рыбак подтвердил, что пингвины действительно водятся в этой бухте. Они были поменьше тех, которых мне приходилось видеть в Кейптауне и на Фолклендских островах. Пингвины плавали вокруг яхты, озираясь в поисках рыбы. Несколько раз они выскакивали из воды, но, увлеченные охотой, даже не заметили яхты. Бухта Тагус любопытна еще тем, что потрескавшиеся скалы покрыты множеством различных имен. Они попадаются целыми десятками, свидетельствуя, что, вопреки распространенному мнению, жажда приключений и поныне живет в сердцах людей. По традиции, суда, посещающие архипелаг, оставляют свои названия на крутом каменистом обрыве. Еще в Панаме я обещал своим знакомым написать имя «Язычник» большими белыми буквами на высокой скале и теперь начал искать подходящее местечко. В дальнем конце бухты, у северного ее края, я увидел скалистый уступ, с которого можно было подняться наверх. Спустив на воду надувную лодку, я стал грести легкими металлическими веслами. Когда лодка подплыла к берегу, детеныш морского льва, гревшийся на уступе скалы, неуклюже спрыгнул в воду и, выставив голову наружу, принялся разглядывать меня с таким видом, с каким обычно смотрят на чужеземцев. Он ничуть не испугался меня и вернулся на прежнее место, как только я с ведерком и кистью полез по неровным трещинам на скалистый откос. Вскоре я добрался до уступа. Несколькими футами выше начиналось неровное бесплодное плоскогорье. Справа от меня высился крутой кратер вулкана, очевидно потухшего. Выглянув из расселины, я увидел свое суденышко, покачивавшееся на самодельном якоре. Подобно ореховой скорлупе в тазу, оно четко вырисовывалось на фоне безмятежной голубизны моря и пестроты неровных скалистых стен. Вдруг я заметил какое-то движение у самой своей ноги. Сначала мне показалось, что это уродливый губчатый камень покатился вниз, мягко переваливаясь через скалы. Вот он застыл на месте, словно замер. Большой черный глаз равнодушно глянул на меня, шероховатый язык высунулся из уродливого рта. 
Внезапно с кошачьей ловкостью зверек повернулся и плюнул в меня какой-то жидкостью. Черный язык высунулся снова. С виду этот зверь походил на ящерицу, но еще больше сходства было у него с драконом. В длину он был около пяти футов, из спины торчали колючие шипы, все туловище усеивали уродливые морщины, лапы заменяли похожие на пальцы отростки, длинный хвост безжизненно висел. Застыв на месте, чудовище не сводило с меня глаз. В жизни не встречал я ничего подобного. Правда, в Панаме мне приходилось слышать кое-что об этих уродах. Кто-то рассказывал, что на Галапагосе встречаются «доисторические виды животных».  Некогда архипелаг посетил Дарвин, назвавший здешних животных «необычными». И он был прав, в этом сомневаться не приходилось: у меня перед глазами было одно из таких существ. Я не удивился бы, вздумай это страшилище изрыгнуть огонь. Правда, в этом случае падение мое было бы еще менее удачным, но и без того от страха и смущения я оступился и упал прямо на ведро с краской. Охваченный внезапным ужасом, я пустился вниз со всех ног, спотыкаясь об острые камни. Добежав до уступа, я едва не наступил на знакомого уже мне морского льва, который с перепугу бултыхнулся в воду. Я приналег на весла и через несколько минут был уже на яхте. Бухта сразу потеряла для меня все свое очарование, скалы смотрели с затаенной угрозой. Как страшно оказаться в таком месте одному! Даже котятам передалась моя тревога. Сжавшись в комок, они нервно поводили усиками. Солнце скрылось за Нарборо, на воду легли длинные вечерние тени, гнетущая тишина действовала мне на нервы. «Ну ее ко всем чертям, эту бухту!» – сказал я котятам. И вдруг появилось оно… В сумерках у киля мелькнула смутная, зловещая тень. Это был тот самый ящер или другой, похожий на него. Он плыл, плотно прижав лапы к туловищу, ударяя по воде длинным хвостом и скользя легко, как змея. Нет, это было уж слишком! Я быстро поднял паруса, выбрал тяжелую якорную цепь и втащил на палубу неуклюжий деревянный якорь. В сгустившихся сумерках «Язычник» покинул мрачную бухту и вышел в море, навстречу белым гребням волн. Я повернул прочь от гигантского вулкана Нарборо и повел яхту к югу. ***
На обед я открыл банку с консервированной морковью. Ел я прямо у румпеля, поворачивая его ногой. «Язычник» ходко шел на юг. Через три часа я решил, что уже обогнул остров Нарборо, лег на левый галс и круто к ветру двинулся на юго-запад, чтобы обойти западную оконечность острова Албемарл. 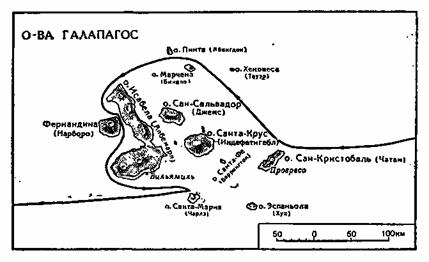
Этот большой остров, напоминающий своими очертаниями амебу, находится на 91-м градусе западной долготы. Я рассчитывал миновать его ночью, чтобы потом, закрепив румпель и тщательно отрегулировав паруса, вздремнуть, пока яхта преодолеет довольно большое расстояние до Флореаны. Через час после восхода солнца яхта была еще у Албемарла. Флореана, казавшаяся такой близкой, серой грудой возвышалась в сорока милях от меня, по правому борту. К вечеру я надеялся стать на якорь в бухте Почтовой. Яхте приходилось преодолевать встречное течение, и, несмотря на попутный ветер, я должен был целый день бодрствовать у румпеля. Подняв все паруса, я продолжал свою «прогулку» по южной части Галапагоса. На исходе дня, когда вечерние сумерки уже окутывали землю, я обогнул остров с севера и ввел яхту в бухту Почтовую. Это тихая полукруглая гавань около мили в длину и примерно столько же в ширину. Слева от меня виднелась группа маленьких островков. Песчаный пляж полого спускался к морю, недалеко от берега стояла уродливая полуразвалившаяся лачуга. Рядом была привязана к столбу знаменитая белая бочка. За пляжем начиналась путаница голых, колючих кустов и виднелась едва заметная тропа, на которую я не обратил никакого внимания. Бросив якорь недалеко от берега, я сразу же отправился на остров. Прежде всего я подбежал к потрескавшейся живописной бочке и опустил туда объемистое письмо к Мэри. К письму я привязал тонкой резинкой пятидолларовую бумажку. Это был ощутимый удар по моему бюджету, но я хотел, чтобы письмо непременно дошло, и если деньги могли обеспечить его доставку – в чем я далеко не был уверен – жалеть о них не стоило. Потом я постоял немного у этого традиционного «маяка», размышляя о том, попадет ли когда-нибудь мое письмо в руки Мэри. Спускалась ночь. «Язычник» казался темным пятном на воде. Здесь, на пустынном берегу, мне понравилось еще меньше, чем в бухте Тагус. Подплывая к яхте, я уже не обращал внимания ни на мрачную обстановку, ни на холод. Мысленно я был далеко, за океаном. Я не мог забыть о письме, опущенном в бочку. Настроение у меня было очень грустное. Меня обуревала жажда поскорее добраться до Австралии, но нужно было надолго запастись терпением, так как впереди мне предстояло много неожиданностей. Я рано лег спать и, забыв все дневные тревоги, погрузился в глубокий сон, уверенный, что уже через сутки буду быстро плыть на запад, подгоняемый пассатами. На следующий день к полудню днище яхты было приведено в порядок. Яхта лежала, накренившись, на песчаной отмели, подпертая бочонком. Ее стройный корпус был очищен от ракушек и смазан, на что ушел весь мой запас сапожного крема. Приливные волны начали тихонько лизать обшивку. Когда киль шевельнулся, я взялся за свой самодельный верп, моля бога, чтобы он выдержал. Через несколько минут яхта была уже на воде, я отвел ее от берега и поставил на якорь. Потом я «отдал швартовы», готовя яхту к отплытию. Бросив прощальный взгляд на пустынную бухту, я решительно взялся за фалы и шкоты, якорную цепь и румпель. ПАССАТЫ К вечеру 23 июля «Язычник» отошел уже довольно далеко от Флореаны. Яхта огибала с юга унылые вершины Албемарла. Я надеялся к полуночи миновать западную оконечность острова и выйти в открытый океан. «Язычнику» предстоял следующий этап путешествия – примерно три тысячи миль на запад, до Маркизских островов. Ветер дул с юга. Яхта легко скользила по спокойной поверхности океана. Последняя стая птиц сделала разворот над мачтой и полетела назад к островам. Скоро совсем стемнело, и надоевшая мне земля окончательно скрылась из виду. На небе, словно путеводные огоньки, засверкали бесчисленные звезды, ущербная луна озаряла ночь своим мягким светом. Океан слегка волновался под свежим ветерком, раздувавшим паруса и гладившим мне кожу. Ночь казалась прекрасной оттого, что я входил, наконец, в полосу пассатов, которые помчат меня через океан к Мэри. Воды, лежавшие впереди, славились своим спокойствием. Течение, пока еще северо-западное, вскоре должно было повернуть прямо на запад и нести меня cо скоростью тридцати миль в сутки. Ветер, по моим расчетам, мог обеспечить суточную скорость в 90-100 миль в день, и, таким образом, за сутки «Язычник» должен был проходить около ста тридцати миль, что меня вполне устраивало. Это была самая радостная ночь за все мое путешествие. Письмо было отправлено. Подводная часть судна освободилась от ракушек, и яхта легко скользила по воде. Утром мне удалось поймать большую морскую черепаху, и теперь я был на три дня обеспечен свежим мясом. А если провялить мясо, как это делают индейцы, его хватит до самых Маркизских островов. Погода стояла чудесная. Чего еще мог я желать, кроме встречи с Мэри? К сожалению, моя радость оказалась недолговечной. Я упустил из вида, что пассаты нужно еще найти. В восточной части Тихого океана пассаты не всегда распространяются к северу до самого экватора. Их приходится разыскивать, поскольку между ними и экватором находится так называемая штилевая полоса. Плутать в этой полосе в поисках пассатов – занятие довольно неприятное. Стоит на несколько часов подняться легкому ветерку, и вам уже кажется, что это и есть пассат. Но ветерок исчезает также неожиданно, как и появляется. И тогда мертвая неподвижность воды вокруг яхты, безмолвие, нарушаемое лишь болтающимися парусами, действуют угнетающе. Хлопающие паруса, скрипящие блоки, безжизненно повисшие шкоты нервируют моряка и вызывают горькую досаду. С каждым штилем течение относило меня все дальше на север. Не раз свежий ветерок надувал паруса и яхта ложилась на нужный мне курс. Но напрасно я надеялся, что это пассат. Вскоре ветер снова стихал. Через несколько дней яхта очутилась уже севернее экватора. Коварство пассатов было тем более обидным, что я ожидал от них столь многого. Я решил держаться поближе к экватору и плыть на запад, пользуясь попутным течением. Уже в семидесяти пяти милях к югу от экватора судно, удалившись от течения, теряет ежедневно по десять-двенадцать миль. Но, с другой стороны, быть может, лучше уклониться к югу, где течение слабее, но есть надежда поймать попутный ветер, чем оставаться в штилевой полосе под лучами палящего солнца. В конце концов я решил пожертвовать попутным течением ради надежды найти пассат. С нетерпением ожидал я очередного ветра, но появлялся он не сразу и дул порывами. С каждым порывом я продвигался на юго-запад с выбранными шкотами и закрепленным румпелем. Когда дул ветер, я плыл к югу, когда он стихал – меня снова относило на север. Океан играл судном, как кошка мышью. Иногда я на целые часы закреплял шкот, не в силах выносить монотонное хлопанье парусов и скрип снастей. Я не мог читать, думать, потерял сон: целыми часами я напряженно искал на воде хоть легкую рябь, поднятую ветром. С первым движением воздуха я поднимал все паруса, используя каждое дуновение, и упрямо искал неуловимые пассаты. 27 июля, через четыре дня после отплытия с Галапагоса, мое отчаяние дошло до предела. В этот день Увалень после нескольких недель праздности на борту яхты вдруг снялся с рубки и полетел прямо на восток. Это не была обычная его прогулка – слишком уж решительно и уверенно птица устремилась вперед. Я не спускал с нее глаз, пока она, едва заметной точечкой мелькнув в ослепительно белом воздухе, не скрылась за горизонтом. В судовом журнале появилась об этом событии печальная запись. Еще три дня тяжелым бременем легли мне на сердце. Время от времени, словно насмехаясь надо мной, появлялся легкий ветерок. Целые дни я терпеливо сидел на палубе, иногда жевал кусочки сухого черепашьего мяса. Неожиданно с юго-востока подул сильный, порывистый ветер. Я немедленно вытравил шкоты и повел яхту бакштаг. Любо было смотреть, как «Язычник» весело бежит вперед. Я взял курс на юго-запад, чтобы, лавируя, подойти к Маркизским островам, расположенным на 9 градусе южной широты. Вечером я занес важную новость в судовой журнал – это были первые радостные строки за всю неделю. Когда в полдень 4 августа я определил свои координаты, оказалось, что за двенадцать дней «Язычник» прошел 1010 миль – больше, чем за целый месяц плавания от Жемчужных островов до Галапагоса. Вслед за этим я легко преодолел еще две тысячи миль; должно быть, это было самое счастливое плавание в моей жизни. Вскоре я на целые дни стал предоставлять яхту самой себе и поднимался наверх лишь в случае необходимости. «Язычник» ходко бежал вперед взапуски с волнами и облаками, которые всегда одинаковы; словом, все шло так, как рассказывают любители, сидя на веранде яхт-клуба. Жизнь моя в эти дни протекала безмятежно. С восходом солнца я поднимался наверх и подбирал упавших за ночь на палубу летучих рыб. Рассекая носом волны, яхта наводила на них ужас, рыбы стаями, как перепелки, взлетали в воздух. Часто они натыкались на паруса и падали на палубу. Каждое утро я находил по крайней мере одну летучую рыбу и отдавал ее голодным котятам, если же рыб оказывалось несколько – я тоже лакомился ими. Летучие рыбы очень вкусны. Пожалуй, в них слишком много костей, но с ними стоит повозиться ради нежного сладкого мяса. Я предпочитал варить их в соленой воде и ел с острым соусом и галетами. Недурны они и поджаренные на свином сале. Не раз, найдя на палубе одну-единственную рыбу, я жалел о том, что у меня на во рту голодные котята. У меня было много свободного времени, гораздо больше, чем когда я плыл от Жемчужных островов к Галапагосу. Управление моим маленьким тендером отнимало теперь всего несколько минут в день. С наполненными парусами и закрепленным румпелем он легко и свободно несся вперед. Утром и вечером я проверял курс по компасу, днем иногда прохаживался от носа к корме, поглядывая на паруса и выискивая в своем маленьком хозяйстве неполадки, которые могли бы помешать спокойному плаванию. Но все оказывалось в порядке, и мне нечего было делать до следующего дня. За все время я лишь изредка менял положение румпеля, ни разу мне не пришлось убирать паруса или брать рифы. Единственное, чем нужно было заняться всерьез,– это обмотать материей ванты, чтобы паруса не перетирались о них. Иногда снасти обматывают тросами, но, будучи новичком, я не знал как это делается, и поэтому, разорвав две простыни на длинные полосы шириной в фут, обмотал ими ванты, так что получились мягкие «подушки». Каждую подушку я крепко стянул шпагатом по краям и посередине. Потом залез на мачту, перетянул подушки на те места, где паруса соприкасаются с вантами, и туго закрепил шпагат. Эти приспособления сослужили мне хорошую службу: до самого конца плавания паруса были в таком же порядке, как в тот день, когда я впервые нашел пассаты. Погода была великолепная. Стояли теплые, но не слишком жаркие дни, солнце ласково грело, воздух был чистый и свежий. По ночам от холодного течения веяло прохладой, и мне хорошо спалось на палубе под простыней и одеялом. Днем я поднимался на палубу, чтобы определить свое местонахождение или погреться на солнце, посмотреть на дельфинов, поиграть с котятами. Теперь, когда Увалень нас покинул, яхта снова оказалась в их полном распоряжении. Часами возились они среди парусов, разостланных на палубе. Я забирался на крышу рубки и наблюдал, как они резвились и играли. Когда Поплавок и Нырушка уходили на палубу, я старался подружиться с Безбилетницей. Но она держалась крайне недоверчиво, что, впрочем, и не удивительно, так как котята то и дело шныряли вокруг ее жилища. Дошло до того, что я вынужден был ставить ей еду и воду внутрь ящика,– так редко рисковала она вылезти наружу. Я пытался приучить крысу есть из моих рук, но вскоре убедился, что до тех пор, пока котята на яхте, у меня ничего не выйдет. Безбилетница никому не доверяла, она ко всем относилась с презрением, не разбирая врагов и друзей, и предпочитала жить в одиночестве. Проводя на палубе лишь несколько часов в день, я в остальное время мог делать что душе угодно. Я решал кроссворды, читал Шекспира, просматривал старые письма Мэри, которые хранились в моем сундучке. Когда мне надоедало читать, я снова н снова складывал и разбирал детские головоломки. Иногда, чтобы усложнить себе задачу, я переворачивал их вверх ногами. Время текло мирно и незаметно, как во сне. 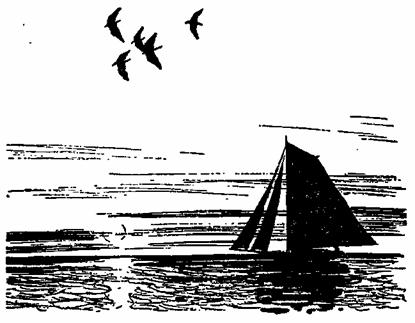
Я никогда не скучал: человек с живым воображением не может скучать, оставшись наедине с собой. Дни проходили быстро, я даже не успевал сделать все то, что намечал с утра. Кроме того, с детства самостоятельно зарабатывая себе на жизнь, я привык к одиночеству. Обычно день проходил так: я просыпался почти всегда на рассвете, проверял курс по компасу, висевшему рядом с койкой, шел наверх, чтобы взглянуть на паруса и румпель и собрать летучих рыб, упавших за ночь на палубу. Когда я находил две рыбы – чаще всего так и бывало,– одну я отдавал котятам на завтрак, а вторую оставлял на обед. Если же рыб оказывалось больше, я готовил себе их на завтрак – либо жарил на свином сале, либо варил в соленой воде. Завтрак мой неизменно состоял из вареных кукурузных хлопьев или овсянки. Я брал ложку соли на шесть ложек пресной воды, кипятил воду на примусе, сыпал туда кукурузные хлопья, овсянку или другую крупу и добавлял столовую ложку сухого молока и сахара. Ел я обычно в кокпите, на свежем воздухе. После завтрака я читал, играл с котятами, приручал свою недоверчивую пассажирку или наблюдал, как охотятся дельфины. Проще всего обстояло дело со вторым завтраком. Достаточно было поставить крестик в списке моих припасов и выбрать подходящую банку. Меня очень забавляли сюрпризы, которые мне часто преподносили банки без этикетки. После полудня я отдыхал, затем определял по солнцу свои координаты и наносил их на карту. Ближе к вечеру я забирался на крышу рубки и осматривал горизонт в надежде увидеть дымок или парус. Иногда я сидел, наблюдая за морскими птицами, равнодушно парившими над водной пустыней. На обед я всегда готовил что-нибудь горячее – кусок поджаренной ветчины или грудинки и подогретые консервы. Потом я выпивал чашку кофе или чаю с твердыми морскими галетами. Часто я готовил что-то похожее на жаркое из остатков консервов и кусочка соленого мяса или рыбы. Вечером, осмотрев паруса и румпель, я ложился на койку, чтобы почитать часок при тусклом свете фонаря, подвешенного к потолку. Устав от чтения, я тушил фонарь и заворачивался в одеяло. Раздеваться не приходилось, так как в тропиках я обходился без одежды. Но однажды мой распорядок был нарушен. Во время дневного осмотра я обнаружил, что ватерштаг ослаб и цепь свисает с нокабушприта. Я не знал, что нужно делать в таких случаях, но необходимо было принять срочные меры. Осмотрев повреждение, я приступил к работе, как всегда обдумывая все на ходу и то и дело ошибаясь. Спрыгнув в воду, я стал возиться, пытаясь притянуть ватерштаг к форштевню, а волны, подгоняемые пассатом, швыряли меня из стороны в сторону. Провозившись в воде без толку два часа, ругаясь на чем свет стоит, я решил бросить это дело. Но бросить его было нельзя. Ватерштаг поддерживает бушприт, бушприт – стень-штаг, а тот связан с мачтой и удерживает ее в вертикальном положении. Я не мог рисковать мачтой в этих пустынных водах, и поэтому снова взялся за дело. Эта работа оказалась еще неприятнее, чем, скажем, разбрасывание удобрений. Но нужда и не такое заставит делать. Пришлось мне оседлать бушприт и свеситься с него, держась за форштевень; это все же было легче, чем работать в воде около качающейся яхты. В конце концов мне удалось закрепить рым ватерштага в форштевне. Измученный и обессиленный, я с огромным трудом перелез через поручни на палубу. Кливер с шумом бился о штаг, остальные паруса скоро наполнились ветром, и яхта весело побежала дальше. После этого мое безмятежное плавание возобновилось. Юговосточные пассаты подгоняли «Язычника», океан и ветер оставались неизменными. Летучие рыбы по-прежнему выпрыгивали из воды перед носом яхты и кидались в сторону стаями или поодиночке, сверкая в пенных гребнях волн. Изо дня в день я с удивлением наблюдал, как через каждую сотню ярдов целые стаи этих рыб, ослепительно сверкая на солнце, разлетались в разные стороны. Старый Бандит и его шайка были грозой этих рыб: они шныряли впереди яхты и молниеносно набрасывались на ничего не подозревавших бедняжек. Вот уже целые две тысячи миль дельфины сопровождают меня, и я наблюдаю их охотничьи приемы. Все тот же зловещий круговорот, что и у сухопутных животных: один пожирает другого. У дельфина тупая, равнодушная голова, а тело гибкое и красивое. На спине кривой плавник, который обычно прижат к туловищу, дельфин пускает его в ход только при молниеносных нападениях на летучих рыб. Часами следил я за этой удивительной охотой. Наметив себе жертву, дельфин порой преследует ее не меньше пятисот ярдов. Когда летучая рыба в смертельном страхе взвивается в воздух, дельфин, не отставая, преследует ее по воде. Начинается гонка, жуткая, бешеная гонка, в которой малейшая остановка или промедление стоит летучей рыбе жизни. Иногда дельфин выпрыгивает из воды, чтобы лучше видеть свою жертву, и пролетает футов двадцать по воздуху. Увидев летучую рыбу, дельфин возвращается в свою стихию и несколькими могучими рывками оказывается прямо под рыбой, не спуская с нее глаз и выжидая, пока она упадет в воду. Вот летучая рыба падает, а дельфин уже тут как тут, его страшные зубы громко щелкают, мелькают плавники, вода бурлит, и дельфин с довольным видом отплывает в сторону. Сотни раз эти трагические сцены разыгрывались в каком-нибудь десятке футов от меня. Однажды я видел, как Старый Бандит легко перекусил летучую рыбу пополам. Это произошло мгновенно, рыба, вероятно, даже не успела сообразить что происходит. Тут подскочил другой дельфин, и прежде чем бедная жертва опомнилась, она была уже съедена. 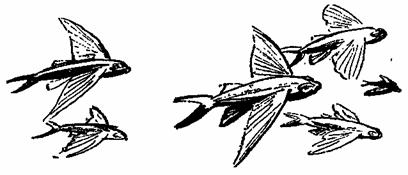
Однажды крупный кальмар выскочил из воды и пролетел сотню футов по направлению к яхте. Плюхнувшись обратно в воду, он очутился рядом с прожорливым дельфином и в ужасе снова подскочил над водой футов на двадцать. Дельфин развернулся и могучим рывком тоже взвился вверх. Они столкнулись в воздухе – падавший кальмар и взлетавший вверх дельфин. Толчок на мгновение оглушил дельфина. То, что осталось от кальмара, упало в воду футах в тридцати от места столкновения и было немедленно проглочено другим дельфином. В другой раз я видел, как необычайно крупная летучая рыба, судя по всему не раз уже встречавшаяся со смертью лицом к лицу, выпрыгнула из воды далеко впереди яхты. Она описала в воздухе широкий полукруг, которому в состоянии следовать лишь очень коварный хищник, и начала снижаться. Но она не знала, что ее преследовали не один, а сразу четыре дельфина, толкавших друг друга и стремившихся вырваться вперед. Вот рыба коснулась воды. Бросок, сутолока плавников и дельфиньих тел, щелканье челюстей и такая кутерьма, в которой, вероятно, сами хищники не разобрались, кому досталась добыча. Через несколько дней стайка летучих рыб взмыла вверх перед самым носом яхты. Когда дельфины кинулись к ним, рыбы буквально обезумели. Одни прыгали вверх, но тут же снова шлепались в воду. Другие в ужасе удирали по воде, не в силах лететь. Небольшая стайка все же поднялась в воздух и угодила прямо в паруса яхты. Двенадцать рыб подобрал я на палубе в этот день. Этим уловом я обязан Старому Бандиту и его стае. Однажды Старый Бандит носом к носу столкнулся с летучей рыбой. Она успела увернуться, и началась стремительная гонка. Стоя на крыше рубки, я хорошо видел их в прозрачной воде. Рыбешка выскочила из воды и полетела к яхте, злобный хищник устремился следом. Он прыгнул, ударил рыбу и сбил ее в море. Гонка возобновилась, и рыбешке снова удалось вспорхнуть. Взбешенный неудачей, дельфин не отставал. Внезапно рыбешка поняла, что летит прямо на яхту. Она заметалась в воздухе. Внизу был безжалостный хищник, впереди – сухая и твердая палуба. Она могла бы нырнуть в воду, а потом, как-нибудь обманув дельфина, снова взлететь, но не сделала этого. Ударившись о рубку, она свалилась на палубу с разбитой головой. Не проходило дня, чтобы на моих глазах не развертывались такие кровавые сцены. Часто, сочувствуя всей душой летучим рыбам, я метал в дельфинов острогу, но за все время плавания мне удалось загарпунить только трех. Огромная энергия сочетается в них с необычайной чуткостью. Стоит только замахнуться, как они кидаются прочь. Я метал острогу в Старого Бандита по меньшей мере десять раз. С каждым разом на его дряхлых боках появлялась еще одна рваная рана, но его привязанность к «Язычнику» не ослабевала. Он сопровождал меня до самых рифов, где я едва не утонул. Убитых дельфинов я разрезал на куски и вялил мясо на солнце, развесив между рубкой и погоном. Мясо могло сохраняться сколько угодно, если его время от времени просушивать. Это было весьма кстати, так как запас черепашьего мяса, которое я также иногда выносил на солнце, сильно уменьшился. В то время, в неделе пути от Маркизских островов я часто погружался в размышления, думал о прошлом… о будущем… о настоящем. Думы отвлекали меня от однообразия бескрайнего океана. Долгие часы я мысленно оглядывал свой жизненный путь. Меня наполняли счастливые воспоминания о нашей любви, наших встречах, свадьбе. В моем мозгу снова вставали те злосчастные обстоятельства, которые так надолго разлучили нас и которые я преодолевал, плывя через океан. Я сидел на крыше рубки, подставляя тело солнцу и ветру, слушая плеск и рокот волн и глядя на пенистый след, оставляемый яхтой. Думалось мне легко. Мысли приходили сами, незваные. Неважно о чем я думал, гораздо важнее самый факт, что я не переставал думать. Утром 18 августа, определив свои координаты, я решил, что до Маркизских островов остается не больше трех дней пути. В моем судовом журнале были заполнены почти все девяносто страниц. Со дня отплытия из Панамы прошло восемьдесят пять дней, а я в свое время рассчитывал добраться до Сиднея за восемьдесят. Мэри уже ждала меня, но я надеялся, что она получила мое письмо с Галапагоса, в котором я все объяснил и сообщил новый срок приезда. В полдень 20 августа яхта находилась на 9°5' южной широты и 135°50' западной долготы. Маркизские острова были уже совсем близко. Я часто взбирался на мачту и пристально вглядывался в горизонт, надеясь увидеть темную неподвижную полосу суши на фоне серых облаков и бушующих волн. Но наступил вечер, а ее все не было. Над морем летало много береговых птиц: птицы-боцманы, глупыши, альбатросы, фрегаты, крачки. Я был уверен, что где-то к югу от меня находится цветущий тропический остров Хива-Оа, рассказы о котором я слышал еще в Панаме. Совсем недалеко, вероятно справа по курсу, должен быть Уа-Хука, а дальше на западе – остров Нукухива. В этот вечер я часто выходил на палубу и, стоя у правого борта, вглядывался во мглу, напрягал слух, ожидая услышать глухие удары волн о коралловые рифы. Вокруг было тихо и пустынно, но я знал, что земля где-то рядом. Когда наступил рассвет, к северу от яхты я увидел землю… впервые за двадцать девять дней! МОРСКОЙ ДЬЯВОЛ Ровный зеленый остров, выросший справа по борту, был Нукухива. Справа же, несколько позади яхты, серел куполообразный Уа-Хука, а вдали слева смутно вырисовывался остров Хуа-Пу. Нукухива – главный из Маркизских островов, принадлежащих Франции; здесь находится таможня. Я провел яхту в двух милях южнее выступавших из воды скал у юго-восточной оконечности острова. Скала, отполированная морем и ветром, казалась белой от пены волн, без устали набегавших на остров под натиском пассата. Позади, почти скрытый скалой, виднелся мыс Мартин. На южном берегу Нукухивы есть три превосходные бухты: Комптроллер-Бэй, Тайо-Хае и Тай-Оа. Двигаясь вдоль берега на почтительном расстоянии, я осматривал все удобные стоянки. На коленях у меня лежала карта острова. Я внимательно изучал берег и уже готов был стать где-нибудь на якорь. С моря берега бухты Тайо-Хае казались темно-зелеными; окруженные тенистыми долинами, под сенью пышных деревьев, они манили прохладой и свежестью. Но я не интересовался природой, так как не имел ни визы, ни разрешения зайти в гавань. У меня осталось всего двадцать долларов, и если бы я вошел в порт, моих денег могло не хватить на то, чтобы выйти из него. Но главное – мне нужно было торопиться. Самое позднее через шесть недель в Тасмановом море начнется период штормов, и я должен был добраться до Сиднея, прежде чем это произойдет. Задача не из легких – мне оставалось проплыть более четырех тысяч миль. К тому же я ни в чем не нуждался. Продовольствия было вдоволь, пресной воды – на целых три месяца. Моральный дух капитана, команды и эскорта дельфинов был высокий, особенно после того, как «Язычник» пересек 145-й градус западной долготы, преодолев половину пути до Сиднея. Поплавок и Нырушка наслаждались жизнью. Безбилетница, которую я, правда, видел редко, была в прекрасном настроении. Старый Бандит и его компания, потерявшие трех своих сородичей, ничуть не устали, проплыв три тысячи миль со скоростью пять узлов. Все мои спутники как один желали того же, что и я. «Плыви дальше»,– казалось, говорили они. И я направил яхту вдоль южного берега знаменитого острова, о котором столько писалось в приключенческих книгах и биографиях путешественников, плававших по южным морям. ***
Но уже вечером я пожалел, что не зашел в какую-нибудь из тихих бухт. Грота-фал перетерся о блок и лопнул. Мне предстояла самая неприятная из всех работ, какие приходится выполнять моряку: нужно было залезть на мачту, и, проведя новый фал в шкивы двух блоков, вплеснить его коренной конец в строп блока на топе мачты. Все время я боялся именно этого. Перед отплытием с Галапагоса я сменил все фалы, рассчитывая, что они выдержат до самого Сиднея. Но под натиском пассатов непрочный сизалевый трос перетерся в шкиве блока в фаловом углу паруса. Одно дело – исправлять такое повреждение на спокойной стоянке, другое – на ходу, когда юго-восточный пассат гонит яхту все вперед и вперед. Уже добравшись до чиксов вант, я понял, что без одежды работать нельзя. Соскользнув вниз, я обнаружил на себе довольно много ссадин и царапин в тех местах, которые соприкасались с мачтой и вантами. Надев трусы и рубашку, я снова с трудом начал карабкаться вверх. На этот раз я залез довольно высоко, но здесь столкнулся с серьезными трудностями. Работать на весу было невероятно трудно. Тяжело дыша, я добрался до чиксов нижних вант. Обеими ногами и рукой я плотно охватил мачту. Другой рукой обрезал старый фал, но тут же почувствовал, что, несмотря на отчаянные усилия, начинаю сползать вниз. Вцепившись в качающуюся мачту, я продернул фал через шкив верхнего блока. Быстро слабея и чувствуя, что могу продержаться всего несколько секунд, я медленно сползал вниз. Мне уже казалось, что вот сейчас я сорвусь с мачты и разобьюсь о палубу. А ведь от ближайшей суши, если плыть по ветру, меня отделяли сотни миль. Я не смог бы провести новый фал через шкивы блоков на топе мачты и в таловом углу паруса, а затем вплеснигь его в строп блока на топе мачты. Нужно было искать иной выход из создавшегося положения. Я начал спускаться на палубу с высоты тридцати пяти футов. Одна моя нога ослабела, и ее тут же ветром отбросило от мачты. Я потерял равновесие. Вторая нога тоже потеряла опору. Меня ударяло о мачту и о ванту. Я не мог уже ни держаться, ни продолжать спуск, не рискуя разбиться. Сверху яхта походила на челнок. Ее передние паруса были раздуты ветром. Каждая волна высоко поднимала судно и захлестывала его до самых поручней. Повиснув на руках, я лихорадочно оглядел палубу. Не в силах больше держаться, я отпустил мачту и сильно оттолкнулся от нее. Падал я, как обычно падают мальчишки с деревьев: кувыркаясь в воздухе, размахивая руками и ногами. Но ударился я не о палубу, а о воду – до сих пор не знаю, как это произошло. Барахтаясь и захлебываясь в воде, я инстинктивно схватился за поручни, взобрался на борт и лег на палубе около рубки, жадно хватая ртом воздух. Было ясно, что мне не удастся основать фал между обоими блоками, как это было сделано раньше, и я ограничился тем, что провел его только через блок на топе мачты, закрепив в фаловом углу паруса. Отдохнув немного, я ухватился за фал и поднял парус. Это было нелегко, но мне удалось справиться. Яхта на всех парусах уходила все дальше от Маркизских островов. Наступил полдень. Острова все еще не скрылись из виду. Я отдыхал на палубе, тело мое ныло после утренней работы. Яхта ходко шла заданным курсом, она двигалась на запад с небольшим отклонением к югу. День проходил как обычно, только я был вконец обессилен. Я сидел в кокпите, котята дремали у меня на коленях, ласково мурлыкая во сне. Вдруг ярдах в ста за кормой вода забурлила раз, потом другой. Я встал, ожидая увидеть там стаю черепах. Теперь вода бурлила у самого судна. Потом, резко рассекая воду, появился «морской дьявол» – гигантский скат. Он двигался прямо на яхту, словно не замечая ее, а проплыв мимо, решительно повернул назад и задел за борт, глядя на меня черными выпученными глазами. Голова его сидела на огромном туловище с небольшим горбом. По бокам черного ротового отверстия были короткие, похожие на руки отростки, которыми чудовище, по-видимому, заталкивало себе в пасть добычу. Широкие мясистые «крылья» двигались короткими взмахами, легко толкая вперед многотонную тушу. Сзади, словно спасательный леер, змеился тонкий, короткий хвост. Скат надменно и пренебрежительно рассматривал меня. Я знал, что эти свирепые и безжалостные твари спесивы, как павлины и нахальны, как акулы. Глядя, как он плывет мимо яхты, я подумал: а что, если я решусь напасть на него? И я решился на это, ибо знал, что если я буду осторожен, то сумею воспользоваться своим преимуществом. Опыт борьбы с акулой у Жемчужных островов говорил мне, что, несмотря на огромный вес и силу ската, я могу его одолеть. Просто нужно поймать его на крюк, подождать, пока он потеряет силы, а потом подтащить к самому борту и хорошенько рассмотреть с близкого расстояния. Таким образом, я сумел бы осуществить еще одну свою мечту, которая не покидала меня со времени службы в торговом флоте. Для такой махины нужна была прочная леса, и я решил, что трос от грота-шкота вполне подойдет для этой цели. Я вытащил трос и прикрепил к нему двадцать футов стальной проволоки. Работал я быстро, не спуская глаз с чудовища, которое нахально нырнуло под киль и разгуливало теперь у левого борта. К концу проволоки я прикрепил два больших крюка для ловли акул и насадил на них крупную макрель, пойманную утром. Эту приманку я бросил прямо в щупальца чудовища, когда оно медленно проплывало мимо. Скат повернулся, внимательно осмотрел рыбу и, резко взмахнув своими крыльями, похожими на крылья летучей мыши, кинулся на нее. В тот же миг, снова взмахнув крыльями, он нырнул. Трос скрылся под водой и так натянулся, что корма резко осела. Нос яхты начал трястись от напряжения, поэтому я взял нож, готовясь обрезать трос в случае опасности. Я рассчитывал, что, пытаясь оборвать трос, прикрепленный к яхте, скат рано или поздно потеряет силы. Тогда я подтяну его к борту, добью, вырублю челюсть и вместе с зубами акулы преподнесу Мэри. Трос на секунду ослаб, потом снова натянулся с такой силой, что яхта на три румба отклонилась от курса. Я упал на палубу. Яхта остановилась и больше не двигалась. Она застыла на месте. Нос ее медленно поворачивался, и ветер грозил перекинуть паруса на другой галс. Я вскочил на ноги, собираясь обрезать трос. Яхта металась из стороны в сторону. Я стоял, ожидая, что будет дальше. Вдруг меня словно мул лягнул промеж лопаток, и я головой вперед полетел прямо в кладовую. Яхта сотрясалась от толчков. Ужас охватил меня, я похолодел. Но тут все успокоилось. Я вскарабкался на палубу, нащупывая ножом трос. Послышался треск ломающегося дерева. Погон у правого борта оторвался. Он был прочно прикреплен и к палубе и к поручням большими шурупами, которые отлетали теперь, словно кнопки. Погон уродливо изогнулся и начал отрываться от левых поручней. Я приготовился обрезать трос, как вдруг что-то просвистело у меня над головой. Яхта резко вздрогнула и легла на другой галс. Теперь она отклонилась от курса на 180°. Взглянув на океан, я увидел морского дьявола на поверхности, с правого борта. Он в бешенстве вспенивал воду и бил огромными крыльями, подобно раненой птице. «Язычник» метался, как гребная лодочка в бурю. Теперь вся нагрузка приходилась на то место, где погон соединяется с левым бортом. Наступил решительный миг. Я полоснул ножом по туго натянутому тросу. Трос лопнул, и конец его хлестнул меня по лицу. Набежавшая волна накрыла то место, где морской дьявол ушел в глубину. Яхта, освободившись, быстро набирала скорость. Я немедленно спустил грот и принялся чинить искареженный погон и сломанные поручни. Да, день выдался нелегкий. Исправив повреждения, я привел яхту на курс, закрепил румпель, поднял грот, а затем лег на койку – у меня не было сил даже записать события дня в судовой журнал. ***
На другой день Поплавок и Нырушка внесли некоторое разнообразие в мою скучную жизнь. То был один из редких дней, когда на палубе не оказалось ни одной летучей рыбы. Я закинул сеть, но ничего не поймал. Пришлось открыть консервные банки, из которых я выудил шпинат, кукурузные хлопья и консервированные ананасы. Котят это, конечно, совершенно не устраивало. К часу дня, все еще не поймав ни одной рыбешки, я раздумывал, как быть в столь затруднительных обстоятельствах. По морским законам команда всегда должна быть накормлена. К тому же этого требовало моральное состояние экипажа. Он был готов взбунтоваться. Послышались урчание и возня, необычные для моих подопечных. Я кинулся к трапу, откуда доносился шум. В носовой части трюма Поплавок и Нырушка мертвой хваткой когтями и зубами вцепились в нашу пассажирку – Безбилетницу. Крыса, извиваясь и подпрыгивая, пыталась вырваться, но мои отважные львята, с выпущенными когтями, истекая слюной, стремились вцепиться в нее еще крепче. Схватив голодных котят за хвосты, я оторвал их от лакомой добычи. Безбилетница, вся исцарапанная и ободранная, скрылась в своем убежище. Котята искренне возмутились, лишившись своего законного завтрака, и побрели по трюму в поисках съестного. Я от души сочувствовал им и, желая их утешить, стал искать среди своих запасов банку с рыбными консервами. Я осмотрел банок двадцать в ящиках и на леднике, но рыбных консервов не нашел. По списку под правой койкой у меня хранилось восемьдесят шесть банок. К тому времени я съел сто тридцать девять из двухсот сорока восьми банок, имевшихся у меня перед отплытием из Панамы. Осмотрев свои запасы, я вздрогнул. С первого взгляда было ясно, что произошло неладное. Я давно знал, что в узком пространстве под койкой сыро, но мне и в голову не приходило, что эта сырость может так быстро проникнуть внутрь жестянок. Одну за другой брал я в руки раздувшиеся, проржавевшие банки – все они были полны воздухом и перебродившей, пенистой жидкостью. Ни одна из них не годилась в употребление. Первой моей мыслью было повернуть назад и идти против ветра и течения к Маркизским островам. Я быстро осмотрел все продовольствие. Его осталось меньше половины. Не было уже ветчины, грудинки, шпига, сахара, кукурузы, персиков, чернослива, сыра. Овсянки, риса, маргарина, кукурузы, муки, джема и меда осталось от одной до трех четвертей банки. Я насчитал сто пятьдесят галет, нашел банку сушеных яблок, четырехлитровую банку томатного соуса, банку растительного масла, много чая и кофе и двадцать три банки с консервами. Питьевой воды оставалось около пятидесяти галлонов. Поскольку основу моих запасов составляли консервы, потеря продуктов, хранившихся под койкой, была очень чувствительна. Однако я подсчитал, что оставшихся продуктов хватит на сто семь порций. Подсчитал я также, что при благоприятном ветре через сорок дней «Язычник» будет уже в Сиднее. Другого выхода у меня не было: через месяц начинался период штормов. А раз так, нужно было распределить все продовольствие, перейти на двухразовое питание и стараться есть поменьше. В противном случае мне пришлось бы возвращаться к Маркизским островам и пережидать там опасный сезон. На это у меня не было времени, и я решил одолеть расстояние до Сиднея за один большой переход. Через несколько дней яхта пройдет мимо острова Каролайн – одинокого кораллового атолла. Мне пришла в голову мысль пристать к этому островку и пополнить свои запасы кокосовыми орехами. В это время я начал чувствовать едва уловимую перемену погоды. Меня эта перемена не очень беспокоила, так как она не нарушала моих планов, но все же я с тревогой поглядывал на океан. ***
В небе появились тропические птицы с раздвоенными хвостами, над морем снова порхали стайки летучих рыб, за кормой плавали крупные акулы – все говорило о том, что земля близко. И действительно, утром 29 августа земля показалась именно там, откуда и следовало ее ожидать. На восходе солнца до атолла Каролайн оставалось около семи миль, и я повел яхту мимо Южного острова. Справа по борту виднелись низкие скалы, омываемые морем. В лоции сказано, что Южный остров – главный остров крохотного архипелага, в который входит и атолл Каролайн. Здесь живет небольшая группа островитян, на берегу есть пресная вода, а море изобилует рыбой. В 1883 году остров посетила американская экспедиция, наблюдавшая здесь солнечное затмение. Я привел яхту круто к ветру, торопясь поскорее стать на якорь, закончить все дела до наступления темноты и снова продолжать путь. Яхта шла к юго-западной части этого острова. Надев военные брюки и гимнастерку, я впервые после отплытия с Жемчужных островов натянул носки и ботинки, вычесал соль из бороды и волос и снова взялся за румпель. В лоции ничего не было сказано о действующем вулкане, кратер которого дымил, как пароходная труба. Я повернул яхту носом к вулкану и бросил свой самодельный якорь у загороженного рифами входа в бухту. Якорь лег плохо и время от времени волочился по дну. Чтобы удержаться на якоре, мне приходилось то обезветривать, то выносить на ветер кливер и стаксель. «Язычник» остановился недалеко от острова, ловя ветер, дувший с вершины вулкана. За рифами и спокойной лагуной виднелся берег, поросший кокосовыми пальмами. Дальше начинался тропический лес, подступавший к самым горам. От маленькой пристани отчалила парусная лодка. Она пересекла бухту, миновала рифы, вокруг которых бурлила вода, и подошла к яхте; люди, сидевшие в лодке, весело улыбались, я приветствовал их самым дружелюбным образом и предложил пришвартоваться к «Язычнику». На руле сидел старик, кроме него, в лодке была его пожилая жена, двое молодых мужчин, женщина, двое мальчишек, очень озорных с виду, и девочка. Кожа у них была темная, но я уверен, что под загаром скрывался нежный румянец. Эти полинезийцы со смуглой кожей и длинными прямыми волосами чем-то походили на кавказцев. Они не были так приземисты, как представители негритянских народностей, которых я встречал во время войны. Не зная; как ко мне отнестись, они хоть и улыбались, но вели себя сдержанно. Я знаками пригласил их подняться на палубу, предлагая сесть возле рубки и у поручней. Каждого босоногого гостя я встречал сердечным рукопожатием и непринужденным кивком. Мужчины были в набедренных повязках, доходивших до колен; мальчики – совершенно голые. На женщинах были повязки, начинавшиеся на груди. Одежда островитян была очень поношена, материя прорвалась, края ее разлохматились. Мне подумалось, что даже эти куски ткани надеты лишь по случаю моего прибытия. Видно было, что живут они замкнуто и одиноко. Старик не замедлил представиться, назвавшись вождем племени. Он обвел яхту широким движением мозолистой руки и восторженно улыбнулся. Говорил он на одном из диалектов французского языка, мало похожем на тот, который мне доводилось слышать в Алжире или Квебеке во время войны. Мы быстро нашли способ объясняться друг с другом, пользуясь такими простыми словами, как лодка, море, жена, муж, вы, приходить, уходить, Австралия, Америка и т. д. Вождь познакомил меня со своей женой, детьми и внуками. Детишки смотрели на меня с некоторым страхом – должно быть они впервые видели белого человека. Густая белокурая борода, сильно выросшая за время плавания и теперь имевшая дюйма три в длину, напугала их. Волосы мои закрывали уши и свисали до плеч, а спереди падали на глаза. Я старался всем своим поведением показать, что ничем от них не отличаюсь, разве только цветом кожи да теми начатками образования, которые мне посчастливилось получить. Вождь заглянул в каюту и, не увидев там никого, осведомился, где мой экипаж. Нелегко было объяснить ему, как и почему я отправился один в далекое путешествие. С грехом пополам мне это удалось. На мужчин мой рассказ произвел особенно сильное впечатление, но едва ли они поверили, что я сделал это только ради Мэри. В молодости вождь и его жена жили в Папеэте, главном порту острова Таити. Когда началась война, их племя оказалось оторванным от мира. Услышав, что война кончилась, все они радостно закивали, видимо очень довольные, но я уверен, что они понятия не имели, кто с кем воевал. Они не спускали с меня глаз и во всем мне подражали. Если я улыбался, они тоже улыбались, если я слушал вождя с серьезным видом, они следовали моему примеру. Молодые мужчины, судя по виду примерно одного со мной возраста, очень интересовались «Язычником». Они были худые, широкоскулые, со слабыми бицепсами и курчавой растительностью на груди. Островитяне одобрительно трогали тали, блоки и фалы. Я показал им секстан, компас и карманные часы. Часы привели их в восхищение. Обступив меня, они удивленно ахали и охали, когда я поднял крышку и показал сложный часовой механизм. Теперь, увидев, что у меня добрые намерения, островитяне повеселели. Даже мальчишки перестали дичиться меня. За шутками и смехом я забыл о недостатке продуктов и вынес на палубу девять банок с консервами. Когда я начал открывать их ржавым ключом, снова послышались удивленные возгласы. Однако старый вождь с гордостью заявил, что раньше ему уже не раз приходилось есть консервы. Мы с аппетитом закусили, доставая консервы прямо руками. Я съел банку шпината, опасаясь, что он не понравится гостям. Они же уплетали кукурузу и бобы, персики и морковь, свеклу и яблочный соус, томат и спаржу. Руки то и дело погружались в консервные банки. Тем временем один из гостей увидел на мелком дне сквозь прозрачную воду самодельный якорь. Пришлось объяснить, почему мое удобное, современное судно не имеет хорошего якоря. Вдруг поднялся страшный переполох. Мальчики, дрожа от страха и бормоча что-то, выскочили из кокпита и, перемахнув через поручни, прыгнули в лодку. Молодая женщина и девочка, спотыкаясь о наши ноги, с пронзительными криками побежали на нос. Вслед за этим из люка в кокпит вылезли Поплавок и Нырушка, сонно потягиваясь и удивленно глядя на незнакомых людей. Один только старый вождь не испугался безобидных зверьков – оказалось, что все остальные никогда не видели кошки. Через несколько минут гости уже без всякого страха гладили котят, осыпая их ласками, к которым зверьки совсем не привыкли. Я пригласил гостей вниз, чтобы показать им всю яхту. Девять человек с трудом втиснулись в маленькую каюту. Но как приятно было слышать их голоса в помещении, где долгое время царила тишина, нарушаемая лишь моим собственным голосом, когда я разговаривал сам с собой. Мне доставляло удовольствие слушать, как они расхваливают приборы, иллюминаторы, инструменты, фонарь, тюфяк, книги, примус. Я зажег примус, чтобы гости могли полюбоваться его пламенем. Я готов был показать им все что угодно, лишь бы слышать человеческие голоса. Молодая женщина заинтересовалась банками из-под молока, я дал ей одну, и она осталась очень довольна. Один из мальчиков спустился в лодку, принес оттуда большую черную рыбу и положил ее передо мной. Вождь великодушно улыбнулся и сказал, что на берегу у них есть еще много рыбы. Я решил воспользоваться случаем и избавиться от многих ненужных вещей, загромождавших каюту. Прежде всего я пересмотрел свой гардероб. Каждому из мужчин, не исключая и мальчиков, я дал по защитным штанам и по рубашке. Затем вынул из ящика инструменты, без которых мог обойтись в плавании. После этого я спустил в лодку три бачка из-под воды. Вытащив из-под койки всякий ненужный хлам, я велел мальчикам отнести все это на палубу. Кроме того, я отдал им половину своих крючков и блесен. По выражению лиц женщин я понял, что они тоже ожидают подарков. Пошарив в сундучке, я извлек оттуда несколько скатертей, которые моя бабушка вышила для Мэри, и объяснил дамам, что из них они могут сделать сефе отличные платья. Затем я отдал им сигнальные флаги, которыми ни разу не воспользовался,– тоже в качестве материала на платья. Отдал я и две из четырех имевшихся у меня иголок и моток бечевки. Каждая из женщин получила что-нибудь из несессера, купленного для Мэри, но, как и подобает практичным хозяйкам, они гораздо больше обрадовались, когда получили полдюжины банок с крышками. Детям я отдал журналы, книги с картинками и игрушки-головоломки. Я благополучно избавился от хлама, а гости сочли это проявлением великодушия, и наши отношения стали еще сердечнее. Они начали рассказывать о своей жизни на берегу. Пресную воду они собирают с крыш во время дождя или берут ее из источников в кратере вулкана. Едят они плоды таро, манго и хлебного дерева, растущие в глубине острова. Кроме того, разводят свиней и кур и ловят рыбу в лагуне. Я представил себе все однообразие их жизни на маленьком клочке земли, затерянном в огромном океане. При других обстоятельствах я принял бы приглашение моих новых друзей и, несмотря на недостаток времени, отдохнул бы денек-другой в их деревушке. Но якорь плохо держал яхту на быстро мелевшем дне, и она целиком зависела от капризов погоды. Я рассказал об этом своим новым друзьям, и один из сыновей вождя предложил остаться на яхте вместо сторожа. Но я не мог на это согласиться: он был бы так же беспомощен на яхте, как я на их парусной лодчонке. День угасал, солнце клонилось к горизонту, и я сказал вождю, что скоро отправлюсь в путь. По его распоряжению один из мужчин вместе с мальчиком спустился в лодку, и они, ловко миновав рифы, поплыли к берегу. Вскоре лодка вернулась, доставив на яхту пресную воду, плоды дынного и хлебного дерева, таро, полсотни кокосовых орехов, пару цыплят и двух поросят. Я был тронут щедростью островитян, которым нелегко было отдать столько провизии. Мои подарки, состоявшие из совершенно ненужных мне вещей, в сравнении с дарами островитян казались жалкими и ничтожными. Цыплят я временно поместил под койкой, а визжащим поросятам предоставил свободно разгуливать по каюте. Они тут же начали прыгать и скакать. В порыве благодарности я бросил в лодку несколько веревок, кастрюль, сковородок, банку с гвоздями и шурупами, американский флаг и пару ботинок. Эти вещи были приняты с удовольствием, но во взглядах моих друзей была уже не только признательность. Особенно выразительно смотрели на меня малыши. А когда Поплавок и Нырушка, положив передние лапки на поручни, стали глядеть на них широко раскрытыми глазами, дети пригорюнились, не в силах больше скрывать свое желание. Тогда я понял… и мне стало очень грустно. Я не мог представить себе яхту без котят. Они стали не только ее частью, но и как бы частью меня самаго. Но у этих людей была такая тяжелая жизнь! Взяв котят в руки, я передал их в лодку опешившей от счастья девочке. Я представлял себе, сколько радостей доставят эти котята жителям одинокого и заброшенного островка. 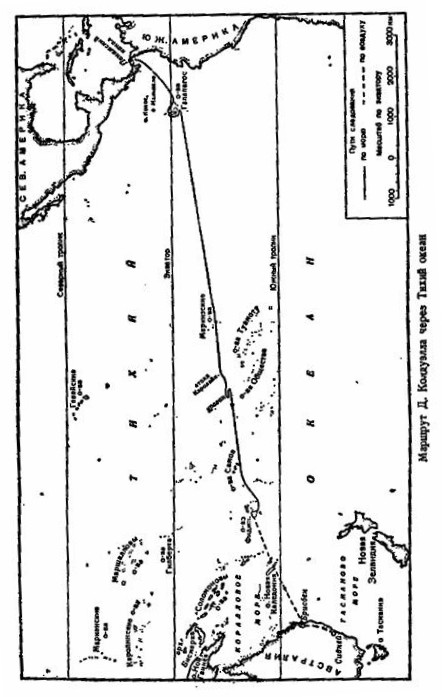
Настало время отправляться в путь и, откровенно говоря, на сердце у меня было тяжело. Я знал, что буду скучать без человеческих голосов, без веселого смеха, без этих добрых сердечных людей. Я с трудом заставил себя покинуть тихий островок, где мог бы так хорошо отдохнуть, и снова вступить в борьбу с океаном. Я уверен, что на моем месте человек, который привык лишь сидеть за письменным столом в конторе, непременно бы остался. Но все же приходилось плыть дальше. Солнце уже почти скрылось за горизонтом. Обменявшись рукопожатиями с новыми друзьями, я погладил по голове детей, с которыми у меня установились особенно теплые отношения. Старый вождь задержал мою руку в своей. Морщины на его лице дрогнули, когда он давал мне последние напутствия относительно погоды, течения и островов на западе. Мужчины были печальны, и я уверен, что они с удовольствием присоединились бы ко мне и остались на яхте. Поплавок и Нырушка нашли на дне лодки рыбу и не замечали, что я собираюсь отплыть. Вот уже последний гость покинул палубу и, держась за ванты, спустился в перегруженную лодку. Я положил руль на ветер и поднял якорь. На мачте взвился грот. Паруса наполнились, и через несколько минут яхта вышла в океан. Я обернулся и послал прощальный привет своим друзьям и котятам. Лодка не двигалась с места; островитяне стояли и махали руками. Потом они исчезли в сумерках, и вдали умолкли их прощальные возгласы. ***
Когда я проснулся на следующее утро, был штиль, первый за месяц с лишним плавания от Галапагоса. Однако вскоре поднялся сильный ветер, и море разыгралось. Сперва я подумал, что это серия шквалов, но к полудню пришлось поставить штормовые паруса, потому что с юга налетел шторм. И все это за один день! Почти все время я пролежал в каюте на койке, обгладывая свиные хрящи: накануне я заколол поросенка. Вечером сломался вертлюг гика и мне пришлось в непогоду проволокой прикручивать гик к мачте. В полночь ветер резко переменился, подул на юго-восток и несколько ослабел. Я поднял все паруса, закрепил румпель и повел яхту на юго-запад. После острова Каролайн скверная, неустойчивая погода преследовала меня так же, как это было по пути к Галапагосу. По утрам налетали шквалы, затем наступало кратковременное затишье. Ветер часто менялся, то слабея, то усиливаясь. Тяжелые, сырые тучи низко нависали над океаном. Такая погода действовала на меня удручающе. Я надеялся развить в этих водах большую скорость, а вместо этого плелся черепашьим шагом. К тому же я очень скучал без котят. В плохую погоду они так уютно устраивались у меня на коленях. Мне не хватало их утренних шалостей, а летучие рыбы казались не такими вкусными, как в то время, когда я делил их с котятами. Я пытался приручить цыплят, но из этого ничего не вышло, и в конце концов мне пришлось их съесть. Оставшийся поросенок пронзительно визжал, когда я предлагал ему дружбу, и вскоре он тоже угодил в кастрюлю. Мы остались вдвоем с Безбилетницей, которая продолжала дичиться меня. Старый Бандит со своей стаей по-прежнему сопровождал яхту, но житейские мелочи дельфинов не интересовали – они занимались только убийством и пожирали свою добычу. Без Увальня, Поплавка и Нырушки жизнь на яхте стала гораздо тоскливее. Я считал, что припасы, взятые на острове Каролайн, вполне обеспечат меня на месяц, до самого конца плавания. Пять дней я ел свинину, свежие овощи и фрукты. Мне хотелось отъесться на этих скоропортящихся продуктах, а потом уже перейти на двухразовую диету. И это было правильно, потому что как раз в то время я стоял на пороге самого тяжелого этапа путешествия. Наступил четверг 5 сентября 1946 года – этот день навсегда сохранится в моей памяти, хотя начало его не предвещало ничего особенного. Когда я проснулся на рассвете, дул слабый южный ветерок. Вблизи яхты прошло четыре шквала, и я, стоя у румпеля, лавировал между ними. Через час после восхода солнца тучи рассеялись, и открылось чистое голубое небо. Казалось, что с минуты на минуту покажется остров Суворова. Я не собирался там останавливаться и хотел только лишний раз убедиться в том, что иду правильным курсом. Несколько раз я взбирался на мачту и глядел вперед, ожидая увидеть на горизонте скалистые берега. В девять часов ветер стих и паруса заполоскали. Почти сейчас же океан всколыхнулся, с севера побежали волны. Мне это странное явление пришлось не по вкусу. Это было дурное предвестие. Очевидно, где-то на севере поднялся сильный ветер. Я вспомнил погоду, стоявшую на прошлой неделе. Просмотрел карты, лоции, припомнил все, что мне рассказывали о штормах. Мне было ясно, что означает северный ветер в этих водах, но я не хотел в этом признаться даже самому себе. К полудню волнение усилилось; с севера, набегая друг на друга, устремились огромные, тускло-серые валы. Яхта плясала на волнах, посуда в камбузе звенела и дребезжала, гик трещал, блоки скрипели. Небо покрылось плотной серой пеленой. Разноголосые стоны «Язычника» терялись в зловещем безмолвии океанских просторов. В три часа стало темно и ветер как будто стих. Океанские валы мчались все быстрее. Они стали выше и, почти смыкаясь, двигались бесконечными рядами. Далеко на севере слышался какойто приглушенный шум. Все паруса, кроме стакселя, были убраны, яхта с оголенной мачтой казалась совсем беспомощной в равнодушном океане. Я прочнее прикрутил гик, выдернул фалы из блоков, убрал с палубы все лишнее, плотно задраил люки и иллюминаторы. Кружки носовых иллюминаторов я приколотил большими гвоздями на случай, если волны захлестнут палубу. Внизу все было приведено в порядок: груз принайтовлен, ящики заполнены доверху и прочно закреплены, спасательный пояс лежал на койке, рядом несколько коротких концов, чтобы в случае необходимости привязаться ими. Выйдя наверх, я сел на крышу рубки и стал ждать, оглядывая горизонт, воду и небо. УРАГАН С севера потянул слабый ветерок, срывая пену с покатых гребней волн, бежавших по океану; чтобы лучше держаться на курсе, я поставил стаксель. В воздухе чувствовалась сырость, предвещавшая дождь. Вскоре вдали появилось большое подвижное облако, и на яхту обрушился шквал, окутав ее плотной пеленой дождя и ветра. Я не уходил с палубы: в глубине души затаился страх, не позволявший мне спуститься в каюту. Я жалел, что у меня нет барометра, при помощи которого можно было бы определить, что происходит. Я подозревал, что меня застиг ураган, но только имея барометр, можно было определить его скорость и направление. Район к северу от островов Кука, где я в то время находился, пользуется недоброй славой – там часто свирепствуют циклоны. И если это действительно был ураган, мне оставалось только отдаться на его волю. Бороться с ним бесполезно. Пожалуй, даже хорошо, что на яхте не было барометра: вид падающей ртути только подтвердил бы мое мрачное предположение. А так я по крайней мере старался не придавать значения несомненным признакам урагана и до последней минуты не терял надежды, что страхи мои напрасны. Руки мои были словно связаны, я ничего не мог сделать, чтобы избежать опасности. При таком ветре и волнении идти под парусами не имело смысла. И кроме того, я не хотел, чтобы ураган застиг меня с поднятыми парусами, а потому свернул, спрятал их и стал ждать, стараясь не обращать внимания на зловещие признаки. Вскоре на яхту один за другим стали налетать шквалы, небо нависло еще ниже, волнение усилилось. Проходили часы, а я продолжал терпеливо сидеть на палубе. Всем сердцем я жаждал узнать, что будет дальше. Я следил за каждым порывом ветра, за движением волн, напрягал память, припоминая все то немногое, что мне было известно об ураганах. ***
Ураган очень похож на те небольшие вихри, которые иногда в летний день проносятся по улицам, но только сила его неизмеримо больше. В центре урагана давление низкое и там царит полное затишье, а по краям оно очень велико. Если барометр падает – значит, судно находится в самом «сердце» урагана. Могучие вихри несутся от краев к центру, и сила их возрастает до предела у границы тихой, внутренней, зоны. Диаметр всей этой системы, где по краям свирепствуют ветры, а в центре полнейший штиль, обычно бывает немногим более трехсот миль. Продолжительность урагана в каждой отдельной точке зависит от его скорости, которая колеблется от пяти до тридцати миль в час. Любопытно, что в северных широтах ураганные ветры вращаются против часовой стрелки, а в южных – наоборот. Кроме того, ближняя к экватору зона бывает менее бурной, а дальняя особенно опасна, ибо циклоны движутся от экватора, сметая все на своем пути. При встрече с ураганом главное – уклониться от его центра. В южных широтах, если поставить судно носом к ветру, центр будет находиться слева. Опасность, угрожающая судну, зависит от движения центра урагана. ***
К вечеру промчались последние шквалы, и я понял, что сбываются мои худшие предположения. Из низких мохнатых туч нескончаемым потоком полил дождь, подул штормовой ветер, который сбивал гребни с волн вокруг меня. Теперь уже не могло быть сомнений в том, что надвигается ураган, оставалось надеяться на милость случая. Убрав якорь в трюм, я привязал его к мачте, затем еще раз осмотрел весь груз и проверил, все ли готово к встрече шторма. Надувную лодку я перенес на корму и привязал там – на всякий случай. Серые зубчатые облака проносились так низко, что, казалось, задевали за верхушку мачты. Ледяной дождь лил не переставая. С севера дул сильный ветер, и то, что вот уже целый час он не менял направление, меня очень тревожило. Подняв штормовой парус, я выбрал шкоты и унес стаксель в трюм. После этого я еще прочнее закрепил румпель. Потом сел на крышу рубки, обхватил рукой мачту и стал глядеть вперед, ожидая, что будет. Вскоре совсем стемнело, и только рокот волн, смутно серевших во мраке, нарушал монотонный шум ветра и дождя. Я спустился вниз, лег на койку и стал ждать, уставившись в потолок. Примерно через час началась беспорядочная качка. Теперь яхта не взлетала плавно на гребень волн, а зарывалась в них носом. Вместо того, чтобы только вздрогнуть под натиском сильной волны, яхта так резко кренилась что я с трудом удерживался на месте. Приходилось хвататься за края койки, чтобы не слететь на пол. Очевидно, я находился в зоне штормовых ветров, у самого края надвигавшегося урагана. Через некоторое время беспорядочные толчки начали сотрясать яхту – это ветер с огромной силой ударял в штормовой парус. Ураган крепчал. Я взглянул на часы и увидел, что скоро восемь. Больше я на часы не смотрел: слишком много было волнений, слишком быстро неслась яхта по океану. Приоткрыв люк, я выглянул наружу. Волны с ревом набегали на яхту и мчались дальше во мрак, преследуемые разъяренным ветром. На миг яхта застывала на месте, потом взлетала на гребень волны и тут же стремительно падала вниз, сильно раскачиваясь из стороны в сторону. Теперь она уже не шла плавно вперед. Нос ее был повернут на пять румбов от ветра, который упорно дул с севера. Поручни левого борта касались воды, наветренная скула подымала брызги, которые окатывали рангоут и падали обратно в море. Ливень все усиливался. Дождь и ветер хлестали в лицо. Судя по тому, что ветер так долго не менялся, ураган шел прямо на меня. Поэтому я предположил, что мне предстоят три фазы: сначала свирепые ветры опасного сектора; потом безветрие в центре, куда со всех сторон сбегаются гигантские волны, тесня и захлестывая друг друга; и, наконец, наименее страшная зона, или «хвост» урагана. Убедившись, что на палубе все в порядке, я закрыл люк и вернулся в каюту. Упираясь рукой в низкий потолок, я осветил фонарем душное помещение. Затем лег на койку и впервые привязал себя. Часа через два яхта затряслась под натиском ветра и волн так сильно, словно началось землетрясение. Очевидно, то был первый вихрь урагана. Через некоторое время, неизвестно в котором часу, яхта круто накренилась, рыскнула в сторону и резко вздрогнула. Развязав веревку, я соскочил с койки и выглянул на палубу. Штормовой парус не выдержал и был разорван в клочки. Пришлось снова выйти на палубу. Я достал самодельный плавучий якорь, который смастерил после отплытия с Галапагоса, и вытравил его на тросе длиной около ста футов. Яхта удачно развернулась к ветру, хотя тяжелые валы с шумом перехлестывали через планширь. Потом я спустился в каюту, опять привязался к койке и лег, прислушиваясь к каждому подозрительному скрипу и стуку, прорывавшемуся сквозь гулкий треск рангоута и рев волн. Я слышал, как вода с плеском перекатывалась по палубе, и каждый раз при особенно громком шуме сразу же настораживался. Больше всего я боялся за корпус яхты. Я научился следить за яхтой по малейшему шороху. За два с лишним месяца, даже во сне прислушиваясь к каждому звуку на судне, я мог теперь сразу сказать, откуда доносится шум и что он означает. Очень тревожили меня шпангоуты – как-никак они служили уже двадцать шесть лет. Лежа в каюте и слушая, как стонет мое суденышко под натиском океана, я не мог поверить, что его обшивка служит уже столько лет. Несмотря на свой почтенный возраст, «Язычник» держался молодцом. Около двух часов ночи я услышал гулкий удар – это лопнула ванта. Она застонала, подобно раненому существу. Я отдраил люк и выглянул наружу. Гигантские валы, подхлестываемые ветром, дыбились с обоих бортов. Ветер, усиливаясь, давил на меня. 
Яхта резко уваливалась. Мачта ее описывала все более широкую дугу: под могучими порывами ветра она наклонялась так сильно, что чуть не касалась гребней волн. Стремительно скатившись с очередной волны, яхта врезалась в следующую, содрогаясь под многотонным грузом зеленоватой воды. А когда нос выныривал на поверхность, по палубе катился целый каскад, низвергавшийся с кормы обратно в океан. Очутившись между двумя волнами, яхта на мгновение оказывалась защищенной от ветра и резко выравнивалась. Потом она снова взлетала на гребень и под напором ветра почти валилась на бок. Я не мог удержаться на ногах. Когда на «Язычник» обрушивались огромные валы, гонимые ураганом, он подскакивал особенно высоко. Нос взлетал вверх, словно подброшенный динамитом, яхта резко кидалась в сторону, волны, захлестывая палубу, тянули ее вниз, а подветренный борт исчезал в океане. Потом яхта стряхивала с себя груз воды и катилась вниз с волны. Лопнувшая ванта – передняя по правому борту – со свистом, как хлыст, рассекала воздух. Она как бы кричала об опасности, грозившей мачте, которая раскачивалась в бушующем мраке, удерживаемая только одной правой вантой. Ветер сорвал у меня с головы вязаную шапочку и унес ее прочь. Вскоре я вымок до нитки. Оглядев бушующий океан, я убедился в полной бесполезности спасательного пояса и тут же снял его. 
Прежде чем выскочить на палубу, я обвязался прочной веревкой, а конец ее привязал к поручням рубки. Выждав, пока вода схлынет, я вылез из люка, захлопнул крышку, побежал на шкафут и растянулся на палубе головой к носу яхты. Ветер цепкими пальцами схватил полу моей рубашки, раздул ее, раздирая ее в клочки и отрывая пуговицы. Напрягая все силы, я удерживался на месте. Встать или хотя бы сесть на таком ветру было немыслимо. Когда я на мгновение поднимал голову, глаза начинали болеть, а волосы били меня по лицу. Еще до урагана я протянул спасательный леер от носа к корме, пропустив его через ванты. Два других леера были протянуты вдоль бортов к румпелю. На этих леерах через каждые два фута были завязаны двойные узлы, за них я теперь хватался каждый раз, как очередной поток воды с шумом прокатывался по палубе. Я подтянулся на несколько футов вперед и тут же уцепился за леер руками и ногами. Когда вода снова схлынула, я передвинул немного вдоль поручня конец, которым обвязался вокруг пояса, и опять продвинулся вперед. Двигался я, конечно, очень медленно. Наконец, я добрался до правых вант и осмотрел повреждение. Оказалось, что ослабел талреп задней ванты. Качания мачты, описывавшей широкую дугу, натянули переднюю, более слабую ванту, уже поврежденную скатом, и она лопнула. Теперь мачту удерживала только одна ванта, которая не была достаточно туго натянута, поскольку развинтился талреп. Нагрузка на нее была огромна, и я знал, что долго она не выдержит. Всякий раз, как корма яхты подымалась, а нос врезался в волну, мачта, казалось, готова была переломиться у основания. Я затянул талреп руками, но этого было недостаточно. Одна ванта не могла удержать мачту. Спасти ее можно было, только сделав отчаянную попытку ослабить талреп штага у форштевня и заложить его за вант-путенс лопнувшей ванты в качестве фальшивой ванты. Когда очередная волна, окатив меня с ног до головы, исчезла за кормой, я приготовился отвязать конец и закрепить его на несколько футов ближе к носу, чтобы потом пробраться к форштевню. Я двигался по палубе медленно и осторожно. В промежутке между двумя волнами я надежно закрепил конец впереди себя. Если бы не этот трос, волны давно смыли бы меня за корму. Последний участок палубы до переднего люка был особенно опасным, так как там некуда было привязать конец и я мог держаться только за леера. Я следил за тем, как волны перехлестывают через поручни, выжидал… потом ринулся вперед. Удача! Волны с недовольным ворчанием окатывали меня, когда я приступил к работе. Я торопливо освободил фока-штаг и, крепко сжимая его конец, скользнул назад к вантам. Лежа на спине, я подставлял ветру только поднятые руки. Я не спешил, тщательно обдумывая каждое свое движение. Наконец все было кончено: «Язычник» вновь обрел все четыре ванты, и я вздохнул с облегчением. Теперь, когда мачта была надежно закреплена, палуба яхты выглядела уже не так мрачно. Но тут я совершил ошибку, едва не стоившую мне жизни. Забыв об урагане, я приподнялся, чтобы полюбоваться делом своих рук. Яростный ветер согнул меня почти пополам, волна с ревом подхватила меня, ударила о рубку, потом о ванты и унесла через поручни в бушующий океан. К счастью, я был обвязан вокруг пояса тросом. Океан вертел и швырял меня во все стороны. Яхта накренилась, а я барахтался в бурлящей пене, крепко стиснув губы, чтобы не захлебнуться. Я все время ударялся о корпус яхты, то погружаясь в воду, то всплывая на поверхность. Одна из волн нависла так круто, что яхта не могла вскарабкаться на нее. «Язычник» резко накренился, высоко задрав наветренный борт. Меня буквально вырвало из воды, и если бы не ветер, я мог бы прогуляться по борту яхты как по полу. Надо мной с журчанием стекала вода. Мое суденышко, очутившись между ветром и волной, нырнуло в воду. Я порадовался тому, что меня не было в эту минуту на яхте, так как волна поглотила ее нос и могучим потоком прокатилась по палубе. Когда океан повлек яхту дальше, я хлебнул немало соленой воды. Я беспорядочно бил по воде руками и ногами, яхта прыгала и кружилась на волнах, казалось, вот-вот она завалится на бок и пойдет ко дну. Через несколько минут отчаянной борьбы с океаном я вконец обессилел. От ударов о корпус у меня гудела голова, соленая вода попала в желудок и легкие, я начинал задыхаться. Не в силах больше бороться за свою жизнь, я перестал сопротивляться, мне все уже было безразлично. Рядом я видел борт яхты и серую громаду волны, но не мог ни добраться до судна, ни уклониться от удара. Я весь обмяк, стал как бы частью моря. Я уже слышал пение сирен. Белый корпус «Язычника» был совсем близко, он высился надо мной как стена. Мне хотелось дотянуться до него и вскарабкаться наверх. Я закрыл глаза, ожидая, что будет. Целая вереница волн обрушилась на борт яхты. Меня ударило о поручни и перебросило через них. Палуба круто накренилась, и я налетел на рубку. Яхта начала подниматься на новую волну. Я сразу понял, что пришло спасение. Помню, как меня рвало соленой водой, как я слабо дергал мокрый узел на поручнях. Потом я скользнул в люк, кое-как задраил его за собой и бессильно повалился на пол в каюте. Я был слишком слаб и измучен, чтобы думать о чем-нибудь. Много часов катался я по полу, ударяясь о койки, когда яхта кренилась то на один, то на другой борт. Потом, собравшись с силами, я залез на койку, обвязался веревками и забылся тяжелым сном. БЕЗ МАЧТЫ Когда я открыл глаза, было уже светло. Проснулся я не потому, что выспался, и не потому, что меня разбудил свет. Даже за двое суток я не мог бы отоспаться, даже мощный прожектор не пробудил бы меня от глубокого сна. Я проснулся потому, что яхта внезапно изменила свое поведение. Теперь она взлетала и падала так резко, как никогда раньше. Она валилась то на один, то на другой борт и поднималась так высоко, что я боялся за киль. Сперва мне показалось, что яхта кувыркается на волнах. Но потолок все время был у меня над головой, и я стал раздумывать о том, что произошло. Больше всего меня поразило, что рев непогоды утих. Когда я впал в забытье, ураганные ветры громко завывали в снастях. Теперь же, кроме плеска воды в трюме, стука на палубе да журчания случайной волны, не было слышно почти ничего, и это показалось мне странным. Сочетание тишины и яростной качки поразило меня. Развязав свои путы, я добрел до люка, натыкаясь на переборки, приоткрыл люк и выглянул на палубу. Я увидел широкую полосу пены и плещущие волны. Но воздух был неподвижен. Громадные пологие валы исчезли бесследно, и вместо них вздымались и опускались отвесные водяные горы. Я понял, что нахожусь в центре урагана – штилевой зоне, вокруг которой свирепствуют жестокие ветры. Тысячи волн, гонимые ветрами, со всех сторон сбегаются сюда, сталкиваясь и захлестывая друг друга. Трудно передать, что это за зрелище. Представьте себе, что вы находитесь на скале, окруженной со всех сторон множеством других скал, и вдруг, словно по команде, они оживают и с остервенением набрасываются друг на друга, как голодные звери. Вокруг, насколько хватал глаз, вздымались целые водяные пирамиды. То тут, тот там их рассекали другие волны, они меняли очертания и разлетались мелкими брызгами. Палуба почти все время была залита водой, плавучий якорь стал ненужен. Яхта вертелась во все стороны, чертя мачтой воду то справа, то слева. Внезапно она взлетала высоко вверх и так же внезапно падала. У меня начался приступ морской болезни. Непрерывная качка и вид волнующегося океана вызвали у меня рвоту. Я больше не мог сдерживаться. Вернувшись в каюту, я снова лег на койку и опутал себя веревками. Нужно было встать, откачать воду из трюма, задраить разбитый люк, но у меня не было сил шевельнуться. Я даже не мог держаться за края койки, когда яхта кренилась, и беспомощно катался из стороны в сторону, удерживаемый от падения веревками. Все утро у меня кружилась голова, а яхта грозила развалиться на части. Я не мог уснуть,– лежал и прислушивался. Меня мучил страх перед тем, что ожидает мое суденышко в этой нескончаемой яростной схватке с океаном. Вскоре после полудня яхта попала во внешнюю зону урагана. Снова в снастях завыл и засвистел ветер. Теперь он дул с юга, и моя койка оказалась у наветренного борта. Старая, видавшая виды дубовая обшивка в какой-нибудь дюйм толщиной отделяла меня от бушующего океана. Почти все время моя койка, наклонившись, висела высоко в воздухе. Вода заливала палубу и просачивалась через поврежденный люк. Она окропляла меня, и мне становилось легче, я меньше страдал от морской болезни. Я все еще был привязан к койке. Движения судна стали плавнее, и тошнота улеглась. Теперь под ветром жестокая качка стала размеренной и привычной. Я слышал, как ветер дико завывает в снастях, чувствовал, как яхта вздрагивает перед каждым скачком. Волны, подхлестываемые ветром, рычали, как стаи волков. Через люк текла вода, поэтому пришлось встать, чтобы заткнуть отверстие старыми брюками. Я понимал, что теперь нужно выйти на палубу и обрезать гика-шкот, который при каждом взлете на волну колотил по корме. Кроме того, нужно было откачать воду из трюма. Но вспомнив, как я чудом спасся от гибели, я решил, что болтающийся гик и вода в трюме чепуха по сравнению с риском, которому я подвергся бы, выйдя на палубу. Я снова лег на мокрую койку, обвязался веревками и стал ждать, напряженно прислушиваясь. Чтобы выдержать ураган на маленьком суденышке, надо иметь крепкие нервы. Больше всего угнетает ощущение полной беспомощности. Ураган – всевластный и безраздельный владыка океана, а судно – его игрушка, скорлупка в бушующей стихии. Есть только один способ выдержать ураган: нужно лечь на спину и привязаться к койке, задраив предварительно все люки и принайтовив все подвижные предметы. Но лежать без дела трудно: все время тревожит мысль о том, что творится на судне. А вдруг где-нибудь образовалась течь или нужно что-нибудь починить? Осматривать судно во время урагана – занятие нелегкое. О том, чтобы выйти на палубу, нечего и думать. И вот долгие мучительные часы я лежал на койке, ждал и пытался на слух определить, что происходит с яхтой. Возраст «Язычника», его шпангоуты и обшивка, не менявшиеся много лет, вызывали у меня серьезные опасения. Слишком стара яхта, чтобы долго бороться с ураганом,– эта мысль не давала мне покоя. Кроме того, я тревожился о резиновой лодке. Перед ураганом я спустил ее на воду, привязав тросом к корме. Выходя в последний раз на палубу, я заметил, как она прыгает по волнам, то и дело скрываясь в пене и брызгах. Но это было во время затишья, когда у меня начался приступ морской болезни. Теперь я мог только надеяться, что лодка цела. Если нет, в случае аварии мне не на чем будет спастись. Я хотел было выйти на палубу и взглянуть на нее, но тут же решил, что риск слишком велик. В конце концов от этого ничего не изменится: если лодка на месте – хорошо, а если нет – значит, так тому и быть. Не знаю, сколько часов я пролежал, привязанный к койке, ожидая, когда ураган начнет стихать. Наступила ночь. Время тянулось медленно. Ураган длился уже около тридцати часов; все так же отчаянно сотрясалась яхта, все так же ревел ветер, бушевал океан, трещал рангоут и плескалась вода в трюме. На рассвете 7 сентября – после двух штормовых дней – произошло несчастье. Впервые я почувствовал, что случилось неладное, когда яхта рыскнула к ветру и не выровнялась. Волны ударяли в борт и перекатывались через палубу. Яхта содрогалась при каждом таком ударе, кренясь сильнее обычного, корпус ее скрипел и трещал. Она металась, словно подталкиваемая чьей-то гиганхской рукой. Да, такое испытание было моему суденышку не по силам. Развязав веревки, я выглянул наружу. Там творилось то же, что и прежде: беснующиеся волны, потоки воды на пдлубе, брызги и пена, ударяющие в лицо, беспорядочные прыжки яхты при каждом порыве ветра или ударе волны. Я сразу понял, что плавучего якоря больше нет,– видимо, трос перетерся о ватерштаг. Я стал искать, чем бы заменить его. Нужно было во что бы то ни стало повернуть яхту к ветру, а это возможно только при помощи плавучего якоря. Изготовить его сейчас, когда «Язычник» носился по волнам, я бы не смог, к тому же на это не было времени – за какой-нибудь час яхта развалилась бы на части. Словно в подтверждение моих мыслей большая волна ударила в борт, сильно накренив яхту. Я решительно взялся за дело. В каюте привязанный к основанию мачты лежал мой заржавленный самодельный якорь. Если поднять его наверх и бросить в воду, он, волочась на цепи за яхтой, заставит ее развернуться носом к ветру. Я решил попытать счастья и стал шарите в темноте. Найдя якорь, я завернул его в кливер и обмотал шкотами. Чтобы он не пошел ко дну, я привязал к лапам свой спасательный пояс и приготовился выбросить якорь через люк в море. Мне страшно не хотелось выходить на палубу, но это было необходимо. С трудом я вытолкнул якорь наружу, выполз вслед за ним, низко пригибаясь от ветра. Столкнув якорь за борт, я крепко держал конец троса и, приподняв голову на уровне комингса, следил за якорем. Теперь трос нужно было закрепить на носу. Выждав, я решительно двинулся вперед. В это мгновение яхта стала боком к волне, которая должна была отшвырнуть ее в сторону. Наветренный фальшборт не особенно привлекал меня, и я бросился к другому борту. Под прикрытием рубки я мог идти пригнувшись, но приходилось глядеть в оба: фальшборт правой стороны был снесен волнами. Если меня смоет за борт, ухватиться будет не за что. Миновав рубку, я очутился на ветру, распластался на палубе и пополз. Трос, обвязанный у меня вокруг пояса, все время был прочно закреплен. Кроме того, я держался за леер, протянутый вдоль палубы. Я опасался, что какая-нибудь большая волна подхватит меня и вынесет за борт, но мне удалось благополучно добраться до форштевня и привязаться к кнехту. Не теряя времени, я соединил трос якоря с цепью и бросился назад под защиту рубки. 
Яхта сильно рыскала по воде. Если якорь будет тормозить движение, судно повернется носом к ветру. Я надеялся, что это произойдет скоро. Но тут налетел могучий порыв ветра, горы воды вздыбились над яхтой. Она резко накренилась, обшивка затрещала так громко, что треск был слышен даже сквозь рев непогоды. В ужасе я бросился вниз. С каждой волной натиск усиливался. На мгновение яхта почти легла на бок и переборка заняла место пола. Темная каюта наполнилась грохотом сорвавшихся с места вещей. Прежде чем в моем маленьком мирке все успело прийти в порядок, яхта вновь содрогнулась. Потом еще и еще.Теперь волны били уже в правый борт, от их ударов яхта повернулась на 180°. Внезапно послышался треск ломающегося дерева, от которого кровь застыла у меня в жилах. Мачта! Наверное, с ней случилось неладное. Я понимал, что означает сломанная мачта в такую непогоду. Спотыкаясь, заковылял я в темноте к трапу. Тяжелый удар обрушился на корму – это набежала очередная волна. И тут неожиданно трюмная дверка исчезла из виду, скрытая какой-то серой пеленой. Целый поток хлынул на меня, и я кубарем покатился в дальний угол по пояс в воде. Передо мной было основание мачты. С одной стороны от него валялись одеяла и матрац, заброшенные сюда волной, с другой – свернутые и увязанные паруса. На колени мне свалился пятнадцатигаллонный бачок с водой, сорвавшийся со своего места; у меня не хватало сил отбросить его прочь. Поток воды швырял его то об основание мачты, то мне в грудь. Когда яхта, взлетев на гребень волны, начала стремительно падать вниз, поток воды сбил меня на дно и накрыл с головой. Еще одна волна обрушилась на корму яхты. Вода снова хлынула через люк, теперь она была уже мне по грудь, при каждом движении судна она переливалась от переборки к переборке. Меня то и дело швыряло на дно. Сидеть становилось все труднее. Внутри яхты разгуливали волны, там было жутко, как в могиле. Вокруг бушевал океан, а я чуть не утонул в собственной каюте. Я решил по крайней мере выбраться на палубу. Лучше уж быть смятым волной, чем задохнуться в трюме, в сотнях миль от берега. Выскользнув из-под размеренно перекатывавшегося бочонка, я начал пробираться к трапу. В каюте царил хаос. Она была залита, почти все мое имущество плавало в воде. Крышки ящиков соскочили, их содержимое вывалилось наружу. Сами ящики, увлекаемые водой, готовы были сорваться с места. Я выбрался из этой слякоти и вскарабкался в мокрый кокпит. Комингсы были снесены, но, лежа на палубе, я все же был защищен от ветрa. Благодаря якорю «Язычник» начал разворачиваться, я чувствовал, как нос его приводится к ветру. Мачта треснула – в этом не могло быть сомнений. Я видел, как она раскачивается на фоне темного неба. Вант-путенсы готовы были выскочить из своих гнезд, слышно было, как мачта бьется, грозя разнести всю палубу. Тяжелая мачта держалась только на вантах и штагах. Надломленная, она в любую минуту могла упасть. Каждый толчок, каждый поворот, каждая волна угрожали существованию моего хрупкого суденышка. Лежа в кокпите, я видел все это и понимал, что остается только одно – обрубить ванты и сбросить мачту в море. Топорик лежал тут же в кокпите. Я пополз, хватаясь за спасательные леера и по мере своего продвижения закрепляя наново конец веревки, обвязанной у меня вокруг пояса. Волны продолжали гулять по палубе, ветер дул с прежней яростью. Лежа на спине, я начал рубить топором то натягивавшиеся, то ослабевавшие проволочные ванты. Вот одна ванта лопнула, и конец ее со свистом скрылся во мраке. Тогда я ударил топором по второй ванте. Она и без того недолго удерживала бы качающуюся мачту. Ванта сразу лопнула, высокая тяжелая мачта повалилась на подветренный борт и плюхнулась в воду. Когда мачта падала, я прижался к палубе и услыхал громкий плеск. Без мачты мое суденышко стало остойчивей, ураганные ветры были ему теперь не так страшны. Оно уже не зарывалось в волну, а, взлетало вместе с ней и не кренилось как раньше. Я пополз вдоль рубки и вернулся в кокпит. В каюте подо мной образовалось настоящее болото. Яхте грозила гибель. Воды в трюме было по щиколотку. Только водонепроницаемые переборки не давали ей затопить нос или корму, когда яхта подымалась или опускалась на волне. Нужно было немедленно откачать воду, пока новые волны не захлестнули яхту. Но как это сделать? Трюмная помпа была установлена на корме, и идти к ней в такой ветер я не решался. Но все же необходимо было что-то предпринять. Оставалось единственное средство – ведро. После долгих поисков в каюте мне удалось, наконец, выловить его из воды, и я взялся за дело. Цепляясь за карлингсы или за комингсы люка, я пытался справиться с непослушным ведром. Я вычерпывал воду в течение нескольких часов, скоро от усталости у меня потемнело в глазах. Но все же я продолжал работать. Легче всего было, стоя посреди каюты, выплескивать воду в кокпит, а когда яхта скатывалась с волны, кокпит опорожнялся через пролом в комингсе. Но когда нос яхты задирался, часть воды снова стекала вниз. Кроме того, передняя стенка рубки была повреждена при падении мачты, и время от времени ее захлестывали волны. Три наветренных иллюминатора были разбиты. Однако, напрягая все силы, я все же одолевал упрямую воду. Я выбивался из сил, морская болезнь снова терзала меня. После долгих часов работы показался, наконец, пол каюты. Теперь можно было заткнуть разбитые иллюминаторы и перенести кое-какие мокрые вещи в надежные места. Затем я снова взялся за ведро и работал до тех пор, пока не вычерпал всю воду. Положив мокрый матрац на койку, я хотел было отдохнуть немного. В это мгновение яхта завертелась, подброшенная огромным валом, и стала кормой к волне. Вода хлынула через борт и с ревом покатилась по палубе, а я вскочил на койку и, держась за палубный бимс, с ужасом смотрел, как вода залила каюту дюймов на десять,– чтобы вычерпать ее, потребовался бы час напряженной работы. Новая волна обрушилась на судно, и воды в каюте прибавилось. Я вылез в залитый водой кокпит, пригибаясь от ветра. Третья волна перехлестнула через борт и едва не увлекла меня обратно в каюту. К счастью, яхта тем временем снова начала приводиться к ветру. Стоять внизу и вычерпывать воду было безопаснее, чем сидеть наверху, где бушевал ветер. Я спустился в затопленную каюту и выудил из воды ведро. Долгие часы я наполнял ведро и выплескивал воду. При этом я механически, молча и равнодушно, выбрасывал все, что подворачивалось под руку. За борт полетели тюфяк, одеяла, инструменты, тарелки, банки с консервами, кокосовые орехи, одежда, бочонки с водой, паруса – все, что мешало мне работать. Я боролся за свою жизнь, стоя почти по пояс в воде и делая все, чтобы облегчить судно. Каждое мгновение яхта могла зарыться носом в волну и затонуть. И я спешил избавиться от груза, пока на яхту не обрушилась эта последняя волна – если ей суждено было обрушиться. Зачерпывая воду, я всякий раз захватывал какую-нибудь вещь. Так я работал, пока не почувствовал, что не в силах поднять даже пустое ведро. Утратив способность соображать и даже надеяться – ведь двое суток я не ел, не пил и не спал,– я свалился на голую койку и мгновенно заснул. Я не в силах был даже привязаться к койке и катался из стороны в сторону, покорный движениям судна. Обессиленный, больной, отупевший, я вынужден был целиком положиться на «Язычника». С той минуты я ничего больше не помню. Не знаю, когда кончился ураган. Может быть, за час до того, как я пришел в сознание, а может быть, за десять часов… за сутки… откуда мне знать? Помню только, что когда я сел на койке, вокруг царила непривычная тишина и яхту качало гораздо меньше, чем все последние дни. Море слегка волновалось. Погода была пасмурная, хмурая, но безветренная. В той стороне, куда умчался ураган, горизонт был темнее, а изменчивый океан уже успокаивался, готовясь встретить ясное небо, синевшее у другого края горизонта. ВРЕМЕННАЯ ОСНАСТКА Оказывается, свалившись на койку во время урагана, я проспал целые сутки. Только один раз за все это время, глубокой ночью, я встал на два часа, чтобы откачать воду, затопившую каюту дюймов на двадцать. Я даже не задумался над тем, как она попала туда. Мне и в голову не пришло, что судно дало течь. И хотя океан к тому времени успокоился, я решил, что вода проникла в каюту через люк. Слишком измученный, чтобы думать, я свалился на сырые доски койки и мгновенно уснул. Меня разбудил громкий плеск воды. Пол каюты был затоплен. Уже рассвело, и я чувствовал себя отдохнувшим. В первый раз после урагана я вышел на палубу, чтобы выкачать воду из трюма и посмотреть, что сталось с яхтой. Стоял мертвый штиль. Лишь легкая зыбь, напоминавшая об ушедшем урагане, покачивала яхту. Ясное голубое небо и спокойная поверхность океана выглядели так мирно, словно никакого урагана и не было и свинцовые волны не швыряли вверх и вниз никем не управляемое судно. Я долго стоял на месте, оглядывая яхту. То, что я увидел, было воплощением хаоса. Яхта, оставшаяся без мачты, казалась голой, и мой «Язычник», со множеством вмятин и царапин, хромающий, точно раненое животное, являл собой печальное зрелище. Я пошел на нос и оттуда оглядел потрепанную палубу. Рангоут и снасти уже не скрипели и не трещали – они были снесены ураганом и волочились за яхтой по воде. Бушприт исчез, снесенный у самого основания, поручни были сорваны, уцелели только обломки стоек. Гик стакселя, тоже исчез. Брезент, аккуратно настланный на палубе, был изорван, передняя часть рубки обрушилась, очевидно от ударов мачты и волн. Особенно дико выглядел расщепленный обломок мачты высотой около фута. Из всех иллюминаторов уцелел только один, остальные были заткнуты чем попало. Комингсы кокпита были сломаны, крышка люка бесследно исчезла. Румпель снова соскочил с места, несмотря на то, что перед ураганом я тщательно закрепил его; на этот раз он, повидимому, был снесен качавшимся гиком. Боканец исчез, вероятно также сбитый гиком. Но самым ярким свидетельством ущерба, нанесенного ураганом, были жалкие остатки такелажа, тащившиеся вслед за яхтой; Они свисали с левого борта, волочились за кормой, словно пучки спутанных волос, обвивали мачту, сломанный гик, бушприт и боканец. Но яхта выдержала ураган, и я был счастлив. Я старался не придавать большого значения поломкам, но то, что я увидел, было мало утешительно. Полузатонувшая надувная лодка по-прежнему тащилась за кормой; позднее я обнаружил, что в одном месте резина была пропорота, очевидно гиком. В трюме царил ужасный хаос, такое беспорядочное смешение различных вещей, залитых мутной водой, мог создать только бушующий океан. Это было ужасное зрелище: образовалось целое болото, с которым не справился бы большой отряд уборщиц. Инструменты, одежда, банки, куски троса, исковерканные приборы, лоскутья постельного белья, обувь и щепки – все было свалено в общую кучу. Океан был спокоен; когда я оглядел его, он показался мне даже более спокойным, чем в самые тихие дни плавания. Важнее всего было как можно скорее поднять паруса. Но тут я почувствовал сильный голод. Трое суток во рту у меня не было ни крошки. Я извлек из хлама банку помидоров и кокосовый орех, открыл банку топориком и с жадностью проглотил помидоры. Потом стал искать пресную воду. Вскоре выяснилось, что из всех бочонков во время урагана повылетали затычки, и вода либо вытекла, либо загрязнилась. Уцелел лишь принайтовленный у правого борта бочонок с «неприкосновенным запасом» в четыре галлона. Больше пресной воды не осталось. Я отпил порядочный глоток и задумался. Этой воды вместе с кокосовыми орехами и другими жидкими продуктами, которые я надеялся отыскать в каюте, мне во что бы то ни стало должно хватить до островов Самоа. Поднявшись на палубу, я начал приводить в порядок такелаж. Я считал, что сейчас это самое главное. Потом, когда яхта снова поплывет под парусами, у меня будет время навести порядок внизу, осмотреть запасы продовольствия и определить свои координаты. В последний раз я определялся перед самым ураганом и теперь примерно подсчитал, что яхта находится в пустынных водах Тихого океана, где-то между островами Кука и Самоа. Этого пока было достаточно. Точное свое местонахождение я установлю, когда найду все навигационные инструменты. Еще до восхода солнца мне удалось втащить мачту на борт и наклонно закрепить ее на юте. Я надеялся добраться так до Самоа, а там уже установить ее на место и плыть дальше. Громоздкая мачта весила несколько сот фунтов, и мне не под силу было поставить ее на место. Я хотел было отпилить и выбросить верхний конец, но и оставшийся столб длиной в двадцать пять футов был бы слишком тяжел для меня. Я стал лихорадочно отыскивать среди остатков рангоута что-нибудь, чем можно было бы заменить мачту. После урагана уцелела большая половина гика. Я выудил его из воды и поставил в качестве укороченной мачты. В длину он имел не более пятнадцати футов, но ничего другого у меня не было. Тут мне пришла в голову мысль оснастить «Язычник» как иол. Вообще-то иол мало чем отличается от тендера, за исключением того, что его короткая бизань-мачта расположена почти у самого румпеля, позади него. При таком вооружении яхта приобретет хорошую парусность и управлять ею будет легко. Я отыскал сломанный бушприт и установил больший его обломок на место, но без ватерштага. Переднюю сторону основания бывшей мачты и конец гика я затесал, после чего скрепил их двумя большими болтами и прочным тросом. В палубе, у самого основания мачты, я просверлил отверстие и загнал в него конец новой мачты. Обрубив ванты топориком, я использовал их для нового стоячего такелажа и натянул ванты и штаги при помощи талрепов, заложенных за вант-путенсы. Таким образом, обломок гика превратился в мачту длиной в пятнадцать футов, на которой можно было поднять трисель на высоте десяти футов. К полудню на яхте появился такелаж, способный нести грот, стаксель и кливер. В это самое время на яхте обнаружилась течь. На рассвете я выкачал воду из трюма, а теперь днище его вновь было залито. Я снова откачал воду и спустился вниз. Целый час искал я пробоину, обшаривая заваленное багажом днище и форпик, и, наконец, пришел к выводу, что пробоина где-то под цементными заплатами, там, куда мне не добраться. Оставалось одно: каждый час откачивать воду и надеяться, что течь не будет увеличиваться Весь день я кроил и шил маленькие паруса из порваннс грота. Для грот-мачты я изготовил трисель высотой в десять и шириной в семь футов. Я поднял его при помощи блоков и закрепил за погон стакселя. Дюймовый трос, обкрученный вокруг мачты, заменял сегарсы, к которым я пришил переднюю шкаторину паруса. Этот парус снизу крепился к веслу, приспособленному вместо гика. Время от времени я становился к помпе и откачивал галлонов двенадцать воды, просачивавшейся в трюм за час. Работая я внимательно осматривал горизонт, надеясь увидеть какое-нибудь судно. Я знал, что мне скоро станет тяжело откачивать воду каждый час, но, так как, по моим расчетам, до Самоа оставалось каких-нибудь 400 миль – если только ураган не занес меня слишком далеко,– я решил, что это не так уже страшно. Стаксель и кливер были гораздо меньше грота и, наполнившись ветром, походили на две белые подушки. Стаксель я прикрепил к вант-путенсу, а кливер – к битенгу. К вечеру яхта шла уже под тремя парусами. За кормой время от времени показывались пузыри. Ориентируясь по звездам, я закрепил обломок румпеля так, чтобы судно шло прямо на запад. Компас мне пока не удалось найти, но это меня не беспокоило, так как я знал, что он валяется где-нибудь среди хлама в каюте. Гораздо важнее было поднять все паруса и плыть вперед. Вскоре совсем стемнело. Я подошел к помпе и, качнув ее сотню раз, быстро осушил трюм. Потом, порывшись в каюте, извлек банку консервированного горошка и впервые с раннего утра утолил голод – весь день у меня не было свободной минуты. Поужинав, я вышел на палубу. Наступила ночь. Несколько часов просидел я на крыше рубки с фонарем в руках, вглядываясь в океан, готовый в любую секунду подать сигнал бедствия. Поздно ночью я лег в постель – если только это можно было назвать постелью. Спал я на голых досках, завернувшись в единственное одеяло, которое я не выбросил во время урагана. Я рассматривал это как временное неудобство: нужно было потерпеть, пока яхта не достигнет Самоа. Рассвет снова застал меня за работой на свежем воздухе. Я сооружал из второго весла какое-то подобие бизань-мачты. Палка от швабры заменила гик. Чтобы закрепить это новое сооружение, пришлось починить разбитый боканец. Снасти я изготовил из тросов и закрепил ванты и гика-топенант через топовый узел, прибитый к концу мачты. Бизань была установлена на корме, проходила сквозь палубу и концом была прикреплена к ахтерштевню. К полудню на бизань-мачте был поднят парус. «Язычник» из тендера превратился в иол и при попутном ветре делал около одного узла. Курс я попрежнему держал пока на запад, к Самоа. Теперь нужно было привести в порядок каюту, подсчитать запасы продовольствия и воды, разыскать навигационные инструменты и определить свое местонахождение. Но прежде чем уборка была закончейа, я узнал много неприятного. Это меня так расстроило, что в ту ночь я долго не мог заснуть. Прежде всего выяснилось, что у меня не осталось никаких инструментов, даже компаса. Кроме того, на яхте по сути дела не было продовольствия. И, наконец, весь мой запас пресной воды состоял из четырех галлонов, содержавшихся в «аварийном» бочонке, да одной кварты воды для аккумулятора, обнаруженной в трюме. Я разложил на койке жалкие остатки одежды и пищи – бутылку томатного соуса, две консервные банки без этикеток и кокосовый орех. Вспоминая, с какой лихорадочной поспешностью выливал я во время урагана воду из каюты, я понял, что вместе с водой отправил за борт и все свои запасы продовольствия. В те часы я не сознавал этого, как не сознавал и того, что оставшиеся банки и кувшины, в которых хранились самые необходимые продукты, разбивались и содержимое их смешивалось с морской водой. В те отчаянные минуты у меня не было возможности обдумывать свои действия. Рядом со скудными остатками провизии лежал мой секстан – вернее то, что от него осталось. Еще недавно это был прекрасный точный инструмент, а теперь он превратился в бесформенный кусок металла. Зеркало было разбито вдребезги, зрительная труба исчезла, алидада была изогнута и сплющена так, что ее нельзя было передвинуть. Лимб так пострадал, что нечего было и думать его поправить. Тут же валялись остатки компаса. Стекло было разбито и драгоценный спирт пролит. Части компаса затерялись среди хлама, завалившего каюту, и прибор этот был тем более бесполезен, что он сорвался со своих подвесов, найти которые мне не удалось. В тот день я не мог отыскать ни карт, ни лоций, ни описаний сигнальных огней. Исчез даже судовой журнал, в который я так тщательно все записывал. Эти вещи лежали на полке рядом с моей койкой и были, вероятно, смыты водой. Убирая яхту, я обнаружил внутри серьезные повреждения: ящики, рундуки, камбуз, сточные трубы, трап были сорваны с места. Всюду валялись кучи обломков. Могучий напор воды повредил все, кроме массивной койки. Правда, кое-что ураган все-таки пощадил. В носовую переборку рубки был вделан небольшой продолговатый ящик, который, как ни странно, остался сухим. В нем хранились двадцать картонных коробок с сигаретами, которые я вез в подарок отцу Мэри, спички и карманный хронометр. Сигареты были мне ни к чему, так как я не курю, но хронометру я очень обрадовался. Возле ящика под самым иллюминатором висела книжная полка; на ней я обнаружил грязное месиво из размокшей бумаги и покоробившегося картона. Мне стало не по себе. Я попытался вспомнить все то, что необходимо знать моряку, очутившемуся вдали от берегов без вода и пищи. Однажды во время войны мне пришлось плыть на спасательной шлюпке, но то было совсем иное дело. Нас было двадцать человек, и капитан регулярно выдавал нам паек и порцию пресной воды. С нами были офицеры во всем великолепии своих золотых нашивок, которые вселяли в нас бодрость и уверенность. Но главное – мы знали, что нас спасут. Нас искали корабли и самолеты, и мы развлекались, дразня акул и жалея, что нам нечем их кормить. В этот вечер я разработал во всех подробностях жесткий распорядок, который решил соблюдать неукоснительно. Пищу и воду нужно было распределить на порции. Я решил выпивать в сутки пинту воды и съедать по нескольку кусочков пищи, только чтобы не умереть с голоду. Я находился так близко от Самоа, что страдать мне предстояло недолго: две трудные недели, затем порт и подготовка к последнему переходу. Было 9 сентября – пять дней прошло с того дня, когда на яхту обрушился ураган. Я понятия не имел, где находится яхта. Пять дней назад, если мне не изменяла память, я находился на 13°2' южной широты и 162°40' западной долготы. Я приближался тогда к острову Суворова – пустынному, необитаемому коралловому рифу. После долгих размышлений я пришел к выводу, что сейчас яхта находится юго-западнее этого острова, но не настолько близко от него, чтобы пытаться его найти. А раз так, подумал я, надо идти на запад, к Самоа,– это дело верное. По моим предположениям, до Самоа оставалось около четырехсот миль. На всякий случай я увеличил эту цифру до четырехсот пятидесяти, в действительности же до Самоа было более четырехсот восьмидесяти миль. Под парусами я надеялся делать по двадцати пяти миль в сутки. Кроме того, мне помнилось, что на навигационной карте здесь обозначено течение со скоростью до двадцати миль в сутки. Я на всякий случай набавил всего пять миль, и, таким образом, суточная скорость яхты увеличилась до тридцати миль. Простая арифметика подсказывала, что через шестнадцать-восемнадцать дней яхта достигнет Самоа, если, конечно, я нахожусь на широте этих островов. А если нет – яхта минует их и окажется в пустынных западных водах. Ближайший большой архипелаг к юго-западу – острова Фиджи, расположенные в шестистах милях от Самоа. Я решил во что бы то ни стало добраться до Самоа, использовав все возможности судна и не щадя сил. При тех жалких запасах воды и пищи, которыми я располагал, и при малой скорости яхты у меня не было другого выхода. Нужно было вести судно очень внимательно, следить, не появятся ли признаки суши, наблюдать за океаном, беречь каждую крошку пищи и каждую каплю воды. Нужно было поменьше утомляться, работая только у помпы. Чтобы выдержать восемнадцатидневный пост, приходилось беречь силы и энергию, побольше спать и отдыхать. Кроме того, необходимо было пополнять запас провизии – ловить рыбу и морских птиц. Я долго раздумывал, как растянуть на восемнадцать дней мои скудные запасы продуктов. Передо мной лежали две банки консервов, одна бутылка с томатным соусом и кокосовый орех. После целого дня тяжелой работы я был страшно голоден и решил открыть одну из консервных банок. Тем самым я нарушал свой строгий режим, но после трех изнурительных суток мне необходимо было подкрепиться. Быть может, у меня не хватило силы воли – так или иначе я убедил себя, что мне необходимо съесть эти консервы. Открыв жестянку, я обнаружил в ней зеленый горошек. Я вышел на палубу, чтобы пообедать на крыше рубки, поглядывая, не покажутся ли огни какого-нибудь судна. Горошек показался мне изумительно вкусным, я и не подозревал, что он такой сладкий и нежный. Я медленно разжевывал каждую горошину перед тем, как проглотить ее, помятуя совет, который дал когда-то своим страдавшим от голода матросам капитан Блай[7] Ночь была прохладная. Звезды медленно двигались по небу, указывая «Язычнику» путь на запад. Я проверил курс и закрепил румпель. Нос судна был направлен на планету, мерцавшую около созвездия Скорпиона. Когда эта планета скроется за горизонтом, я буду ориентироваться на Южный Крест, оставляя его слева по борту. С юга дул порывистый ветерок. Мачта моя слегка наклонилась. Яхта плыла вперед, делая 30 миль в сутки. Я откачал воду из трюма, в последний раз оглядел горизонт и спустился в каюту. Перед сном я выпил глоток воды. Я решил, что лучший способ сберечь воду – это пить ее только тогда, когда меня будет мучить сильная жажда, медленно, мелкими глотками, и ни в коем случае не расходовать больше одной пинты в сутки. При такой норме мне хватит воды на тридцать два дня. Тщательно заткнув бочонок с драгоценной влагой, я завернулся в одеяло и уснул. ЗАТЕРЯН В ОКЕАНЕ Наутро я первым делом принялся разыскивать медикамент. Я весь был покрыт царапинами и ссадинами, во многих местах кожа была содрана. Мне хотелось залечить раны, прежде чем голод вступит в свои права. Я смазал их мазью и залепил пластырем. Затем я начал обдумывать, как вести яхту дальше. Необходимо было как-то определять ее местонахождение и скорость нз пути к Самоа. Я нарисовал на палубе карту района между Маркизскими островами и Австралией. Острова я нанес по памяти, сознавая, что не могу похвастаться особой точностью. Потом я забил гвоздь в том месте, где, по моим предположениям, находилась яхта, и решил каждый день, продвигаясь на запад, перемещать гвоздь. Так, на второй день плавания под всеми парусами я забил гвоздь несколько юго-западнее острова Суворова. А так как у меня не было календаря, я отмечал прошедшие дни крестиками, которые вырезал перочинным ножом над своей койкой, под иллюминатором. Удочку мне так и не удалось найти, но я разыскал два крючка, кусок лески и пакетик с наживкой – тонкими ломтиками соленого сала. Наживив крючок, я закинул его за корму, обмотав конец лески вокруг мизинца. Впервые после урагана я обнаружил, что Старый Бандит и его прожорливые приятели не покинули меня. Я очень этому обрадовался – теперь у меня был живой запас пищи. Дельфинам долго не удавалось приноровиться к медленному движению яхты. Перед ураганом, когда она плыла быстрее, они могли совершать внезапные налеты на ничего не подозревавших летучих рыб, а сейчас, когда яхта еле двигалась, летучие рыбы издали замечали ее и спасались бегством. Но несмотря на это, верные дельфины продолжали следовать за мной, хотя держались на почтительном расстоянии, опасаясь остроги и не обращая внимания на крючки с наживкой. К счастью, во время урагана погибли не все книги, стоявшие на полке над моей койкой. Уцелело девять книг, и читая их, я мог коротать время до Самоа. Обычно я читал все утро, потом спал, откачивал воду и осматривал горизонт. Никакими другими работами я не занимался. Днем я укрывался от жары в каюте, а к вечеру, когда становилось прохладнее, выходил на палубу подышать свежим воздухом и проверить курс. Попутно я осматривал паруса и временный такелаж. Все как будто было в порядке. Как-то я вспомнил, что купание в морской воде освежает и облегчает жажду. Кожа впитывает влагу, и человек чувствует себя лучше. Держась за корму, я погрузился по горло в прохладную воду, мягко ласкавшую тело, и почувствовал облегчение, через десять минут я взобрался на палубу и обсушился на солнце. С самого утра я ничего не ел, у меня даже живот разболелся от голода. Чтобы заглушить его, я решил откупорить бутылку с томатным соусом и сделать несколько глотков. Отвинтив пробку, я отпил немного, затем закрыл бутылку и поставил ее у переборки. Но я не мог отвести от нее взгляда и чувствовал, как рот у меня наполняется слюной. Тогда я спрятал бутылку под койку. До вечера мне не удалось поймать ни одной рыбы. Вытащив крючок, я откачал воду из трюма и лег спать. В раздое время суток я поступал по-разному. Днем становился к помпе каждый час, попутно оглядывая горизонт. Ночью подходил к ней, когда меня будил плеск прибывающей воды. На заре, проснувшись от голода, я сразу же потянулся к бутылке с томатным соусом. Она была пуста. Я смутно припомнил, что ночью достал ее, сделал один глоток… но больше ничего не помнил. Должно быть, глоток был слишком велик, и, как ни печально, соуса не осталось ни капли. Я не стал особенно расстраиваться и вместо завтрака выпил немного воды. Потом я поспешил закинуть крючок. Сидя на койке, я читал, подергивая лесу, конец которой был обвязан вокруг мизинца. Мысли то и дело возвращались к последней банке с консервами и кокосовому ореху. Я пробовал отгадать, какие консервы в этой банке, и чем больше думал об этом, тем сильнее мне хотелось есть. Муки голода терзали меня все утро. В конце концов я решил: «Зачем голодать, когда на яхте есть пища?» Схватив топорик, я открыл банку: там оказалась кислая капуста, и я с жадностью набросился на нее. Поедая капусту, я все время думал: «Как глупо голодать, когда на яхте есть пища». Кокосовый орех лежал в ногах койки. Я по-прежнему был голоден и ощущал спазмы в желудке. Пришлось отодвинуть кокосовый орех подальше, однако мысль о нем непрерывно преследовала меня. Тогда я взял его, обнюхал, потряс, услышал, как внутри аппетитно плещется молоко, затем снова спрятал орех. Я как будто ощущал на языке вкус нежной, сладкой мякоти. Тогда я вышел на палубу, но вскоре вернулся, решив, что на солнце слишком жарко. 
Достав орех, я долго глядел на него, повторяя себе: «Не ешь, будь благоразумен».– «К черту благоразумие,– возражал я сам себе.– Будь я благоразумен, меня бы сейчас здесь не было».– «Это все, что тебе остается на восемнадцать дней плавания».– «Ну и пусть». Через десять минут я дожевывал последние кусочки превосходной сочной мякоти. Все мои планы распределения пищи рухнули. Но какое это имело значение – я был сыт и доволен. Мне не о чем было беспокоиться. Раз еды не осталось, значит, так уж мне на роду написано. Лучше съесть все сразу и успокоиться, чем дрожать над каждым кусочком. Настроение поднялось. «Завтра непременно поймаю рыбу»,– решил я. Поднявшись на палубу, я стал греться в лучах нежаркого предвечернего солнца. Потом слез за корму и освежился в прохладной воде. Обсохнув, спустился в каюту и читал до темноты. В семь часов в последний раз откачал воду из трюма, выпил несколько глотков воды и лег спать. Весь следующий день я с напряженным вниманием следил за леской. Наступил полдень. Я выпил немного воды, которая показалась мне удивительно вкусной. С наступлением темноты пошел к помпе, откачал воду, спустился вниз и «пообедал» несколькими глотками воды. Меня охватило отвращение ко всему, я даже поленился вытащить крючок из воды – леска, пропущенная через люк и по-прежнему привязанная к моему мизинцу, тащилась за кормой. Посреди ночи я проснулся оттого, что палец мой как-то странно дергался. Я мигом сообразил, что на крючок что-то попалось, и бросился на палубу, на бегу выбирая леску. Уже через минуту на палубе лежала полумертвая рыба, медленно шевеля жабрами. Вдруг она подпрыгнула, перескочила через борт, на котором не было поручней, шлепнулась в воду и уплыла прочь. Я был ошеломлен. Осветив фонарем черную воду, я ничего не увидел. От волнения я почувствовал сильный голод, а внезапное разочарование вызвало тошноту. Я осыпал себя бранью и проклятиями, пока не сообразил, что только зря растрачиваю силы. Вернувшись в каюту, я забылся тяжелым сном и проспал до зари. Утром я насадил на крючок новую наживку. Прежнюю я, конечно, съел. Этот кусочек свиного сала, особым образом обработанный, был жесткий, соленый и имел какой-то металлический привкус. Но мне он показался восхитительным. Сало вызвало отделение желудочного сока, и вскоре муки голода снова начали терзать меня. Целые часы просидел я глядя на пакет, не позволяя себе притронуться к наживке и стараясь заглушить пустоту в желудке. Но я знал, что не успокоюсь, пока на борту есть хоть крошка съестного, и решил взять один самый тоненький кусочек. «Только пососу его»,– сказал я себе. А к полудню в пакете осталась одна-единственная полоска сала. Опять я сидел и смотрел на нее. Она казалась мне очень соблазнительной, и, отложив пакет в сторону, я постарался думать о другом. Но вскоре я снова бросил жадный взгляд на кусочек сала. Как наживка он для меня драгоценен, но ведь может случиться, что рыба схватит ее и ускользнет, тогда я останусь и без рыбы и без сала. Судьба этого кусочка выросла в серьезнейшую проблему, я тщательно взвешивал все «за» и «против». Потом, сказав себе: «Лучше синица в руках…», решительно положил наживку на язык и с наслаждением принялся ее сосать. Проблема была решена. После этого я сразу успокоился. Зная, что больше нечего есть, я спустился вниз, лег на койку, попробовал читать, затем отложил книгу и стал думать о том, как хорошо мне будет на Самоа. Главное – вода, а не пища; это я усвоил твердо. Если я смогу выпивать по нескольку глотков воды в день, то дотяну до Самоа. Воду я очень берег, зная, что от этого зависит моя жизнь. Ни разу не выпил я больше одной пинты в сутки, распределяя ее равномерно на все время. Иное дело еда… с ней я расправился мгновенно. Я считал себя очень здоровым человеком, и мне казалось, что я смогу выдержать любые трудности. Обходиться некоторое время без пищи – далеко не самое тяжелое испытание для человеческого организма. Поэтому я не очень огорчался при мысли о том, что моя поспешность повлечет за собой некоторые лишения. Меня поддерживала мысль, что через две недели я буду на Самоа. Вскоре я снова поймал рыбу. Почувствовав, что леска дергается, я побежал на палубу, мучимый внезапным приступом голода. Втащив рыбу на корму, я швырнул ее в кокпит. Не успела она хватить воздуха, как я был около нее. Я навалился на рыбу грудью, придавив ее всей своей тяжестью. Потом осторожно приподнявшись, схватил ее обеими руками. Я ощущал то же самое, что, должно быть, ощущает лев, вцепившийся когтями в тело жертвы. Рыба глядела на меня остекленевшим глазом. Сильным ударом я добил ее. Я отнес добычу вниз, и через пять минут после того, как рыба попалась на крючок, она была уже вымыта и вычищена. Когда я выпотрошил ее, она показалась мне очень маленькой – это был обыкновенный темно-коричневый спиннорог дюймов восьми в длину и четырех в ширину. Голова составляла примерно треть туловища. Я достал из-под койки свой маленький примус, который, как это ни странно, сразу же загорелся, и соскоблил ржавчину с котелка. Я не знал, как приготовить рыбу. Нельзя было расходовать на это пресную воду, а если варить ее в соленой, она вызовет жажду. Никакого жира на яхте не было, но тут я вспомнил, что в аптечке лежит баночка с вазелином. Высушив рыбу, я густо смазал ее вазелином и бросил на горячую сковороду. Когда она зашипела в туче пара, я перевернул ее на другой бок. Через некоторое время рыба подрумянилась и стала мягкой, я погасил примус и схватил ее прямо руками. Вскоре лишь несколько обглоданных косточек осталось от рыбы, двадцать минут назад игравшей и резвившейся в океане. Следующий день не принес никаких перемен, только южный ветер сменился юго-восточным. Леска с крючком по-прежнему тащилась за кормой, но наживки не было. Голод жестоко терзал мой желудок. Вазелин я берег на тот случай, если попадется еще одна рыба. Но вечером, когда голод стал нестерпимым, я пальцем очистил баночку и вылизал ее досуха. Едва ли вазелин был хоть сколько-нибудь питателен, но так или иначе он заглушил голод. Утром мне очень хотелось есть, всю ночь мне снились пиршества и праздничные обеды. Утренняя порция воды лишь раздразнила меня. Я подошел к аптечке и, не подумав, съел единственную баночку мази. А днем, когда муки голода стали невыносимыми, я выжал в рот один из двух тюбиков с борной кислотой. Второй тюбик и коробку с зубным порошком я приберег на следующий день. До самого вечера я перелистывал единственный уцелевший журнал, и на каждой странице что-нибудь напоминало мне о еде. Огромные объявления рекламировали пищу самым соблазнительным образом: аппетитные ростбифы и салаты, бутерброды и сладости, жаркое и коктейли. У меня начались голодные спазмы. Каждая страница причиняла мне новые страдания. Не выдержав, я вскочил и зашвырнул журнал далеко в зеленоватую воду. После этого мне сразу стало легче. На следующий день я развел в воде полкоробки зубного порошка и выпил эту смесь как лекарство. Вкус был довольно приятный, но потом я испытывал рези в желудке. Спустилась ночь, а крючок по-прежнему был пуст. Следующий день сулил некоторые радости. У меня оставалось пол коробки зубного порошка и тюбик борной кислоты. Спать я лег с ощущением острого голода. Ночь была мучительна. До самого утра мне снилась еда. Видения принимали форму шоколадных тортов и бифштексов. Долгие часы я ерзал на койке в полусне, а когда окончательно проснулся, то осознал, что жую одеяло. Спрыгнув с койки, я бросился к аптечке, схватил последний тюбик борной кислоты, выдавил его на руку, проглотил и снова уснул. Наутро я неожиданно вспомнил о Безбилетнице. В последний раз я видел ее перед ураганом и, как ни странно, больше не думал о ней. Маленький домик, который я для нее построил, исчез – вероятно, я выкинул его за борт во время шторма. Я вспомнил крысу такой, какой видел ее в последний раз– гладкую, жирную, с блестящими бусинками глаз. Я сразу оживился при мысли о том, какое великолепное жаркое можно из нее приготовить, и стал внимательно осматривать яхту, заглядывая в каждую щелку. Целыми часами я ползал по самым невероятным местам. К полудню мне все еще не удалось найти никаких следов. Я оторвал всю внутреннюю обшивку и уцелевшие половицы, забрался даже в водонепроницаемый носовой отсек трюма и обшарил его с фонарем. В конце концов пришлось примириться с тем, что моя старая приятельница смыта волной. Но поиски не были безрезультатными – я нашел кое-что нужное: кусок замши, армейский башмак, коробку перцу, губную помаду и баночку с косметическим кремом, которые вез для Мэри, пачку чаю, бутылочку примочки, жидкость для мытья волос и крошечную баночку сушеной рыбьей икры для наживки. Прежде всего я открыл баночку с икрой, чтобы наживить крючок. Сделав это, я хотел снова закрыть ее. Что произошло дальше – объяснить не могу. В одно мгновение я проглотил икру. В руках у меня осталась пустая баночка, а во рту безнадежно слабый вкус драгоценной икры… Но теперь ее не было, и мне не нужно было бороться с искушением. Голод не утихал. Днем, когда я прилег, мне снилась еда. Пришлось встать, спать я не мог. Я собрал свои скудные запасы и начал экспериментировать. Нарезав замшу на мелкие кусочки, я бросил их в крепкий чай и кипятил целых десять минут. Потом густо поперчил похлебку, высыпал туда остатки зубного порошка и плеснул жидкости для мытья волос. Для вкуса добавил пригоршню морской воды и немного машинного масла. Получилось блюдо, от которого глаза слезились и пришлось зажимать нос. Так как замша в свое время служила для процеживания бензина, она придала моей стряпне своеобразный аромат. Я одолел половину похлебки, остальное оставил на завтра. Утром я, как обычно, поднялся наверх по изломанному трапу. Взглянув на корму, застыл как вкопанный. Я увидел морскую птицу. Она сидела и, рассеянно озираясь по сторонам, топорщила перышки хвоста. Птица была жирная, и я готов был вцепиться в нее мертвой хваткой. Мгновенно я превратился в настоящего хищника, преследующего добычу. Я понимал, что не смогу незаметно подкрасться к птице, и поэтому хотел оглушить ее издали какой-нибудь палкой, но мешала бизань-мачта. Тогда мне пришла в голову мысль метнуть в нее острогу, С острогой в руке пробрался я в кокпит и всякий раз, как птица смотрела в сторону, тихонько продвигался вперед. Вот уже нас разделяют только шесть метров, ближе подобраться я не рискнул. Я размахнулся, задержал дыхание, прицелился и метнул острогу. Бросок был точный – острие поразило птицу прямо в грудь. Это была мелкая разновидность крачки, живущая в пустынных районах Тихого океана. Когда я ощипал и вымыл ее, в ней осталось не больше фунта веса. Вазелина уже не было, пришлось зажарить ее на машинном масле. Завтрак получился роскошный. Весь день я с наслаждением вспоминал о нем. Вечером, после того как ни одна рыба не попалась на крючок и ни одна птица не села на палубу, я достал горстку костей, оставшуюся от утреннего пиршества, и тщательно разгрыз и обсосал каждую косточку. На следующее утро я доел свое адское варево. От одного его запаха у меня волосы вставали дыбом. За ночь оно прокисло, но я быстро проглотил его, чтобы не пропала вода, потраченная на его приготовление. К вечеру я почувствовал себя плохо и всю ночь пролежал в лихорадке. К утру вода поднялась до уровня моей койки, и я понял, что нужно сделать над собой усилие и откачать ее, иначе судно скоро пойдет к дну. Я встал и очутился до колен в воде. Есть было нечего. Я выглянул на палубу в надежде снова увидеть какую-нибудь птицу. Но кругом было пустынно, лишь бесчисленные барашки волн разгуливали по океану. Выпив дневную порцию воды, я почувствовал себя бодрее. Больше часа я простоял у помпы, откачивая воду из трюма. Солнце палило немилосердно, я обливался потом, теряя драгоценную влагу. Спустившись в воду, я искупался в ласковой струе за кормой. Это меня освежило, и я вернулся на палубу, восстановив силы. Потом я закончил опостылевшую работу. Она так меня измотала, что я спустился вниз и лег. Проспав несколько часов, я проснулся от мучительного голода. У меня остался только крем для лица, бриллиантин, примочка, губная помада и башмаки. Я перебирал все эти вещи, размышляя о том, как лучше использовать свое богатство. Откусив кусочек губной помады, я нашел ее довольно приятной на вкус. Тогда я вынул ее, разломил на двое и проглотил оба куска. Однако голод продолжал мучить меня. Тогда я открыл баночку с кремом и, даже не пробуя, проглотил эту маслянистую массу. Во рту долго сохранялся неприятный привкус, меня слегка тошнило, но голодные спазмы в желудке на время прекратились, и я успокоился. Проспав все утро, я встал после полудня, чтобы откачать воду. Результаты голодовки уже начинали сказываться. Я с трудом качал помпу, меня клонило ко сну, появилась общая слабость, головокружение. Я заметно исхудал, руки стали тоньше, проступили ребра, колени плохо гнулись. Талия моя с каждым днем становилась все стройнее, я никогда не думал, что она может быть такой изящной. Я думал только о еде, грезил о ней во сне и наяву. Я вспоминал об обедах, на которых мне некогда довелось сытно поесть, и мечтал о том, как буду часами сидеть за уставленным яствами столом. Откачивая воду, я обратил внимание на плеск за кормой в резиновой лодке. Дно ее было залито водой, оттуда-то и доносился шум. Присмотревшись внимательнее, я увидел, что какая-то рыба попала в лодку и бьется там в маленькой лужице. Это была летучая рыба, очень аппетитная с виду. Должно быть, она случайно залетела в лодку и теперь не могла оттуда выбраться, а только беспомощно трепыхалась. В длину она была около восьми дюймов. Взяв рыбу в руки, я любовался ее чудесной окраской и думал о том, как вкусна будет эта рыба, если зажарить ее на машинном масле. «Но сначала,– подумал я,– пожую ее хвост». Я откусил хвост и с хрустом начал жевать его вместе с костями. Это было изумительно вкусно. Прежде чем я опомнился, вся рыба была съедена и я вытаскивал из зубов застрявшие там чешуйки. Помню только, что когда я дошел до середины рыбы, она показалась мне немного горьковатой. Свежая еда привела меня в превосходное настроение. Я приободрился и ожидал, что с минуты на минуту покажется земля. По моим расчетам, я находился очень близко от Самоа – вот-вот должны были показаться острова Мануа. Может быть, ночью их очертания появятся прямо по курсу. Я решил почаще выходить на палубу, откачивать воду и смотреть, не покажутся ли острова. Ночью я действительно вставал часто, но туманный, унылый горизонт по-прежнему был пуст. Рассвет застал меня на палубе. Пристально вглядывался я вперед, затем вскарабкался на мачту, но тут же соскользнул вниз, так как непрочная мачта затрещала под моей тяжестью. Горизонт ничем меня не порадовал, зато порадовал океан. Под самой кормой я увидел трех спиннорогов и решил, что это вестники близкой земли. Я вытащил острогу и начал охотиться. Встав на колени, я прицелился и ударил острогой по воде. Первый удар не попал в цель. Я бил снова и снова, но скоро понял, что попасть в такую маленькую мишень очень трудно. В конце концов я задел одну из рыб, она бросилась в сторону и скрылась из виду. Остальные две рыбы стали осторожнее и укрылись под килем. Чтобы выманить их оттуда, я бросив в воду щепки, и рыбы, заинтересовавшись, подплыли к ним. Перегнувшись через корму, я попытался пронзить их острогой в тот миг, когда они выплывали из-под киля, и еще раз, когда они возвращались назад. При этом я задел вторую рыбу, и она тоже скрылась в глубине. Я понял, что заполучу третью только в том случае, если сделаю острогу с несколькими зубцами. Спускались сумерки. Я был измучен и страшно голоден. Есть было нечего, кроме примочки, бриллиантина да армейских башмаков. Но я еще не дошел до такого состояния, чтобы жевать башмаки, а поэтому, в последний раз оглядев океан, откачал воду, спустился в каюту и лег натощак. Слишком тяжел был день, чтобы я мог спать спокойно. Мне все время снилась еда: сосиски, бифштексы, колбасы, шоколадные торты вихрем вертелись в моем воображении, я стонал и метался на койке. Под утро мне приснилось, что я жую жирного цыпленка и прошу принести мне вторую порцию. Проснувшись, я обнаружил, что сижу на койке и во все горло кричу, требуя цыпленка. Пол каюты был залит водой больше чем на фут. Снаружи слышался непрерывный плеск волн, лизавших обшивку яхты. Я поднялся на палубу и целый час откачивал воду. Чуть свет я проснулся от резей в желудке. Больше я не мог уснуть, меня все время мучила мысль об остроге, которую я должен сделать. Вскоре я встал и приступил к работе. Для этой цели я использовал одно из весел, подаренных мне жителями Жемчужных островов. Я отпилил лопасть весла в футе от его конца, потом забил в лопасть по самую шляпку четыре гвоздя, выровнял их концы так, что они образовали подобие зубцов, и приладил лопасть перпендикулярно к веслу – острога была готова. На рассвете я уже сидел на корме, подкарауливая свою жертву. Спиннорог лениво кружился около яхты, слегка поводя плавниками. Вскоре он выплыл на поверхность, греясь в лучах восходящего солнца. Первый мой удар не попал в цель, рыба повернулась, не понимая, в чем дело, и подставила мне бок. Тут уж промахнуться было невозможно. Вскоре спиннорог уже жарился на примусе, от сковороды поднимался густой черный дым… Поскольку все машинное масло было израсходовано на птицу, рыбу пришлось жарить на бриллиантине. Съел я ее так быстро, что мне было совершенно безразлично, на чем она поджарена. Съел целиком – с головой, плавниками, чешуей, на этот раз не осталось даже костей. У меня появилось твердое убеждение: когда есть пища, надо с ней расправиться, когда нет – стараться не думать о ней. После еды на душе у меня сразу стало веселее. Ко мне вернулась уверенность в близости земли – я ожидал увидеть ее около полудня. Об этом говорили многие признаки. Летучие рыбы попадались в таком изобилии, какого я ни разу не видел после урагана, и Старый Бандит со своей шайкой весело охотились за ними. Несколько морских прибрежных птиц парили над прожорливыми дельфинами, кидаясь на летучих рыб. А за кормой в темной воде угрожающе мелькали остроконечные плавники – это плыла стая хищных акул. Целый день я простоял около мачты, следя за каждым облачком. Стало смеркаться, а горизонт по-прежнему был пустынен. При малой скорости яхты я мог не бояться налететь на что-нибудь в темноте. Откачав воду, я пошел спать. В эту ночь меня охватил сильный приступ тоски по дому – нервное возбуждение, которое часто испытывают моряки вблизи земли. Спал я беспокойно, меня все время преследовали кошмары, один раз я проснулся с громким криком «Земля!» и стремглав бросился на палубу, уверенный, что увижу ее. Чуть свет я уже залез на мачту и высматривал парус или очертания суши. Когда рассвело, серой полосы, которая могла бы оказаться землей, не было видно. Над океаном летали те же птицы, что и все последние дни, мне только показалось, что их стало больше. Две птицы особенно заинтересовались яхтой. Они проносились в каком-нибудь десятке футов от кормы, замедляли свой полет, потом описывали плавную дугу и снова возвращались назад. Будь у меня оружие, можно было бы сбить одну из них, когда.они парили в воздухе. Внезапно у меня мелькнула мысль, что лук и стрелы были бы вполне подходящим оружием. Я спустился вниз и после довольно долгих раздумий решил оторвать от рубки одну из дубовых планок. На это ушло около часа. Птицы, продолжая охотиться, по-прежнему проносились над кормой; теперь, когда я ушел с палубы, они пролетали все ближе. Проработав еще час, я распилил планку, обтесал ее топором и обстрогал, превратив в какое-то подобие лука. Сделать стрелы было гораздо легче: я просто отпилил несколько длинных планок от сосновой доски, проволокой прикрутил к концам по гвоздю и решил, что можно обойтись без оперения. Тетивой послужил кусок проволочной ванты. Приладив стрелу к тетиве, я стал ждать удобного момента для выстрела. Стоял я в каюте, намереваясь стрелять через люк. Когда птица оказывалась над моей головой, я пускал стрелу, но все время мимо. При каждом выстреле сердце у меня замирало: мне казалось, что на этот раз я не промахнулся. Птицы стали осторожнее. К полудню я выпустил девять стрел, и фрегаты уже не подлетали так близко к яхте. После множества попыток гвоздей осталось очень немного. Я сделал еще двенадцать стрел и за день расстрелял их все до единой. Голод, усталость и долгие часы нервного возбуждения начинали сказываться. Теперь осталось лишь несколько гвоздей – в крышке переднего люка, куда я забил их, готовясь к урагану. Я вытащил последние гвозди, сделал еще несколько стрел и возобновил охоту на неповоротливых фрегатов. Лук начал дрожать у меня в руках. Неожиданно я попал в цель. Стрела угодила прямо в голову птице – фрегат сразу обмяк и плюхнулся в воду в нескольких футах от борта. Если бы не акульи плавники, я бы бросился вплавь за своей добычей. Я подтянул к корме надувную лодку, прыгнул в нее, подгреб к неподвижному комку перьев. Взбираясь на палубу, я торопливо ощипывал птицу. Второй день подряд у меня была пища, и это сильно подняло мое настроение. Надежды мои вновь ожили: земля непременно покажется завтра утром, в крайнем случае к полудню, а вечером я буду наслаждаться вкусным обедом на морской базе на острове Тутуила. К тому же мне пришла в голову мысль изготовить рогатку, срезав кусок резины с надувной лодки. При помощи этого нехитрого приспособления я смогу подбить гораздо больше птиц, чем стрелами из лука. Впервые за много ночей вместо кошмаров я видел сладкие сны. Наутро, не найдя на горизонте земли, я приступил к изготовлению рогатки. Мне хотелось сбить нескольких птиц, чтобы продержаться еще день, пока не появится земля. В детстве я частенько делал рогатки и теперь легко изготовил это мальчишеское оружие. Вскоре я уже сидел в кокпите, вооруженный рогаткой и пригоршней гаек, свинченных с мотора. Первый мой выстрел оказался неудачным – вероятно, я слишком тщательно целился. Кроме того, крупные фрегаты, в которых легко попасть, исчезли, и теперь над яхтой кружили только быстрые мелкие крачки. К одиннадцати часам я подбил одной из них крыло, но птица села на воду слишком далеко от судна, чтобы плыть к ней на резиновой лодке. Когда я лег на другой галс и попытался подвести к ней яхту, она снялась с места и полетела на восток. Мне не повезло, но вокруг было много других птиц. Позже я подбил еще одну крачку и хотел подобрать ее, но и ей удалось ускользнуть. Около пяти часов я прекратил охоту. Вылив на себя несколько кастрюль морской воды, я откачал воду, осмотрел горизонт и спустился в каюту. Я страшно устал, и настроение у меня было подавленное. Засыпая, я подумал: «Ну что ж, надеюсь, что завтра утром, наконец, покажется земля». Следующий день был хмурый и сумрачный. Высоко над головой летали белые птицы-боцманы с короткими крыльями и длинными, раздвоенными, как у чаек, хвостами. Время от времени они стремительно падали вниз. Раньше их не было, а ведь эти птицы живут на суше. Я не раз встречал их с тех пор, как оставил позади Жемчужные острова, и их появление неизменно предвещало близость земли. Говорят, что птицы-боцманы никогда не теряют землю из виду. Наблюдая за тем, как они, сложив крылья, падают вниз, я воспрянул духом и с надеждой вглядывался вдаль. Земля была где-то близко, и птицы подтверждали это. Я не отрывал от них глаз, часами следил за каждым их движением, но не мог догадаться, в какой стороне находится берег. А на горизонте не было ни пятнышка… Но вот после полудня прямо по курсу показалась какая-то темная точка. Я едва различил ее в дымке. Это была земля, несомненно – земля! Взволнованный, я бросился на нос. Земля после шестнадцати дней голода! Обхватив руками мачту, я громко кричал и пел от радости. Но тут же разочаровался. То, что казалось мне землей, оторвалось от горизонта и медленно поплыло по небосклону, меняя свои очертания и постепенно растворяясь в воздухе. Оказалось, это была случайная тучка, заблудившаяся в безоблачном небе. И все же я не терял надежды, что земля близка. Птицы-боцманы по-прежнему носились над головой, так сказать, «не теряя землю из виду». Дорого я бы дал, чтобы тоже увидеть ее, чтобы знать, в какой она стороне. Она где-то близко. В небе летали глупыши и различные береговые ласточки, а акулы терпеливо следовали за яхтой. Но где же она, долго ли мне еще плыть и в каком направлении? Часами вглядывался я в горизонт, пытаясь проникнуть взором в туманную даль. Прошли все сроки: ведь я должен был увидеть землю два или даже три дня назад. Если верить моим расчетам, она уже где-то позади. Снова и снова проверял я свои приблизительные вычисления: если яхта делает тридцать миль в сутки, архипелаг должен быть очень близко. Гвоздь, который я ежедневно передвигал на запад, очутился в центре островов Самоа. Зарубки над моей койкой насмешливо глядели на меня. Тогда я пересмотрел все расчеты, исходя из двадцати пяти миль в сутки,– и все же яхта должна была находиться ввиду берега… если только этот берег существует. Я решил набраться терпения еще на один день. Серая дымка заволокла солнце. Всю ночь ветер.дул с северовостока. Обычно в этих водах ветер за несколько дней менялся с южного на северо-восточный, потом опять дул с юга, и цикл начинался снова. Теперь, когда солнце скрылось, мне не хотелось идти фордевинд, не зная направления ветра, который мог дуть с юга. Я помнил, что раньше, когда он был с правого борта, яхта плыла на запад. По звездам я определил, что он дует откуда-то с севера. Судя по волнам, ветер не переменился. На всякий случай я убрал все паруса, кроме маленького кливера. Работа утомила меня. Я спустился в каюту, поспал немного и через час снова был на палубе. Высоко в небе по-прежнему парили птицы-боцманы, чье присутствие дразнило и мучило меня. Они-то могли долететь до земли за какой-нибудь час. Я снова начал размышлять о близости берега, о том, как его найти, о вкусных блюдах, которые ждут меня там. У меня заныло в животе, и я постарался отогнать эти мысли. Над яхтой нависли мрачные тучи. Обидно было, что в такой свежий ветер я не мог поднять паруса, уж лучше бы на море был полный штиль. Голод терзал меня все сильнее. На борту было несколько пар обуви, но только на армейских башмаках кожа оказалась некрашеная. С отвращением принялся я за них: пахли они ужасно, но все же это была еда. Отрезав подошву, я стал жевать кожаный язычок, но он оказался слишком жестким. Армейскую обувь делают из крепкой кожи. Я подержал башмаки в соленой воде, время от времени вынимая их оттуда и колотя ими о край койки, чтобы немного «размягчить» их. Смазав кусок кожи бриллиантином, я поджарил его на сковороде, но он только почернел и остался та ким же твердым. В конце концов я сварил весь башмак в своей дневной порции драгоценной пресной воды. Я не стал кипятить его и, кактолько пошел пар, потушил примус. Суп получился вполне съедобный, но кожа по-прежнему оставалась жесткой. Тогда я разрезал ее на куски; их невозможно было разжевать, но зато можно было проглотить целиком. Ложась спать, я уже не чувствовал пустоты в желудке. Никогда не ешьте кожу, если хотите увидеть приятные сны. Долгие часы я метался на койке, мучимый кошмарами: мне все время снилась еда. Я бегал по громадному магазину, буквально заваленному продуктами. Проснувшись в холодном поту, я немедленно засыпал, и все начиналось снова. Поздно ночью, откачивая воду, я увидел звезду Канопус и определил, что ветер дует с юга. Мои предчувствия оправдались: ветер переменил направление. Если бы все это время «Язычник» шел бакштаг правого галса, курс был на северо-восток. Я поднял все паруса, и яхта снова двинулась на запад. Наутро тусклое солнце, то и дело прятавшееся за тяжелые серые тучи, вдруг выглянуло и осветило темную полосу земли впереди судна. Минуту я с подозрением смотрел в ту сторону, пока не уверился, что это в самом деле земля. При виде ее я чуть не сошел с ума. Я прыгал по крыше рубки и заливался смехом, как ребенок. Схватив ведро, бросился на корму и окатился морской водой. Земля быстро приближалась. Вот уже можно различить отдельные долины. Наскоро вытеревшись, я побежал вниз, надел свой костюм защитного цвета, шляпу, ботинки и расчесал бороду. Вернувшись на палубу, я вдруг обнаружил, что земля изменила не только форму, но и местоположение. Увы, то была вовсе не земля, а облако, подымавшееся все выше над горизонтом. Я следил за ним в молчаливом отчаянии. Сердце у меня оборвалось. Если бы не необходимость беречь влагу, я бы расплакался. У меня кончились гайки, и стрелять стало нечем. С мотора были сняты все подходящие части. В трюме лежал балласт – около тысячи фунтов цемента. Я отколол десяток кусочков, но в темноте, ночью, от них было мало толку. Эта ночь была самой тяжелой за все время после урагана. С фонарем в руках я просидел несколько часов в кокпите, рассматривая свою самодельную карту южных морей. По всем расчетам, яхта давно уже прошла Самоа. Ближайшая земля к западу от Самоа – острова Хорн, но точного их местоположения я не знал. К юго-западу от Самоа, на расстоянии примерно 600 миль, находились острова Фиджи – до них нужно было плыть не менее трех недель. Уже два дня во рту у меня не было ничего съедобного. Оставалось два одинаково неприятных выхода: продолжать поиски Самоа или повернуть на юг и плыть к Фиджи. Острова Фиджи найти легче, чем Самоа, так как они разбросаны на большей площади, но вопрос заключался в том, как до них добраться, имея на яхте двухнедельный запас пресной воды при скудной норме – пол пинты в день. Нужно было все как следует обдумать и взвесить. Если мои предположения правильны, я нахожусь северо-восточнее Фиджи. Время поворачивать к югу, иначе яхта минует Фиджи и придется плыть дальше – к Новым Гебридам, расположенным еще в 500 милях западнее. Я долго раздумывал над картой, измерял расстояние, взвешивал все шансы. В конце концов я решил продолжать поиски Самоа еще один день. Спал я в эту ночь отвратительно. Мне снилось, что яхта наскочила на берег и я радовался этому. У берега лежал громадный кит. Я схватил его за хвост и начал пожирать живьем, как летучую рыбу. Очнувшись, я обнаружил, что грызу зубами деревянную койку. Я проснулся как раз вовремя: пора было откачивать воду. На рассвете я был уже на крыше рубки и, стоя возле наполненного ветром кливера, вглядывался в пустынный горизонт. Двадцать первый день яхта шла под временной оснасткой. До самого вечера просидел я на баке. Над головой летали птицы – боцманы, глупыши, крачки, фрегаты; время от времени они стремглав падали вниз и хватали летучих рыб, вспугнутых Старым Бандитом и другими дельфинами. Где-то близко была земля, но где? Я отлучался на корму только чтобы откачать воду. Но день прошел, а поиски были тщетны. Наступили сумерки, потом совсем стемнело, и я сделал единственное, что мне оставалось: пошел на корму и передвинул руль, положив остатки сломанного румпеля на подветренный борт. Яхта вздрогнула, повернулась и устремилась на юг. «Была не была»,– сказал я себе, закрепил румпель, поправил паруса и повел судно новым курсом. С этой минуты положение мое изменилось. Если раньше я утешался тем, что все невзгоды скоро кончатся, то теперь передо мной вырисовывались самые мрачные перспективы. У меня не было никакой уверенности в том, что, плывя на юг, я сумею найти острова Фиджи. Все зависело от тогo, как далеко на запад я продвинулся в поисках Самоа. Я не знал, делает ли судно пятнадцать или тридцать миль в сутки – мне нечем было измерить его скорость. Не знал, в каком направлении и с какой быстротой несет яхту течение. Не знал, смогу ли я выдержать еще три недели голода и лишений. Я не знал, сумею ли провести судно мимо рифов, которые могли оказаться на моем пути,– а острова Фиджи славятся прибрежными рифами. Мне оставалось лишь совершить отчаянный бросок в неизвестность и надеяться на благополучный исход. Больше всего меня беспокоила погода. Как дамоклов меч надо мной нависла угроза свирепого урагана: «Язычник» находился сейчас в зоне циклонов, а период штормов должен начаться со дня на день. Я знал, что яхта не выдержит нового урагана, да у меня уже и не было сил бороться с ветрами и вычерпывать воду. Я старался не думать об этом и сосредоточиться на предстоящем нелегком плавании и на ожидающих меня впереди новых муках голода. Яхта плыла на юг. В первый раз после перемены курса я взялся за тяжелую помпу. Взглянув на мрачную, угрюмую воду, я отметил, что «Язычник» движется медленно, и со вздохом прислушался к голодному урчанию у себя в животе. БЕЗ ПИЩИ Я сидел в кокпите и рассматривал свою карту юго-западной части Тихого океана. Думая о том расстоянии, которое мне предстояло проплыть, я снова и снова взвешивал правильность принятого решения. Над головой все еще летали птицы, и я по-прежнему был уверен, что земля близко, но искать ее в пустынном океане, без пищи, почти без воды, теперь, когда «Язычник» еле двигался, а до следующего архипелага было шестьсот миль, я не мог. Нельзя было терять больше ни одного дня. Длинную цепь островов Фиджи найти легче, чем Самоа. Из двух зол нужно выбирать меньшее. У меня был превосходный ориентир: звезда Сириус, перемещаясь по небу с востока на запад, пересекала цепь островов как раз посередине. Я намеревался плыть на юг до тех пор, пока Сириус не окажется у меня прямо над головой, а затем на запад, пока не увижу землю. Ветер, дувший с траверза, поднял легкую зыбь, время от времени вода перекатывалась через палубу. Я укрылся в темной каюте, Перед вечером я вспомнил о том, что за долгое плавание от Галапагоса подветренный борт яхты оброс каким-то подобием мха. Я бы давно съел его, но боялся расстроить желудок. Поднявшись на палубу, я внимательно рассмотрел этот мох. Он был зеленого цвета – иногда темного, иногда более светлого, и рос в нескольких местах пучками, похожими на клочья волос и достигавшими дюйма в длину. Сорвав целую пригоршню, я выжал из нее соленую воду, сунул травянистую массу в рот, пожевал и проглотил ее. Вкус у нее был как у травы с солью. Голод не уменьшился, зато настроение стало лучше. Я вспомнил, что у меня осталось полбаночки бриллиантина, и отнес мох в каюту. Небольшая примесь жидкости и немного воображения – и мох приобрел вкус салата. Но когда я съел этот «салат», голод продолжал все так же преследовать меня и мне нечем было его заглушить. Кроме водорослей, есть было нечего. Я наскреб еще мха, полил его остатками бриллиантина и проглотил все это месиво. Теперь на яхте не было никакой пищи. Я допил дневную порцию воды, поработал у помпы и лег спать. Проснулся я от невыносимого голода. Мох без бриллиантина был отвратителен, и все же я глотал его до тех пор, пока не притупилось немного ощущение пустоты в желудке. После этого я терпел до полудня, но затем мне стало невмоготу. Я начал искать хоть что-нибудь, что можно было бы засунуть в рот и пожевать,– это принесло бы мне облегчение. Оставалась последняя пара ботинок, но когда я попробовал откусить кусок кожи, мне стало дурно от запаха и вкуса краски. Я достал ремень и начйл внимательно его рассматривать. Этот ремень, выделанный из добротной коровьей кожи, я приобрел еще в детстве и не расставался с ним ни в годы учебы в колледже, ни в годы войны: вместе со мной он перенес четыре кораблекрушения. Воспоминания нахлынули на меня, и я положил ремень на место. Оставался бумажник из кожи кенгуру – подарок отца Мэри. На этот раз голод взял верх над воспоминаниями; переложив содержимое в карманы рубашки, я сварил бумажник, постучал им о койку и разрезал его на куски. Этого мне хватило на сутки. На рассвете следующего дня я сидел на палубе и всматривался в горизонт, ожидая появления первых птиц. Белая морская птичка, взмахивая длинными крыльями, с громким криком появилась неизвестно откуда и начала кружить возле яхты. Я выстрелил в нее кусочком цемента, просто так, без всякой надежды. Каким-то чудом мой заряд попал в цель. В воздух взвилось несколько белых перьев, а птица, как подбитый самолет, упала в воду в каких-нибудь тридцати футах от яхты. Отвязав румпель, я резко положил руль на ветер, яхта повернула и направилась к белому комку. Я быстро подхватил птицу. То, что последовало за этим, до сих пор кажется мне невероятным. От одной мысли о пище я совсем потерял рассудок: когда птица оказалась у меня в руках, я мигом оторвал ей голову и, сунув в рот трепещущий кусок мяса, до капли высосал живительную кровь. Я вел себя как хищник, поймавший добычу, рвал её зубами и ногтями. Высосав всю кровь, я начал жевать тонкую шейку птицы и проглатывал ее вместе с костями. Остановиться я не мог. Я свирепо впивался в птицу зубами, не разбирая что это – перья, мясо или кости. Ни один хрящик не избежал моих зубов, все было перемолото и проглочено. Лапки и голову я съел целиком, вместе с кожей. Клюв крустел у меня на зубах. Я ощипал самые большие перья и стал жевать пух, вязкий, как шерстяное одеяло. Пустота в желудке ваполнилась, голод был обманут. С искренним огорчением я обнаружил, что от птицы ничего не осталось. Когда я закончил свое дикое пиршество, лишь несколько перьев на палубе да пух, застрявший у меня в зубах, напоминали о съеденной птице. Следующие два дня тянулись томительно долго, минуты казались часами. Леса с крючком все время была за кормой, но рыбы по-прежнему обходили его. Водоросли на корпусе яхты быстро исчезали. Несколько раз я стрелял из рогатки по пролетавшим птицам, но руки мои плохо слушались, и кусочки цемента либо не долетали до цели, либо летели мимо. Однажды утром, выйдя на палубу, я вдруг увидел судно. Сначала мне показалось, что это гребная лодка, но, присмотревшись внимательнее, я разглядел трубу, кончики мачт и реи. Корпус был скрыт за горизонтом, судно шло наперерез моей яхте: это был большой транспорт, красиво скользивший по волнам. Я уже рисовал себе радужные картины: встречное судно берет яхту на буксир, отводит ее в Самоа, где меня ждет отдых и пища. Там я ставлю новую мачту, меняю паруса, запасаюсь провиантом и плыву дальше, в Сидней. Судно, видимо, шло в Панаму с островов Фиджи или из Брисбена. Надстройка его смутно вырисовывалась на горизонте, двигалось оно быстро. Хотя до него было не очень далеко, мне не удалось определить ни его водоизмещения, ни национальности. Оно было окрашено в серый защитный цвет. Я ожидал, что вотвот судно изменит курс и повернет ко мне. Взобравшись на шаткую мачту, я начал подавать фонарем сигналы. Мачта затрещала подо мной, и я соскользнул вниз. Тогда я стал поднимать и спускать стаксель. Все это время я кричал как обезумевший. Я знал, что крики мои никто не услышит, но это меня не останавливало. Корабль, красиво скользя по воде, шел прежним курсом. Тогда я вспомнил, что огонь служит у моряков сигналом бедствия. Я помчался вниз, бросил в ведро рубашку, плеснул туда примочки, поджег ее оставшимися у меня спичками и вытащил ведро на бак. Корабль пересек мой курс и стал удаляться. Меня не заметили. Когда я понял это, меня охватило отчаяние. Я прыгал, кричал, размахивал руками, лихорадочно метался по палубе. Побежав на корму, я изменил курс, чтобы не потерять корабль из виду. Широкая серая струя дыма поднималась из ведра футов на двадцать. Вахтенный офицер на судне либо подсчитывал свое жалованье, либо рассказывал рулевому о своих похождениях – ведь только слепой мог не заметить мои сигналы. Я беспомощно глядел вслед кораблю, который превратился в маленькое пятнышко и скоро совсем исчез за горизонтом. Я продолжал плыть на юго-восток, вместо того чтобы снова взять курс на юг. После полудня я увидел на воде пятна нефти, указывавшие на то, что здесь прошел корабль. Я повернул на восток и, лавируя против ветра, поплыл следом за ним. Оставался один шанс из миллиона, что он остановится или повернет назад. Кроме того, я надеялся, что кок выбросит за борт кухонные отбросы. Когда стемнело, я лег на левый галс и повел яхту прежним курсом. Я не очень отчаивался: когда потеряешь направление, все равно куда плыть – земля может оказаться всюду. Я знал, что найду ее рано или поздно, нужно было только терпение. На следующее утро я сделал то, что следовало сделать значительно раньше. На всех парусах с обеих сторон я вывел крупными буквами SOS. Краски у меня не было, и я воспользовался отработанным машинным маслом. То же самое я написал на юте, на крыше рубки и в кокпите на тот случай, если над яхтой пролетит самолет. Пока вокруг виднелись лишь акулы да одинокие птицы, но буквы, хорошо знакомые морякам всего мира, привлекли бы внимание к «Язычнику», если бы поблизости очутилось какое-нибудь судно, а меня бы не было в это время на палубе. Я медленно осмотрел горизонт, откачал воду из трюма и спустился вниз. В тот день я чувствовал себя особенно одиноким. Все девять уцелевших книг я давно уже прочитал и хотел было приняться за них во второй раз, но было скучно читать детективный роман, заранее зная, кто убийца. 
Вскоре дали себя знать последствия голода. Раньше всего я обратил внимание на запястья – кости их выпирали, как мячики для пинг-понга. Сквозь почти прозрачную кожу проступили вены, руки исхудали, грудь впала, все ребра можно было пересчитать, а на месте живота образовалась глубокая впадина. Бедра мои были воспалены, а под одним коленом появился нарыв. Колени торчали как костяные бугры, ноги и руки распухли, стали неуклюжими, и я с трудом ковылял по палубе. К этому времени на корпусе яхты уже не оставалось мха. После тщательных поисков выяснилось, что из съестного на судне сохранились только полпачки чаю и полфлакона примочки. Каждый раз, становясь к помпе, я клал в рот щепотку чаю. Это немного заглушало голод, примочку я берег на тот случай, если кончится вода. На другой день после полудня восточный ветер сменился северо-восточным и на океане засвежело. Это заставило меня насторожиться, и я недоверчиво посматривал на небо. Я вытравил шкоты и долго шел фордевинд со скоростью не менее двух узлов. Но вот ветер стал таким сильным, что грозил перевернуть яхту. Было ясно, что надвигается шторм,– уже сейчас налетали его первые порывы. Я развернул яхту носом к ветру и волнам, закрепил румпель, спустил грот, привязал его к гику и мачте и стал ждать. Яхта спокойно шла под кливером, стакселем и добавочным парусом[8]. Я откачал воду, спустился вниз и, лежа на койке, внимательно следил за тем, как ведет себя «Язычник» перед непогодой. К вечеру, судя по скрипу снастей и крену яхты, ветер достиг штормовой силы. Но пока «Язычник» мог идти под парусами, он двигался легко и плавно. Каждые два часа я откачивал воду и заодно внимательно следил за океаном. Я держал на счастье пальцы крестом, чтобы ветер больше не крепчал. Ведь моя потрепанная яхта не перенесла бы новый ураган, будь даже на ее борту смелый и опытный экипаж. Я с трудом выдерживал нервное и физическое напряжение этих томительных ночных часов. Привязавшись к койке, я настораживался при каждом новом звуке. Вдруг раздался треск – это сломалась маленькая бизань-мачта, я слышал, как она упала за борт. Я поспешил наверх, но когда попробовал выловить ее из воды, понял, как я ослаб. Я сделал десяток бесплодных попыток, но руки совершенно мне не повиновались. В конце концов, ухватившись за шкоты, я подтянул мачту поближе к борту и привязал двойным узлом к корме. После этого усилия я вконец ослабел. Если бы не боязнь быть смытым за борт, не огражденный поручнями, я уснул бы тут же на палубе. На четвереньках я с трудом дополз до кокпита. Я знал, что нужно откачивать воду, но не мог заставить себя подойти к помпе. С трудом спустив ноги в люк, я плюхнулся на шаткую койку. Помню, что я привязался к ней… и погрузился во мрак. Когда я очнулся, воды в каюте было больше, чем когда-либо со времени первого урагана,– первого, ибо теперь я был уверен, что налетит второй. Я весь вымок, одеяло, заменявшее мне тюфяк, стало сырым, как губка. Каюта была полна шумов, какие может производить лишь вода в закрытом помещении. Не знаю, долго ли я спал. Было темно. Яхта прыгала и раскачивалась на волнах. Я решил, что ветер сорвал все паруса и огромные волны, перекатываясь через корму, заливают каюту. Чувство полной обреченности охватило меня, я готов был отказаться от борьбы. Вода то и дело грозила смыть меня с койки, и я знал, что никогда не смогу вычерпать ее. Выйти на палубу и стать к помпе было бы равносильно самоубийству. Оставалось лечь и в страхе ждать конца. Но в минуты полного отчаяния пропадает даже страх. Прижатая к стенке мышь может броситься и на льва. Налетел ураган или нет, а воду из трюма необходимо откачать, иначе яхта пойдет ко дну. Я выпил несколько глотков драгоценной воды и почувствовал, как в меня вливается бодрость. Хватаясь за комингсы, я вгляделся в ночь, и глазам моим представилось удивительное зрелище. Вместо свирепого урагана, какие часто бывают в водах Фиджи, с юга дул мягкий тропический ветер в три балла.Однако океан все еще бушевал – этим и объяснялось странное поведение яхты. Кливер и стаксель были целы, и сломанная бизань-мачта попрежнему тащилась за кормой. В небе мерцали звезды. Лишь утихающий океан напоминал о прошедшем шторме. Я воспрянул духом и взялся за помпу. Перемена ветра вынудила меня закрепить румпель на ночь так, чтобы яхта шла на юго-запад. Нужно было поскорее поставить на место бизань-мачту и поднять на ней парус. Волнение улеглось. Без особого труда я выудил из воды весло, заменявшее мачту, и установил его на прежнем месте. Яхта вновь шла под всеми парусами. Ветер продолжал дуть с юга, а яхта медленно двигалась на юго-запад. Я не лавировал против ветра, хотя мне следовало взять как можно южнее, чтобы Сириус очутился у меня над головой. Сказывались последствия голода. Я вынужден был предоставить яхте идти на юго-запад. Даже то небольшое усилие, которого требовало лавирование, было бы для меня гибельно. Не все ли равно куда плыть, лишь бы добраться до земли, и я решил: «Буду держать на юго-запад!» Пять дней я ничего не ел. Пять дней без пищи… А ведь раньше у меня сосало под ложечкой, стоило только не пообедать вовремя. Должно быть, теперь приостановилось отделение желудочного сока, и кошмары уже не мучали меня по ночам. Но поиски пищи продолжались. Время от времени я стрелял по птицам, но мои силы и рассудок настолько ослабели, что я не попал бы и в стену дома даже в двух шагах. Леса с крючком попрежнему висела за кормой, но Старый Бандит и его друзья презрительно обходили ее. Акулы, которых теперь было уже пять или шесть, обращали на крючок еще меньше внимания. Зато они очень интересовались моим потрепанным суденышком и в особенности моей персоной. Как и прежде, я ориентировался по звездам и солнцу, держа на юг до тех пор, пока Сириус не оказался у меня прямо над головой. Тогда я повернул на запад и начал поиски земли… любой, какая окажется на моем пути. В одно прекрасное утро я вышел на палубу и неожиданно увидел остров. Теперь это не было облако. С первого взгляда я убедился, что передо мной земля. Остров лежал слева по борту. Берег был низкий и длинный. Из кратера вулкана валил темный дым. Очертания берега были расплывчаты, так как небо обложили облака, а порывистый ветер закрыл горизонт туманной дымкой. Я не сомневался в том, что этот цветущий остров обитаем. Теперь я верил, что спасение близко, но решил не торопиться и действовать обдуманно, помня, что у берегов суда гибнут гораздо чаще, чем в открытом море. В океане судно может дрейфовать, и тогда ему почти ничто не угрожает, а подплывая к незнакомому берегу, обходя подводные рифы или преодолевая полосу прибоя, оно легко может разбиться, унося с собой на дно немало человеческих жизней. Другую опасность таят в себе огромные расстояния, которые потерпевшему приходится преодолевать на суше, часто в дикой, кишащей паразитами местности, прежде чем он найдет помощь и пищу. Кроме того, мучимый голодом и жаждой, моряк не должен набрасываться на еду и воду, иначе он рискует умереть, когда спасение уже близко. Вот о чем размышлял я, глядя на густую, темную зелень чудесного острова, который скоро будет принадлежать мне. А еще думал я о том, какое счастье, что у меня снова будет еда. Я представлял себе, как окажусь в роще кокосовых пальм, буду сбивать крупные, зеленые орехи и упиваться их сочной мякотью и прохладным молоком. Мне виделись гроздья бананов, свисающие над самой водой, и я мечтал, утолив голод, отдохнуть в их тени. У меня текли слюнки, и голод терзал меня все сильнее. Я переменил курс, лавируя против ветра, и повел яхту прямо к острову. ЗЕМЛЯ Долго пытался я определить, к какому острову плывет яхта. Склонившись над своей картой и рассматривая нацарапанные в кокпите контуры островов, я по методу исключения решил, что нахожусь у одного из северных островов архипелага Фиджи. Это было довольно смелое предположение, так как, во-первых, я не знал точных координат Фиджи, а во-вторых, смутно представлял себе расположение островов внутри самого архипелага. Конечно, это была всего лишь догадка. Я основывался на примерной скорости яхты, кое-как определив скорость и направление течений. Скорость яхты с временной оснасткой я представлял себе в очень широких пределах – от двадцати до пятидесяти миль в сутки. В конце концов после долгихразмышлений я остановился на тридцати пяти милях. При такой скорости за двадцать один день плавания после урагана яхта прошла на запад около семисот миль, прежде чем я повернул на юг. Если к этому добавить еще сто пятьдесят миль за счет течения и дрейфа на запад (опятьтаки это была чистейшая догадка), то я должен был находиться недалеко от Австралии. При таких обстоятельствах у меня были основания полагать, ориентируясь по своей несуразной карте, что линия, проведенная от точки, расположенной на 850 миль западнее острова Суворова, к югу пересечет западную часть архипелага Фиджи, и что передо мной один из островов этого архипелага. Впоследствии оказалось, что я ошибался. Я решил, что передо мной архипелаг Фиджи, а если это так, то следующая к западу земля – острова Новые Гебриды – находится на расстоянии 600 миль. Нужно было во что бы то ни стало причалить к острову. Еще 600 миль я бы не одолел – ведь на борту осталось полторы кварты пресной воды, течь в трюме увеличивалась и мне все чаще приходилось работать у помпы. Кроме того, я не забывал, что приближается опасный период штормов. До берега оставалось около четырех миль. Я вел яхту так, чтобы выйти к западной оконечности острова. Когда я впервые увидел остров, он был так близко, что я мог разглядеть густые заросли на нижних склонах. Наверно, там есть и манго, и плоды дынного дерева, и свежие сочные ананасы. Голод терзал меня невыносимо, и, чтобы не думать о еде, я решил найти какое-нибудь дело. Я стал готовить якорь, чтобы, когда придет время, бросить его прямо за борт, не огражденный поручнями. На берегу, как мне показалось, росли пальмы, но не было видно ни одной хижины. Я залез на крышу рубки, держась за низкую мачту и раздумывая, где бы бросить якорь. Томительно тянулись часы. Солнце медленно ползло к зениту. Я надеялся бросить якорь или причалить к берегу еще до полудня. и пуститься на поиски пищи. Но в моих расчетах была какая-то ошибка. Яхта почти не приближалась к берегу. После шести часов плавания она должна была миновать береговые рифы и войти в бухту. Вместо этого я очутился западнее острова, тщетно борясь с встречным ветром. Стало ясно, что парусности «Язычника» недостаточно, чтобы двигаться к цели. Яхту относило все дальше и дальше от острова. К концу дня ветер и течение отбросили яхту далеко на запад. Забравшись на мачту, я тщетно пытался разглядеть на берегу хоть одно живое существо, которое пришло бы ко мне на помощь. Берега уже не было видно, лесистый склон и голая вершина горы слились воедино. Все еще надеясь, что кто-нибудь заметит меня, я принес отработанное машинное масло и освежил нарисованные во многих местах сигналы бедствия. Но до самых сумерек горизонт был пуст. Когда стемнело, я не увидел ни одного огонька. Несколько часов я удерживал судно на прежнем курсе, подавая сигналы фонарем, светившим все слабее и слабее. Меня все еще не покидала надежда, что кто-нибудь увидит мой огонек, и вдали вспыхнет ответный сигнал. Наконец свет фонаря стал таким тусклым, что я сам почти не различал его. Остров совсем скрылся во мраке, и я знал, что больше его не увижу. Медлить было бессмысленно и опасно, нужно было снова искать землю где-то западнее. Перспектива плыть еще шестьсот миль от Фиджи до Новых Гебрид страшила меня, расстояние это казалось бесконечным. Скудный запас воды, изнурительная работа у помпы, мокрая постель – вот что ожидало меня впереди. «Сам виноват,– сказал я себе,– никто не принуждал тебя плыть через океан, мог бы спокойно сидеть в Панаме». Яхта шла теперь на юго-запад, и я надеялся при благоприятной погоде добраться до Новых Гебрид за пятнадцать-шестнадцать дней. Откачав воду, я спустился в каюту и решил дождаться утра, чтобы еще раз взглянуть на карту. Суточную порцию воды я урезал до полпинты. На рассвете я вышел наверх и склонился над картой. Потом провел несколько часов, размышляя, удастся ли мне доплыть до цели, имея полторы кварты пресной воды. Этот запас можно было растянуть на восемь, в лучшем случае на девять дней, а до Новых Гебрид предстояло плыть пятнадцать суток, а то и больше; шесть суток без воды – это выше человеческих возможностей. Впервые в жизни мне предстояло томительное ожидание смерти. Никогда раньше не приходилось мне глядеть ей прямо в глаза. И вот теперь она поджидает меня. Впереди целая неделя, чтобы познакомиться с ней поближе. Я убедился, что смерть не так уж страшна, если нет времени о ней думать. Неожиданно встретиться с ней или долгое время оставаться с ней лицом к лицу – далеко не одно и то же. Со смертью встречаешься, когда судно подрывается на мине, попадает под обстрел, подвергается нападению подводной лодки и т. д. – можно привести десятки таких случаев. Но при этом человек не сознает своей обреченности, он еще действует, борется, пытается спастись. Смерть страшна, когда издалека ощущаешь ее приближение. Как ни странно, до сих пор я ни разу всерьез не думал о смерти. Правда, во время плавания я часто вглядывался в волнующуюся поверхность океана и спрашивал: «Неужели я погибну один в этой пустыне?» Но и тогда я размышлял о смерти главным образом потому, что эта мысль была для меня новой. Она никогда меня не угнетала. Моя любовь к жизни была слишком сильна, а позади уже осталось столько трудностей. «Я еще молод, чтобы умирать»,– уверял я себя… и искренно в это верил. Утром, выйдя наверх, я увидел страшную картину: мачта снова упала, осталась лишь бизань, грот и передние паруса валялись на палубе, ванты и штаги волочились по воде за яхтой, как спутанные волосы, когда яхта боролась с ветром и течением, тщетно пытаясь подойти к острову. Такелаж, и без того потрепанный, не выдержал. Теперь мне вновь предстояла тяжелая работа: поставить на место мачту и привести в порядок снасти. Между тем, откачивая воду, я вконец обессилел. Тяжелая работа страшила меня. Но все же я выпил воды и взялся за дело. Вытащив мачту из воды, я подпилил ее обломанный конец и затесал его; теперь мачта имела всего десять футов в длину. Потом я укоротил ванты и штаги, готовясь поставить мачту на место. Эта работа так меня утомила, что я вынужден был прилечь. Наконец я приступил к самому трудному. Держа мачту как можно прямее, я изо всех сил попытался вогнать ее в гнездо, но промахнулся на какой-нибудь дюйм и потерял равновесие. Мачта скользнула по стене рубки и с грохотом упала на палубу. Мне снова пришлось отдохнуть. На этот раз я залез на крышу рубки и ухватился за мачту, стараясь опустить ее прямо в гнездо, но не смог подвести ее ближе, чем на шесть дюймов. Силы покинули меня, я не мог держаться на ногах, сполз с рубки и, тяжело дыша, свалился на палубу. Я подумал, что если еще укоротить мачту, она станет легче и установить ее будет не так трудно. Но тут же я отказался от этой мысли, так как нельзя было сокращать парусность. Грот, даже на мачте длиной в двенадцать футов, был меньше кливера и походил на наволочку. Спустившись в каюту, я упал на койку. Вскоре я почувствовал себя бодрее и вышел на палубу. Однако еще две попытки установить мачту окончились неудачей. Во второй раз я промахнулся почти на целый фут. Усталость и отчаяние овладели мной. Бросив мачту, я спустился вниз. Проснулся я только после полудня все еще не оправившись от усталости. Но глоток воды влил в меня новые силы. Поставив флягу на место, я вспомнил о примочке, открыл флакон, понюхал – он издавал отвратительный запах. Запрокинув голову, влил себе в рот порядочную порцию. Закрывая флакон, я почувствовал, как по моему телу словно пробежал электрический ток. Помню, как я поднялся на палубу и, не сознавая, что делаю, схватил мачту, как тростинку, и вставил ее в отверстие. Затем я за какой-нибудь час без всякого труда закрепил мачту, натянул ванты и штаги, поднял все паруса, положил руль под ветер п привязал румпель. Я почувствовал необычайный подъем и даже испытывал желание прыгнуть в воду и показать какой-нибудь акуле, где раки зимуют. Без грота яхта ползла как улитка, но теперь, слегка накренившись под южным ветром, она снова набирала скорость. Немного погодя она уже делала около узла. Следующие два дня я спал по восемнадцати часов, просыпаясь только для того, чтобы поработать у помпы и выпить несколько глотков воды. Кошмары больше не мучили меня, мной овладело чувство полнейшего безразличия, я превратился в сломанный робот, способный выполнять лишь несколько простейших операций. Когда я, наконец, очнулся от спячки, это не было возвращением в нормальное состояние. После мучительной возни с мачтой я уже не мог стать прежним. Работа у помпы превратилась в пытку, я с тоской вспоминал о том времени, когда стоило мне качнуть ее раз пятьдесят – и в трюме становилось сухо. Теперь мне приходилось качать поочередно то одной, то другой рукой, посреди работы я останавливался и ложился на палубу, чтобы передохнуть. 12 октября, когда я спал в каюте, судно вдруг вздрогнуло от толчка. Если бы яхта задела риф, толчок был бы сильнее. Должно быть, решил я, судно налетело на уступ скалы. Я поспешил на палубу, напрягая последние силы, и огляделся. Перед самым носом яхты воду рассекал большой острый плавник, не похожий на те, которые я видел раньше. Видимо, в стае, неотступно следовавшей за яхтой, появилась новая акула. Она подплыла к корме, потом без малейшего страха легко и свободно скользнула вдоль борта. Доплыв до середины яхты, она всей своей массой обрушилась на борт. «Язычник» содрогнулся. Акула метнулась прочь, потом возвратилась снова. Увидев, что я двигаюсь по палубе, она подплыла совсем близко и уставилась на меня своими маленькими, как у свиньи, глазками, словно размышляя, что ей делать дальше. Мы глядели друг на друга и, вероятно, думали об одном и том же: каждый соображал, как бы съесть другого. Свирепая морская хищница и худой измученный человек готовились к борьбе. Меня охватило какое-то странное чувство. Вот он, счастливый случай! Ни одна из мелких акул не осмеливалась подплывать так близко. Беспечность хищницы давала мне преимущество – я мог нанести ей удар гарпуном. Только вот беда – гарпуна у меня не было. А маленькая острога акуле не страшнее зубочистки. Но я не сомневался, что найду выход из положения. Нужно было отыскать что-нибудь подходящее и сделать тяжелый гарпун. Я знал, что если сумею задеть какое-нибудь жизненно важное место, акула не уйдет. Ее мяса и крови мне хватило бы до Новых Гебрид. Ведь в ней не меньше кварты крови – этого достаточно на целых пять дней. Я уже чувствовал, как в меня вливаются новые силы. Полтонны сушеного мяса! А когда еды вдоволь, можно обходиться четвертью пинты воды в день. Борьба предстояла жестокая, но я знал, что могу одолеть акулу. В трюме я нашел старый стальной напильник, в носовом отсеке – ржавую, но еще годную к употреблению слесарную пилу. Под моей койкой лежал стальной брусок длиной около восьми дюймов и шириной в дюйм. Я задумал сделать из него смертоносное оружие. Но долго ли придется мне с этим возиться, и не уплывет ли тем временем акула? Я прикинул, что кончу работу завтра, разумеется, если у меня хватит сил. Ну, а уж акула, наверно, не отличается от своих сородичей и, значит, будет плыть за яхтой много дней. Сталь была сравнительно мягкая, но я понимал, что изготовление наконечника потребует напряжения всех сил. Я шел на большой риск, и только счастливый результат мог бы полностью его оправдать. Наметив примерную форму наконечника с большим зубцом, я принялся пилить стальной брусок, который с трудом поддавался обработке. Чтобы не видеть, как медленно продвигается дело, я глядел в потолок. Всякий раз, опуская глаза, я уверял себя, что сделано уже очень много, и думал о том, как скоро убью акулу и поем мяса в свое удовольствие. У меня потекли слюнки, и в горле стало не так сухо. Мне снова мучительно захотелось есть. К концу дня наконечник стал приобретать нужную форму. Тогда я лег поспать, чтобы восстановить силы. Прежде чем возобновить работу, мне пришлось выпить целых полпинты воды. Но я чувствовал, что игра стоит свеч,– ведь я мог добыть столько мяса и крови! Вечером я просверлил четыре отверстия в наконечнике, чтобы его можно было прикрепить к рукоятке. Я слишком устал, и не мог сразу же заняться изготовлением острия гарпуна. Эту работу я отложил на утро. Лег я рано с намерением выспаться и на рассвете с новыми силами приняться за дело. Но не так-то легко было выспаться в эту ночь. Снова мне снилась еда, и я метался на койке, преследуемый кошмарами. Желудок терзали мучительные спазмы, мне необходимо было проглотить хоть что-нибудь, лишь бы заглушить голод. На яхте не осталось ни крошки съестного. Я хотел было разорвать книгу и набить желудок бумагой, но один раз я уже попробовал сделать это, и у меня мучительно болел живот. Тогда я вспомнил об остатках машинного масла. Добравшись в темноте до кормового отсека трюма, я слил все масло из мотора и набрал полпинты густой жидкости, которая прослужила уже немало времени, тронул ее пальцем и приготовился проглотить. Есть люди, которые сомневаются, что голод может довести человека до самых отчаянных поступков… Обычно в этом сомневаются те, которые сами никогда не голодали. Под словом «голодать» я разумею не лишение пищи на сутки или даже на неделю. Подлинный голод начинается лишь после двух недель без пищи или месяца полуголодного существования. Опрокинув котелок, я быстро проглотил его содержимое. Мне обожгло горло, свело желудок, меня чуть не вырвало. Голова закружилась, я почувствовал слабость и сонливость. Помню, как я дотащился до каюты и лег. Желудок терзали спазмы, в ушах стоял неумолчный звон – он то затихал, то снова усиливался. Мне привиделось, что я в кокпите рассматриваю самодельную карту и снова пытаюсь определить свое местонахождение; вытащив гвоздь и забив его на новое место, я вдруг очутился в Сиднее, Над гаванью висел мост, а у причала дымил огромный паром. Тут я очнулся – вокруг все тот же мрак, тот же плеск воды в трюме, тот же свист ветра в снастях, то же болезненное чувство в желудке. Перед рассветом, преодолевая слабость, я откачал воду из трюма и принялся за гарпун. В утренней мгле я напильником заострил наконечник. Час за часом трудился я над гарпуном, и стальные опилки сыпались на мои распухшие ноги. Утром тонкий наконечник с двумя кривыми зубцами был готов. К полудню у меня в руках оказалось грозное оружие – надежное, несокрушимое, смертоносное. Я взглянул на акулу, она беззаботно нежилась в воде, время от времени подплывая к борту и сильно толкая яхту. Мне не из чего было сделать рукоятку гарпуна, последнее весло я употребил на бизань-мачту. Но желание загарпунить акулу взяло верх над стремлением плыть вперед, и маленькая бизань упала на палубу. Я привинтил наконечник к веслу четырьмя большими шурупами и, кроме того, прикрутил его куском проволочной ванты. На другом конце весла я прорезал небольшое отверстие и пропустил через него линь длиной в пятьдесят футов, который крепко привязал к комингсу. Теперь все было готово, но прежде чем начать охоту, я спустился вниз и поспал несколько часов. Акула нежилась на солнце неподалеку от яхты. Я слегка ударил гарпуном по воде. Рассекая волны огромным плавником, она устремилась к борту. Увидев меня, она остановилась и стала всматриваться. Смерив друг друга взглядом, мы приготовились к схватке. Мощным рывком своего сильного тела акула вмиг оказалась в нескольких футах от борта. Тут она остановилась и, с вызывающим видом выставив из воды рыло, ждала, что будет дальше. Потом она неторопливо повернулась, подплыла к носу, снова остановилась, подставила мне бок. Что может быть лучше для гарпунера! Я привязал себя к яхте и высоко поднял гарпун, нацеливаясь в самое уязвимое место, между спинным и брюшным плавником. Не сводя глаз с акулы, я сильно ударил ее гарпуном. Сперва мне показалось, что острие попало в скалу, но гарпун все же вонзился в тело хищницы. Акула судорожно дернулась. Я не удержался на ногах и полетел на палубу, но не выпустил гарпуна и изо всех сил старался загнать его глубже. Огромная рыба билась и корчилась в воде. Гарпун глубоко вошел в нее, руки мои ослабели и, выпустив весло, я уполз в кокпит. Было видно, как линь погружается в пенящуюся воду. Акула натягивала линь и пыталась оборвать его. Она описывала круги, погружалась в глубину и снова всплывала. Вода так бурлила, что я не мог видеть акулы, но чувствовал ее могучие рывки, от которых содрогалась яхта. Вода вокруг побелела от пены. Ударяя хвостом, акула то стремилась уйти в глубину, то постепенно приближалась к яхте. Как только линь ослабевал, я хватал его и обматывал вокруг крепительной утки. 
Акула нырнула под киль, по другую сторону яхты. Вынырнув на мгновение, она вновь ушла под воду. Я сел на палубу и следил за ее тщетной борьбой со смертью. Ведь гарпун поразил жизненно важные органы! рыбы. Когда она потеряет много крови, наступит конец. Оставалось только ждать. Вскоре стало ясно, что ждать придется недолго. Акула всплыла на поверхность, покачиваясь на волнах. Схватив линь, я пропустил его между двумя утками и стал постепенно закручивать его, подтягивая к яхте акулу, которая лишь слабо шевелилась. Но вдруг она резко натянула линь. Я удерживал его так, чтобы он не мог размотаться. Через мгновение акула ослабела, и я снова стал подтягивать тушу, висевшую мертвым грузом. Потом акула как будто ожила, метнулась прочь и так же неожиданно притихла. Подтягивая свою жертву к яхте, я не сводил с нее глаз. В лине, по-видимому, запуталась еще одна акула и не в состоянии освободиться, увлекла мою добычу в сторону. Я изо всех сил натянул линь, чтобы еще раз обернуть его вокруг утки. Появилась третья акула. Линь опять натянулся. Тут я все понял: акулы не запутались в лине, они вцепились в тело моей добычи и пожирали ее. Четвертая и пятая акулы поспешили принять участие в пиршестве. Я изо всех сил тянул линь и, как только он ослабевал, быстро обматывал его вокруг утки. Я был так измучен, что сел на палубу, не выпуская линь из рук. Каждый кусок мяса, который прожорливые хищницы вырывали из тела моей жертвы, мог стоить мне жизни. Я боролся за жизнь. Мне удалось подтянуть акулу на двадцать футов к борту. Одна из акул вцепилась в хвост мертвой рыбы и, увлекая ее за собой, стала описывать полукруги. Я слышал зловещее щелканье челюстей пяти хищниц, норовивших урвать кусок побольше. На теле мертвой акулы зияли огромные раны, а они терзали ее снова и снова. Вот уже изувеченная туша почти у самого борта. Теперь надо было зацепить ее чем-нибудь под жабры и втащить на палубу. Спустившись в трюм, я вытащил оттуда два багра. Акулы продолжали свое пиршество. Они отрывали огромные куски мяса, тащили тушу в разные стороны. Мертвая акула была изогнута в форме буквы S. В воде, рыжей от крови, хищниц почти не было видно. Как голодные свиньи, они глубоко зарылись мордами в тело жертвы. Схватив рыболовную острогу, я всадил ее в голову акулы, которая была ко мне ближе других, но она даже не обратила на это внимания. Я попытался зацепить багром за жабры изуродованной акулы, но силы мне изменили, и я опустил руки. 
Отвратительное пиршество продолжалось теперь уже под днищем яхты, потом акулы вынырнули с другого борта. Линь был короткий, весло зацепилось за киль и гнулось под натиском огромных рыб. Палуба у меня под ногами дрожала. Перегнувшись через борт, я стал вглядываться в воду. Послышался негромкий треск, и весло, сломанное у самого наконечника, всплыло на поверхность. Я бросился к другому борту и увидел, как пирующие акулы медленно опускаются в глубину. Я проводил их взглядом, а когда они скрылись из виду, в отчаянии упал на палубу. Это была одна из самых страшных минут в моей жизни. Немного успокоившись, я снова повернул яхту на запад, откачал воду из трюма и спустился в каюту. Остаток дня и всю ночь я не вставал с койки. Прошло еще двое мучительных суток. День сменялся ночью с томительным однообразием. Жил я как зверь в своей норе, с тем только отличием, что время от времени откачивал воду и целыми часами вглядывался в пустынный горизонт. Почти весь день я спал или разговаривал сам с собой. Тишина действовала на меня угнетающе, и я говорил, чтобы слышать свой голос. Настал день, которого я ждал с трепетом: на яхте осталось всего полпинты пресной воды. Этого могло хватить лишь на сутки. Утром я ополоснул рот и вышел на палубу к помпе. Случайно взглянув на левую руку, я заметил, что потерял обручальное кольцо,– оно не удержалось на пальце, тонком, как у скелета. Вечером я выпил немного воды, оставив несколько капель на ночь, когда придется опять работать у помпы. Ночью с востока подул сильный ветер и быстро погнал яхту на запад. К рассвету она перестала слушаться руля. Я допил. остатки воды и вылез на палубу, намереваясь убрать грот и лечь в дрейф. Итак, вода кончилась. А впереди были сотни миль – чуть ли не две недели пути до ближайшей земли. Но в душе у меня не угасала надежда. Над головой бежали низкие облака. В воздухе пахло сыростью, но не было никаких признаков близкого дождя. Я по-прежнему надеялся: что-нибудь да произойдет-польет дождь, или покажется остров, или какой-нибудь корабль возьмет меня на буксир и отведет в гавань. Ночью ветер заметно упал и небо прояснилось. Я вновь поднял свой маленький грот. Потом я добрался до кормы и положил яхту на прежний курс. Это так утомило меня, что я не смог качать помпу и лег на сырую койку. На рассвете мне удалось откачать из трюма всю воду. После этого мне уже ни разу не удавалось полностью осушить трюм – я качал до тех пор, пока хватало сил, а потом оставлял помпу. Я взглянул на небо – никакой надежды на дождь. Ночью я обдумывал способ, как опреснять соленую воду. У меня была масленка с носиком. Наполнив масленку морской водой, я поставил ее на примус и стал кипятить. Масленка была плотно прикрыта крышкой, и пар выходил через носик. Если бы мне удалось как-нибудь собрать этот пар, у меня появилась бы пресная вода. Я сделал из жести воронку, а под носик подставил блюдце; когда на блюдце упала первая капля, я слизнул ее распухшим сухим языком и стал ждать следующей. За час эта самодельная установка дала мне столовую ложку пресной воды. Все утро я продолжал перегонять воду и к полудню выбился из сил, но зато во рту у меня было уже не так сухо. До следующего дня можно было не заботиться о воде. Поработав у помпы, я спустился вниз, завернулся в одеяло и заснул. Днем неожиданно пошел дождь. Я проснулся от стука капель по палубе. Порывистый восточный ветер гнал на меня зловещий шквал. Я бросился наверх, расстелил на крыше рубки шерстяное одеяло и подмел кокпит. Впервые после урагана на яхту налетел шквал… Крупные капли дождя барабанили по палубе. Я смыл соль с кожи и с бороды, потом, ловя дождевую воду пригоршнями, жадно пил ее. Когда одеяло намокло, я выжал его за борт, чтобы удалить соль, и снова расстелил на крыше рубки. Когда оно снова намокло, я выжал его в ведро. Прежде чем шквал ушел, мне удалось проделать это дважды. В ведре оказалось полгаллона воды. Галлон набрался в кокпите. Полтора галлона! Я был богаче Креза. Сразу же я установил для себя дневную норму – полторы пинты, хотя выпивать столько воды казалось мне чуть ли не расточительством. Остаток дня и всю ночь свежий ветер гнал «Язычника» на запад. На рассвете два шквала краем задели яхту, после чего я попал в штиль. Взошедшее солнце осветило неподвижный океан… Хотя я выпил довольно много воды, голова моя по-прежнему была в каком-то тумане. Я вышел на палубу, прилег в тени паруса и стал смотреть на резвившихся в воде акул и дельфинов. Далеко впереди над океаном летала стайка птиц – мне показалось, что среди них есть и береговые, но так как ближайшая земля находилась в двухстах милях, я отказался от этой мысли. Несколько птиц приблизились к яхте, но я был так измучен, что даже не пошевельнулся. Мой усталый мозг отказывался придумать способ охоты на них. Еще одно усилие меня доконает – я это хорошо понимал. Поработав у помпы сколько хватило сил, я лег на койку. Заснул я быстро, спал сладким сном младенца и проснулся от плеска подступившей к койке воды. Поднявшись на палубу, я снова принялся качать, пока силы не оставили меня, и так снова и снова без конца… Наутро, видя, что ветра все нет, я урезал порцию воды до одной пинты. Штиль приводил меня в отчаяние. «Ну, уж сегодня непременно появится ветер»,– говорил я себе. День кончился. Птицы носились над морем и криками звали ветер. Когда дует ветер, появляются летучие рыбы, и, спасаясь от дельфинов и других преследователей, выскакивают из воды, а во время штиля они перекочевывают в другие места, туда, где есть ветер. Ветер помогает многим существам, живущим как в море, так и вне его. Дельфины уже два дня ничего не ели. Перемена погоды, видимо, интересовала их не меньше, чем птиц и меня. На рассвете третьего штилевого дня я проснулся от жалобного крика голодных птиц. Я вышел на палубу, не веря что штиль еще держится. Но океан был неподвижен, гладь его оставалась так же прозрачна и спокойна, как и накануне. Паруса беспомощно повисли, в воздухе – ни дуновения. Мне это не понравилось, долгие штили часто бывают предвестниками ураганов. Около часа я откачивал воду, пока не показались доски пола, потом свесил свои непослушные, распухшие ноги в трюм и глянул через иллюминатор на неподвижный океан. На другое утро я встал в уверенности, что ветер, наконец, поднялся, но на океане по-прежнему был штиль. Вокруг расстилалась пустынная, залитая солнцем водная гладь. Я огляделся, пробормотал: «Все еще штиль»,– и решил выпивать в сутки только полпинты воды. Четыре дня мертвого штиля, двадцать два дня без пищи, сорок семь дней под временными парусами – если верить зарубкам над моей койкой. До ближайшей земли не меньше десяти суток плавания. Таков был трезвый итог, подведенный мной в то утро. Я хотел записать его на обложке библии единственным уцелевшим карандашом, чтобы об этом узнали в случае моей смерти,– хотел, но не мог. В голове у меня стоял туман, я не находил слов и, отложив библию, выглянул в иллюминатор. С юга набегали легкие волны – должно быть, где-то подул ветер. Я с трудом вскарабкался на крышу рубки, вспомнив, что вот уже два дня не осматривал океан. Но горизонт по-прежнему был чист, тишина нарушалась только громкими криками морских птиц. Неожиданно послышался скрежещущий звук. Сперва я подумал, что шум этот производит вода, поднявшаяся в каюте на целый фут, но тут же понял, что шум доносится снаружи. Перегнувшись через борт, я увидел морскую черепаху,– она царапала деревянную обшивку своими перепончатыми лапами. Панцирь у нее был темно-зеленый, с широкими прямоугольными пятнами. Я понимал, что не имею права тратить остаток сил на бесполезную борьбу с черепахой. С минуту я наблюдал, как она скребет обшивку, и мне вспомнилась черепаха, пойманная на Галапагосе. Сколько в ней мяса и крови! Все доводы рассудка отлетели прочь, и охота началась. Пробравшись на корму, я нашел острогу, с которой в свое время охотился на спиннорога. Дрожа от волнения, я попытался загарпунить острогой черепаху. Но сил у меня было мало, зубцы только скользнули по панцирю. Черепаха нырнула под киль и всплыла у самого руля. Я добрался до кормы, встал на колени и снова нацелил острогу. Три раза я попадал в черепаху, но не мог пробить ее твердый панцирь. Я так ослаб, что даже от этого небольшого усилия начал задыхаться. В конце концов я отбросил острогу и решил втащить черепаху на палубу руками. Свесившись с кормы и запустив обе руки под панцирь, я попробовал поднять черепаху, но на это у меня не хватило сил. Загребая воду лапами, черепаха отплыла в сторону и чуть не увлекла меня за собой. Выпустив черепаху, я упал на край огражденного поручнями борта, стараясь сохранить равновесие и шаря руками в поисках опоры. Если бы я упал в воду, то камнем пошел бы ко дну – ведь от меня остались кожа да кости. Даже если бы мне удалось ухватиться за борт, я все равно не смог бы вскарабкаться на палубу. А тут еще акулы! Я уже имел возможность познакомиться с тем, как они расправляются со своими жертвами. Оттолкнувшись от края кормы, я спасся от падения в воду только тем, что резко откинулся назад, причем один из ржавых зубцов глубоко вонзился мне в колено. Я почувствовал жгучую боль – такая боль всегда предвещает еще более жестокие страдания. Вытащив зубец, я увидел на колене темную капельку крови. Я не мог потерять эту крупицу жизни, а поэтому снял ее пальцем и слизнул языком. Больше крови не было. Вероятно, она стала слишком густой и не могла течь. Больше часа пролежал я на корме, отдыхая от пережитых волнений и набираясь сил. Только после этого я смог подняться. Взглянув на океан, я увидел, что черепаха исчезла. Мне показалось странным, как ей удалось скрыться на его ровной глади. В трюме слышался плеск воды, и я пошел к люку. Вода поднялась больше чем на фут – не было никакой надежды всю ее откачать. Я работал до полного изнеможения, мелкими взмахами, потом спустился вниз и лег. Колено сильно болело, вода, переливаясь в трюме, тараторила, как болтливая кумушка. Вскоре я уже крепко спал. В полдень вода подступила к койке, и я взялся за дело. Все еще стоял штиль. Птицы с хриплыми криками летали над головой. Дельфины описывали бесконечные круги около яхты. Я потерял надежду дождаться ветра. Опять я качал помпу до тех пор, пока руки не отказались повиноваться, а потом побрел в затопленную каюту, волоча распухшую в колене ногу. Через час, когда нужно было снова идти к помпе, я не смог встать; хотя я и понимал, что это необходимо, но поделать ничего не мог. Колено ныло, я лежал и смотрел, как поднимается вода, сознавая, что каждая минута промедления будет стоить мне мучительного труда. В конце концов я снова заснул. Утром, когда взошло солнце, я проснулся оттого, что вода залила мою койку. Яхта сильно накренилась. Первой моей мыслью было, что трюм переполнен водой. «Яхта валится на бок и сейчас пойдет ко дну,– подумал я.– Вот-вот она перевернется вверх килем». Я хотел было бежать на палубу, но не в силах был сделать это и, сидя на койке, не знал, на что решиться. В конце концов я слез с койки прямо в воду, которая была, мне до колен, и, хромая, побрел на палубу. Там я с удивлением обнаружил, что мачта гнется под свежим ветром. Ветер силой в пять баллов дул с юга, и яхта ходко бежала на запад – к земле! Настроение у меня сразу поднялось. Вперед! Наконец-то я плыву к земле. Я почувствовал себя лучше, ко мне вернулся былой оптимизм. Поглядев на карту, я решил, что до Новых Гебрид плыть еще дней десять. Мне не хотелось думать о том, как я буду все эти дни откачивать воду,– ведь у меня совсем не оставалось сил. Придумаю что-нибудь, когда возникнет необходимость, решил я. Снова я работал у помпы, пока совсем не обессилел. Колено мое так распухло, что больше не сгибалось, и я не мог спуститься в каюту. Ночь я провел в кокпите. В эту ветреную ночь я четыре раза становился к помпе. Колено болело все сильнее, и я не знал как быть. Я промыл его соленой водой, но малейшее прикосновение причиняло нестерпимую боль. На рассвете, взглянув вперед, я увидел остров на расстоянии не более трех миль. Я не двигался с места, не прыгал, не кричал – слишком много разочарований пришлось мне пережить за последнее время. Я смотрел на остров, на его берега, покрытые сочной зеленью, на плоскогорье, должно быть, вулканического происхождения. Что это за остров – мне было безразлично. По моим расчетам, от ближайшей земли – Новых Гебрид – меня отделяло не меньше недели пути. И все же остров был передо, мной. Мне было все равно, Тимбукту это или Шангри Ла. Впереди земля, и на этот раз я пристану к ней во что бы то ни стало. СПАСЕНИЕ Я повел яхту к югу, вдоль берега, огибая длинную гряду зубчатых скал. Остров, отделенный от меня скалами и лагуной, был примерно в полутора милях. Мне приходилось бывать на Новых Гебридах в годы войны, но я не мог сообразить, куда меня занесло. В длину остров достигал семи миль и возвышался над морем футов на семьсот-восемьсот. Венчала его вершина в форме кратера. Причудливые вулканические глыбы, сильно размытые океаном, имели в высоту футов тридцать. Кое-где в ровных долинах, оканчивавшихся белым песчаным пляжем, росли мангровые деревья и кокосовые пальмы. Я решил найти проход между рифами, войти в лагуну и стать на якорь близ какой-нибудь деревни или выброситься на отлогий песчаный берег. Нужно было спешить. Уже четыре часа я не подходил к помпе, и вода в трюме угрожающее поднялась. Я берег силы – ведь приходилось управлять яхтой при помощи короткого, неудобного румпеля, а потом мне предстояло добраться с судна на берег. Я прошел вдоль острова и начал приближаться к его юговосточной оконечности, а в скалах все не было никакого просвета. Заходить с подветренной стороны было нельзя – против ветра я не смог бы подойти к острову, как это уже случилось со мной недавно. Нельзя было и плыть назад вдоль берега. Поневоле я приблизился к рифам. Лавировать у меня не было ни сил, ни возможности. Кроме того, мне мешал принайтовленный к палубе тяжелый обломок мачты, который при малейшем крене погружался концом в воду, затрудняя движение. Я хотел было обрубить ванты, но почувствовал, что все равно не смогу сбросить мачту за борт. Силы оставили меня, откачивать воду из трюма я перестал, и она все прибывала. Мыс был в какой-нибудь сотне ярдов. Пришло время действовать, и мне оставалось только одно – пожертвовать судном. Внезапно я понял, что моя яхта может превратиться в плавучий гроб. Ким Пауэлл сказал мне еще в Панаме: «Она будет служить вам и тогда, когда сами вы уже не сможете ей управлять». Теперь это пророчество сбылось. Я вышел из игры, а яхта все так же бодро держалась на воде. У меня не оставалось иного способа спасти свою жизнь, как посадить яхту на камни… и, что всего хуже, раздумывать было некргда. Обогнуть остров означало верную смерть; повернуть назад и снова пытаться пройти вдоль берега тоже нечего было и думать. Поэтому я резко положил руль на ветер и повел яхту прямо на рифы. Таково было мое последнее решение как капитана яхты – она отправлялась в путешествие, из которого нет возврата. На мне была военная форма. Еще раньше, как только я увидел остров, я наскоро вытерся мокрой губкой, вычесал соль из бороды, привел в порядок и уложил узлом на затылке свои длинные, как у женщины, волосы и надел фуражку. Ноги у меня до того отекли, что я не мог надеть на них ничего, кроме носков. Опухшее колено я перевязал куском одеяла. Схватив кое-какие вещи, я рассовал их по карманам и, взявшись за румпель, ждал столкновения. Яхта прошла над подводными рифами, находившимися на глубине шести морских саженей. Но вот рифы все ближе и ближе к поверхности, глубина уже меньше четырех саженей. Внезапно я сообразил, что могу зацепиться за рифы якорем. Я торопливо заковылял на нос и приготовился сбросить якорь за борт. Но сил у меня не было, колено болело, и я даже не смог сдвинуть якорь с места. Вот скалы уже совсем близко, волны с грохотом разбиваются о них. Я сел на палубу, уперся ногами в якорь и попытался столкнуть его в воду, но безуспешно. Шум прибоя нарастал. Течение быстро несло меня на рифы. Я встал, ухватился за лапы якоря, приподнял его и тут же упал, потеряв равновесие. Волна подхватила яхту и ударила ее форштевнем о коралловый риф. Она содрогнулась так, словно в нее попал артиллерийский снаряд. Я сидел у левого борта. Обшивка на носу треснула, и образовалась пробоина. Яхта зарылась носом в воду, и волны захлестнули палубу. Я вмиг очутился в воде. Оставалось только сидеть и ждать – палуба слишком накренилась, чтобы можно было встать на ноги. Волны с ужасающим грохотом били «Язычника» о скалы. Над водой торчала только корма, нос погружался все глубже. Вода доходила мне до пояса. Набежала новая волна, за ней другая, и вот уже корма взлетела на риф. Послышался скрежет фальшкиля о твердую коралловую поверхность. Снова набежала волна и, прокатившись по палубе, отбросила меня к рубке, где я уцепился за мачту. Каждая новая волна забрасывала яхту все выше на рифы, поворачивая ее боком к океану, палуба кренилась все сильнее. Резкий толчок отшвырнул меня от мачты, я скользнул по накренившейся палубе и упал на скалу; волна тут же подхватила меня, перевернула в воздухе, и я очутился на мелком коралловом дне. Собрав остатки сил, я вырвался из цепких объятий океана и побрел на менее опасное место. Я взобрался на сухой коралловый утес и, глядя на разбитую яхту, осыпал проклятиями беснующийся прибой. «Язычник» теперь лежал на мели, где воды было до колен. Вздрагивая от ударов волн, он разваливался буквально на глазах. За моей спиной тянулась длинная гряда остроконечных рифов. Я повернулся и, шатаясь от слабости и истощения, побрел к ним. Глубина лагуны достигала здесь девяти морских саженей, а на дне ее цвел целый коралловый сад. Вокруг плавали крошечные рыбешки, прекрасно видные в прозрачной воде. Я боялся этой воды, как огня, зная, что стоит мне упасть, и я камнем пойду ко дну. Я прилег отдохнуть на скале и внезапно заснул мертвым сном. Лишь через несколько часов меня разбудил прилив – вода, покрыв скалу, подобралась ко мне. Почувствовав что нахожусь в воде, я хотел было броситься к помпе, но с удивлением обнаружил, что лежу на скале. Потом я все вспомнил. Прилив. Море заливало скалу… В двухстах ярдах от меня «Язычник» содрогался под жестокими ударами волн. Я решил добраться до яхты и взять резиновую лодку. Шатаясь, побрел я к ней, стараясь держаться с подветренной стороны, где волны были слабее. Воды возле яхты оказалось по пояс. Резиновая лодка застряла между судном и скалой. Благополучно проплыв на буксире больше тысячи миль, она погибла на коралловых рифах. С трудом взобрался я на палубу и стал искать, на чем бы доплыть до берега. Яхта лежала на боку, раскачиваясь из стороны в сторону, и в любую минуту грозила перевернуться. Обрубив ножом ванты, я освободил мачту, отскочил, спрыгнул в мелкую воду и оглянулся назад. Вода все прибывала, поднимая «Язычник»; внезапно он ударился о скалу и лег килем вверх. Днище его, облепленное ракушками, все в дырах и трещинах, сиротливо глядело в небо. Меня охватила неодолимая сонливость, но прилечь было негде. Прилив оттеснял меня все дальше от яхты. Тем временем мачта отделилась от судна, и я, ухватившись за нее, перекатился вместе с волной через риф. В лагуне я, обхватив руками и ногами толстый конец мачты, поплыл к берегу. Руки и ноги мои были в воде, лицом и грудью я плотно прижимался к твердой шершавой поверхности мачты. Лежа так, я долго смотрел на остров, пока не погрузился в забытье. Очнулся я от мягкого толчка – это мачта ударилась о берег. Меня отнесло в небольшую бухточку с чистым песчаным пляжем, окаймленную отвесной скалистой стеной. Я выбрался из воды, лег на теплый белый песок и крепко заснул. На этот раз меня разбудил поднимавшийся прилив – вода начала заливать пляж. Я отполз по отлогому пляжу к подножию скалистой стены в надежде, что туда вода не дойдет, и снова уснул. Однако сон мой был недолог. Опять прилив! Взглянув вверх, я увидел, что прилив поднимается здесь очень высоко,– скалы были размыты на уровне моих плеч. Небольшая пещерка, в которой я укрылся, скоро будет затоплена, она оказалась плохим убежищем. Я легко представил себе, какой бурный водоворот образуется здесь под натиском воды и ветра. Если бы не бессилие и боль в колене, я легко взобрался бы на неровные скалы – на них было много удобных выступов. Сделать это было довольно просто, но руки и ноги мои дрожали от слабости. Теперь, оглядываясь назад, я сам не могу понять, как мне все-таки удалось залезть на эти скалы высотой более двадцати футов. Конечно, здоровый человек одолел бы их без особого труда, но я был настолько слаб, что незадолго перед крушением не смог сдвинуть с места пятидесятифунтовый якорь. И все же я втащил свое тело, весившее тогда фунтов восемьдесят-девяносто, на высоту этих двадцати футов. Поднявшись на скалу, я сразу же уснул и проспал остаток дня и всю следующую ночь. Впервые за сорок восемь дней мне не нужно было вставать ночью к помпе. По привычке я все же просыпался несколько раз, слух мой так привык к скрипу корпуса яхты и к бесчисленным звукам, издаваемым водой и ветром, что тишина угнетала меня, и сон мой был тревожным. Когда рассвело, я с трудом сел, чувствуя, что пора подумать о пище и воде. Я находился на голой каменистой площадке, окруженной густой чащей деревьев, перевитых лианами. В миле от берега, на сверкающем под солнцем коралловом рифе, покоились останки отважного «Язычника». Вид у него был печальный и жалкий. Весь рангоут исчез, рубка тоже. Яхта лежала, накренившись, поперек длинного рифа, и ее оголенная палуба сиротливо смотрела вверх. Песчаный пляж подо мной был усеян всякой всячиной, принесенной с «Язычника»,– кусками дерева, одеждой, постельным бельем, парусами, жестяными банками, обломками рангоута. Не вставая с места, я оглядел чащу в поисках съестного. Я надеялся сразу найти бананы, кокосовые орехи, птичьи гнездовья и пресную воду. Но вокруг не было ничего, кроме густого подлеска и огромных, похожих на дубы, деревьев. Я сорвал несколько охапок листьев и стал их жевать, но они оказались безвкусными и сухими. Я вспомнил, что, пытаясь обогнуть гряду рифов, видел на берегу кокосовые пальмы. Теперь мне предстояло найти их и питаться орехами до тех пор, пока кто-нибудь не придет ко мне на помощь или пока я сам не окрепну настолько, что смогу обойти остров в поисках какого-нибудь селения. Но далеко ли идти? И далеко ли я смогу уйти? Я решил, что лучше пуститься в путь пораньше, и с трудом встал на ноги. Мне казалось, что на подветренный берег острова ближе всего можно выйти через южную его оконечность, к которой я подплыл на яхте довольно близко. Если остров обитаем, там обязательно есть деревня. Я выломал толстую палку и, опираясь на нее, побрел вперед по неровной скалистой почве. По пути я срывал листья, ел их и сосал сломанные побеги. Вдруг я увидел маленького сухопутного краба, переползавшего с камня на камень; я ударил его палкой, а затем разорвал и высосал его досуха. Потом я сжевал его твердые клешни и выплюнул остатки. Теперь я чувствовал себя бодрее и увереннее. Вскоре я поймал еще одного краба, и его постигла участь первого. За два часа я прошел пятнадцать или двадцать ярдов. Я полз как черепаха. Если бы я мог двигаться быстрее! Но скалы… таких я еще никогда не видывал. Они походили на перевернутые орлиные клювы. Остров был вулканического происхождения. Дожди, столетиями разрушая непрочную лаву, образовали бесчисленные острые выступы, напоминавшие сталагмиты, высотой от трех дюймов до трех футов. Они торчали так густо, как деревья в лесной чаще, и ровное местечко, не шире босой человеческой ступни, было здесь редчайшим чудом. Я ковылял по ним, выбирая наименее острые и хватаясь руками за высокие уступы. 
Силы мне изменяли, колено сильно болело, я еле переставлял опухшие ноги. Они были такие тяжелые, что часто, перелезая через глыбы скал, мне приходилось подтягивать их руками. В конце концов я прилег отдохнуть. Меня клонило ко сну. Казалось, я мог бы спать вечно. Сон манил меня, легкий и приятный. Я проспал бы целые сутки, но разум напоминал о том, как мало я прошел. И я заставил себя идти дальше. За час я одолел еще десять ярдов, но от напряжения весь дрожал. Пришлось подыскивать место для отдыха. Вдруг из-за скалы выполз коралловый аспид и, не замечая меня, пополз мне навстречу. У меня рот наполнился слюной. Пища! Мясо, кровь… Когда змея приблизилась, я придавил ее палкой и нажал изо всех сил, стараясь переломить ей позвоночник. Змея отчаянно извивалась, но вырваться не могла. Голод, утихший после того как я съел крабов, теперь снова зашевелился во мне. Я удивлялся, почему люди не едят змей, и все сильнее давил на палку. Но вот силы начали покидать меня, рука дрогнула, и змея, вырвавшись, исчезла среди скал. Я сел и сразу же задремал, но не надолго – что-то подстегивало меня, побуждая пересечь остров, пока я был в состоянии идти. Пройдя еще двадцать ярдов, я набрел на одинокую кокосовую пальму. Пальма была невысокая – футов двадцать пять, не больше. Я увидел на ней десяток зеленых орехов, сок которых прекрасно утоляет жажду. Обхватив ствол дерева, я поцеловал его и громко закричал от радости. Здесь я мог остаться до тех пор, пока не окрепну. Но вскоре радость сменилась горьким разочарованием. Хотя орехи висели в каких-нибудь двадцати футах над головой, я не мог до них добраться. Не в силах залезть на дерево, я попытался сбить орехи палкой, но только вывихнул руку, и она бессильно повисла вдоль тела. Отказавшись от борьбы, я прилег у дерева и заснул. Проснувшись через несколько часов, я пошарил около пальмы и нашел старый высохший орех. Мой нож, хоть и ржавый, был достаточно острым, но даже будь он острее бритвы, пользы от него было бы мало. У меня не хватало сил разрезать орех. Тогда я попытался его разрубить. Казалось прошли долгие часы, прежде чем мне удалось загнать нож в твердую кожуру на какой-нибудь дюйм. Руки у меня болели от напряжения. Еще дюйм – и я доберусь до мякоти! Но я не мог пошевельнуться. Бессмысленно глядя на орех, я начал дремать. Тогда я отшвырнул орех и лег на спину. На этот раз я проспал почти сутки, ни разу не проснувшись. Утром я почувствовал себя еще слабее, чем накануне. Рядом валялись нож и сморщенный орех. Схватив нож, я снова начал ожесточенно рубить кожуру. Через несколько минут я выбился из сил. Пальцы свела судорога, и невозможно было ими пошевелить. Я знал, что прорезав кожуру на какой-нибудь дюйм, смогу добраться до прохладного, освежающего сока. Я схватил орех и стал колотить его о скалы до тех пор, пока у меня не перехватило дыхание, потом уронил орех и повалился на землю. На третий день я по-прежнему не нашел ничего, кроме неровных скал да непролазной чащи. Язык у меня распух и одеревенел, больное колено почернело. От коралловых ядов, о которых я и не подозревал, на руках и ногах появились язвы. Я лежал в сотне шагов от моря и, слушая шум волн, плескавшихся о размытый берег, думал о том, что скоро совсем не смогу волочить ноги и что единственная надежда спастись – это вернуться к берегу и ждать, пока не появится какой-нибудь путник. Пошатываясь, я встал на ноги и побрел к морю, спотыкаясь, падая, ничего не замечая, кроме монотонного шума прибоя. Наконец я увидел футах в двадцати внизу небольшой грот с полукруглым песчаным пляжем. Свежий ветер – в море при таком ветре пришлось бы брать рифы – гнал по берегу тучи песка. Отлив обнажил скалистое дно залива и длинный коралловый барьер. От моей яхты не осталось и следа. Море и скалы, очевидно, доконали ее. На берегу кое-где валялись мелкие обломки. Я лег на камни и сразу заснул. Проснулся я от шума, не похожего на грохот волн. Взглянув вниз, я увидел трех ребятишек, взволнованно бегавших по берегу. Ребятишки были темнокожие, с густыми короткими волосами. Они сновали прямо подо мной и веселыми криками встречали каждую чудесную находку. Я свесил голову вниз и хотел крикнуть: «Эй, сюда!», но вместо этого из груди у меня вырвалось какое-то странное, глухое клокотанье. Ребятишки огляделись, потом подняли головы. Лица у них перекосились от страха, глаза округлились, и, бросив свои трофеи, они пустились бежать со всех ног. Все произошло так мгновенно, что я испугался: а вдруг мне это почудилось? Но на песке остались следы, и это меня успокоило. Теперь по крайней мере хоть кто-то обо мне знает. Я опять уснул, но часто просыпался и смотрел в сторону того мыса, за которым скрылись ребятишки. Прошло несколько томительных часов. Прилив затопил пляж. Под напором свежего ветра вода клокотала у подножия скалистой стены, и брызги взлетали высоко вверх, оседая на кустах и лианах. Внезапно я услышал громкие крики и взглянул вниз. Вдалеке показалась лодка, в которой сидело шесть юношей. Они плыли, ловко отталкиваясь шестами от мелкого дна. Я окликнул их, став на одно колено, чтобы удобнее было смотреть; они подозрительно уставились на меня. Теперь нас разделяло не больше тридцати ярдов. По– видимому, до тех пор им не часто приходилось встречаться с белыми. Я догадался, что в деревне недоверчиво отнеслись к рассказу перепуганных малышей и послали этих юношей разузнать обо мне подробнее. Я знаками попросил их войти в бухточку, чтобы можно было опуститься к ним по скалам. Они храбро попытались ввести неустойчивую лодку в узкий проход, но не смогли сделать это – порывистый ветер, прилив и бурные волны оказались сильнее их. Дружелюбно улыбаясь, они объяснили, что не могут войти в бухту, и предложили мне перебраться на утес, стоявший у берега, футах в сорока от меня. Оттуда я мог бы спрыгнуть в лодку. Стоило мне добрести до утеса – и я был бы спасен. Я хотел встать, но не смог, и островитяне увидели, как я беспомощен. Они дали мне понять, что плывут в деревню, но скоро вернутся обратно. Тогда я знаками растолковал им, что у меня нет ни пищи, ни воды, а потом бессильно опрокинулся на спину, показывая, что если они не поторопятся, то едва ли застанут меня в живых. Лежать на спине было так спокойно. Я сразу забыл об островитянах и снова задремал. Проснулся я от плеска воды. Было темно. Мне показалось, что я снова на яхте, в тесной холодной каюте. «Пора откачивать воду из трюма»,– подумал я и стал шарить вокруг в поисках чая. Хоть бы щепотку пожевать, качая помпу! Рука коснулась шершавой поверхности скалы, и я, вспомнив где нахожусь, стал вглядываться в темноту, окутывавшую лагуну. Волны с грохотом бились о берег. Снова начался прилив. Дул резкий ветер, и соленые брызги обдавали заросли. Я решил, что островитяне не нашли меня. Не в силах долго сидеть, я лег на бок, так, чтобы через просвет между скалами видеть море. Было холодно, мокрая одежда прилипла к телу. Я уже начал отчаиваться, как вдруг на море, далеко от берега, показались огни. Я знал, что это пришла лодка. Скоро показались две или гри лодки. Поровнявшись со мной, островитяне остановились и, видимо, бросили якоря, чтобы решить, как быть дальше. Факелы ярко пылали на ветру. Когда шум моря и ветра на мгновение стихал, я хриплым голосом звал на помощь. Островитяне услышали меня, в ответ донеслись их ободряющие крики. Разумеется, они не решались подойти к берегу на своих хрупких лодчонках, которые первая же волна разнесла бы в щепки. Проходили часы, факелы мало-помалу гасли, и, наконец, остался только один. Я уже потерял надежду на спасение. Островитяне, видимо, ждали рассвета. Промокнув до костей, я жестоко страдал от холода и отчаяния. Но что поделаешь, видно, здешние жители не могли найти средства снять меня со скал прежде, чем наступит утро. Я закричал так громко и пронзительно, что люди в лодках зашевелились. Снова зажглись факелы, послышались голоса, потом одна из лодок снялась с якоря и медленно поплыла на север. Островитяне что-то придумали. Остальные лодки подошли к берегу футов на пятьдесят. При свете факелов я видел обнаженные плечи и головы, покрытые густыми волосами. Люди с лодок кричали что-то и указывали на.север. Я обратился к ним по-испански, потом по-французски; они дружелюбно отвечали что-то на своем языке и все указывали факелами на север. Немного погодя я услышал треск кустов и сучьев. Я лег на землю плашмя и прислушался. Чей-то голос окликнул меня на незнакомом языке, я ответил и с трудом приподнялся. С лодок тоже раздались крики, и воздух огласился нашей разноголосой перекличкой. Вдруг из темноты вынырнул факел и повис в воздухе над моей головой. Послышался удивленный возглас и дыхание запыхавшегося человека. «Здорово, приятель»,– только и мог вымолвить я и, не в состоянии больше сидеть, протянул к нему руки. При свете факела я видел крепкие плечи, густые черные волосы. Это был рослый человек. Звучным голосом он сказал мне несколько успокоительных слов и повелительно крикнул что-то в сторону лодок. Свет исчез, сильные руки обхватили меня и легко подняли в воздух. Мой спаситель быстро отнес меня к той скале, куда раньше мне предлагали спуститься юноши. Он держал меня на руках, пока не подоспела лодка, полная гребцов. Я слышал, как яростно бьют по воде весла, как шесты ударяются о неровную черную скалу, толкая лодку вперед. Громко звучали слова команды. И вот уже лодка, освещенная факелами, подпрыгивает на волнах прямо под нами. Туземцы обменялись несколькими громкими фразами. Нос лодки со скрежетом терся о скалу. Мой спаситель стал осторожно спускать меня вниз, держа за ноги. Кто-то подхватил меня и, ощупав, издал удивленный возглас – видимо, его поразила моя худоба. Когда я очутился в безопасности, прозвучал торжественный крик, подхваченный на других лодках. Через мгновение я почувствовал сильный толчок, и наша лодка содрогнулась – это мой спаситель спрыгнул в нее со скалы. Просто чудо, как он не сломал ногу и не проломил дно. Меня положили на корме. Гребцы налегли на весла, и лодка стала быстро удаляться от скалистого берега. Подошел мой новый друг и заботливо укрыл меня куском грубой ткани. Когда я знаками показал, что хочу пить и есть, он дал мне печеной кумалы, похожей на картофель, и я тут же отправил в рот порядочный кусок. Долгие дни и ночи безнадежного отчаяния остались позади. Пища и горшочек местного чая сделали меня самым счастливым человеком на свете. Я, забыв об осторожности, яростно впился зубами в кумалу и стал жадно глотать ее, запивая горячим чаем. Насыщаясь, я вздыхал и смеялся к большому удовольствию моих друзей, которые поощряли меня и радостно улыбались, когда я снова и снова набивал себе рот. Я знал, что мне нельзя есть много, но все доводы померкли, как только во рту у меня оказалась пища. Наконец, насытившись, я лег на спину и заснул, убаюканный стуком весел и шестов и звуками незнакомой речи. ТУВУТА Когда я очнулся, то сразу понял, что мы уже в деревне. Я лежал в тростниковой хижине, над головой у меня были стропила и соломенная крыша. Балки из древесины кокосовой пальмы поддерживали настил из веток пандануса, перевязанных веревками. Я догадался, что это хижина моего спасителя. Я лежал на куче кокосовых листьев, покрытых плетеной циновкой. Ложе было жесткое и неудобное. Когда я пошевелился, надо мной склонилось чье-то лицо. Это была женщина. Она облегченно вздохнула – видно было, что она провела возле меня много тревожных часов. Я не приходил в себя целые сутки. И все это время она терпеливо ухаживала за мной, поила меня целительным соком кокосовых орехов. Колено мое было обернуто мокрым компрессом из каких-то трав, болезненные язвы начали заживать. Жизнь моя была спасена. Вскоре я узнал, что человека, вынесшего меня ночью со скал, зовут Итчика. Он взял меня в свою хижину и поручил заботам доброй и умной жены, которая женским чутьем сразу поняла, что со мной происходит. Женщина знала, что изголодавшемуся человеку нельзя много есть и пить. Увидев мой распухший живот с воспаленной кожей, прислушавшись к прерывистому дыханию, она принялась меня лечить. Она понимала, что даже теперь, когда меня сняли со скал, жизнь моя все еще под угрозой. Не будь этой женщины, кумала, проглоченная с такой жадностью, и чай доконали бы меня. Она глубоко запустила свои длинные огрубевшие пальцы мне в горло и заставила меня вырвать непережеванные куски грубой пищи и выпитый чай. Потом она стала осторожно, но уверенно давить мне на живот, пока не вышли газы и дыхание не стало нормальным. После этого я погрузился в небытие. Когда через тридцать часов я очнулся, она сидела у изголовья постели, следя за каждым моим движением. Я обязан ей жизнью – ей и ее мужу, который ради меня забрался на крутые скалы. Ее звали Уна. Это была необычайно внимательная и заботливая женщина с доброй и чуткой душой. Она почти не улыбалась и редко высказывала свои чувства, но даже в мелочах проявлялось ее благородное сердце. Уна самоотверженно ухаживала за мной и облегчала мои страдания. Я видел, как много она успевает сделать и как внимательна к своим обязанностям. Уна была из тех редких женщин, которые без шума и суеты успевают за день сделать удивительно много. После долгого сна я испытывал сильный голод. Она дала мне половину кокосового ореха, горячую ухy, плод хлебного дерева и сырое черепашье яйцо. Пока Уна кормила меня, Итчи (так я прозвал Итчику) осторожно поддерживал меня. Мне было трудно жевать даже маленькие мягкие кусочки плода хлебного дерева. Мои челюсти уже через несколько секунд уставали и отказывались повиноваться. Куски застревали в горле. Вскоре я понял, что лучше всего есть понемногу с часовыми перерывами,– после такого отдыха мои челюсти вновь обретали способность жевать. Когда островитяне узнали, что я очнулся, они пришли поглядеть на меня. Вскоре хижина была полна народу. Люди сидели, скрестив ноги, и с любопытством меня рассматривали. Я в свою очередь пристально рассматривал их лица, пытаясь догадаться, куда я попал. Кожа у них была не черная, а кофейного цвета. Ловкие, рослые, здоровые, крепко сложенные, они не походили на жителей тех островов, где мне приходилось бывать раньше. Я спросил у этих людей с добрыми лицами, как называется их остров. Но никто из них не говорил по-английски. Я повторил свой вопрос по-французски, потом по-испански. Островитяне ничего не поняли и засмеялись, решив, что я шучу. Я засмеялся вместе со своими новыми друзьями. Указывая на землю, я спросил: «Новые Гебриды?» Ни слова в ответ. «Новая Каледония?» Опять нет ответа. «Острова Лоялти?» Молчание. Хотя Соломоновы острова находились далеко, на всякий случай я спросил: «Соломоновы острова?» На этот раз островитяне оживились, и я переспросил снова: «Соломоновы острова?» 
Какой-то старик выступил впеоел и кивнул головой. Должно быть, за свою долгую жизнь он слышал о Соломоновых островах. Указав рукой вокруг, он произнес: – Ломал ома. – Ломалома? – Ломалома, Тувута. – Ломалома, Тувута? – Эти названия мне ни о чем не говорили, и я продолжал расспросы. – Ломалома, Тувута, Лау,– сказал старик. Я знал, что Лау – группа островов на востоке архипелага Фиджи. Но я не мог попасть на Фиджи, так как оставил этот архипелаг позади и поплыл к Новым Гебридам. И все же слова старика заставили меня призадуматься. Конечно, эти здоровые мужчины мало похожи на измученных малярией, покрытых язвами людей со вздутыми животами, которых я видел на Новых Гебридах во время войны. Я подумал, что, быть может, неправильно понял островитянина, и мы продолжали пробираться сквозь дебри непонятного языка. Наконец, на крышке ящика было нацарапано нечто вроде карты. Ряд точек обозначал острова Лау в архипелаге Фиджи. Старик указал пальцем на крайнюю точечку – это была Тувута, а деревня называлась Ломалома. Фиджи! Я был поражен как громом. Долго смотрел я на это жалкое подобие карты. К югу находилась Лакемба, к северу-Вануа-Мбалаву, к западу – Найау и еще западнее-самые большие острова в группе Лау. Я не мог поверить, что очутился в восточной части архипелага Фиджи. Очевидно, все мои соображения относительно скорости и местоположения яхты после урагана не имели ничего общего с действительностью. Был ли я вообще в районе Самоа? Где я блуждал последние семь недель? Этого мне никогда не узнать. Но во всяком случае я поступал так, как считал правильным, и это спасло мне жизнь. Теперь я очутился на отдаленном островке, куда, как я скоро выяснил, каждые четыре месяца приезжал местный торговец. Шхуна, груженная копрой, ушла недели две назад, и следующего рейса нужно ждать более трех месяцев. Три месяца на пустынном тропическом острове! Вокруг меня сидело двадцать рослых и сильных мужчин. Их голоса и лица выражали самое искреннее дружелюбие. Я не сомневался, что люди они мирные и я без страха могу остаться у них. Большинство островитян имело около шести футов роста, иногда на четыре или шесть дюймов больше. Все они были, что называется, богатырского сложения. Таких здоровых и бодрых людей я никогда еще не видел. Их ровные зубы, которые они никогда не чистят, сверкали белизной. Все они, и мужчины и женщины, носили только свободные набедренные повязки – «зулу», спускавшиеся до колен. Девушки прикрывали грудь, а женщины большей частью не делали этого. Все островитяне отличались красивой осанкой и легкой походкой, так как привыкли носить по узким лесным тропам тяжести на палках, перекинутых через плечо. У них широкие носы, толстые губы, густые вьющиеся волосы, образующие на голове пышную шевелюру. Главная их черта, как я вскоре убедился,– это благородство души. В жилах островитян течет меланезийская, полинезийская и тонганская кровь. В результате такого смешения возникла своеобразная негроидная раса. На острове нет ни малярии, ни тропических язв, ни страшных европейских болезней. «Прелести» цивилизации не проникли в этот отдаленный уголок, и надеюсь, этого никогда не случится. Все насущно необходимое там есть. Величайшие и большей частью недоступные нам блага так называемой цивилизации – мир, спокойствие, здоровье, безопасность – самые обычные явления в жизни острова. Теперь, когда Уна выходила меня и два самых тяжелых дня миновали, я начал быстро поправляться. Простая и здоровая пища островитян шла мне на пользу. На третий день я уже смог, шатаясь, встать на ноги, а на пятый, опираясь на палку, которую Итчи вырезал из обломка рангоутного дерева, вынесенного волной на берег, мог подходить к двери и беседовать со своими новыми друзьями, число которых быстро увеличивалось. Итчика сделал мне превосходный стул, который я в шутку именовал «троном». Я часами просиживал на нем у двери хижины, ожидая пока силы вернутся ко мне и я смогу ходить. Островитяне усаживались в кружок и с любопытством следили за каждым моим движением. Белые люди иногда приезжали на остров, но я первый остался здесь на долгое время. Каждый вечер в хижине Итчики собиралось много мужчин; неторопливо покуривая самодельные крученые папироски, они болтали при тусклом свете фонаря. На третий вечер после моего появления в деревне я впервые почувствовал себя лучше. Я даже мог сидеть на стуле без посторонней помощи. Мы разговорились, и местные жители стали меня расспрашивать, как я попал на их остров. Ответить им было совсем нелегко. К этому времени они знали уже пятнадцать английских слов, а я примерно столько же местных; все остальное я объяснил им с помощью рук. Прежде всего мне пришлось напомнить островитянам о том, что была война и что лишь недавно она закончилась. Затем я объяснил, что у меня есть жена, и показал фотографию Мэри, которую сунул в карман, когда, умирая с голоду, съел свой бумажник, а также полоску на пальце, где раньше было обручальное кольцо. После этого я рассказал им, что приплыл с «острова» Америка, о котором им уже приходилось слышать. Потом объяснил, что Мэри живет на «острове» Австралия. На листке бумаги я нарисовал карту, не забыв обозначить на ней и Тувуту. Больше всего моих новых друзей удивило, что их островок так мал в сравнении с Америкой и Австралией. Я показал им Нью-Йорк, Сан-Франциско, Новый Орлеан и рассказал, почему я не мог уехать оттуда к своей жене, которую так долго не видел. Потом нарисовал Панаму и сообщил, что отплыл оттуда на яхте. Чтобы они поняли, как велико было расстояние, я обвел рукой горизонт. Потом, приняв ширину Тувуты равной одной миле, много раз сложил и развел ладони, объясняя таким образом, сколько миль я проплыл, и одновременно показывая свой путь на карте. Я видел, что островитяне относятся к моим словам с недоверием, хотя в действительности я преодолел гораздо большее расстояние; но понять это им было трудно. Один из островитян спросил, что случилось с моими товарищами и сколько их было. Я поспешил ответить, что, кроме меня, на судне не было ни одного человека. После долгих расспросов о том, почему я так исхудал, сколько времени я не ел, как случилось, что «Язычник» разбился о рифы, тот же человек еще раз захотел узнать, где мои товарищи; я снова ответил, что был один на яхте. Он не понял меня и прямо спросил, не съел ли я спутников в тяжелые дни. Я горячо принялся доказывать, что от самой Панамы был на яхте один, но поскольку они не могли допустить и мысли о том, чтобы нормальный человек решился на такое плавание в одиночку, все попытки переубедить их были напрасны. Тот, который задавал мне вопросы, в недоумении умолк. Вмешался другой островитянин. При помощи весьма красноречивых жестов он тоже спросил, не съел ли я своих товарищей. Для пущей ясности он даже схватил меня за руку и сделал вид, будто грызет ее. Тут уж ни у кого не осталось сомнений, что я людоед. Все затаили дыхание, ожидая, что я скажу. И снова как можно наглядней я изобразил свое путешествие, все время подчеркивая, что с самого начала был один, а если бы у меня был спутник, я все равно никогда бы не съел его. Так, этап за этапом, я рассказал обо всем путешествии и дошел до той ночи, когда меня спасли. Островитяне слушали внимательно, то восхищаясь, то ахая от удивления. Все они в душе моряки, ведь любой остров – своего рода корабль на мертвом якоре, и жизнь его неразрывно связана с морем. Островитяне испытывают к морякам глубочайшее уважение. Нередко вождем здесь избирают того, кто лучше всех умеет управлять лодкой. Мой подвиг поразил островитян хотя, я уверен, они не могли понять, как это я совершил его ради женщины. Но так как я был представителем «цивилизации», они простили мне эту странность. С детской непосредственностью они пожелали, чтобы я снова рассказал все с самого начала. Не подозревая к чему это приведет, я повторил рассказ слово в слово с теми же движениями, жестами и интонациями. Островитяне бурно выражали свою радость и пожелали услышать все сначала. Они в один голос закричали: «Таланоа!» («Рассказывай!»). Их детская непосредственность обезоруживала меня. Чтобы получить хоть небольшую передышку, я обратился к своим слушателям с просьбой спеть что-нибудь. Со своей обычной простотой и непринужденностью они сразу же согласились. Звонкими, приятными голосами они затянули старинную боевую песнь. Она величаво звучала под торжественный аккомпанемент железного треугольника, производя неотразимое впечатление. Она захватывала, очаровывала самих исполнителей; склонившись вперед и опустив головы, они пели в состоянии какого-то экстаза, и глаза их подернулись поволокой. Вскоре к этому концерту присоединился надрывный лай деревенских собак, встревоженных звуками песни. Когда певцы умолкли, я решил, что теперь все разойдутся по домам. Но вместо этого гости потребовали, чтобы я тоже спел что-нибудь. У меня душа ушла в пятки. И не только потому, что я боялся выступать,– просто у меня нет ни голоса, ни слуха. Пение мое очень похоже на обыкновенный визг. Но островитяне настаивали, и я вынужден был начать свой концерт. Первое, что пришло мне в голову, это песня «В сердце Техаса», которая вызвала целую бурю восторга. Островитяне столпились вокруг меня, требуя, чтобы я пел еще. «Звездное знамя» показалось им, очевидно, недостаточно ритмичным, поэтому я затянул песню «Живей выкатывайте бочку», которая имела огромный успех. После австралийской песенки «Пляши, Матильда» я исполнил «под занавес» «Мама зарядила пистолет». Слушатели снова пришли в восторг. Я исполнил бравый футбольный марш Калифорнийского университета (в котором когда-то учился) и, прежде чем они начали просить меня спеть еще, заявил, что хочу спать. Уна, видя, что я устал, поддержала меня, и гости стали расходиться. Целую неделю Уна, мой суровый доктор, разрешала мне есть только легкую пищу – рыбу, печеные плоды хлебного дерева, цыплят, кумалу, уве (разновидность ямса – растения с крахмалистыми клубнями), черепашьи яйца, вареных угрей, манго, ананасы и плоды дынного дерева. Ел я понемногу, так как челюсти у меня быстро уставали. Кроме того, желудок мой сильно сократился и наполнялся после первых же глотков, так что приходилось ждать, пока пища переварится. Однако голод я испытывал непрерывно и ел так часто, как только позволяло мое состояние. Итчика сколотил для меня небольшой обеденный столик. Материалом ему послужили те самые доски носовой части палубы, которые выдержали столько ударов волн во время урагана и на которых я стоял часами, высматривая на горизонте долгожданную землю. Ел я семь раз в сутки, просыпаясь ночью не менее двух раз. Мне стоило сказать только: «Уна, кай-кай», как она безропотно вставала, будила мужа, и они вдвоем готовили мне еду. Итчи разводил огонь и разогревал что-нибудь по указанию жены. После этого Уна садилась около меня, разламывала горячую пищу на кусочки, вынимала все косточки и подавала кусочки мне, быстро приговаривая что-то, если я не прожевывал их как следует. Мне всегда бывало стыдно, что я не даю хозяевам покоя даже по ночам. Но у меня не хватало сил сесть без чужой помощи, а когда я немного окреп, то все равно не мог просидеть долго. Теперь я на себе испытал, как тяжело сидеть или лежать на почти лишенных мяса костях. Островитяне понятия не имели о пружинных матрацах, я спал на листьях кокосовой пальмы, и постель моя была такой же жесткой, как и деревянная койка на яхте, с той только разницей, что на яхте я имел одеяло, которого здесь не было. Однажды ночью я попытался встать и, опираясь на палку, пройти в угол, где хранились продукты, чтобы не обращаться к помощи Итчики и Уны. И тогда я понял, как чувствует себя девяностолетний старик. Я пустился в путь мелкими, неуверенными шажками. Дети здесь обычно спят прямо на полу, там, где их свалит усталость. На полпути я споткнулся о чью-то ногу и упал на кучу тел – там вповалку спали шесть мальчиков. Как тяжело и болезненно падение исхудавшего человека, от которого остались лишь кожа да кости! Судя по отчаянным крикам проснувшихся детей, им пришлось еще хуже – на них словно свалился здоровенный мешок, плотно набитый поленьями. Уна сурово отчитала меня за то, что я не разбудил ее. Меня накормили, уложили в постель, и я проспал до тех пор, пока мой организм снова не потребовал пищи. К концу первой недели Уна и Итчи объяснили мне, что теперь я могу есть что угодно. Я немедленно указал на поросенка, рывшегося в куче отбросов около хижины. Мальчики поймали поросенка, и в одно мгновение он был уже в котле. Вскоре я с наслаждением грыз свиные хрящики. С тех пор мне стали давать все, чего бы я не попросил. Тувута стала для меня настоящим раем, и я все больше убеждался в благородстве и исключительной честности ее обитателей. Островитяне принесли все вещи с «Язычника», найденные на берегу или в лагуне, и разложили их передо мной. Я взял то, что мне было нужно, а остальное роздал островитянам. Я оставил себе только один костюм и рубашку. Ноги мои до того распухли, что я много недель не мог носить ботинок, поэтому всю обувь я отдал тем, кто ее нашел. Она оказалась по ноге только ребятишкам, у мужчин ступни были большие и толстые. Остальные свои пожитки – несколько военных костюмов и всякую другую одежду – я распределил таким образом, чтобы каждому хоть что-нибудь досталось. Но самым приятным сюрпризом был возврат моих драгоценностей. Передо мной выложили серебрянный браслет, который я купил в Англии в начале войны и выгравировал на нем свою фамилию, и золотое обручальное кольцо. Я был в восторге. С тех пор, как кольцо соскользнуло с моего пальца, я не надеялся вернуть его. Но зоркие ныряльщики отыскали кольцо и браслет на дне лагуны, на глубине девяти саженей, и принесли их мне. Во время пребывания на острове я, как и все местные жители, носил набедренную повязку – «зулу». Здешний образ жизни мне нравился. Островитяне меня полюбили. Вскоре я начал выходить на улицу и гулять по деревне, опираясь на палку. В Ломаломе не принято стучаться при входе в хижину, и я частенько запросто заходил в гости к своим новым друзьям. Чаще всего навещал я местного учителя. Я сам всегда мечтал стать учителем, и поэтому мы легко находили с ним общие темы для разговоров. Вождь Тупа тоже вскоре стал моим другом. Несколько раз он приглашал меня «кай-кай», а однажды я даже удостоился высокой чести переночевать в его коро (хижине). В ту ночь Тупа и я долго беседовали при тусклом свете фонаря. Он свернул папиросу из сушеных листьев и банановой кожуры, закурил ее и поделился со мной своим желанием побывать когда-нибудь на острове Америка. Глубоко затягиваясь и зажав папиросу в толстых губах, он вспоминал о том, как в молодости на острове Вануа-Мбалаву ему рассказывали об огромных отелях, о сказочных машинах, поднимающих человека на верхний этаж дома, который выше самой высокой кокосовой пальмы. Его глаза заблестели, он поднял черную мозолистую руку. Он мечтал пожить в отеле и подняться высоко-высоко, на самый верх. Тупа выпустил через ноздри струю дыма. Поезд. Ему хотелось бы поехать на поезде, побывать в театре, пообедать в большом ресторане, увидеть большие дома – все это он сделает, когда приедет в Америку. Мускулы под его темной кожей дрожали от возбуждения, взгляд был устремлен куда-то вдаль. Америка представлялась ему такой же, как Тувута. Он будет ходить там, куда захочет, и весело проводить время. Американцы встретят его так же радушно и приветливо, как жители Ломаломы встретили меня. Слушая моего нового друга, я от всей души желал, чтобы мечты этого благородного человека никогда не осуществились.. Часто я гулял по берегу лагуны в обществе другого моего друга, седого благочестивого пастора, беседуя с ним на самые разнообразные темы. Тридцать лет назад он закончил методистскую школу в Лакембе, столице Лау, и вернулся в родную деревню. За эти годы он ухитрился сохранить в памяти десять или пятнадцать английских слов, которым выучился на торговой станции, и с их помощью мы беседовали о религии и обсуждали местные новости в маленькой деревянной церкви. Однажды я решил совершить небольшой социологический экскурс и поинтересовался, как велик процент разводов на острове. Мне казалось, что процент этот очень низок,– несравненно ниже, чем в Америке. Пастор не понял вопроса. Я попытался выразить свою мысль яснее, но старик Апько качал головой и озадаченно таращил глаза. Тогда я решил объяснить ему все как можно нагляднее. Сначала я с помощью жестов и отдельных слов попытался представить свадебный ритуал. Пастор отлично меня понял. Я объяснил, что это происходит десять раз – десять мужчин и женщин, живущих на Фиджи, женятся. Он кивнул. Тогда я пожелал узнать, сколько человек из десяти или из ста расходятся. В ответ он недоуменно уставился на меня. До сих пор он все отлично понимал, но тут разговор зашел в тупик. Наконец я догадался в чем дело. Мой вопрос просто не укладывался у него в голове, так как за всю свою жизнь он не видел ничего подобного. В словаре туземцев нет слова «развод», как нет такого обычая в их жизни. Поэтому я и не мог ему объяснить, что имею в виду. Свадьба – это свадьба, вот и все. Люди женятся и живут вместе до самой смерти. Гуляя по деревне, я наблюдал, как юноши ухаживают за девушками. Три пары вскоре собирались пожениться, и я часто видел их во время своих прогулок. Облюбовав одну из местных красавиц, юноша старается как можно чаще попадаться ей на глаза. Все, конечно, происходит совершенно «случайно». Работает ли юноша, играет или просто слоняется без дела – он всегда держится поближе к своей любимой. При этом он всячески стремится очаровать девушку своими достоинствами. Девушка, заметив это, притворяется, будто ничего не видит. Ухаживание длится от двух-трех недель до нескольких месяцев. Затем наступает последний акт, от которого зависит исход всего дела. Решившись принять предложение руки и сердца, девушка при одной из встреч «случайно» приспускает набедренную повязку или распахивает на груди бумажную блузку. После такого проявления благосклонности юноша может делать предложение, не боясь получить отказ. Родители молодых людей, давно уже знавшие обо всем, теперь, видя, что все сладилось, договариваются о свадьбе, которая празднуется в самое ближайшее время. После этого каждый из молодоженов возвращается к своим родителям. А через несколько дней все жители деревни общими силами строят «коро» для новобрачных, которые начинают жить своим домом. Во время одной из прогулок мне повстречался философ Кама. Он, как и пастор, побывал на большом острове, в Лакембе, мечтая стать учителем. Однако после двух лет общения с официальной наукой и обманчивыми благами цивилизации, он вернулся в родную Тувуту. Двадцать лет назад Кама отрекся от книг и от своей мечты принести на остров просвещение. С тоской говорил Кама о том, что островитян нужно прежде всего защитить от западной «цивилизации» со всеми ее язвами и пороками. Он знал не более десятка английских слов, но для таких людей, как Кама, слова не имели большого значения, он выражал свои мысли в образах и широких обобщениях, а такой язык понятен всем людям. Простирая руку над мирной долиной у подножия потухшего вулкана, он спрашивал: зачем островитянам чужой мир? Здесь нет преступников, нет конкуренции, нет сексуальных извращений. Старые и немощные не знают забот. Люди здесь здоровы, на острове всегда царит мир. А если кто заболеет, в лесу довольно целебных трав. Взять хотя бы меня: коралловые ожоги зажили, больное колено выздоровело, и я выжил, хотя был на волосок от смерти. Я рассказал ему о войне, отголоски которой докатились и до Тувуты. Кама был очень рад, что война кончилась. Когда я описал разрушительное действие атомной бомбы, он пришел в ужас. Позднее вождь, учитель и пастор пришли ко мне и спросили, правда ли все то, что я говорил Каме. Я мрачно кивнул, а они долго и как-то загадочно смотрели на меня, словно считая меня одним из виновников злодеяний, совершившихся в далеком от них мире. Чтобы произвести на них еще большее впечатление, я стал объяснять подробности. Изобразив при помощи пальцев самолет, который им уже приходилось видеть, я засвистел, подражая свисту падающей бомбы, потом закричал: «Бах!», что должно было обозначать взрыв. Это они тоже поняли, так как кое-что знали о бомбах. Затем я изобразил самолет над Тувутой, поднял кверху палец, сказал «одна атомная бомба» и показал рукой, как она падает посреди острова. Потом сделал движение, которое должно было означать: остров сметен с лица земли, все его жители убиты, даже воздух отравлен. Они были поражены. Старый философ побрел прочь, грустно качая головой. В другой раз мы впятером сидели в хижине вождя, пили. целебный сок кокосового ореха и беседовали о том о сем, пользуясь нашим скудным запасом слов. Я рассказал им о голоде на «островах» Индия и Европа, о лишениях военного времени на «островах» Англия, Китай и Россия, о бедствиях во всем мире. Они были довольны, когда услышали, что только на Тувуте люди ни в чем не испытывали недостатка. Все они слыхали о сказочном «острове» Америка. Этим простым людям все страны представлялись островами. Они никак не могли поверить, что и в Америке не хватает «кай-кай». Но я заверил их, что это так, и тогда родной островок сразу вырос в их глазах. Как– то перед выходом на рыбную ловлю я описал своим друзьям небоскреб Эмпайр Стэйтс Билдинг, быстрые автомобили, целые эскадрильи самолетов, кинотеатры, университеты с многими тысячами студентов, мост через пролив Золотые Ворота в Сан-Франциско. Мои собеседники внимательно выслушали меня, но мой рассказ не мог уложиться в их воображении. Пастор спросил, есть ли в Америке большие и красивые церкви. Я ответил, что есть, но должен был признать, что баров, игорных домов и ночных клубов намного больше и следят за ними куда лучше. Чтобы избежать новых щекотливых вопросов, я встал и распрощался. Я не мог поступить иначе. Авторитет Америки, основанный на слухах, был здесь довольно высок, и я не хотел его подрывать, а поэтому пошел к лагуне, где рыбаки готовились к отплытию. Деревенские ребятишки собрались здесь, чтобы поглядеть, как отплывут рыболовы. Взрослые еще не вышли из хижин, только одна девушка в набедренной повязке и мягкой бумажной блузке возилась около лодки, нос которой был вытащен на берег. Она помогла мне сесть в лодку, оттолкнула ее, и мы стали дожидаться остальных. Я сидел на носу, глядя на берег и на воду, как вдруг что-то мягкое задело меня за плечо и упало на дно лодки. Обернувшись, я обомлел – то была блузка девушки. Мне было известно, для чего девушка растегивает блузку в присутствии мужчины,– но снять ее совсем! Мне стало не по себе, должно быть, я покраснел. В этом уже не было ничего сслучайного», девушка вполне откровенно выказала мне свое внимание. А между тем, вид у нее был такой равнодушный! Как объяснить этой девушке, не обижая ее, что я уже женат и счастлив? От берега отчалили другие лодки и поплыли к нам. Я в отчаянии ерзал на месте. Когда лодки приблизились, я широко раскрыл глаза от удивления. Там было еще шесть или семь девушек, все они, как замужние женщины, были в одних зулу. Оказалось, что во время рыбной ловли девушки ныряют за рыбой с острогами в руках, а для такой работы блузки – только помеха. Девушка на корме моей лодки сосредоточенно и спокойно всматривалась в воду. Облегченно вздохнув, я с увлечением принял участие в лове. Я СТАНОВЛЮСЬ ЖИТЕЛЕМ ОСТРОВА Впервые я посетил местную церковь на седьмой день пребывания в Ломаломе. По воскресеньям островитяне ходят в церковь три раза: рано утром, в полдень)и вечером. Кроме воскресений, церковные службы бывают утром по средам. Островитяне сходятся к церкви по сигналу лало – большого праздничного барабана. Я надел свой мятый синий костюм и натянул носки на распухшие, больные ноги. Первыми в церковь входят женщины и минут десять поют там протяжную песню. Закончив ее, они усаживаются на полу слева от входа. Правую часть помещения занимают мужчины, за ними стройными шеренгами становятся мальчики, а слева, позади женщин,– девочки. В церковь островитяне приходят в красивых нарядах. Их темные курчавые волосы тщательно причесаны и намазаны маслом. На них лучшие праздничные повязки и цветные рубахи с короткими рукавами. Кожа смазана вали-вали – ароматным кокосовым маслом – и отливает медью. Несмотря на всю торжественность обстановки, богослужение выглядит довольно забавно. В конце комнаты садится какой-нибудь старик, чтобы присматривать за мальчиками. В руках у него тонкий и длинный прут. Стоит кому-нибудь из детей перестать молиться, как старик касается прутом его головы. Мальчики с новой энергией затягивают песни и гимны. Мой стул поставили перед самой кафедрой. Пастор и два его помощника вошли в церковь последними. На пасторе было мое полосатое коричневое пальто, найденное среди обломков яхты. Он принес пальто мне, но я отказался взять его. Узкое, с короткими лацканами, оно было сшито еще в колледже. Рукава были пастору коротки, пуговицы на его могучей груди не застегивались, так что ему пришлось подпоясаться веревкой. Служба началась с гортанной ритмичной песни под аккомпанемент железного треугольника. После этого один из псаломщиков прочел горячую молитву. Кончив, он вытер струившиеся по лицу слезы большим белым платком. Снова певцы затянули протяжную чарующую песню. Затем второй псаломщик, мой друг Кама, пропел трогательную молитву, в которую вложил крупицу своей мудрости. Он тоже не скрывал своих слез. Странно было видеть, как эти рослые и сильные мужчины проливали слезы, стоя на коленях. Снова в тесной церковке зазвучала песня, и к кафедре подошел пастор. В жизни я не слышал более проникновенной и убедительной проповеди, хотя, разумеется, я не понял в ней ни единого слова. Он проповедовал слово божие громовым голосом, ударяя могучими кулаками по кафедре; словно вколачивал свои вдохновенные слова в головы восхищенных слушателей. Была исполнена заключительная песнь, и богослужение кончилось. Я обошел пустую комнату, в которой не было ничего, кроме кафедры и двух грубо сколоченных скамеек. Не было здесь даже керосиновой лампы. На одной стене висела реклама виски с изображением акулы. Стены и пол этой своеобразной церкви не были даже окрашены или побелены. Дом этот построили лет двенадцать назад английские колониальные власти за счет местных жителей, которые платили деньгами, вырученными за копру. Вечером я отведал одно из самых изысканных местных блюд. Уна поймала «унга вули» – гигантского кокосового краба. С первого взгляда он показался мне чем-то средним между крабом, омаром и тарантулом. Размах его клешней иногда достигает двух футов, а сами клешни, усеянные острыми шипами, вполне способны отхватить у человека палец. Сзади у «унга вули» имеется круглая пластинка величиной с кулак. Островитяне пропускают под эту пластинку лиану и подвешивают краба к дереву или к потолку хижины, где он ожидает своей участи. Повиснув головой вниз, «унга вули» становится совершенно беспомощным. Живет он на кокосовых пальмах, перегрызает ветви, на которых висят орехи, затем очищает их от кожуры, а особенно крепкие орехи ухитряется так или иначе разбить, после чего высасывает молоко и поедает сочную мякоть. Белого мяса такого гигантского краба вполне достаточно, чтобы накормить трех здоровых мужчин. Оно гораздо вкуснее, чем мясо омара. Омаров, или «урау», как их здесь называют, я ел не один раз, но всегда предпочитал им «унга вули». Мне больше нравилось вареное мясо, хотя островитяне обычно жарят краба на горячих углях. Своеобразный «мешочек», расположенный сзади, содержит острый сок, который служит превосходной приправой к мягкому сладкому мясу. Островитяне необычайно щедры на угощение. Дня не проходило, чтобы соседи не поделились со мной своей пищей. Когда ночью возвращались рыболовы, они всегда приносили мне какое-нибудь лакомство. Островитяне, уходившие на промысел в лес, непременно возвращались с фруктами или овощами для меня. Даже дети, которые, играя на берегу или в чаще, находили что-нибудь вкусное, бежали в деревню и робко клали у наших дверей свою находку. Я съедал все, что мне предлагали, никогда не сомневаясь в доброкачественности пищи. Цветущее здоровье островитян служило этому надежной гарантией. Налитые мускулы, белоснежные зубы, добродушие, бодрость и жизнерадостность этих людей не оставляли у меня сомнений. Я без колебаний ел печеных угрей, сырые черепашьи яйца, вареное мясо спрута, рыбьи головы, сушеных морских червей. Уна готовила много диковинных блюд. Иногда они казались мне подозрительными, но с тех пор, как я окреп и кожа моя вновь обрела упругость, я стал есть все, что она стряпала. По первому моему желанию мне приносили все, что угодно. Стоило мне сказать: «Кай-кай унга вули», как Уна уходила в лес и вскоре возвращалась с гигантским крабом. Если я хотел угрей, черепахового супа, омара или моллюсков, Уна брала холщовый мешок и, ни слова не говоря, шла к лагуне. Если я просил фруктов или овощей, Итчи или один из его сыновей отправлялись бродить по узким лесным тропам и приносили то, чего мне хотелось. Проведя на острове неделю, я был уже не так слаб. Тело мое приобрело более или менее нормальный вид. Бедра стали мягче, я уже мог сидеть, не упираясь руками в стул. Спать мне тоже было теперь гораздо удобнее. Кости начали обрастать плотью, и я уже меньше походил на отощавшего щенка. В понедельник четвертого ноября я начал подумывать о продолжении путешествия в Австралию. Я позвал Итчи и напрямик заявил, что хочу уехать. Он огорчился и помрачнел, но все же пригласил к себе нескольких соседей, чтобы обсудить мое намерение. Каждый из них был мне представлен, но я не смог запомнить имена и звал их просто Джо, Билл и Майк. Я предложил отремонтировать хорошенько одну из лодок и плыть в Лакембу, до которой было около сорока миль. Этот план был дружно отвергнут: наступило время штормов, коварные изменчивые ветры внезапно сменялись мертвым штилем. Плыть было слишком рискованно. «Не надо спешить, не надо волноваться»,– сказали мне островитяне. Итчи предложил дождаться парохода, перевозящего копру, который должен был прийти в январе. Все согласились, что это гораздо разумнее, чем выйти в океан сейчас, и встали, собираясь уходить. Но я запротестовал и стал объяснять им, что не видел жену восемнадцать месяцев и больше не могу ждать. Я предложил подавать сигналы, если в виду острова появится какое-нибудь судно. Паруса моей яхты, хотя и сильно пострадавшие на рифах, все же уцелели. Нашлись и медные блоки, и фал, при помощи которых можно было поднять паруса. Я предложил срезать верхушку у какой-нибудь высокой кокосовой пальмы и приладить к ней такелаж, чтобы, завидев корабль, сигналить, поднимая и опуская паруса. В тот же день мой рваный маленький грот уже полоскался на оголенной верхушке большой кокосовой пальмы. Вечером вождь сообщил мне, что в мою честь устраивается угощение с «янгоном» – местным пивом. Я ничего не знал о нем, но понял, что речь идет о чем-то интересном, и заверил его, что приду непременно. Вскоре я уже сидел на своем стуле среди островитян, расположившихся на полу в хижине вождя. Я на своем шатком раскрашенном стуле возвышался над всеми, словно самозванный король. Несколько фонарей тускло освещали комнату. Гости были в праздничном настроении. Усевшись поудобнее, они оживленно болтали, ожидая начала торжества. Здесь собрались все взрослые обитатели деревни. Мальчикам и подросткам было разрешено стоять у дверей. В круг вошли четыре девушки и сели на пол лицом ко мне. Они должны были исполнить «меке та» – танец в честь гостя. Вошли еще четыре девушки и уселись подле первых, спина к спине. Одна девушка села у порога с неизменным треугольником и железной палочкой. Лица девушек были густо покрыты какой-то белой мазью, алые гирлянды из волокна гибискуса, перевитые цветами, висели у них на шеях. Руки, ноги и груди, натертые «вали вали», отливали бронзой. Запястья, локти и лодыжки были обвиты кокосовыми листьями и цветами. В густые, красиво причесанные волосы были вплетены цветы, и в правой руке каждая держала по цветку. Зазвенел треугольник, и церемония началась. Девушки, сидевшие спиной ко мне, затянули торжественную песню, все присутствующие стали в такт ударять в ладоши; девушки, сидевшие лицом ко мне, подтянули, плавно поводя руками. Своими грациозными движениями они как будто рассказывали какую-то простую и трогательную историю, которой я не мог понять. На Фиджи часто танцуют так, не вставая с места. Во время танца девушки несколько раз менялись местами. Темп постепенно нарастал, песня звучала громче, движения становились более выразительными и причудливыми. К концу у меня сложилось впечатление, что исполнительницы сделали все мыслимые движения, какие только можно сделать, не вставая с места. Вскочив со стула, я громко захлопал в ладоши и пожал руки всем девушкам. Видя мой восторг, они еще раз повторили весь танец. На этот раз я только слегка улыбнулся. Затем появилась «янгона» – местный, алкогольный напиток, который не вызывает тех неприятных последствий, какими сопровождаются у нас подобные возлияния. Напротив, он очень полезен для здоровья. Пьют его только мужчины, да и то лишь в особо торжественных случаях. Для приготовления янгоны в деревянной ступе растирают корни кавы, а потом смешивают порошок с водой в большой миске. После этого жидкость фильтруют через волокно гибискуса, отчего она становится коричневатой и довольно крепкой. Лучшая певица подошла к чаше с янгоной, почтительно склонилась перед ней и дважды ударила в ладоши. Другая девушка наполнила из чаши скорлупу кокосового ореха и передала ей. Певица поднесла ее мне как почетному гостю, я ее осушил, потом скорлупу снова наполнили и передали вождю. После этого янгоной угощали всех по очереди, пока чаша не опустела. Тогда приготовили новый напиток, а гости тем временем оживленно беседовали и шутили. Вкус янгоны ни с чем не сравним, но действие ее едва ли можно назвать необычным – она опьяняет и вызывает легкое головокружение. Мне нужно было бы отказаться уже от третьей чаши, ибо после десятой я во весь голос затянул «В сердце Техаса» и затеял веселую возню с ребятишками. Итчи благоразумно решил увести меня домой, пока празднество не стало слишком бурным. Наутро у меня с похмелья болела голова и чувствовал я себя неважно. Когда я вышел из хижины, колени у меня слегка дрожали. К тому же, как оказалось, помимо прочих «целительных» качеств, янгона обладает еще свойствами слабительного. ***
Уна накормила меня легким завтраком – мелко нарезанными плодами хлебного дерева, сваренными в кокосовом молоке, и моллюсками «вазуа». Я закусил их настоем лимонного сорго и плодом дынного дерева. Уна долго ругала мужа за то, что он повел меня в «это гнездо порока» – так она именовала вчерашний праздник у вождя. В тот день, пятого ноября,, произошло важное событие. Вскоре после завтрака раздался громкий крик. На горизонте показалась какая-то точка. Парус! Прибежали Итчи и Майк, они что-то говорили и взволнованно указывали в сторону моря. Услышав, как на берегу крикнули «Лако мото!», я понял, что появился корабль, и схватил свою палку. Я не мог бежать быстро, и Итчи, охваченный нетерпением, подхватил меня на руки и понес через всю деревню как связку бананов. Джион, один из сыновей Итчики, тащил следом мой стул. Сидя на берегу, я разглядывал парус и рубку шхуны, перевозящей копру. Майк и Джо подавали сигналы парусом. Я командовал: «Вверх!» – и грот взлетал на верхушку пальмы, «Вниз!» – и грот опускался. Шхуна продолжала идти прежним курсом, пока не очутилась у нас на траверзе. Майк и Джо отчаянно дергали за фал. Я вскочил на стул и громко кричал, размахивая палкой. Вся деревня старалась привлечь к нам внимание людей на шхуне. Мы орали, прыгали, махали руками. Но шхуна спокойно прошла мимо и вскоре скрылась из виду. Я был в отчаянии. Все казались растроенными, только Уна радовалась, что на судне не заметили сигнала. Она подошла ко мне и объяснила, что я еще слишком слаб, чтобы уехать с острова. Теперь мне стало ясно, что одного паруса недостаточно, чтобы привлечь внимание на судне. Быть может, на таком расстоянии его просто не видно, а если даже его и увидят, едва ли кто-нибудь догадается, что это сигнал бедствия. Я сказал об этом вождю и попросил сложить на берегу несколько куч хвороста, чтобы поджечь их, как только на горизонте покажется труба или парус. Вождь согласился и велел мальчикам идти в лес. Вскоре на берегу уже возвышались четыре большие кучи хвороста. Итчи настойчиво предлагал мне побриться и подстричь волосы. Он уговаривал меня целую неделю, но я не соглашался. Я боялся бритвы даже больше, чем щипцов зубного врача. Часто мне приходилось видеть, как люди бреются холодной водой, стиральным мылом и бритвой, направленной на простом точильном камне, но это было не по мне. Однако Итчи твердо решил добраться до моих бакенбард, и в конце концов я вынужден был согласиться. Моя борода отросла на целых пять дюймов и от солнца стала совсем белой. Волосы закрывали лоб и уши и свисали до самых плеч. Они тоже сильно выгорели и побелели. Именно этот цвет в сочетании с докрасна загоревшим лицом напугал туземных ребятишек в тот день, когда я окликнул их со скалы. У Итчи были старые тупые ножницы, которые он и пустил в дело. Билл, Джо и Майк пришли посмотреть, как он будет меня стричь. Волосы так и летели во все стороны, то и дело я невольно вскрикивал от боли. После часа тяжких мучений я лишился бороды и почти всех волос на голове. Когда я увидел свое отражение, меня чуть не хватил удар. Так, должно быть, я выглядел бы в девяносто девять лет. Из зеркала на меня смотрел настоящий скелет: морщины у глубоко запавших глаз, торчащие скулы и ввалившиеся щеки, выступающие на лбу вены, худая шея, обвислые уши. От скул до того места, куда спадали волосы, лицо было покрыто загаром, а ниже виднелась землистая кожа, долгое время прикрывавшаяся бородой. ПАРУС! Уже несколько дней в деревне шли разговоры о предстоящей охоте на «унга вули». Уна сказала, что все это затевается ради меня. В охоте должны принять участие много людей – Билл, Джо, Майк, Тукай, Суви со своими семьями. Им предстояло выступить на другое утро и вернуться только через три дня. Я понятия не имел о том, как охотятся на кокосовых крабов, но с удовольствием согласился отправиться вместе с ними. На рассвете я спустился к берегу и залез в лодку Итчи. Рядом стояло еще шесть лодок, люди и груз были уже на месте. Настроение у всех было праздничное. Все население деревни вышло проводить нас. В лодку поставили мой «трон», и она отвалила от берега. Стоя на носу, Итчи энергично отталкивался от дна длинным шестом, Уна помогала ему с кормы, и лодка быстро двигалась вперед. Через некоторое время, когда мы изменили курс и ветер стал дуть в корму, на носу были натянуты два больших кокосовых листа. Уна бросила шест и взялась за рулевое весло. Охота на «унга вули» сочетает в себе приятное с полезным, пополняя рацион. Лодка легко скользила над коралловым дном, глаза всех были устремлены вниз. Внезапно Итчи прыгнул в воду с острогой в руке. Перегнувшись через борт, я видел, как он нырнул на глубину не меньше шести морских саженей и погнался за большой черепахой, которая, завидев, лодку, ушла на дно. Итчи настиг черепаху, остановился на мгновение, мускулы его напряглись, он сильно ударил черепаху острогой и вскоре вместе с добычей вернулся к лодке. В двух милях от деревни мы вошли в плоскую бухточку, окаймленную скалами. Берег был белый, песчаный, а поодаль росли кокосовые пальмы. Охотники вытащили лодки на песок и бросили в воду каменные якоря, привязанные к лианам. Уна принялась кипятить мне чай к завтраку – я все еще должен был есть каждые три часа. Итчи вынес на берег нож, с которым обычно ходил добывать копру, мешки и топор. Жена Майка принесла мне кусок кварца, к которому прилепились какие-то маленькие существа со сладким мясом. Я ел их с кумалой, бананами и запивал чаем. Нам предстояло обойти вокруг всего острова, останавливаясь у каждой рощицы кокосовых пальм, чтобы собирать копру. Когда работа заканчивалась, женщины обшаривали рощу в поисках «унга вулц». Потом всю добычу грузили в лодки, и мы плыли к следующей рощице. Кокосовые пальмы – главный источник существования островитян. Они пьют молоко и едят мякоть зеленых кокосовых орехов. Позже, когда орехи созревают, из них добывается «крем» для приготовления пищи и «вали-вали» – мазь для кожи. Кожура идет на топливо, на выкуривание москитов из хижин, на изготовление корзин и веревок. Мелко нарубленную сушеную мякоть спелых орехов островитяне едят сами или продают – это их единственный источник доходов. Пальмовые листья служат кровельным материалом, а также идут на изготовление циновок, корзин и вееров. Из стволов делают подпорки и балки для хижин. Как только лодки причалили к берегу, все принялись собирать кокосовые орехи. По команде Итчики сыновья его схватили большие джутовые корзины и побежали к пальмовой роще. Каждая семья действовала самостоятельно. Итчи и Уна с четырьмя сыновьями работали на краю рощи. Мальчики собирали сухие коричневые орехи, а когда корзины наполнялись, приносили их матери, Уна топором разрубала каждый орех надвое и перебрасывала половинки Итчике, сидевшему рядом. Неуловимо быстрым и точным поворотом ножа с обоюдоострым лезвием Итчика отделял мякоть от скорлупы и складывал ее в кучу. Вскоре все спелые орехи были собраны. Пока мужчины складывали мякоть в мешки и перетаскивали их в лодки, женщины отправились в лес на поиски «унга вули». Для этого нужен зоркий глаз и глубокое знание привычек животного. «Унга вули» прячется в густых зарослях, его нелегко выгнать наружу и поймать. К сожалению, я был еще слишком слаб, чтобы идти в лес, и не мог наблюдать охоту. Менее чем за час женщины поймали шесть «унга вули», и мы двинулись дальше. Ветер раздул пальмовые листья, натянутые на носу, и лодки вышли из лагуны. Вот уже под нами одна, две, четыре, пять, семь, девять морских саженей прозрачной воды. Отчетливо как на ладони, видны подводные рифы, ракушки, рыбы. Лежа на борту лодки, я внимательно вглядывался в дно лагуны, любуясь разнообразием его рельефа и ярким калейдоскопом сменяющих друг друга картин. «Вазуа!» – пронзительно закричала Уна. Прежде чем я успел обернуться, ее уже не было в лодке. Я видел, как она быстро нырнула на глубину пятидесяти футов с острогой в руке. Длинные волосы струились следом за ней, набедренная повязка мелькала в косых лучах солнца. Достигнув дна, Уна медленно поползла вперед. Итчи поставил лодку носом к ветру. Гигантский морской моллюск «вазуа» часто встречается у островов Фиджи. Уна заметила его раскрытые створки и мгновенно бросилась в воду. Когда моллюски забиваются в глубокие щели, охота на них связана с немалым риском. Я уже знал, что первая жена Итчики трагически погибла во время охоты на «вазуа». Она в одиночку пробралась на коралловый риф и неосторожно поднесла руку к приоткрытым створкам раковины, которые мгновенно захлопнулись, зажав ее кисть как в тисках. Начался прилив, и одинокая беспомощная женщина погибла под водой. Итчи напряженно следил, как Уна подбирается к моллюску, нацеливая острогу. Он был готов в любую секунду прийти к ней на выручку. Я перегнулся через борт, чтобы лучше видеть каждое движение Уны. Уна остановилась и плавно отвела острогу назад. Если моллюск почувствует колебание воды, он тотчас захлопнет створки. Наступил критический миг. Уна молниеносно вонзила копье в моллюска, и его мощные мышцы сразу ослабели. Тогда она выплыла на поверхность, чтобы набрать воздуха, и снова нырнула. Итчи по-прежнему был наготове. Опасность не миновала – среди кораллов могла появиться акула. Уна спустилась на дно, развела пошире створки моллюска и вырезала ножом его нежное мясо. Раковина у него толстая и зачастую весит сотни фунтов. Уна вынырнула с большими кусками белого жирного мяса и бросила их в лодку. Двигаясь дальше вдоль северо-западного берега острова, мы остановились у довольно большой рощи и сели завтракать. Потом женщины поймали еще одиннадцать «унга вули». На ночь мы стали лагерем на берегу заливчика близ северной оконечности острова. Меня уложили на плетеной циновке в пальмовой роще. Лежа на спине, я долго смотрел на звезды, сверкающие в тропическом небе, и прислушивался к мерному гулу прибоя. Наутро мы погрузили в лодки тяжелые мешки с копрой и, оттолкнувшись от кокосовых пальм, росших над самой водой, повернули вдоль пустынного наветренного берега. В тот день мы два раза останавливались утром и один – после полудня. Итчи и Билл решили, что до темноты можно пройти еще немного, и мы поплыли вдоль скалистого берега на юго-восток. Я увидел пальмовую рощу еще издалека. Кроны пальм поднимались над причудливыми базальтовыми глыбами неподалеку от того места, где моя яхта налетела на рифы. Достигнув мыса, наша хрупкая лодчонка была подхвачена течением и влетела в открытый залив. Тут я увидел такое зрелище, что не поверил своим глазам. Мой многострадальный маленький тендер лежал на берегу, глубоко врезавшись килем в песок, жалкий и исковерканный. Волны перебросили его через полосу рифов шириной более двухсот ярдов, потом он проплыл целую милю по лагуне и причалил к берегу, развернувшись носом к морю. Я не смог понять, как это произошло. Это было просто невероятно. Он и сейчас там, омываемый морем, искалеченный до такой степени, что нечего и мечтать его отремонтировать. Ночью я снова подходил к «Яхте» и гладил ее корпус. Немногим яхтам выпала на долю столь бурная судьба. Хоть и недолго владел я ей, она послужила мне верой и правдой. В тяжелые минуты она казалась мне живым существом, а теперь ее останки погребены в песке. Стоя возле разбитого судна, я испытывал настоящее горе, словно потерял близкого человека. Я еще раз погладил его потрепанную обшивку, бросил на него прощальный взгляд и побрел прочь. Утром на берегах Бухты «Язычника» (так я окрестил этот небольшой заливчик) были собраны все спелые орехи, и мы двинулись дальше. Вот мыс, где Итчи продирался сквозь густой лес и карабкался по скалам мне на помощь. Вот песчаная отмель, куда меня выбросили волны, а чуть подальше – предательский грот, над которым я пролежал целые сутки. Еще миля – и мы остановились в последний раз перед тем, как. вернуться в деревню. Роща была слишком близко от Ломаломы, поэтому здесь оказалось мало копры и женщинам удалось поймать лишь трех «унга вули». Копра была вынута из мешков и разложена на скалах для просушки. Через несколько дней она снова будет собрана в мешки и сложена в деревне в специальные сараи до января, когда прибудет торговое судно. Перед отплытием я увидел новое для себя зрелище. Женщины принесли на берег охапки длинных коричневых лиан и стали резать их на куски по двенадцать дюймов каждый. Потом, собрав лианы в пучки, они били ими о камень или о бревно и скатывали их в клубки. Положив в каждую лодку множество таких клубков, мы отчалили и поплыли, но не вдоль прибрежной отмели, а в глубь лагуны. Мы проплывали над коралловыми рифами, вокруг которых под водой кипела жизнь. Вскоре в одном из темных подводных гротов было что-то замечено, все лодки устремились к этому месту и бросили якоря вокруг рифа. На каждой лодке держали наготове стальные остроги. Клубки лиан были на минуту опущены в воду, а потом ими снова стали бить о нос лодки. С лианами в руках женщины прыгнули в прозрачную воду и положили их неподалеку от грота. Мужчины все это время стояли с острогами, готовые в любую секунду нырнуть. Очевидно, лианы выделяют какое-то вещество, которое частично парализует и в то же время привлекает рыб. Обычно юркие и подвижные, они на этот раз выплыли из расщелин какие-то полусонные и начали сразу же подниматься кверху. Мужчины с острогами накинулись на легкую добычу. За два часа мы запасли рыбы на всю деревню. Свободные места в лодках были заняты красными, голубыми, зелеными, коричневыми, белыми и черными рыбами иногда до четырех футов длиной. К вечеру наши лодки благополучно вернулись в Ломалому. В наших корзинах – «кетекете» – было дюжины две рыб, две черепахи, много разных моллюсков, устриц, угрей, черепашьих яиц и тридцать семь «унга вули». Деревня радостно приветствовала охотников. Мой друг вождь Тупа сказал мне, что на следующий день состоится большой праздник в мою честь. В тот вечер я чувствовал себя почти совсем здоровым. Я окреп, проведя три дня на свежем воздухе, питаясь нежным мясом «унга вули» и целительным кокосовым молоком. Все это время я ходил в набедренной повязке, часами лежал на солнце, бродил по берегу, спал или развлекался с друзьями – что может быть полезнее для здоровья! Я с нетерпением ждал праздника. Все утро жители поселка готовились к нему. Всюду развели огонь в земляных очагах – хитроумных приспособлениях для приготовления пищи. В земле выкапывается десяток небольших ям глубиной около двух футов, на дно их бросают горящие угли, которые покрываются слоем гладких камней. Пищу, завернутую в банановые листья, кладут на горячие камни и присыпают песком. Когда через три часа мясо вынимают из ямы, оно становится таким нежным, что легко отделяется от костей. В деревне закололи двух свиней, зажарили десять цыплят, фунтов сто рыбы, тридцать «унга вули», приготовили много кумалы, бананов, кассавы, плодов хлебного дерева, сладкого картофеля – все, что можно было подать по сезону. Были собраны всевозможные фрукты – манго, плоды дынного дерева, ананасы, и другие плоды, которых я никогда раньше не видел. Много было и зеленых кокосовых орехов – без них на Тувуте не обходится ни один праздник. Пальмовые листья были уложены в ряд во всю длину лужайки посреди деревни. Пища была вынута из очагов и разложена на листьях так, чтобы каждый мог дотянуться до любого блюда. Мы сидели скрестив ноги – теперь я уже мог сидеть по туземному обычаю – перед всем этим сказочным великолепием. Меня как гостя усадили на почетное место во главе «стола» и дали несколько гирлянд из волокна гибискуса, перевитых цветами. В знак благодарности за доброту и гостеприимство я надел их на шею, хотя это и было связано с некоторыми неудобствами. Вождь кивнул головой, приглашая меня начать пиршество. Я отведал ближайшего кушанья, и все последовали моему примеру, Я старался попробовать всего понемногу. Целый час мы ели, разговаривали и снова ели. К концу обеда я уже до того наелся, что от одного вида пищи меня мутило. Островитяне любят хороших едоков – чем больше я ел, тем радостнее они улыбались. Наконец, вождь встал и произнес трогательную речь, потом говорил пастор, за ним учитель и мой друг философ с печальным лицом. После этого меня попросили рассказать историю моего путешествия, которая была выслушана с живейшим удовольствием. Появились девушки и исполнили сидя свой причудливый танец. После этого вождь встал и пригласил всех к себе пить янгону. Помня о том, что было со мной в прошлый раз, я решил пить поменьше. Чтобы не обидеть друзей, я пошел в хижину вождя, но после второй чаши извинился и ушел спать. Следующая неделя была для меня томительной. Я полюбил остров, мне нравилось жить здесь, но я стремился к Мэри и все время думал о том, как бы послать весточку ей и своим родным. Но я был отрезан от мира. День проходил за днем, и я томился в тихом отчаянии. Долгие часы простаивал я на берегу, оглядывая пустынный горизонт и надеясь, что вот-вот мелькнет какой-нибудь парус. Чтобы скоротать время и отогнать печальные мысли, я часто бродил по деревне, останавливаясь почти у каждой хижины. Я смотрел, как женщины, собираясь небольшими группами, плетут циновки и оживленно беседуют друг с другом, как они толкут кору тутового дерева, чтобы красить ткани, как плетут корзины и веера из пальмовых листьев, готовят пищу, нянчат детей, убирают хижины. У женщин есть свои обязанности, которые они так или иначе должны выполнять. Однако островитянам, живущим среди природы, трудно разграничить женский и мужской труд. Женщины носят воду, запасают топливо, помогают обрабатывать сады и огороды, ловят рыбу, ныряют за моллюсками и устрицами, стряпают, стирают и ведут хозяйство. Нигде я не встречал таких чистоплотных людей, как здесь. Они часто моются и стирают свою одежду, хижины и деревенские улицы сияют чистотой. Мужчины и женщины одинаково тщательно следят за своими волосами и аккуратно их причесывают. Общественное устройство на Тувуте является любопытным сочетанием частной и общественной собственности. Каждая семья владеет своим участком в лесу. Обрабатывает его обычно глава семьи со старшим сыном. Собрав, урожай, островитяне тотчас же снова засевают участок. Плодородная почва не требует ни удобрения, ни полива, ни вспашки – достаточно засеять ее и время от времени выпалывать сорняки, чтобы получить обильный урожай. Фруктовые деревья, кокосовые пальмы и лесные тропы принадлежат всем. Ими распоряжается вождь. Если они нуждаются в уходе, вождь проходит вечером по деревне, выкрикивая имена и распределяя обязанности, и все беспрекословно ему повинуются. Дома они строят и ремонтируют так, как это делают пчелы – все вместе. Совместными усилиями строятся и лодки. Содержать стариков и калек при таком изобилии очень легко. Болезни, в тех редких случаях когда они появляются, лечат травами. Доктору здесь нечего было бы делать. Обычно день в Ломаломе проходит так: все встают с первыми лучами солнца. До завтрака, который женщины подают часам к восьми, никто не занимается серьезными делами. Завтрак обычно очень простой: кумала, рыба, вареные бананы, крабы и свежие фрукты. После завтрака женщины убирают хижины, стирают, плетут циновки, а мужчины точат копья или ножи, поправляют хижины или чинят лодки. Часам к одиннадцати мужчины вместе с сыновьями отправляются в лес и около двух возвращаются с фруктами и овощами. Корзины они носят на конце палки, перекинутой через плечо. Все закусывают, и до вечера каждый занимается своими делами: одни ловят рыбу, другие спят, третьи беседуют или помогают соседям. Днем все обязательно находят время для купания. В сумерках островитяне обедают – это самая плотная еда за весь день, хотя никакую пищу на острове нельзя назвать плотной, кроме разве свинины или цыпленка, которых едят здесь довольно редко. Обед готовится тщательно и состоит из самых разнообразных блюд. Вечер жители Ломаломы коротают, сидя у дверей хижин, они глядят, как играют дети, и болтают с соседями. К девяти часам все начинают зевать, огни гаснут, и наступает тишина. Жизнь текла спокойно и размеренно, а я тосковал, бродил по берегу и глядел на горизонт. Я все время прислушивался, не раздастся ли крик: «Парус!». Мысленно я был в Сиднее, с Мэри. О чем она сейчас думает? Получила ли мое письмо, оставленное в бухте Почтовой почти четыре месяца назад? Я не знал, что письмо мое она получила в начале октября,– оно было сдано на почту в августе в Гваякиле. Но она узнала из него лишь одно – что в конце июля я отплыл с Галапагоса на запад. Я собирался доплыть до Сиднея к концу сентября, а теперь уже середина ноября, таким образом я запаздывал на целых шесть недель! Да, у Мэри было достаточно оснований для беспокойства. Утро 15 ноября началось как обычно. За ним наступил еще один день, полный тревог и надежд: я ждал какого-нибудь события, и мои ожидания сбылись. На берегу раздался громкий крик, который мгновенно подхватили в деревне. Услышав «лако мото», я сразу понял, что на горизонте показался парус, и бросился к берегу. Действительно, я увидел парус – он двигался параллельно берегу. Это была парусно-моторная шхуна, шедшая с большой скоростью. Итчи и Майк принялись поднимать и опускать парус, а Билл и Джо подожгли все четыре кучи хвороста и стали раздувать огонь. Суви и Тукай бегали по берегу, размахивая над головой рыболовными сетями. Уна стояла молча. Раздались громкие возгласы, вся деревня пришла в движение. Яркое пламя взметнулось вверх, голубой дым, завиваясь спиралью, поплыл к небу. Все взоры были устремлены на парус, который спокойно продолжал путь. Прошло двадцать минут, а судно не изменило курса. Я опять начал приходить в отчаяние, как десять дней назад, когда на шхуне не заметили наших сигналов. Островитяне дружно подтаскивали новые охапки хвороста я бросали их в огонь. Вдруг парус исчез. Я знал, что он не мог скрыться за горизонтом так быстро,– это было бы непостижимо. Потом я понял, что на судне увидели сигналы, спустили паруса и повернули к берегу, чтрбы узнать, в чем дело. Вскоре показался нос шхуны, и я стал прыгать и кричать громче всех. 
Мы целой гурьбой прыгнули в лодку Итчики и поплыли навстречу шхуне, чтобы указать проход в рифах. Вскоре я прочитал на корпусе название судна. Это была «Лаэ» – шхуна, перевозившая копру. Когда наша лодка подошла к борту шхуны, я быстро поднялся на палубу. Капитан, мрачный пожилой человек, уже много лет занимавшийся на островах торговлей, не говорил по-английски, но с его помощником, молодым тонганцем, можно было кое-как объясниться. Отчетливо выговаривая каждое слово, я рассказал, как очутился на острове, и попросил взять меня на борт. Помощник посовещался с капитаном и согласился. Он сказал, что шхуна принадлежит Стокуэллу, торговцу с острова Вануа-Мбалаву. Она должна зайти за копрой еще на два острова, а потом возьмет курс на север. 
Старая шхуна бросила якорь неподалеку от Ломаломы. Капитан, помощник и весь экипаж сошли на берег размять ноги. Я поспешил к хижине, следом с мрачными лицами шли Итчи, Билл, Джо, Майк и Тупа. Уна была уже там и успела аккуратно уложить мои скромные пожитки в старый сундук, подаренный Итчи. Она покачивала головой, уговаривая меня не уезжать. Мой потертый синий костюм висел у входа. Взяв его, я вошел в хижину, скинул зулу, с помощью Итчи надел костюм, старую белую рубашку и чистые носки. Когда я вышел, меня окружили опечаленные друзья. Наступили самые тяжелые минуты. Как выразить свою благодарность людям, которые спасли мне жизнь и проявили столько доброты и великодушия? Я просто пожал руки всем, сердце мое переполняли теплые чувства. Когда я прощался с Уной, она все еще скорбно качала головой и твердила, что я не вполне поправился и мне нельзя ехать. Итчи и Тупа опустили головы. Билл, Джо и Майк стояли в стороне. Только пастор, учитель и печальный философ взглянули мне прямо в лицо и храбро улыбнулись. Тукай и Суви хмурились. Остальные обступили меня тесным кольцом и молчали. Мне ничего другого не оставалось, как проститься и поспешить к берегу. Помахав на прощанье рукой, я прыгнул в шлюпку. В последнюю секунду Итчи присоединился ко мне, решив проводить меня до шхуны. Снова рукопожатия, прощальные улыбки и возгласы. Якорь поднят, взревел мотор, старая шхуна задрожала и двинулась к проходу в рифах. Вскоре лодка Итчики повернула обратно к берегу, и я навсегда потерял Ломалому из виду. АВСТРАЛИЯ В полдень шхуна бросила якорь у кораллового барьера, окружающего Найау – первый из двух островов, куда нам предстояло зайти. Я съехал на берег посмотреть, как принимают копру. Когда здешний вождь услышал о моих приключениях, он тут же пригласил меня пить янгону. Меня угостили цыпленком и связкой бананов, и пока я ел, вокруг собралось множество улыбающихся людей. Я рассказал о своем плавании с помощью мимики и жестов, пользуясь также своим слабым знанием местного языка. Одного раза оказалось недостаточно, и мне пришлось повторить все снова. Вскоре шхуна должна была отплыть во вторую деревню. Принесли традиционную чашу, и наскоро отведав янгоны, я поблагодарил жителей за гостеприимство и вернулся на судно. Во второй деревне повторилась та же церемония. Хуже всего было то, что мне пришлось съесть еще одного цыпленка и гроздь бананов. Эта деревня была родиной Итчики и Уны, отсюда много лет назад они отправились в поисках счастья на Тувуту. Я навестил дряхлых родителей Уны – почтенную чету, прожившую совместно сорок два года. Отца Итчи уже не было в живых, но меня повели к его старой слепой матери. Когда ей сказали, что Итчи помог «кай вавалаге» (белому человеку), она кивнула, улыбнулась, но не сказала ни слова. Ночевал я в хижине родителей Уны. На рассвете, как было условлено, меня разбудили и отвезли на шхуну, которая уже готовилась к отплытию. Через час после восхода солнца мы подходили к островку Фифия – последнему перед возвращением судна на Вануа-Мбалаву. Вдали на юго-востоке серела вершина вулкана Тувуты. Должно быть, островитяне считают гостеприимство своим священным долгом. Не успел я сойти на берег, как меня наперебой принялись угощать. Чтобы отблагодарить за заботы и угощение, я дважды рассказывал историю своего плавания. У меня не было времени пить янгону, поэтому я пожал руки тем, кто стоял рядом, и отправился на шхуну. Мы отошли от барьера рифов и взяли курс на север, к длинному, извилистому острову Вануа-Мбалаву. На острове была радиостанция, и я собирался сразу же дать знать жене и матери, что я жив и здоров. Кроме того, мне сказали, что на Вануа-Мбалаву часто заходят пароходы, следующие в Суву, главный порт Фиджи. Мне просто не верилось, что через несколько часов я свяжусь по радио с Мэри. Шхуна осторожно лавировала между коралловыми рифами, которых так много у островов Фиджи. Войдя в просторную бухту, мы бросили якорь напротив белого домика, где помещалась торговая контора. Вокруг нас то и дело сновали парусные лодки. На берегу бухты раскинулась большая деревня, хижины которой прятались в тени густых высоких пальм. Я отправился на берег с первой же шлюпкой, чтобы поговорить с господином Стокуэллом. Я нашел его на складе, где принималась и взвешивалась копра. Он был в широкополой шляпе, коротких штанах и сандалиях. Я постоял немного, опираясь на палку и глядя, как он торгуется с посетителями. Бронзовый от загара, он раскатисто смеялся и, несмотря на седину, легко бросал на весы тяжелые мешки с копрой. Увидев меня, он удивился, так как белые люди появлялись здесь очень редко. Я представился, пожал ему руку и постарался коротко объяснить причину моего появления на острове. Он иронически улыбнулся, на лице его отразилось недоверие. Тут в разговор вмешался капитан и рассказал все, что слышал обо мне на Тувуте. Молодой тонганец подтвердил слова капитана. Стокуэлл слушал мой рассказ о борьбе с океаном, время от времени хрипло восклицал: «Черт подери!», и лицо его все шире расплывалось в улыбке. Когда я рассказал об урагане, он вымолвил только: «Ну и ну!». Я видел, что ему трудно поверить моему рассказу. И все же в конце концов он поверил. Для этого ему достаточно было взглянуть на меня – кости мои все еще выпирали из-под кожи после пятимесячного плавания; старый капитан и молодой тонганец подтвердили, что обломки яхты от нока до кильсона действительно валялись на берегу Тувуты. Стокуэлл сел и предложил мне расположиться поудобнее. Я продолжал свой рассказ. Он слушал с разинутым ртом, пристально глядя на меня. Потом вскочил, взял меня за руку и повел к себе домой. Мы просидели не один час, прежде чем я кончил. Когда я умолк, он несколько минут не мог вымолвить ни слова. Он покачал головой, улыбнулся, а потом засыпал меня вопросами. Особенно интересовал его ураган и долгие поиски земли. Наконец он сказал: «Вы поставили рекорд одиночного плавания с временной оснасткой, если только и вправду добрались сюда на искалеченной яхте от самого острова Суворова». Он заметил, что мне здорово повезло-я удачно перебрался через коралловый барьер у берегов Тувуты. Потом внезапно он спросил: – Скажите, а ваша жена очень красива? Хотел бы я взглянуть на женщину, ради которой парень готов переплыть Тихий океан. Я был рад вспомнить Мэри и с удовольствием стал о ней рассказывать. Потом мы заговорили о жизни Стокуэлла на острове. Он охотно описал свое житье-бытье на Фиджи, где провел более тридцати лет. Немало прекрасных судов разбилось за это время о скалистые берега этих островов. Я был не первым моряком, попавшим на Вануа-Мбалаву после кораблекрушения. Но нередко море поглощало судно вместе с экипажем, и ни один человек не добирался до берега. Стокуэлл рассказал мне о внезапных ураганах, коралловых отмелях и предательских течениях. Он был счастлив, что меня не настиг второй ураган, что мне каким-то чудом удалось преодолеть коралловый барьер, что коварные течения не потопили яхту. Стало смеркаться, и я попросил послать весточку Мэри и моим родным. Но Стокуэлл сказал, что передатчик не работает и послать радиограмму можно будет только в Суве, на острове ВитиЛеву, расположенном в ста восьмидесяти милях к западу от Вануа-Мбалаву. А пока что хозяин пригласил меня к столу. Миссис Стокуэлл, очаровательная тонганка, приготовила для меня превосходный «американский» обед. Нам подали яичницу с ветчиной, настоящий пшеничный хлеб, кофе и яблочный пирог. После экзотических кушаний я с жадностью накинулся на вкусную, хотя, быть может, и менее полезную, «цивилизованную» пищу. Меня уложили на мягкой, удобной кровати. Спал я превосходно– ведь до поздней ночи мы со Стокуэллом решали, как переправить меня на катере на ближний островок Канатеа, где стоит шхуна с грузом копры, идущая в Суву. Воскресный завтрак – овсяная каша, яичница и оладьи – был еще одной уступкой моим американским вкусам со стороны миссис Стокуэлл. После завтрака мы с хозяином сердечно беседовали на веранде, ожидая прилива, во время которого катер сможет пройти над рифами. Когда уровень воды поднялся, я распрощался и продолжил свой путь. Катерок ходко бежал вдоль берега, поросшего пальмами. Кое-где в лагуне попадались причудливые зеленые островки, окруженные коралловыми рифами; время от времени волны, ударяясь о невидимые подводные скалы, вздымали над ними целые каскады. В старину эта гавань служила рейдом для китобоев и ловцов жемчуга; теперь сюда заходят только мелкие шхуны с копрой, да изредка попадают «рыцари двадцатого века», потерпевшие крушение на пути к дамам сердца. Мы прошли над рифами напротив длинного и узкого залива, тянувшегося почти во всю ширину острова. Впереди, отделенная от нас водным пространством, усеянным рифами, виднелась Канатеа. У берега стояла небольшая шхуна. Рулевой ловко провел катер среди рифов, и вскоре мы пришвартовались к шхуне «Туи Сакоу». Это было стальное судно водоизмещением в семьсот тонн, хорошо оснащенное и быстроходное. Я поднялся на борт и пошел к капитану. Шхуна была нагружена и готова к отплытию. В понедельник утром она должна была сняться с якоря, но по пути в Суву ей предстояло зайти на Наитамбу, чтобы принять на борт пассажира и небольшой груз. Остаток дня я скоротал, ловя рыбу удочкой с палубы шхуны. В понедельник на рассвете были подняты якоря и шхуна покинула тесную коралловую лагуну. Справа остался Вануа-Мбалаву, слева – остров Хэт, а впереди высилась серая громада Наитамбы. В коралловом барьере, окружающем Наитамбу, прохода нет. Шхуна медленно крейсировала вдоль него, а грузы доставлялись на гребных баркасах. Я поехал на цветущий зеленый остров с первой же шлюпкой, посланной за пассажиром и его багажом. Возвышенная и неровная поверхность острова переходила в пологую равнину, спускавшуюся к самой воде, низкие берега густо поросли кокосовыми пальмами. Мы подошли к маленькой бетонной пристани, куда обычно складывали мешки с копрой. Там нас приветствовал Гас Хеннинг, старожил здешних островов и покоритель южных морей. Я поспешил выйти на пристань, и Хеннинг повел меня в свое жилище, которое он за многие годы превратил в настоящий тропический рай. Нас встретила миссис Хеннинг, энергичная и приветливая женщина; она пригласила меня в просторную гостиную, где европейский комфорт сочетался с тихим покоем тропиков. Молодая девушка, босоногая, в набедренной повязке подала чай. Я рассказал хозяевам всю историю своего путешествия по Тихому океану. Но на этот раз рядом не было старого капитана, который подтвердил бы мои слова. Островитянам кораблекрушение не в диковинку. Не один искатель приключений волею судеб попадал на Наитамбу. Тем не менее супругов поразили трудности, вставшие на моем пути через океан, и они с искренним интересом слушали рассказ о моих злоключениях. Старина Хеннинг, который избороздил вдоль и поперек не только воды Фиджи, но и чуть ли не весь юго-западный район Тихого океана, был очень огорчен, когда узнал о гибели моего маленького «Язычника». Этот человек страстно любил море и все, что с ним связано. Он предложил поехать со мной на Тувуту и посмотреть, нельзя ли восстановить яхту. Он хотел, чтобы она воскресла и снова поплыла вперед, подгоняемая ветром. Но я рассказал ему, в каком состоянии видел судно в последний раз: киль прочно увяз в песке, обшивка сорвана, шпангоуты рассохлись, а немногие уцелевшие снасти розданы жителям Ломаломы. Миссис Хеннинг особенно взволновало, что Мэри со времени моего отплытия с Жемчужных островов не имеет от меня никаких вестей. Она сама переживала немало тревог, когда судно Гаса не возвращалось вовремя из дальнего плавания. На острове не было рации, иначе мы бы немедленно послали радиограмму в Австралию. Хеннинги приехали из Европы после первой мировой войны, занялись земледелием, обзавелись семьей. Дети их участвовали во второй мировой войне, а когда она кончилась, решили остаться в Англии. Теперь старики доживали свой век на острове, предаваясь воспоминаниям о прошлом… «Туи Сакоу» отошла на исходе дня. Она взяла курс в море Коро, к юго-западу от Сувы. Фиджи – живописный архипелаг, справа и слева от нас красиво голубели острова. Ночью, встав, чтобы утолить голод, я долго думал о будущем и мечтал о том, как доберусь, наконец, до Австралии. На следующее утро маленькая шхуна пришвартовалась к причалу в Суве, и я сошел на берег. Высокий внушительный полицейский проводил меня в иммиграционное управление. Привыкнув у себя на родине к суровым блюстителям порядка, вооруженным револьверами и дубинками, я был очень удивлен при встрече с местным полицейским. Единственное его оружие – веселая дружелюбная улыбка – совсем покорило меня. Его густые волосы были тщательно причесаны, на прекрасно сшитом голубом френче сверкали золотые пуговицы. Перепоясан он был ярким малиновым шарфом, поверх которого красовался толстый кожаный ремень с блестящей медной пряжкой. Белая набедренная повязка со стеклянными украшениями доходила ему до колен. Ходил он, как все местные жители, босиком, и его мускулистые темные ноги выглядывали из-под белой повязки. Никогда еще я не видел столь причудливой полицейской формы. В управлении меня приняли вежливо, и все формальности были выполнены с поразительной быстротой. Мне, представителю западного мира, где въезд за границу без визы равносилен вооруженному нападению, странно было, что дело обошлось так просто. Все, от главного начальника до скромного босоногого служащего, отнеслись ко мне внимательно и любезно. Мне не терпелось отправить Мэри радиограмму и сообщить ей о своем благополучном прибытии. Я радировал Мэри: «Жив и здоров, прибыл Фиджи, первым пароходом плыву Австралию. Дам знать, люблю, целую, Джонни». Почти сразу же вслед за этим, вероятно еще до того, как Мэри получила мою весточку, пришла радиограмма от нее. Как оказалось, обо мне уже появились сообщения в газетах, и каждое слово ее радиограммы свидетельствовало о том, какой тяжелый камень свалился у нее с сердца. Я читал и перечитывал ее радиограмму, и все мои сомнения рассеялись. Теперь я еще более страстно стремился домой, навстречу счастью. Нелегко было решить, у кого остановиться на то время, пока не подвернется попутный пароход. Шесть человек настойчиво приглашали меня к себе, и мне было неловко предпочесть кого-нибудь одного и отказать остальным пяти. Честное слово, я не понимаю, почему моряки всегда терпят крушение в самых неподходящих для этого уголках земного шара, когда гораздо приятнее сделать это близ Фиджи. В конце концов я решил остановиться у Эрни Хэрли, молодого служащего пароходной компании «Моррис-Хедстром». Он был моего возраста, женат, и у нас оказалось много общих интересов. Мной живо завладел корреспондент газеты «Фиджи тайме», и мы пошли осматривать город. Он повел меня в яхт-клуб и познакомил с лучшим местным рулевым. Газета поместила фотографию, на которой я был снят с яхтсменами и представителями местной полиции. Кроме того, обо мне была напечатана большая статья, а вечером я услышал свое имя по радио. Но такая реклама едва ли могла, мне помочь поскорее вернуться к жене, и я по-прежнему, как в Нью-Йорке, не знал, что делать, с той только разницей, что теперь у меня не было тысячи долларов, чтобы купить яхту. Снова нужно было искать корабль, идущий в Австралию. На ближайший месяц ничего подходящего не предвиделось. Билет на самолет стоит очень дорого, а я остался абсолютно без денег. Два дня назад на Новую Зеландию отплыл английский грузовой пароход, шедший в Мельбурн через Хобарт (Тасмания). Я обратился в штаб новозеландских военно-воздушных сил в Суве с просьбой переправить меня на самолете в Окленд (Новая Зеландия), чтобы я мог догнать там пароход. Мне ответили, что сейчас военные самолеты в этом направлении не летают. Американский консул посоветовал мне обратиться на военновоздушную базу, расположенную на другой стороне большого острова Вити-Леву – в Нанди. На следующий день я поехал сначала до пыльному берегу, а потом через весь остров на тряском автобусе, который подпрыгивал на ухабах не хуже, чем мой «Язычник» на волнах. На военно-воздушной базе я рассказал полковнику печальную историю моих злоключений за последние месяцы. Взывая к его романтическим чувствам, я упомянул о Мэри. Как истый американец, он не остался равнодушен к несчастью ближнего. «Армейским самолетам запрещено перевозить гражданских лиц,– объяснил он,– но, я думаю, мы имеем право оказать помощь потерпевшему крушение моряку». До нового года не предвиделось никаких полетов в Австралию. Но через три дня в Тонтуту (Новая Каледония) должен был вылететь самолет. В Тонтуту, объяснил мне полковник, часто заходят суда, плывущие из США в Гонолулу, а некоторые из них идут на запад, в Австралию. Но попав в Тонтуту, я мог надолго застрять там. Поэтому, пожалуй, лучше подождать в Нанди до января. У меня было три дня сроку, чтобы взвесить все «за» и «против». Все это время я без устали искал средства добраться до Австралии. Я вновь пересек остров на автобусе и обратился в контору Колониальной сахарной компании. Нельзя ли мне сесть на один из пароходов, идущих на полуостров Тасман? Но и здесь у меня ничего не вышло. Все места были заняты служащими компании, ехавшими домой на рождество. Тогда я решил лететь в Тонтуту. Конечно, я рисковал, но предчувствие, опять говорило мне, что все будет хорошо, и я решился. Известно, что оттуда ходят суда на Соломоновы острова и на Новую Гвинею. Вполне возможно, что мне удастся попасть в Австралию с севера. Так я по крайней мере буду на пути к цели. Утром 28 ноября я поднялся на борт американского бомбардировщика. Позавтракав в Нанди, я обедал уже на воздушной базе в Тонтуте. Проторчав целую неделю в Нанди, я теперь за несколько часов преодолел большое расстояние в тысячу миль. Вручив командиру части рекомендательное письмо от полковника из Нанди, я рассказал ему о своих злоключениях. Он сочувственно выслушал меня, но сказал, что в ближайшее время не предвидятся рейсы в нужном мне направлении. Мне отвели комнату и предложили подождать. Снова предстояли дни томительного бездействия. Через сутки после моего прибытия в Тонтуту я получил срочное письмо от Мэри, написанное более недели назад. Оно следовало за мной на самолетах через Суву и Нанди. Между строчками этого письма я прочитал о том, как терпеливо ждала меня Мэри все эти долгие месяцы. Мое письмо, оставленное в бухте Почтовой на Галапагосе, она получила в первых числах октября: я обещал быть в Сиднее в конце сентября, иными словами, я уже тогда опаздывал на целую неделю. А теперь декабрь был уже на носу! Из Новой Каледонии почти не отплывало судов, а о прямом пароходе в Австралию нечего было и думать. Оставалась лишь одна надежда – на воздушное сообщение. Каждый день я справлялся о расписании. Через четыре дня я уже готов был вернуться на Фиджи и начать все сначала. Но летчики убедили меня не делать этого. «Вдруг подвернется случай»,– говорили они. И случай действительно подвернулся. Неожиданно на аэродроме приземлился большой четырехмоторный самолет. На нем летел армейский инспектор, следовавший в Сидней через Брисбен. Пять дней напряженного ожидания остались позади – на другое утро мне предстоял последний рывок. В полдень третьего декабря самолет сел в Брисбене на том самом аэродроме, откуда девятнадцать месяцев назад я вылетел на юг, чтобы жениться на Мэри. Мне не верилось, что через каких-нибудь три часа я снова увижу жену. Репортеры фотографировали меня и засыпали вопросами. Я поспешил отправить телеграмму Мэри, сообщая о времени своего прибытия в Сидней, Гигантский самолет легко взмыл в воздух и полетел над знакомым гористым побережьем. Вскоре мы миновали шумную гавань, знаменитый мост и, сделав круг над городом, пошли на посадку. Я был самым нетерпеливым пассажиром на самолете. Мои вещи были выгружены в первую очередь. Выскочив из самолета, я сразу же увидел Мэри. Помню, как она бросилась ко мне, и, кажется, я тоже шагнул ей навстречу. С минуту я глядел в ее бездонные голубые глаза… я держал ее в объятиях… мечты сбылись… все невзгоды остались позади. Я не могу описать нашу встречу. Такие минуты пролетают незаметно, их не выразить обыкновенными словами. Самое главное, что я снова был дома и встретился с тем единственным в мире человеком, ради которого решился на такое отчаянное путешествие.  ПРИЛОЖЕНИЕ   
Грота-гик в качестве временной мачты прикреплен к уцелевшей части грот-мачты. Сломанная часть ее принайтовлена к палубе и выдается за борт: я рассчитывал поставить ее на место в Самоа, куда мне так и не удалось попасть. Бушприт сломан в нескольких футах от основания. Передняя часть рубки разрушена. Стекла каютных иллюминаторов левого борта разбиты, а правого остались невредимыми. Поручини снесены. Самодельные гаруса выкроены из бывшего грота. Весло установлено на корме вместо бизань-мачты. Предполагаемая скорость яхты – один узел СОПЛЕМЕННИК МОРСКИХ РОБИНЗОНОВ Весенним майским днем 1946 года из Панамского канала вышла в океан маленькая яхта с веселым и несколько вызывающим именем – «Язычник». На борту ее находился всего лишь один человек. Звали его Джон Колдуэлл. Замысел у него был дерзкий: пересечь Великий океан, одолеть многие тысячи миль от берегов Америки до Австралии. Читатель, очевидно, уже встречался с представителями небольшого, но отважного племени «морских робинзонов»: смельчаков-одиночек, пускавшихся в трудные и дальние плавания по собственному почину. Спокам и Блекбери, бесстрашные моряки конца XIX века, были, вероятно, родоначальниками этого племени. В двадцатых годах нашего столетия стал известен Ален Жербо со своим одномачтовым тендером «Файркрест». В тридцатых – Марэн Мари. В конце сороковых – неутомимый Жак Ле Тумелен; на паруснике «Гром» он обогнул земной шар. Летом 1952 г. доктор Ален Бомбар на резиновой шлюпке прошел через Атлантику. В 1954 г. шестидесятилетний Вильям Виллис вверил свою участь «Семи сестричкам» – плоту из семи бальзовых деревьев – и прошел от берегов Перу до островов Самоа. Разные причины побуждали их выйти в океан. Ален Жербо пишет: «Путешествие в Америку (Жербо пересек Атлантику за сто один день.– Д. Ю.)я предпринял ради удовольствия и для того, чтобы доказать себе, что я в состоянии завершить его» Жака Ле Тумелена влекли на море мечты детства, интересы энтографа, до некоторой степени идеи Руссо о слиянии человека с природой. Ален Бомбар рисковал жизнью во имя гуманизма и науки. Он намеренно поставил себя в те условия, в какие попадает человек, потерпевший кораблекрушение. Такая судьба, как говорит статистика, постигает ежегодно около двухсот тысяч моряков и пассажиров. Многие из них гибнут, хотя и успевают высадиться с тонущего судна в шлюпки. Доктор Бомбар решил научить людей бороться со смертью в море, не поддаваться голоду, жажде, страху. Вильям Виллис не задавался никакими научными целями. Но, как и Бомбар, он доказал, что одиночный мореплаватель может вырваться из роковых объятий океана. Снаряжая «Семь сестричек», Виллис сказал: «Пусть мое путешествие будет испытанием духа и поможет тем, кто терпит кораблекрушение в открытом море». Различны цели. Различны маршруты. Различны суда. Но есть нечто общее у всех «морских робинзонов»: страстная и неутолимая любовь к морю, к тому, что уже давно стало самой поэзией – к парусам и неоглядным далям. «…Полного счастья я не могу испытывать на суше, я непрестанно думаю о крепком запахе дегтя, о резком морском ветре»,– признается Ален Жербо. «Прощай, земля, прощай надолго! Как некогда матросы дальних плаваний, я кричу: «Кливер поднят – за все уплачено!» В эпоху парусного флота поднятый кливер означал, что все счеты с берегом покончены… На небе ни тучки. Лишь на горизонте маячит лиловатая черточка. Волнующее величие и чистота зрелища потрясают мою душу. Я счастлив!» – восклицает Жак Ле Тумелен[9]. Ну, а Джон Колдуэлл, автор «Отчаянного путешествия»? Что манило его? Что заставило выйти в океан? Какая звезда светила «Язычнику»? Колдуэлл не был моряком по призванию, как Слокам или Блекбери. Он вовсе не помышлял продолжать дело «воинов свинцовых морей», как Виллис. Он не тосковал по крепкому ветру, как Жербо. И уж, конечно, не хотел обрекать себя на голодовку и муки жажды, как Бомбар. Он смутно представлял себе, что значит идти под парусами, плохо разбирался в навигации. Сквозь шторм и грозы, сквозь смерчи и тайфуны Джона Колдуэлла вела любовь. Любовь к жене, Мэри Колдуэлл, которую он, как всякий влюбленный, считал самой лучшей женщиной на свете. Океан разъединял их, любовь соединяла. В этом есть что-то от рыцарских времен, от старинных сказаний и песен. Обстоятельства сложились так, пишет автор «Отчаянного путешествия» в начале своей книги, что ему ничего иного не оставалось, как пуститься через океан в ореховой скорлупке; а для Нептуна «Язычник» был, разумеется, ничуть не весомее скорлупки. Перед нами книга захватывающе интересная, несмотря на то, что ее автор – человек неискушенный в литературе. Это его первая книга, но на ней как бы лежат отсветы океанских гроз и солнечных восходов, от нее как бы исходит соленый, радостный, бодрящий запах моря… И автор этой книги предстает перед нами не романтическим героем. Нет, он босиком шлепает по палубе своего «Язычника». Зачастую он испытывает робость и растерянность, порой близок к отчаянию. Но, когда грохочет буря, он стискивает зубы, собирая все свое мужество и волю. Он сражается с океаном как равный с равным. Он не сдается, не уступает. Чувство юмора никогда не изменяло Колдуэллу, оно помогало ему преодолевать трудности. Юмор делает его книгу теплее, сердечнее. Трогает его искренняя забота о «бесплатных пассажирах» яхты: двух смешных котятах и крысе Безбилетнице, бог весть как очутившейся на борту. Читаешь об этом с легкой улыбкой и думаешь, что у человека мужественного всегда доброе сердце. Джон Колдуэлл сам изведал много морских злоключений: страшный ураган и нестерпимый голод, единоборство с могучим скатом и битву с акулой, падение за борт яхты и, наконец, крушение близ берегов тропического островка… Вот откуда в его книге подкупающая точность деталей, живость штриха, правдивость и ясность повествования. К наиболее впечатляющим эпизодам «Отчаянного путешествия» следует, пожалуй, отнести главу «Ураган». Скупо и вместе с тем тщательно, со сдержанной силой, рисует автор неистовый океан. «Язычнику» не суждено было пересечь Тихий океан. Яхта разбилась у архипелага Фиджи. Колдуэлла подобрали островитяне, и он очутился на уединенном клочке суши, которого по счастливой случайности лишь в малой степени коснулось влияние белых пришельцев. С душевной признательностью, тепло и сердечно отзывается Джон Колдуэлл об островитянах, о тех самых темнокожих людях, которых кое-кто из его соотечественников относит к «низшей расе». «Вскоре я узнал,– рассказывает Колдуэлл,– что человека, вынесшего меня ночью со скал, зовут Итчика. Он взял меня в свою хижину и поручил заботам доброй и умной жены… Ее звали Уна. Это была необычайно внимательная и заботливая женщина с доброй и чуткой душой. Она почти не улыбалась и редко высказывала свои чувства, но даже в мелочах проявлялось ее благородное сердце. Уна самоотверженно ухаживала за мной и облегчала мои страдания», Не только Итчика с Уной оказались радушными и чуткими людьми. Колдуэлл подчеркивает благородство всех жителей Тувуты. И американцу остается лишь радоваться тому, что «прелести» цивилизации (читай: капиталистической цивилизации!) не проникли в этот отдаленный уголок… Примечательна, между прочим, одна беседа Колдуэлла с вождем островитян. Покуривая папиросу из сушеных листьев и кожуры банана, вождь Тупа простодушно мечтал о поездке в Америку. Он был уверен, что там его примут так же хорошо, как Колдуэлла на острове Тувута. «Слушая моего нового друга,– с грустью замечает Джон Колдуэлл,– я от всей души желал, чтобы мечты этого честного и благородного человека никогда не осуществились». Почему же? Да потому, что Колдуэлл отлично знает нравы американских расистов… На острове Тувута в сущности и закончилось морское путешествие хозяина, капитана, штурмана и матроса отважного «Язычника». Еще в первые дни пребывания на борту этой яхты Колдуэлл спрашивал самого себя, решился бы он повторить свое путешествие, если бы предвидел, какие неожиданности подстерегают его в пути. И отвечал: да, решился бы! Он мог бы повторить эти слова и после того, как добрался до Австралии и обнял Мэри. Но он повторил не слова. Он повторил самое путешествие. Спустя несколько лет Джон Колдуэлл отправился в океан вместе с Мэри и детьми. И снова гремели грозы, снова ярились штормы, и снова он посетил своих спасителей, радушных жителей маленького островка. Но об этом Колдуэлл рассказал в другой книге… Старое и вечно юное море, никогда не будет недостатка в преданных тебе сердцах! Д. Юрьев СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В КНИГЕ Алидада – деталь секстана (см). Ахтерштевень – кормовая часть судового остова, вертикально или с небольшим наклоном скрепленная с килем и несущая всю тяжесть конструкции кормы. Бак – носовая часть палубы. Бакштаг – см. курс относительно ветра. Бейдевинд – см. курс относительно ветра. Бермудское вооружение – парусное вооружение, при котором главными являются бермудские, т. е. треугольные паруса, передняя шкаторина которых скрепляется с мачтой особыми ползунками, а нижняя шнуруется к гику. Бимсы – поперечные крепления корпуса, служащие также основанием для досок палубного настила. Битенг – на малых судах толстый деревянный брус на баке, нижний конец которого укреплен на кильсоне. Служит для крепления якорных канатов. Боканцы – брусья для подъема шлюпок или крепления некоторых снастей бегучего такелажа. Бридель – цепь, приклепанная к мертвому (постоянному) якорю, конец которой поддерживается на поверхности воды при помощи бочки. Бугель – металлическое кольцо, плотно охватывающее рангоут для крепления к нему такелажа. Бушприт – на яхтах деревянный брус круглого сечения, горизонтально укрепленный впереди форштевня. Служит для выноса вперед штагов и крепления косых парусов, на «Язычнике» – кливера. Ванты – снасти стоячего такелажа, поддерживающие мачту с боков и несколько сзади. Вант– путенсы – на яхтах особого рода петли, укрепленные у бортов. За вант-путенсы закладываются своими гаками (крюками) талрепы, при помощи которых набиваются (натягиваются) ванты. Ватерштаг – снасть стоячего такелажа, укрепляющая снизу бушприт. Одним концом крепится за нок бушприта, а другим притягивается при помощи талрепа к форштевню. Веретено – прямая часть якоря, в верхней части которой имеется скоба для якорной цепи» а в нижней – рога с лапами, зарывающимися в грунт. Верп – якорь малого размера. Обычно его завозят на шлюпке в сторону и бросают на дно при стягивании судна с мели. Вытравить – см. травить. Галс – отрезок пути, пройденный судном при лавировке, когда ветер дует с какого-нибудь одного борта. Галфвинд – см. курс относительно ветра. Гафель – деревянный брус круглого сечения, суживающийся на концах. Служит для постановки и несения гафельного паруса. Гафельное вооружение – парусное вооружение, при котором главными парусами являются гафельные, т. е. косые четырехугольные паруса, у которых верхняя шкаторина (кромка) шнуруется к гафелю. Гик – деревянный брус круглого сечения, суживающийся к пятке и ноку и подвижно скрепленный вертлюгом с мачтой. Служит для растягивания нижней шкаторины гафельных и бермудских парусов, а иногда и стакселей, как, например, на «Язычнике». Гика– топенант – снасть бегучего такелажа, поддерживающая нок гика. Грот – нижний парус на грот-мачте. Джонка – китайское двух-трехмачтовое парусное судно. Может при необходимости ходить и на веслах. Дрейф – снос судна с курса ветром или течением, движение судна, потерявшего управление, а также снос судна, стоящего на якорях, которые не могут удержать его на месте во время шторма. Лечь в дрейф – так расположить паруса, чтобы одни из них тянули судно вперед, а другие – назад, в результате чего оно остается на месте. Задраивать – наглухо закрывать иллюминаторы, люки и пр. Задрайка – специальное приспособление, состоящее из откидного болта и затяжной гайки в виде барашка или кольцевой ручки. Иллюминаторы – окна на судне, обычно круглые, открывающиеся или глухие, бортовые или вделанные в палубу. Иол – небольшое парусное судно с двумя мачтами. Передняя мачта называется грот-мачтой, а задняя, значительно меньшего размера,– бизань-мачтой. Автор ошибается, говоря, что тендер мало отличается от иола. Камбуз – судовая кухня. Каноэ – спортивное гребное судно, на котором гребут, стоя на коленях лицом к носу, короткими веслами, называемыми гребками. Карлингсы – деревянные брусья, поддерживающие бимсы и скрепляющие их между собой. Киль – главная продольная связь, являющаяся как бы хребтом судна. На киль устанавливаются шпангоуты. Кильсон – брус, накладываемый поверх нижней части шпангоутов и прикрепляющий их к килю. Кингстон – клапан в подводной части судна, служащий в случае надобности для затопления судна или для спуска из него воды, когда оно вытащено на берег. Кливер – на тендерах, иолах и некоторых других судах второй от гротмачты треугольный парус. Клюз – выведенная через борт на палубу стальная или чугунная труба, сквозь которую проходит якорная цепь. Кнехты – на маленьких яхтах стальные или медные, обычно литые, парные или крестообразные штыри, надежно скрепленные с палубой. На кнехтах заворачивают швартовы – тросы, которыми швартуют, т. е. крепят судно к пристани, другому судну и т. д. Мачтовые кнехты – вертикальные брусья, со шкивами внизу и особой головкой, устанавливаемые около мачты. Служат для крепления некоторых снастей бегучего такелажа. Кница-деревянный или металлический угольник, служащий для скрепления между собой деталей набора (остова) судна. Кокпит – на катерах и парусных яхтах открытое водонепроницаемое и обычно самоотливающееся помещение, углубленное в кормовой части палубы. По краям окаймляется невысоким комингсом. Комингс – доски или брусья, ограждающие люки, стенки яхтенной рубки, а также кокпит. Конец– кусок, отрезок троса, а также трос в целом, например буксирный конец, швартовный конец. Кренгельс – кольцо, свитое из распущенного на пряди троса. Кубрик – жилое помещение для матросов. Курс– направление движения судна, определяемое в градусах окружности или в румбах. Курс относительно ветра – определяется величиной угла между диаметральной плоскостью судна и направлением ветра. Бейдевинд – крутой, когда судно круче к ветру идти не может, и полный-до 90°; полные курсы: галфвинд – ветер дует прямо в бок, под углом близким к 90°; бакштаг – ветер дует сбоку и сзади – крутой от 90 до 135° и полный от 135 до 180°; фордевинд – прямо по ветру, т. е. под углом 180°. Различают курсы правого и левого галсов. Лаг – прибор для определения скорости хода судна. Лавировать – двигаться на парусном судне по ломаной линии. Леер – туго натянутый трос между мачтой и палубой или бушпритом, поддерживающий переднюю шкаторину стакселя или кливера; перила из металлических прутьев или тросов на судах, не имеющих фальшборта (продолжения борта выше верхней палубы); тросы, натянутые во время шторма на палубе, держась за которые люди передвигаются. Автор неправильно называет леером также конец, спущенный за корму для того, чтобы схватиться за него при падении за борт. «Либерти» – тип американских грузовых судов, строившихся во время второй мировой войны поточным способом на многих верфях и не рассчитанных на длительную службу. Ликтрос – мягкий трос, которым оканачиваются кромки парусов для предохранения их от разрыва. Лимб – деталь секстана. Линь – пенковый трос высшего качества, толщиной не более 1 дюйма по окружности. Лот – прибор для измерения глубины моря. Ручной лот состоит из конусообразной шестигранной гири с проушиной наверху, в которую ввязывается лотлинь (тонкий трос). Люк – отверстие в палубе для входа во внутренние помещения судна, для доступа воздуха и света. Люк имеет водонепроницаемые крышки или другие приспособления для задраивания. Люлька (или беседка) – сиденье из доски, укрепленной на тросах, или просто трос, связанный так называемым беседочным узлом. Служит для подъема людей на мачты, трубы и т. д. при их покраске или очистке. Миля (морская) равна 1852 метрам. Сухопутная миля равна 1609 метрам, а географическая – 7420 метрам. Морская сажень – равняется 6 футам, т. е. 182, 5 сантиметра. Наветренный борт – тот, на который дует ветер. Нок – внешняя оконечность горизонтальных или наклонных рангоутных деревьев, т. е. деревянных, а на современных судах и металлических деталей круглого сечения, служащих для постановки и несения парусов. Обшивка – оболочка судна, т. е. его бортов и дниша, устанавливаемая по шпангоутам и состоящая из отдельных поясов. Обшивка бывает деревянная и металлическая. На «Язычнике» обшивка была из дубовых досок толщиной в один дюйм. Отсек – отделение внутри судна, образуемое водонепроницаемыми переборками. Вода, попавшая вследствии аварии в какой-либо отсек, благодаря водонепроницаемым переборкам не может заполнить все судно, и оно не теряет плавучести. Пазы – места соединения досок обшивки и палубного настила по их длинным сторонам. Пазы для лучшей их водонепроницаемости конопатятся, т. е. уплотняются паклей или негигроскопической ватой, свитой слабым жгутом. Ср. стыки. Переборка – внутренняя перегородка на судне. Помимо обычных переборок, на большинстве современных судов, в том числе и на некоторых яхтах, делаются переборки водонепроницаемые. См. отсек. Пирсы – причалы, расположенные под более или менее прямым углом к берегу. Планширь – здесь самый верхний брусок на фальшборте, обделанный в виде поручня. Плавучий якорь – крестовина с натянутой на нее парусиной и небольшим балластом, удерживающим опущенный в воду якорь в вертикальном положении. Опираясь своей плоскостью на воду, плавучий якорь почти все время остается на месте, поэтому нос (или корма) судна, связанные тросом с якорем, постоянно повернуты против ветра, т. е. находятся в наиболее безопасном положении. Плавучий якорь применяется во время сильного шторма, когда судно не в состоянии нести никакие паруса. Погон – металлический прут в виде буквы П, укрепленный на палубе. По его длинной горизонтальной части ходит блок шкота – снасти, служащей для управления парусами. Подветреиный борт – противоположный тому, на который дует ветер. Приводиться, привестись – поставить парусное судно носом против ветра. Привести ближе к ветру – идти более острым курсом. Принайтовить – закрепить различные предметы, находящиеся на судне. Обычно это делают перед штормом, чтобы во время качки они оставались на своих местах. Раксы – металлические ползунки, скользящие по тонкому легкому рельсу на задней стороне яхтенной мачты. К раксам крепится передняя шкаторина паруса. Рангоут-все деревянные или сделанные из стали детали, служащие для постановки и несения парусов. Рифы: 1 – коралловая или скалистая гряда, скрытая или несколько возвышающаяся над водой. 2 – один или более рядов штертов (небольших и тонких отрезков троса или линя), пришитых к парусу с обеих сторон. Брать рифы – связывать штерты под парусом, уменьшая тем самым его площадь. Риф– сезни – в данном случае правильнее риф-штерты. См. Рифы, 2. Рубка– на небольших яхтах жилое помещение в корпусе судна. Верхняя часть ее стен, возвышающаяся над палубой, называется комингсами рубки. В комингсах обычно имеются иллюминаторы. Румб – направление от наблюдателя к любой точке окружности горизонта, а также угол между этим направлением и меридианом, на котором наблюдатель находится. Главными румбами называются четыре румба, направленное на север, юг, восток и запад. Всего окружность делится на 32 румба. Угол между главными румбами равен 90°, а между каждым из 32 румбов. Румпель – рычаг, насаженный на верхнюю часть баллера (оси руля) и служащий для перекладывания (поворачивания) руля впраЕо и влево. Рундук – ларь, ящик с крышкой для хранения различных вещей. Часто служит койкой. Рыскать – свойство судна произвольно уклоняться от курса вправо или влево. Особенно страдают этим пороком суда с косым парусным вооружением при курсе фордевинд. Сампан – небольшое китайское плоскодонное судно. Ходит на одном кормовом весле и под парусом. Сегарсы – деревянные или металлические обшитые кожей кольца, надеваемые на мачту. К сегарсам привязывается передняя шкаторина паруса. Сезни – короткие плетеные кончики. Сезни служат для прихватывания парусов к реям. Автор, по-видимому путаясь в терминологии, называет сезнями риф-штерты. См. рифы, 2. Секстан – мореходный угломерный инструмент. Применяется при определении места судна в море астрономическим путем или по береговым ориентирам. Скула – место перехода бортовой обшивки в днищевую, а также место наиболее крутого изгиба борта в носовую или кормовую часть. SOS – международный сигнал бедствия. Стаксель – треугольный парус, поднимаемый по лееру или штагу. На одномачтовых яхтах ставится непосредственно перед мачтой. Степс – гнездо, укрепленное на кильсоне и служащее упором для шпора нижнего конца) мачты. Стыки – соединение досок обшивки или палубного настила по их торцовым (коротким) концам. Ср. пазы. Такелаж – все снасти на судне. Различают стоячий такелаж, служащий для поддержания мачт, бушприта и т. д., и бегучий такелаж, служащий для подъема и спуска рей, гафелей и парусов и управления ими. Тали – приспособление, облегчающее подъем тяжестей. Состоит из двух блоков – одного неподвижного и одного подвижного – и основанного между ними троса. Талреп – приспособление для натягивания вант и штагов. Танкер – судно, построенное специально для перевозки жидких грузов – нефти, бензина и т. д., которые наливаются непосредственное корпус, разделенный на ряд отсеков, называемых танками. Топ – верхняя оконечность мачты. Топовый узел – особого рода узел с петлями. Траверз – направление, перпендикулярное курсу судна или его диаметральной плоскости. Когда говорят, что судно на траверзе какого-нибудь предмета, это означает, что наблюдатель с судна видит данный предмет в направлении, перпендикулярном курсу. Травить – выпускать, увеличивать длину какого-либо троса или цепи. Трап – судовая лестница любой конструкции. Трисель – устарелое название гафельного паруса, применяемое теперь лишь на больших грузовых парусниках. Трюм – самая нижняя часть внутреннего пространства судна, под нижней палубой. Некоторые яхтсмены называют трюмом пространство между еланями и днищем. Узел – мера длины и одновременно скорости. Количество узлов, делаемое судном, равняется количеству морских миль, проходимых им в час. Утка – планка с двумя расходящимися рогами, служащая для крепления снастей. Фордевинд – см. курс относительно ветра. Фал – снасть, служащая для подъема парусов. Фальшборт – продолжение борта выше верхней палубы, предохраняющее от падения за борт. Поверх фальшборта укреплен планширь – род поручней. Фальшкиль – на парусных яхтах металлический киль, отлитый из чугуна или из свинца и прикрепленный снизу деревянного киля, служит противовесом, увеличивающим остойчивость яхты. Форштевень – носовая часть судового набора, поставленная вертикально или с некоторым наклоном вперед и скрепленная с килем. Передняя часть называется водорезом. Фунт – 453,6 грамма. Шкаторина – край паруса, окаймленный по кромке – ликтросом. Шкафут – этот термин к одно– и двухмачтовым яхтам не применим. Автор имел в виду среднюю часть палубы яхты. Шкот – снасть бегучего такелажа, служащая для управления парусами, т. е. для постановки их в нужное положение. Шпунтовый пояс – пояс обшивки, непосредственно прилегающий к килю. Штаг – снасть стоячего такелажа, поддерживающая мачту спереди, а на некоторых яхтах с бермудским вооружением и сзади (ахтерштаг). Шток – поперечная перекладина у якорей некоторых систем, ставящая рога якоря перпендикулярно грунту. Ют – кормовая часть палубы. Ялик – небольшая парусная, парусно-гребная или гребная рабочая шлюпка. Составил Д. Л. Сулержицкий Примечания 1 Так моряки называют Сан-Франциско. 2 Один баррель равен 159 литрам. 3 Сюда нельзя! Скалы! Здесь опасно! (исп.). 4 Галлон – английская мера жидкости и сыпучих тел. Равен 4, 543 литра. 5 Кварта равна 1, 14 литра. 6 Согласно древнегреческому мифу, Пандора была послана Зевсом на землю в наказание людям за похищенный для них Прометеем огонь. Пандора из любопытства открыла сосуд, стоявший в доме ее мужа Эпиметея и содержавший всевозможные бедствия. 7 Блай – славившийся своей жестокостью командир военного корабля. Восставшая против него команда ссадила его вместе с приверженцами в открытый океан в шлюпке. 8 По-видимому, автор имел в виду бизань. 9 Перевод В. И. Ровинской. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
|||||||