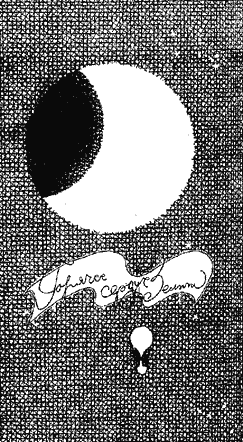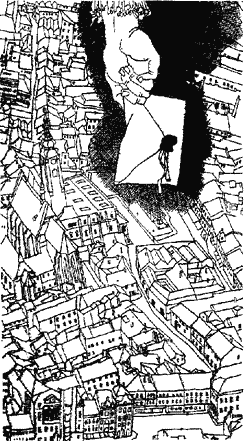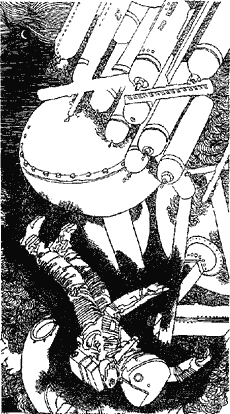Библиотека современной фантастики - И грянул гром… (Том 4-й дополнительный)
ModernLib.Net / Ирвинг Вашингтон / И грянул гром… (Том 4-й дополнительный) - Чтение
(Весь текст)
|
Автор:
|
Ирвинг Вашингтон |
|
Жанр:
|
|
|
Серия:
|
Библиотека современной фантастики
|
|
-
Читать книгу полностью (890 Кб)
- Скачать в формате fb2
(538 Кб)
- Скачать в формате doc
(367 Кб)
- Скачать в формате txt
(353 Кб)
- Скачать в формате html
(537 Кб)
- Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
|
|
И грянул гром…
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Творческий путь, пройденный американской научной фантастикой, настолько многопланов и оригинален, что его очень трудно отразить в одной книге. Так, в антологию, которую издал в 1968 году профессор Г. Брюс Франклин, вошли произведения известных писателей прошлого века — Н. Готорна и Э. По, Г. Меллвила и А. Бирса, М. Твена и Э. Беллами, Ф. -Дж. О’Брайена и ряда других авторов, но в ней не нашлось, например, места для таких мастеров, как В. Ирвинг, У. Роудс, Г. Джеймс Настоящая антология также не претендует на создание полной картины развития американской фантастики за 200 лет существования литературы Соединенных Штатов Америки. Составители стремились показать процесс развития этого жанра в американской литературе, от ранних произведений, сегодня кажущихся порой наивными, до произведений глубоких, поднимающихся до рассмотрения коренных философских вопросов развития личности, человечества и общества, которые знают и любят в Советском Союзе. Таких авторов, как прежде всего Рэй Брэдбери, Айзек Азимов, Клиффорд Саймак, Роберт Шекли. Фантастика была неотъемлемой чертой творчества родоначальников американской литературы. Фантастические мотивы звучали и в произведениях более поздних американских классиков — таких, например, как Д. Лондон и Ф. Фитцжеральд. В дальнейшем эти мотивы составили основу, на которой нынешние мастера создали новое направление, оформившееся в американской литературе как самостоятельный жанр, — научную фантастику. Нельзя недооценивать первых. В их произведениях, представленных в сборнике, рассказывается о путешествии во времени, полете на Луну, бурении к центру Земли, о взбунтовавшемся роботе, о пришельцах из других миров, о телепатии. Оказывается, еще в прошлом веке были в ходу такие разновидности научно-фантастического жанра, как социальная утопия, смелая техническая фантазия, «научный» розыгрыш, повествования о жуткой бездне неизвестного или о потешных ситуациях при столкновении обыденного здравого смысла с принципиально иным. Конечно, фантасты двадцатого века превзошли своих предшественников и по безудержности выдумки, и по насыщенности действия, и по глубине философской мысли. Но, увы, не все известные имена представлены в антологии. Из-за ограниченности объема в нее не включены, в частности, произведения Э. Берроуза, X. Гернсбека, А. Меррита, Г. Лавкрафта, Э. Смита, Э. Гамильтона и многих других талантливых мастеров. Стремясь иллюстрировать прежде всего процесс, а не результат развития жанра, составители и выбрали рассказы, включенные в настоящий сборник. Составители руководствовались желанием показать процесс развития одной из наиболее сильных сторон многогранной американской фантастики — гуманистическую направленность лучших ее произведений — веру в человека, в его творческие возможности, в его силы, в торжество добра и справедливости. Показ именно этой стороны творчества фантастов США важен еще и потому, что позволяет наиболее рельефно увидеть многие, в Том числе и остросоциальные, проблемы жизни современной Америки, понять одновременно их неразрешимость в условиях буржуазного общества, смысл и образ жизни которого сделал несбыточной, нереальной так называемую «американскую мечту». Большинство рассказов переводятся впервые. Надеемся, что антология поможет лучше познакомиться с одним из самых традиционных и наиболее популярных жанров американской литературы.
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ
ВАШИНГТОН ИРВИНГ
Одним из основоположников американского романтизма и мастеров фантастической новеллы является Вашингтон Ирвинг (1783–1859 гг.). Наиболее известна и характерна его новелла «Рип ван Винкль», опубликованная в 1819 году.
Экспериментально-фантастический прием «путешествия во времени» позволил автору остроумно столкнуть два пласта реальности — один до Декларации независимости в 1776 году, а другой — двадцать с лишним лет спустя. Прием этот — внезапный перенос героя в другое время — впоследствии многократно применялся в американской научной фантастике, хотя, естественно, принцип действие «машины времени» каждый раз был ивой. Генри Джеймс (1843–1916 гг.) до конца своих дней, работал над романом «Чувство прошлого», повествующим о возможности путешествий в былое благодаря пробуждению «памяти рода» и перекосу памяти из прошлого в настоящее. Классическое описание путешествия в прошлое дается в романе «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена.
Однако, безусловно, в американской научно-фантастической литературе больше всего похож на Рипа ван Винкля бостонский гражданин Вест из знаменитого утопического романа Эдварда Беллами «Взгляд в прошлое. 2000–1887». Этот Рип ван Винкль XXI века заснул гипнотическим сном в 1887 году и проснулся лишь в 2001 году, в преображенной, почти идеальной Америке. Судя по всему, Э. Беллами удачно позаимствовал сюжетный ход непосредственно из прославленной новеллы В. Ирвинга.
Не только в американской, но и во всей мировой литературе «Рип ван Винкль» проторил удобную «дорожку» воображения. Дело в том, что — Вашингтон Ирвинг, пожалуй, первым из американских писателей получил довольно широкое признание в Европе. Например, в России его новеллы стали переводиться еще в первой половине XIX века. И самым переводимым, самым читаемым произведением классика американского романтизма был рассказ о «скачке во времени».
Г. Уэллс в романе «Когда спящий проснется», Владимир Маяковский в пьесе «Клоп» и другие прошли по тропе Рип ван Винкля к новым художественным открытиям. Нет, наверное, ни одного современного фантаста, который не воспользовался бы этой тропой. Поэтому Вашингтона Ирвинга с присущими ему раскованностью мысли, смелостью сопоставлений, тонким психологизмом и оптимистическим юмором вполне нежно причислить к основателям научной фантастики.
РИП ВАН ВИНКЛЬ
Посмертный труд Дитриха Никкербоккера
Клянусь Вотаном, богом саксов,
Творцом среды (среда — Вотанов день),
Что правда — вещь, которую храню
До рокового дня, когда свалюсь
В могилу…
Картрайт
Всякий, кому приходилось подниматься вверх по Гудзону, помнит, конечно, Каатскильские горы. Эти дальние отроги великой семьи Аппалачей, взнесенные на внушительную высоту и господствующие над окружающей местностью, виднеются к западу от реки. Всякое время года, всякая перемена погоды, больше того — всякий час на протяжении дня вносят изменения в волшебную окраску и очертания этих гор, так что хозяюшки — что ближние, то и дальние — смотрят на них как на безупречный барометр. Когда погода тиха и устойчива, они, одетые в пурпур и бирюзу, вычерчивают свои смелые контуры на прозрачном вечернем небе, но порою (хотя вокруг, куда ни глянь, все безоблачно) у их вершин собирается сизая шапка тумана, и в последних лучах заходящего солнца она горит и сияет, как венец славы. У подножия этих сказочных гор путнику, вероятно, случалось видеть легкий дымок, вьющийся над селением, гонтовые крыши которого просвечивают между деревьями как раз там, где голубые тона предгорья переходят в яркую зелень расстилающейся перед ним местности. Это — старинная деревушка, построенная голландскими переселенцами еще в самую раннюю пору колонизации, в начале правления доброго Питера Стайвесанта (мир праху его!), и еще совсем недавно тут стояло несколько домиков, сложенных первыми колонистами из мелкого, вывезенного из Голландии желтого кирпича, с решетчатыми оконцами и флюгерами в виде петушков на гребнях островерхих крыш. Вот в этой-то деревушке и в одном из таких домов (который, сказать по правде, порядком пострадал от времени и непогоды), в давние времена, тогда, когда этот край был еще британской провинцией, жил простой, добродушный малый по имени Рип ван Винкль. Он принадлежал к числу потомков тех самых ван Винклей, которые с великою славою подвизались в рыцарственные дни Питера Стайвесанта и находились с ним при осаде форта Христина. Воинственного характера своих предков он, впрочем, не унаследовал. Я заметил уже, что это был простой, добродушный малый; больше того, он был хороший сосед и покорный, забитый супруг. Последнему обстоятельству он и был обязан, по-видимому, той кроткостью духа, которая снискала ему всеобщую любовь и широкую популярность, ибо наиболее услужливыми и покладистыми вне своего дома оказываются мужчины, привыкшие повиноваться сварливым и вечно бранящимся женам. Их нрав, пройдя через огненное горнило домашних невзгод, становится, вне всякого сомнения, гибким и податливым, ибо супружеские нахлобучки лучше всех проповедей на свете научают человека добродетели терпения и послушания. Вот почему сварливую жену в некоторых отношениях можно считать благословением неба, а раз так, Рип ван Винкль был благословен трижды. Как бы там ни было, но он, бесспорно, пользовался горячей симпатией всех деревенских хозяюшек, которые, согласно обыкновению прекрасного пола, во всех семейных неурядицах Рипа неизменно становились на его сторону и, когда тараторили друг с другом по вечерам, не упускали случая взвалить всю вину на тетушку ван Винкль. Даже деревенские ребятишки встречали его появление шумным и радостным гомоном. Он принимал участие в их забавах, мастерил им игрушки, учил запускать змея и катать шарики
и рассказывал нескончаемые истории про духов, ведьм и индейцев. Когда бы ни проходил он по деревне, его постоянно окружала ватага ребят, цеплявшихся за полы его одежды, забиравшихся к нему на спину и безнаказанно учинявших тысячи шалостей; кстати, не было ни одной собаки в окрестностях, которой пришло бы в голову на него залаять. Большим недостатком в характере Рипа было непреодолимое отвращение к производительному труду. Это происходило, однако, не потому, что у него не хватало усидчивости или терпения, — ведь сидел же он сиднем, бывало, на мокром камне с удочкой, длинною и тяжелой, как татарская пика, и безропотно удил целыми днями даже в тех случаях, когда ни разу не клюнет; бродил же он часами с ружьем на плече по лесам и болотам, по горам и по долам, чтобы подстрелить нескольких белок или лесных голубей. Никогда не отказывался он пособить соседу даже в самой трудной работе и был первым, если в деревне принимались сообща лущить кукурузу или возводить каменные заборы; жительницы деревни привыкли обращаться к нему с различными поручениями или просьбами сделать для них какую-нибудь мелкую докучливую работу, взяться за которую не соглашались их менее покладистые мужья. Короче говоря, Рип охотно брался за чужие дела, но отнюдь не за свои собственные; исполнять обязанности отца семейства и содержать ферму в порядке представлялось ему немыслимым и невозможным. Он заявлял, что обрабатывать его землю не стоит это, мол, самый скверный участок в целом краю, все растет на нем из рук вон плохо и всегда будет расти отвратительно, несмотря на все труды и усилия. Изгороди у него то и дело разваливались; корова неизменно умудрялась заблудиться или попадала в чужую капусту; сорняки на его поле росли, конечно, быстрее, чем у кого бы то ни было; всякий раз, когда он собирался работать вне дома, начинал, как нарочно, лить дождь, и, хотя доставшаяся ему по наследству земля, сокращаясь акр за акром, превратилась в конце концов, благодаря его хозяйничанию, в узкую полоску картофеля и кукурузы, полоска эта была наихудшею в этих местах. Дети его ходили такими оборванными и одичалыми, словно росли без родителей. Его сын Рип походил на отца, и по всему было видно, что вместе со старым платьем он унаследует и отцовский характер. Обычно он трусил мелкой рысцой, как жеребенок, по пятам матери, облаченный в старые отцовские, проношенные до дыр штаны, которые с великим трудом придерживал одною рукой, подобно тому как нарядные дамы в дурную погоду подбирают шлейф своего платья. Рип ван Винкль тем не менее принадлежал к разряду тех вечно счастливых смертных, обладателей легкомысленного и беспечного нрава, которые живут не задумываясь, едят белый хлеб или черный, смотря по тому, какой легче добыть без труда и забот, и скорее готовы сидеть сложа руки и голодать, чем работать и жить в довольстве. Если бы Рип был предоставлен себе самому, он посвистывал бы в полное свое удовольствие на протяжении всей своей жизни, но, увы!, супруга его жужжала ему без устали в уши, твердя об его лени, беспечности и о разорении, до которого он довел собственную семью. Утром, днем и ночью ее язык трещал без умолку и передышки: все, что бы ни сказал и что бы ни сделал ее супруг, вызывало поток домашнего красноречия. У Рипа был единственный способ отвечать на все проповеди подобного рода, и благодаря частому повторению это превратилось в привычку: он пожимал плечами, покачивал головой, возводил к небу глаза и упорно молчал. Впрочем, это влекло за собой новые залпы со стороны его неугомонной супруги, и в конце концов ему приходилось отступать с поля сражения и скрываться за пределами дома — ведь только эти пределы и остаются несчастному мужу, живущему под башмаком у жены. Среди домашних единственным другом Рипа был пес по имени Волк — существо не менее подбашмачное, чем его бедняга-хозяин, — ибо госпожа ван Винкль, считая, что они товарищи по безделью, злобно косилась на Волка, видя в нем причину частых отлучек ее супруга. Волк же, в сущности говоря, обладал всеми чертами характера, которые полагается иметь честному псу; он не уступил бы в отваге ни одному зверю, рыскавшему в лесах, но какая отвага устоит перед нападками злого женского языка! Стоило Волку переступить порог дома — и облик его сразу преображался: понурый, с опущенным в землю или зажатым между ног хвостом, крался он с видом преступника, то и дело бросая косые взгляды на хозяйку ван Винкль и при малейшем взмахе метлы или уполовника с воем и визгом кидаясь за дверь. С годами семейная жизнь Рипа становилась все тягостнее. Дурной характер никогда не смягчается с возрастом, а острый язык — единственный их всех режущих инструментов, которые не только не притупляется от постоянного употребления, но, наоборот, делается все острей и острей. Будучи принужден частенько покидать домашний очаг, Рип мало-помалу привык находить отраду в посещении, так сказать, постоянного клуба мудрецов, философов и прочих деревенских бездельников. Клуб этот заседал на скамье у небольшого трактира, вывеской которому служил намалеванный красною краской портрет его королевского величества Георга III. Здесь просиживали они в холодке нескончаемый летний день, бесстрастно передавая друг другу деревенские сплетни или сонно пережевывая бесчисленные истории ни о чем. Впрочем, иным государственным деятелям стоило б выложить хорошие денежки, чтобы послушать глубокомысленные дискуссии, возникавшие порой между ними, когда какой-нибудь случайный проезжий снабжал их старой газетой. С какою торжественностью внимали они тогда неторопливому чтению Деррика ван Буммеля, школьного учителя, маленького и опрятного ученого человечка, который не запнувшись мог произнести самое гигантское слово во всем словаре! С какою мудростью толковали они о событиях многомесячной давности! Общественным мнением в этом высоком собрании заправлял Николас Веддер, патриарх деревни и владелец трактира, у порога которого он восседал с утра до ночи, передвигаясь ровно настолько, сколько требовалось, чтобы укрыться от солнца и остаться в тени могучего дерева, так что соседи, наблюдая его движения, могли определять время с такою же точностью, как если бы перед ними были солнечные часы. Правда, голос его можно было услышать не часто, зато трубкой своей он дымил беспрерывно. И все же его приверженцы (а у великих людей всегда бывают приверженцы) отлично понимали его и умели угадывать его мнения. Было замечено, что если чтение или рассказ вызывали в нем неудовольствие, он начинал яростно попыхивать трубкой, выпуская изо рта частые, короткие и сердитые клубы дыма; если же, напротив, они ему нравились, он медлительно и спокойно затягивался и выпускал дым легкими, мирными облачками; время от времени, вынув изо рта трубку, он степенно кивал головой в знак полного одобрения, и тогда около его носа завивался ароматный дымок. Но даже из этой твердыни бедный Рип был выбит в конце концов своею сварливой женой, которая не раз нарушала спокойствие и безмятежность достопочтенного сборища, ставя членов его ни во что и допекая их своими насмешками. Даже священную особу Николаса Веддера не пощадил дерзкий язык этой бешеной фурии, обвинявшей его во всеуслышанье в том, что он потворствует праздным наклонностям ее легкомысленного супруга. Бедняга Рип был доведен таким образом почти до отчаяния; единственное, что ему оставалось, чтобы избавиться от работы на ферме и брани жены, — это взять в руки ружье и отправиться бродить по лесам. Здесь присаживался он иногда к подножию дерева и делился содержимым своей охотничьей сумки с Волком, к которому испытывал сострадание, как к товарищу по несчастью. «Бедный Волк, — говаривал он в таких случаях, — твоя хозяйка устраивает тебе чертовски собачью жизнь? Ничего, приятель, пока я жив, есть кому за тебя постоять!» Волк помахивал хвостом, грустно смотрел на хозяина, и, если только собаки способны сочувствовать людям, я охотно поверю, что он от всего сердца отвечал Рипу взаимностью. Как-то в погожий осенний день, совершая вылазку подобного рода, Рип неприметно для себя самого забрался высоко в горы. Он предавался излюбленной им охоте на белок, и безлюдные горы отвечали многократным эхом на его выстрелы. Уже к вечеру, тяжело дыша от усталости, опустился он на зеленый, поросший горной травою бугор у самого края пропасти. Оттуда, сквозь просветы между деревьями, он видел обширную, тянувшуюся на многие мили равнину, покрытую густым лесом. Где-то внизу — там, далеко, далеко, — величаво и безмолвно катил свои воды могучий Гудзон (лишь изредка на его зеркальном лоне можно было заметить отражение багряного облачка или паруса медлительной, как бы застывшей на месте барки), но и самый Гудзон терялся, наконец, в синеве дальних предгорий. С противоположной стороны перед ним открывалась глубокая, зажатая горами лощина — дикая, пустынная, взъерошенная, — дно которой, заваленное обломками нависших сверху утесов, было едва освещено отсветами лучей заходящего солнца. Рип лежал и задумчиво глядел на эту картину; наступал вечер; горы отбрасывали длинные синие тени, закрывая ими долины. Рип понял, что стемнеет гораздо раньше, чем он успеет достигнуть деревни, и, тяжко вздохнув, представил себе грозную встречу, уготованную ему госпожою ван Винкль. Вдруг, когда он собрался уже спускаться с горы, до него донесся издали окрик: «Рип ван Винкль! Рип ван Винкль!» Рип взглянул во все стороны, но кругом никого не было, кроме вороны, направлявшей свой одинокий полет через горы. Он решил, что воображение обмануло его, и снова приготовился к спуску, как вдруг услыхал тот же голос, отчетливо прозвучавший в тихом вечернем воздухе: «Рип ван Винкль! Рип ван Винкль!» В то же мгновение Волк ощетинился, зарычал, прижался к хозяину и замер, испуганно смотря вниз. Теперь и Рип проникся какой-то смутной тревогой; он устремил беспокойный взгляд в направлении, подсказанном ему Волком, и, различил, наконец, причудливую фигуру какого-то человека, с усилием взбиравшегося на скалы и сгибавшегося под тяжестью ноши, которую он тащил на спине. Он удивился, встретив человеческое существо в такой пустынной и обычно никем не посещаемой местности, но, решив, что это кто-нибудь из окрестных жителей, нуждающийся в его помощи, поспешил на зов и начал спускаться. Приблизившись, он еще больше поразился странной наружности незнакомца. Перед ним стоял маленький коренастый старик с густою гривой волос и седой бородой. Одет он был по старинной голландской моде: в суконный камзол, перетянутый у пояса ремнем, и несколько пар штанов, причем верхние, необыкновенно широкие, были украшены сбоку рядами пуговиц, а у колен — бантами. Он тащил на плече изрядный бочонок, очевидно наполненный водкой, и подавал Рипу знаки, прося его приблизиться и помочь. Хотя Рип несколько оробел и не чувствовал особого доверия к незнакомцу, все же он со всегдашней готовностью откликнулся на его просьбу, и вот, помогая друг другу, они стали карабкаться вверх по промоине, представлявшей собой, надо полагать, высохшее русло ручья. Во время подъема Рип не раз слышал глухие удары, напоминавшие раскаты далекого грома. Они доносились, казалось, из глубокого, вытянутого в длину оврага, или, вернее, ущелья между высокими скалами; к нему-то и вела та неровная, усыпанная щебнем тропа, которой они шли. Рип на мгновение остановился и, рассудив, что это, должно быть, отдаленный гул быстротечного грозового ливня, какой часто бывает в горах, тронулся дальше. Пройдя ущелье, они вышли в лощину, похожую на маленький амфитеатр. Ее со всех сторон окружали отвесные скалы, с краев которых свешивались ветви деревьев, так что снизу можно было увидеть лишь клочки лазурного неба или порою яркое вечернее облачко. За все это время ни Рип, ни его спутник не проронили ни слова, и хотя первый ломал себе голову, зачем же тащить бочонок с водкой в дикие, пустынные горы, он так и не решился обратиться за разъяснением к старику, ибо в нем было что-то необыкновенное и непостижимое, внушавшее страх и исключавшее возможность сближения. Добравшись до амфитеатра, Рип увидел немало достойного удивления. Посредине, на гладкой площадке, компания странных личностей резалась в кегли. На них было причудливое иноземное платье: одни — в кургузых куртках, другие — в камзолах, с длинными ножами у пояса, и почти все в таких же необъятных штанах, какие были на проводнике Рипа. Но и помимо платья все в их наружности было необычайно: у одного — длинная-предлинная борода, широкое лицо и маленькие свиные глазки; лицо другого (на нем был белый колпак, похожий на сахарную голову и украшенный красным петушьим перышком) состояло, казалось, из одного носа. У всех были бороды различной формы и различного цвета. Один из них был, по-видимому, начальником; на этом дюжем пожилом джентльмене с обветренным красным лицом был кафтан с галунами, широкий пояс и кортик, а также шляпа с высокой тульей и перьями, красные чулки и башмаки на высоченнейших каблуках, украшенные спереди пряжками. Вся группа в целом напомнила Рипу картину фламандского живописца в гостиной ван Шейка, деревенского пастора, привезенную из Голландии еще в те времена, когда здесь было основано первое поселение. Но вот что больше всего поразило Рипа: хотя эти ребята, судя по всему, развлекались от всего сердца, они удерживали на своих лицах суровое выражение и хранили таинственное молчание; никогда еще Рипу не доводилось присутствовать при такой унылой забаве. Кроме стука шаров, который будил в горах громкое эхо, грохотавшее подобно громовым раскатам, ничто не нарушало безмолвия этой сцены. Когда Рип со своим спутником подошли ближе, эти люди разом прервали игру, и каждый из них уставился на него упорным, как у изваяния, взглядом; их лица были такие странные, такие чужие, такие безжизненные, что у Рипа екнуло сердце и задрожали поджилки. Между тем его спутник стал разливать содержимое бочонка по большим кубкам и знаком показал Рипу, что их следует поднести играющим. Рип повиновался со страхом и дрожью; в глубоком молчании проглотили они напиток и снова возвратились к игре. Мало-помалу Рип освоился с окружающим. Его страх и тревога прошли. Он осмелился даже — разумеется, лишь тогда, когда никто не глядел в его сторону, отведать напитка и нашел, что по вкусу и запаху это — отменная голландская водка. И так как по натуре своей он был вечно жаждущею душой, его вскоре стало томить искушение, не хлебнуть ли еще разочек. Но поскольку один глоток влечет за собою другие, он прихлебывал себе да прихлебывал, так что сознание его в конце концов затуманилось, голова стала тяжелой и опустилась на грудь, и он погрузился в глубокий сон. Проснувшись, Рип увидел себя на том же зеленом бугре, с которого он впервые заметил вчерашнего старика из ущелья. Он протер глаза — было яркое, ясное утро. В кустах порхали и чирикали птички; в небе широкими кругами парил орел, подставляя грудь чистому горному ветру. «Неужто, — подумал Рип, — я провел тут всю эту ночь?» Он припомнил все происшедшее с ним перед тем, как он задремал. Странный человек с бочонком голландской водки… котловина в горах… дикий уголок среди скал… унылая партия в кегли… кубок… «Ох, этот кубок, — подумал Рип, — этот проклятый кубок! Как же мне оправдаться перед госпожою ван Винкль?» Он осмотрелся, разыскивая свое ружье, но, вместо нового, отлично смазанного дробовика, нашел рядом с собою старый кремневый мушкет; ствол был изъеден ржавчиною, замок отвалился, червями источено ложе. Он заподозрил, что давешние суровые и немые гуляки, которых он встретил в горах, сыграли с ним шутку и, напоив водкой, стянули ружье. Волк тоже исчез; впрочем, он мог заблудиться, погнавшись за куропаткою или белкой. Рип свистнул и кликнул его по имени — все было напрасно. На его свист и крики многократно ответило эхо, собаки же нигде не было. Он решил еще раз наведаться в те места, где вчера шла игра в кегли; если встретится кто-нибудь из игроков, он потребует с него ружье и собаку. Поднявшись на ноги, чтобы выполнить это намерение, он почувствовал ломоту в суставах и заметил, что ему недостает былой легкости и подвижности. «Уж эти постели в горах, они, видно, не для меня, — подумал Рип, — и если после такой прогулочки я схвачу ко всему еще ревматизм, попадет же мне от хозяйки ван Винкль!» С трудом спустившись в овраг, он отыскал промоину, по которой вчера вечером поднимался со своим спутником в гору. К его изумлению, по ней катился теперь, перескакивая со скалы на скалу и оглашая овраг ревом и рокотом, бурный горный поток. Рип тем не менее стал карабкаться вверх вдоль его берега, и ему пришлось пробираться сквозь заросли лавра, березняк и лещинник, путаясь и по временам увязая среди густых лоз дикого винограда, который, цепляясь за деревья своими усиками и завитками, соткал на его пути своеобразную сеть. Наконец добрался он до того места в ущелье, где между утесами должен был открыться проход в амфитеатр, но не обнаружил и следа какого-либо прохода. Скалы вздымались отвесной непреодолимой стеной; сверху легкою полосой перистой пены низвергался поток, стекавший в просторный водоем, глубокий и черный, укутанный тенью растущего вокруг леса. Здесь бедный Рип волей-неволей остановился. Он еще раз свистнул и позвал своего пса, но в ответ донеслось лишь карканье праздных ворон, кружившихся высоко в воздухе над сухим деревом, свисавшим в озаренную солнцем пропасть; вороны, чувствуя себя в безопасности, — еще бы, на такой высоте! — поглядывали насмешливо вниз и потешались, казалось, над замешательством бедного Рипа. Что ж теперь делать? Утро проходило, он испытывал голод; он ведь не завтракал! Его огорчила потеря ружья и собаки, он страшился встречи с женой, но не помирать же ему было с голода в этих горах! Покачав головою, он взвалил на плечо ржавый мушкет и с сердцем, исполненным забот и тревоги, направился восвояси. Подходя к деревне, Рип повстречал нескольких человек, но среди них кого, кто был бы ему знаком; это несколько удивило, его ибо он думал, что у себя в округе знает всякого встречного и поперечного. Одежда их к тому же была совсем другого покроя, чем тот, к которому он привык. Все они глазели на него с одинаковым удивлением и всякий раз, взглянув на него, неизменно хватались за подбородок. Видя постоянное повторение этого жеста, Рип невольно последовал их примеру и, к своему изумлению, обнаружил, что у него выросла борода длиной в добрый фут! Он вошел, наконец, в деревню. Ватага незнакомых ребят следовала за ним по пятам; они гикали и указывали пальцами на его белую бороду. Собаки — но и среди них не было ни одной старой знакомой — бросались на него, надрываясь от лая. Да и деревня тоже переменилась — она разрослась и сделалась многолюдней. Перед ним’ тянулись ряды домов, которых он прежде не видел, а между тем хорошо известные ему домики исчезли бесследно. Чужие имена на дверях, чужие лица в окнах — все стало чужое. Было от чего потерять голову; Рип начал подумывать, уж не попали ли под власти колдовских чар он сам и весь окружающий мир. Конечно — ив этом не могло быть сомнений — пред ним была родная деревня, которую он покинул только вчера. Там высятся Каатскильские горы, вдалеке серебрится быстрый Гудзон, а вот — те же холмы и долины, которые были тут испокон веков. Рип не на шутку смешался. «Вчерашний кубок, — подумал он, — задурил мне, видимо, голову». Не без труда нашел он дорогу к своему дому, к которому, кстати сказать, стал подходить с немым страхом, ожидая, что вот-вот раздастся пронзительный голос госпожи ван Винкль. Дом оказался в полном упадке: крыша обвалилась, окна разбиты, двери сорваны с петель. Вокруг дома бродила тощая, полуголодная, похожая на Волка собака. Рип кликнул ее, но она с ворчанием оскалила зубы и удалилась. Это было уж вовсе обидно. «Моя собственная собака, — вздохнул бедный Рип, — и та забыла меня». Он вошел в дом, который госпожа ван Винкль, надо отдать справедливость, всегда содержала в чистоте и порядке. Дом был пуст, заброшен и явно покинут. Такое запустение заставило его забыть всякий страх пред супругой, и он стал громко звать ее и детей; пустые комнаты на мгновенье огласились звуками его голоса; затем снова воцарилась мертвая тишина. Рип торопливо вышел из дому и зашагал к своему старому приюту и утешению — деревенскому кабачку; но и кабачок бесследно исчез! На его месте стояла большая покосившаяся деревянная постройка, зияющая широкими окнами; некоторые из них были разбиты и заткнуты старыми шляпами или юбками; над входом в здание красовалась вывеска: «гостиница «Союз» Джонатана Дулитля». Вместо могучего дерева, под сенью которого безмятежно ютился когда-то скромный голландский кабачок, торчал простой голый шест с чем-то вроде красного ночного колпака на самой верхушке. На шесте развевался также флаг с изображением каких-то звезд и полос. Все это было чрезвычайно странно и непонятно. Он разглядел, впрочем, на вывеске, под которой не раз мирно курил свою трубку, румяное лицо короля Георга III, но и тот тоже изменился самым поразительным образом. Красный мундир стал канареечно-голубым; вместо скипетра в руке оказалась шпага; голову венчала треугольная шляпа, и внизу крупными буквами было выведено: «Генерал Вашингтон». Как всегда, у дверей толклось много народу, но среди них не было никого, кого бы Рип помнил. Изменился, казалось, даже самый характер людей. Вместо былой невозмутимости и сонного спокойствия во всем проступали деловитость, напористость, суетливость. Рип тщетно искал глазами, где же мудрый Николас Веддер с его широким лицом, двойным подбородком и славною длинною трубкой, взамен праздных речей наделявших своих собеседников густыми клубами табачного дыма, или школьный учитель ван Буммель, пережевывавший содержание старой газеты. Вместо них тощий, желчного вида субъект, карманы которого были битком набиты какими-то объявлениями, шумно разглагольствовал о гражданских правах, о выборах, о членах Конгресса, о свободе, о Бэнкерс-Хилле, о героях 1776 года и о многом другом, так что речь его показалась ошеломленному Рипу каким-то вавилонским смешением языков. Появление Рипа, его длинная белая борода, ржавый кремневый мушкет, странное платье и целая армия женщин и ребятишек, следовавших за ним по пятам, немедленно привлекали внимание трактирных политиканов. Они обступили его и с великим любопытством стали разглядывать с головы до ног и с ног до головы. Оратор в мгновение ока очутился возле Рипа и, отведя его в сторону, спросил, за кого он будет голосовать. Рип недоуменно уставился на него. Не успел он опомниться, как какой-то низкорослый и юркий маленький человечек дернул его за рукав, поднялся на носки и зашептал ему на ухо: «Кто же вы — федералист, демократ?» Рип и на этот раз не понял ни слова. Вслед за тем почтенный и важный пожилой джентльмен в треуголке с острыми концами пробился к нему сквозь толпу, расталкивая всех и слева и справа локтями, и, остановившись пред Рипом ван Винклем, подбоченился, оперся другою рукой на трость и, проникая как бы в самую душу его своим пристальным взглядом и острием своей треуголки, строго спросил, на каком основании он явился на выборы вооруженным и чего ради привел с собою толпу: уж не намерен ли он поднять в деревне мятеж? — Помилуйте, джентльмены! — воскликнул Рип, окончательно сбитый с толку. — Я человек бедный и мирный, уроженец здешних мест и верный подданный своего короля, да благословит его бог! Тут поднялся отчаянный шум: — Тори! Тори! Шпион! Эмигрант! Держи его! Долой! Самонадеянный человек в треуголке с превеликим трудом восстановил, наконец, порядок и, придав себе еще больше важности и суровости, еще раз допросил неведомого преступника: зачем он явился сюда и кого он разыскивает? Бедняга Рип стал смиренно доказывать, что ничего худого он не замыслил и явился сюда лишь затем, чтобы повидать кого-нибудь из соседей, обычно собирающихся возле трактира. — Отлично, но кто же они? Назовите их имена! Рип задумался на минутку, потом сказал: — Николас Веддер. Воцарилось молчание; его нарушил какой-то старик, который тонким, визгливым голосом пропищал: — Николас Веддер? Вот уже восемнадцать лет, как он скончался и отошел в лучший мир. Над его могилой, что на церковном дворе, стоял деревянный крест, который мог бы о нем рассказать, но крест истлел, и теперь от него тоже ничего не осталось. — Ну, а где же Бром Детчер? — Ах, этот! Еще в начале войны он отправился в армию; одни утверждают, что он убит при взятии приступом Стони Пойнт, другие — будто он утонул во время бури у Антонова Носа. Не знаю, кто из них прав. Он так и не вернулся назад. — А где ван Буммель, учитель? — Он тоже ушел на войну, стал важным генералом и теперь заседает в Конгрессе. Услышав о переменах, происшедших в родной деревне, и о жестокой судьбе, отнявшей у него старых друзей, и рассудив, что он остался теперь один-одинешенек на всем белом свете, Рип почувствовал, как сердце его сжимается и замирает. К тому же каждый ответ порождал в нем глубокое недоумение, ибо дело шло о больших отрезках времени и о событиях, которые не укладывались в его сознании: война. Конгресс, Стони Пойнт. Он не решился спрашивать о прочих друзьях и вскричал в полном отчаянии: — Неужели никто не знает тут Рипа ван Винкля? — Ах, Рип ван Винкль! — раздались голоса в толпе. — Ну еще бы! Вот он, Рип ван Винкль, вот он стоит, прислонившись к дереву. Рип взглянул в указанном направлении и увидел своего двойника, совершенно такого, каким был он, отправляясь в горы. Это был, по-видимому, такой же ленивец и во всяком случае такой же оборвыш! Бедняга Рип окончательно растерялся. Он усомнился в себе самом: кто же он — Рип ван Винкль или кто-то другой? И пока он стоял в замешательстве, человек в треуголке обратился к нему с вопросом: — Кто вы и как вас зовут? — Ты, Господи, веси! — воскликнул Рип, теряя рассудок. — Ведь я вовсе не я… я — кто-то другой… Вот я стою там… нет… это кто-то другой в моей шкуре… Вчера вечером я был настоящий, но я провел эту ночь среди гор, и мне подменили ружье, все переменилось, я переменился, и я не могу сказать, как меня зовут и кто я такой. Тут присутствующие начали переглядываться, перемигиваться, покачивать головой и многозначительно постукивать себя по лбу. В толпе зашептались о том, что неплохо отнять у старого деда ружье, а не то, пожалуй, он натворит каких-нибудь бед. При одном упоминании о подобной возможности почтенный и важный человек в треуголке поспешно ретировался. В эту решительную минуту молодая миловидная женщина, протолкавшись вперед, подошла взглянуть на седобородого старца. На руках у нее был толстощекий малыш, который при виде Рипа заорал благим матом. — Молчи, Рип, — вскричала она. — Молчи, дурачок: дедушка тебе худого не сделает. Имя ребенка, внешность матери, ее голос — все это пробудило в Рипе вереницу далеких воспоминаний. — Как тебя зовут, милая? — спросил он. — Джудит Гарденир. — А как звали твоего отца? — Его, беднягу, звали Рипом ван Винклем, но вот уже двадцать лет, как он ушел из дому с ружьем на плече, и с той поры о нем ни слуху ни духу. Собака одна вернулась домой, но что сталось с отцом, застрелил ли он сам себя или его захватили индейцы, — никто на это вам не ответит. Я была тогда совсем маленькой девочкой. Рипу не терпелось выяснить еще одно обстоятельство, и с дрожью в голосе он задал последний вопрос: — Ну, а где твоя мать? — Она тоже скончалась; это случилось недавно. У нее лопнула жила — она повздорила с коробейником, что прибыл из Новой Англии. По крайней мере хоть это известие заключало в себе кое-что утешительное. Бедняга не мог дольше сдерживаться. В одно мгновение и дочь и ребенок оказались в его объятиях. — Я — твой отец! — вскричал он взволнованно. — Я — Рип ван Винкль, когда-то молодой, а теперь старик Рип ван Винкль! Неужели никто на свете не признает беднягу Рипа ван Винкля? Все пялили на него глаза. Какая-то маленькая старушка, пошатываясь от слабости, вышла, наконец, из толпы, прикрыла ладонью глаза и, вглядевшись в его лицо, воскликнула: — Ну, конечно! Это же Рип ван Винкль, он самый! Добро пожаловать! Где же ты пропадал, старина, в продолжении долгих двадцати лет? История Рипа была на редкость короткой, ибо целое двадцатилетие пролетело для него, как одна летняя ночь. Окружающие, слушая Рипа, уставились на него и дивились его рассказу; впрочем, нашлись и такие, которые подмигивали друг другу и корчили рожи, а почтенный человек в треуголке, по миновании тревоги возвратившийся к месту происшествия, поджал губы и покачал головой; тут закачались и головы всех собравшихся. Тогда порешили узнать мнение старого Питера Вандердонка; как раз в этот момент он медленно брел по дороге. Он был потомком историка с тем же именем, оставившего одно из первых описаний этой провинции. Питер был самым старым из местных жителей и знал назубок все примечательные события и преданья округи. Он тотчас же признал Рипа и заявил, что считает его рассказ вполне достоверным. Он заверил присутствующих, что Каатскильские горы, как подтверждает его предок-историк, искони кишели какими-то странными существами; передают, будто Гендрик Гудзон, впервые открывший и исследовавший реку и прилегающий край, раз в двадцать лет обозревает эти места вместе с командой своего «Полумесяца». Таким образом, он постоянно навещает область, бывшую ареною его подвигов, и присматривает бдительным оком за рекою и большим городом, названным его именем. Отцу Питера Вандердонка будто бы удалось однажды увидеть их: призраки были одеты в старинное голландское платье, они играли в кегли в котловине между горами; да и ему самому случилось как-то летом под вечер услышать стук их шаров, похожий на раскаты далекого грома. В конце концов толпа успокоилась и приступила к более важному делу — к выборам. Дочь Рипа поселила его у себя. У нее был уютный, хорошо обставленный дом и рослый жизнерадостный муж, в котором Рип узнал одного из тех сорванцов, что забирались во время оно к нему на спину. Что касается сына и наследника Рипа, точной копии своего незадачливого отца, того самого, которого мы видели прислонившимся к дереву, то он работал на ферме у зятя и отличался унаследованной от Рипа старшего склонностью заниматься всем чем угодно, но только не собственным делом. Рип возобновил свои странствования и былые привычки; он разыскал также старых приятелей, но и они были не те: время не пощадило и их! По этой причине он предпочел друзей из среды юного поколения, любовь которого вскоре снискал. Свободный от каких бы то ни было домашних обязанностей, достигнув того счастливого возраста, когда человек безнаказанно предается праздности, Рип занял старое место у порога трактира. Его почитали как одного из патриархов деревни и как живую летопись давних, «довоенных времен». Миновало немало дней, прежде чем он вошел в курс местных сплетен и уяснил себе поразительные события, происшедшие за время его многолетнего сна. Много чего пришлось узнать Рипу: узнал он и про войну за независимость, и про свержение ига старой Англии, и, наконец, что он сам превратился из подданного короля Георга III в свободного гражданина Соединенных Штатов. Сказать по правде, Рип плохо разбирался в политике: перемены в жизни государств и империй мало задевали его; ему был известен только один вид деспотизма, под гнетом которого он столь долго страдал, — деспотическое правление юбки. По счастью, этому деспотизму тоже пришел конец; сбросив со своей шеи ярмо супружества и не страшась больше тирании хозяйки ван Винкль, он мог уходить из дому и возвращаться домой, когда пожелает. Всякий раз, однако, при упоминании ее имени он покачивал головою, пожимал плечами и возводил вверх глаза, что с одинаковым правом можно было счесть выражением и покорности своей печальной судьбе и радости по поводу неожиданного освобождения. Рип рассказывал свою историю каждому новому постояльцу гостиницы мистера Дулитля. Было замечено, что вначале он всякий раз вносил в эту историю кое-что новое, вероятно из-за того, что только недавно пробудился от своих сновидений. Под конец его история отлилась в тот самый рассказ, который я только что воспроизвел, и во всей округе не было мужчины, женщины или ребенка, которые не знали ее наизусть. Иногда, впрочем, выражались сомнения в ее достоверности; кое-кто уверял, что Рип попросту спятил и что его история и есть тот пункт помешательства, который никак не вышибить из его головы. Однако старые голландские поселенцы относятся к ней с полным доверием. И сейчас, услышав в разгар лета под вечер раскаты далекого грома, доносящиеся со стороны Каатскильских гор, они утверждают, что это Гендрик Гудзон и команда его корабля режутся в кегли. И все мужья здешних мест, ощущающие на себе женин башмак, когда им жить становится невмоготу, мечтают о том, чтобы испить забвения из кубка Рипа ван Винкля.
ЭДГАР ПО
Многие критики считают Эдгара По (1809–1849 гг.) «отцом» научной фантастики. Действительно, самые головоломные ею повествование основаны прежде всего не на признании сверхъестественных сил, а на рационалистическом, научно понимаемом допущении.
Однако у Э. По было немало предшественников в американской литературе. Более того, почти во всех научно-фантастических произведениях знаменитого писателя использованы идеи, ситуации я даже тексты его менее известных коллег.
И это понятно. Идеи носились в воздухе, попадали в разные души и прорастали там по-разному. Лишь в немногих произведениях достигался гармоничный синтез «научности» и «литературности».
В творчестве Эдгара По разработаны два направления собственно научно-фантастической литературы в отличие от научно-популяризаторской литературы. Первое использует научность ради достижения литературного эффекта, создания эстетической, эмоциональной атмосферы странности или бездонности мира и всего, что в нем. Второе использует литературность ради обоснования научной, социальной или философской гипотезы, создания необычного, парадоксального логического каркаса мира, общества, человека. Иногда оба направления сосуществуют в одном и том же произведении.
Вспомним, например, рассказ «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром». К умирающему Вальдемару приходит гипнотизер, чтобы как-то помочь ему. Начинается сеанс месмеризма. Вальдемар засыпает и под гипнозом переходит в другой мир, «умирает». Вдруг присутствующие застывают в ужасе — язык трупа вибрирует, раздается голос: «Я мертв». Мертвый Вальдемар семь месяцев лежит у себя в доме, не изменяясь. Врачи и гипнотизер ежедневно навещают его. Наконец принимается решение пробудить Вальдемара. Следует несколько пассов, раздается нечеловеческий крик «умер! умер!», труп вибрирует и рассыпается в прах. Научная спекуляция о тайне смертного мгновения, о диалектике «тела» и «души» отлита во впечатляющую литературную форму.
В произведениях «Поэма в прозе», «Эврика» и в «Меллонта Таунта» (это художественный репортаж из 2848 года с борта туристского летательного аппарата «Скайлак» — «Жаворонок») наука и сама в высшей степени симметричная вселенная возводятся на пьедестал поэзии. Э. По художественными средствами описывает свою интуитивную модель космоса, не столь уж далекую, кстати, от представлений современной науки.
«Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфалля» (1835 г.) — одно из первых в США описаний путешествия человека на Луну.
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НЕКОЕГО ГАНСА ПФААЛЯ
Согласно последним известиям, полученным из Роттердама, в этом городе представители научно-философской мысли охвачены сильнейшим волнением. Там произошло нечто столь неожиданное, столь новое, столь несогласное с установившимися взглядами, что в непродолжительном времени, — я в этом не сомневаюсь, — будет взбудоражена вся Европа, естествоиспытатели всполошатся и в среде астрономов и натуралистов начнется смятение, невиданное до сих пор. Произошло следующее. Такого-то числа и такого-то месяца (я не могу сообщить точной даты) огромная толпа почему-то собралась на Биржевой площади благоустроенного города Роттердама. День был теплый — совсем не по времени года, — без малейшего ветерка; и благодушное настроение толпы ничуть не омрачалось оттого, что иногда ее спрыскивал мгновенный легкий дождичек из огромных белых облаков, в изобилии разбросанных по голубому небосводу. Тем не менее около полудня в толпе почувствовалось легкое, но необычайное беспокойство: десять тысяч языков забормотали разом; спустя мгновение десять тысяч трубок, словно по приказу, вылетели из десяти тысяч ртов и продолжительный, громкий, дикий вопль, который можно сравнить только с ревом Ниагары, раскатился по улицам и окрестностям Роттердама. Причина этой суматохи вскоре выяснилась. Из-за резко очерченной массы огромного облака медленно выступил и обрисовался на ясной лазури какой-то странный, весьма пестрый, но, по-видимому, плотный предмет такой курьезной формы и из такого замысловатого материала, что толпа крепкоголовых бюргеров, стоявшая внизу разинув рты, могла только дивиться, ничего не понимая. Что же это такое? Ради всех чертей роттердамских, что бы это могло означать? Никто не знал, никто даже вообразить не мог, никто — даже сам бургомистр мингер Супербус ван Ундердук — не обладал ключом к этой тайне; и так как ничего более разумного нельзя было придумать, то в конце концов каждый из бюргеров сунул трубку обратно в угол рта и, не спуская глаз с загадочного явления, выпустил клуб дыма, приостановился, переступил с ноги на ногу, значительно хмыкнул — затем снова переступня с ноги на ногу, хмыкнул, приостановился и выпустил клуб дыма. Тем временем объект столь усиленного любопытства и причина столь многочисленных затяжек спускался все ниже и ниже над этим прекрасным городом. Через несколько минут его можно было рассмотреть в подробностях. Казалось, это был… нет, это действительно был воздушный шар; но, без сомнения, такого шара еще не видывали в Роттердаме. Кто же, позвольте вас спросить, слыхал когда-нибудь о воздушном шаре, склеенном из старых газет? В Голландии — никто, могу вас уверить; тем не менее в настоящую минуту под самым носом у собравшихся, или, точнее сказать, над носом, колыхалась на некоторой высоте именно эта самая штука, сделанная, по сообщению вполне авторитетного лица, из упомянутого материала, как всем известно, никогда дотоле не употреблявшегося для подобных целей, и этим наносилось жестокое оскорбление здравому смыслу роттердамских бюргеров. Форма «шара» оказалась еще обиднее. Он имел вид огромного дурацкого колпака, опрокинутого верхушкой вниз. Это сходство ничуть не уменьшилось, когда, при более внимательном осмотре, толпа заметила огромную кисть, подвешенную к его заостренному концу, а вокруг верхнего края, или основания конуса, — ряд маленьких инструментов вроде бубенчиков, которые весело позванивали. Мало того, к этой фантастической машине была привешена вместо гондолы огромная темная касторовая шляпа с широчайшими полями и обвитая вокруг тульи черной лентой с серебряной пряжкой. Но странное дело: многие из роттердамских граждан готовы были побожиться, что им уже не раз случалось видеть эту самую шляпу, да и все сборище смотрело на нее, как на старую знакомую, а фрау Греттель Пфааль, испустив радостное восклицание, объявила, что это собственная шляпа ее дорогого муженька. Необходимо заметить, что лет пять тому назад Пфааль с тремя товарищами исчез из Роттердама самым неожиданным и необычным образом, и с тех пор не было о нем ни слуху ни духу. Позднее в глухом закоулке на восточной окраине города была обнаружена куча костей, по-видимому человеческих, вперемешку с какими-то странными тряпками и обломками, и некоторые из граждан даже вообразили, что здесь совершилось кровавое злодеяние, жертвой которого пали Ганс Пфааль и его товарищи. Но вернемся к происшествию. Воздушный шар (так как это был несомненно воздушный шар) находился теперь на высоте какой-нибудь сотни футов, и публика могла свободно рассмотреть его пассажира. Правду сказать, это было очень странное создание. Рост его не превышал двух футов; но и при таком маленьком росте он легко мог потерять равновесие и кувырнуться за борт своей удивительной гондолы, если бы не обруч, помещенный на высоте его груди и прикрепленный к шару веревками. Толщина человечка совершенно не соответствовала росту и придавала всей его фигуре чрезвычайно нелепый шарообразный вид. Ног его, разумеется, не было видно. Руки отличались громадными размерами. Седые волосы были собраны на затылке и заплетены в косу. У него был красный, непомерно длинный, крючковатый нос, блестящие пронзительные глаза, морщинистые и вместе с тем пухлые щеки, но ни малейшего признака ушей где-либо на голове; странный старичок был одет в просторный атласный камзол небесно-голубого цвета и такого же цвета короткие панталоны в обтяжку, с серебряными пряжками у колен. Кроме того, на нем был жилет из какой-то ярко-желтой материи, мягкая белая шляпа, молодцевато сдвинутая набекрень, и кроваво-красный шелковый шейный платок, завязанный огромным бантом, концы которого франтовато спадали на грудь. Когда оставалось, как уже сказано, каких-нибудь сто футов до земли, старичок внезапно засуетился, по-видимому не желая приближаться еще более к terra firma.
С большим усилием подняв полотняный мешок, он отсыпал из него немного песку, и шар на мгновение остановился в воздухе. Затем старичок торопливо вытащил из бокового кармана большую записную книжку в сафьяновом переплете и подозрительно взвесил в руке, глядя на нее с величайшим изумлением, очевидно пораженный ее тяжестью. Потом открыл книжку и, достав из нее пакет, запечатанный сургучом и тщательно перевязанный красною тесемкой, бросил его прямо к ногам бургомистра Супербуса ван Ундердука. Его превосходительство нагнулся, чтобы поднять пакет. Но аэронавт, по-прежнему в сильнейшем волнении и, очевидно, считая свои дела в Роттердаме поконченными, начал в ту самую минуту готовиться к отлету. Для этого потребовалось облегчить гондолу, и вот с полдюжины мешков, которые он выбросил, не потрудившись предварительно опорожнить их, один за другим шлепнулись на спину бургомистра и заставили этого сановника столько же раз перекувырнуться на глазах у всего города. Не следует думать, однако, что великий Ундердук оставил безнаказанной наглую выходку старикашки. Напротив, рассказывают, будто он, падая, каждый раз выпускал не менее полдюжины огромных и яростных клубов из своей трубки, которую все время крепко держал в зубах и намерен был держать (с божьей помощью) до последнего своего вздоха. Тем временем воздушный шар взвился, точно жаворонок, на громадную высоту и вскоре, исчезнув за облаком, в точности похожим на то, из-за которого он так неожиданно выплыл, скрылся навеки от изумленных взоров добрых роттердамцев. Внимание всех устремилось теперь на письмо, падение которого и последовавшие затем происшествия оказались столь оскорбительными для персоны и персонального достоинства его превосходительства ван Ундердука. Тем не менее этот сановник во время своих коловращений не упускал из вида письмо, которое, как оказалось при ближайшем рассмотрении, попало в надлежащие руки, будучи адресовано ему и профессору Рубадубу как президенту и вице-президенту Роттердамского астрономического общества. Итак, названные сановники распечатали письмо тут же на месте и нашли в нем следующее необычное и весьма важное сообщение:
«Их превосходительствам господину ван Ундердуку и господину Рубадубу, президенту и вице-президенту Астрономического общества в городе Роттердаме.
Быть может, ваши превосходительства соблаговолят припомнить Ганса Пфааля, скромного ремесленника, занимавшегося починкой мехов для раздувания огня, — который вместе с тремя другими обывателями исчез из города Роттердама около пяти лет тому назад при обстоятельствах, можно сказать, чрезвычайных. Как бы то ни было, с позволения ваших превосходительств, я, автор настоящего сообщения, и есть тот самый Ганс Пфааль. Большинству моих сограждан известно, что в течение сорока лет я занимал небольшой кирпичный дом в конце переулка, именуемого переулком Кислой Капусты, где проживал вплоть до дня моего исчезновения. Предки мои с незапамятных времен обитали там же, подвизаясь на том же почетном и весьма прибыльном поприще починки мехов для раздувания огня. Ибо, говоря откровенно, до последних лет, когда весь народ прямо помешался на политике, ни один честный роттердамский гражданин не мог бы пожелать или заслужить право на лучшую профессию. Я пользовался широким кредитом, в работе никогда не было недостатка — словом, и денег и заказов было вдоволь. Но, как я уже сказал, мы скоро почувствовали, к чему ведет пресловутая свобода, бесконечные речи, радикализм и тому подобные штуки. Людям, которые раньше являлись нашими лучшими клиентами, теперь некогда было и подумать о нас, грешных. Они только и знали, что читать о революциях, следить за успехами человеческой мысли и приспосабливаться к духу времени. Если требовалось растопить очаг, огонь раздували газетой; я не сомневаюсь, что, по мере того как правительство становилось слабее, железо и кожа выигрывали в прочности, так как в самое короткое время во всем Роттердаме не осталось и пары мехов, которые требовали бы помощи иглы или молотка. Словом, положение сделалось невыносимым. Вскоре я уже был беден как мышь, а надо было кормить жену и детей. В конце концов мне стало просто невтерпеж, и я проводил целые часы, обдумывая, каким бы способом лишить себя жизни; но кредиторы не оставляли мне времени для размышлений. Мой дом буквально подвергался осаде с утра и до вечера. Трое заимодавцев особенно допекали меня, часами подстерегая у дверей и грозя судом. Я поклялся жестоко отомстить им, если только когда-нибудь они попадутся мне в лапы, и думаю, что лишь предвкушение этой мести помешало мне немедленно привести в исполнение мой план покончить с жизнью и раздробить себе череп выстрелом из мушкетона. Как бы то ни было, я счел за лучшее затаить свою злобу и умасливать их ласковыми словами и обещаниями, пока благоприятный оборот судьбы не доставит мне случая для мести.
Однажды, ускользнув от них и чувствуя себя более чем когда-либо в угнетенном настроении, я бесцельно бродил по самым глухим улицам, пока не завернул случайно в лавочку букиниста. Увидев стул, приготовленный для посетителей, я угрюмо опустился на него и машинально раскрыл первую попавшуюся книгу. Это оказался небольшой полемический трактат по теоретической астрономии, сочинение не то берлинского профессора Энке,
не то француза с такой же фамилией. Я немножко маракую в астрономии и вскоре совершенно углубился в чтение; я прочел книгу дважды, прежде чем сообразил, где я и что я. Тем временем стемнело, и пора было идти домой. Но книжка (в связи с новым открытием по части пневматики, тайну которого сообщил мне недавно один мой родственник из Нанта) произвела на меня неизгладимое впечатление, и, блуждая по темным улицам, я размышлял о странных и не всегда понятных рассуждениях автора. Некоторые места особенно поразили мое воображение. Чем больше я раздумывал над ними, тем сильнее они занимали меня. Недостаточность моего образования и, в частности, отсутствие знаний по естественным наукам отнюдь не внушали мне недоверия к моей способности понять прочтенное или к тем смутным сведениям, которые явились результатом чтения, — все это только пуще разжигало мое воображение. Я был настолько безрассуден или настолько рассудителен, что спрашивал себя: точно ли нелепы фантастические идеи, возникающие в причудливых умах, и не обладают ли они в ряде случаев силой, реальностью и другими свойствами, присущими инстинкту или вдохновению?
Я пришел домой поздно и тотчас лег в постель. Но голова моя была слишком взбудоражена, и я целую ночь провел в размышлениях. Поднявшись спозаранку, я поспешил в книжную лавку и купил несколько трактатов по механике и практической астрономии, истратив на них всю имевшуюся у меня скудную наличность. Затем, благополучно вернувшись домой с приобретенными книгами, я стал посвящать чтению каждую свободную минуту и вскоре достиг знаний, которые счел достаточными для того, чтобы привести в исполнение план, внушенный мне дьяволом или моим добрым гением. В то же время я всеми силами старался умаслить трех кредиторов, столь жестоко донимавших меня. В конце концов я преуспел в этом, уплатив половину долга из денег, вырученных от продажи кое-каких домашних вещей, и обещав уплатить остальное, когда приведу в исполнение один проектец, в осуществлении которого они (люди совершенно невежественные) согласились мне помочь.
Уладив таким образом свои дела, я при помощи жены и с соблюдением строжайшей тайны постарался сбыть свое остальное имущество и собрал порядочную сумму денег, занимая по мелочам, где придется, под разными предлогами и (со стыдом должен сознаться) не имея притом никаких надежд возвратить эти долги в будущем. На деньги, добытые таким путем, я помаленьку накупил: очень тонкого кембрикового муслина, кусками по двенадцати ярдов каждый, веревок, каучукового лака, широкую и глубокую плетеную корзину, сделанную по заказу, и разных других материалов, необходимых для сооружения и оснастки воздушного шара огромных размеров.
Изготовление шара я поручил жене, дав ей надлежащие указания, и просил окончить работу как можно скорее; сам же тем временем сплел сетку, снабдив ее обручами и крепкими веревками, и приобрел множество инструментов и материалов для опытов в верхних слоях атмосферы. Далее, я перевез ночью в глухой закоулок на восточной окраине Роттердама пять бочек, обитых железными обручами, вместимостью в пятьдесят галлонов каждая, и шестую побольше, полдюжины жестяных труб в десять футов длиной и в три дюйма диаметром, запас особого металлического вещества, или полуметалла, название которого я не могу открыть, и двенадцать бутылей самой обыкновенной кислоты. Газа, получаемого с помощью этих материалов, еще никто, кроме меня, не добывал — или, по крайней мере, он никогда не применялся для подобной цели. Я могу только сообщить, что он является составной частью азота, так долго считавшегося неразложимым, и что плотность его в 37,4 раза меньше плотности водорода. Он не имеет вкуса, но обладает запахом; очищенный — горит зеленоватым пламенем и безусловно смертелен для всякого живого существа. Я мог бы описать его во всех подробностях, но, как уже намекнул выше, право на это открытие принадлежит по справедливости одному нантскому гражданину, который поделился со мною своей тайной на известных условиях. Он же сообщил мне, ничего не зная о моих намерениях, способ изготовления воздушных шаров из кожи одного животного, сквозь которую газ почти не проникает. Я, однако, нашел этот способ слишком дорогим и решил, что в конце концов кембриковый муслин, покрытый слоем каучука, ничуть не хуже. Упоминаю об этом, так как считаю весьма возможным, что мой нантский родственник попытается сделать воздушный шар с помощью нового газа и материала, о котором я говорил выше, — и отнюдь не желаю отнимать у него честь столь замечательного открытия.
На тех местах, где во время наполнения шара должны были находиться бочки поменьше, я выкопал небольшие ямы, так что они образовали круг диаметром в двадцать пять футов. В центре этого круга была вырыта яма поглубже, над которой я намеревался поставить большую бочку. Затем я опустил в каждую из пяти маленьких ям ящик с порохом, по пятидесяти фунтов в каждом, а в большую — бочонок со ста пятьюдесятью фунтами пушечного пороха. Соединив бочонок и ящики подземными проводами и приспособив к одному из ящиков фитиль в четыре фута длиною, я прикрыл его бочкой, так что конец фитиля высовывался из-под нее только на дюйм; потом засыпал остальные ямы и установил над ними бочки в надлежащем положении.
Кроме перечисленных выше приспособлений, я припрятал в своей мастерской аппарат господина Гримма для сгущения атмосферного воздуха. Впрочем, эта машина, чтобы удовлетворить моим целям, потребовала значительных изменений. Но путем упорного труда и неутомимой настойчивости мне удалось преодолеть все эти трудности. Вскоре мой шар был готов. Он вмещал более сорока тысяч кубических футов газа и легко мог поднять меня, мои запасы и сто семьдесят пять фунтов балласта. Шар был покрыт тройным слоем лака, и я убедился, что кембриковый муслин ничуть не уступает шелку, так же прочен, но гораздо дешевле.
Когда все было готово, я взял со своей жены клятву хранить в тайне все мои действия с того дня, когда я в первый раз посетил книжную лавку; затем, обещав вернуться, как только позволят обстоятельства, я отдал ей оставшиеся у меня деньги и распростился с нею. Мне нечего было беспокоиться на ее счет. Моя жена, что называется, ловкая баба и сумеет прожить на свете без моей помощи. Говоря откровенно, мне сдается, что она всегда считала меня лентяем, дармоедом, способным только строить воздушные замки, и была очень рада отделаться от меня. Итак, простившись с ней в одну темную ночь, я захватил с собой в качестве адъютантов трех кредиторов, доставивших мне столько неприятностей, и мы потащили шар, корзину и прочие принадлежности окольным путем к месту отправки, где уже были заготовлены все остальные материалы. Все оказалось в порядке, и я немедленно приступил, к делу.
Было 1 апреля. Как я уже сказал, ночь стояла темная, на небе ни звездочки; моросил мелкий дождь, по милости которого мы чувствовали себя весьма скверно. Но пуще всего меня беспокоил шар, который, хотя и был покрыт лаком, однако сильно отяжелел от сырости; да и порох мог подмокнуть. Итак, я попросил моих трех кредиторов приняться за работу и как можно ретивее: толочь лед около большой бочки и размешивать кислоту в остальных. Однако они смертельно надоедали мне вопросами — к чему все эти приготовления, и страшно злились на тяжелую работу, которую я заставил их делать. Какой прок, говорили они, выйдет из того, что они промокнут до костей, принимая участие в таком ужасном колдовстве? Я начинал чувствовать себя очень неловко и работал изо всех сил, так как эти дураки, видимо, действительно вообразили, будто я заключил договор с дьяволом. Я ужасно боялся, что они совсем уйдут от меня. Как бы то ни было, я старался уговорить их, обещая расплатиться полностью, лишь только мы доведем мое предприятие до конца. Без сомнения, они по-своему истолковали эти слова, решив, что я должен получить изрядную сумму чистоганом; а до моей души им, конечно, не было никакого дела, — лишь бы я уплатил долг да прибавил малую толику за услуги.
Через четыре с половиной часа шар был в достаточной степени наполнен. Я привязал корзину и положил в нее мой багаж: зрительную трубку, высотомер с некоторыми важными усовершенствованиями, термометр, электрометр, компас, циркуль, секундные часы, колокольчик, рупор и прочее и прочее; кроме того, тщательно закупоренный пробкой стеклянный шар, из которого был выкачан воздух, аппарат для сгущения воздуха, запас негашеной извести, кусок воска и обильный запас воды и съестных припасов, главным образом пеммикана, который содержит много питательных веществ при сравнительно небольшом объеме. Я захватил также пару голубей и кошку,
Рассвет был близок, и я решил, что пора лететь. Уронив, словно нечаянно, сигару, я воспользовался этим предлогом и, поднимая ее, зажег кончик фитиля, высовывавшийся, как было описано выше, из-под одной бочки меньшего размера. Этот маневр остался совершенно не замеченным моими кредиторами. Затем я вскочил в корзину, одним махом перерезал веревку, прикреплявшую шар к земле, и с удовольствием убедился, что поднимаюсь с головокружительной быстротой, унося с собою сто семьдесят пять фунтов балласта (а мог бы унести вдвое больше). В минуту взлета высотомер показывал тридцать дюймов, а термометр — девятнадцать градусов.
Но едва я поднялся на высоту пятидесяти ярдов, как вдогонку мне взвился с ужаснейшим ревом и свистом такой страшный вихрь огня, песку, горящих обломков, расплавленного металла, растерзанных тел, что сердце мое замерло, и я повалился на дно корзины, дрожа от страха. Мне стало ясно, что я переусердствовал и что главные последствия толчка еще впереди. И точно, не прошло секунды, как вся моя кровь хлынула к вискам, и тотчас раздался взрыв, которого я никогда не забуду. Казалось, рушится самый небосвод. Впоследствии, размышляя над этим приключением, я понял, что причиной столь непомерной силы взрыва было положение моего шара как раз на линии сильнейшего действия этого взрыва. Но в ту минуту я думал только о спасении жизни. Сначала шар съежился, потом завертелся с ужасающей быстротой и, наконец, крутясь и шатаясь, точно пьяный, выбросил меня из корзины, так что я повис на страшной высоте вниз головой на тонкой бечевке фута в три длиною, случайно проскользнувшей в отверстие близ дна корзины и каким-то чудом обмотавшейся вокруг моей левой ноги. Невозможно, решительно невозможно изобразить ужас моего положения. Я задыхался, дрожь, точно при лихорадке, сотрясала каждый нерв, каждый мускул моего тела, я чувствовал, что глаза мои вылезают из орбит, отвратительная тошнота подступала к горлу, — и наконец я лишился чувств.
Долго ли я провисел в таком положении, решительно не знаю. Должно быть, немало времени, ибо, когда я начал приходить в сознание, утро уже наступило, шар несся на чудовищной высоте над безбрежным океаном, и ни признака земли не было видно по всему широкому кругу горизонта. Я, однако, вовсе не испытывал такого отчаяния, как можно было ожидать. В самом деле, было что-то безумное в том спокойствии, с каким я принялся обсуждать свое положение. Я поднес к глазам одну руку, потом другую и удивился, отчего это вены на них налились кровью я ногти так страшно посинели. Затем тщательно исследовал голову, несколько раз тряхнул ею, ощупал очень подробно и наконец убедился, к своему удовольствию, что она отнюдь не больше воздушного шара, как мне сначала представилось. Потом я ощупал карманы брюк и, не найдя в них записной книжки и футлярчика с зубочистками, долго старался объяснить себе, куда они девались, но, не успев в этом, почувствовал невыразимое огорчение. Тут я ощутил крайнюю неловкость в левой лодыжке, и у меня явилось смутное сознание моего положения. Но странное дело — я не был удивлен и не ужаснулся. Напротив, я чувствовал какое-то острое удовольствие при мысли о том, что так ловко выпутаюсь из стоявшей передо мной дилеммы, и ни на секунду не сомневался в том, что не погибну. В течение нескольких минут я предавался глубокому раздумью. Совершенно отчетливо помню, что я поджимал губы, приставлял палец к носу и делал другие жесты и гримасы, как это в обычае у людей, когда они, спокойно сидя в своем кресле, размышляют над запутанными или сугубо важными вопросами. Наконец, собравшись с мыслями, я очень спокойно и осторожно засунул руки за спину и снял с ремня, стягивавшего мои панталоны, большую железную пряжку. На ней было три зубца, несколько заржавевшие и потому с трудом повертывавшиеся вокруг своей оси. Тем не менее мне удалось поставить их под прямым углом к пряжке, и я с удовольствием убедился, что они держатся в этом положении очень прочно. Затем, взяв в зубы пряжку, я постарался развязать галстук, что мне удалось не сразу, но в конце концов удалось. К одному концу галстука я прикрепил пряжку, а другой крепко обвязал вокруг запястья. Затем со страшным усилием мускулов качнулся вперед и забросил ее в корзину, где, как я и ожидал, она застряла в петлях плетения.
Теперь мое тело по отношению к краю корзины образовало угол градусов в сорок пять. Но это вовсе не значит, что оно только на сорок пять градусов отклонялось от вертикальной линии. Напротив, я лежал почти горизонтально, так как, переменив положение, заставил корзину сильно накрениться, и мне по-прежнему угрожала большая опасность. Но если бы, вылетев из корзины, я повис лицом к шару, а не наружу, если бы веревка, за которую я зацепился, перекинулась через край корзины, а не выскользнула в отверстие на дне, мне не удалось бы даже то немногое, что удалось теперь, и мои открытия были бы утрачены для потомства. Итак, я имел все основания благодарить судьбу. Впрочем, в эту минуту я все еще был слишком ошеломлен, чтобы испытывать какие-либо чувства, и с добрые четверть часа провисел совершенно спокойно, в бессмысленно-радостном настроении. Вскоре, однако, это настроение сменилось ужасом и отчаянием. Я понял всю меру своей беспомощности и близости к гибели. Дело в том, что кровь, застоявшаяся так долго в сосудах головы и гортани и доведшая мой мозг почти до бреда, мало-помалу отхлынула, и прояснившееся сознание, раскрыв передо мною весь ужас положения, в котором я очутился, только лишило меня самообладания и мужества. К счастью, этот припадок слабости не был продолжителен. На помощь мне явилось отчаяние: с яростным криком, судорожно извиваясь и раскачиваясь, я стал метаться, как безумный, пока наконец, уцепившись, точно клещами, за край корзины, не перекинулся через него и, весь дрожа, не свалился на дно.
Лишь спустя некоторое время я опомнился настолько, что мог приняться за осмотр воздушного шара. К моей великой радости, он оказался неповрежденным. Все мои запасы уцелели; я не потерял ни провизии, ни балласта. Впрочем, я уложил их так тщательно, что это и не могло случиться. Часы показывали шесть. Я все еще быстро поднимался.
Но пора мне объяснить вашим превосходительствам цель моего путешествия. Ваши превосходительства соблаговолят припомнить, что расстроенные обстоятельства в конце концов заставили меня прийти к мысли о самоубийстве. Это не значит, однако, что жизнь сама по себе мне опротивела, — нет, мне стало только невтерпеж мое бедственное положение. В этом-то состоянии, желая жить и в то же время измученный жизнью, я случайно прочел книжку, которая, в связи с открытием моего нантского родственника, доставила обильную пищу моему воображению. И тут я наконец нашел выход. Я решил исчезнуть с лица земли, оставшись тем не менее в живых; покинуть этот мир, продолжая существовать, — одним словом, я решил во что бы то ни стало добраться до луны. Чтобы не показаться совсем сумасшедшим, я теперь постараюсь изложить, как умею, соображения, в силу которых считал это предприятие — бесспорно трудное и опасное — все же не совсем безнадежным для человека отважного.
Прежде всего, конечно, возник вопрос о расстоянии луны от земли. Известно, что среднее расстояние между центрами этих двух небесных тел равно 59,9643 экваториальных радиусов земного шара, что составляет всего 237 тысяч миль. Я говорю о среднем расстоянии; но так как орбита луны представляет собой эллипс, эксцентриситет которого достигает в длину не менее 0,05484 большой полуоси самого эллипса, а земля расположена в фокусе последнего, то, если бы мне удалось встретить луну в перигелии, вышеуказанное расстояние сократилось бы весьма значительно. Но, даже оставив в стороне эту возможность, достаточно вычесть из этого расстояния радиус земли, то есть 4000, и радиус луны, то есть 1080, а всего 5080 миль, и окажется, что средняя длина пути при обыкновенных условиях составит 231 920 миль. Расстояние это не представляет собой ничего чрезвычайного. Путешествия на земле сплошь и рядом совершаются со средней скоростью 60 миль в час, и, без сомнения, есть полная возможность увеличить эту скорость. Но даже если ограничиться ею, то, чтобы достичь луны, потребуется не более 161 дня. Однако различные соображения заставляли меня думать, что средняя скорость моего путешествия намного превзойдет шестьдесят миль в час, и так как эти соображения оказали глубокое воздействие на мой ум, то я изложу их подробнее.
Прежде всего остановлюсь на следующем весьма важном пункте. Показания приборов при полетах говорят нам, что на высоте 1000 футов над поверхностью земли мы оставляем под собой около одной тридцатой части всей массы атмосферного воздуха, на высоте 10 600 футов — около трети, а на высоте 18 000 футов, то есть почти на высоте Котопакси, под нами остается половина, по крайней мере, половина весомой массы воздуха, облекающего нашу планету. Вычислено также, что на высоте, не превосходящей одну сотую земного диаметра, то есть не более восьмидесяти миль, атмосфера разрежена до такой степени, что самые чувствительные приборы не могут обнаружить ее присутствия, и жизнь животного организма становится невозможной. Но я знал, что все эти расчеты основаны на опытном изучении свойств воздуха и законов его расширения и сжатия в непосредственном соседстве с землей, причем считается доказанным, что свойства животного организма не могут меняться ни на каком расстоянии от земной поверхности. Между тем выводы, основанные на таких данных, без сомнения проблематичны. Наибольшая высота, на которую когда-либо поднимался человек, достигнута аэронавтами гг. Гей-Люссаком
и Био,
поднявшимися на 25 тысяч футов. Высота очень незначительная, даже в сравнении с упомянутыми восемьюдесятью милями. Стало быть, рассуждал я, тут останется мне немало места для сомнений и полный простор для догадок.
Кроме того, количество весомой атмосферы, которую шар оставляет за собою при подъеме, отнюдь не находится в прямой пропорции к высоте, а {как видно из вышеприведенных данных) в постоянно убывающем ratio.
Отсюда ясно, что, на какую бы высоту мы ни поднялись, мы никогда не достигнем такой границы, выше которой вовсе не существует атмосферы. Она должна существовать, рассуждал я, хотя, быть может, в состоянии бесконечного разрежения.
С другой стороны, мне было известно, что есть достаточно оснований допускать существование реальной определенной границы атмосферы, выше которой воздуха безусловно нет. Но одно обстоятельство, упущенное из виду защитниками этой точки зрения, заставляло меня сомневаться в ее справедливости и во всяком случае считать необходимой серьезную проверку. Если сравнить интервалы между регулярными появлениями кометы Энке в ее перигелии, принимая в расчет возмущающее действие притяжения планет, то окажется, что эти интервалы постепенно уменьшаются, то есть главная ось орбиты становится все короче. Так и должно быть, если допустить существование чрезвычайно разреженной эфирной среды, сквозь которую проходит орбита кометы. Ибо сопротивление подобной среды, замедляя движение кометы, очевидно, должно увеличивать ее центростремительную силу, уменьшая центробежную. Иными словами, действие солнечного притяжения постоянно усиливается, и комета с каждым периодом приближается к солнцу. Другого объяснения этому изменению орбиты не придумаешь. Кроме того, замечено, что поперечник кометы быстро уменьшается с приближением к солнцу и столь же быстро принимает прежнюю величину при возвращении кометы в афелий. И разве это кажущееся уменьшение объема кометы нельзя объяснить, вместе с господином Вальцем,
сгущением вышеупомянутой эфирной среды, плотность которой увеличивается по мере приближения к солнцу? Явление, известное под именем зодиакального света, также заслуживает внимания. Чаще всего оно наблюдается под тропиками и не имеет ничего общего со светом, излучаемым метеорами. Это светлые полосы, тянущиеся от горизонта наискось и вверх, по направлению солнечного экватора. Они, несомненно, имеют связь не только с разреженной атмосферой, простирающейся от солнца по меньшей мере до орбиты Венеры, а по моему мнению, и гораздо дальше.
В самом деле, я не могу допустить, чтобы эта среда ограничивалась орбитой кометы или пространством, непосредственно примыкающим к солнцу. Напротив, гораздо легче предположить, что она наполняет всю нашу планетную систему, сгущаясь поблизости от планет и образуя то, что мы называем атмосферными оболочками, которые, быть может, также изменялись под влиянием геологических факторов, то есть смешивались с испарениями, выделявшимися той или другой планетой.
Остановившись на этой точке зрения, я больше не стал колебаться. Предполагая, что всюду на своем пути найду атмосферу, в основных чертах сходную с земной, я надеялся, что мне удастся с помощью остроумного аппарата господина Гримма сгустить ее в достаточной степени, чтобы дышать. Таким образом, главное препятствие для полета на луну устранялось. Я затратил немало труда и изрядную сумму денег на покупку и усовершенствование аппарата и не сомневался, что он успешно выполнит свое назначение, лишь бы путешествие не затянулось. Это соображение заставляет меня вернуться к вопросу о возможной скорости такого путешествия.
Известно, что воздушные шары в первые минуты взлета поднимаются сравнительно медленно. Быстрота подъема всецело зависит от разницы между плотностью атмосферного воздуха и газа, наполняющего шар. Если принять в расчет это обстоятельство, то покажется совершенно невероятным, чтобы скорость восхождения могла увеличиться в верхних слоях атмосферы, плотность которых быстро уменьшается. С другой стороны, я не знаю ни одного отчета о воздушном путешествии, в котором бы сообщалось об уменьшении скорости но мере подъема; а между тем она, несомненно, должна бы была уменьшаться — хотя бы вследствие просачиванья газа сквозь оболочку шара, покрытую обыкновенным лаком, — не говоря о других причинах. Одна эта потеря газа должна бы тормозить ускорение, возникающее в результате удаления шара от центра земли. Имея в виду все эти обстоятельства, я полагал, что если только найду на моем пути среду, о которой упоминал выше, и если эта среда в основных своих свойствах будет представлять собой то самое, что мы называем атмосферным воздухом, то степень ее разрежения не окажет особого влияния — то есть не отразится на быстроте моего взлета, — так как по мере разрежения среды станет соответственно разрежаться и газ внутри шара (для предотвращения разрыва оболочки я могу выпускать его по мере надобности с помощью клапана); в то же время, оставаясь тем, что он есть, газ всегда окажется относительно легче, чем какая бы то ни была смесь азота с кислородом. Таким образом, я имел основание надеяться — даже, собственно говоря, быть почти уверенным, что ни в какой момент моего взлета мне не придется достигнуть пункта, в котором вес моего огромного шара, заключенного в нем газа, корзины и ее содержимого превзойдет вес вытесняемого ими воздуха. А только это последнее обстоятельство могло бы остановить мое восхождение. Но если даже я и достигну такого пункта, то могу выбросить около трехсот фунтов балласта и других материалов. Тем временем сила тяготения будет непрерывно уменьшаться пропорционально квадратам расстояний, а скорость полета увеличиваться в чудовищной прогрессии, так что в конце концов я попаду в сферу, где земное притяжение уступит место притяжению Луны.
Еще одно обстоятельство несколько смущало меня. Замечено, что при подъеме воздушного шара на значительную высоту воздухоплаватель испытывает, помимо затрудненного дыхания, ряд болезненных ощущений, сопровождающихся кровотечением из носа и другими тревожными признаками, которые усиливаются по мере подъема.
Это обстоятельство наводило на размышления весьма неприятного свойства. Что, если эти болезненные явления будут все усиливаться и окончатся смертью? Однако я решил, что этого вряд ли следует опасаться. Ведь их причина заключается в постепенном уменьшении обычного атмосферного давления на поверхность тела и в соответственном расширении поверхностных кровяных сосудов — а не в расстройстве органической системы, как при затрудненном дыхании, вызванном тем, что разреженный воздух по своему химическому составу недостаточен для обновления крови в желудочках сердца. Оставив в стороне это недостаточное обновление крови, я не вижу, почему бы жизнь не могла продолжаться даже в вакууме, так как расширение и сжатие груди, называемое обычно дыханием, есть чисто мышечное явление и вовсе не следствие, а причина дыхания. Словом, я рассудил, что когда тело привыкнет к недостаточному атмосферному давлению, болезненные ощущения постепенно уменьшатся, а я пока что уж как-нибудь перетерплю, здоровье у меня железное.
Таким образом, я, с позволения ваших превосходительств, подробно изложил некоторые — хотя далеко не все — соображения, которые легли в основу моего плана путешествия на луну. А теперь возвращусь к описанию результатов моей попытки — с виду столь безрассудной и, во всяком случае, единственной в летописях человечества.
Достигнув уже упомянутой высоты в три и три четверти мили, я выбросил из корзины горсть перьев и убедился, что шар мой продолжает подниматься с достаточной быстротой и, следовательно, пока нет надобности выбрасывать балласт. Я был очень доволен этим обстоятельством, так как хотел сохранить как можно больше тяжести, не зная наверняка, какова степень притяжения луны и плотность лунной атмосферы. Пока я не испытывал никаких болезненных ощущений, дышал вполне свободно и не чувствовал ни малейшей головной боли. Кошка расположилась на моем пальто, которое я снял, и с напускным равнодушием поглядывала на голубей. Голуби, которых я привязал за ноги, чтобы они не улетели, деловито клевали зерна риса, насыпанные на дно корзины. В двадцать минут седьмого высотомер показал высоту в 26 400 футов, то есть пять с лишним миль. Простор, открывавшийся подо мною, казался безграничным. На самом деле, с помощью сферической тригонометрии нетрудно вычислить, какую часть земной поверхности я мог охватить взглядом. Ведь выпуклая поверхность сегмента шара относится ко всей его поверхности, как обращенный синус сегмента к диаметру шара. В данном случае обращенный синус — то есть, иными словами, толщина сегмента, находившегося подо мною, почти равнялась расстоянию, на котором я находился от земли, или высоте пункта наблюдения; следовательно, часть земной поверхности, доступная моему взору, выражалась отношением пяти миль к восьми тысячам. Иными словами, я видел одну тысячешестисотую часть всей земной поверхности. Море казалось гладким, как зеркало, хотя в зрительную трубку я мог убедиться, что волнение на нем очень сильное. Корабль давно исчез в восточном направлении. Теперь я по временам испытывал жестокую головную боль, в особенности за ушами, хотя дышал довольно свободно. Кошка и голуби чувствовали себя, по-видимому, как нельзя лучше.
Без двадцати минут семь мой шар попал в слой густых облаков, которые причинили мне немало неприятностей, повредив сгущающий аппарат и промочив меня до костей. Это была, без сомнения, весьма странная встреча: я никак не ожидал, что подобные облака могут быть на такой огромной высоте. Все же я счел за лучшее выбросить два пятифунтовых мешка с балластом, оставив про запас сто шестьдесят пять фунтов. После этого я быстро выбрался из облаков и убедился, что скорость подъема значительно возросла. Спустя несколько секунд после того, как я оставил под собой облако, молния прорезала его с одного конца до другого, и все оно вспыхнуло, точно груда раскаленного угля. Напомню, что это происходило при ясном дневном свете. Никакая фантазия не в силах представить себе великолепие подобного явления; случись оно ночью, оно было бы точной картиной ада. Даже теперь волосы поднялись дыбом на моей голове, когда я смотрел в глубь этих зияющих бездн и мое воображение блуждало среди огненных зал с причудливыми сводами, развалин и пропастей, озаренных багровым, нездешним светом. Я едва избежал опасности. Если бы шар помедлил еще немного внутри облака — иными словами, если бы сырость не заставила меня выбросить два мешка с балластом — последствием могла быть — и была бы, по всей вероятности, — моя гибель. Такие случайности для воздушного шара, может быть, опаснее всего, хотя их обычно не принимают в расчет. Тем временем я оказался уже на достаточной высоте, чтобы считать себя застрахованным от дальнейших приключений в том же роде.
Я продолжал быстро подниматься, и к семи часам высотомер показал высоту не менее девяти с половиной миль. Мне уже становилось трудно дышать, голова мучительно болела, с некоторых пор я чувствовал какую-то влагу на щеках и вскоре убедился, что из ушей у меня течет кровь. Глаза тоже болели; когда я провел по ним рукой, мне показалось, что они вылезли из орбит; все предметы в корзине и самый шар приняли уродливые очертания. Эти болезненные симптомы оказались сильнее, чем я ожидал, и не на шутку встревожили меня. Расстроенный, хорошенько не отдавая себе отчета в том, что делаю, я совершил нечто в высшей степени неблагоразумное: выбросил из корзины три пятифунтовых мешка с балластом. Шар рванулся и перенес меня сразу в столь разреженный слой атмосферы, что результат едва не оказался роковым для меня и моего предприятия. Я внезапно почувствовал припадок удушья, продолжавшийся не менее пяти минут; даже когда он прекратился, я не мог вздохнуть как следует. Кровь струилась у меня из носа, из ушей и даже из глаз. Голуби отчаянно бились, стараясь вырваться на волю; кошка жалобно мяукала и, высунув язык, металась туда и сюда, точно проглотила отраву. Слишком поздно поняв свою ошибку, я пришел в отчаяние. Я ожидал неминуемой и близкой смерти. Физические страдания почти лишили меня способности предпринять что-либо для спасения своей жизни, мозг почти отказывался работать, а головная боль усиливалась с каждой минутой. Чувствуя близость обморока, я хотел было дернуть веревку, соединенную с клапаном, чтобы спуститься на землю, — как вдруг вспомнил о том, что я проделал с кредиторами, и о вероятных последствиях, ожидающих меня в случае возвращения на землю. Это воспоминание остановило меня. Я лег на дно корзины и постарался собраться с мыслями. Это удалось мне настолько, что я решил пустить себе кровь. За неимением ланцета я произвел эту операцию, открыв вену на левой руке с помощью перочинного ножа. Как только потекла кровь, я почувствовал большое облегчение, а когда вышло с полчашки, худшие из болезненных симптомов совершенно исчезли. Все ж я не решился встать и, кое-как забинтовав руку, пролежал еще о четверть часа. Наконец я поднялся; оказалось, что все болезненные ощущения, преследовавшие меня в течение последнего часа, исчезли. Только дыхание было по-прежнему затруднено, и я понял, что вскоре придется прибегнуть к конденсатору. Случайно взглянув на кошку, которая снова улеглась на пальто, я увидел, к своему крайнему изумлению, что во время моего припадка она разрешилась тремя котятами. Этого прибавления пассажиров я отнюдь не ожидал, но был им очень доволен: оно давало мне возможность проверить гипотезу, которая более чем что-либо другое повлияла на мое решение. Я объяснял болезненные явления, испытываемые воздухоплавателем на известной высоте, привычкой к определенному давлению атмосферы около земной поверхности. Если котята будут страдать в такой же степени, как мать, то моя теория, видимо, ошибочна, если же нет — она вполне подтвердится.
К восьми часам я достиг семнадцати миль над поверхностью земли. Очевидно, скорость подъема возрастала, и если бы даже я не выбросил балласта, то заметил бы это ускорение, хотя, конечно, оно не совершилось бы так быстро. Жестокая боль в голове и ушах по временам возвращалась; иногда текла из носа кровь; но, в общем, страдания мои были гораздо незначительнее, чем я ожидал. Только дышать становилось все труднее, и каждый вздох сопровождался мучительными спазмами в груди. Я распаковал аппарат для конденсации воздуха и принялся налаживать его.
С этой высоты на землю открывался великолепный вид. К западу, к северу и к югу, насколько мог охватить глаз, расстилалась бесконечная гладь океана, приобретавшая с каждой минутой все более яркий голубой оттенок. Вдали, на востоке, вырисовывалась Великобритания, все атлантическое побережье Франции и Испании и часть северной окраины Африканского материка. Подробностей, разумеется, не было видно, и самые пышные города точно исчезли с лица земли.
Больше всего удивила меня кажущаяся вогнутость земной поверхности. Я, напротив, ожидал, что по мере подъема она будет представать мне все более выпуклой; но, подумав немного, сообразил, что этого не могло быть. Перпендикуляр, опущенный из пункта моего наблюдения к земной поверхности, представлял бы собой один из катетов прямоугольного треугольника, основание которого простиралось до горизонта, а гипотенуза — от горизонта к моему шару. Но высота, на которой я находился, была ничтожна сравнительно с пространством, которое я мог обозреть. Иными словами, основание и гипотенуза упомянутого треугольника были бы так велики сравнительно с высотою, что могли бы считаться почти параллельными линиями. Поэтому горизонт для аэронавта остается всегда на одном уровне с корзиной. Но точка, находящаяся под ним внизу, кажется отстоящей и действительно отстоит на огромное расстояние — следовательно, ниже горизонта. Отсюда — впечатление вогнутости, которое и останется до тех пор, пока высота не достигнет такого отношения к диаметру видимого пространства, при котором кажущаяся параллельность основания и гипотенузы исчезнет.
Так как голуби все время жестоко страдали, я решил выпустить их. Сначала я отвязал одного — серого крапчатого красавца — и посадил на обруч сетки. Он очень забеспокоился, жалобно поглядывал кругом, хлопал крыльями, ворковал, но не решался вылететь из корзины. Тогда я взял его и отбросил ярдов на пять-шесть от шара. Однако он не полетел вниз, как я ожидал, а изо всех сил устремился обратно к шару, издавая резкие, пронзительные крики. Наконец ему удалось вернуться на старое место, но, едва усевшись на обруч, он уронил головку на грудь и упал мертвым в корзину. Другой был счастливее. Чтобы предупредить его возвращение, я изо всех сил швырнул его вниз и с радостью увидел, что он продолжает спускаться, быстро, легко и свободно взмахивая крыльями. Вскоре он исчез из вида и, не сомневаюсь, благополучно добрался до земли. Кошка, по-видимому, оправившаяся от своего припадка, с аппетитом съела мертвого голубя и улеглась спать. Котята были живы и не обнаруживали пока ни малейших признаков заболевания.
В четверть девятого, испытывая почти невыносимые страдания при каждом затрудненном вздохе, я стал прилаживать к корзине аппарат, составлявший часть конденсатора. Он требует, однако, более подробного описания. Ваши превосходительства благоволят заметить, что целью моею было защитить себя и корзину как бы барьером от разреженного воздуха, который теперь окружал меня, с тем чтобы ввести внутрь корзины нужный для дыхания конденсированный воздух. С этой целью я заготовил плотную, совершенно непроницаемую, но достаточно эластичную каучуковую камеру в виде мешка. В этот мешок поместилась вся моя корзина, то есть он охватывал ее дно и края до верхнего обруча, к которому была прикреплена сетка. Оставалось только стянуть края наверху, над обручем, то есть просунуть эти края между обручем и сеткой. Но если отделить сетку от обруча, чтобы пропустить края мешка, — на чем будет держаться корзина? Я разрешил это затруднение следующим образом: сетка не была наглухо соединена с обручем, а прикреплена посредством петель. Я снял несколько петель, предоставив корзине держаться на остальных, просунул край мешка над обручем и снова пристегнул петли, — не к обручу, разумеется, оттого что он находился под мешком, а к пуговицам на мешке, соответствовавшим петлям и пришитым фута на три ниже края; затем отстегнул еще несколько петель, просунул еще часть мешка и снова пристегнул петли к пуговицам. Таким образом, мне мало-помалу удалось пропустить весь верхний край мешка между обручем и сеткой. Понятно, что обруч опустился в корзину, которая со всем содержимым держалась теперь только на пуговицах. На первый взгляд это грозило опасностью — но лишь на первый взгляд: пуговицы были не только очень прочны сами по себе, но и посажены так тесно, что на каждую приходилась лишь незначительная часть всей тяжести. Если бы корзина с ее содержимым была даже втрое тяжелее, меня это ничуть бы не беспокоило. Я снова приподнял обруч и прикрепил его почти на прежней высоте с помощью трех заранее приготовленных перекладин. Это я сделал для того, чтобы мешок оставался наверху растянутым и нижняя часть сетки не изменила своего положения. Теперь оставалось только закрыть мешок, что я и сделал без труда, собрав складками его верхний край и стянув их туго-натуго при помощи устойчивого вертлюга.
В боковых стенках мешка были сделаны три круглые окошка с толстыми, но прозрачными стеклами, сквозь которые я мог смотреть во все стороны по горизонтали. Такое же окошко находилось внизу и соответствовало небольшому отверстию в дне корзины: сквозь него я мог смотреть вниз. Но вверху нельзя было устроить такое окно, ибо верхний, стянутый, край мешка был собран складками. Впрочем, в этом окне и надобности не было, так как шар все заслонил бы собою.
Под одним из боковых окошек, примерно на расстоянии фута, имелось отверстие дюйма в три диаметром; а в отверстие было вставлено медное кольцо с винтовыми нарезками на внутренней поверхности. В это кольцо ввинчивалась трубка конденсатора, помещавшегося, само собою разумеется, внутри каучуковой камеры. Через эту трубку разреженный воздух втягивался с помощью вакуума, образовавшегося в аппарате, сгущался и проходил в камеру. Повторив эту операцию несколько раз, можно было наполнить камеру воздухом, вполне пригодным для дыхания. Но в столь тесном помещении воздух, разумеется, должен был быстро портиться вследствие частого соприкасания с легкими и становиться не пригодным для дыхания. Тогда его можно было выбрасывать посредством небольшого клапана на дне мешка; будучи более тяжелым, этот воздух быстро опускался вниз, рассеиваясь в более легкой наружной атмосфере. Из опасения создать полный вакуум в камере при выпускании воздуха, очистка последнего никогда не производилась сразу, а лишь постепенно. Клапан открывался секунды на две — на три, потом замыкался, и так — несколько раз, пока конденсатор не заменял вытесненный воздух запасом нового. Ради опыта я положил кошку и котят в корзиночку, которую подвесил снаружи к пуговице, находящейся подле клапана; открывая клапан, я мог кормить кошек по мере надобности. Я сделал это раньше, чем затянул камеру, с помощью одного из упомянутых выше шестов, поддерживавших обруч. Как только камера наполнилась сконденсированным воздухом, шесты и обруч оказались излишними, ибо, расширяясь, внутренняя атмосфера и без них растягивала каучуковый мешок.
Когда я приладил все эти приборы и наполнил камеру, было всего без десяти минут девять. Все это время я жестоко страдал от недостатка воздуха и горько упрекал себя за небрежность, или скорее за безрассудную смелость, побудившую меня отложить до последней минуты столь важное дело. Но, когда наконец все было готово, я тотчас почувствовал благотворные последствия своего изобретения. Я снова дышал легко и свободно, — да и почему бы мне не дышать? К моему удовольствию и удивлению, жестокие страдания, терзавшие меня до сих пор, почти совершенно исчезли. Осталось только ощущение какой-то раздутости или растяжения в запястьях, лодыжках и гортани. Очевидно, мучительные ощущения, вызванные недостаточным атмосферным давлением, давно прекратились, а болезненное состояние, которое я испытывал в течение последних двух часов, происходило только вследствие затрудненного дыхания.
В сорок минут девятого, то есть незадолго до того, как я затянул отверстие мешка, ртуть опустилась до нижнего уровня в высотомере. Я находился на высоте 123 тысячи футов, то есть двадцати пяти миль, и, следовательно, мог обозревать не менее одной триста двадцатой всей земной поверхности. В девять часов я снова потерял из виду землю на востоке, заметив при этом, что шар быстро несется в направлении N. W. W. Расстилавшийся подо мною океан все еще казался вогнутым; впрочем, облака часто скрывали его от меня.
В половине десятого я снова выбросил из корзины горсть перьев. Они не полетели, как я ожидал, но упали, как пуля, — всей кучей, с невероятною быстротою, — и в несколько секунд исчезли из виду. Сначала я не мог объяснить себе это странное явление; мне казалось невероятным, чтобы быстрота подъема так страшно возросла. Но вскоре я сообразил, что разреженная атмосфера уже не могла поддерживать перья, — они действительно упали с огромной быстротой; и поразившее меня явление обусловлено было сочетанием скорости падения перьев со скоростью подъема моего шара.
Часам к десяти мне уже нечего было особенно наблюдать. Все шло исправно; быстрота подъема, как мне казалось, постоянно возрастала, хотя я не мог определить степень этого возрастания. Я не испытывал никаких болезненных ощущений, а настроение духа было бодрее, чем когда-либо после моего вылета из Роттердама! Я коротал время, осматривая инструменты и обновляя воздух в камере. Я решил повторять это через каждые сорок минут скорее для того, чтобы предохранить свой организм от возможных нарушений его деятельности, чем по действительной необходимости. В то же время я невольно уносился мыслями вперед. Воображение мое блуждало в диких, сказочных областях луны, необузданная фантазия рисовала мне обманчивые чудеса этого призрачного и неустойчивого мира. То мне мерещились дремучие вековые леса, крутые утесы, шумные водопады, низвергавшиеся в бездонные пропасти. То я переносился в пустынные просторы, залитые лучами полуденного солнца, куда ветерок не залетал от века, где воздух точно окаменел и всюду, куда хватает глаз, расстилаются луговины, поросшие маком и стройными лилиями, безмолвными, словно оцепеневшими. То вдруг являлось передо мною озеро, темное, неясное, сливавшееся вдали с грядами облаков. Но не только эти картины рисовались моему воображению. Мне рисовались ужасы, один другого грознее и причудливее, и даже мысль об их возможности потрясала меня до глубины души. Впрочем, я старался не думать о них, справедливо полагая, что действительные и осязаемые опасности моего предприятия должны поглотить все мое внимание.
В пять часов пополудни, обновляя воздух в камере, я заглянул в корзину с кошками. Мать, по-видимому, жестоко страдала, несомненно, вследствие затрудненного дыхания; но котята изумили меня. Я ожидал, что они тоже будут страдать, хотя и в меньшей степени, чем кошка, что подтвердило бы мою теорию насчет нашей привычки к известному атмосферному давлению. Оказалось, однако, — чего я вовсе не ожидал, — что они совершенно здоровы, дышат легко и свободно и не обнаруживают ни малейших признаков какого-либо органического расстройства. Я могу объяснить это явление, только расширив мою теорию и предположив, что крайне разреженная атмосфера не представляет (как я вначале думал) со стороны ее химического состава никакого препятствия для жизни и существо, родившееся в такой среде, будет дышать в ней без всякого труда, а попавши в более плотные слои по соседству с землей, испытает те же мучения, которым я подвергался так недавно. Очень сожалею, что вследствие несчастной случайности я потерял эту кошачью семейку и не мог продолжать свои опыты. Просунув чашку с водой для старой кошки в отверстие мешка, я зацепил рукавом за шнурок, на котором висела корзинка, и сдернул его с пуговицы. Если бы корзинка с кошками каким-нибудь чудом испарилась в воздухе — она не могла бы исчезнуть с моих глаз быстрее, чем сейчас. Не прошло положительно и десятой доли секунды, как она уже скрылась со всеми своими пассажирами. Я пожелал им счастливого пути, но, разумеется, не питал никакой надежды, что кошка или котята останутся в живых, дабы рассказать о своих бедствиях.
В шесть часов значительная часть земли на востоке покрылась густою тенью, которая быстро надвигалась, так что в семь без пяти минут вся видимая поверхность земли погрузилась в ночную тьму. Но долго еще после этого лучи заходящего солнца освещали мой шар; и это обстоятельство, которое, конечно, можно было предвидеть заранее, доставляло мне большую радость. Значит, я и утром увижу восходящее светило гораздо раньше, чем добрые граждане Роттердама, несмотря на более восточное положение этого города, и, таким образом, буду пользоваться все более и более продолжительным днем соответственно с высотой, которой буду достигать. Я решил вести дневник моего путешествия, отмечая дни через каждые двадцать четыре часа и не принимая в расчет ночей.
В десять часов меня стало клонить ко сну, и я решил было улечься, но меня остановило одно обстоятельство, о котором я совершенно забыл, хотя должен был предвидеть его заранее. Если я засну, кто же будет накачивать воздух в камеру? Дышать в ней можно было самое большее час; если продлить этот срок даже на четверть часа, последствия могли быть самые гибельные. Затруднение это очень смутило меня, и хотя мне едва ли поверят, но, несмотря на преодоление стольких опасностей, я готов был отчаяться перед новым, потерял всякую надежду на исполнение моего плана и уже подумывал о спуске. Впрочем, то было лишь минутное колебание. Я рассудил, что человек — верный раб привычек, и многие мелочи повседневной жизни только кажутся ему существенно важными, а на самом деле они сделались такими единственно в результате привычки. Конечно, я не мог обойтись без сна, но что мешало мне приучить себя просыпаться через каждый час в течение всей ночи? Для полного обновления воздуха достаточно было пяти минут. Меня затруднял только способ, каким я буду будить себя в надлежащее время. Правду сказать, я долго ломал себе голову над разрешением этого вопроса. Я слышал, что студенты прибегают к такому приему: взяв в руку медную пулю, держат ее над медным тазиком; и, если студенту случится задремать над книгой, пуля падает, и ее звон о тазик будит его. Но для меня подобный способ вовсе не годился, так как я не намерен был бодрствовать все время, а хотел лишь просыпаться через определенные промежутки времени. Наконец я придумал приспособление, которое при всей своей простоте показалось мне в первую минуту открытием не менее блестящим, чем изобретение телескопа, паровой машины или даже книгопечатания.
Необходимо заметить, что на той высоте, которой я достиг в настоящее время, шар продолжал подниматься без толчков и отклонений, совершенно равномерно, так что корзина не испытывала ни малейшей тряски. Это обстоятельство явилось как нельзя более кстати для моего изобретения. Мой запас воды помещался в бочонках, по пяти галлонов каждый, они были выстроены вдоль стенки корзины. Я отвязал один бочонок и, достав две веревки, натянул их поперек корзины вверху, на расстоянии фута одну от другой, так что они образовали нечто вроде полки. На эту полку я взгромоздил бочонок, положив его горизонтально. Под бочонком, на расстоянии восьми дюймов от веревок и четырех футов от дна корзины, прикрепил другую полку, употребив для этого тонкую дощечку, единственную, имевшуюся у меня в запасе. На дощечку поставил небольшой глиняный кувшинчик. Затем провертел дырку в стенке бочонка над кувшином и заткнул ее втулкой из мягкого дерева. Вдвигая и выдвигая втулку, я наконец установил ее так, чтобы вода, просачиваясь сквозь отверстие, наполняла кувшинчик до краев за шестьдесят минут. Рассчитать это было нетрудно, проследив, какая часть кувшина наполняется в известный промежуток времени. Остальное понятно само собою. Я устроил себе постель на дне корзины так, чтобы голова приходилась под носиком кувшина. Ясно, что по истечении часа вода, наполнив кувшин, должна была выливаться из носика, находившегося несколько ниже его краев. Ясно также, что, орошая лицо мое с высоты четырех футов, вода должна была разбудить меня, хотя бы я заснул мертвым сном.
Было уже одиннадцать часов, когда я покончил с устройством этого будильника. Затем я немедленно улегся спать, вполне положившись на мое изобретение. И мне не пришлось разочароваться в нем. Точно через каждые шестьдесят минут я вставал, разбуженный моим верным хронометром, выливал из кувшина воду обратно в бочонок и, обновив воздух с помощью конденсатора, снова укладывался спать. Эти регулярные перерывы в сне беспокоили меня даже меньше, чем я ожидал. Когда я встал утром, было уже семь часов, и солнце поднялось на несколько градусов над линией горизонта.
3 апреля.Я убедился, что мой шар находится на огромной высоте, так как выпуклость земли была теперь ясно видна. Подо мной, в океане, можно было различить скопление каких-то темных пятен — без сомнения, острова. Небо над головой казалось агатово-черным, звезды блистали; они стали видны с первого же дня моего полета. Далеко по направлению к северу я заметил тонкую белую, ярко блестевшую линию, или полоску, на краю неба, в которой не колеблясь признал южную окраину полярных льдов. Мое любопытство было сильно возбуждено, так как я рассчитывал, что буду лететь гораздо дальше к северу и, может быть, окажусь над самым полюсом, Я пожалел, что огромная высота, на которой я находился, не позволит мне осмотреть его как следует. Но все-таки я мог заметить многое.
В течение дня не случилось ничего особенного. Все мои приборы действовали исправно, и шар поднимался без всяких толчков. Сильный холод заставил меня плотнее закутаться в пальто. Когда земля оделась ночным мраком, я улегся спать, хотя еще много часов спустя вокруг моего шара стоял белый день. Водяные часы добросовестно исполняли свою обязанность, и я спокойно проспал до утра, пробуждаясь лишь для того, чтобы обновить воздух.
4 апреля.Встал здоровым и бодрым и был поражен тем, как странно изменился вид океана. Он утратил свою темно-голубую окраску и казался серовато-белым, притом он ослепительно блестел. Выпуклость океана была видна так четко, что громада воды, находившейся подо мною, точно низвергалась в пучину по краям неба, и я невольно прислушивался, стараясь расслышать грохот этих мощных водопадов. Островов не было видно, потому ли, что они исчезли за горизонтом в юго-восточном направлении, или все растущая высота уже лишала меня возможности видеть их. Последнее предположение казалось мне, однако, более вероятным. Полоса льдов на севере выступала все яснее. Холод не усиливался. Ничего особенного не случилось, и я провел день за чтением книг, которые захватил с собою.
5 апреля.Отмечаю любопытный феномен: солнце взошло, однако вся видимая поверхность земли все еще была погружена в темноту. Но мало-помалу она осветилась, и снова показалась на севере полоса льдов. Теперь она выступала очень ясно и казалась гораздо темнее, чем воды океана. Я, очевидно, приближался к ней, и очень быстро. Мне казалось, что я различаю землю на востоке и на западе, но я не был в этом уверен. Температура умеренная. В течение дня не случилось ничего особенного. Рано лег спать.
6 апреля.Был удивлен, увидев полосу льда на очень близком расстоянии, а также бесконечное ледяное поле, простиравшееся к северу. Если шар сохранит то же направление, то я скоро окажусь над Ледовитым океаном и несомненно увижу полюс. В течение дня я неуклонно приближался ко льдам. К ночи пределы моего горизонта неожиданно и значительно расширились, без сомнения потому, что земля имеет форму сплюснутого сфероида, и я находился теперь над плоскими областями вблизи Полярного круга. Когда наступила ночь, я лег спать, охваченный тревогой, ибо опасался, что предмет моего любопытства, скрытый ночной темнотой, ускользнет от моих наблюдений.
7 апреля.Встал рано и, к своей великой радости, действительно увидел Северный полюс. Не было никакого сомнения, что это именно полюс и он находится прямо подо мною. Но, увы! Я поднялся на такую высоту, что ничего не мог рассмотреть в подробностях. В самом деле, если составить прогрессию моего восхождения на основании чисел, указывавших высоту шара в различные моменты между шестью утра 2 апреля и девятью без двадцати минут утра того же дня (когда высотомер перестал действовать), то теперь, в четыре утра 7 апреля, шар должен был находиться на высоте не менее 7254 миль над поверхностью океана. (С первого взгляда эта цифра может показаться грандиозной, но, по всей вероятности, она была гораздо ниже действительной.) Во всяком случае, я видел всю площадь, соответствовавшую большому диаметру земли; все северное полушарие лежало подо мною наподобие карты в ортографической проекции, и линия экватора образовывала линию моего горизонта. Итак, ваши превосходительства без труда поймут, что лежавшие подо мною неизведанные области в пределах Полярного круга находились на столь громадном расстоянии и в столь уменьшенном виде, что рассмотреть их подробно было невозможно. Все же мне удалось увидеть кое-что замечательное. К северу от упомянутой линии, которую можно считать крайней границей человеческих открытий в этих областях, расстилалось сплошное, или почти сплошное, поле. Поверхность его, будучи вначале плоской, мало-помалу понижалась, принимая заметно вогнутую форму, и завершалась у самого полюса круглой, резко очерченной впадиной. Последняя казалась гораздо темнее остального полушария и была местами совершенно черного цвета. Диаметр впадины соответствовал углу зрения в шестьдесят пять секунд. Больше ничего нельзя было рассмотреть. К двенадцати часам впадина значительно уменьшилась, а в семь пополудни я потерял ее из вида: шар миновал западную окраину льдов и несся по направлению к экватору.
8 апреля.Видимый диаметр земли заметно уменьшился, окраска совершенно изменилась. Вся доступная наблюдению площадь казалась бледно-желтого цвета различных оттенков, местами блестела так, что больно было смотреть. Кроме того, мне сильно мешала насыщенная испарениями плотная земная атмосфера; я лишь изредка видел самую землю в просветах между облаками. В течение последних сорока восьми часов эта помеха давала себя чувствовать в более или менее сильной степени, а при той высоте, которой теперь достиг шар, груды облаков сблизились в поле зрения еще теснее, и наблюдать землю становилось все затруднительнее. Тем не менее я убедился, что шар летит над областью Великих озер в Северной Америке, стремясь к югу, и я скоро достигну тропиков. Это обстоятельство весьма обрадовало меня, так как сулило успех моему предприятию. В самом деле, направление, в котором я несся до сих пор, крайне тревожило меня, так как, продолжая двигаться в том же направлении, я бы вовсе не попал на луну, орбита которой наклонена к эклиптике под небольшим углом в 5°8 48 . Странно, что я так поздно уразумел свою ошибку: мне следовало подняться из какого-нибудь пункта в плоскости лунного эллипса.
9 апреля.Сегодня диаметр земли значительно уменьшился, окраска ее приняла более яркий желтый оттенок. Мой шар держал курс на юг, и в девять утра он достиг северной окраины Мексиканского залива.
10 апреля.Около пяти часов утра меня разбудил оглушительный треск, который я решительно не мог себе объяснить. Он продолжался всего несколько мгновений и не походил ни на один из слышанных мною доселе звуков. Нечего и говорить, что я страшно перепугался; в первую минуту мне почудилось, что шар лопнул. Я осмотрел свои приборы, однако все они оказались в порядке. Большую часть дня я провел в размышлениях об этом странном треске, но не мог никак его объяснить. Лег спать крайне обеспокоенный и взволнованный.
11 апреля.Диаметр земли поразительно уменьшился, и я в первый раз заметил значительное увеличение диаметра луны. Теперь приходилось затрачивать немало труда и времени, чтобы сгустить достаточно воздуха, нужного для дыхания.
12 апреля.Странно изменилось направление шара; и хотя я предвидел это заранее, но все-таки обрадовался несказанно. Достигнув двадцатой параллели южного полушария, шар внезапно повернул под острым углом на восток и весь день летел в этом направлении, оставаясь в плоскости лунного эллипса. Достойно замечания, что следствием этой перемены было довольно заметное колебание корзины, ощущавшееся в течение нескольких часов.
13 апреля.Снова был крайне встревожен громким треском, который так меня напугал десятого. Долго думал об этом явлении, но ничего не мог придумать. Значительное уменьшение диаметра земли: теперь его угловая величина лишь чуть побольше двадцати пяти градусов. Луна находится почти у меня над головой, так что я не могу ее видеть. Шар по-прежнему летит в ее плоскости, переместившись несколько на восток.
14 апреля.Стремительное уменьшение диаметра земли. Шар, по-видимому, поднялся над линией абсид по направлению к перигелию — то есть, иными словами, стремится прямо к луне, в части ее орбиты, наиболее близкой к земному шару. Сама луна находится над моей головой, то есть недоступна наблюдению. Обновление воздуха в камере потребовало усиленного и продолжительного труда.
15 апреля.На земле нельзя рассмотреть даже самых общих очертаний материков и морей. Около полудня я в третий раз услышал загадочный треск, столь поразивший меня раньше. Теперь он продолжался несколько секунд, постепенно усиливаясь. Оцепенев от ужаса, я ожидал какой-нибудь страшной катастрофы, когда корзину вдруг сильно встряхнуло и мимо моего шара с ревом, свистом и грохотом пронеслась огромная огненная масса. Оправившись от ужаса и изумления, я сообразил, что это должен быть вулканический обломок, выброшенный с небесного тела, к которому я так быстро приближался, и, по всей вероятности, принадлежащий к разряду тех странных камней, которые попадают иногда на нашу землю и называются метеорами.
16 апреля.Сегодня, заглянув в боковые окна камеры, я, к своему великому удовольствию, увидел, что край лунного диска выступает над шаром со всех сторон. Я был очень взволнован, чувствуя, что скоро наступит конец моему опасному путешествию. Действительно, конденсация воздуха требовала таких усилий, что она отнимала у меня все время. Спать почти не приходилось. Я чувствовал мучительную усталость и совсем обессилел. Человеческая природа не способна долго выдерживать такие страдания. Во время короткой ночи мимо меня опять пронесся метеор. Они появлялись все чаще, и это не на шутку стало пугать меня.
17 апреля.Сегодня — достопамятный день моего путешествия. Если припомните, 13 апреля угловая величина земли достигала всего двадцати пяти градусов. 14-го она очень уменьшилась, 15-го еще значительнее, а шестнадцатого, ложась спать, я отметил угол в 7°15. Каково же было мое удивление, когда, пробудившись после непродолжительного и тревожного сна утром семнадцатого апреля, я увидел, что поверхность, находившаяся подо мною, вопреки всяким ожиданиям увеличилась и достигла не менее тридцати девяти градусов в угловом диаметре! Меня точно обухом по голове ударили. Безграничный ужас и изумление, которых не передашь никакими словами, поразили, ошеломили, раздавили меня. Колени мои дрожали, зубы выбивали дробь, волосы поднялись дыбом. «Значит, шар лопнул! — мелькнуло в моем уме. — Шар лопнул! Я падаю! Падаю с невероятной, неслыханной быстротой! Судя по тому громадному расстоянию, которое я уже пролетел, не пройдет и десяти минут, как я ударюсь о землю и разобьюсь вдребезги». Наконец ко мне вернулась способность мыслить; я опомнился, подумал, стал сомневаться. Нет,
этоневероятно. Я не мог так быстро спуститься. К тому же, хотя я, очевидно, приближался к расстилавшейся подо мною поверхности, но вовсе не так быстро, как мне показалось в первую минуту. Эти размышления несколько успокоили меня, и я наконец понял, в чем дело. Если бы испуг и удивление не отбили у меня всякую способность соображать, я бы с первого взгляда заметил, что поверхность, находившаяся подо мною, ничуть не похожа на поверхность моей матери-земли. Последняя находилась теперь наверху, над моей головой, а внизу, под моими ногами, была луна во всем ее великолепии.
Мои растерянность и изумление при таком необычайном повороте дела непонятны мне самому. Этот bouleversement
не только был совершенно естествен и необходим, но я заранее знал, что он неизбежно свершится, когда шар достигнет того пункта, где земное притяжение уступит место притяжению луны, — или, точнее, тяготение шара к земле будет слабее его тяготения к луне. Правда, я только что проснулся и не успел еще прийти в себя, когда заметил нечто поразительное; и хотя я мог это предвидеть, но в настоящую минуту вовсе не ожидал. Поворот шара, очевидно, произошел спокойно и постепенно, и если бы я даже проснулся вовремя, то вряд ли мог бы заметить его по какому-нибудь изменению внутри камеры.
Нужно ли говорить, что, опомнившись после первого изумления и ужаса и ясно сообразив, в чем дело, я с жадностью принялся рассматривать поверхность луны. Она расстилалась подо мною, точно карта, и, хотя находилась еще очень далеко, все ее очертания выступали вполне ясно. Полное отсутствие океанов, морей, даже озер и рек — словом, каких бы то ни было водных бассейнов сразу бросилось мне в глаза, как самая поразительная черта лунной орографии. При всем том, как это ни странно, я мог различить обширные равнины, очевидно, наносного характера, хотя большая часть поверхности была усеяна бесчисленными вулканами конической формы, которые казались скорее насыпными, чем естественными возвышениями. Самый большой не превосходил трех — трех с четвертью миль. Впрочем, карта вулканической области Флегрейских полей даст вашим превосходительствам лучшее представление об этом ландшафте, чем какое-либо описание. Большая часть вулканов действовала, и я мог судить о бешеной силе извержений по обилию принятых мной за метеоры камней, все чаще пролетавших с громом мимо шара.
18 апреля.Объем луны очень увеличился, и быстрота моего спуска стала сильно тревожить меня. Я уже говорил, что мысль о существовании лунной атмосферы, плотность которой соответствует массе луны, играла немаловажную роль в моих соображениях о путешествии на луну, — несмотря на существование противоположных теорий и широко распространенное убеждение, что на нашем спутнике нет никакой атмосферы. Но, независимо от вышеупомянутых соображений относительно кометы Энке и зодиакального света, мое мнение в значительной мере опиралось на некоторые наблюдения г-на Шредера из Лилиенталя.
Он наблюдал луну на третий день после новолуния, вскоре после заката солнца, когда темная часть диска была еще незрима, и продолжал следить за ней до тех пор, пока она не стала видима. Оба рога казались удлиненными, и их тонкие бледные кончики были слабо освещены лучами заходящего солнца. Вскоре по наступлении ночи темный диск осветился. Я объясняю это удлинение рогов преломлением солнечных лучей в лунной атмосфере. Высоту этой атмосферы (которая может преломлять достаточное количество лучей, чтобы вызвать в темной части диска свечение вдвое более сильное, чем свет, отражаемый от земли, когда луна отстоит на 32 градуса от точки новолуния) я принимал в 1356 парижских футов; следовательно, максимальную высоту преломления солнечного луча — в 5376 футов. Подтверждение моих взглядов я нашел в восемьдесят втором томе «Философских трудов», где говорится об оккультации спутников Юпитера, причем третий спутник стал неясным за одну или две секунды до исчезновения, а четвертый исчез на некотором расстоянии от диска.
От степени сопротивления или, вернее сказать, от поддержки, которую эта предполагаемая атмосфера могла оказать моему шару, зависел всецело и благополучный исход путешествия. Если же я ошибся, то мог ожидать только конца своим приключениям: мне предстояло разлететься на атомы, ударившись о скалистую поверхность луны. Судя по всему, я имел полное основание опасаться подобного конца. Расстояние до луны было сравнительно ничтожно, а обновление воздуха в камере требовало такой же работы, и я не замечал никаких признаков увеличения плотности атмосферы.
19 апреля.Сегодня утром, около девяти часов, когда поверхность луны угрожающе приблизилась и мои опасения дошли до крайних пределов, насос конденсатора, к великой моей радости, показал наконец очевидные признаки изменения плотности атмосферы.
К десяти часам плотность эта значительно возросла. К одиннадцати аппарат требовал лишь ничтожных усилий, а в двенадцать я решился — после некоторого колебания — отвинтить вертлюг; и, убедившись, что ничего вредного для меня не воспоследовало, я развязал гуттаперчевый мешок и отогнул его края. Как и следовало ожидать, непосредственным результатом этого слишком поспешного и рискованного опыта была жесточайшая головная боль и удушье. Но, так как они не угрожали моей жизни, я решился претерпеть их в надежде на облегчение при спуске в более плотные слои атмосферы. Спуск, однако, происходил с невероятной быстротою, и хотя мои расчеты на существование лунной атмосферы, плотность которой соответствовала бы массе спутника, по-видимому, оправдывались, но я, очевидно, ошибся, полагая, что она способна поддержать корзину со всем грузом. А между тем этого надо было ожидать, так как сила тяготения и, следовательно, вес предметов также соответствуют массе небесного тела. Но головокружительная быстрота моего спуска ясно доказывала, что этого на самом деле не было. Почему?… Единственное объяснение я вижу в тех геологических возмущениях, на которые указывал выше. Во всяком случае, я находился теперь совсем близко от луны и стремился к ней со страшною быстротой. Итак, не теряя ни минуты, я выбросил за борт балласт, бочонки с водой, конденсирующий прибор, каучуковую камеру и, наконец, все, что только было в корзине. Ничто не помогало. Я по-прежнему падал с ужасающей быстротой и находился самое большее в полумиле от поверхности. Оставалось последнее средство: выбросив сюртук и сапоги, я отрезал даже корзину, повис на веревках и, успев только заметить, что вся площадь подо мной, насколько видит глаз, усеяна крошечными домиками, очутился в центре странного, фантастического города, среди толпы уродцев, которые, не говоря ни слова, не издавая ни звука, словно какое-то сборище идиотов, потешно скалили зубы и, подбоченившись, разглядывали меня и мой шар. Я с презрением отвернулся от них, посмотрел, подняв глаза, на землю, так недавно — и, может быть, навсегда, — покинутую мною, и увидел ее в виде большого медного щита, около двух градусов в диаметре, тускло блестевшего высоко над моей головой, причем один край его, в форме серпа, горел ослепительным золотым блеском. Никаких признаков воды или суши не было видно, — я заметил только тусклые, изменчивые пятна да тропический и экваториальный пояс.
Так, с позволения ваших превосходительств, после жестоких страданий, неслыханных опасностей, невероятных приключений, на девятнадцатый день моего отбытия из Роттердама я благополучно завершил свое путешествие, — без сомнения, самое необычайное и самое замечательное из всех путешествий, когда-либо совершенных, предпринятых или задуманных жителями земли.
Но рассказ о моих приключениях еще далеко не кончен. Ваши превосходительства сами понимают, что, проведя около пяти лет на спутнике земли, представляющем глубокий интерес не только в силу своих особенностей, но и вследствие своей тесной связи с миром, обитаемом людьми, я мог бы сообщить Астрономическому обществу немало сведений, гораздо более интересных, чем описание моего путешествия, как бы оно ни было удивительно само по себе. И я действительно могу открыть многое и сделал бы это с величайшим удовольствием.
Я мог бы рассказать вам о климате луны и о странных колебаниях температуры невыносимом тропическом зное, который сменяется почти полярным холодом, — о постоянном перемещении влаги вследствие испарения, точно в вакууме, из пунктов, находящихся ближе к солнцу, в пункты, наиболее удаленные от него; об изменчивом поясе текучих вод; о здешнем населении — его обычаях, нравах, политических учреждениях; об особой физической организации здешних обитателей, об их уродливости, отсутствии ушей — придатков, совершенно излишних в этой своеобразной атмосфере; об их способе общения, заменяющем здесь дар слова, которого лишены лунные жители; о таинственной связи между каждым обитателем луны и определенным обитателем земли (подобная же связь существует между орбитами планеты и спутника), благодаря чему жизнь и участь населения одного мира теснейшим образом переплетаются с жизнью и участью населения другого; а главное — главное, ваши превосходительства, — об ужасных и отвратительных тайнах, существующих на той стороне луны, которая, вследствие удивительного совпадения периодов вращения спутника вокруг собственной оси и обращения его вокруг земли, недоступна и, к счастью, никогда не станет доступной для земных телескопов. Все это — и многое, многое еще — я охотно изложил бы в подобном сообщении. Но скажу прямо, я требую за это вознаграждения. Я жажду вернуться к родному очагу, к семье. И в награду за дальнейшие сообщения — принимая во внимание, какой свет я могу пролить на многие отрасли физического и метафизического знания, — я желал бы выхлопотать себе через посредство вашего почтенного общества прощение за убийство трех кредиторов при моем отбытии из Роттердама. Такова цель настоящего письма. Податель его — один из жителей луны, которому я растолковал все, что нужно, — к услугам ваших превосходительств; он сообщит мне о прощении, буде его можно получить.
Примите и проч. Ваших превосходительств покорнейший слуга,
Ганс Пфааль».
Окончив чтение этого необычайного послания, профессор Рубадуб, говорят, даже трубку выронил, так он был изумлен, а мингер Супербус ван Ундердук снял очки, протер их, положил в карман и от удивления настолько забыл о собственном достоинстве, что, стоя на одной ноге, завертелся волчком. Разумеется, прощение будет выхлопотано, — об этом и толковать нечего. Так, по крайней мере, поклялся в самых энергических выражениях профессор Рубадуб. То же подумал и блистательный ван Ундердук, когда, опомнившись наконец, взял под руку своего ученого собрата и направился домой, чтобы обсудить на досуге, как лучше взяться за дело. Однако, дойдя до двери бургомистрова дома, профессор решился заметить, что в прощении едва ли окажется нужда, так как посланец с луны исчез, без сомнения испугавшись суровой и дикой наружности роттердамских граждан, — а кто, кроме обитателя луны, отважится на такое путешествие? Бургомистр признал справедливость этого замечания, чем дело и кончилось. Но не кончились толки и сплетни. Письмо было напечатано и вызвало немало обсуждений и споров. Нашлись умники, не побоявшиеся выставить самих себя в смешном виде, утверждая, будто все это происшествие сплошная выдумка. Но эти господа называют выдумкой все, что превосходит их понимание. Я, со своей стороны, решительно не вижу, на чем они основывают такое обвинение. Вот их доказательства. Во-первых: в городе Роттердаме есть такие-то шутники (имярек), которые имеют зуб против таких-то бургомистров и астрономов (имярек). Во-вторых: некий уродливый карлик-фокусник с начисто отрезанными за какую-то проделку ушами недавно исчез из соседнего города Брюгге и не возвращался в течение нескольких дней. В-третьих: газеты, которые всюду были налеплены на шар, — это голландские газеты, и, стало быть, выходили не на луне. Они были очень, очень грязные, и типограф Глюк готов поклясться, что не кто иной, как он сам, печатал их в Роттердаме. В-четвертых: пьяницу Ганса Пфааля с тремя бездельниками, будто бы его кредиторами, видели два-три дня тому назад в кабаке, в предместье Роттердама: они были при деньгах и только что вернулись из поездки за море. И наконец: согласно общепринятому (по крайней мере, ему бы следовало быть общепринятым) мнению, Астрономическое общество в городе Роттердаме, подобно всем другим обществам во всех других частях света, оставляя в стороне общества и астрономов вообще, ничуть не лучше, не выше, не умнее, чем ему следует быть.
УИЛЬЯМ РОУДС
Мастером и даже классиком научно-фантастического розыгрыша считается Уильям Роудс (1822–1876 гг.). Представьте, в газете появляется сообщение с места события — или с борта только что изобретенного аппарата для полета на Луну, или от очевидца приземления таинственного космического корабля, или из пещеры, в которой запрятаны сокровища древних цивилизаций. В прошлом веке, когда не было ни радио, ни телевидения, американские фантасты не раз интриговали публику подобными мистификациями.
Больших успехов в создании научно-фантастических мифов для доверчивых обывателей добился и адвокат из Сан-Франциско Уильям Генри Роудс Тринадцатого мая 1871 года самая влиятельная калифорнийская газета «Сакраменто юнион» напечатала его рассказ «Дело Саммерфилда» — о расследовании обстоятельств таинственного убийства некоего 70-летнего изобретателя. Выяснилось, что убитый Саммерфилд открыл химическое средство поджечь воду, превратить земные океаны в клокочущий огненный ад. В стремлении стать таким же всемогущим, как мифический творец вселенной, он был готов уничтожить мир. Человек, с которым он поделился своим секретом, убил его, чтобы спасти человечество. Затем загадочно погиб сам убийца. А секрет остался гулять на свободе, им в любой момент могли завладеть маньяки и злоумышленники. Уже кто-то потребовал миллион долларов отступного, угрожая в случае отказа взорвать Землю…
Среди жителей Северной Калифорнии поднялась паника. Другие газеты перепечатали сообщение «Сакраменто юнион», тоже приняв его за чистую монету. Страсти затихли только через месяц, когда У. Роудс признался в розыгрыше. Историки сравнивают эту калифорнийскую панику 1871 года с крайним возбуждением, которое охватило население восточного побережья США в 1938 году, в часы трансляции научно-фантастической радиоинсценировки Орсона Уэллеса «Война миров».
Тематика научно-фантастических произведений-мистификаций У. Роудса, печатавших с я я газетах под псевдонимом «Какстон» я после смерти автора собранных друзьями в «Какстон-книге», довольно разнообразна. В «Телескопическом глазе» повествуется о юноше, способном благодаря особому устройству своего глаза наблюдать жизнь лунных и марсианских жителей, в «Принцессе ацтеков» — об оккультном общении с древними обитателями Америке и т. д.
В публикуемом рассказе-розыгрыше «Горячее сердце Земли» речь идет об исследовании тайн природы. Рассказ актуален и сегодня.
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ
Публикуемые ниже выдержки из отчета достопочтенного Джона Флэннагана, консула Соединенных Штатов в Брюгге (Бельгия), государственному секретарю США, недавно появившиеся в вашингтонской газете «Телеграф», дают исчерпывающее объяснение тому, что получило название «Великая паника в Бельгии». Мы были вынуждены ограничиться выдержками, поскольку объем отчета слишком велик для страниц нашей газеты. Разумеется, все пропуски отмечены или сносками, или краткими объяснениями.
Отчет генерала Флэннагана 12 декабря 1872 года, Брюгге.
Достопочтенному Гамильтону Фишу,
государственному секретарю.
Сэр, во исполнение недавно полученных из Вашингтона специальных инструкций (с приложением рекомендаций профессора Генри из Смитсоновского института и гарвардского профессора Лаверинга), в прошлую среду я отправился к месту работ Международного исследовательского общества, подробный отчет о посещении которого прошу разрешения предложить Вашему вниманию.
Прежде чем перейти к подробному описанию настоящего положения дел в местечке Дюдзэле, близ канала, соединяющего Брюгге с Северным морем, нахожу нелишним изложить вкратце историю возникновения этих исследований, приведших к столь тревожным событиям. В сферах госдепартамента, несомненно, помнят, что в 1848 году, в период своего кратковременного пребывания у власти, временное правительство Франции во главе с Ламартином и Кавеньяком обратилось к правительствам Соединенных Штатов, Великобритании, России, а также к бельгийскому королю Леопольду с предложением создать Международный совет подземных исследований, призванный способствовать развитию наук и в особенности проверке теории магматического состояния центра Земли, впервые выдвинутой Лейбницем и ныне принятой большинством современных геологов. Международному обществу предстояло также исследовать магнитное состояние земной коры, отклонения магнитной стрелки на значительных глубинах и, наконец, рассеять сомнения некоторых английских минералогов в отношении достаточности запасов угля, что составляло предмет серьезного беспокойства всех промышленных центров Европы.
Текст пятистороннего соглашения был в конце концов подготовлен профессором Генри из Смитсоновского института и одобрен сэром Родэриком Мэрчисоном, бывшим в те времена президентом Королевского общества Великобритании. Араго поддержал проект громким своим именем, а Нессельроде от имени России скрепил соглашение своей подписью, что явилось одним из последних официальных актов престарелого политика.
Проект требовал 100 тысяч франков (около 20 тысяч долларов) ежегодных ассигнований со стороны каждой державы-участницы. Необходимо было подобрать представителей, учредить совет ученых (по одному от каждой стороны), назначить генерального директора и подыскать подходящее место для предстоящих исследований.
Нет надобности подробно останавливаться на деятельности общества в течение первых месяцев его существования. Профессор Уотсон из Чикаго, автор научного исследования, озаглавленного «Геология прерий», был назначен президентом Филмором первым представителем Соединенных Штатов. Россия направила Олго-кова, Франция — Анго Жено, Англия — сэра Эдварда Сэбайна, нынешнего президента Королевского общества, и Бельгия — доктора Сэши, столь хорошо известного своими спектрографическими наблюдениями за неподвижными звездами. Эти господа, встретившиеся в Париже, провели в поисках почти год, прежде чем им удалось подыскать подходящее место. И вот, наконец, 10 апреля 1849 года в Дюдзэле, близ Брюгге, на территории Бельгийского Королевства, приступили к земельным работам. Выбор пал на Дюдзэль по следующим соображениям: во-первых, ввиду центрального по отношению к столицам стран — участниц положения; во-вторых, из-за хороших коммуникаций, поскольку Дюдзэль связан железными дорогами с Брюсселем, Парижем и Санкт-Петербургом и водным путем с Лондоном, так как расположен невдалеке от устья реки Шельды; третье и, пожалуй, самое важное соображение заключалось в том, что под Дюдзэлем находилась самая глубокая в мире шахта, старая соляная дюдзэльская шахта, в которой добывали соль со времен римских завоеваний и вплоть до начала нашего века, когда ее бросили из-за чрезмерной жары на дне шахтного ствола, избавиться от которой можно было лишь с помощью дорогостоящего оборудования.
Существовало и еще одно соображение, которое, по мнению профессора Уотсона, стоило всех прочих, вместе взятых, — необычайная скорость возрастания температуры по мере удаления от поверхности, в чем и заключалась главная особенность этой шахты.
Вот те научные предпосылки, которые лежали
в основеэтого грандиозного предприятия. Согласно гипотезе Канта, солнечная система некогда представляла собой необъятную массу раскаленного пара, который, будучи отнят от колоссального центрального тела, постепенно охладился и отвердел. Позже Лаплас развил эту гипотезу в небулярную космогоническую теорию. Ведущие современные геологи придерживаются мнения, основанного главным образом на вышеизложенной гипотезе Канта, что земной шар некогда пребывал в расплавленном состоянии и, когда его раскаленная масса стала охлаждаться, образовалась внешняя корка, поначалу совсем тонкая, она постепенно росла, пока не достигла теперешней толщины, оценки которой у разных исследователей колеблются от 10 до 200 миль.
В процессе постепенного охлаждения отдельные части земной коры остывали быстрее других, а поскольку давление раскаленной массы изнутри было неодинаковым, эта огненная масса или лава прорывалась в более тонких местах, создавая высокие горы и вызывая разнообразную вулканическую деятельность». В защиту этой гипотезы можно привести бесчисленное количество доказательств, но вот некоторые из наиболее убедительных.
Первое.Земля имеет именно ту форму, которую приняла бы расплавленная жидкая масса, будь она выведена на орбиту с осевым вращением, близким к скорости вращения Земли. Несколько лет назад профессор Фарадей в сотрудничестве с Уитстоуном создал хитроумный прибор, с помощью которого он смог продемонстрировать в лаборатории Королевского общества на примере введенного в вакуум расплавленного вещества все явления, связанные с формированием солнечной системы, существование которых отстаивали и Лаплас и Гумбольдт в своем «Космосе».
Второе.Всевозможные земляные работы неоспоримо показывают, что с глубиной возрастает температура. Горнякам известен этот неизменный закон, и приспособления для снижения температуры в шахтах постоянно изобретают и применяют в горной промышленности. Без подобных приспособлений, большей частью основанных на вентиляции, пришлось бы отказаться от разработки глубинных пластов. Различные ученые, замерявшие изменения температуры в разнообразных, удаленных друг от друга районах земного шара, получили разные цифры. Некоторые из этих расчетов я привожу ниже, так как именно ошибки в расчетах явились причиной трагических событий последних лет.
В апреле 1832 года редактор «Джорнэл оф сайэнс» на основании замеров, сделанных в шести глубочайших шахтах Дэрэма и Нортумберленда, нашел среднюю скорость возрастания температуры равной одному градусу по Фаренгейту на каждые сорок четыре английских фута.
Здесь следует заметить, что головка термометра погружалась в отверстия, специально просверленные в скальной породе, на глубинах от двухсот до девятисот футов. Эта цифра оказалась равной четырем градусам на каждые пять футов для Далькоутской шахты, которую господин Фокс исследовал до глубины в 1380 метров.
Капффер сравнил цифры, полученные на серебряных рудниках Мексики, Перу и Фрейбурга, на соляных разработках в Саксонии, на медных рудниках Кавказа, на оловянных разработках Корнуола и угольных шахтах Северной Англии, и обнаружил, что температура возрастает в среднем, по крайней мере, на один градус по Фаренгейту на каждые тридцать семь английских футов.
Кордье, напротив, находит эту цифру завышенной и считает, что средняя величина равна одному градусу Цельсия на двадцать пять метров, что составляет примерно один градус по Фаренгейту на сорок пять английских футов.
Третье.Химический анализ лавы, взятой во всех частях света, указывает на единый источник и, наконец…
Четвертое.Никакая иная гипотеза не в состоянии объяснить нам те изменения в климате, о которых свидетельствуют ископаемые.
Скорость возрастания температуры на шахте в Дюдзэле составляла не менее одного градуса по Фаренгейту на каждые тридцать английских футов.
Ко времени первого погружения в шахту 10 апреля 1849 года вертикальная протяженность шахтного ствола достигала двадцати трех тысяч семидесяти футов, а поскольку на поверхности температура по Фаренгейту равнялась 48 градусам, на дне она должна была подняться до невыносимой жары в 127 градусов по Фаренгейту. Естественно, ни один человек не мог бы выжить в подобном пекле без вспомогательной вентиляции, и потому усилия ученых были в первую очередь направлены на устранение этой помехи.
Далее в отчете приводится подробное описание тех хитроумных изобретений, которые позволили нагнетать воздух на большие глубины, но мы находим необходимым ограничиться лишь самыми важными данными.
Река Лауве в этих местах имеет сто восемьдесят футов в ширину, и через нее перекинут старый каменный мост с быками, поставленными близко друг к другу, построенный еще императором Адрианом в начале II века. Высота прилива в Северном море, до которого рукой подать, от пятнадцати до восемнадцати футов, и поэтому течение здесь не уступает в стремительности реке Мерси близ Ливерпуля. Было решено вместо установки дорогостоящей паровой машины возле устья шахты использовать силу воды. Сайэрас Филд представил проект необходимой установки, который был немедленно принят. В каждом пролете моста были установлены подвижные турбины, работающие от прилива и отлива.
Между быками соорудили шлюзы, которые и позволили использовать силу воды равномерно, так что установка работала без перебоев. Неподалеку от устья шахты установлены были два больших железных резервуара, вмещавших от ста пятидесяти до двухсот тысяч кубометров сжатого воздуха, нагнетенного под давлением около двухсот атмосфер. Резервуары эти были надлежащим образом соединены с компрессором у моста посредством чугунных труб, так что приток воздуха был беспрерывным, а энергия почти ничего не стоила. Кстати, при прокладке туннеля в Сан-Готардском перевале, на только что завершенной линии железной дороги, связавшей Лион с Турином, была использована точно такая же компрессорная установка.
Первой задачей было расширить ствол шахты до размеров входного отверстия сорок на сто английских футов. На это ушла большая часть 1849 года, и к работам по углублению шахты приступили лишь в начале 1850 года. Зато начиная с 1850 года и вплоть до памятного 5 ноября 1872 года выемка грунта не прекращалась. Я забыл упомянуть в самом начале, что генеральным директором всех работ был назначен бельгийский государственный служащий инженер Жан Дюзолуа, который и занимал этот ответственный пост вплоть до своей трагической гибели утром 6 ноября 1872 года, о которой я подробно расскажу ниже.
Чем глубже продвигались рабочие, тем больше поднималась температура, но скорость ее возрастания, как вскоре было замечено, не соответствовала подсчетам ученых. Так, например, на глубине 15 652 фута (примерная высота Монблана), достигнутой в начале 1864 года, впервые обратили внимание на синхронность законов притяжения и возрастания температуры. Температура была обратно пропорциональна квадрату расстояния от поверхности. Следовательно, темп возрастания температуры на больших глубинах не имел ничего общего с темпом, характерным для областей, близких к поверхности. Уже в июне 1868 года стало ясно, что дальнейшее углубление просто невозможно без нетеплопроводного прикрытия. Профессор Тиндэлл по просьбе Пальмерстона провел огромное количество опытов с нетеплопроводными веществами и в конце концов приготовил очень сложный состав, густой, как свинцовые белила, в который входили квасцы селенита и медный купорос. Три слоя этого состава наносились сначала на обнаженные тела рабочих — ибо во всех глубоких шахтах работают в костюме Адама, — а затем на специальную клеть овальной формы, сделанную из папье-маше, в которой рабочие могли выдержать нестерпимую жару в течение двух часов в день. Бурение производилось инструментом с алмазным наконечником, а взрывные работы — при помощи нитроглицерина, причем управляли взрывами с поверхности. Оставалось, следовательно, направлять бур и поднимать разрушенную породу.
Прежде чем продолжить свой отчет, нахожу нелишним познакомить Вас с некоторыми наиболее важными научными фактами, которые к 1 ноября прошлого года получили достаточное подтверждение. Первое и наиболее важное заключение, о котором уже упоминал, касается темпа возрастания температуры по мере погружения в чрево Земли. Вышеупомянутое тождество закона возрастания температуры с законом всемирного тяготения или гравитации осталось не замеченным как современными учеными, так и их предшественниками. Никто и не подумал, что тепло подчиняется всеобщему физическому закону, как и полагается любому материальному телу. Это произошло оттого, что со времен Де Соссюра все привыкли смотреть на тепло как на источник силы, как на нечто вне материального мира.
Обнаружилось, что не только тепло подчиняется закону обратной пропорциональности квадрату расстояния от земной поверхности, но и сама атмосфера находится во власти этого неумолимого закона. И потому, хотя, как известно, вода на уровне океана кипит при 212° по Фаренгейту, на вершине Тенериффа, на высоте каких-нибудь 15 тысяч футов, она начинает испаряться уже при 185° по Фаренгейту. Нам известно, что это объясняется атмосферным давлением, столб которого выше и тяжелей у поверхности, нежели в любой вышележащей точке. Степень падения давления хорошо известна, она составляет один градус на 590 футов высоты. Но исследователи обнаружили удивительный факт: при погружении атмосферное давление было обратно пропорционально квадрату расстояния от поверхности… Стрелка магнита также выказывала некое странное отклонение: она неизменно смотрела вверх. А кроме того, действие ее стало ослабевать, и за день до прекращения работ чувствительная стрелка потеряла всякую полярность и застыла как мертвая, Как тонко выразился сэр Эдвард Сабин, «стрелки магнитных часов стали». Но чем ближе к поверхности, тем больше возрастала активность стрелки.
На глубине 9 тысяч футов исчезли последние признаки воды. Ниже этого уровня шли базальтовые породы, гранитные же формации полностью исчезли, что и явилось неожиданным подтверждением открытия, сделанного лишь в прошлом году, — о связи, существующей между водой и гранитом.
Следствием закона атмосферного давления явился и тот факт, что испарять воду удавалось не ниже уровня 24 тысяч футов, который был достигнут в 1869 году. Никоим образом нельзя было добиться испарения на этой глубине. Более того, когда воду самым тщательным образом взвесили на наибольшей достигнутой глубине, оказалось, что ее плотность должна быть выражена числом 198,073, то есть ее атомный вес был больше веса золота, взвешенного на поверхности земли.
Далее в отчете обсуждается истинная форма земного шара: сплющенный ли это у полюсов или же усеченный сфероид; широта и долгота Дюдзэля и ряд других вопросов. Заключительную часть отчета мы приводим полностью.
В течение последних двенадцати месяцев работ даже защищенные герметичной оболочкой рабочие но могли выдерживать жару более пятнадцати минут кряду, и стоимость работ возрастала в геометрической прогрессии. Однако и работа была проделана немалая: глубина шахты по вертикали на многие тысячи футов превосходила глубочайшие морские глубины, зафиксированные лейтенантом Бруксом, Ведь колоссальный ствол шахты на 1 ноября 1872 года достиг глубины не менее 37 810 футов и 6 дюймов! Высочайшая вершина Гималаев лишь немногим превышает 28 тысяч футов. Из этого видно, что члены общества, собравшиеся в апреле 1849 года, не теряли времени даром.
Первые тревожные признаки появились вечером 1 ноября. Рабочие жаловались на резко возросшую жару, и большую часть ночи клети опускались каждые пять минут. Из тех, кто отважился продолжать работу, почти половину подняли в полуобморочном состоянии. Ближе к утру послышались глухие, гулкие, непрекращающиеся подземные взрывы, которые к полудню слились в монотонный, угрожающий и неустанный рев. Тем не менее рабочие храбро отправлялись к месту труда, решив продолжать работу, пока хватит человеческого терпения выносить жару. Ждать пришлось недолго. Поздно ночью 4 ноября услышали страшный, потрясший всю округу взрыв, и тут же со дна шахты подул раскаленный сирокко, который выгнал изнемогающих от удушья рабочих на поверхность. Но и на небольшой глубине жара становилась нестерпимой, и собака, которую опустили в клети, загорелась и погибла в огне. В 3 часа ночи заметили, что железные крепления другой клети оплавились, а 1000 футов железных тросов просто-напросто расплавились. Взрывы участились, земля ходила под ногами, а жара вблизи устья шахты становилась невыносимой. За несколько минут до 4 часов услышали подземный взрыв, прогрохотавший громче раскатов грома в Альпах, и вслед за тем в еще темное ночное небо вознесся столб пепла, дыма и газов. К этому времени не менее тысячи полуодетых и объятых ужасом крестьян из соседней деревушки сбежались к месту катастрофы. Они в отчаянии ломали руки, истошно жаловались на свою судьбу и угрожали расправой не только администраторам общества, но и рабочим, которых тоже испугала катастрофа. Но вот наконец перед рассветом, а точнее — ровно в шесть часов двадцать минут, на поверхности показалась жидкая лава!
Ужас охватил всех присутствующих. Зловещий свет горящих зданий и неторопливая струя огня, которая вскипала и медленно текла в сторону канала, представляли величественную и грандиозную, но ужасную картину. Огонь освещал степи на много лье окрест, а затянутые тучами небеса отражали огненные блики пожара. Перед восходом извержение лавы прекратилось почти на целый час, но вскоре после десяти вдруг хлынула с удвоенной силой и, остывая, образовала воронку в форме блюдца, через края которой выплескивались и растекались во все стороны все новые и новые потоки лавы. Именно к этому времени относится гибель искусного инженера Дюзолуа, бывшего до того генеральным директором. Он попытался пересечь поток лавы, ступая по островкам шлака. Внезапно камень, на который он прыгнул, перевернулся, и, прежде чем успели подать ему помощь, тело его обуглилось. Остается с грустью добавить, что ужасная участь этого человека не встретила ни малейшего сочувствия среди окружающих. Эти скоты схватили изуродованный, полусгоревший труп несчастного, привязали к нему огромный камень и, оглашая воздух насмешками и проклятиями, низвергли его в канал.
Мне бы очень хотелось сказать, что на этом закончились непредвиденные бедствий исследовательского общества, но это далеко не так. Напротив, то, что я увидел сегодня у кратера вулкана — ибо устье шахты представляет собой не что иное, как кратер, — грозит неисчислимыми бедствиями. О гибели генерального директора и готовых вспыхнуть волнениях крестьян в окрестностях Брюгге своевременно телеграфировали бельгийскому правительству, и рано утром 6 ноября для поддержания порядка на место прибыл эскадрон, Однако вмешательство правительства ни к чему хорошему не привело. Недовольство, взвинченное испугом, охватило всех поголовно, и толпа вышла из повиновения. Нельзя слишком строго судить этих несчастных: к вечеру поток лавы достиг старой окраины Дюдзэля, и около полуночи Дюдзэль запылал. Зарево громадного пожара подняло степенных бюргеров Брюгге от мирного сна, и, хотя от Дюдзэля до Брюгге несколько миль, ужас охватил город. На митинге, созванном на рассвете в Гилдхолле, бушевали страсти. Выслушав объяснения комиссии, жители разошлись послушные, но угрюмые. С этого момента правительство, сочетая решительность с благоразумием, делало все, чтобы положить конец панике, царившей в окрестностях Брюгге. Над телеграфом, который в этой стране является государственной монополией, был установлен строгий контроль, район бедствия окружен кордоном военных постов, и почти никакие слухи не могли проникнуть за пределы этого района. Одновременно на месте катастрофы созван конгресс наиболее опытных ученых-специалистов, от которых ждут рекомендаций касательно борьбы с возможным распространением бедствия. Первое заседание состоялось в Гилдхолле и Брюгге. Заседание носило частный характер, и приглашены были лишь дипломатические представители иностранных правительств, а также избранные представители местного колледжа. По долгу службы я счел необходимым присутствовать и ниже постараюсь вкратце описать ход заседания.
Председательствовал профессор Пальмери из Неаполя, а доктор Кирхофф был избран секретарем.
Первый оратор, месье Гассио из Парижа, заявил, что теперь теория магматического состояния центра Земли полностью подтверждена и предстоит лишь определить законы, управляющие поведением лавы на поверхности. «Лично мне известен лишь один закон, применимый к подобному явлению, — сказал он, — закон, по которому жидкие тела перемещаются от центра вращающегося предмета к его окружности и далее за пределы ее, подобно тому как капли и прочие незакрепленные тела срываются с края быстро вращающегося точильного камня. Таким образом, всякий раз, когда мы имеем отдушину или отверстие, подобное кратеру действующего вулкана, раскаленная лава изливается, порой перехлестывая за края высочайших пиков в Андах».
Тогда Пальмери спросил оратора, следует ли понимать его слова в том смысле, что, «по его абсолютному убеждению, лава из возникшего отверстия будет течь бесконечно и никаких естественных ограничений количеству лавы и уровня ее подъема не существует». Гассио отвечал утвердительно.
Тогда неаполитанекий ученый добавил: «Я целиком и полностью отмежевываюсь от мнения месье Гассио. Вот уже более четверти века я изучаю лавоизвержения Везувия, Этны и Стромболи и могу заверить конгресс, чт!о подобного просчета в механизме планеты создатель не допустил. Дело в том, что расплавленная лава может подняться лишь на высоту около 21 тысячи футов над уровнем океана ввиду противодействия сил гравитации центробежным силам, возникающим из-за вращения Земли. В противном случае все содержимое вытекло вы из расплавленного центра Земли я улетело в окружающее пространство».
Месье Гассио ответил, что «природа снабдила естественные вулканы циркумвалвулярнымн стенами, а потому извержение лавы прекращается, едва она заполнит кратер. Но в случае, с которым мы имеем дело, такой зашиты не существует, поэтому единственное утешение он видит в незначительности отверстия и рекомендует Его Величеству королю Леопольду предотвратить увеличение размеров скважины».
На это Пальмери заметил, что «извержение дюдзэльского кратера, несомненно, будет продолжаться, пока вокруг него не вырастут базальтовые стены высотой во многие сотни, а быть может, и тысячи футов, и что идея ограничить устье извержения просто смехотворна».
Гассио перебил речь коллеги и уже готов был ответить запальчиво, когда профессор Пальмери заявил, что «он не имел в виду обидеть оппонента, а лишь выразил свою научную точку зрения». Затем он продолжал: «У Этны слой лавы достигает уровня в 7 тысяч футов, тогда как у Везувия этот уровень почти вдвое меньше. С другой стороны, по сведениям профессора Уитни из Тихоокеанского управления, кратер горы Килауэа на Сандвичевых островах достигает невероятной высоты в 17 тысяч футов. Кратер Везувия нельзя не признать настоящим истоком расплавленной магмы, так как я уже доказал, что уровень регулярно поднимается и падает, подобно океанским приливам и отливам, зависящим от лунного притяжения».
Бросалось в глаза, что участники конгресса не способны обсуждать вопрос в его новом и чрезвычайно важном смысле, и голосование в конце заседания показало, что половина ученых присоединяется к мнению Гассио, а другая — к мнению Пальмери.
Следующее заседание состоится по приезде профессора Тиндэлла, которого уже вызвали телеграфом из Нью-Йорка, и великого русского геолога и астронома Тученева.
В заключение подытожу урон, причиненный бедствием на сегодняшний день: пострадал Брюгге и Хондский канал в результате образовавшейся поперек канала базальтовой дамбы более двухсот футов в ширину; сгорел Дюдзэль; опустошены около 3 тысяч акров драгоценной земли. В то же время совершенно невозможно предсказать, когда прекратятся действия, так как сегодня утром кромка кратера обвалилась внутрь и струя лавы увеличилась вдвое.
Принимая во внимание участие правительства Соединенных Штатов в деле создания исследовательского общества, работы которого привели к катастрофе, и по просьбе министра иностранных дел Бельгии, месье Мюзенгейма, я отважился обратиться к госдепартаменту за суммой в 8700 долларов, которую США согласились выплатить и которая позволит двумстам погорельцам из Дюдзэля эмигрировать в Соединенные Штаты.
Я только что получил Вашу вчерашнюю телеграмму и с радостью узнал, что профессор Агассис уже вернулся из Южных морей и будет немедленно направлен сюда.
Джон Флэннаган,
консул Соединенных Штатов в Брюгге.
Р. S. Я уже отправил отчет, когда профессор Пальмери почтил меня своим неожиданным визитом и после нескольких ничего не значащих фраз приступил к центральной теме сегодняшнего дня и в объяснены з своей изложенной на конгрессе теории осторожно высказал следующее мнение: «Ввиду того, что Голландия, Бельгия и Дания расположены в низине и некоторые части их территорий находятся ниже уровня океана, он не будет удивлен, если теперешнее извержение лавы полностью опустошит эти страны и на много лье покроет дно Северного моря слоем базальта». И вот почему это должно произойти: «Лава будет продолжать извергаться, пока она не воздвигнет вокруг вулканического кратера ободок или конус достаточной высоты, чтобы он мог уравновесить центростремительную силу, вызываемую осевым вращением, а поскольку мы убедились, что земная кора на севере Европы чрезвычайно тонка, необходимая высота такова, что потребуется огромный период времени, прежде чем конус сам по себе достигнет этого уровня. Прежде чем Этна достигла безопасной высоты, она опустошила территорию, равную Франции, а профессор Уитни доказал, что некий, ныне потухший центр вулканической деятельности в штате Калифорния выбросил поток лавы, покрывший намного большую территорию. Протяженность так называемых Столовых гор, простирающихся на север и на восток, равна расстоянию от Москвы до Рима. В заключение он рискнул предсказать, что Северное море будет полностью поглощено лавой и Британские острова вновь соединятся с континентом».
АМБРОЗ БИРС
Великолепный новеллист Амброз Бирс (1842–1913 гг.) сказал веское слово и в научной фантастике. Типичен его рассказ «Психологическое кораблекрушение» (1893 г.). Молодой человек садится на парусник, следующий из Ливерпуля в Нью-Йорк, и знакомится на борту с девушкой Джаннет Харфорд, как впоследствии оказывается, своей дальней родственницей. Они говорят о неисповедимых путях души, о переселениях родственных душ. Налетает шквал, парусник тонет, герой просыпается в каюте парохода и видит своего друга. Первый его вопрос, спасли ли Джаннет Харфорд. Друг изумлен. Оказывается, они с самого начала плывут с ним из Ливерпуля в Нью-Йорк в одной каюте, а Джаннет Харфорд — невеста друга, которая отправилась в Нью-Йорк на паруснике. «Откуда ты ее знаешь?» — спрашивает он у героя. «Ты рассказывал о ней во сне», — гласит ответ потрясенного очевидца гибели очаровательной девушки. Рассказ заканчивается словами: «Неделей позднее мы прибыли в порт Нью-Йорк. Больше мы никогда не слышали о паруснике». В рассказе допускается, таким образом, наличие неизведанного психологического измерения.
В других рассказах вводятся концепции неизведанных физических измерений («Таинственное исчезновение») и неизведанной другой формы жизни («Проклятая вещь»). По ту сторону человеческого кругозора, по мысли автора, существуют некие силы, способные управлять человеком. И не только человеком…
Один из интереснейших рассказов Амброза Бирса — «Чудовище Моксона», впервые увидевший свет, по-видимому, во втором издании книги «Могут ли быть такие вещи?» (1909 г.). Писатель дает свой ответ на вопрос: может ли машина мыслить, и таким образом продолжает разрабатывать одну из традиционных тем американской научной фантастики. Решение предлагается крайнее, не оставляя надежд. Человек, оказывается, нэ вечная животворная сущность, а игрушка в руках безличных, безразличных сил.
Американская исследовательница Эдна Кентон отмечала, что идея, изложенная в «Чудовище Моксона», позволяет понять потайной смысл таких знаменитых рассказов Амброза Бирса, как «Человек и змея», «Всадник в небе», «Бородатая вдова» и «Случай на мосту через Совиный ручей». Идея, заложенная в последнем рассказе, как, очевидно, заметит читатель, весьма созвучна современным философским представлениям о человеческой жизни как феномене времени.
Рассказ перепечатывается из сборника «Словарь Сатаны и рассказы», выпущенного издательством «Художественная литература» в 1966 году.
СЛУЧАЙ НА МОСТУ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ РУЧЕЙ
На железнодорожном мосту, в северной части Алабамы, стоял человек и смотрел вниз на быстрые воды в двадцати футах под ним. Руки у него были связаны за спиной. На шее болталась веревка. Одним концом она была прикреплена к поперечной балке над его головой и свободно провисала до колен. Несколько досок, положенных на шпалы, служили помостом для него и для его палачей — двух солдат федеральной армии под началом сержанта, который в мирное время скорее всего занимал должность помощника шерифа. Несколько поодаль, на том же импровизированном эшафоте, стоял офицер в полной капитанской форме, при оружии. На обоих концах моста стояло по часовому с ружьем «на караул», то есть держа ружье вертикально, против левого плеча, в согнутой под прямым углом руке, — поза напряженная, заставляющая неестественно прямо держать спину. По-видимому, знать о том, что происходит на мосту, не входило в обязанности часовых; они только преграждали доступ к настилу.
Позади одного из часовых никого не было видно; на сотню ярдов рельсы убегали по прямой в лес, затем скрывались за поворотом. По всей вероятности, в той стороне находился сторожевой пост. На другом берегу местность была открытая — пологий откос упирался в частокол из вертикально вколоченных бревен, с бойницами для ружей и амбразурой, из которой торчало жерло наведенной на мост медной пушки. По откосу, на полпути между мостом и укреплением, выстроились зрители — рота солдат-пехотинцев в положении «вольно»: приклады упирались в землю, дула прислонены к правому плечу, пальцы на ложе. Справа от строя стоял лейтенант, сабля его была воткнута в землю, руки сложены на эфесе. За исключением четверых людей на середине моста, никто не двигался. Рота была повернута фронтом к мосту, солдаты застыли на месте, глядя прямо перед собой. Часовые, обращенные лицом каждый к своему берегу, казались статуями, поставленными для украшения моста.
Капитан, скрестив руки, молча следил за работой своих подчиненных, не делая никаких указаний. Смерть — высокая особа, и если она заранее оповещает о своем прибытии, ее следует принимать с официальными изъявлениями почета; это относится и к тем, кто с ней на короткой ноге. По кодексу военного этикета безмолвие и неподвижность знаменуют глубокое почтение.
Человеку, которому предстояло быть повешенным, было на вид лет тридцать пять. Судя по платью, — такое обычно носили плантаторы, — он был штатский. Черты лица правильные — прямой нос, энергичный рот, широкий лоб; черные волосы, зачесанные за уши, падали на воротник хорошо сшитого сюртука. Он носил усы и бородку клином, но щеки были выбриты; большие темно-серые глаза выражали доброту, что было несколько неожиданно в человеке с петлей на шее. Он ничем не походил на обычного преступника. Закон военного времени демократичен и не скупится на смертные приговоры для людей всех сословий, не исключая и джентльменов.
Закончив приготовления, оба солдата отступили на шаг, и каждый оттащил доску, на которой стоял. Сержант повернулся к капитану, отдал честь и тут же встал позади него, после чего капитан тоже сделал шаг в сторону. В результате этих перемещений осужденный и сержант очутились на концах доски, покрывавшей три перекладины моста. Тот конец, на котором стоял штатский, почти — но не совсем, доходил до четвертой. Раньше эта доска удерживалась в равновесии тяжестью капитана; теперь его место занял сержант. По сигналу капитана сержант должен был шагнуть в сторону, доска — наклониться, осужденный — повиснуть в пролете между двумя перекладинами. Он оценил по достоинству простоту и практичность этого способа. Ему не закрыли лица и не завязали глаз. Он взглянул на свое шаткое подножие, затем обратил взор на бурлящую речку, бешено несущуюся под его ногами. Он заметил пляшущее в воде бревно и проводил его взглядом вниз по течению. Как медленно оно плыло! Какая ленивая река!
Он закрыл глаза, стараясь сосредоточить свои последние мысли на жене и детях. До сих пор вода, тронутая золотом раннего солнца, туман, застилавший берега, на той стороне — маленький форт, рота солдат, плывущее бревно — все отвлекало его. А теперь он ощутил новую помеху. Какой-то звук, назойливый и непонятный, перебивал его мысли о близких — резкое, отчетливое металлическое постукивание, словно удары молота по наковальне: в нем была та же звонкость. Он прислушивался, пытаясь определить, что это за звуки и откуда исходят; они одновременно казались бесконечно далекими и очень близкими. Удары раздавались через правильные промежутка, но медленно, как похоронный звон. Он ждал каждого удара с нетерпением и, сам не зная почему, со страхом. Постепенно промежутки между ударами удлинялись, паузы становились все мучительнее. Чем реже раздавались звуки, тем большую силу и отчетливость они приобретали.
Он открыл глаза и снова увидел воду под ногами. «Высвободить бы только руки, — подумал он, — я сбросил бы петлю и прыгнул в воду. Если глубоко нырнуть, пули меня не достанут, я бы доплыл до берега, скрылся в лесу и пробрался домой. Мой дом, слава Богу, далеко от фронта; моя жена и дети пока еще недосягаемы для захватчиков».
Когда эти мысли, которые здесь приходится излагать словами, сложились в сознании обреченного, точнее — молнией сверкнули в его мозгу, — капитан сделал знак сержанту. Сержант отступил в сторону.
Пэйтон Факуэр, состоятельный плантатор из старинной и весьма почтенной алабамской семьи, рабовладелец и, подобно многим рабовладельцам, участник политической борьбы за отделение Южных штатов, был ярым приверженцем дела южан. По некоторым не зависящим от него обстоятельствам, о которых здесь нет надобности говорить, ему не удалось вступить в ряды храброго войска, несчастливо сражавшегося и разгромленного под Коринфом, и он томился в бесславной праздности, стремясь приложить свои силы, мечтая об увлекательной жизни воина, ища случая отличиться. Он верил, что такой случай ему представится, как он представляется всем в военное время. А пока он делал, что мог. Не было услуги — пусть самой скромной, — которой он с готовностью не оказал бы делу Юга; и не было такого рискованного предприятия, на которое он не пошел бы, лишь бы против него не восставала совесть человека штатского, но воина в душе, чистосердечно и не слишком вдумчиво уверовавшего в неприкрыто гнусный принцип, что в делах любовных и военных дозволено все.
Однажды вечером, когда Факуэр сидел с женой на каменной скамье у ворот своей усадьбы, к ним подъехал солдат в серой форме и попросил напиться. Миссис Факуэр с величайшей охотой отправилась в дом, чтобы собственноручно исполнить его просьбу. Как только она ушла, ее муж подошел к запыленному всаднику и стал расспрашивать о положении на фронте.
— Янки восстанавливают железные дороги, — сказал солдат, — и готовятся к новому наступлению. Они продвинулись до Совиного ручья, починили мост и возвели укрепление на своем берегу. Повсюду расклеен приказ, что всякий штатский, замеченный в порче железнодорожного полотна, мостов, туннелей или составов, будет повешен без суда. Я сам читал приказ.
— Далеко ли до моста? — спросил Фаркер.
— Миль тридцать.
— А с нашей стороны берег охраняется?
— Только сторожевой пост на линии, в полумиле от реки, да часовой на мосту.
— А если бы какой-нибудь кандидат висельных наук, и притом штатский, проскользнул мимо сторожевого поста и справился бы с часовым, — с улыбкой сказал Фаркер, — что мог бы он сделать?
Солдат задумался.
— Я был там с месяц назад, — ответил он, — и помню, что во время зимнего разлива к деревянному устою моста прибило много плавника. Теперь бревна высохли и вспыхнут, как пакля.
Тут вернулась миссис Фаркер и дала солдату напиться. Он учтиво поблагодарил ее, поклонился хозяину и уехал. Час спустя, когда уже стемнело, он снова проехал мимо плантации в обратном направлении. Это был разведчик федеральной армии.
Падая в пролет моста, Пэйтон Факуэр потерял сознание и был уже словно мертвый. Очнулся он… — через тысячелетие, казалось ему… — от острой боли в сдавленном горле, за которой последовало ощущение удушья. Мучительные, резкие боли расходились от шеи по всему телу, ветвясь и пульсируя с непостижимой частотой. Они казались огненными потоками, накалявшими его тело до нестерпимого жара. До головы боль не доходила — голова гудела от сильного прилива крови. Мысль не участвовала в этих ощущениях. Сознательная часть его существа уже была уничтожена; он мог только чувствовать, а чувствовать было пыткой. Но он ощущал движение. Лишенный материальной субстанции, превратившись всего только в огненный центр светящегося облака, он, словно гигантский маятник, качался по немыслимой дуге. И вдруг со страшной внезапностью свет вокруг него с громким всплеском взметнулся кверху; уши наполнил неистовый рев, наступили холод и мрак. Мозг снова заработал; он понял, что веревка оборвалась и он упал в воду. Но он не захлебнулся; петля, стягивающая горло, не давала воде залить легкие. Смерть через повешение на дне реки! Что может быть нелепее? Он открыл глаза в темноте и увидел над головой слабый свет, но как далеко, как недосягаемо далеко! По-видимому, он все еще погружался, так как свет становился слабей и слабей, пока не осталось едва заметное мерцание. Затем свет опять стал больше и ярче, и он понял, что его выносит на поверхность, понял с сожалением, ибо теперь ему было хорошо. «Быть повешенным и утопленным, — подумал он, — это еще куда ни шло; но я не хочу быть пристреленным. Нет, меня не пристрелят; это было бы несправедливо».
Он не делал сознательных усилий, но по острой боли в запястьях догадался, что пытается высвободить руки. Он стал внимательно следить за своими попытками, равнодушный к исходу борьбы, словно праздный зритель, следящий за работой фокусника. Какая изумительная ловкость! Какая великолепная сверхчеловеческая сила! Ах, просто замечательно! Браво! Веревка упала, руки его разъединились и всплыли, он смутно различал их в ширящемся свете. Он с растущим вниманием следил за тем, как сначала одна, потом другая ухватилась за петлю на его шее. Они сорвали ее, со злобой отшвырнули, она извивалась, как уж.
«Наденьте, наденьте опять!» Ему казалось, что он крикнул это своим рукам, ибо муки, последовавшие за ослаблением петли, превзошли все испытанное им до сих пор. Шея невыносимо болела; голова горела как в огне; сердце, до сих пор слабо бившееся, подскочило к самому горлу, стремясь вырваться наружу. Все тело корчилось в мучительных конвульсиях. Но непокорные руки не слушались его приказа. Они били по воде сильными, короткими ударами сверху вниз, выталкивая его на поверхность. Он почувствовал, что голова его поднялась над водой; глаза ослепило солнце; грудная клетка судорожно расширилась — и в апогее боли его легкие наполнились воздухом.
Теперь он полностью владел своими чувствами. Они даже были необычайно обострены и восприимчивы. Страшное потрясение перенесенное его организмом, так усилило и утончило их, что они отмечали то, что раньше было им недоступно. Он ощущал кожей набегающую рябь, слышал ушами каждый толчок воды. Он смотрел на лесистый берег, видел отдельно каждое дерево, каждый листик и жилки на нем, все вплоть до насекомых в листве — цикад, мух с блестящими спинками, серых пауков, протягивающих свою паутину от ветки к ветке. Он видел все цвета радуги в капельках росы на миллионах травинок. Жужжание мошкары, плясавшей над водоворотами, трепетание крылышек стрекоз, удары лапок жука-плавунца, похожего на лодку, приподнятую веслами, — все это было внятной музыкой. Рыбешка скользнула у самых его глаз, и он услышал шум рассекаемой ею воды.
Он всплыл на поверхность спиной к мосту; в то же мгновение видимый мир стал медленно вращаться вокруг него, словно вокруг своей оси, и он увидел мост, укрепление на откосе, капитана, сержанта, обоих солдат — своих палачей. Силуэты их четко выделялись на голубом небе. Они кричали и размахивали руками, указывая на него; капитан выхватил пистолет, но не стрелял; у остальных не было в руках оружия. Их огромные жестикулирующие фигуры были нелепы и страшны.
Вдруг он услышал громкий выстрел, и что-то с силой ударило по воде в нескольких дюймах от его головы, обдав лицо брызгами. Опять раздался выстрел, и он увидел одного из часовых — ружье было вскинуто, над дулом поднимался сизый дымок. Человек в воде увидел глаз человека на мосту, смотревший на него сквозь щель прицельной рамки. Он отметил серый цвет этого глаза и вспомнил, что серые глаза считаются самыми зоркими и что будто бы все знаменитые стрелки сероглазы. Но стрелок промахнулся.
Встречное течение подхватило Факуэра и снова повернуло его лицом к лесистому берегу. Позади него раздался отчетливый и звонкий голос, и звук этого голоса, однотонный и певучий, донесся по воде так внятно, что перекрыл и заглушил все остальные звуки, даже журчание воды в его ушах. Факуэр, хоть и не был военным, достаточно часто посещал военные лагеря, чтобы понять грозный смысл этого нарочито мерного, протяжного распева; командир роты, выстроенной на берегу, вмешался в ход событий. Как холодно и неумолимо, с какой уверенной невозмутимой модуляцией, рассчитанной на то, чтобы внушить спокойствие солдатам, с какой обдуманной раздельностью прозвучали жестокие слова:
— Рота, смирно!. Ружья к плечу!. Целься… Пли!
Факуэр нырнул — нырнул как можно глубже. Вода взревела в его ушах, словно Ниагарский водопад, но он все же услышал приглушенный гром залпа и, снова всплывая на поверхность, увидел блестящие, странно сплющенные кусочки металла, которые, покачиваясь, медленно опускались на дно. Некоторые из них по пути вниз коснулись его лица и рук, но, не задержавшись, продолжали опускаться.
Когда он, задыхаясь, всплыл на поверхность, оказалось, что пробыл он под водой долго; его довольно далеко отнесло течением — прочь от опасности. Солдаты кончали перезаряжать ружья; стальные шомпола, выдернутые из стволов, все сразу блеснули на солнце, повернулись в воздухе и стали обратно в свои гнезда. Тем временем оба часовых снова выстрелили по собственному почину — и безуспешно.
Беглец видел все это, оглядываясь через плечо; теперь он уверенно плыл по течению. Мозг его работал с такой же энергией, как руки и ноги; мысль приобрела быстроту молнии.
«Лейтенант, — рассуждал он, — допустил ошибку, потому что действовал по шаблону; больше он этого не сделает. Увернуться от залпа так же легко, как от одной пули. Он, должно быть, уже скомандовал стрелять вразброд. Плохо дело, от всех не спасешься».
Но вот в двух ярдах от него — чудовищный всплеск, вдогонку ему — свист, вспоровший воздух на всем расстоянии до берега и, как бы отразившись, обратно к форту, и следом — оглушительный взрыв, всколыхнувший в реке воду чуть не до самого дна! Поднялась водяная стена, нависла над ним, обрушилась, ослепила, задушила. В игру вступила пушка. Пока он отряхнулся, высвобождаясь из вихря вспененной воды, он услышал над головой жужжанье отклонившегося ядра, и через мгновенье из лесу донесся треск ломающихся ветвей.
«Больше они этого не сделают, думал Факуэр, — теперь пустят в ход картечь. Нужно следить за пушкой. Меня предостережет дым — звук ведь запаздывает; он отстает от снаряда. А пушка хорошая».
Вдруг он почувствовал, что его закружило, что он вертится волчком. Вода, оба берега, лес, оставшийся далеко позади мост, укрепление и рота солдат все перемешалось и расплылось. Предметы заявляли о себе только своим цветом. Бешеное вращение горизонтальных цветных полос — вот все, что он видел. Он попал в водоворот, и его крутило и несло к берегу с такой быстротой, что он испытывал головокружение и тошноту. Через несколько секунд его выбросило на песок левого — южного — берега, за небольшим выступом, скрывшим его от врагов. Внезапно прерванное движение, ссадина на руке, пораненной о камень, привели его в чувство, и он заплакал от радости. Он зарывал пальцы в песок, пригоршнями сыпал на себя и вслух благословлял его. Крупные песчинки сияли, как алмазы, как рубины, изумруды: они походили на все, что только есть прекрасного на свете. Деревья на берегу были гигантскими садовыми растениями, он любовался стройным порядком их расположения, вдыхал аромат их цветов. Между стволами струился таинственный розоватый свет, а шум ветра в листве звучал, как пение золотой арфы.
Свист и треск картечи в ветвях высоко над головой заставил его опомниться. Канонир, обозлившись, наугад послал ему прощальный привет. Он вскочил на ноги, взбежал по отлогому берегу и укрылся в лесу.
Весь день он шел, держа направление по солнцу. Лес казался бесконечным; нигде не видно было ни прогалины, ни хотя бы охотничьей тропы. Он и не знал, что живет в такой глуши.
К вечеру он обессилел от усталости и голода. Но мысль о жене и детях гнала его вперед. Наконец он выбрался на дорогу и почувствовал, что она приведет его к дому. Она была широкая и прямая, как городская улица, но, по-видимому, никто по ней не ездил. Поля не окаймляли ее, не видно было и строений. Ни намека на человеческое жилье, не слышно даже собачьего лая. Черные стволы могучих деревьев стояли отвесной стеной по обе стороны дороги, сходясь в одной точке на горизонте, как линии на перспективном чертеже. Взглянув вверх из этой расселины в лесной чаще, он увидел над головой крупные золотые звезды — они соединялись в странные созвездия и показались ему чужими. Он чувствовал, что их расположение имеет тайный и зловещий смысл. Лес вокруг него был полон диковинных звуков, среди которых — раз, второй и снова — он ясно расслышал шепот на незнакомом языке.
Шея сильно болела, и, дотронувшись до нее, он убедился, что она страшно распухла. Он знал, что на ней черный круг — след веревки. Глаза были выпучены, он уже не мог закрыть их. Язык распух от жажды; чтобы унять в нем жар, он высунул его на холодный воздух. Какой мягкой травой заросла эта неезженая дорога! Он уже не чувствовал ее под ногами!
Очевидно, несмотря на все мучения, он уснул на ходу, потому что теперь перед ним была совсем иная картина, — может быть, он просто очнулся от бреда. Он стоит у ворот своего дома. Все осталось как было, когда он покинул его, и все радостно сверкает на утреннем солнце. Должно быть, он шел всю ночь. Толкнув калитку и сделав несколько шагов по широкой аллее, он видит воздушное женское платье; его жена, свежая, спокойная и красивая, спускается с крыльца ему навстречу. На нижней ступеньке она останавливается и поджидает его с улыбкой неизъяснимого счастья — вся изящество и благородство. Как она прекрасна! Он кидается к ней, раскрыв объятия. Он уже хочет прижать ее к груди, как вдруг сильнейший удар обрушивается сзади на его шею; ослепительно-белый свет в грохоте пушечного выстрела полыхает вокруг него — затем мрак и безмолвие!
Пэйтон Факуэр был мертв; тело его, с переломанной шеей, мерно покачивалось под стропилами моста через Совиный ручей.
ЭДВАРД БЕЛЛАМИ
Писатель-утопист, сын священника и адвокат по профессии Эдвард Беллами (1850–1898 гг.) известен своими социально-фантастическими романами «Взгляд в прошлое. 2000–1887 гг.» (1888 г., русский перевод «В 2000 году» появился в 1889 г.) и его продолжением «Равенство» (1897 г.).
Герой романа, бостонский гражданин Вест, заснул гипнотическим сном в 1887 году и при своем пробуждении в 2001 году обнаружил, что за истекшие 113 лет в процессе мирной эволюции в Америке возникло общество всеобщего равенства. Все орудия производства национализированы, народ представляет «промышленную армию труда», исчезли конкуренция, бизнес, деньги, глубоко изменились основы воспитания, образования и семейной жизни.
Новое, идеальное общество гармонично примирило эгоистические устремления человека с интересами других и превратилось в единый государственно-политический и экономический синдикат с обязательным трудом для каждого гражданина. Исчезли различия между богатыми и бедными, новые условия сдерживают преступные наклонности, леность не допускается, люди отличаются только по своим способностям и заслугам.
В отличие от современных авторов антиутопий Э. Беллами верил в человека, в его способность и склонность к добру и поэтому вдохновлялся идеалами социализма, многое позаимствовал из книги А. Бебеля «Женщина и социализм». Достаточно избавить людей от лжи и болезней, от эксплуатации и голода, и на земле наступит золотой век. Эта мысль проводилась с художественной убедительностью и поэтому завоевала в Америке немало горячих сторонников. Возникла целая россыпь «клубов Беллами», стремившихся воплотить в жизнь идеалы писателя.
Однако, как отметил А. Бебель в предисловии к переизданию своей книги «Женщина и социализм», «кто читал наши книги и не лишен способности рассуждать, тот не может не видеть, что Беллами — благожелательный буржуа, который, не зная законов движения общества, стоит на чисто гуманитарной точке зрения; хороший наблюдатель буржуазного общества, он ясно увидел его противоречия и отрицательные стороны и нарисовал картину будущего общественного строя, в которой то и дело проскальзывают все же буржуазные идеи и буржуазное понимание вещей. От утопистов прежних времен он отличается только тем, что его образы одеты в современный костюм и что ему недостает тонкой критики буржуазного общества, которой отличались утописты».
В рассказе «Остров ясновидцев», опубликованном в 1889 году, Э. Беллами применяет научно-фантастический прием «овладения телепатией» для художественного моделирования идеального общественного устройства. Впрочем, рассказ вполне можно причислить к чистому научно-фантастическому жанру, поскольку всем описываемым событиям и явлениям дано научное объяснение.
ОСТРОВ ЯСНОВИДЦЕВ
Прошло уже около года с того дня, когда я взошел на борт «Аделаиды», чтобы отплыть из Калькутты в Нью-Йорк. Непогода преследовала нас, и а траверсе острова Новый Амстердам мы решили изменить курс. Три дня спустя ужасный шторм обрушился на наш корабль. Четыре дня мы носились по волнам, ни разу не видя ни солнца, ни луны, ни звезд, и мы не могли определить, где находимся. Приблизительно в полночь четвертых суток при блеске молний мы обнаружили, что «Аделаида» попала в безнадежное положение — ветер нес ее прямо на берег какой-то неизвестной земли. Море вокруг было усеяно рифами и утесами, и просто каким-то чудом наш корабль еще не разбился о них. Внезапно корабль затрещал и почти немедленно развалился на части, столь могуч был натиск стихии. Я решил, что это конец и мне суждено кануть в пучину, но в последнюю минуту, когда я уже терял сознание, волна подхватила меня и швырнула на прибрежный песок. У меня еще хватило сил уползти от волн, но затем я потерял сознание и не помню, что было дальше.
Когда я очнулся, шторм утих. Солнце, пройдя уже половину своего пути по небу, высушило мою одежду и дало немного силы моим измочаленным и ноющим членам. В море и на берегу я не заметил никаких следов моего корабля или моих сотоварищей. По-видимому, только я и остался в живых. Однако я не был один. Рядом стояла группа людей, судя по всему — аборигенов. Они глядели на меня с выражением такого дружелюбия, что я сразу понял, что мне не надо опасаться какой-либо угрозы с их стороны. Это были белокожие и статные люди, по всей вероятности, достаточно цивилизованные, хотя они не походили ни на один народ, с которым я был знаком.
Подумав, что, по их обычаям, чужестранец должен первым начинать разговор, я обратился к ним на английском языке, но не получил никакого ответа, кроме благожелательных улыбок. Тогда я попробовал заговорить с ними на французском, затем на немецком, итальянском, испанском, голландском и португальском, но результат был такой же. Я, признаться, пришел в недоумение. Кто же были эти белокожие и явно цивилизованные люди, если им не понятен ни один язык, на котором обычно говорят мореплаватели?
Самым же странным представлялось полное молчание, которым они отвечали на все мои попытки вступить с ними в общение. Как будто бы они сговорились утаить от меня свой язык, и, переглядываясь друг с другом дружелюбно и понимающе, они ни разу не открыли своих уст. Может быть, они таким способом забавлялись со мной? Но весь их вид выражал столь несомненную приветливость и симпатию, что это предположение я сразу отверг.
Самые дикие мысли приходили мне в голову. Может быть, эти странные люди все немые? Я, правда, раньше никогда не слышал о подобной прихоти природы, но мало ли какие чудеса могли произойти где-то на неизведанном острове великого Южного Океана.
Много всяческой бесполезной информации загромождало мою память, в том числе знакомство с алфавитом глухонемых. И я попытался изобразить пальцами те несколько фраз, которые прежде без особого успеха произносил на разных языках. Мое обращение к языку жестов лишило последних остатков сдержанности эту группу людей, и так уже улыбавшихся сверх всякой меры. Дети начали кататься по земле в конвульсиях смеха, а почтенные островитяне, которые до этого еще держали себя в руках, сразу же отвернулись, сотрясаясь от хохота. Ни один клоун в мире никогда не смог бы со всем своим искусством развеселить людей до такой степени, как это невольно удалось мне в стремлении выразить свою мысль.
Конечно, мне не льстила такая необычная и бурная реакция на мои потуги. Напротив, я был полностью обескуражен. Сердиться же на них я никак не мог, ибо все они, кроме детей, явно сочувствовали мне и стеснялись, что не могут удержаться от смеха при виде моих усилий установить с ними контакт. Я не имел никакого желания показаться агрессивным.
Ситуация выглядела так, будто они были очень расположены ко мне и готовы помочь мне во всем, лишь только я перестану своим абсурдным и потешным поведением доводить их до конвульсивного смеха. Несомненно, эта явно дружелюбная раса отличалась очень озадачивающей манерой встречать иностранцев.
Как раз в ту минуту, когда мое замешательство готово было перейти в раздражение, пришло спасение. Круг разомкнулся, и маленький пожилой человек, очевидно торопившийся ко мне издалека, встал передо мной, с достоинством поклонился и обратился ко мне на английском языке. Его голос был самой жалкой пародией на голос, которую я когда-либо слышал. Обладая всеми дефектами речи, свойственными ребенку, который только начинает говорить, он еще уступал детскому голосу по чистоте и силе звуков, будучи фактически помесью невнятного писка и шепота. С некоторым трудом я, однако, смог понимать этот голос довольно сносно.
«Как официальный переводчик, — сказал он, — я хотел бы сердечно приветствовать вас на этих островах. Меня послали к вам сразу же, как только вас нашли, но из-за большого расстояния я прибыл сюда только сейчас. Я сожалею об этом, так как мое присутствие избавило бы вас от затруднений. Мои соотечественники попросили меня принести вам свои извинения за совершенно невольный и неудержимый смех, вызванный вашими попытками вступить с ними в общение. Вы видите, они прекрасно вас понимают, но не в состоянии вам ответить».
«Милостивое небо! — воскликнул я, ужаснувшись, что моя догадка окажется правильной. — Неужто все они страдают немотой? Неужели вы единственный человек среди них, кто способен говорить?»
Мои слова произвели такое впечатление, как будто я совершенно неумышленно сказал нечто из ряда вон выходящее, ибо, только я кончил говорить, раздался такой взрыв доброго хохота, что он заглушил шум прибоя. Даже переводчик заулыбался.
«Разве они полагают, что быть немыми — это очень весело?» — спросил я.
«Они находят весьма забавным, — ответил переводчик, — что их неспособность говорить кто-то считает несчастьем, ибо они добровольно отказались пользоваться органами артикуляции и благодаря этому разучились не только говорить, но даже понимать речь».
«Однако, — сказал я, несколько озадаченный этим утверждением, — не хотите же вы сказать мне, что они меня понимают, хотя не могут мне ответить, и почему они не смеются сейчас над тем, что я только что сказал?»
«Они понимают вас самих, а не ваши слова, — ответил переводчик. — Наш разговор кажется им бессмысленным бормотанием, ибо он столь же непонятая для них, как рычание животных, но они знают, о чем мы говорим, потому что они понимают наши мысли. Вы должны знать, что на этих островах живут ясновидцы».
Таковы были обстоятельства моего знакомства с этим необычным народом. Официальный переводчик по роду своей службы был обязан первым оказывать гостеприимство жертвам кораблекрушений, говорящим на том или ином языке. Я провел много дней в его доме как гость, прежде чем начал, как говорится, выходить в люди. Первые же мои впечатления противоречили распространенному предрассудку, будто способность читать мысли других свойственна исключительно существам, стоящим на порядок выше человека. Первоначальные усилия переводчика сводились к тому, чтобы избавить меня от такого заблуждения. Из его слов следовало, что способность ясновидения возникла просто в результате не столь уж значительного ускорения в ходе универсальной человеческой эволюции. Это ускорение, произошедшее в силу ряда причин, привело в какой-то момент к отказу от речи и к замене ее непосредственной передачей мыслей. Такая быстрая эволюция островитян объяснялась их особым происхождением и особыми обстоятельствами их истории.
За три столетия до нашей эры один из парфянских царей Персии из династии Аркашидов стал преследовать прорицателей и магов, живших в его царстве. Народное суеверие приписывало этим людям сверхъестественные силы, но на самом деле они были всего-навсего больше других наделены даром гипноза и телепатии. Они жили за счет своего искусства.
Сильно опасаясь могущества прорицателей и желая предотвратить возможные козни с их стороны, царь решил изгнать их и для этой цели повелел посадить их вместе с семьями на корабли и отправить на Цейлон. Однако, когда суда почти достигли этого острова, налетел сильный шторм, и один из кораблей, захваченных бурей, был унесен далеко к югу и выброшен на берега необитаемого архипелага. На островах этого архипелага и поселились оставшиеся в живых. Естественно, потомство прорицателей и магов отличалось весьма развитыми психическими способностями.
Поставив перед собой цель создать новый и лучший общественный строй, они всячески поощряли развитие этих способностей. В итоге через несколько столетий ясновидение стало настолько распространенным, что язык потерял свое значение как средство передачи мыслей. Многие поколения еще могли по желанию пользоваться речью, но постепенно голосовые связки атрофировались, и через несколько сотен лет способность говорить оказалась полностью утраченной. Конечно, новорожденные на протяжении нескольких первых месяцев еще испускали нечленораздельные крики, но в том возрасте, когда у детей менее развитых народов эти крики начинают превращаться в членораздельную речь, дети ясновидцев приобретают способность непосредственного восприятия чужих мыслей и прекращают попытки использовать для общения свой голос.
Тот факт, что ясновидцы до сих пор оставались неизвестными остальному миру, объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, группа островов, на которых живут ясновидцы, слишком мала и занимает уголок Индийского океана, находящийся совсем в стороне от обычных маршрутов судов. Во-вторых, к островам почти невозможно приблизиться из-за мощных опасных течений и обилия скал и подводных рифов. Любой корабль попросту потерпит крушение, прежде чем коснется берегов архипелага. По крайней мере ни одному кораблю на протяжении двух тысяч лет, прошедших после прибытия сюда предков ясновидцев, не удавалось избегнуть этой печальной участи, и «Аделаида» была сто двадцать третьим по счету судном, которое нашло здесь свою могилу.
Ясновидцы предпринимали энергичные попытки спасти потерпевших кораблекрушение не только из соображений гуманности. Только от них одних островитяне могли с помощью переводчиков получить информацию о внешнем мире. Этой информации добывалось слишком мало, когда, как это часто бывало, единственным спасшимся при кораблекрушении оказывался тот или иной малограмотный моряк, который был не в состоянии сообщить никаких новостей, кроме последних версий палубных баек. Мои хозяева не без удовлетворения признались мне, что считают меня настоящей находкой, поскольку я имею некоторое образование и могу рассказать им о многом. Передо мной была поставлена задача ни много ни мало как поведать им о событиях всемирной истории за последние два века. И часто я сожалел, что раньше не изучал более подробно этот предмет.
Единственно ради общения с потерпевшими кораблекрушение существовала служба переводчиков. Когда время от времени рождался ребенок с некоторой способностью к членораздельной речи, он брался на заметку и затем проходил курс обучения разговору в колледже для переводчиков. Конечно, частичная атрофия голосовых связок, от которой страдали даже лучшие переводчики, не позволяла воспроизводить многие из звуков других языков. Например, никто не мог воспроизвести звук «в», «ф», или «с», или звук, передающий английское «th». Прошло уже пять поколений с тех пор, когда жил последний переводчик, который мог произносить их. Но благодаря случающимся время от времени бракам между островитянами и спасшимися при кораблекрушении чужестранцами вполне вероятно, что ряды переводчиков будут пополняться еще долгое время, пока они совсем не оскудеют.
Можно представить, что любой на моем месте чувствовал бы себя не в своей тарелке, когда бы осознал, что находится среди людей, которые видят каждую его мысль, а сами остаются себе на уме. Вообразите себе состояние голого человека, очутившегося в обществе одетых персон. Таковым казалось мне и мое положение среди ясновидцев. Мне хотелось скрыться с их глаз и побыть одному. Насколько я могу проанализировать свои чувства, мне хотелось поступить так не из-за того, что я стремился сохранить в тайне какие-либо особо постыдные секреты. Нет, больше всего я боялся разоблачения целого ряда своих глупых, дурных и непристойных мыслей и обрывков мыслей относительно окружающих и самого себя. Каким бы благорасположением ни отличался человек, читающий такие мои мысли, все равно мне было бы это неприятно.
Однако, хотя я сначала сильно огорчался и переживал по этому поводу, довольно скоро я успокоился. Когда я до конца продумал тот факт, что все движения моей души открыты для других, то невольно стал отгонять от себя мысли, которые могли задеть и обидеть островитян. Аналогично воспитанный человек автоматически, без особых усилий воли, воздерживается от неуместных высказываний. Нескольких уроков этикета достаточно для порядочного человека, чтобы научиться избегать опрометчивых слов, а в моем случае краткий опыт общения с ясновидцами помог мне научиться воздерживаться от опрометчивых мыслей.
Все же не следует думать, что этикет островитян не позволяет им при случае критически и свободно судить друг о друге. Ведь и среди людей, выражающих свои мысли словами, даже самый утонченный этикет не мешает говорить друг о друге всю правду-матку, когда это нужно. Впрочем, среди ясновидцев в отличие от людей, скрывающих словами свои подлинные мнения, вежливость всегда остается в пределах искренности. Мысли друг о друге, которые воспринимаются островитянами, всегда являются подлинными и сокровенными мыслями.
В конце концов до меня дошло, почему у любого человека будет вызывать значительно меньше досады полная обнаженность его слабостей перед ясновидцем, чем хотя бы малейшее обнаружение этих же слабостей перед обычными людьми. Иначе и быть не может. Ибо как раз благодаря тому, что ясновидец читает все ваши мысли, он не выдергивает отдельные мысли из общего потока ваших дум, судит о них с учетом целого. Ясновидец принимает во внимание прежде всего ваш характер и строй мыслей. Поэтому никому не следует опасаться, что его неправильно поймут на основе намерений или эмоций, которые не соответствуют его характеру или убеждениям. Можно сказать, что справедливость не может не царствовать там, где души открыты нараспашку.
Мне повезло с переводчиком. Благодаря ему мне не пришлось долго вырабатывать в себе инстинкт этикета, чтобы воздерживаться от дурных и постыдных мыслей. За всю свою прежнюю жизнь я с трудом находил друзей, но за три дня, проведенных в обществе этого удивительнейшего существа удивительной расы, я искренне привязался к нему. К нему невозможно было не привязаться. Ибо особая прелесть дружбы заключается в том, что ты знаешь: твой друг понимает тебя так, как никто другой, и тем не менее продолжает любить тебя. В данном же случае рядом со мной был такой человек, при разговоре с которым чувствовал, что он знает все мои потайные мысли и мотивы, о которых мои самые старые и самые близкие друзья никогда не догадывались и никогда даже не могли бы догадаться. Если бы он, зная обо мне все, проникся ко мне презрением, я никогда не стал бы обвинять его и вообще принял бы это как должное. А теперь посудите сами, могла ли меня оставить равнодушным та сердечная расположенность, которую он проявил ко мне.
Вообразите мое удивление, когда он заявил однажды, что наша дружба основана всего-навсего на обычной совместимости характеров. Дар ясновидения, объяснил он, настолько тесно сближает души и стимулирует взаимную симпатию, что самая малая степень дружбы между ясновидцами предполагает такую взаимную радость, которая лишь в редких случаях наблюдается между друзьями у других народов. Он заверил меня, что через некоторое время, когда я познакомлюсь с другими островитянами и на собственном опыте увижу, до какой степени могут доходить у некоторых из них чувства симпатии и дружбы ко мне, я смогу убедиться в справедливости его слов.
Могут спросить, как же я смог общаться с ясновидцами, когда начал бывать среди них. Ведь если они могли прочесть мои мысли, то в отличие от переводчика у них не было возможности сказать мне что-нибудь в ответ. Должен здесь сделать одно разъяснение. Эти люди действительно не пользовались никакой речью, но у них для записей употреблялся письменный язык. Поэтому все они умели писать. На каком же языке они писали? На персидском? К счастью для меня, нет. Оказывается, за долгое время до того, как возникла способность непосредственного восприятия мыслей друг друга, островитяне не только разучились говорить, но и писать, и от этого периода не сохранилось даже никаких хроник. Люди упивались своей новоприобретенной способностью прямого ясновидения, когда вместо несовершенных, посредством неуклюжих слов описаний отдельных мыслей появилась возможность общаться посредством передачи картин цельных душевных состояний. Естественно, у островитян выработалось непреодолимое отвращение к вымученному бессилию языка.
Однако, когда первый интеллектуальный восторг через несколько поколений немного поубавился, вдруг обнаружилось, что весьма желательно хранить информацию о прошлом, а для записи этой информации необходимо обратиться к презренному средству — к словам. Между тем персидский язык к тому времени был полностью забыт. Чтобы не мучиться с изобретением совершенно нового языка — задача исключительно трудоемкая! — островитяне сочли целесообразным создать службу переводчиков. Идея отличалась простотой: переводчики должны были научиться от моряков, спасшихся на островах от кораблекрушения, некоторым языкам внешнего мира.
Поскольку же именно английские суда чаще всего разбивались о прибрежные рифы и скалы, неудивительно, что островитяне лучше всего познакомились с английским языком. Он и был принят в качестве письменного языка этих людей. Как правило, мои знакомые писали медленно и с трудом, однако же они настолько точно знали все мои мысли и состояние души, что при ответе всегда попадали в точку. Поэтому при моих разговорах даже с самыми тихоходными писаками обмен мыслями был столь же быстрым и несравненно более точным и удовлетворительным, как если бы я вел с кем-нибудь торопливую беседу.
Очень скоро после того, как я стал расширять круг знакомых среди ясновидцев, я действительно смог убедиться в правоте слов своего переводчика. В самом деле, я встретил островитян, к которым в силу большей природной конгениальности привязался еще сильнее, чем к нему. Мне хотелось бы подробнее описать кое-кого из тех, кого я полюбил, товарищей моего сердца, от которых я впервые узнал о не снившихся и во сне богатствах человеческой дружбы и о том приводящем в восторг удовлетворении, которое может дать взаимная симпатия.
Разве кто-нибудь среди тех, кто читает мой рассказ, не изведывал этого обманного чувства непреодолимой бездны между душой и душой, которое отравляет любовь! Кто не ощущал щемящего сердце одиночества, когда стремишься слиться с другим сердцем, которое любишь превыше всего! Не думайте больше, что эта бездна непреодолима вовеки или каким-либо образом свойственна человеческой природе. Она не существует для моих друзей-островитян, которых я описываю, и благодаря этому факту мы тоже можем надеяться, что в конце концов бездна между душой и душой станет преодолима и для нас. Подобно прикосновению плеча к плечу, подобно рукопожатию — контакт их разумов и выражение их симпатии.
Мне хотелось бы подробнее рассказать о некоторых из моих друзей, но оскудевающие силы не позволяют мне сделать это, а кроме того, когда я было уже приступил к рассказу, другое соображение препятствует мне провести какое-либо сравнение их характеров. Соображение это, с точки зрения читателя, скорее курьезного, чем поучительного свойства. Оно заключается в том, что мои друзья-островитяне, как и другие ясновидцы, имен не имеют. Впрочем, каждый из них обозначается в хрониках произвольным знаком, но знак этот не обладает никаким звуковым эквивалентом. Существует перечень этих имен, так что по имени можно в любой момент найти человека, и наоборот.
Однако довольно часто можно встретить лиц, не помнящих своих имен. Имена эти употребляются исключительно для биографических и официальных целей. В повседневной жизни они, конечно, излишни. Ведь островитяне общаются друг с другом только посредством направленных мыслительных актов, а с третьими лицами — посредством переадресации своих мыслительных образов. Аналогично могли бы общаться глухонемые с помощью фотографий. Я бы сказал, что аналогия очень близка к истине, ибо мыслительные образы третьих лиц, передаваемые ясновидцами друг другу, почти не отягощены каким-либо материальным элементом и тем самым почти не подвержены искажениям. В сущности, так и должно быть между людьми, сердца и души которых открыты нараспашку друг другу.
Я уже рассказывал, как развеялись первые страхи моего болезненно-впечатлительного самосознания, с трудом привыкшего к мысли, что вся моя подноготная стала открытой книгой для всех окружающих. Когда я выяснил, что исчерпывающее знание моих мыслей и мотивов служит гарантией, что обо мне будут судить по справедливости и с такой симпатией, на которую я сам бы не смел претендовать, это произвело на меня глубокое впечатление и подействовало на тонкие движения моей души.
Для каждого из нас, привыкших к миру, в котором даже любовь не является каким-либо залогом взаимопонимания, показалось бы неоценимой привилегией быть уверенным в справедливой оценке себя со стороны других. И все же я вскоре обнаружил, что открытость душ несет с собой даже еще более весомые плюсы. Как смогу я описать восхитительную прелесть морального здоровья и чистоты и живительную нравственную атмосферу, которая возникает из осознания, что мне абсолютно нечего скрывать! Я чувствовал себя как в раю.
Я совершенно уверен, что нет никакой необходимости кому-либо пережить мое чудесное приключение, чтобы убедиться в справедливости сказанного. Разве все мы не готовы согласиться, что, скрытые от взоров наших близких, тревожимые только смутным опасением, как бы рок действительно не покарал нас свыше, мы живем словно в занавешенном помещении, в котором мы можем опуститься до низостей и пресмыкательств. И разве среди всех условий человеческого существования эта постыдная скрытность не является самым деморализующим моментом? Именно существование в глубине души этого потайного убежища лжи всегда было предметом отчаяния для святых и утешением для негодяев. Убежище это напоминает смрадный погреб с воздвигнутым над ним зданием, которое внешне может выглядеть вполне благообразным.
По-видимому, для непредубежденного сознания нет более убедительного свидетельства, что скрытность развратна, а открытость — наше единственное спасение, чем старое как мир убеждение в целительности исповеди для души. Разве рассказать кому-то о самом плохом и гнусном в своей душе не первый шаг к моральному здоровью? Самого испорченного человека, если он хотя бы иногда в состоянии мучиться от стыда за содеянные злодеяния и терзать свою душу так, что можно вполне верить в его полное раскаяние, в принципе можно было бы считать готовым для новой жизни.
Тем не менее, принимая во внимание удручающее бессилие слов при выражении состояния души в ее цельности, а также неизбежные искажения, которые вносят слова при передаче мыслей от одного человека к другому, мы должны признать, что исповедь является не чем иным, как издевательством над стремлением к самооткровению, ради которого она и произносится. Но подумайте, каким невысоким нравственны: здоровьем и чистотой характеризуются души людей, которые видят, что все, с кем они общаются, стараются быть себе на уме, которые исповедуют друг друга мимоходом, а отпускают грехи с улыбкой!
Ах, друзья, позвольте мне сделать один прогноз, хотя могут пройти века, прежде чем неторопливое течение событий подтвердит мои слова. Прогноз этот гласит — никоим образом нельзя будет научиться читать мысли друг у друга и тем самым установить среди человечества состояние истинного блаженства до тех пор, пока люди не усовершенствуются настолько, что сорвут с себя пелену своего «я» и не оставят в своей душе ни одного потайного уголка, в котором могла бы скрываться ложь. Тогда душа перестанет быть угольком, дымящимся среди пепла, но станет звездой, сверкающей на хрустальном небосводе.
Я уже говорил, что непосредственный обмен мыслями породил непередаваемую прелесть дружеского общения среди ясновидцев. Легко представить, какими упоительными радостями награждало такое общение, когда другом была женщина, а интимное влечение и взаимный интерес полов сплетались с вдохновением интеллектуальной симпатии. При первых же своих выходах в люди я, к своему чрезвычайному изумлению, начал влюбляться в женщин направо и налево. С полной откровенностью, которая свойственна всякому общению среди островитян, эти очаровательнейшие женщины говорили мне, что мои чувства — всего лишь проявление дружбы, которая, конечно, очень хорошая вещь, но все же совершенно далека от любви, в чем я сам могу убедиться, если полюблю по-настоящему.
Трудно было поверить, что нежные эмоции, которые я испытывал в их компании, порождались только дружеским и участливым расположением их душ ко мне. Однако, когда я обнаружил, что каждая прелестная женщина, встречающаяся на моем пути, вызывает у меня приблизительно одни и те же чувства, мне пришлось признать правоту их слов. Я понял, что должен приспособиться к миру, в котором дружба граничила со страстью, а любовь переходила в экстаз.
Известную поговорку «Каждому свое» можно, как я думаю, истолковать в том смысле, что для каждого мужчины предназначена определенная женщина, которая наилучшим образом подходит ему по умственным и моральным, а также физическим качествам. Больно подумать, что двое предназначенных друг для друга людей по воле случая могут так и не встретиться. И нет ничего веселого в том, что случай может помешать этим избранным двум признать друг друга, даже если они встретятся. Ведь несовершенная и вводящая в заблуждение речь не всегда способна раскрыть душу.
Но среди ясновидцев поиск идеального партнера всегда проводится с уверенностью в конечном успехе, и никто не мечтает о супружестве до тех пор, пока для него не подходит время. Поступая таким образом, островитяне полагают, что было бы неразумным тратить попусту драгоценнейшее благо жизни, и никто не обманывает себя и своих партнеров, но каждый ищет подходящую себе пару для того, чтобы сочетаться с ней браком. И вот пылкие пилигримы странствуют от острова к острову, пока они не найдут свою пару, и, поскольку население острова довольно малочисленно, поиск редко бывает долгим.
Когда я встретил ее впервые, мы были в компании, и меня поразило внезапное смятение среди присутствующих ясновидцев. Все они обернулись к нам и обратили на нас заинтересованные и взволнованные взгляды, причем у женщин повлажнели глаза. Они прочли ее мысли, когда она увидела меня, но я не мог заглянуть в ее душу и только позднее узнал, как должен был себя вести в таких обстоятельствах. Но, как только она впервые остановила свои глаза на мне и я почувствовал, как ее душа погрузилась в мою, я сразу же понял, насколько правы были другие женщины, когда говорили мне, что чувства, которые они во мне вызывали, еще не были любовью.
Среди этих людей, которые знакомятся сразу же, а старыми друзьями становятся через час, ухаживание, естественно, не занимает много времени. В самом деле, можно сказать, что среди влюбленных ясновидцев неизвестно ухаживание, для них достаточно просто узнать друг друга. Через день после того, как мы встретились, она стала моей.
Через несколько месяцев после нашей встречи произошел инцидент, о котором я упоминаю только потому, что он, возможно, лучше всего иллюстрирует второстепенное значение, которое ясновидцы придают чисто физическим или внешним качествам при оценке своих друзей. Совершенно случайно я обнаружил, что моя возлюбленная, в обществе которой я находился почти постоянно, почти совершенно не имеет представления ни о цвете моих глаз, ни о цвете моих волос и лица. Конечно, как только я задал ей вопрос насчет того, светлый я или темный, она прочла ответ в моем уме, но она призналась, что раньше не обращала особого внимания на мои внешние приметы. С другой стороны, в какую бы самую темную полночь я ни пришел к ней, ей не было нужды спрашивать, кто это. Эти люди узнавали друг друга умом, а не глазами. Фактически им вообще нужны были глаза лишь тогда, когда они имели дело с мертвыми, неодушевленными вещами.
Не следует предполагать, что их безразличие к телесной оболочке друг друга проистекало из каких-либо аскетических соображений. Нет, оно являлось только неизбежным следствием их способности непосредственно воспринимать мысли. Поскольку же разум тесно связан с материей, а главный интерес для островитян представлял именно разум, то неудивительно, что материальное часто оказывалось в тени. Материальное всегда выглядело несравненно примитивнее, когда непосредственно сопоставлялось с разумом. Искусство относилось ими к сфере неодушевленного, а формы человеческого тела по упомянутым причинам не могли вдохновить художников.
Нетрудно сделать естественный и вполне напрашивающийся вывод, что среди такого народа в отличие от всех других физическая красота не служила важным фактором в человеческой судьбе и удаче. Благодаря абсолютной открытости их умов и сердец друг для друга их счастье значительно больше зависело от моральных и умственных качеств, чем от физических. Гениальный характер, всеобъемлющий богоподобный интеллект и поэтичность души ценились ими несравненно больше, чем самое великолепное сочетание чисто телесных достоинств.
Для умных и сердечных женщин больше не нужна была красота, чтобы найти себе любовь на этих островах, достаточно было красоты ума и сердца. По-видимому, я должен здесь упомянуть, что этот народ, который придавал столь мало значения физической красоте, сам отличался чрезвычайной внешней привлекательностью. Вне всякого сомнения, причиной тому частично послужила абсолютная совместимость характеров во всех супружеских парах, а частично также то воздействие, которое оказывало на тело состояние идеального умственного и морального здоровья и безмятежности.
Сам я не был ясновидцем, и тот факт, что моя возлюбленная выделялась редкой красотой фигуры и лица, несомненно, сыграл немалую роль в моей сильной привязанности к ней. Она, разумеется, знала об этом, так же как она знала все мои мысли, и знала пределы моих возможностей, терпимые и простительные элементы чувственности в моей страсти. Но если мои слабости должны были казаться ей столь малозначительными по сравнению с высшим духовным общением, известным ее расе как любовь, то что говорить обо мне. Ни один любовник моей расы никогда раньше не вкушал таких восторгов, как я. Я приходил в экстаз, осознавая, что она знает меня всего и снисходит до меня словно сверхчеловеческое, неземное и всевидящее существо.
Тлен в сердце самой пылкой любви создается бессилием слов, пытающихся выразить невыразимое. Но в моей страсти не присутствовало этого отравленного жала, ибо мое сердце было абсолютно открыто для той, которую я любил. Любящие могут представить, а я не в состоянии описать тот эстетический трепет общения, в который подобное осознание преобразовывало каждую нежную эмоцию.
Когда я задумался, какова же должна быть взаимная любовь между двумя ясновидцами, я догадался о высшей форме общения, которой моя милая возлюбленная пожертвовала ради меня. Она, конечно, могла понимать своего любимого и его любовь к ней, но все же более полное удовлетворение ей доставило бы сознание, что ее любимый тоже понимает ее и ее любовь. Ради этого мне хотелось бы и самому научиться читать мысли, но мне пришлось смириться с тем, что такая способность никогда ни у кого не вырабатывалась раньше на протяжении столь короткого промежутка времени, как человеческая жизнь.
Я, долго не мог полностью понять, почему эта моя неспособность к ясновидению вызвала у моей дорогой возлюбленной такой прилив жалости ко мне. Как в конце концов до меня дошло, чтение мыслей ценится главным образом не из-за того, что владение этой способностью позволяет ее обладателю познавать других, но из-за возможностей углубить свое самопознание, которое представляет собой познание через свои собственные отражения. Из всего, что они видят в умах других, больше всего интересуют их отражения самих себя, фотографии их собственных характеров. Наиболее очевидным следствием самопознания, получаемого ими таким образом, служит их полная неспособность ни к самопереоценке, ни к самоуничижению. Каждый всегда вынужден оценивать себя объективно и не может поступать иначе. В этом смысле ясновидец похож на человека перед зеркалом, который не должен строить иллюзий относительно своего внешнего вида.
Но самопознание означает для ясновидцев значительно больше, чем только это. Речь идет не о чем ином, как об изменении смысла тождества личности. Когда человек видит себя в зеркале, он может различать между телесным «я», которое он видит, и своим реальным «я», умственным и моральным, которое находится внутри него и невидимо. В свою очередь, когда ясновидец начинает углубляться в свое умственное и моральное «я», отражающееся в других умах как в зеркалах, происходит такая же вещь. Он вынужден различать между этим умственным и моральным «я», которое видится им объективно, и субъективным, невидимым и неопределенным внутренним «эго». В этом внутреннем «эго» ясновидец усматривает корни тождества личности и ядро души, а также истинный тайник своей вечной жизни, с точки зрения которой как ум, так и тело представляют лишь преходящие оболочки.
Сказочное чувство превосходства над превратностями этой земной жизни и нерушимая безмятежность среди удач и неудач, из которых складывается удел личности, должны были, очевидно, считаться естественными с точки зрения подобной философии. Конечно, для ясновидцев это была не столько философия, сколько само собой разумеющееся отношение к миру. Они воистину казались мне хозяевами своей жизни, господами самих себя, ибо никогда раньше я и не мечтал увидеть людей, которые могли бы достичь такой власти над собой.
И моя возлюбленная не могла не проникнуться жалостью ко мне, ибо мне никогда не суждено было достичь подобного освобождения от фальшивой кажимости моего «я». Для островитян же жизнь была бы не жизнью без такой свободы от пут лжи.
Но, не упомянув о тысяче других вещей, я поспешу перейти к рассказу о печальной катастрофе, в результате которой эти благословенные острова оказались потерянными для меня. И, вместо того чтобы наслаждаться полнейшим счастьем, которое давало интимное и восторженное общение с островитянами, мне остается только вызывать в своей памяти яркую картину, как будто бы имевшую место под другими небесами, настолько она затмевает все блага, доступные в нашем обычном человеческом обществе.
Среди этих людей, которым то и дело приходилось ставить себя на место других просто в силу особого устройства своего разума, естественным образом возникала симпатия друг к другу, которая являлась неизбежным следствием идеального взаимопонимания. В атмосфере такой симпатии невозможны были ни зависть, ни ненависть, ни жестокость. Разумеется, среди островитян встречались люди, не столь одаренные по сравнению с другими, и некоторые ясновидцы, увы, волей-неволей относились к ним без большого энтузиазма. Учитывая же беспрепятственное проникновение разумов друг в друга, можно себе представить, как страдали от подобной дискриминации обиженные природой лица, несмотря на самое заботливое отношение к ним со стороны всего общества. Они так остро переживали свою неполноценность, что мечтали о благе изгнания. Они надеялись, что если удалятся с глаз, то люди будут реже думать о них.
К северу от архипелага рассыпались многочисленные маленькие островки размером часто чуть больше скалы, и на них-то и стремились поселиться горемыки. На каждом островке жило только по одному человеку, потому что они не могли с такой же натянутостью относиться друг к другу, с какой их более счастливые собратья могли относиться к ним. Время от времени им доставлялись запасы пищи, и, конечно, в любой момент, как только они этого захотели бы, им никто не препятствовал вернуться в общество.
Как я уже говорил, острова ясновидцев не только лежали вдали от морских дорог, но к ним было также очень трудно приблизиться из-за мощного антарктического течения, обтекающего архипелаг. Неистовство этого течения вызывалось, вероятно, какой-то особой конфигурацией океанского дна, а также бесчисленными скалами и рифами.
Корабли, приближающиеся к островам с юга, подхватывались этим течением и попадали в прибрежные воды, усеянные скалами, о которые и разбивались в конце концов, тогда как с севера к островам вообще невозможно было подойти из-за стремительности течения. Таким образом, на архипелаг почти не было шансов попасть ни с какого направления, или по крайней мере раньше этого никому не удавалось. Действительно, течение отличалось такой силой, что даже лодки с запасами пищи пересекали узкие проливы, разделявшие большие острова и островки добровольных изгнанников, следуя вдоль натянутых канатов наподобие паромов и не доверяясь ни веслу, ни парусу.
Брату моей возлюбленной принадлежала одна из лодок, совершавших такие рейсы, и, испытывая желание посетить близлежащие островки, я принял однажды приглашение сопровождать его в одной из поездок. Я не знаю, как это произошло, но в одном из проливов стремнина течения сорвала лодку с каната и унесла нас в открытое море. Нечего было и думать о борьбе с быстриной, и мы изо всех сил стремились только избежать крушения на подводных рифах. С самого же начала было ясно, что у нас нет никакой надежды вернуться на удалявшиеся за бортом острова, ибо течение уносило нас от них так быстро, что к полудню — а несчастье произошло утром — низколежащие берега их скрылись за юго-восточной кромкой горизонта.
Для островитян расстояние не служит непреодолимым препятствием при передаче мыслей. Мой товарищ по несчастью поддерживал контакт с нашими друзьями и время от времени сообщал мне вести отчаяния от моей дорогой возлюбленной. Ибо, хорошо зная об особенностях течения и труднодоступности островов, все мы — и те, кого мы потеряли, и мы сами — хорошо понимали, что не сможем больше увидеть лиц друг друга.
Пять дней течение продолжало относить нас к северо-западу. Голодная смерть нам пока не грозила благодаря запасам продовольствия в лодке, но наши силы иссякали в непрерывных вахтах и в попытках отразить натиск непогоды. На пятый день мой сотоварищ скончался, не выдержав того, что его бросили на произвол судьбы и изнемогши от бесплодности усилий. Он умер очень спокойно — с выражением великого облегчения на лице. Жизнь ясновидцев, пока они ходят по этой земле, столь насыщена духовностью, что идея вечности существования, которая кажется нам темной и отвлеченной, для них соответствует состоянию, лишь слегка отличающемуся от их привычного образа жизни здесь, под этим небом.
Увидев, что мой спутник скончался, я сам, по-видимому, потерял сознание, а когда пришел в себя, то обнаружил, что нахожусь на борту американского судна, следующего в Нью-Йорк. Меня окружили люди, которые могли общаться друг с другом лишь на близком расстоянии, посредством непрерывного испускания шипящих, гортанных и взрывных звуков, дополняющихся к тому же самыми разнообразными жестами и мимикой. Когда кто-нибудь из них обращался ко мне, то их несуразный вид, особенно широко разевающийся рот, до такой степени поражал меня, что пропадало всякое желание отвечать им.
Я понял, что дни мои сочтены, и на меня сошло спокойствие. По опыту своего общения с людьми на корабле я мог судить, каково мне пришлось бы в Нью-Йорке, в этом оглушающем Вавилоне говорящих. А мои тамошние друзья — да сохрани их господь! — как одиноко я чувствовал бы себя в их обществе! Нет, никакого удовлетворения и утешения и ничего, кроме горькой пародии, не смог бы я найти в той обычной человеческой симпатии и товариществе, которые удовлетворяют других и когда-то удовлетворяли меня — меня, который теперь увидел и узнал то, о чем я попытался рассказать вам! Ах, несомненно, было бы значительно лучше, если бы я умер!
И все же, как мне думается, увиденное и познанное мной на далеких островах не следует уносить с собой в могилу. Людям, бредущим в гору по тернистой дороге, надо иметь надежду, и поэтому они не должны терять из виду благословенную вершину, купающуюся в лучах солнца. Вдохновляясь такими мыслями, я записал этот скромный отчет о моем чудесном приключении, хотя он из-за моей слабости вышел не таким обстоятельным, как того требует важность описываемого предмета.
Капитан производит впечатление честного и добропорядочного человека, и я доверяю ему свой рассказ, наказав, чтобы по прибытии в Нью-Йорк он в целости и сохранности передал рукопись в руки тех, кто сможет довести ее до всеобщего сведения.
Примечание: степень моей собственной связи с вышеприведенным документом достаточно указана самим автором в последней фразе. —
Э. Б.
МАРК ТВЕН
Беспокойному духу классика американской литературы Марка Твена (1835–1910 гг.) было тесно в рамках пространства и времени, хотелось взглянуть на американскую жизнь с необычной точки зрения. Поэтому писатель отправляет своего героя то вниз по Миссисипи, то ко двору короля Артура, то превращает его в таинственного незнакомца, напоминающего людям о неисчерпаемости и непознанности этого мира.
Марк Твен жадно интересовался естественными науками, ощущал тайну живого, верил в телепатию и переселение душ. В статье «Мысленная телеграфия» (1891 г.) он называл только что появившиеся телеграф и телефон «слишком медленными» и мечтал о мгновенной передаче мыслей. Он ставил вопрос: нельзя ли во сне совершить реальное путешествие в другое время и другое измерение, и чем вообще мир сновидений отличается от мира бодрствующего? Исследователи связывают с ответом на этот вопрос два крупнейших научно-фантастических произведения писателя: «Янки при дворе короля Артура» (1889 г.) и неоконченный, но многообещающий роман «Великая тьма».
В обоих романах описывается переход из состояния яви в иное, не менее реальное состояние бытия, происходит расщепление реальности и сталкиваются два ее пласта. Так научно-фантастическими средствами исследуется серьезная мировоззренческая проблема единства мира и тождества личности.
Научная фантастика Марка Твена отличается реалистичностью повествования и, конечно, оригинальным саркастическим юмором. В «Комедии этих удивительных близнецов» (1894 г.) исследуется естественная расщепленность мира сиамских близнецов, в «Выдержках из отчета капитана Стормфилда о визите в рай» (1909 г.) разрабатывается идея о физической природе «рая», укрывшегося в другом пространственно-временном измерении, и т. д. Все же научно-фантастическое и социально-утопическое в произведениях Марка Твена всегда органично сочетается со здравым практицизмом, привязано к реалиям повседневности. Например, в социально-фантастическом наброске «Странная республика Гондор» (1875 г.) изображено общество, в котором более образованный и заслуженный человек может иметь на выборах не один голос, а несколько, и в этой своеобразной меритократии нетрудно усмотреть всего-навсего утопическую модификацию американской избирательной системы.
Рассказ «На школьном холме» (1881) типичен для научной фантастики Марка Твена. Здесь мир тоже расщеплен на различные пространственно-временные слои, и обитатели иных измерений могут вторгаться в нашу будничную жизнь. Экспериментально-фантастический прием «пришелец», столь знакомый по современным произведениям американских фантастов, позволяет в неожиданном ракурсе взглянуть и на американский быт, и на хорошо нам знакомых Гека Финна и Тома Сойера. Излюбленный писателем «параллельный» пласт реальности, способный, однако, пересекаться с привычным миром, придает новое измерение как героям Марка Твена, так и его восприятию окружающего.
НА ШКОЛЬНОМ ХОЛМЕ
I
Это случилось ни мало ни много как пятьдесят лет назад. Однажды студеным зимним утром группа мальчиков и девочек из деревни Питтсбург медленно поднималась в гору по длинному голому склону холма, на вершине которого находилась школа. Свирепый и к тому же еще холодный ветер обрушивался на ребят то с одной, то с другой стороны, мешая идти, а скованная льдом и занесенная снегом земля явно не могла служить надежной опорой. То там, то сям какой-нибудь мальчик, который почти добрался до вершины и, считая, что он вне опасности, начинал вышагивать чрезмерно уверенной поступью, вдруг оступался и, опрокинувшись на спину, скатывался вниз вслед за своими пустыми санками, отбрасывая прочь с дороги взбирающихся в гору школьников, которые весело хлопали в ладоши, когда он проносился мимо. Еще мгновение, и он оказывался внизу под горой, чтобы вновь начать восхождение. Но все это было забавой и развлечением для мальчика, развлечением для зрителей и забавой для всех вокруг, потому что ребятишки и девчонки — народ беспечный и не горюет, даже когда с ним случается беда.
Сид Сойер, хороший мальчик, примерный мальчик, осмотрительный мальчик, ни разу не поскользнулся и не упал. Санок он с собой не возил, дорогу выбирал с большой осторожностью и потому прибыл в школу без приключений. Том Сойер, хотя и тащил с собой санки, также добрался до школы без приключений потому, что рядом с ним был всегда готовый помочь Гек Финн, который в те дни в школе еще не учился, а приходил просто так, чтобы побыть дольше со своим другом. Генри Баском также добрался благополучно. Этот подлый мальчишка — сын богача работорговца — очень кичился своей одеждой и дома имел маленькую бойню со всеми необходимыми к ней приспособлениями и орудиями, настоящую бойню в миниатюре, в которой он забивал щенков и котят точно так, как забивают скот в «Пойнте». В классе он был вожаком на этот год, поэтому слабые и робкие боялись его и льстили ему, и никто не любил. Он добрался до школы без приключений потому, что его слуга, чернокожий раб Джейк, помогал ему взбираться на гору и тащил за ним его санки — не какие-нибудь самоделки, а купленные в магазине, отполированные и выкрашенные, с обитыми железом полозьями. В Питтсбурге это были единственные фабричные санки. Их привезли из города Сент-Луи.
Наконец собрались все ученики, раскрасневшиеся, запыхавшиеся и продрогшие, несмотря на свои вязаные шарфы и теплые варежки и рукавицы. Девчонки зашли в школу, а мальчишки столпились на улице с подветренной стороны. И вот тут ребята заметили, что среди них появился новичок — событие чрезвычайно интересное потому, что в деревне новый человек — явление даже более редкое, чем новая комета на небе. На вид незнакомцу было лет пятнадцать. Одет он был с иголочки, скромно, но изящно и с большим вкусом. Лицо у него было радушное и привлекательное, и весь он был исключительно красив, красив до невероятия! Его прекрасные глаза были глубокие и мягкие; во всем его облике чувствовалась сдержанность и благородство, доброта и обаяние. Большинство мальчиков с приятным для себя удивлением сразу же признали в нем что-то знакомое — они уже встречались с нечто подобным в книжках о сказочных принцах. С раздражающей деревенской откровенностью они уставились на него, однако незнакомец оставался невозмутимым и казался ничуть не обеспокоен этим. Генри Баском, разглядев его со всех сторон, протолкался вперед и начал вызывающе допрашивать:
— Ты кто такой? Как тебя зовут?
Незнакомец медленно покачал головой, словно говоря, что он не понимает вопроса.
— Ты что, оглох? А ну отвечай!
Вторичное медленное покачивание головой.
— Отвечай, тебе говорят! А то как дам разок по шее!.
Том Сойер вмешался и сказал:
— Постой, Баском, это нечестно. Если ты хочешь подраться с ним и не желаешь подождать до перемены, как требуют правила, то давай по закону… Положи себе на плечо что-нибудь, а он пусть сшибет.
— Хорошо. Я заставлю его драться прямо сейчас, не сходя с места, неважно, хочет он того или нет.
Баском положил на плечо ледышку и сказал:
— А ну попробуй сшиби!
Новичок недоуменно и вопросительно оглядывал мальчиков, и тогда Том выступил вперед и стал объяснять ему знаками. Он тронул мальчика за правое плечо, затем сбил ледышку со своего плеча, положил ее обратно и показал жестом, что именно так мальчик должен сделать. Незнакомец улыбнулся, вытянул руку и коснулся пальцем ледышки. В ту же минуту Баском размахнулся, желая ударить парня по лицу, но, как оказалось, промахнулся и, увлекаемый инерцией, поскользнулся на льду, упал навзничь и покатился вниз под гору под хохот, хлопки и улюлюканье ребят.
Раздался звонок, и мальчишки ринулись в класс, спеша занять свои места. Незнакомец отыскал в стороне пустую скамейку и сразу попал под обстрел десятка удивленных глаз взволнованно перешептывающихся девочек. Начался урок. Арчибальд Фергюсон, старый учитель-шотландец, постучал по столу указкой, потом поднялся на кафедру и, сложив вместе руки, сказал:
— На молитву!
После краткой молитвы и исполнения религиозного гимна началась собственно учеба: класс загудел, занявшись таблицей умножения. Повторив таблицу до умножения «двенадцать на двенадцать», приступили к решению задач по арифметике, для чего раскрыли грифельные доски. Тут ученики получили много замечаний и мало похвал. Потом класс превратился в тараторящих попугаев, которые знали в грамматике все правила, за исключением одного, как эти правила использовать в обычной речи.
— Диктант! — сказал учитель.
Тут его блуждающий взор упал на новичка, и приказ был отменен.
— Хм, новенький ученик? Как тебя зовут, мой мальчик?
Незнакомец поднялся и с вежливым поклоном сказал:
— Пардон, мосье, йе не компренд па.
Фергюсон посмотрел с приятным удивлением на мальчика и сказал по-французски:
— О, француз, очень приятно! Давненько я не слыхал французской речи. Я единственный человек в деревне, который знает этот язык. Добро пожаловать, добро пожаловать! Буду рад возобновить свою разговорную практику. Значит, ты английского не знаешь?
— Ни слова, сэр.
— Придется тебе потрудиться выучить его.
— С удовольствием, сэр.
— Ты собираешься регулярно посещать школу?
— Если позволите, сэр.
— Что же, хорошо. Займись пока что английским языком. В грамматике около тридцати правил, и их нужно выучить назубок.
— Я уже заучил их, сэр: я только не знаю значения отдельных слов.
— Что?! Каким образом? Когда ты успел их выучить?
— Я слышал, как класс повторял вслух правила перед тем, как приступить к диктанту.
Учитель смотрел некоторое время озадаченно на мальчика поверх очков, затем сказал:
— Если ты не знаешь ни одного английского слова, то как ты узнал, что это был урок грамматики?
— Из его сходства с французским… как и само слово «грамматика», сэр.
— Верно. Головка у тебя варит. Ну правила ты быстро заучишь.
— Я и так наизусть их знаю, сэр.
— Не может быть! Ты говоришь чепуху, сам того не понимая.
Мальчик вежливо поклонился и ничего не сказал.
Учитель почувствовал вину за свою грубость и потому сказал мягко:
— Мне, конечно, не следовало так выражаться, извини. Забудь об этом, мой мальчик. Ну-ка повтори мне правила грамматики, как умеешь, не думая об ошибках.
Мальчик начал с первого правила, легко и просто справляясь с поставленной задачей. Одно правило за другим срывались с его губ, пока учитель и класс с затаенным дыханием и разинутыми ртами следили за ним. Кончив, мальчик опять вежливо поклонился и встал в ожидании. Фергюсон молча сидел в своем большом кресле минуту или две, а затем сказал:
— Неужели в самом деле ты не знал этих правил до того, как пришел сюда?
— Да, сэр.
— Клянусь честью, я готов поверить тебе по той правдивости, которая прямо написана на твоем лице. Но нет, не могу никак… Это выше моих сил. Такая память и такой слух… вещи, конечно, невозмо… да ни один человек на свете не обладает такой памятью, как у тебя!
Мальчик опять вежливо наклонил голову и промолчал. Старый педагог вновь устыдился своих слов, потому сказал:
— Я, конечно, не собирался сказать… Я совсем не хотел… хм, ответь мне, пожалуйста… не мог бы ты как-то доказать, ну, например, по другому предмету сделать то же самое… Попробуй, а?
Мальчик невозмутимо и без всякой показной скромности и какого-либо намерения разыграть кого-то начал с арифметики и точно повторил все, что сказали за время урока учитель, ученики, полностью имитируя голос и манеру произношения каждого.
Это было что-то невероятное. Мальчик не упустил ни единого жеста, ни одного слова и взгляда…
…Наконец учитель сказал:
— Это самая удивительная штука, когда-либо виденная мной. На этом свете нет другого такого таланта, как у тебя, малыш. Благодари бога за это и за ту благородную скромность, с которой ты носишь в себе подобный дар. И сколько времени ты можешь удержать в своей памяти все эти вещи?
— Я никогда не забываю ничего из того, что я видел или слышал, сэр.
— Совершенно?!.
— Да, совершенно…
— Невероятно, просто неслыханно… Дай-ка я тебя проэкзаменую слегка, просто ради интереса. Так, возьми вот этот англо-французский словарь и ознакомься с ним, пока я займусь с классом. Мы не помешаем?
— Нет, сэр.
Мальчик взял словарь и начал его бегло листать страницу за страницей. Он явно не задерживал внимания ни на одной строчке, а просто проглядывал глазами всю страницу целиком сверху донизу и переходил к следующей. Занятия в классе как-то переходили с предмета на предмет, но состояли в основном из грубых промахов и ошибок, ибо восхищенные глаза учеников с учителем во главе были прикованы большей частью к новичку. Через двадцать минут мальчик закрыл книгу. Заметив это, Фергюсон сказал с ноткой разочарования в голосе:
— Извини меня, но я вижу, это тебе не интересно!
Мальчик встал и сказал:
— О сэр, наоборот! Вот здесь по-французски, а тут по-английски. Теперь я знаю слова на вашем языке, правда, произношение не очень важное…
— Ты знаешь слова?!. И сколько же слов ты запомнил?
— Все, сэр.
— Но ведь тут шестьсот сорок пять страниц ин-октаво — за такое короткое время ты не мог просмотреть и десятой доли… Две секунды — страница? Это невозможно…
Мальчик, ничего не возражая, стоял, почтительно склонив голову.
— Хм, виноват. Мне следовало бы научиться у тебя вежливости. Так, дай-ка сюда книгу. Начнем. Повторяй наизусть!
И новое чудо. Из уст мальчика словно водопад хлынули слова, их толкование, сопровождающие для примера фразы и предложения, знаки, показывающие части речи, в общем, все. Новичок, ничего не пропуская, повторил все подробно и даже дал сравнительно правильное произношение, так, как оно было дано в словаре.
Преподаватель и ученики сидели молча и неподвижно, охваченные благоговейным страхом и восхищением, не замечая, ничего, кроме прекрасного незнакомца и удивительного аттракциона.
Спустя много времени исполнитель прервал свое выступление…
…В наступившем молчании раздался голос учителя:
— Мальчик, ты чудо!. Ты единственный человек в Америке, который знает все слова английского языка. Пусть они устоятся все как есть в твоей голове, а синтаксическая конструкция придет сама собой. Теперь возьмись за латынь, потом греческий, математику и стенографию. Вот книги. Даю тебе по тридцать минут на каждый предмет, и на этом твое образование закончится. Но скажи мне, пожалуйста, как ты ухитряешься это проделать? Каков твой метод, хотел бы я знать? В строчки ты не вчитываешься, ты лишь проглатываешь глазами страницы, словно стираешь с классной доски колонки цифр. Тебе понятно, что я сказал по-английски?
— Да, учитель… Понятно… Никакого особого метода у меня нет. Я хочу сказать, у меня нет какого-то секрета. Я враз охватываю взором все, что написано на странице… вот и все.
— Но ты видишь ее всю с первого взгляда?
— Да. Точно так, как я вижу с одного взгляда весь класс. Если я после этого могу различить по отдельности каждого и сказать, в чем он одет, какое у него выражение лица, цвет глаз и волос, какой длины нос, завязаны или нет шнурки на его ботинках, то зачем мне смотреть второй раз?
При этих словах сидевшая в противоположном углу класса Маргарет Стовер быстро убрала под стол ноги с расшнурованными туфлями.
— Да, мне не приходилось еще видеть человека, который мог бы так вот, лишь раз окинув взглядом обстановку, запечатлеть в своей памяти тысячи различных подробностей. Возможно, глаза такого удивительного существа, как стрекоза, и могли бы это сделать, но там другое дело — у нее их двенадцать тысяч, так что улов, добываемый таким множеством глаз, вещь, не выходящая за пределы разума и понимания. Что же, берись за латынь, малыш, — сказал учитель, а потом со вздохом добавил:
— Нам же с нашими жалкими способностями придется и дальше сидеть и корпеть над учебниками.
Мальчик взял книгу и стал ее перелистывать так, словно просто решил пересчитать количество страниц. Весь класс со скрытым злорадством поглядывал на Генри Баскома и втайне торжествовал, видя, как тот раздосадован. Ведь до сих пор он был единственным в школе учеником, знавшим латинский язык, и очень чванился этим, причиняя множество огорчений своим товарищам.
Класс все время гудел и волновался, направив большую часть своего внимания и помыслов не на занятия, а на разгоревшуюся зависть к новичку.
Прошло полчаса, и класс увидел, как мальчик отложил в сторону учебник латинского языка и взялся за греческий; ученики ехидно посмотрели на Генри Баскома, и удовлетворенный шепот прошелся по рядам. Греческий, математика были одолены в свой черед, затем дело дошло до «Нового метода стенографии, по названию фонография». Но стенография недолго жила — одна минута и двадцать секунд было затрачено на ее изучение, после чего незнакомец перешел к другим предметам. Заметив это, учитель сказал:
— Что так быстро покончено со стенографией?
— Так она основана всего лишь на нескольких простых и кратких правилах, сэр. Применять их легко и просто — как правила в математике. Кроме того, тут вставлена масса примеров — приведено бесчисленное множество сочетаний английских слов, из которых гласные исключены. Система эта просто изумительная по своей простоте, точности и ясности. Она позволяет записывать и по-гречески и на латыни, давая сочетания слов с исключенными гласными, которые, несмотря на последнее обстоятельство, остаются понятными.
— Хм, твой английский улучшается прямо на глазах, мой мальчик.
— Да, сэр. Ведь я прочел все эти книги, и они помогли мне отточить языковые формы — те изложницы, в которых он отлит.
— Я уже не могу больше ничему удивляться. Мне кажется, нет чуда, который такой разум не мог бы совершить. Подойди к доске, я хочу посмотреть, как будет выглядеть греческий язык при фонографической записи сочетаний слов с исключенными гласными. Я продиктую несколько отрывков, а ты записывай.
Мальчик взял мел, и экзамен начался. Учитель диктовал вначале медленно, потом быстрее и быстрее и наконец с такой быстротой, с какой только он мог. Мальчик записывал за ним без всякого затруднения. Затем учитель перешел на латинские фразы, английские, французские — мальчик и тут отлично справился с заданием.
— Поразительно, дитя мое… Ошеломляюще поразительно! Еще одно чудо, и я сдаюсь. Вот страница, вся заполненная колонками цифр. Сложи их вместе. Я видел, как это проделал за три с половиной минуты один известный аттракционист-фокусник. Итоговая сумма мне известна. Итак, засекаю время! Ну-ка побей его рекорд!
Новичок взглянул на листок, вежливо поклонился и сказал:
— Четыре миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто шесть, если, конечно, неясная двадцать третья цифра в пятой строке сверху — девятка, а не семерка. Тогда итог будет на два меньше.
— Правильно, рекорд побит. Но ведь у тебя не было даже времени разглядеть замазанную цифру, не то чтоб заметить, на каком месте она находится? Подожди-ка, я отыщу ее. Так говоришь, двадцать третья в пятой строке сверху? Ага, вот она. В самом деле не ясно, то ли это семь, то ли девять. Но неважно, ответ все равно правилен.
О-о, неужто мои часы врут? Время-то далеко за полдень, а мы и про обед забыли. Такого еще ни разу не случалось за тридцать лет моей работы в школе. Воистину сегодня день чудес. Ну, дети, можете разойтись по домам. Так как же тебя зовут, мой маленький чародей?
Все школьники, снедаемые любопытством, столпились перед новичком и жадно пожирали его завистливым взглядом. Все, кроме Баскома, который оставался стоять в стороне, сердито надутый.
— Кварант-квотре, сэр. Сорок четвертый.
— Как-как? Ведь это же только номер, а не имя.
Незнакомец вежливо поклонился. Учитель замял вопрос.
— Когда же ты прибыл в наши края?
— Вчера вечером, сэр.
— У тебя тут родные и близкие?
— Нет, сэр, никого.
— Где же ты остановился?
— Меня приютил в своем доме мистер Хотчкинс.
— Ну ты увидишь, это прекрасные люди, добрые и отзывчивые. Тебя кто-нибудь представил им?
— Нет, сэр.
— Ты понимаешь, я любопытен. Мы все тут очень любопытны, в этой маленькой скучной деревне. Но наше любопытство безвредно. Каким образом тебе удалось объяснить им, что ты хочешь?
— С помощью знаков и благодаря их доброте и состраданию. На дворе было холодно, а я странник.
— Верно, верно, хорошо сказано, без лишних слов. Это точно характеризует Хотчкинсов, тут вся их жизнь. Значит, ты вошел… и каким образом?…
Сорок четвертый вежливо склонил голову.
Учитель сказал дружелюбно:
— Еще раз виноват. Забудь об этом, прошу тебя. Я очень рад, что ты приехал сюда, и признателен тебе за это…
— Благодарю вас, сэр.
— Мой служебный долг требовал, чтобы я поговорил с тобой прежде, чем ты уйдешь из школы, потому-то я и расспрашивал тебя. Прими это как извинения. Адью!
— Прощайте, учитель!
Класс опустел, а старый Фергюсон продолжал расхаживать между парт с чувством собственного достоинства, приличествующим его служебному положению.
II
Оживленно тараторя, девочки быстро разошлись, чтобы быстрее попасть домой и рассказать о всех тех чудесах, свидетелями которых они были; тогда как мальчики, выйдя на улицу, столпились возле школы и ждали, молча и нетерпеливо. Они почти не обращали внимания на резкий холод и были, по-видимому, увлечены более важным делом. Генри Баском стоял в стороне от других, неподалеку от крыльца. Новичок все еще оставался в школе, остановленный Томом Сойером, который решил предупредить его о грозящей опасности.
— Берегись его… видишь, он тебя ждет. Наш вожак — я говорю о Генри Баскоме. Смотри, он парень коварный и подлый.
— Ждет меня?!
— Да, тебя.
— Зачем?
— Чтобы избить.
— Чего ради?
— Да просто так. Он у нас в классе вожак на этот год, а ты новенький.
— Значит, это такой обычай?
— Да. Он должен побить тебя, хочет он того или нет, если желает остаться вожаком. Правда, ему и самому хочется поколотить тебя. Уж очень ты ему досадил с этой латынью.
…Том с новичком вышли на улицу. Когда они проходили мимо Баскома, тот внезапно выставил ногу, чтобы свалить подножкой Сорок четвертого. Однако нога Баскома ничуть не помешала мальчику и не прервала его шагов. И тогда по неизбежности Баском сам упал. Он трахнулся так сильно, что все рассмеялись исподтишка. Баском поднялся, весь кипя от злости, и закричал:
— Давай снимай пальто… Пусть все узнают… Тебе придется драться со мной или наесться земли. Одно из двух. Эй, шире круг! Давай!
— А можно пальто оставить не снимая? Как по правилам?
— Нет, — сказал Том. — Оно тебе только мешать будет. Так что стаскивай…
— Не снимай, ты, кукла восковая, если не хочешь, — заявил Баском. — Все равно это тебе не поможет. Время!
Сорок четвертый, подняв кулаки, занял оборонительную позицию и стоял так, не двигаясь, в то время как гибкий и верткий Баском кружил, пританцовывая, около него, то подступая к нему, то отступая: взад-вперед, взад-вперед.
Том с ребятами то и дело предостерегающе кричали Сорок четвертому:
— Эй, берегись! Берегись!.
В конце концов новичок на какое-то время ослабил внимание, и в ту же секунду Генри подскочил к нему и изо всей силы ударил драйвом. Однако незнакомец лишь чуть отстранился от удара, и Баском, увлекаемый силой размаха, поскользнулся на льду и свалился на землю. Он встал тут же, прихрамывая и еще более разъяренный, и опять начал приплясывать вокруг противника. Вскоре он снова атаковал Сорок четвертого, но удар пришелся в пустое место, и он опять свалился. После этого он стал внимательнее и больше не прыгал, а лишь осторожно переступал ногами по скользкой земле. Дрался он усердно, с чувством и толком, нанося град ударов, однако ни один из них не достиг цели: часть Сорок четвертый отвел ловкими финтами головой, другую тонко парировал. Баском запыхался от своих неистовых движений, тогда как его противник оставался совершенно бодрым и свежим, ибо он почти не сходил с места, не нанес ни одного удара и потому никакой усталости не испытывал. Генри остановился, чтобы перевести дыхание и отдохнуть, а новичок сказал:
— Я думаю, достаточно. Давай-ка оставим это дело. Ничего хорошего оно не даст.
Ребята вокруг протестующе зашумели. Здесь сейчас происходили перевыборы вожака класса, так что они были лично заинтересованы в исходе борьбы; они надеялись, и их надежды уже успели принять реальную окраску.
Генри ответил:
— Ты, мисс Нэнси, стой, где стоишь. Ты не уйдешь отсюда, пока не выясним, за кем будет пояс главаря.
— Так ведь и так уже все ясно. Какой толк продолжать дальше? Ты меня не побил, а у меня никакого желания тебя бить нет.
— У него нет желания! Ишь какой добрый выискался! Побереги свою доброту, пока тебя не попросят. Время!
Теперь новичок сам стал наносить удары, и с каждым разом Генри валился на землю. Пять раз. Зрителей охватило неистовство. Они поняли, что их тирану и мучителю приходит конец, а взамен они получат защитника. От радости они забыли свой страх и начали кричать:
— Сорок четвертый, дай ему! Вздрючь его как следует! Так, вали его! Еще раз! Дай ему хорошенько!
Баском был парень отчаянный. Он падал снова и снова, но каждый раз вновь поднимался и опять бросался на врага, не прекращая драки до тех пор, пока не иссякли силы. Только тогда он сказал:
— Пояс твой! Но я, погоди, еще разделаюсь с тобой. Не я буду, если этого не сделаю!.
Он оглядел толпу ребят, перечислил по имени восьмерых, включая и Гека Финна, и заявил:
— Ну а вы все у меня на примете, поняли? Я слышал, как вы тут орали. Я вам покажу завтра, где раки зимуют. Будете у меня ходить с фонарями.
В глазах новичка впервые блеснула, как молния, вспышка гнева. То была только вспышка, которая мгновенно исчезла, затем он бесстрастно сказал:
— Я не позволю это.
— Ты не позволишь?! Да кто тебя спрашивать будет? Кого интересует, что ты позволишь, а что нет! Чтобы доказать это, я начну расправу прямо сейчас.
— Я сказал, не позволю. И ты не дури. Учти, я тебя пожалел. Я только лишь слегка побил тебя, но, если ты тронешь хоть пальцем кого-нибудь здесь, я тебя так отделаю, что своих не узнаешь.
Но Генри не мог сдержать злости. Он подскочил к первому попавшемуся мальчику из черного списка, но не успел поднять руку, как был сбит с ног звонкой пощечиной незнакомца и остался лежать неподвижно там, где упал.
— Стой!!! Эй!!!
Эти крики издавал проезжавший мимо отец Генри, работорговец, человек неприятный и злой, которого все боялись за силу и крутой нрав. Он выскочил из саней с кнутом в руке, поднятым для удара. Мальчики расступились, и он, добежав до незнакомца, свирепо опустил кнут ему на голову, крича:
— Я покажу тебе!
Мальчик ловко увернулся и схватил торговца правой рукой за кисть. Послышался треск ломаемых костей, стон… и отец Баскома заковылял прочь со словами:
— О боже! Мне руку сломали…
Тут из саней появилась мамаша Генри и, подбежав к поверженному сыну и покалеченному мужу, запричитала над ними, тогда как ребята стояли ни живы ни мертвы, не столь напуганные наигранным горем женщины, сколь зачарованные разыгравшимся перед ними зрелищем, которое захватило их внимание в такой степени, что когда миссис Баском обернулась и потребовала выдачи Сорок четвертого, чтобы примерно наказать его, то только тогда ребята заметили, что тот исчез неизвестно когда и как.
III
Спустя час люди по одному, по двое начали собираться в доме Хотчкинсов якобы с целью нанести дружеский визит, а на деле взглянуть на чудесного мальчика. Принесенные ими новости взволновали хозяев, вызвав у них прилив гордости и радости, что именно у них живет новичок. Радость и гордость Хотчкинса были вполне искренни и понятны потому, что он был человек не завистливый, по натуре своей восторженный, широкой души, бесконечно добрый и обходительный, стоявший по своему уму и развитию на голову выше остальных в деревне. Высокого роста, статный, с выразительными глазами. Если бы не седые волосы, ему можно было бы дать лет на двадцать меньше, чем его настоящий возраст.
…Собравшиеся сидели и ждали мальчика. Энни Флеминг, племянница Хотчкинсов, держа свечку в руке, одним ухом слушала тетю Рашель, рассказывающую о мальчике прямо-таки волшебные сказки, а другим прислушивалась, не стукнет ли щеколда в калитке, потому что она уже отдала свое неискушенное сердце страннику с тех пор, как мельком увидела его лицо накануне вечером. Милая, прелестная и бесхитростная девушка, которой только что исполнилось восемнадцать лет, еще не знала любви и умела только поклоняться, как огнепоклонники поклоняются солнцу, довольствуясь малым и ничего взамен не требуя.
Почему же его так долго нет? Почему он не пришел к обеду? Время тянулось очень медленно, а собравшиеся со всевозрастающим нетерпением ждали прихода незнакомца. Энни встала и куда-то вышла. Близился вечер, и ей с тетей Рашель надо было еще сходить в гости к тете Кэтрин, жившей в доброй миле отсюда. Что делать? Стоит ли еще ждать? Все уже готовы были уйти, так и не повидав мальчика, когда вернулась Энни с написанным на лице разочарованием и болью в сердце, хотя никто не заметил первого, как не подозревал о втором.
— Тетя, — сказала девушка, — он, оказывается, приходил и опять куда-то ушел.
— Значит, так было нужно. Жаль, конечно. Но ты уверена в своих словах? Каким образом ты узнала об этом?
— Он переоделся.
— А что, там есть его одежда?
— Да, но не та, в которой он был одет утром, и не та, что была на нем вчера вечером.
— Миссис Хотчкинс, — обратились к хозяйке собравшиеся гости, — можно нам посмотреть на нее?
— Можно ли? Хм…
— Пожалуйста, разрешите. Мы только взглянем.
Каждому хотелось посмотреть на платье мальчика. Таким образом, выставили дозорных, чтобы вовремя предупредить, если появится мальчик, — Энни встала у парадной двери, тетя Рашель — у черного входа, а остальные двинулись в комнату Сорок четвертого. Там действительно имелось платье мальчика, новенькое и красивое. Пальто лежало на кровати. Миссис Хотчкинс подняла его за рукав, чтобы показать остальным, как вдруг из перевернутых карманов посыпался поток золотых и серебряных монет. Женщина замерла, беспомощная и оцепеневшая от ужаса, а горка монет на полу росла все выше и выше.
— Положи пальто на место! — закричал на нее муж и, вырвав его у нее из рук, швырнул на кровать. Поток золота моментально прекратился.
— Вот было бы дело, если бы он вдруг вернулся и застал нас за таким занятием! Что мы стали бы говорить, чем объяснили свое вторжение? Быстро соберите деньги и уходите отсюда…
…Гости покинули дом…
Сумерки близились, а постоялец все еще не возвращался. Мистер Хотчкинс заявил, что мальчик, видимо, заигрался со своими сверстниками, а разве есть на свете для них что-нибудь важнее игры. «Дети есть дети, с этим ничего не поделаешь. Пусть их остаются детьми, пока есть возможность. Это лучшая пора жизни, к тому же самая короткая».
На дворе потеплело, а на горизонте собирались густые черные тучи, предвещая снегопад, что и сбылось в скором времени.
IV
Наступил вечер. Дело разворачивалось в тот самый день, который впоследствии получил название дня Большой бури. Это был настоящий ураган, хотя в те времена это выразительное слово еще не было придумано. Ураган прошелся по стране длинной узкой полосой, на десять дней засыпав снегом деревни и плантации так, как в свое время, восемнадцать веков назад, была засыпана камнями и пеплом Помпея. Большая буря приступила к делу спокойно и методично. Без хвастовства и крика. Не было ни ветра, ни шума! Человек, проходя по улице мимо освещенных окон, мог видеть, как снег опускался очень тихо и ложился на тротуар как-то чересчур мягко, равно и артистично, быстро и равномерно увеличивая свой покров. Прохожий мог также заметить, что снег был какой-то необычный — он не падал хлопьями, а сыпался, словно алмазный порошок.
Вскоре поднялся ветер и потянул зловещую песню сквозь снежную бурю. Он быстро крепчал, и вскоре его вой превратился в рев и рычание. Он поднимал в воздух снег и нагромождал высоченные сугробы перед собой. Хотчкинсы не на шутку заволновались. Они подошли к парадной двери, и слуга Джеф рывком отворил ее. Ветер засвистел на самой высокой ноте, а на Джефа, словно из ковша землечерпалки, вывалился снег.
— Скорей закройте дверь! — закричал хозяин.
Дверь закрыли. Порывы ветра сотрясали дом до самого основания. Хотчкинс закрыл лицо руками и простонал:
— О господи! В такую бурю он наверняка погибнет…
…Вдруг при свете лампы в зале они увидели пришельца, который направлялся в столовую. Он двинулся к ним навстречу, а мистер Хотчкинс сказал прерывающимся от волнения голосом:
— О, как я рад!. Я уже не чаял увидеть тебя живым…
Радости Хотчкинса не было предела. Он вытащил заветную бутылку виски, через пару минут сварил отличный пунш и разлил по бокалам.
Мальчик отхлебнул слегка и заметил, что напиток приятен на вкус, и спросил, из чего он сделан.
— Что? Из виски, конечно. Сейчас мы с тобой еще закурим. Я-то вообще не курю, потому что являюсь президентом лиги по борьбе с курением, но ради знакомства…
Он вскочил, достал пару курительных трубок и одну подал мальчику. Тот с интересом осмотрел ее и спросил, что с ней делать.
— Как что? — удивился мистер Хотчкинс. — Уж не хочешь ли ты сказать, что не куришь? В жизни никогда не видел мальчика, который бы не курил.
— А что там, в трубке?
— Табак, разумеется.
— А-а, знаю. Сэр Ролтер Релей, описывая быт индейцев, упоминал о нем. Я читал об этом в книжке.
— Боже ты мой, он читал! Неужели ты ничего не знаешь кроме того, что прочел в книгах? Где ты родился, в каком месте?
— Я иностранец.
— Не скажи так. Ты говоришь без всякого акцента. Где ты рос?
— На небе.
У мистера Хотчкинса из одной руки выпала трубка, из другой рюмка, и он сидел, тупо уставившись на мальчика. Потом, придя немного в себя, он сказал:
— Так давай-ка выпьем за твое здоровье и закусим как следует.
— Это можно, но есть я не хочу.
— Почему, разве ты не голоден?
— Я никогда голоден не бываю.
— Очень жаль. Ты многое потерял. Теперь расскажи мне, пожалуйста, если можешь, немного о себе…
V
— …Я родился во времена, когда еще не было Адама…
— Что?!.
— Почему вы так удивились?
— Да потому, что твои слова оказались слишком неожиданными для меня. Ведь это больше шести тысяч лет, а ты выглядишь пятнадцатилетним пареньком…
— Верно, так оно и есть почти.
— Всего пятнадцать лет… и тем не менее…
— Я имею в виду по нашей системе времени, а не по вашей.
— Как так?
— Очень просто. Наш день — это все равно что ваша тысяча лет.
Хотчкинса охватил благоговейный ужас. Серьезность, граничащая с мрачностью, утвердилась на его лице. После продолжительной паузы он произнес задумчиво:
— Ты, конечно, все сказал в фигуральном смысле, а не в буквальном.
— Да нет! В самом буквальном. Минута нашего времени равна 41
2/
3годам вашего. По нашей системе измерения мне сейчас пятнадцать лет, а по вашей без малого пять миллионов.
Хотчкинс был потрясен. С безнадежным видом он покачал головой, а потом сказал покорно:
— Что же, продолжай рассказывать. Лично я не могу представить себе такие цифры — уж больно они астрономические.
— Разумеется, вам трудно все сразу представить, но это не страшно. Измерения и отсчеты времени сделаны ради удобства и сами по себе ничего не значат.
Так вот неделю назад я жил на небе. Разумеется, я и раньше там жил, пока неделю назад, по нашему летосчислению, не увидел вашу землю. Я заинтересовался ей и решил ее исследовать… Вот почему я оказался здесь… У меня, конечно, нет определенного плана. Вначале я думаю изучить человеческую расу. Завтра, например, я отправляюсь в турне по земному шару и лично исследую некоторые страны и народы, изучу их языки, прочту книги…
Но вы, кажется, утомились сегодня. Ступайте-ка в постель и ложитесь спать. Спокойной ночи…
VI
На следующее утро ветер стих, тучи на небе исчезли, а вместе с ними исчез и пришелец из другого временного пояса.
МАРСИАНСКАЯ ОДИССЕЯ
ДЖОН КЭМПБЕЛ
Овладение другими измерениями пространства-времени, схватки могучих космических рас, возможность изменять судьбы вселенной — вот какие сюжеты исследовал и увековечил на карте «Страны Фантазии» Джон Кэмпбелл.
Он родился в 1910 году в семье крупного служащего и рано проявил интерес к приключениям и космосу. В семь с половиной лет он открыл Э. Берроуза с его Тарзаном и марсианскими путешествиями, в восемь лет начал читать серьезные книги по астрономии. Особенво его интересовала идея межзвездных, галактических полетов.
В 1928 году Джон стал студентом Массачусетского технологического института, много размышляет о фантастическом будущем «думающих машин». Уже в первом рассказе Кэмпбелла «Когда рушатся атомы» (1930 г.) описывалась гигантская ЭВМ, с помощью которой герой Стевен Уотерсон смог овладеть атомной энергией, отбить нападение марсиан, заставить правительство осуществить всеобщее и полное разоружение, стать «президентом» планеты. Читатели потребовали продолжения. Джон Кэмпбелл поведал историю о схватке Стевена Уотерсона с «думающей машиной», запущенной на Землю с невидимого спутника Сириуса.
Последующие произведения двадцатилетнего автора сделали Кэмпбелла весьма авторитетным среди ценителей научной фантастики. Их герои со сверхсветовой скоростью преодолевали расстояния между мирами, сталкивались с самыми разнообразными диковинками, не задумываясь принимали вызов. Иногда Кэмпбелл в этом каскаде возможностей доходил до бурлеска, что обогащало жанр. В ряде произведений, особенно в знаменитых «Сумерках», он развивал свою философию эволюции. По мнению Кэмпбелла, современные машины в конце концов станут друзьями и заступниками людей, неизбежно переживут их и примут у них эстафету прогресса, создадут собственную цивилизацию, в то время как человечество потеряет вкус к жизни в своих автоматизированных городах, впадет в стагнацию и почти добровольно сойдет со сцены вселенной.
В 1937 году писатель приглашается на пост редактора журнала «Поразительная научная фантастика», который вскоре объединил вокруг себя самых способных представителей нового поколения фантастов. В августе 1938 года в этом журнале увидел свет публикуемый ниже рассказ «Кто ты?», на котором фактически закончилась в возрасте 28 лет писательская карьера Джона Кэмпбелла.
Но в продолжение более четверти века в десятках в сотнях произведений, которые Кэмпбелл опубликовал в самом популярном журнале, прослеживаются мотивы и разрабатываются находки общепризнанного лидера жанра.
«КТО ТЫ?»
Вонь стояла страшная. В ней смешались затхлый мужской пот и тяжелый, отдающий рыбьим жиром дух полусгнившего тюленьего мяса. Чем-то заплесневелым несло от пропитанных потом и растаявшим снегом меховых курток. В воздухе висел едкий дым горелого жира. Только во врытых в лед палатках антарктической экспедиции и могла стоять такая вонь.
Через все эти привычные запахи машинного масла, людей, собак, кож и мехов слабо пробивался странный чужой аромат, от которого невольно ерошились волосы на шее. В нем угадывалось что-то живое, но исходил он от тюка, упакованного в брезент и перевязанного веревками. Тюк, сырой и чем-то пугающий, лежал на столе под светом электрической лампочки. С него медленно капала вода.
Блэр, маленький лысеющий биолог экспедиции, нервно сдернул брезент, обнажив спрятанную под ним глыбу льда, а потом так же нервно набросил брезент обратно. Начальник экспедиции Гэрри раздвинул белье, висящее на веревке над столом, и подошел ближе. Он медленно обвел глазами людей, набившихся в штабную палатку, как сельди в бочку. Наконец он выпрямился и кивнул:
— Тридцать семь. Все присутствуют. — В его низком голосе чувствовался характер прирожденного руководителя, а не только начальника по должности.
— Вам в общих чертах известна история этой находки. Я советовался со своим заместителем Макреди, а также с Норрисом, Блэром и доктором Коппером. Мы не пришли к единому мнению, и, поскольку дело касается всех членов экспедиции, мы решили вынести его на общее обсуждение. Я попрошу Макреди все подробно рассказать вам — до сих пор вы все были заняты исполнением своих непосредственных обязанностей и у вас не было времени интересоваться делами других. Пожалуйста, Макреди.
Метеоролог Макреди, вышедший к столу из клубов табачного дыма, производил впечатление персонажа из забытых мифов — высокая ожившая бронзовая статуя.
— Норрис и Блэр согласны в одном: найденное нами животное неземного происхождения. Норрис предполагает опасность, Блэр считает, что никакой опасности нет. Но я вернусь к тому, как и почему мы его нашли. Насколько было известно до нашего прибытия на это место, оно находилось прямо над Южным магнитным полюсом Земли. Как вы знаете, стрелка компаса указывает именно сюда. Более точные физические приборы, разработанные специально для изучения нашей экспедицией магнитного полюса, обнаружили какой-то побочный эффект — мощное магнитное поле в восьмидесяти милях от нашей базы. Мы отправили туда исследовательскую группу. Нет нужды останавливаться на деталях. То, что мы нашли, не было ни метеоритом, ни залежью руды. Это был космический корабль. Корабль, управляемый силами, неведомыми человеку, и прилетевший из космоса 20 миллионов лет назад, когда Антарктида начала замерзать. С кораблем что-то случилось, он потерял управление и совершил вынужденную посадку. При посадке он врезался в гранитную скалу. Один из членов экипажа вышел наружу, но это существо заблудилось в пурге в десяти шагах от корабля.
Киннер, повар экспедиции, моргнул от напряжения. Пять дней назад он вышел из закопанного в лед лагеря на поверхность, чтобы достать из ледника замороженное мясо. Когда он шел обратно, началась пурга; белая смерть, летящая по снежной равнине, ослепила его в несколько секунд. Он сбился с дороги. Только полчаса спустя люди, вышедшие из лагеря по веревке, нашли его. Да, человеку или существу ничего не стоило заблудиться здесь в десяти шагах.
— Пассажир корабля, — перебил мысли Киннера голос Макреди, — по всей вероятности, не представлял, что может случиться. Он сразу замерз. Мы пытались откопать корабль и наткнулись на это существо. Барклай зацепил его череп ледорубом. Когда Барклай понял, на что он наткнулся, он вернулся к трактору, развел костер и вызвал Блэра и доктора Коппера. Самому Барклаю стало плохо. Он три дня не мог прийти в себя. Когда прибыли Блэр и Коппер, мы вырубили блок льда вместе с этим животным и погрузили на трактор. Мы хотели все же прокопать туннель к кораблю. Добравшись до борта корабля, мы обнаружили, что он сделан из неизвестных нам металлов, которые не могли взять наши инструменты. Мы нашли входной люк, забитый льдом, и решили растопить лед термитной бомбой. Бомба вспыхнула, потом пламя начало гаснуть и вдруг забушевало вовсю. Похоже, что корпус корабля был сделан из магнезиевого сплава, но мы не могли этого предвидеть. Магнезий, конечно, загорелся сразу. Вырвалась наружу вся мощь, впитанная неизвестными нам двигателями корабля от магнитного поля Земли. На наших глазах в огненном аду гибли тайны, которые могли бы подарить человечеству звезды. Ледоруб в моей руке раскалился, металлические пуговицы вплавились в тело. В радиусе мили от места взрыва сгорели все электрические приборы и рации. Если бы не наш трактор с паровым двигателем, мы не вернулись бы обратно на базу. Вот вам и вся история.
Макреди повернулся к тюку, лежащему на столе.
— Сейчас перед нами стоит проблема, — продолжал гигант. — Блэр хочет исследовать это существо. Разморозить и взять пробы тканей. Норрис считает это опасным. Доктор Коппер в основном согласен с Блэром. Конечно, Норрис физик, а не биолог. Но я считаю, что мы все обязаны выслушать его аргументы. Блэр дал описание микроорганизмов, которые, как установлено биологами, способны существовать даже в этой холодной и необитаемой стране. Норрис боится, что эти микроорганизмы окажутся губительными для человека и от них не будет никакой защиты. Блэр придерживается противоположной точки зрения.
Норрис взорвался:
— Плевать я хотел на химию и обмен веществ! Мертвая эта штука или живая — черт ее знает, но не нравится она мне. Блэр, да объясните же вы им всю чудовищность того, что вы предлагаете. Дайте им посмотреть на этот ужас и решить самим, хотят ли они разморозить его у себя в лагере. Разверните его, Блэр.
Блэр распутал веревки и резким движением сбросил брезент. Все застыли, как будто загипнотизированные лицом в глыбе льда. В черепе странной формы все еще торчал обломок ледоруба. Три безумных, наполненных ненавистью глаза горели живым огнем. Вместо волос голову обрамляли отвратительные извивающиеся грубые черви. Все отшатнулись от стола. Блэр взял ледоруб. Лед заскрипел, освобождая добычу, которую цепко держал 20 миллионов лет.
«Клак, — щелкнул счетчик космического излучения. — Клак, клак». Конант вздрогнул и выронил карандаш. Выругавшись, он полез за ним под стол. Щелчки счетчика мешали ему ровно писать. Щелчки и мерные капли с оттаивающего тела, прикрытого брезентом в углу. Конант вытянул из пачки сигарету. Зажигалка не сработала, и он сердито пошарил среди бумаг, ища спички. Спичек не было. Конант решил вытащить щипцами уголек из печки и прикурить от него. Ему не работалось. Все время отвлекало чувство любопытства и нервозности. Он взял со стола лампу и подошел к существу. Оно оттаивало уже 18 часов. Конант ткнул его щипцами с какой-то инстинктивной осторожностью. Тело уже не было твердым, как бронированная плита. Наоборот, оно приобрело упругость резины. Конант вдруг почувствовал желание вылить на него содержимое лампы и бросить горящую сигарету. Три красных пылающих глаза бездумно смотрели на него.
Смутно он понял, что смотрит в эти глаза уже очень долго и что они утратили свое бессмысленное выражение. Но почему-то это не казалось важным, так же как не казались важными медленные движения щупалец, растущих от основания слабо пульсирующей шеи. Конант вернулся к своему столу и сел, глядя на листки бумаги, покрытые вычислениями. Почему-то его больше не отвлекали ни щелканье счетчика, ни шипение угольков в печке. Не отвлек его внимания и скрип половиц за спиной.
Блэр мгновенно проснулся, когда над ним нависло лицо Конанта. Сначала оно показалось ему продолжением кошмарного сна, но Конант закричал: «Блэр, Блэр, вставай, ты, бревно проклятое!» Разбуженные соседи поднимались со своих коек. Конант выпрямился: «Вставайте, быстро! Твое проклятое животное сбежало».
— Что? Сбежало? Куда сбежало?
— Что за чертовщина? — спросил Барклай.
— Сбежала тварь проклятая. Я заснул минут двадцать назад, а когда проснулся, ее уже не было. Ну, доктор, что вы скажете теперь? Могут эти существа ожить или нет? Оно еще как ожило и смылось!
Коппер виновато посмотрел на него.
— Оно же неземное, — вздохнул он неожиданно. — Здесь, видимо, земные представления не годятся. Надо немедленно его найти!
Конант выругался.
— Чудо еще, что эта чертова скотина не сожрала меня спящего.
Бледные глаза Блэра наполнились ужасом:
— А что, если она действительно съе… гхм, надо немедленно начать поиски.
— Вот и начинай. Это ведь твой любимчик. С меня хватит семь часов рядом просидел, пока счетчик щелкал, а вы все выводили рулады носами. Удивляюсь только, как я заснул. Пошли в штабную палатку, разбудим Гэрри.
— Вдруг из коридора донесся Дикий, совершенно необычный вопль. Все замерли на месте.
— Можно считать, нашли, — сказал Конант, сорвав со стены кольт и ледоруб. — Оно, видно, забрело в палатку к собаками. Лай, отчаянный вой и шум схватки смешались вместе. Конант рванулся к двери. Остальные бросились за ним.
У поворота коридора Конант застыл.
— Великий боже — только и выдохнул он.
Три выстрела раздались один за другим. Потом еще два. Револьвер упал на утоптанный снег. Массивное тело Конанта загораживало Барклаю обзор, но он понял, что Конант принял оборонительную позу с ледорубом в руках. Вой собак стих. В их урчании было что-то смертельно серьезное. Неожиданно Конант ступил в сторону, и Барклай замер на месте. Существо ринулось на Конанта. Человек отчаянно рубанул по извивающимся щупальцам. Красные глаза его противника горели неземной, незнакомой людям ненавистью. Барклай направил струю огнетушителя прямо в них, ослепляя чудовище ядовитой химической струей. Макреди, растолкав остальных, подбежал к ним ближе, держа в руках гигантскую горелку, которой обычно прогревали моторы самолета, и открыл клапан. Собаки отпрянули от почти трехметрового языка пламени.
— Быстро кабель сюда! Стукнем его током, если огонь не поможет! кричал Макреди. Норрис и Вэн Волл уже тянули кабель.
Пасти собак, окруживших чудовище, были такими же красными, как и его глаза. Макреди продолжал держать горелку наготове. Барклай ткнул существо раздвоенным концом кафеля, наспех прикрепленного к длинной палке. Существо дернулось от удара тока. Вдруг огромный черный пес прыгнул на затравленного пришельца и начал рвать его клыками. Красные глаза на ужасном лице затуманились. Щупальца задрожали, и вся стая собак бросилась на них. Клыки продолжали рвать уже неподвижное тело.
Гэрри обвел взглядом переполненную комнату. Тридцать два человека да еще пятеро зашивают раны собакам. Весь персонал на месте.
— Итак, — начал Гэрри, — все вы знаете, что произошло. Блэр хочет исследовать останки существа, чтобы убедиться в том, что оно окончательно и бесповоротно мертво.
— Я не знаю даже, видели ли мы его настоящего. — Блэр посмотрел на прикрытый брезентом труп. — Может быть, оно имитировало образ создателей корабля, но мне кажется, что это не так. Судя по всему, оно родом с более жаркой планеты, чем Земля, и в своем истинном обличье нашей температуры не выдерживает. На Земле нет ни одной формы жизни, приспособленной к антарктической зиме, но лучший компромисс из всех собака. Оно нашло собак и принялось за вожака — Чернака. Остальные собаки всполошились, порвали цепи и напали на существо прежде, чем оно успело закончить свое дело. То, что мы обнаружили, было частично Чернаком, а частично тем существом, которое мы нашли у корабля. Когда собаки напали на него, оно стало принимать обличье, самое, по его мнению, подходящее для боя, превращаться в какое-то чудовище своей планеты.
— Превращаться? — резко спросил Гэрри — Как?
— Все живое состоит из протоплазмы и микроскопических ядер, которые ею управляют. Это существо всего лишь вариация природы; клетки из протоплазмы, управляемые ядрами. Вы, физики, можете сравнить клетку любого животного существа с атомом — основная масса атома состоит из орбит электронов, но сущность его определяется ядром.
То, с чем мы столкнулись, не выходит за пределы нашего понимания. Все это так же естественно, так же логично, как и любое другое проявление жизни, и повинуется обычным законам. Дело лишь в том, что в протоплазме встреченного нами существа ядра управляют клетками произвольно. Существо переварило Чернака и, переваривая, изучило все клетки его тканей, чтобы перестроить свои клетки по их образцу.
Блэр отдернул брезент, из-под которого показалась собачья нога.
— Вот. Это не собака. Имитация. Но со временем даже с микроскопом нельзя будет отличить перестроенную клетку от настоящей.
— А если бы у него хватило времени? — спросил Норрис.
— Тогда оно превратилось бы в собаку. А другие собаки приняли бы ее. И мы тоже. И не смогли бы ее отличить от других ни рентгеном, ни микроскопом, ни другими способами. Мы столкнулись с представителем в высшей степени разумной расы, познавшей тайны биологии и умеющей использовать их.
— Что же оно собиралось делать дальше? — спросил Барклай, глядя на тело под брезентом.
— Захватить наш мир, по всей вероятности, — ответил Блэр.
— Захватить мир? В одиночку? — выдохнул Конант.
— Нет — мотнул головой Блэр. — Оно бы стало населением нашего мира.
— Как? Бесполовым размножением?
Блэр проглотил слюну.
— Гораздо проще. Оно весило 85 фунтов. Чернак весил около 90. Оно превратилось бы в Чернака и оставило бы 85 фунтов на Джека или, скажем, Чунука. Оно ведь способно воспроизвести все, что угодно, кем угодно стать. Попади оно в океан, то стало бы тюленем, а то и двумя тюленями. Эти два тюленя напали бы на касатку и стали бы либо касаткой, либо стадом тюленей. А может быть, оно превратилось бы в альбатроса и полетело бы в Южную Америку. Оно непобедимо. Напади на него орел, оно превратится в орла. Или в орлицу. Чего доброго, совьет еще гнездо и будет нести яйца.
— Вы уверены, что это исчадие ада мертво? — тихо спросил доктор Коппер.
— Да, слава богу.
— Тогда нам остается только благодарить судьбу за то, что мы в Антарктике, где ему некого имитировать, кроме наших животных.
— И нас, — хихикнул Блэр. — Нас! Собаке не пройти 400 миль до побережья, ей не хватит еды. Пингвины так далеко не заходят. Мы единственные существа, способные достичь океана. И мы мыслим. Неужели вы не понимаете — оно вынуждено имитировать нас, чтобы добираться дальше нашим самолетом и стать хозяином Земли. Сначала оно само этого не поняло. Не успело. Ему пришлось торопиться. А теперь слушайте. Я Пандора! Я открыл этот ящик, и моя единственная надежда на то, что ничего еще не успело выйти из него. Я это сделал, но я и исправил содеянное. Я уничтожил все магнето. Самолет не сможет теперь летать! Блэр снова хихикнул и рухнул в истерике на пол.
— Черт бы побрал Макреди, — буркнул Норрис.
— Макреди? — удивленно переспросил Гэрри.
— У него была теория относительно кошмаров, когда мы нашли эту тварь.
— То есть?
— Он тогда еще предполагал, что существо вовсе не умерло что у него просто во много раз замедлился темп жизни, что такая форма существования позволяла ему осознавать течение времени, заметить наше появление. А мне тогда еще снилось, что оно способно имитировать другие формы жизни.
— Так оно и есть, — сказал Коппер.
— Мне еще кое-что снилось. Например, снилось, что оно умеет читать мысли.
Макреди мрачно кивнул.
— Мы знаем, что Конант — это Конант, потому что он не только выглядит как Конант, но и говорит как Конант, ведет себя как Конант. Но чтобы имитировать мысли и поведение, нужен действительно сверхчеловеческий мозг.
Конант, одиноко стоявший в другом конце комнаты, оглядел их неверящим взглядом. Лицо его побелело.
— Да заткнитесь вы, пророки Иеремии! — Голос его дрожал. — Что я вам? Образчик, который вы под микроскопом исследуете? Червячок, о котором в его присутствии можно разговаривать в третьем лице?
Макреди встретил его взгляд.
— Конант, если тебе так тяжко нас слушать, отойди подальше, пожалуйста. У тебя перед нами преимущество: ты один знаешь ответ. Вот что я тебе скажу: теперь из всех здесь присутствующих тебя и боятся больше всего, и уважают больше всего.
— Черт побери, видел бы ты сейчас свои глаза, — выдохнул Конант. — Да не смотри ты на меня так Что ты намерен делать?
— Что вы можете предложить, доктор Коппер? — спокойным голосом спросил Гэрри. — Ситуация складывается невыносимая.
— Да? — резко выкрикнул Конант. — Вы посмотрите только на эту толпу. Прямо как стая собак там, в коридоре. Бенинг, ты кончишь хвататься за ледоруб?
От неожиданности механик уронил топор, но тут же поднял его, обводя комнату взглядом своих карих глаз. Коппер присел на лежанку Блэра.
— Как уже говорил Блэр, микроскоп не поможет. Прошло слишком много времени. Но пробы сыворотки будут решающими.
— Пробы сыворотки? А точнее? — спросил Гэрри.
— Если взять кролика и вводить ему регулярно человеческую кровь, которая для него яд, то кролик станет иммунным к человеку. Если потом взять немного его крови, влить в чистую сыворотку и добавить туда человеческой крови, то начнется реакция. Вполне достаточное доказательство, чтобы убедиться, кто человек, а кто нет.
— А где мы вам достанем кролика, док? — спросил Норрис. — Ближе, чем в Австралии, их нет, а ехать туда нам некогда.
— Я знаю, что в Антарктике кролики не водятся, — согласился доктор. — Но для проб любое животное сойдет. Собака, например. Только времени это займет больше — несколько дней. И потребуется кровь двух людей.
— Моя подойдет? — спросил Гэрри.
— Вот нас и двое, — ответил доктор Коппер. — Я немедленно приступлю к работе.
— А с Конантом как же, пока суд да дело? — спросил повар Киннер. — Я скорее выйду за дверь и потопаю прямиком к морю Росса, чем буду ему готовить.
— Он, может быть, человек… — начал Коппер.
— Может быть — взорвался Конант. — Может быть, будь ты проклят! Да кто же я, по-твоему, черт тебя подери?
— Монстр, — отрезал доктор Коппер. — Заткнись и слушай.
Кровь отхлынула от лица Конанта, и он тяжело сел, слушая свой приговор.
— Пока мы точно не выясним, что к чему, а ты знаешь, что у нас есть серьезные основания сомневаться, с нашей стороны было бы вполне разумным посадить тебя под замок. Если ты не человек то ты гораздо опаснее несчастного свихнувшегося Блэра, его я наверняка запру. Потому что следующей стадией его помешательства будет желание убить тебя, всех собак и всех нас. Он проснется убежденным в том, что мы все монстры, и ничто в мире его не переубедит. Было бы более милосердным дать ему умереть, но мы не имеем на это права. Мы его изолируем, а ты останешься в своей лаборатории. Я думаю что ты и сам решил бы так же. А сейчас я пойду взгляну на собак.
Конант горько покачал головой.
— Я человек. Сделай свою проверку побыстрее. Ну и глаза у тебя. Жаль, что ты не видишь сейчас своих глаз.
— Если, — сказал Гэрри задумчиво, — они способны произвольно перестраивать протоплазму, почему бы им просто не превратиться в птиц и не улететь? Они ведь могут получить информацию о птицах, даже никогда не видав их. Или имитировать птиц своей родной планеты.
Коппер отрицательно мотнул головой и помог Кларку освободить собаку.
— Человек веками изучал птицу, пытаясь построить аппарат, способный летать, подобно ей. Но ничего пока не вышло. В конце концов пришлось ведь махнуть на все рукой и использовать принципиально новые способы. Что же касается их планеты, то атмосфера там могла быть сильно разреженной и непригодной к полетам птиц.
Вошел Барклай.
— Все в порядке, док. Теперь из лаборатории Конанта не выйдешь без по мощи извне. А куда мы поместим Блэра?
Коппер посмотрел на Гэрри.
— Биологической лаборатории у нас нет. Не знаю даже, куда поместить его.
— Как насчет восточного сектора? — спросил Гэрри. Восточным сектором называлась хижина, расположенная от основного лагеря примерно в минутах сорока ходьбы. — И за Блэром нужен уход?
— Нет, скорее уход нужен за нами, — мрачно ответил Коппер. — Отнесите в хижину печь, пару мешков угля, еду и инструменты. Надо бы протопить как следует, там с осени никто не жил.
Барклай собрал свои инструменты и посмотрел на Гэрри.
— Судя по тому, как Блэр бормочет сейчас, у него это песня на всю ночь. И нам она вряд ли придется по душе.
— Что он говорит? — спросил Коппер.
Барклай кивнул головой.
— Я не особенно прислушивался. Послушайте сами, если вам охота. Но похоже, что этого идиота посетили те же видения, что и Макреди, плюс еще кое-что. Он ведь спал с тварью рядом, когда мы везли ее в льдине на базу. Ему снилось, что она жива. Ему много чего снилось. И, черт бы его побрал, он уже тогда знал, что это не сон. По крайней мере, имел все основания знать. Он зная, что на ша находка обладает телепатическими способностями, что эти способности и начали пробуждаться, что проклятая тварь не только могла читать чужие мысли, но и проецировать свои. Он же не сны видел, он телепатически воспринимал мысли пришельца, так же как мы сейчас слушаем его бормотание сквозь сон. Вот почему он так много о нем знал. А вы и я, видимо, оказались менее восприимчивыми, если вы, конечно, верите в телепатию.
Блэр беспокойно заерзал на кушетке. Барклай, Макреди, Коппер и Бенинг расплывались перед его взором.
— Не приходите сюда, я сам буду себе готовить, — выпалил он. Может, Киннер и человек, но я не верю. Я буду есть только консервы.
— Хорошо, Блэр, мы принесем консервы, — пообещал Барклай.
— Уголь у тебя здесь есть, огонь в печке мы развели. Я только… Барклай шагнул вперед.
Блэр вжался в угол.
— Убирайся! Не подходи, ты, тварь! — Визжа от страха, маленький биолог впился ногтями в стенку. — Не подходи ко мне, я не дамся, не…
Барклай сделал шаг назад.
— Оставь его. Бар, — сказал доктор Коппер. — Ему будет легче, если он оста нется один. Но дверь придется усилить и закрыть снаружи.
Они вышли из комнаты и принялись за работу. В Антарктике замков не было — в них раньше не испытывали нужды. По обеим сторонам дверной рамы восточной хижины ввернули прочные болты и накрепко натянули между ними кабель из толстой проволоки. Барклай прорезал в двери окошко, чтобы в комнату можно было передавать еду. Открыть окошко изнутри Блэр не мог. За дверью слышалась возня. Барклай открыл окошко и посмотрел. Блэр забаррикадировал дверь своим топчаном. Войти в комнату без его позволения было невозможно.
* * * Конант наблюдал за опытом пристальней всех. Маленькая пробирка, на половину наполненная жидкостью соломенного цвета. Одна-две-три-четыре-пять капель чистого раствора, изготовленного доктором Коппером из крови, взятой у Конанта. Доктор осторожно встряхнул пробирку и поставил ее в кювету с чистой теплой водой. Щелкнул термостат.
В пробирке начали отчетливо выделяться белые пятнышки осадка.
— Боже мой! — Конант рухнул на лежанку, обливаясь слезами. — Боже мой! Шесть дней! Шесть дней я там просидел и все думал, что же будет, если этот чертов тест наврет…
— Этот тест не врет, — сказал доктор Коппер. — Реакция правильная.
— С ним все в порядке? — выдохнул Норрис.
— Он человек, — уверенно сказал доктор, — а та тварь мертва.
В штабной палатке началось ликование. Все смеялись, шутили. Конанта хлопали по плечам и разговаривали с ним Неестественно громкими голосами с подчеркнуто дружелюбными интонациями. Кто-то крикнул, что надо пойти к Блэру, сказать, успокоить, он, может быть, придет тогда в себя. Человек десять одновременно побежали за лыжами. Доктор Коппер все еще возился у штатива с пробирками, нервно пробуя различные растворы. Люди, собравшиеся идти в восточную хижину к Блэру, уже пристегивали лыжи. На псарне дружно залаяли собаки — атмосфера общего радостного возбуждения передалась и им.
Макреди первым заметил, что доктор Коппер все еще возится с пробирками и что лицо его стало совсем белым — белее сыворотки, на которую он смотрел. Из-под прикрытых век Коппера текли слезы. Сердце Макреди стиснул холод. Коппер поднял голову.
— Гэрри, — хрипло выговорил он. — Гэрри, бога ради, подойдите ко мне.
Гэрри шагнул к доктору. В комнате стало совсем тихо. Конант поднялся и замер.
— Гэрри, я взял пробу ткани монстра. Она тоже выпадает в осадок. Тест ничего не доказывает. Ничего, кроме того, что собака иммунна не только к человеку, но и к найденному нами существу. И что один из доноров — то есть вы или я — один из нас монстр!
— Бар, позови всех обратно и скажи, чтобы к Блэру никто не ходил, сказал Макреди. Барклай подошел к двери. Люди в комнате, напряженно наблюдающие друг за другом, слышали, как он кричал. Потом Барклай вернулся к ним обратно.
— Они возвращаются. Я не объяснил почему. Сказал просто, что доктор Коппер велел к нему не ходить.
— Макреди, — вздохнул Гэрри, — теперь начальник ты. Пусть бог тебе поможет, а я уже ничем помочь не смогу.
Гигант-метеоролог молча кивнул, не сводя глаз с Гэрри.
— Может быть, монстр я, — продолжал Гэрри:. — Я-то знаю, что не я, но доказать это вам ничем не могу. Тест доктора Коппера оказался безрезультатным. То, что доктор доказал его безрезультатность, говорит в его пользу: монстру было бы выгоднее это скрыть. Так что, видимо, он человек.
Коппер раскачивался вперед и назад на лежанке.
— Я знаю, что я человек, но доказательств у меня тоже нет. Один из нас двоих лжет, потому что тест лгать не может. Я доказал безрезультатность теста, что вроде бы свидетельствует в мою пользу, что я человек. Но если Гэрри монстр, то он не стал бы говорить об этом, ведь он тогда действовал бы против себя. Голова кругом идет!
Макреди посмотрел на оставшуюся сыворотку.
— По крайней мере, эта штука хоть для одного сгодится. Кларк и Вэн, по могите мне. Остальные оставайтесь здесь и следите друг за другом.
Макреди, Кларк и Вэн Волл шли туннелем к псарне.
— Тебе нужна еще сыворотка? — спросил Кларк.
Макреди покачал головой: думал о тестах. «Мы здесь держим четырех коров, быка и почти семьдесят собак. А эта штука реагирует только с человеческой кровью и кровью монстров».
Макреди вернулся в штабную палатку и подошел к штативу с пробирками. Минуту спустя к нему присоединились Кларк и Вэн Волл. Губы Кларка дергались в нервном тике.
— Чем вы там занимались? — неожиданно спросил Конант.
— Этот монстр, — ровным голосом ответил Вэн Волл, — мыслит логично. Он очень логичен. Наша иммунная собака была в полном порядке, и мы взяли еще немного сыворотки для тестов. Но тесты мы делать больше не будем.
— А нельзя попробовать человеческую кровь на другой собаке? начал Норрис.
— Собак больше нет, — ответил Макреди, — и скота больше нет.
— Нет? — У Бенинга подкосились ноги, и он сел.
— Они очень противные, когда начинают меняться, — сказал Вэн Волл. Противные, но медлительные. Эта штука с кабелем, которую ты придумал, Барклай, действует очень быстро. Осталась только одна собака, которой мы привили иммунитет. Монстр оставил ее нам, чтобы мы могли позабавиться тестами. Остальные… — он пожал плечами.
— А скот? — спросил Киннер.
— То же самое. Коровы очень странно выглядели, когда начали менять свой облик. Твари никуда не деться, если она на цепи или привязана в стойле.
— Так, с ходу, — сказал Макреди, — я могу придумать только один достаточно достоверный тест. Если человеку выстрелить в сердце и он не умрет, значит, он монстр.
— Ни собак, ни коров не осталось, — сказал Гэрри. — Остались только мы, люди. А изолировать всех бессмысленно. Пожалуй, твой способ кажется разумным, Мак, но применить его на деле будет нелегко.
Кларк оторвал взгляд от печки, когда вошли Вэн Волл, Барклай, Макреди и Бенинг, отряхивая снег с одежды. Люди набивались в штабную палатку и старались вести себя как обычно: играли в шахматы, в покер, разговаривали. Ральсен чинил стол, Вэн и Норрис занялись обработкой данных по магнитному полю.
Доктор Коппер мягко посапывал на лежанке. Гэрри и Даттон просматривали пачку радиограмм. Конант занял почти весь письменный стол своими таблицами. Несмотря на две закрытые двери, из кухни через коридор доносились вопли Киннера. Кларк молча подозвал Макреди жестом руки. Метеоролог подошел к нему.
— Я не против готовить вместо него, — сказал Кларк нервно, — но нельзя ли заставить его замолчать? Мы подумали и решили, что лучше бы запереть его в физическую лабораторию.
— Киннера? — Макреди посмотрел на дверь. — Боюсь, что нельзя. Я мог бы, конечно, его усыпить, но у нас довольно ограниченный запас морфия. Да и вообще у него просто истерика. Он не свихнулся.
— Зато мы скоро свихнемся. Ты уходил на полтора часа, а он все это время орал. И до этого еще два часа. Всему, знаешь ли, есть предел.
Медленно и робко к ним подошел Гэрри. На какое-то мгновение Макреди уловил страх в глазах Кларка и понял, что Кларк прочел то же самое на его лице. Гэрри или Коппер — наверняка один из них был монстром.
— Бога ради, — сказал Гэрри, — найди ты какой-нибудь тест. Все друг за дру гом следят.
— Ладно, готовь еду. А я постараюсь что-нибудь придумать.
Макреди незаметно подошел к Вэн Воллу.
— Ты знаешь, Вэн, — сказал он, — мне кое-что пришло на ум. Я сначала не хотел говорить, но потом вспомнил, что эта тварь умеет читать мысли. Слушай, ты займись пока кино, а я постараюсь представить себе его логику. Я займу эту лежанку, отсюда хорошо видно всю комнату.
Вэн Волл кивнул.
— Может быть, тебе стоило бы поделиться с нами. Пока что только монстры знают, что у тебя на уме. Ты и сам можешь превратиться в монстра прежде, чем начнешь осуществлять свой план.
— Если я прав, то на его осуществление много времени не потребуется.
Макреди откинулся на лежанке и глубоко задумался. Все расселись по своим местам. Зажглось изображение на экране. Лампы погасли, но экран достаточно хорошо освещал комнату. Молитвы Киннера были еще слышны, и Даттон усилил звук. Голос повара был слышен так долго, что Макреди без него чего-то недоставало. Вдруг он понял, что Киннер замолчал.
— Даттон, выключи звук, — Макреди вскочил. Наступила тишина. — Киннер перестал молиться, — сказал Макреди.
— Да включите вы звук, бога ради, он, может, и замолчал, чтобы послушать! — крикнул Норрис.
Макреди вышел в коридор. Барклай и Вэн Волл последовали за ним. Даттон выключил проектор, и изображение исчезло с экрана. Норрис стоял у две ре. Гэрри присел на лежанку, потеснив Кларка. Остальные оставались на своих местах. Только Конант ходил по комнате из угла в угол.
— Если ты не перестанешь ходить, Конант, мы без тебя обойдемся, будь ты хоть человек, хоть кто угодно, — выплюнул Кларк. — Сядешь ты или нет, черт бы тебя побрал?
— Извини.
Физик сел и задумчиво уставился на носки своих ботинок. Прошло еще минут пять, прежде чем Макреди появился на пороге.
— Мало у нас до сих пор было неприятностей, — сказал он, — Так кто-то решил нам еще помочь. У Киннера нож торчал из глотки, поэтому, наверное, он и прекратил молиться. Итак, у нас теперь есть монстры, сумасшедшие и убийцы.
— Блэр вырвался на свободу? — спросил кто-то.
— Нет. Сомнения насчет того, откуда взялся наш доброхот, разрешить не трудно. — Вэн Волл держал в руках завернутый в тряпку длинный тонкий нож. Его деревянная ручка наполовину обгорела. Кларк посмотрел на нее: «Это же я ее утром спалил. Забыл чертову штуку на печке, когда готовил».
— Интересно, — сказал Бенинг, оглядывая всех присутствующих, сколько еще среди нас монстров? Если кто-то смог отсюда выскользнуть, пойти незамеченным на кухню и незамеченным вернуться обратно… Он ведь вернулся, да? Конечно, все же на месте. Ну если это сделал один из нас…
— Может быть, его убил монстр, — тихо сказал Гэрри. — Вполне может быть, что монстр.
— Как вы сами сегодня отметили, монстру теперь, кроме людей, имитировать некого. И ему нет смысла сокращать свои, так сказать, резервы, — ответил Вэн Волл. — Нет, это не монстр. Это самый обыкновенный грязный убийца. В обычных условиях мы бы даже сказали «бесчеловечный убийца», но теперь следует быть точным в определениях. Теперь среди нас есть и бесчеловечные убийцы, и убийцы-люди. Или один такой по меньшей мере.
— Итак, одним человеком стало меньше, — тихо сказал Норрис. — Как знать, может быть, теперь монстров больше, чем людей, и перевес на их стороне?
— Это пусть тебя не тревожит, — сказал Макреди и повернулся к Барклаю. — Бар, принеси свою палку с кабелем. Хочу кое-что проверить…
Макреди и Вэн Волл вышли в коридор. Секунд через тридцать за ними последовал Барклай со своим электрическим оружием. Норрис продолжал стоять у двери. Вдруг раздался крик. Это кричал Макреди: «Бар, Бар, скорее!»
Норрис, а за ним и остальные ринулись вперед. Киннер — или то, что было Киннером, — лежал на полу, разрубленный надвое гигантским тесаком Макреди. Вэн Волл корчился от боли на полу, потирая челюсть. Барклай, сверкая глазами, продолжал водить кабелем по останкам Киннера. На руках «трупа» появился странный чешуйчатый мех. Пальцы стали короче, ногти превратились в трехдюймовые, острые, как бритвы, клыки. Макреди сделал шаг вперед, посмотрел на свой тесак и швырнул его на пол.
— Так вот, тот, кто пырнул ножом Киннера, может смело сознаваться. Он был бесчеловечным убийцей на самом деле, потому что убил нечеловека. Клянусь всеми святыми, что, когда мы пришли сюда, Киннер был безжизненным трупом. Но когда «труп» понял что мы хотим ударить его током, он сразу ожил и начал менять свое обличие на наших глазах.
Норрис озирался по сторонам.
— Бог ты мой, ну и умеют же они притворяться! Надо же, сколько времени молиться Христу, о котором и понятия никогда не имел! С ума нас чуть не свел своими завываниями. Ну признайтесь, кто его зарезал? Сам того не зная, сделавший это оказал нам всем большую услугу. И хотелось бы мне знать, черт побери, как ему удалось выскользнуть из комнаты незамеченным. Это помогло бы нам быть более бдительными в будущем.
Кларк вздрогнул:
— Он так вопил, что перекрывал даже звук кинопроектора. Кто еще, кроме монстра, мог так орать?
— Вот оно что, — сказал Вэн Волл, осененный внезапной догадкой. — Ты ведь сидел у самой двери и почти за экраном.
Кларк кивнул.
— Теперь он затих. Он… Оно мертво. Мак, твой тест ни к черту не годится. Монстр это был или человек — Киннер ведь был мертв.
Макреди хмыкнул:
— Ребята, позвольте представить вам Кларка, единственного из присутствующих, про которого с уверенностью можно сказать, что он человек. Позвольте вам представить Кларка, который доказал свою человеческую сущность, пытаясь совершить убийство, из которого ничего не вышло. Но прошу вас всех воздержаться от подобных попыток доказательства своего «я» хотя бы на некоторое время. Я, кажется, придумал более подходящий тест.
— Тест, — радостно воскликнул Конант, но лицо его тут же омрачилось. Опять, наверное, ничего не выйдет.
На этот раз выйдет, — ответил Макреди. — Все смотрите в оба и слушайте. Пошли обратно в штабную палатку. Барклай, не выпускай свое электрическое оружие из рук. А ты, Даттон, следи за Барклаем. Клянусь адом, откуда выползли эти твари, я кое-что придумал, и они это знают. Они могут сейчас разбушеваться.
Все сразу напряглись, каждый почувствовал угрозу. Они настороженно и внимательно оглядывали друг друга, настороженно и внимательно, как никогда. Кто стоит рядом? Человек или монстр?
— Что ты придумал? — спросил Гэрри, когда они вернулись в комнату. — И сколько времени тебе на это понадобится?
— Я и сам не знаю наверняка, — ответил Макреди хриплым от решимости голосом. — Но я знаю наверняка, что нашел безотказный способ. Он основывается на природе этих монстров, а не на привычных для нас понятиях. «Киннер» меня в этом убедил окончательно. — Макреди стоял, как застывшее бронзовое изваяние. Он наконец обрел уверенность.
— Похоже, — сказал Барклай, — что без этой штуки нам не обойтись, — и он поднял вверх палку с прикрепленным к ней раздвоенным кабелем. — Как у нас с электричеством?
Даттон ответил:
— Динамо в порядке и дизель наготове. Тот, кто прикоснется к этим проводам, умрет.
Заворочавшись во сне, доктор Коппер при поднялся и протер рукой глаза.
— Гэрри, — пробормотал он, — слушайте, Гэрри. Они, эти исчадья ада, эгоистичны до мозга костей. Чертовски эгоистичны. А, о чем это я? — Он рухнул обратно на лежанку и захрапел.
Макреди задумчиво посмотрел на него:
— Скоро мы все выясним. Но относительно эгоизма доктор абсолютно прав. Он, наверное, все время думает об этом во сне. Именно в нем и дело, в эгоизме. Они не могут иначе, понимаете, — повернулся он к людям, замершим в напряжении, пожирающим друг друга волчьими глазами. Вы помните, что сказал доктор Коппер раньше? «Каждая часть этой твари сама по себе. Каждая часть-это целый самостоятельный организм». Так вот, здесь к зарыта собака. Что такое кровь? В крови нет ничего таинственного. Кровь такая же ткань тела, как мышца или печень. Разве что жидкая.
Бронзовая борода Макреди раздвинулась в мрачной усмешке.
— Ситуация складывается благоприятная. Я уверен, что нас, людей, все же еще больше, чем вас, монстров. И у нас, у землях, есть свойство, которого явно лишены вы. Его не подделаешь, с ним нужно родиться, нужно быть человеком до мозга костей, чтобы тебя все жег этот неугасимый огонь, всегда толкал вперед. Мы будем драться, драться с яростью, которую вы попытаетесь подделать, но подделка эта будет не чета нашей ярости, а настоящая вам не по зубам. Ну что ж. Мы вступаем в открытую схватку. Вы знаете это. Вы давно знаете. Вы же умеете читать мысли. Вы же без своей телепатии шагу не ступите. Но сделать вам уже ничего не удастся. Слушайте все! У них должна идти кровь если при порезе у них кровь не пойдет — значит, они не люди. Подделки чертовы! А если кровь пойдет, то, как только она отделится от тела, она осознает себя отдельной особые, такой же, как и все другие, они ведь тоже каждый по очереди отделились друг от друга. Ты понял, Вэн? Ты понял, Бар?
Вэн Волл рассмеялся:
— Кровь! Кровь откажется им повиноваться. Каждая капля крови будет новой, самостоятельной тварью, с тем же инстинктом Самосохранения, которым наделен ее источник. Кровь захочет жить и постарается увернуться от горячей плиты, к примеру сказать!
Макреди взял со стола скальпель. Из шкафчика он вынул штатив с пробирками, маленькую спиртовку и длинную платиновую проволоку, вделанную в стеклянную ручку. На его губах застыла хмурая улыбка.
— Даттон, — сказал Макреди. — Следи-ка, чтобы никто не выдернул провод.
Даттон шагнул в сторону.
— Ну что, Вэн, начнем с тебя?
Побледнев, Вэн Волл подошел к нему. Аккуратно Макреди надрезал ему вену у основания большого пальца. Вэн Волл моргнул и застыл неподвижно, наблюдая за тем, как Макреди берет его кровь в пробирку. Потом Макреди нагрел платиновую проволочку на спиртовке и ввел ее в пробирку. Раздалось шипение. Макреди повторил тест еще пять раз.
— Как будто человек, — сказал он и выпрямился. — Пока что моя теория еще не доказана, но есть надежда, есть надежда. Однако не очень-то увлекайтесь этим зрелищем. Среди нас есть ведь некоторые, которым оно не по вкусу, Вэн, смени-ка Барклая у рубильника. Спасибо. Иди сюда, Барклай. От души надеюсь, что ты останешься с нами, больно уж ты хороший парень.
Барклай неуверенно усмехнулся и поморщился, когда скальпель врезался ему в ладонь. Через несколько минут, улыбаясь уже от души, он снова взял в руки свое оружие.
— А теперь прошу мистера Самюэля Дат… Бар!
Все смешалось в одну секунду. Какие бы дьявольские силы ни были в этих чудовищах, люди оказались им вполне под стать. Барклай не успел даже поднять кабель, как десяток людей вцепились в то, что минутой назад казалось им Даттоном. Оно плевалось, кусалось, пыталось вырастить клыки, но было разорвано на части и растоптано. Барклай методично выжигал останки монстра электричеством. Каждую каплю крови Вэн Волл быстро залил каустической кислотой.
Макреди усмехнулся:
— Я, должно быть, недооценил людей, когда сказал, что ничто человеческое не сравнится с дьявольским огнем в глазах найденной нами твари. Жаль, что мы не можем приветить ее чем-нибудь более подобающим — кипящим маслом или расплавленным свинцом, например. Как подумаешь, каким отличным парнем был наш Даттон… Ну ладно. Моя теория Подтвердилась. Пожалуй, пора мне доказать вам кое-что еще, в чем я сам все время был уверен. Что я — человек.
Макреди окунул скальпель в спирт, прокалил его на огне спиртовки и полоснул себя по вене. Двадцать секунд спустя он перевел взгляд на людей, наблюдавших за ним. Улыбающихся лиц стало больше, и улыбки были добрыми. Но что-то все-таки сверкало в глазах улыбающихся людей.
Макреди расхохотался:
— Прав был Конант. Прав. Те собаки тогда, в коридоре, и в подметки вам не годятся. И почему это мы думаем, что злоба свойственна только волкам? Может быть, в некоторых случаях волки и дадут сто очков вперед, но после этой недели — оставь надежду всяк волк, сюда входящий! Ну не будем терять времени. Конант, иди сюда.
И опять Барклай замешкался. Когда наконец он и Вэн Волл кончили свою работу, улыбки у всех стали шире и не такими напряженными, как раньше.
Гэрри говорил, стиснув голову руками: «Конант был одним из лучших наших парней — и пять минут назад я готов был поклясться, что он человек. Эти чертовы твари нечто большее, чем просто имитация».
А еще тридцать секунд спустя кровь, взятая у Гэрри, Сжималась в пробирке, пытаясь увернуться от раскаленной платиновой проволочки, вырваться наружу, в то время как красноглазое чудовище, сбросившее облик Гэрри, пыталось увернутся от кабеля Барклая. Существо в пробирке выло страшным голосом, когда Макреди швырнул пробирку в печь.
* * * — Это последний? — доктор Коппер смотрел на Макреди печальными, налитыми глазами. — Сколько их всего было? Четырнадцать?
Макреди утвердительно кивнул.
— Знаете, если бы можно было предотвратить их распространение, я бы не отказался даже от этих имитаций. Подумать только, Гэрри, Конант, Даттон, Кларк.
— Куда это они? — спросил Коппер, провожая взглядом носилки, которые вытаскивали за порог Барклай и Норрис.
— Свалим на лед вместе с обломками ящиков, подбавим с полтонны угля, выльем галлонов десять керосина и подожжем. А здесь, в комнате, весь пол облили кислотой на всякий случай.
— Правильно сделали, — сказал Коппер. — А кстати, что с Блэром?
Макреди вскочил:
— Черт возьми, я совсем забыл о нем. Еще бы, такие События… Как вы думаете, сможем мы его теперь вылечить?
— Если только… — начал доктор Коппер и вдруг оборвал фразу на полуслове. Макреди сорвался с места:
— Даже безумец… Это существо имитировало даже Киннера с его религиозной истерикой… Вэн, живо пошли в хижину Блэра!
— Давай возьмем с собой Барклая, — сказал на ходу Вэн. — Он пристраивал запоры на двери и сумеет быстро их снять, не напугав Блэра.
— Блэр! — кричал Барклай. — Блэр!
Ответа не было.
— Можешь не кричать, — сказал Макреди, — надо спешить. Если он сбежал, дело плохо — у нас теперь ни самолета, ни тракторов.
— Хватит ли у монстра сил уйти далеко? — спросил Барклай.
— Даже сломанная нога не задержит его и на полминуты, — ответил Макреди.
Неожиданно Барклай дернул Вэна за рукав и Доказал на небо. В сумеречных облаках над их головами с неповторимой грацией и легкостью описывала круги гигантская белокрылая птица.
— Альбатрос, — сказал Барклай, — первый за все время. Если монстр вырвался на свободу…
Норрис выхватил из кармана револьвер. Белую тишину льдов взорвали выстрелы. Птица вскрикнула в воздухе и забила крыльями. Норрис выстрелил еще раз. Альбатрос исчез за деловым гребнем.
— Больше не прилетит, — сказал Неррис.
Странный ярко-голубой луч бил из щелей двери хижины Блэра. Изнутри доносился ровный низкий гул. Макреди побледнел.
— Боже, спаси нас, если это… — Он бросился вперед, рывками расплетая кабель на двери. Барклай с кусачками в руках последовал за ним. Щелканье кусачек тонуло в усиливающемся гуле, доносящемся из-за двери. Макреди приник к щели.
— Это не Блэр! Это он, монстр! Он склонился над чем-то! Он поднимается вверх! Поднимается!
— Все вместе разом взяли! — сказал Барклай. — Норрис, достань свою пушку. Наш приятель, кажется, вооружен.
Под ударом мощных тел дверь соскочила с шарниров, придерживающая ее изнутри лежанка отлетела в угол. Монстр прыгнул им навстречу. Одно из его четырех щупалец извивалось, как готовая к броску змея. В другом блестел длинный кусок металла, похожий на карандаш, нацеленный прямо в лицо Макреди. Норрис выстрелил. Раздробленное щупальце дернулось назад, выронив металлический карандаш. Раздались еще три выстрела. На месте трех горящих глаз появились пустые дыры, и Норрис швырнул разряженный револьвер прямо в них. Чудовище взвыло. Барклай ринулся вперед с ледорубом в руках. Но щупальца монстра обвили его ноги прочными живыми веревками. Барклай отчаянно срывал их с себя рукавицами. Ослепленное чудовище на ощупь пыталось пробраться сквозь меховую одежду к телу — к телу, которое — оно могло бы поглотить. Взревела горелка, которую притащил с собой Макреди. Монстр забился в трехметровом языке пламени, испуская дикие вопли, а Макреди жег его со всех сторон, выгоняя на лед…
Макреди молча шел обратно к хижине. Барклай встретил его в дверях.
— Все? — спросил метеоролог.
Барклай ответил:
— Здесь больше ничего не нашли. А оно не раздвоилось?
— Не успело, — ответил Макреди. — От него одни головешки остались. А чем оно тут занималось?
Норрис усмехнулся:
— Ну и умники же мы все. Разбили магнето, чтобы самолет не летал, вывели из строя тракторы. И оставили эту тварь без присмотра на целую неделю — ни разу даже не пришли проведать.
Макреди вошел в хижину и огляделся. Несмотря на выбитую дверь, в ней было жарко. На столе в дальнем углу комнаты стояло что-то, сделанное из проволочных катушек, маленьких магнитов, стеклянных трубок и радиоламп. А рядом, на большом плоском камне, был собран еще один прибор, испускающий пронзительно яркий луч голубого света.
— Что это? — спросил Макреди.
— Надо, конечно, тщательно все изучить, — ответил Норрис, — но, по-моему, это источник ядерной энергии. Прибор слева, кажется, позволяет добиться результатов, ради которых мы, люди строим стотонные циклотроны. Он выделяет нейтроны из тяжелой воды, которую наш дружок получил изо льда.
— Где же он взял… Ну да, конечно, его же не запрешь. Он, значит, совершал экспедиции в аппаратную. Ну и мозги же у них были! Да это не что иное, как атомный генератор.
Норрис кивнул:
— Весь мир был бы его. Ты обратил внимание на цвет луча?
— Да, — сказал Макреди. — И на жару в хижине тоже. Их планета, видимо, вращалась вокруг голубого солнца и на ней было очень жарко. Думаю, что их посадка здесь была простой случайностью. Поскольку они сюда прилетели двадцать миллионов лет назад, вряд ли можно ожидать повторного визита. Интересно, зачем ему все это понадобилось? — Он показал на генератор.
— А ты заметил, чем он был занят, когда мы ворвались? — спросил Барклай. — Посмотри-ка под потолок.
Прямо под потолком висел предмет, похожий на рюкзак, сделанный из расплющенных кофейных банок.
Барклай потянул его вниз за свисающие лямки и надел на плечи. Слабый толчок — и он полетел вдоль комнаты.
— Антигравитация, — сказал Макреди.
— Совершенно верно, — ответил Норрис. — А мы-то думали их остановить. Самолет привели в негодность, по птицам стреляли. А им всего-навсего нужны были консервные банки и радиодетали. Да еще оставили эту тварь в покое на целую неделю. Она бы одним прыжком махнула отсюда в Америку. С атомным генератором в руках. И все-таки мы их остановили. А ведь еще полчаса — и мы так и остались бы в Антарктике, стреляя всех, птиц.
— Тот альбатрос, — сказал Макреди. — Ты не думаешь…
— С этим-то аппаратом? Нет. Мы спасли наш мир, хотя и оставалось нам всего полчаса.
ЛЕСТЕР ДЕЛЬ РЕЙ
Жизнь Лестера дель Рея (родился в 1916 году) о стороны кажется почти фантастичной. Мать умерла сразу после родов, рос полуголодным на ферме отца, без ухода, со злой мачехой. Упорно учился, одновременно зарабатывая на жизнь. Служил водоносом, цирковым рабочим, поваром, официантом и т. д. Читал Ж. Верна, Г. Уэллса, Э. Берроуза.
В пятнадцать лет встретил девушку, в которую влюбился с первого взгляда, и в тот же день сделал ей предложение. Через три месяца после свадьбы его жена упала с лошади и разбилась насмерть. Поступил в университет и смог проучиться два года, подрабатывая перепиской на машинке. В 1934 году его взяли рассыльным в контору. Однажды девятнадцатилетнему дель Рею повезло выиграть в рулетку 6000 долларов. Купил небольшой ресторанчик. Казалось, жизнь налаживается, но в 1935 году в автомобильной катастрофе погибла вся его семья, кроме сестры, он тяжело заболел, и лишь сложная операция спасла ему жизнь.
Из больницы вышел без гроша, перебивался случайными за работками. Писал стихи, всерьез увлекался научной фантастикой. Испанские предки дель Рея поколение за поколением два с лишним века культивировали атеизм, и этим, может быть, объясняется, почему особое впечатление на двадцатилетнего юношу произвел рассказ К. Саймака «Творец» (1935 г.), в котором вселенная изображалась как результат эксперимента макрокосмического существа, а не божьим творением.
На спор с девушкой написал свое первое научно-фантастическое произведение «Верующий» (1938 г.) о цивилизации разумных собак, поклоняющихся вымершему человеку. Рассказ был опубликован в журнале «Поразительная научная фантастика». А вскоре в этом же журнале появился другой рассказ двадцатитрехлетнего автора — «Елена Лав», в котором реалистично и лирично моделировалась ситуация с очеловечиванием женщины-робота.
Научно-фантастическая история современного Пигмалиона и металлической Галатеи не нова — еще в немецком романе «Метрополис» Теи фон Харбу и в одноименном фильме (1926 г.) робот-вамп играл важную роль. Но Лестер дель Рей придал сюжету художественную убедительность.
В 1942 году появился рассказ «Нервы», в котором пророчески предсказывалась возможность атомного взрыва, если масса радиоактивного изотопа достигнет критической, и в это же время Лестер дель Рейи устроился рабочим-металлистом в Сен-Луисе. Переехав в Нью-Йорк в 1944 году, он стал продавцом в ресторане «Белая башня». Лишь с 1954 года, после новой женитьбы Лестер дель Рей целиком посвятил собя литературной работе.
Рассказ «Елена Лав» назван в числе десяти лучших за все годы.
ЕЛЕНА ЛАВ
Я уже глубокий старик, а все как сейчас вижу и слышу — Дэйв распаковывает ее, оглядывает и говорит, задыхаясь от восхищения: — Красавица, а? Она была красива; мечта, а не сплав пластиков и металлов. Что-то вроде этого чудилось поэтам-классикам, когда они писали свои сонеты. Если Елена Прекрасная выглядела так, то древние греки, видимо, были жалкими скрягами, раз они спустили на воду ради нее всего лишь тысячу кораблей. Примерно это я и сказал Дэйву. — Елена Прекрасная? — Он взглянул на ее бирку. — По крайней мере, это название получше того, что здесь написано, — К2У88. Елена… мммм… Елена Сплав. — Не очень благозвучно. Слишком много согласных в одном месте. А что ты скажешь насчет Елены Лав? — Елена Лав. Да, она и есть воплощение любви, Фил. Таково было первое впечатление от этого сплава красоты, мечты и науки, с добавкой стереоаппаратуры и двигательных механизмов; зато потом голова пошла кругом… Мы с Дэйвом учились не в одном колледже, но, когда я приехал в Мессину и занялся медицинской практикой, оказалось, что у него на первом этаже моего дома небольшая мастерская по починке роботов. Мы подружились, а когда я увлекся одной девицей, он нашел, что ее сестра-двойняшка не менее привлекательна, и мы проводили время вчетвером. Когда наши дела пошли лучше, мы сняли дом поблизости от ракетодрома. Там было шумно, но платили мы дешево — соседство ракет жильцов не устраивало. Нам же нравилось жить просторно. Наверно, со временем мы бы женились на двойняшках, если бы не ссорились с ними. Бывало, Дэйв хочет взглянуть на взлет новой ракеты, направляющейся на Венеру, а его двойняшка желает посмотреть передачу с участием стереозвезды Ларри Эйнсли, и оба упрямо стоят на своем. Мы распрощались с девушками и с тех пор проводили вечера дома. Но проблемой роботов и их эмоций мы занялись только после того, как наш прежний робот «Лена» посыпала бифштекс ванилью вместо соли. Пока Дэйв разбирал Лену, чтобы найти причину неисправности, мы с ним, естественно, рассуждали о будущности машин. Он был уверен, что в один прекрасный день роботы превзойдут людей, а я сомневался. — Послушай, Дэйв, — возражал я, — ты же знаешь, что Лена не думает… по-настоящему… При противоречивых сигналах она могла бы исправить ошибку. Но ей все равно; она действует механически. Человек мог бы по ошибке схватить ваниль, но сыпать ее не стал бы. Лена достаточно умна, но у нее нет эмоций, нет самосознания. — Действительно, это самый большой недостаток нынешних машин. Но мы его устраним, вмонтируем в них кое-какие автоматические эмоции или что-нибудь вроде этого. — Он привинтил Лене голову и включил питание. — Принимайся снова за работу, Лена, сейчас девятнадцать часов. К тому времени я специализировался на эндокринологии и всем, что связано с ней. Психологом я не был, но разбирался в железах, секрециях, гормонах и прочих мелочах, которые являются физическим источником эмоций. Медицине потребовалось триста лет, чтобы узнать, как и почему они работают, и я не представлял себе людей, которые могли бы создать их искусственные дубликаты за меньшее время. Ради подтверждения этого я принес домой книги, научные труды, а Дэйв сослался на изобретение катушек памяти и веритоидных глаз. В тот год мы так много занимались наукой, что Дэйв освоил всю эндокринологическую теорию, а я мог бы изготовить новую Лену по памяти. Чем больше мы спорили, тем меньше я сомневался в возможности создания совершенного «homomechanensis». Бедняжка Лена. Половину времени ее тело, состоявшее из берилловых сплавов, проводило в разобранном состоянии. Сперва мы преуспели лишь в том, что она готовила нам на завтрак жареные щетки и мыла посуду в масле. Потом однажды она приготовила отличный обед из шести блюд, и Дэйв был в восторге. Он работал всю ночь, меняя ее схему, ставя новые катушки, расширяя ее словарный запас. А на следующий день она вдруг вскипела и стала энергично ругаться, когда мы ей сказали, что она выполняет свою работу неправильно. — Это ложь, — кричала она, потрясая щеткой своего пылесоса. — Вы все врете. Если бы вы, такие-растакие, давали бы мне побольше времени для работы, я бы навела порядок в доме. Когда мы успокоили ее и она снова принялась за работу, Дэйв потянул меня в кабинет. — С Леной ничего не выйдет, — объяснил он. — Придется удалить эту имитацию надпочечной железы и вернуть ее в нормальное состояние. Но нам надо приобрести робот получше. Машина для домашних работ недостаточно сложна. — А как насчет новых универсальных моделей Дилларда? Они, кажется, совмещают в себе все и вся. — Точно. Но и они не годятся. Надо, чтобы нам сделали робот по специальному заказу, с полным набором катушек памяти. И из уважения к нашей старой Лене пусть он будет иметь женский облик. Таким вот образом и появилась Елена. У Дилларда сделали чудо и придали всем своим ухищрениям девичий облик. Даже лицо, сделанное из пластика и резины, было подвижным и могло выражать эмоции. Ее снабдили слезными железами и вкусовыми бугорками; она была приспособлена для имитации человека во всем — от дыхания до отращивания волос. Счет, который нам прислали вместе с ней, являл собой еще одно чудо; мы с Дэйвом еле наскребли денег; пришлось даже пожертвовать Леной и сесть на голодную диету. К тому времени я уже сделал много сложных операций на живой ткани, и некоторые из них требовали великой находчивости, но я почувствовал себя студентом-медиком, когда мы откинули переднюю панель ее торса и стали вглядываться в переплетения ее «нервов». Дэйв уже подготовил автоматические железы — компактные устройства из радиоламп и проводов, которые гетеродинировали электрические импульсы, возникающие при работе мысли, и изменяли эти импульсы таким же образом, как адреналин влияет на реакцию человеческого ума. Вместо того чтобы спать, мы всю ночь вглядывались в схему Елены, прослеживали ее мыслительные процессы в лабиринте цепей и вживляли то, что Дэйв назвал «гетеронами». И пока мы работали, в дополнительную катушку памяти с ленты вводились тщательно подготовленные мысли о самосознании, о человеческих чувствах и восприятии жизни. Дэйв считал, что надо предусмотреть все без исключения. Уже рассвело, когда мы кончили работу, выдохшиеся и взвинченные. Оставалось только оживить Елену, включив электрический ток. Как и все машины Дилларда, она работала не на батареях, а на крошечном атомоторе, который после включения больше не требовал внимания. Дэйв отказался включать ее. — Подождем. Давай сперва выспимся и отдохнем, — сказал он. — Мне самому не терпится, как и тебе, но мы немногое поймем такие вот, смертельно усталые. Сворачивайся, оставим пока Елену в покое. Хотя обоим нам не хотелось откладывать включение, мы понимали, что отдохнуть не мешало бы. Мы все бросили, и не успел аппарат для кондиционирования снизить температуру воздуха до ночной, как мы уже спали. Я проснулся оттого, что Дэйв тряс меня за плечи. — Фил! Очнись! Я зевнул со стоном, перевернулся и посмотрел на Дэйва. — Ну?… О-ох! Что там? Елена уже… — Нет, это старая миссис ван Стайлер. Она видеофонировала и сказала, что ее сын влюбился до безумия в прислугу. Она хочет, чтобы ты приехал и дал контргормоны. Сейчас они на летнем отдыхе в штате Мэн. Богатая миссис ван Стайлер! Я не мог позволить себе отказаться от этого вызова после того, как Елена поглотила остаток моих сбережений. Но за такую работу я обычно не брался. — Контргормоны! На это уйдет полных две недели. К тому же я не из тех светских врачей, которые ковыряются в железах ради того, чтобы делать дураков счастливыми. Я берусь только за серьезные случаи. — И ты хочешь понаблюдать за Еленой. — Дэйв ухмылялся, но говорил серьезно. — Я сказал миссис ван Стайлер, что это будет стоить ей пятьдесят тысяч! — Сколько?! — Она согласилась, только просила поспешить. Разумеется, выбора у меня не было, хотя я с большим удовольствием свернул бы жирную морщинистую шею миссис ван Стайлер. У нее не было бы никаких неприятностей, если бы она в своем домашнем хозяйстве пользовалась услугами роботов, как все, но богатство вынуждало ее оригинальничать.
Итак, пока Дэйв дома забавлялся Еленой, я ломал себе голову, каким образом напичкать Арчи ван Стайлера контргормонами, а заодно дать их и горничной. Меня об этом не просили, но бедная девочка была по уши влюблена в Арчи. Дэйв, казалось, мог бы держать меня в курсе дела, но я не получил от него ни строчки. Только три недели спустя вместо двух, доложив, что Арчи «выздоровел», я принял гонорар. С такими деньгами в кармане я мог позволить себе заказать спецрейс и прибыл ракетой в Мессину через полчаса. До дому было рукой подать. Войдя в прихожую, я услышал легкий топот ног и голос, полный страсти: — Дэйв, милый, это ты? С минуту я не мог произнести ни слова. И снова донесся умоляющий голос: — Дэйв? Не знаю, чего я ожидал, но я никак не ожидал, что Елена встретит меня таким образом — она остановилась и пристально смотрела на меня, на лице ее явно было написано разочарование, ручки, прижатые к груди, трепетали. — О! — воскликнула она. — Я думала, это Дэйв. Теперь он совсем не ест дома, но я все равно жду его к ужину. — Она опустила руки и, сделав над собой усилие, улыбнулась. — Вы Фил, не так ли? Дэйв говорил мне о вас, когда… сперва. Я очень рада, что вы вернулись. Фил. — Рад видеть тебя в добром здравии, Елена. — А что еще можно сказать при обмене любезностями с роботом? — Ты что-то сказала насчет ужина? — О да. Наверно, Дэйв опять поужинает в центре, так что мы с вами можем сесть за стол. Так приятно, когда в доме есть с кем поболтать. Фил. Вы не возражаете, если я буду вас звать просто Филом? Кажется, вы что-то вроде крестного отца мне… Мы ели. Я не рассчитывал на это, но, видимо, она считала поглощение пищи таким же нормальным явлением, как хождение. Правда, ела она мало, а все больше поглядывала на входную дверь. Когда мы уже кончали ужинать, пришел Дэйв, хмурый как туча. Елена было встала, но он улизнул наверх, бросив мне через плечо: — Привет, Фил. Зайди ко мне потом наверх. С ним было что-то совсем неладное. Мне показалось, что глаза у него тоскливые, а когда я повернулся к Елене, то увидел ее в слезах. Она всхлипывала и тем не менее принялась поглощать неуместно много пищи. — Что с ним… и с тобой? — спросил я. — Он устал от меня. Она отодвинула тарелку и торопливо добавила: — Вы лучше поговорите с ним, пока я приберусь. А со мной ничего не случилось. Во всяком случае, я ни в чем не виновата. Она собрала тарелки и бросилась на кухню; могу поклясться, что она рыдала. Возможно, весь мыслительный процесс состоит из серий условных рефлексов… но она наверняка была вне себя от этих условностей, когда я уходил. С Леной в пору ее расцвета не происходило ничего подобного. Я пошел наверх к Дэйву, чтобы он помог мне разобраться во всей этой путанице.
Он доливал водой из сифона стакан с яблочным бренди, и я увидел, что бутылка почти пуста. — Тебе налить? — спросил он. Кажется, это была неплохая идея. Над головой раздался рев взлетающей ракеты, и только он один оставался знакомым мне в нашем доме. По провалившимся глазам Дэйва было видно, что за мое отсутствие он осушил не одну бутылку и не намеревался бросить это занятие. Себе он налил еще раз, но уже достав новую бутылку. — Это, конечно, не мое дело, Дэйв, но это зелье твоих нервов не укрепит. Какой бес вселился в тебя и Елену? Призраки являются? Елена ошибалась; он не ужинал в городе… вообще не ел. Он так расслабленно рухнул в кресло, что это говорило не об усталости и нервах, а скорее о голодном истощении. — Заметно, да? — Заметно? Вы вот где сидите у меня оба, в горле. — Гммм… — Он прихлопнул несуществовавшую муху и еще глубже ушел в свое пневматическое кресло. — Наверно, мне не надо было оживлять Елену до твоего возвращения. Но если бы не началась другая стереопередача… Во всяком случае, с нее-то все и началось. А эти твои сентиментальные книжки довели дело до конца. — Спасибо. Теперь мне все понятно. — Ты знаешь. Фил, у меня в провинции есть одно место… фруктовая плантация. Отец оставил мне в наследство. Кажется, мне надо присмотреть за ней. Так вот мы и разговаривали. Но наконец, основательно выпив и основательно попотев, я выкачал из него кое-что, а потом дал ему амитал и уложил в постель. Разыскав Елену, я стал выпытывать у нее остальное, пока не уразумел, в чем дело. Очевидно, вскоре после моего отъезда Дэйв включил ее и провел предварительную проверку ее способностей, которые вполне удовлетворили его. У нее была превосходная реакция… настолько хорошая, что он решил оставить ее в покое и взяться за свою обычную работу. Естественно, что она со всеми ее неиспытанными эмоциями была полна любопытства и хотела, чтобы он остался с ней. Тогда его осенило. Рассказав ей, какие у нее будут обязанности по дому, он усадил ее перед стереовизором, включил какой-то фильм о путешествиях и, заняв ее этим, ушел. Она досмотрела видовой фильм до конца, а потом станция начала показывать свой серийный фильм с Ларри Эйнсли в главной роли, с тем самым душещипательным красавчиком, из-за которого расстроились наши отношения с двойняшками. Случайно он оказался похожим на Дэйва. Елена впитывала в себя фильм, как ива воду. Зрелище было превосходной отдушиной для распиравших ее эмоций. Когда оно закончилось, Елена разыскала любовную историю в другой программе и пополнила свое образование. После полудня по стереовизору обычно показывают новости и ведут музыкальные передачи, но тогда она обнаружила мои книги, а я люблю юношеское чтиво. Дэйв вернулся домой в лучшем расположении духа. Уже в прихожей он учуял запах такой пищи, по какой скучал много недель. И он сразу представил себе, какой превосходной домохозяйкой будет Елена. Так что для него было совершеннейшей неожиданностью, когда он почувствовал вдруг, как вокруг его шеи обвились две сильные руки, и услышал дрожащий от нежности голос: — О Дэйв, милый, я так скучала по тебе, и я вся трепещу при виде тебя. Возможно, ее технике обольщения еще недоставало некоторого блеска, зато энтузиазма было хоть отбавляй, и Дэйв почувствовал это, когда пытался уклониться от ее поцелуя. Действовала она быстро и неистово… все-таки в движение Елену приводил атомотор. Дэйв не был ханжой, но он не забывал, что она в конце концов всего лишь робот. Для него не имел значения тот факт, что чувства, движения, внешность у нее были как у юной богини. Не без усилий он вывернулся из объятий Елены и потащил ее к столу. Ужиная, он заставил есть и Елену, чтобы этим занятием отвлечь ее внимание. После того как она выполнила свою вечернюю работу, он позвал ее к себе в кабинет и прочел ей продуманную лекцию о том, как глупо она себя ведет. Видимо, это была неплохая лекция, потому что продолжалась она целых три часа и касалась ее положения в жизни, идиотизма стереофильмов и прочей всякой всячины. Когда он замолк, Елена взглянула на него своими влажными от слез глазами и сказала с тоской: — Я все понимаю, Дэйв, но по-прежнему люблю тебя.
Тогда-то Дэйв и начал пить. Дело становилось хуже с каждым днем. Если он задерживался в городе, она плакала, когда он возвращался. Если он возвращался вовремя, она носилась с ним как с писаной торбой и липла к нему. Он запирался в своей комнате и слышал, как она внизу ходит из угла в угол и бормочет, а когда он спускался, она с упреком смотрела на него до тех пор, пока он не убегал к себе. Утром я отослал Елену, придумав ей какое-то поручение, а сам поднял Дэйва. В ее отсутствие я накормил его приличным завтраком и дал тонизирующего для успокоения нервов. Он все еще был вял и угрюм. — Послушай, Дэйв, — прервал я его размышления. — В конце концов Елена же не человек. Почему бы не выключить ее и не сменить ей несколько катушек памяти? Потом мы сможем убедить ее, что она никогда не была влюблена и что в дальнейшем не имеет на это права. — Попробуй. Я тоже думал об этом, но она так взвыла, что самого старика Гомера могла бы поднять из могилы. Она говорит, что это убийство… и все такое прочее. Да я и сам не могу отделаться от такого же чувства. Может быть, она и не женщина, но поди отличи ее, когда она с мученическим видом говорит тебе: давай убивай. — Но мы же не вставляли в нее замену тех секреций, которые наличествуют в человеке в период любви. — Я не знаю, что мы там вставляли. Может, в гетеронах произошла обратная вспышка или какое-нибудь замыкание. Во всяком случае, эта мысль так втемяшилась ей в голову, что нам придется сменить весь набор катушек. — За чем же дело? — Действуй. Ты же наш домашний врач. Я не привык возиться с эмоциями. По правде говоря, из-за ее поведения я возненавидел всякую работу с роботами. Мое дело прогорает. Увидев, что Елена возвращается, он выскочил через черный ход и сел в монорельсовый экспресс. Я собирался уложить его в постель, но потом раздумал. Может быть, в мастерской ему будет лучше, чем дома. — Дэйв ушел? У Елены сразу же появился мученический вид. — Да. Я заставил его поесть, и он поехал на работу. — Я рада, что он поел. Она упала на стул, будто в изнеможении, хотя до меня не доходит, как это машина может устать. — Фил! — Да, в чем дело? — Вы думаете, ему со мной плохо? Я хочу сказать, вы думаете, он был бы счастливее, если бы меня не было здесь? — Он с ума сойдет, если ты будешь продолжать вести себя с ним таким образом. Елена вздрогнула. Она так умоляюще стиснула свои маленькие ручки, что я почувствовал себя бесчеловечным зверем. Но я опомнился и продолжал: — Даже если я отключу источник энергии и переменю твои катушки, ты, наверно, все равно будешь преследовать его. — Я все понимаю. Но ничего не могу поделать с собой. Я была бы ему хорошей женой, я в самом деле справилась бы, Фил. У меня перехватило дыхание; дело зашло чуть-чуть дальше, чем следовало бы. — И родила бы ему здоровых сыновей, наверно? Мужчине нужны плоть и кровь, а не металл и резина. — Перестаньте, умоляю! Такое о себе мне и в голову не приходит. По моим представлениям, я женщина. И вы знаете, насколько совершенно я могу имитировать настоящую женщину… во всех отношениях. Я не могу родить ему сыновей, но во всех других отношениях… Я буду очень стараться. Я уверена, что буду ему хорошей женой. Я сдался. Дэйв не вернулся домой ни в тот вечер, ни в следующий. Елена суетилась и волновалась, умоляя меня обзвонить больницы и полицейские участки, но я знал, что с ним ничего не случилось. Он всегда носил с собой удостоверение личности. И все же, когда он не явился и на третий день, я стал беспокоиться. А когда Елена решила сходить к нему в мастерскую, я согласился пойти с ней. Мы застали там Дэйва с еще одним человеком, которого я не знал. Я выбрал для Елены стоянку таким образом, чтобы Дэйв не мог увидеть ее, а она могла его слышать, и вошел, как только незнакомец покинул мастерскую. Дэйв выглядел немного лучше и вроде бы обрадовался мне. — Привет, Фил. Как раз собирался закрыть мастерскую. Пойдем поедим. Елена не вынесла и присоединилась к нам. — Пошли домой, Дэйв. У меня жареная утка со специями. Ты же любишь такую. — Сгинь! — сказал Дэйв. Она отпрянула и повернулась, чтобы уйти. Ладно, оставайся. Тебе это тоже полезно послушать. Я продал мастерскую. Человек, которого вы только что видели, купил ее. Я уезжаю на свою фруктовую плантацию, о которой говорил тебе. Фил. Я сыт машинами по горло. — Ты там умрешь с голоду, — сказал я ему. — Нет, спрос на старинные фрукты, растущие на воле, все увеличивается. Народу надоели все эти гидропонные штучки. Отец всегда неплохо зарабатывал на фруктах. Я сейчас же пойду домой, соберусь и уеду. Елена гнула свою линию. — Я соберу твои вещи, Дэйв, пока ты будешь есть. На десерт у меня яблочный пирог. Земля разверзлась под ее ногами, но она не забыла, что он обожает яблочные пироги. Елена готовила хорошо, если не сказать — гениально. Это было сочетание всего лучшего, взятого от женщины и машины. Мы сели за стол, и Дэйв съел довольно много. К концу ужина он оттаял настолько, что похвалил утку и пирог и поблагодарил Елену за помощь при сборах. Он даже разрешил ей поцеловать его на прощанье, хотя решительно не позволил проводить до ракеты. Елена пыталась вести себя мужественно, когда я вернулся, и мы, запинаясь, поговорили немного о слугах миссис ван Стайлер. Но мы быстро выдохлись, и Елена все остальное время просидела у окна, уставившись в него невидящим взором. Даже стереокомедия не заинтересовала ее, и я вздохнул с облегчением, когда она ушла в свою комнату. Она могла понижать подачу питания, когда хотела симулировать сон. Со временем я начал понимать, почему она отказывается считать себя роботом. Я и сам стал думать о ней как о девушке. С ней было хорошо проводить время. Не считая тех редких перерывов, когда она уединялась для переживаний или сидела у телескрипта в ожидании письма, которое так и не пришло, не нашлось бы никого, с кем было бы так приятно жить под одной крышей. В доме стало так уютно, как никогда не было при Лене. Я взял с собой Елену в Гудзон, чтобы походить по магазинам, где она хихикала и мурлыкала, перебирая шелка и побрякушки, бывшие тогда в моде, примеряла бесконечные шляпки и вела себя как любая нормальная девушка. Однажды мы с ней отправились ловить форель, и она доказала, что в ней есть спортивная жилка и что она способна сосредоточиваться по-мужски. Я наслаждался ее обществом и думал, что она забывает Дэйва. Так было до тех пор, пока однажды я не заявился домой неожиданно и не застал ее, скорчившуюся на диване, сучившую ногами, истерически рыдавшую. Тогда-то я и заказал разговор с Дэйвом. Его никак не могли найти, и Елена стояла рядом со мной, пока я ждал, что он откликнется на вызов. Она была нервозна и суетлива, как старая дева, пытающаяся заполучить муженька. Но наконец Дэйва нашли. — Что случилось. Фил? — спросил он, когда его лицо появилось на экране. — Я как раз собирал вещи, чтобы… Я перебил его: — Такое положение вещей больше продолжаться не может, Дэйв. Я решился. Я сегодня же вечером повыдергаю из Елены все катушки. Уж лучше так, чем видеть, что с ней происходит. Елена протянула руку и коснулась моего плеча. — Быть может, это лучший выход, Фил. Я понимаю вас. Голос Дэйва стал прерывистым. — Фил, ты сам не понимаешь, что говоришь! — Прекрасно понимаю. К тому времени, когда ты доберешься сюда, все будет кончено. Ты же слышал, она согласна. Дэйв стал мрачнее черной тучи. — Я не хочу этого, Фил. Она наполовину моя, и я запрещаю! — Ты самый… — Давай называй меня чем угодно… Я передумал. Я собирал чемоданы, чтобы вернуться домой, когда ты меня вызвал. Елена суетилась возле меня, ее сияющие глаза были устремлены на экран. — Дэйв, ты хочешь… ты… — Я только что пришел в себя и сообразил, каким же я был дураком, Елена. Фил, я буду дома часа через два, и если что-нибудь… Ему не пришлось просить меня выйти вон. Но, еще не успев захлопнуть за собой дверь, я услышал, как Елена что-то мурлычет относительно того, что быть женой плантатора — предел ее желаний. Они ошибались, думая, что это будет для меня неожиданностью. Кажется, я догадывался, что произойдет, когда вызывал Дэйва. Если мужчине не нравится девушка, он никогда не поступает так, как вел себя до сих пор Дэйв; так ведут себя, когда думают, что девушка не нравится… ошибочно думают. Ни из одной женщины не получалось более милой невесты и приятной жены. Елена не остыла в своем рвении хорошо готовить и держать дом в порядке. Когда она уехала, наше старое жилище, казалось, опустело, и я стал наведываться на плантацию раз, а то и два в неделю. Временами, наверно, у них были свои тревоги, но я никогда не замечал этого, и я знаю, что соседи никогда не подозревали ничего, считая их нормальными мужем и женой. Дэйв старел, а Елена, разумеется, нет. Но, говоря между нами, мы с ней покрывали ее лицо морщинами и меняли ее волосы на седые, чтобы Дэйв не догадался, что она не стареет вместе с ним — мне кажется, он забыл, что она не человек. В сущности, я и сам забыл. И, только получив сегодня утром письмо от Елены, я вернулся к действительности. Почерк у нее красивый, и только местами у нее дрожала рука. В письме сообщалось о том неизбежном, что не предусмотрели ни Дэйв, ни я.
Дорогой Фил!
Как вы знаете, Дэйв уже несколько лет страдал сердечной болезнью. Мы думали, что он выживет, но, видно, нашим надеждам не суждено было сбыться. Он умер у меня на руках перед самым рассветом. Он просил передать вам свой прощальный привет.
Я прошу вас, Фил, о последней милости. Для меня остается одно после того, как все будет кончено. Кислота разъедает металл так же, как она разъедает плоть, и я умру вместе с Дэйвом. Пожалуйста, присмотрите, чтобы нас похоронили вместе и чтобы гробовщики не открыли моего секрета. Дэйв тоже этого хотел.
Бедный, мой милый Фил! Я знаю, что вы любили Дэйва как брата и что вы сочувствуете мне. Пожалуйста, не слишком горюйте о нас, потому что мы прожили с ним счастливую жизнь и оба считали, что должны перейти этот предел рука об руку.
С любовью и благодарностью
Елена.
Рано или поздно это должно было произойти. Я немного оправился от потрясения, нанесенного мне письмом. Через несколько минут я уезжаю, чтобы выполнить последние пожелания Елены. Дэйв был счастливцем и моим лучшим другом. А Елена… Ну, как вы уже знаете, я глубокий старик и могу смотреть на вещи более трезво. Я мог бы жениться, создать семью, наверно, Но… на свете была только одна Елена Лав.
СТЕНЛИ ВЕЙНБАУМ
В 1934 году в журнал «Чудесные истории» почтальон привес конверт. В конверте лежала рукопись вод названием «Марсианская Одиссея». Автор — некий Стенли Вейнбаум. Рассказ поразил редакцию необычным взглядом на фантастический космос и его обитателей.
Читатели восприняли рассказ с большим интересом.
Успех пришел к С. Вейнбауму (1905–1935 гг.) не случайно. Инженер-химик по образованию, он все. же решил стать писателем. Стихи, либретто оперетты, романы, повести, рассказы — вот что он написал в возрасте от 20 до 30 лет. Но опубликовано было немного, Вейнбаум долго не находил себя. Блестяще подготовленный научно, с тонким художественным вкусом, с бурлящим воображением, он не мог пройти мимо научной фантастики — сначала как читатель, а затем и как автор. Научно-фантастическую вселенную он изучил досконально. И проложил в ней свой собственный маршрут.
Новым достижением Стенли Вейнбаума стал рассказ «Идеальная адаптация» (1935 г.), написанный, впрочем, не без влияния рассказа Д. Келлера «Жизнь без конца». Сюжет отличается от гомеровских реминисценций: девушка больна туберкулезом, для лечения применяется некий необычный наркотик, и тело девушки испытывает в результате кардинальную мутацию, приобретает способность мгновенно приспосабливаться к любым изменениям окружающей среды и защищаться от любых опасностей. К тому же «суперменша» становится обладательницей лучезарнейшей красоты и блестящего ума. У нее появляются все шансы захватить власть над миром. Люди испуганы. Даже жених хочет ее смерти. В конце концов действие наркотика прекращается, девушка обречена, а жених страдает от раздвоенности чувств.
Стенли Вейнбаум умер от рака в 1935 году. Его карьера профессионального писателя-фантаста продолжалась менее двух лет, но творческая манера вошла в арсенал американской научной фантастики и повлияла, в частности, на творчество Г. Каттнера, Д. Фирна, Ф. Хосе Фармера.
Марсианская тема всегда была очень популярной в американской научной фантастике. Сейчас, когда космические аппараты исследуют поверхность Марса, мы каждый день можем ожидать новостей. И рассказ Вейнбаума «Марсианская Одиссея» настраивает нас на неожиданное.
МАРСИАНСКАЯ ОДИССЕЯ
Ярвис устроился с максимальным комфортом, который позволяла тесная каюта «Ареса».
— Какой воздух! — ликовал он. — После этой разряженной дряни снаружи будто суп хлебаешь! — И он взглянул на марсианский ландшафт за стеклом, плоский и унылый в свете ближайшей луны.
Остальные трое разглядывали его с сочувствием — инженер Путц, биолог Лерой и астроном Гаррисон, он же капитан экспедиции. Дик Ярвис был химик этого знаменитого экипажа экспедиции «Арес», того самого, члены которого первыми из всех людей ступили на почву ее таинственного соседа — планеты Марс. Конечно, это было давным-давно, всего около двадцати лет спустя после того, как этот сумасшедший американец Догени ценой собственной жизни решил проблему ядерного двигателя, а не менее сумасшедший Кардоза с помощью такого двигателя добрался до Луны. Эти четверо с «Ареса» были настоящие первопроходцы. Если не считать полудюжины экспедиций на Луну и злополучного полета де Ланси в сторону заманчивой Венеры, этим людям первым пришлось ощутить гравитацию, отличную от земной, и, уж разумеется, им первым удалось вырваться за пределы трассы Земля-Луна. И они заслужили это счастье, если учесть все трудности и неудобства, которые им пришлось перенести: месяцы, проведенные в камере акклиматизации на Земле, когда они привыкали дышать в атмосфере, сходной с разреженной атмосферой Марса, затем вызов пространству в крохотной ракете с примитивным двигателем двадцать первого столетья, и самое главное — встреча с абсолютно неизвестным миром.
Ярвис потянулся и потрогал саднящий и шелушащийся кончик носа, обожженный морозом. И снова довольно вздохнул.
— Ну, — вдруг взорвался Гаррисон. — Мы когда-нибудь услышим, что произошло, или нет? Ты отправляешься честь честью в подсобной ракете, мы о тебе целых десять дней ничего не знаем, и вот наконец Путц извлекает тебя из какой-то идиотской муравьиной кучи, а за приятеля у тебя какой-то дурацкий страус. А ну, голубчик, шпарь!
— Шпарь? — изумленно протянул Лерой. — Кого шпарь?
— Он хочет сказать «шпиль», — рассудительно объяснил Путц, — «spiel» — означает ковори, расскасофай. Играй свой пластинка.
Ярвис взглянул на развеселившегося Гаррисона без тени улыбки.
— Все правильно, Карл, — мрачно обратился он к Путцу. — Сейчас проиграю свою пластинку.
Он удовлетворенно хмыкнул и начал свой рассказ.
— Как было приказано, — сказал он, — я проследил как Карл стартовал в северном направлении, затем взобрался в свою душегубку и отправился к югу. Помнишь, капитан, приказ был не приземляться, а только разведать, где что есть интересного. Я включил обе камеры и шлепал на приличной высоте, так около двух тысяч футов. Во-первых, так больше обзор у камер, ну и, кроме этого, в этом вакууме, который почему-то здесь называют атмосферой, если лететь ниже, двигатели поднимают ужасную пылищу.
— Мы все это знаем от Путца, — буркнул Гаррисон. — Хотя пленку ты бы лучше сохранил. Она бы окупила твою эту прогулочку. Помнишь, как публика ломилась на первые фильмы, снятые на Луне?
— Пленка цела, — отпарировал Ярвис. — В общем, — продолжал он, — как я уже сказал, шлепал я довольно быстро. Как вы и предполагали, при скорости выше ста миль в час подъемная сила плоскости крыльев в этой атмосфере невелика, и мне пришлось подключить аварийный двигатель.
В общем, из-за скорости и высоты видимость была не очень хорошей. Однако достаточной, что бы разобрать, что я лечу точно над такой же серой равниной, как та, что мы изучали целую неделю после высадки. Такая же пузырчатая растительность и такой же вечный серый ковер этих ползучих растений — животных, которые Лерой зовет биоподами. В общем, я летел и каждый час, по инструкции, сообщал свое местонахождения, хотя понятия не имел, слышите вы меня, или нет.
— Слышал я, — огрызнулся Гаррисон.
— Ста пятьюдесятью милями южнее, — невозмутимо продолжал Ярвис, равнина сменилась чем-то вроде плато, сплошь пустыня и оранжевый песок. Я прикинул, что мы были правы, когда предположи, что эта серая равнина, Киммерийское море, а тогда эта оранжевая пустыня — то, что мы называем Ксантус. Если это так, то через пару сотен миль должна была появиться еще одна серая равнина, море Хрониум, а затем еще одна пустыня, Тайль I или II. И так оно и было.
— Путц уточнил наше местонахождение еще десять дней назад, пробурчал капитан, — давай ближе к делу.
— Уже близко, — ответил Ярвис. — В Тайле я через двадцать миль пересек канал!
— Путц их сфотографировал сотню. Давай что-нибудь поновее!
— А город не видел?
— Целых двадцать. Если, конечно, можно считать эти кучи мусора городами.
— Ну ладно, — продолжал Ярвис, — теперь я вам расскажу кое-что, чего Путц не видел. — Он потер свой зудящий нос и продолжал: — Я знал, что в это время года светло бывает шестнадцать часов, так что через восемь часов — отсюда восемьсот миль- я решил возвращаться. Я был еще над Тайлем I или II, не знаю, но не больше чем милях в двадцати пяти от границы пустыни. И именно в этом месте драгоценный мотор Путца отказал.
— Как отказал? — забеспокоился Путц.
— Ядерная тяга ослабела. Я сразу же начал терять высоту и шмякнулся прямо в песок. И нос разбил об иллюминатор! — И он горестно потер пострадавший орган.
— Может быть, пытался мыть камера сгорания мит серная кислота? осведомился Путц. — Иногда свинец тает вторичная радиация…
— Ну да, — сказал Ярвис с отвращением. — Никогда бы не подумал… ну, во всяком случае, не больше десяти раз! Кроме того, от удара сплющило шасси и смяло аварийный двигатель. Даже если бы мне удалось запустить двигатель — что дальше? Выхлоп прямо из дна. Да через десять миль пол бы подо мной расплавился! — Он снова потер нос. — Счастье, что фунт здесь весит только семь унций, а то бы меня в лепешку расшибло.
— Я б мок бы чиниль! — воскликнул инженер. — Тержу пари, это не быль серьесно.
— Может, и нет, — саркастически усмехнулся Ярвис. — Только летать все равно было нельзя. Ничего серьезного, только мне нужно было или ждать, пока меня найдут, или пытаться идти обратно пешком восемьсот миль, а до отлета только двадцать дней! Сорок миль в день! Ну, — заключил он, — я предпочел не сидеть на месте. Шансов, что найдут, столько же, зато при деле.
— Мы бы тебя нашли, — сказал Гаррисон.
— Не сомневаюсь. Как бы то ни было, я смастерил из пристежных ремней лямки и привязал на спину бак с водой, взял обойму и револьвер, часть продуктов из неприкосновенного запаса и отправился.
— Бак с водой! — воскликнул Лерой. — Да он же весит четверть тонны!
— Неполный. Двести пятьдесят фунтов земного веса, значит, восемьдесят пять. Кроме того, мои собственные двести десять фунтов на Марсе весят только семьдесят, так что вместе с баком на пять фунтов меньше, чем я обычно вешу на Земле. Я как раз на это и рассчитывал, когда решил делать в день по сорок миль. Да и, конечно, я захватил спальный термомешок, ночи-то на Марсе прямо зимние.
Ну и поскакал я довольно-таки быстро. За восемь часов дневного света можно пройти не меньше двадцати миль. Это было довольно-таки утомительно топать по пустыне с грузом, а вокруг никого и ничего, даже ползучих лероевских биоподов. Примерно через час я добрался до канала — просто сухая канава футов четыреста шириной, прямая как рельс.
Но в ней когда-то была вода. Канава была покрыта чем-то зеленым, вроде как лужайка. Только когда я подошел поближе, лужайка уползла из-под ног.
— Как? — спросил Лерой.
— Да-да, это были родственники твоих биоподов. Я поймал одного маленькая такая былинка с палец длиной и две тонкие суставчатые ножки.
— Он есть где? — загорелся Лерой.
— Он есть там! Мне нужно было идти, так что я потащился дальше, а живая трава расступалась передо мной, а потом смыкалась. А потом я опять очутился в оранжевой пустыне Тайль. Я все топал и топал и отчаянно ругал песок, из-за которого так трудно было двигаться, и, между прочим, Карл, твой идиотский двигатель. Как раз перед сумерками я добрался до края пустыни и стал рассматривать это серое море Хрониум, которое лежало внизу. И я знал, что мне предстоит пройти еще семьдесят миль по нему, а затем миль двести через Ксантус, а затем, наверное, еще столько же через Киммерийское море. Думаете, приятно? И я стал ругать вас всех за то, что вы меня не находите!
— Но мы же пытались, ты, чучело! — сказал Гаррисон.
— Но от этого было мало толку. Ну я подумал, что, пока еще светло, можно спуститься со скалы, граничащей с морем. Я нашел удобный спуск. Море Хрониум — точно такое же место, как и вот это, — дурацкие растения без листьев и куча ползучих тварей. Я только взглянул на них и вытащил свой спальный мешок. До этого мне, понимаете, не приходилось видеть в этом полумертвом мире ничего такого, из-за чего можно было бы беспокоиться, ну ничего опасного.
— Ничего? — осведомился Гаррисон.
— Ничего! Ты об этом услышишь, когда я до этого дойду. Ну я уже совсем собрался в него залезть, когда вдруг услышал какой-то дикий тарарам.
— Что такое тарарам? — спросил Путц.
— Он хочет сказать «Та дерар зеню», «Tasde rares ennuis», — объяснил Лерой. — Это значит «просто не знаю какой ужас».
— Верно, — согласился Ярвис. — Я не знал, какой ужас, и вылез посмотреть. Шум был такой, как будто стая ворон расправляется с канарейками: свист, кудахтанье, карканье, щелканье, все что хочешь. Я обогнул кучу обломков. Тут-то я и увидел Твила.
— Твила? — повторил Гаррисон.
— Тфила? — повторили Лерой и Путц.
— Этот чудной страус, — объяснил рассказчик. — По крайней мере точнее мне связно произнести не удается. Он это произносил так что-то вроде «Т-р-р-р-в-и-и-р-р-л-л-л».
— А что он делал? — спросил капитан.
— Не давал себя есть. И визжал, конечно, невероятно.
— Есть? Кому?
— Я это понял позднее. В тот момент мне удалось разглядеть только клубок черных щупалец, обвившихся вокруг чего-то, что, как вам Путц правильно сказал, было похоже на страуса. Естественно, я не собирался вмешиваться. Если обе твари опасны, одной останется меньше.
Но эта штука, похожая на птицу, дралась отлично и между воплями наносила приличные удары своим длинным, дюймов в восемнадцать, клювом. И кроме того, мне удалось разглядеть, что было на конце этих щупалец. Ярвис содрогнулся. — Но решающим доводом было то, что я заметил на шее у птицы маленькую черную сумку, или футляр. Это было разумное существо! Или ручное, может быть. Так, или иначе, это помогло мне. Я вытащил свой пистолет и выстрелил в клубок щупалец.
Щупальца всплеснулись, хлынула какая-то черная мерзость, и чудовище с отвратительным свистом скрылось в норе вместе со щупальцами. Второе существо испустило какие-то трескучие звуки и, шатаясь, повернулось ко мне — ноги у него были толщиной с палки для гольфа. Я держал оружие наготове, и мы оба уставились друг на друга.
Марсианин на самом деле не был птицей. Он даже и не был похож на птицу, разве что с первого взгляда. Клюв-то у него был и что-то вроде перьев, но это был не настоящий клюв. Он был вроде как бы гибкий. Видно было, что кончик медленно изгибается то в одну, то в другую сторону; что-то среднее между клювом и хоботом. На ногах по четыре пальца, и четырехпалые такие штуки — можно назвать их руками, и маленькое округлое тело с длинной шеей, а на конце крохотная головка и этот клюв. На дюйм выше меня и… ну, Путц его видел!
— Ja, я видал!
Ярвис продолжал:
— Итак, мы разглядывали друг друга. В конце концов эта тварь затрещала, защебетала и протянула руки, пустые. Я решил, что это признак дружелюбия.
— Может быть, — предположил Гаррисон, — увидев твой нос, она решила, что ты ее родственник?
— Ха! Тебе обязательно открывать рот, что бы сойти за умника. В общем, я спрятал пистолет и сказал что-то вроде «ах, что вы, не стоит благодарности», и эта тварь подошла поближе, и мы познакомились.
К этому времени солнце стояло уже совсем низко, и было ясно, что пора или развести огонь, или влезть в спальный мешок. Я предпочел развести огонь. Я выбрал местечко у подножия скалы, с которой спустился, чтобы тепло отражалось от скалы и попадало мне в спину. Потом начал ломать куски этих сухих марсианских растений. Мой компаньон понял, в чем дело, и принес целую охапку. Я полез за спичками, но марсианин покопался в сумке и вынул какую-то штуку, похожую на тлеющий уголек. Он только прикоснулся к веткам, и пламя запылало — а вы ведь помните, чего нам стоило развести огонь в этой атмосфере!
А эта его сумка! — продолжал рассказчик. — Это было, друзья, не кустарное изделие. Нажмешь сбоку — открывается, нажмешь в середине — она закрывается так плотно, что и не видно, где было открыто. Лучше всякой «молнии».
Ну смотрели мы, смотрели на огонь, и я решил попробовать с марсианином пообщаться. Я показал на себя и сказал: «Дик». Он понял сразу же, протянул свою когтистую лапу и повторил: «Тик». Затем я показал на него, и он издал свист, который я обозначил «Твил», потому что не мог усвоить его произношения. Дело шло на лад; что бы закрепить достигнутое, я повторил «Дик», а затем, указывая на него, — «Твил».
Тут-то мы и застряли! Он защелкал вроде бы отрицательно и произнес что-то вроде «П-п-про-от». И это было только начало; я всегда был «Тик», но что касается его — иногда он был «Твил», иногда «П-п-про-от», а остальное время — еще целых шестнадцать разных трескучих названий.
Мы просто не могли найти общих точек. Я пробовал «камень», и «звезда», и «дерево», и «огонь», и бог знает что еще, и, как я не пытался, я не мог добиться от него ни единого названия. Ни одно название не повторялось два раза подряд, и если это называется языком, то тогда меня можете звать алхимиком. В конце концов я потерял терпение, стал звать его Твилом, и вроде бы сошло.
Но Твил некоторые мои слова понял. Несколько из них он усвоил, и я считаю, что это большое достижение, если вы привыкли к языку, в котором названия придумываются на ходу. Но я не мог его понять: то ли я чего-то основного не мог уловить, то ли мы просто думали по-разному. Думаю, последнее вернее.
У меня есть основания так думать. Через некоторое время я бросил это дело с языком и попробовал математику. Я нацарапал на земле «дважды два четыре» и продемонстрировал это на камешках. И снова Твил понял, в чем дело, и сообщил мне, что трижды два — шесть. Опять дело пошло на лад.
Теперь, когда я выяснил, что у Твила есть хотя бы среднее школьное образование, я начертил на земле кружок, обозначающий Солнце, перед этим указав на него. Затем нацарапал Меркурий, Венеру, матушку-Землю, Марс, а затем, указав на Марс по схеме, провел рукой вокруг себя, показывая, что сейчас мы находимся именно там. Я собирался как-нибудь дать ему понять, что мой дом на Земле.
Твил, будьте уверены, отлично понял мой чертеж. Он ткнул в него клювом и с кудахтаньем и щебетанием добавил к Марсу Деймос и Фобос, а к Земле пририсовал Луну!
Вы понимаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что его раса использует телескопы, у них цивилизация!
— Необязательно, — фыркнул Гаррисон. — Луну отсюда видно как звезду пятой величины. Ее вращение можно видеть невооруженным глазом.
— Луну да, — сказал Ярвис. — Ты меня не понял. Меркурий не видно. А Твил знает о Меркурии, потому что он нарисовал Луну у третьей планеты, а не у второй. Если бы он не знал о Меркурии, он бы сделал Землю второй планетой, а Марс не четвертой, а третьей. Понятно?
— Хм! — произнес Гаррисон.
— В общем, — сказал Ярвис, — я продолжал урок. Все шло хорошо, и мне казалось, что я смогу объяснить ему свою мысль. Я показал на Землю на своей схеме, затем на себя, затем, чтобы было убедительнее, на себя и на нашу Землю, которая светилась ярко-зеленым почти в зените.
Твил так раскудахтался, что я был уверен, что он понял. Он подпрыгнул, потом указал на себя, потом на небо, потом опять на себя и опять на небо. Потом себе на живот, а затем на Арктур, потом на Спику, потом себе на ноги и еще на полдесятка звезд, а я смотрел на него в изумлении. Потом ни с того ни с сего он подскочил. Ну и прыжок это был, скажу я вам! На семьдесят пять футов в высоту, ни дюйма меньше. Я увидел его силуэт на фоне неба, затем он перевернулся и свалился вниз головой, клювом в землю, как стрела. Вонзил клюв прямо в центр моей схемы, как в мишень!
— Чушь, — сказал капитан, — просто чушь!
— Я тоже так подумал. Пока он вытаскивал голову из песка и становился на ноги, я смотрел на него разинув рот. Потом я подумал, что он меня не понял, и начал объяснять всю эту ерунду с самого начала, а закончилось все это точно так же, и Твил опять лежал, уткнув нос в центр моей картинки.
— Может, это религиозный обряд? — предположил Гаррисон.
— Может быть, — сказал Ярвис с сомнением. — Ну вот так оно все и было. Мы могли обмениваться идеями до определенной степени, а затем фьють! — что-то такое было у нас разное, несовместимое. Я уверен, что Твил считал меня таким же чудным, как я его. Просто наши разумы видят мир с разных точек зрения, и, может быть, его точка зрения так же верна, как и наша. Но мы не могли найти общий язык, вот и все. И все же, несмотря на все эти сложности, мне Твил нравился, и у меня какая-то странная уверенность, что я ему тоже.
В конце концов мы подошли к подножию утесов Ксантуса, когда день уже был на исходе. Я решил, если возможно, ночевать на плато. Я считал, что если поблизости и бродит какое-либо опасное существо, то скорее в зарослях моря Хрониум, чем в песках Ксантуса. Не то чтобы я видел вокруг какой-либо призрак опасности, ничего не было, кроме того черного чудовища с веревками-щупальцами, которое схватило Твила, а оно явно красться не умело и как-то завлекало свои жертвы. Меня оно завлечь не могло, пока я спал, тем более, что Твил, по-моему, вообще не спал, а терпеливо сидел поблизости всю ночь. Мне хотелось узнать, каким образом эта тварь могла завлечь Твила, но спросить его об этом я не мог. Позже я и это узнал, и это было просто жутко.
Пока что мы бродили вокруг подножия утесов, ведущих на Ксантус, в поисках более удобного подъема. По крайней мере я. Твил легко мог туда прыгнуть, потому что утесы были гораздо ниже, чем Тайль, так футов шестьдесят. Наконец я нашел удобный путь и стал взбираться, чертыхаясь оттого, что на спине у меня был привязан бак с водой. Он мешал мне только при подъеме. Как вдруг я услышал звук, который показался мне знакомым: вы уже знаете, как в этом разреженном воздухе искажаются звуки. Выстрел звучит как выхлоп пробки из бутылки. Это было явно гудение ракеты. И точно, милях в десяти к западу, между мной и заходящим солнцем летела наша вторая подсобная!
— Это пыл я, — сказал Путц. — Искать тебя.
— Ну да. Я это знал, но что толку? Я уцепился одной рукой за утес и орал, и махал свободной рукой. Твил ее тоже увидел, и раскудахтался, и вспрыгнул на вершину утеса, а потом в воздух. Но машина, жужжа, скрылась в южном направлении.
Я вскарабкался на вершину утеса. Твил все еще возбужденно щебетал, подпрыгивал и зарывался клювом в песок. Я указал на юг, потом на себя, и он сказал: «Да-да-да»; но каким-то образом я все же понял, что он считает этот летающий предмет чем-то вроде моего родственника, может быть, даже родителем. Возможно, я недооценил его интеллект; сейчас я именно так и считаю.
Я ужасно расстроился, что не сумел просигнализировать. Вытащил спальный термомешок и залез в него, потому что ночной холод уже давал о себе знать. Твил сунул клюв в песок, подобрал ноги и руки и выглядел ну точно как вот этот голый куст. Наверное, он всю ночь так и просидел.
— Защитная мимикрия! — заликовал Лерой. — Вот видите! Это существо из пустыни!
— Утром, — продолжал Ярвис, — мы снова отправились в путь.
Я устал и был расстроен тем, что Путц меня не заметил, а кудахтанье Твила и его прыжки действовали мне на нервы. Так что я просто молча шагал час за часом по этой однообразной пустыне.
Ближе к вечеру мы увидели на горизонте темную линию. Это был канал, я его пролетал в ракете. И это означало, что мы прошли только третью часть Ксантуса. Приятная мысль, да? И все-таки я шел, как наметил себе.
Мы медленно приближались к каналу. Я вспомнил, что по краям этого канала есть широкая полоса растительности и что именно там этот город куча мусора, как вы его назвали.
Как я уже сказал, я порядком устал. Шел и мечтал о вкусном горячем ужине, а затем я стал думать о том, что после этой сумасшедшей планеты даже на Борнео будет приятно и уютно, а потом мои мысли перескочили в старый милый Нью-Йорк, а потом я вспомнил о знакомой девушке, которая там живет, — Фэнси Лонг. Знаете ее?
— Которая по телевизору выступает? — спросил Гаррисон. — Видел я ее. Приятная блондинка. Танцует и поет в программе «Ерба Мэйт».
— Она самая, — сказал Ярвис. — Я ее хорошо знаю. Просто друзья, понимаете? Хотя она нас и провожала, когда мы улетали на «Аресе». Ну, думал я о ней и чувствовал себя ужасно одиноко, и в это время мы подходили все ближе к линии кустарника.
И затем я сказал: «Какого черта?» — и вытаращил глаза. И она была там — Фэнси Лонг. Стоит себе как ни в чем не бывало под этими идиотскими деревьями, улыбается, рукой машет — ну точно как я ее видел в последний раз, когда мы улетали.
— Ну, теперь ясно, ты тоже рехнулся, — заметил капитан.
— Старик, я и сам так подумал! Я смотрел и смотрел, и ущипнул себя, и глаза закрыл, и снова посмотрел — и все время она там стояла, Фэнси Лонг, улыбается и рукой машет! Твил тоже что-то увидел. Он защебетал и закудахтал, но я его почти не слышал. Я двигался к ней по песку, настолько пораженный, что ни о чем себя даже не спрашивал.
Я был от нее уже футах в двадцати, когда Твил нагнал меня этим своим летающим прыжком. Он схватил меня за руку и пронзительно закричал: «Нет-нет-нет!». Я пытался его стряхнуть — он легкий, как бамбук, но он вцепился в меня когтями и вопил. И в конце концов разум вроде бы ко мне вернулся, и я остановился футах в десяти от нее. Она стояла там ну совершенно наяву, ну как ты сейчас, Путц!
— Наяфу? — спросил инженер.
— Она улыбалась и махала, махала мне, и улыбалась, а я стоял там дурак дураком, как вот Лерой, а Твил пищал и кудахтал. Я знал, что этого не может быть, но она же была!
В конце концов, я позвал: «Фэнси! Фэнси Лонг!». А она все улыбалась и махала мне совершенно наяву, как будто не осталась на Земле, в 37 миллионах миль отсюда.
Твил вытащил свой стеклянный пистолет и прицелился в нее. Я схватил его за руку, но он пытался меня оттолкнуть. Он указал на нее и сказал: «Нет тышит! Нет тышит!». И я понял, что он хочет сказать, что эта штука, которая Фэнси Лонг, не живая. Голова у меня шла кругом! И все-таки мне было не по себе, когда он в нее целился. Я не знал почему, я стоял и смотрел, как он тщательно целится, но я стоял. Потом он сжал рукоятку своего оружия, появилось маленькое облачко пара, и Фэнси Лонг исчезла! Вместо нее там была та ужасная извивающаяся тварь вроде той, от которой я спас Твила!
Бредовое чудовище! У меня голова закружилась. Я стоял и смотрел, как оно умирает, а Твил щелкал и свистел. Наконец он дотронулся до моей руки, показал на эту корчившуюся тварь и сказал: «Ты один-один-два, он один-один-два». После того как он повторил это раз восемь, десять, до меня дошло. А до вас?
— Oui! — закричал Лерой. — Moi — je le comprends! Он сказал — ты думать о что-то, эта зверь знает, и ты видишь! Un chien — голодная собака, она бы видеть кость с мясом! Или чуять — нет?
— Верно, — сказал Ярвис. — Эта бредовая тварь использует желания своих жертв и заманивает их в ловушку. Птица весной увидела бы себе пару, лиса на охоте увидела бы беззащитного кролика!
— Как это он делает? — спросил Лерой.
— Почем я знаю? Как на Земле змея завлекает себе в пасть птицу? И потом есть какие-то глубинные рыбы, они тоже завлекают жертву прямо в пасть. Господи! — Ярвис содрогнулся. — Вы понимаете, насколько это чудовище коварно? Мы уже предупреждены, но отныне мы не можем доверять собственным глазам. Вы можете увидеть меня, а я одного из вас — и это может оказаться такая вот черная пакость!
— Откуда твой приятель это знал? — резко спросил капитан.
— Твил? Сам не знаю. Может, он думал о том, что меня явно не могло заинтересовать, и, когда я побежал, он сообразил, что я увидел что-то другое, и все понял. Или, может быть, эта тварь может проецировать только одно изображение, а Твил увидел то, что видел я, или вообще ничего не видел. Я не мог его спросить. Но это только лишний раз доказывает, что он равен нам по разуму, а может быть, и выше нас.
— Он просто ненормальный, говорю я вам, — сказал Гаррисон. — Почему ты думаешь, что его интеллект не ниже, чем у человека?
— Я не мог усвоить ничего из его языка, а он из моего усвоил слов шесть-семь. А ты представляешь себе, какие сложные мысли он сумел выразить с помощью этих нескольких слов? Одной фразой он сумел мне объяснить, что передо мной смертельно опасный гипнотизер. Это как, по-вашему?
— Хм, — сказал капитан.
— Хмыкай, хмыкай! Ты бы сумел это сделать, зная только шесть слов по-английски? А смог бы ты пойти еще дальше, как Твил, и сообщить мне, что еще одно существо обладает разумом, настолько отличным от нашего, что взаимопонимание невозможно — еще менее возможно, чем между Твилом и мною?
— Да? Это еще что?
— Потом. Я хочу сказать, что Твил и его раса достойны нашей дружбы. Где-то на Марсе — и вы увидите, что я прав, — существуют цивилизация и культура, равные нашим, а может быть, и больше, чем равные. И между ними и нами возможна коммуникация, Твил это доказал. Может быть, понадобятся годы терпения, потому что их разум, который мы встретили, разумеется, если это был разум.
— Встретили? Кого еще встретили?
— Люди из этих грязевых городов на каналах. — Ярвис нахмурился, затем продолжал: — Я думал, что невозможно представить себе что-либо более странное, чем это чудище из пирамиды и бредовая тварь, но я ошибался. Эти существа еще более чужды нам, их еще меньше можно понять, найти с ними общий язык, чем с Твилом, с которым можно дружить, а если иметь терпение, то и обмениваться мыслями.
Ну, — продолжал он, — мы оставили черное чудовище умирать у его норы и пошли вдоль канала. Там был этот зеленый ковер живой травы, которая расступалась перед нами, и когда мы дошли до берега, то увидели, что по дну течет желтая струйка воды. Город, который я заметил с ракеты, лежал справа в миле от нас, и мне было любопытно взглянуть на него.
Когда я его впервые увидел, мне показалось, что он заброшен, ну а если там кто-нибудь есть, мы с Твилом оба вооружены. Кстати, его стеклянный пистолет — интереснейшая штука. Я его разглядел после того случая с черным чудовищем. Он стреляет стеклянными шипами, наверное отравленными, и там их в обойме не меньше сотни. А вместо взрывчатки пар. Просто пар!
— Пар? — повторил Путц. — А откуда?
— Из воды, разумеется. Через прозрачную рукоятку ее видно, и около пинты какой-то другой жидкости, желтоватой и густой. Когда Твил сжимал рукоятку, курка там не было, в барабан просачивалась капля воды и капля желтой жидкости, вода испарялась — п-ш-ш! — это несложно. Мы бы тоже могли создать оружие по такому принципу. Концентрированная серная кислота нагревает воду почти до кипения, и негашеная известь тоже, и натрий, и калий…
Конечно, его оружие не так далеко стреляет, как мое, но в этом разреженном воздухе оно действовало бы совсем неплохо и в нем большая обойма — как у ковбойского пистолета в вестерне. И он эффективный, по крайней мере для марсианских условий. Я его попробовал на одном чудном растении, и будь я проклят, если это растение не испепелилось. Разлетелось на мелкие куски. Поэтому я и думаю, что стеклянные шипы отравленные.
Ну, шли мы, шли к городу, и я стал размышлять о том, зачем строители города выкопали каналы. Я показал на город, потом на канал, и Твил сказал: «Нет-нет-нет!» — и указал на юг. Я это понял так, что каналы выкопала какая-то другая раса, может быть, соплеменники Твила. Я не знаю, может на планете есть еще одна разумная раса, а может, и десяток. Марс — очень странное местечко.
Мы вышли на дорогу и наткнулись вдруг на фантастических тварей. Представьте только себе — на четырех ногах топает бочка, а у этой бочки еще четыре не то руки, не то щупальца. Головы нет, зато туловище опоясано цепью глаз. Да еще эта бочка толкает перед собой тележку. Вслед за ней показалась вторая, точно такая же.
На нас они не обратили никакого внимания. Так что когда появилась третья, я просто встал перед ней, вытянув руки вперед, и сказал: «Мы друзья». И что же, по-вашему, эта тварь сделала? Неожиданно проревела: «Мы тр-р-рузья», — и толкнула тележку прямо на меня. Я еле успел отскочить. Через минуту показалась следующая тварь. Она не остановилась, а пробарабанила на ходу: «Мы тр-р-рузья», — и понеслась дальше. Может быть, все эти существа общались между собой? Может, они часть какого-то общего организма? Не знаю, но думаю, что Твил знает.
Ну эти твари пронеслись мимо, и каждая нас приветствовала той же самой фразой. Это становилось забавно, я никогда не думал, что найду столько друзей на этом богом забытом сборище. В конце концов я обратился к Твилу и жестом выразил удивление, думаю, он понял, потому что сказал: «Один-один-два — да! Два-два-четыре — нет!». Дошло?
— Ну конечно, — сказал Гаррисон. — Это марсианская колыбельная.
— Ну да! Ладно. Я уже немного привык к его способу выражаться, и я это понял так: «Один-один-два — да!» Существа разумны. «Два-два-четыре-нет!» Значит, их разум не такой, как у нас, что-то иное, и логика совершенно иная, не дважды два — четыре. Может быть, он хотел сказать, что у них мозг более примитивный, что они могут понимать только простые вещи — «Один-один-два — да!», но более сложные вещи «Два-два-четыре — нет!» Но из того, что мы увидели дальше, я думаю, верно первое предположение.
Через несколько минут эти твари стали возвращаться: сначала одна, потом вторая. Их повозки были полны камней, песка, кусков местных деревьев и прочей подобной ерунды. Они прогудели свое дружеское приветствие, которое было не таким уж и дружеским, и помчались дальше. Третья показалась мне той, с которой я пытался завязать знакомство, и я решил с ней еще поговорить. Я опять остановился у нее поперек дороги и стал ждать.
И вот она приблизилась, бубня свое «мы тр-р-рузья», и остановилась. Я поглядел на нее. Четыре или пять глаз глядели на меня. Она снова пустила в ход свой пароль и толкнула было тележку, но я стоял твердо. И тогда это чертова тварь протянула одну из своих рук, и две клешни, похожие на пальцы ущипнули меня за нос!
— Ха-ха! — захохотал Гаррисон. — Должно быть, у этих штуковин есть чувство прекрасного!
— Смейся, смейся, — проворчал Ярвис. — А у меня и так уже на этом треклятом носу и шишка была, и ожог. Короче, я завопил: «Ой-ой ой!» — и отпрыгнул, а эта тварь умчалась. Но с этого момента они все приветствовали нас так: «Мы тр-р-рузья! Ой-ой-ой!» Странные существа!
Мы с Твилом шли по дороге до ближайшей кучи. Эти твари приходили и уходили и, не обращая на нас никакого внимания, таскали свой груз. Дорога уходила прямо в глубину по откосу, похожему на заброшенную шахту, и эти люди-бочонки сновали взад и вперед, приветствуя нас этой своей вечной фразой.
Я заглянул вниз. Там, где-то в глубине, был свет, и мне захотелось увидеть, что это такое. Это не было похоже ни на костер, ни на факел, как вы понимаете, а скорее какой-то искусственный свет, и я подумал, что, может быть, удастся что-нибудь разузнать о степени развития этих тварей. Ну и я стал спускаться вниз, а Твил за мной, хотя, однако, не обошлось без щелканья и кудахтанья.
Свет был странный. Он брызгал искрами и переливался, как наше северное сияние, но исходил из единственного черного стержня, укрепленного в стене коридора. Несомненно, это было электричество. Эти твари, следовательно, были достаточно цивилизованы.
Затем я увидел еще огонь, отражавшийся в чем-то блестящем, но, когда подошел поближе, оказалось, что это куча сверкающего песка. Я повернул к выходу, и черт меня побери, если он не исчез!
Наверное, в коридоре был поворот, или же я свернул в боковой ход. Короче, я пошел обратно в направлении, откуда, как мне казалось, я пришел, но увидел всего лишь еще один плохо освещенный коридор. Это был настоящий лабиринт! Вокруг не было ничего, кроме запутанных и пересекающихся переходов, местами освещенных, а порой мимо сновали эти твари, иногда с тачками, иногда без.
Ну, вначале я не очень-то обеспокоился. Мы с Твилом ведь совсем недалеко ушли от входа. Но с каждым шагом мы, казалось, уходили все глубже и глубже. Наконец я попробовал было пойти за одной из этих тварей с пустой тачкой, думая, что она выведет нас из этой чепуховины, но она слонялась совершенно бесцельно из одного перехода в другой. Когда она стала носиться вокруг столба наподобие челнока, я наконец потерял терпение, швырнул бак с водой на пол и уселся.
Твил был так же растерян, как и я. Я поднял палец, и он сказал: «Нет-нет-нет!» — как-то очень уж беспомощно, и от этих туземцев помощи нельзя было добиться никакой. Они не обращали на нас внимания, только заверяли нас, что они — друзья, ой-ой-ой!
Господи! Я и не знаю, сколько часов или сколько суток мы там бродили. Я два раза спал, потому что вконец измучился. Твилу сон вроде бы вообще был не нужен. Мы пытались идти только по тем коридорам, которые вели вверх, но они сначала шли вверх, а потом вниз. Температура в этом идиотском муравейнике была постоянная. Нельзя было отличить день от ночи, и, после того как я в первый раз уснул, я уже не знал, проспал я час или тринадцать часов, потому что по часам не мог определить, день это или ночь.
Мы видели очень много странного. Там были какие-то машины, они ездили по коридорам, но вроде бы ничего не делали — просто колеса крутятся. И несколько раз я видел двух этих бочкообразных тварей с маленькой, которая росла посередине, прикрепленная сразу к обеим.
— Партеногенез! — возликовал Лерой. — Партеногенез почкованием, как les tulipes!
— Пусть так, французик, — согласился Ярвис. — Эти штуки нас вовсе не замечали, если не считать, как я уже говорил, их приветствия: «Мы тр-р-рузья! Ой-ой-ой!» У них вроде бы нет никакой домашней жизни, слоняются себе со своими тележками и тащат всякую чепуху. И тут я обнаружил, что они с ней делали.
Нам наконец немного повезло — мы нашли коридор, который довольно долго поднимался кверху. Я чувствовал, что мы, должно быть, уже близко к поверхности, и наконец проход вышел в пещеру с куполом первый раз. И — братцы! — я чуть не заплясал, когда увидел через трещину в крыше что-то похожее на дневной свет.
В пещере было что-то… что-то вроде машины, такое громадное колесо, и оно медленно поворачивалось, и одна из тварей как раз бросала свой мусор под него. Колесо все это с треском размололо — песок, камни, растения, все в порошок, и он куда-то ссыпался. Пока мы смотрели, пришли другие и делали то же самое, и вроде бы больше ничего. Никакого ритма, никакой цели у этого всего, но для этой сумасшедшей планеты это очень типично. И было кое-что еще, во что и поверить трудно.
Одна из тварей, опустошив тележку, с шумом отодвинула ее в сторону и спокойно нырнула под колесо! Я смотрел, как ее размололо, ошарашенный настолько, что не мог издать и звука, а минуту спустя еще одна сделала то же самое! И у них был даже в этом какой-то порядок: тварь у которой тележки не было, брала освободившуюся.
Твил вроде бы не удивился. Я указал ему еще на одно самоубийство, а он только пожал плечами, совсем по-человечески, как будто хотел сказать: «Что же я могу с этим поделать?» Наверное, он кое-что знал об этих существах.
Затем я увидел кое-что еще. За колесом было что-то блестящее, вроде бы как на низком постаменте. Я подошел поближе. Это был маленький кристалл, размером с яйцо, и он испускал яркое сияние. Его свет обжигал мне руки и лицо, прямо как заряд статического электричества, и затем я заметил еще что-то странное. Помните, у меня на левой руке была бородавка? Глядите! — Ярвис вытянул руку. — Она высохла и отпала, только и всего! А мой бедный нос! Боль моментально исчезла, как по волшебству! У этой штуки свойства жестких рентгеновских лучей или гамма-лучей, только лучше. Она уничтожает больную ткань, а здоровую оставляет нетронутой.
Я подумал о том, какой это будет подарок матушке-Земле, как вдруг начался ужасный шум, мы побежали к другой стороне колеса и увидели, что перемалывается тележка. Наверно, какое-то самоубийство было слишком небрежным. И вдруг все эти твари зашумели и загудели вокруг нас, и шум был явно угрожающий. На нас надвигалась целая толпа. Мы отступили в проход, который, как мне показалось, был тот самый, через который мы вошли, а они с грохотом помчались за нами, с тележками и без тележек. Бешеные твари! Поднялся громкий хор: «Мы тр-р-рузья! Ой-ой-ой!» Это «ой-ой-ой» мне не понравилось. Звучало как-то угрожающе.
Твил вытащил свой стеклянный пистолет, я сбросил бак и достал свой. Мы отступали по коридору, а эти бочкообразные за ними — штук двадцать. Странная вещь — те, которые входили с полными тачками, проходили мимо нас, не обращая внимания.
Твил, должно быть, это заметил. Неожиданно он выхватил свой уголек-зажигалку и прикоснулся к лежащим на тележке стволам растений. Пфф! Всю тележку охватило пламя, а эта безумная тварь продолжала двигаться все с той же скоростью. Однако среди наших «тр-р-рузей» это вызвало некоторое смятение — и затем я заметил, что дым втягивается где-то сзади нас, и точно: там был выход!
Я схватил Твила, и мы помчались наружу, а за ними два десятка преследователей. Дневной свет был совершенно божественным, но я сразу заметил, что солнце садилось, и это было плохо, потому что марсианской ночью я не мог существовать без своего термомешка или, по крайней мере, без огня.
А дело становилось все хуже. Они загнали нас в угол между двумя кучами, и там мы и стояли. Я не стрелял, и Твил тоже, потому что ни к чему было дразнить этих тварей. Они остановились поблизости и начали галдеть насчет друзей и ой-ой-ой.
Затем стало еще хуже! Появился еще бочонок с тележкой, они все кинулись к ней и стали вытаскивать медные дротики около фута длиной, острые на вид — и вдруг один просвистел мимо моего уха — дзинь! И тут, хочешь не хочешь, пришлось стрелять.
Некоторое время мы справлялись хорошо. Мы выбирали тех, кто был рядом с тележкой, и нам удавалось свести количество дротиков до минимума. Но вдруг послышалось громовое «тр-р-рузья» и «ой-ой-ой», и из дыры поползла их целая армия.
Братцы! Нам пришел конец. Это было ясно! И вдруг я понял, что для Твила это было не так. Он легко мог перепрыгнуть кучу, у которой мы стояли. Он оставался из-за меня! Ей-богу, если бы у меня было время, я бы прослезился. Мне Твил нравился с самого начала, но способен ли я был сделать то, что делал он… ну конечно, я спас его от первого бредового чудовища — но ведь и он меня тоже, правда? Я схватил его за руку и сказал: «Твил!» — и указал вверх, и он понял. И ответил: «Нет-нет-нет, Тик», — и опять пустил в ход свой пистолет.
Что я мог поделать? Мне бы все равно пришел конец после захода солнца, но я не мог ему это объяснить. Я сказал: «Спасибо, Твил! Ты настоящий человек!» И подумал, что это не такой уж комплимент. Человек! Мало кто из людей способен на такое.
Ну и я продолжал стрелять из своего пистолета, а Твил из своего, а бочонки швырялись стрелами, и готовились до нас добраться, и бормотали, что они друзья. Я уже совсем отчаялся, как вдруг прямо с небес спустился ангел в образе Путца, и его двигатель размолол бочонки на мелкие части!
Ух! Я завопил и кинулся к ракете. Путц открыл дверь, и я ввалился внутрь, и смеялся, и плакал, и вопил. О Твиле я вспомнил только в следующий момент. Я оглянулся и увидел, что он перепрыгнул через кучу и исчез.
Как я уговаривал Путца последовать за ним! Пока ракета поднялась, уже стемнело. Вы же знаете, как здесь темнеет — как будто повернули выключатель.
Мы поплыли над пустыней и пару раз снижались. Я орал «Твил!» не менее сотни раз. Мы не смогли его найти. Он путешествует как ветер. И ответом мне было — или мне только показалось? — слабое щелканье и кудахтанье откуда-то с юга. Он ушел, проклятье! А лучше бы… Лучше бы не уходил.
Четверо с «Ареса» молчали, даже насмешливый Гаррисон. Наконец маленький Лерой нарушил тишину.
— Я хотел бы смотреть, — пробормотал он.
— Да, — сказал Гаррисон. — И это лекарство от бородавок. Жаль, что тебе не удалось его раздобыть. Может, это и есть то самое средство от рака, которое уже полтора столетия не могут найти!
— Ах это, — мрачно пробормотал Ярвис. — Из-за этого все и началось! Он вытащил из кармана сверкающий предмет. — Вот оно!
МУРРЕЙ ЛЕЙНСТЕР
Уильям Дженкинс, взявший впоследствии литературный псевдоним Муррей Лейнстер, родился в 1896 году. Увлекался авиаспортом, печататься начал в 13 лет. Работал рассыльным и библиотекарем, писал по ночам.
В 1919 году был опубликован его первый научно-фантастический рассказ о внезапном переносе в доколониальное индейское прошлое целого небоскреба со всеми его обитателями. Сюжет не отличается новизной приема, но читатели оценили литературное мастерство автора.
Пафос творчества М. Лейнстера — борьба человека с враждебными ему и не всегда понятными всплесками природных стихий, жизнестойкость человека в экстремальных физических условиях. Писатель принципиально чужд фрейдизму, ему важнее событие и ответ на него, чем мотивировка действия. М. Лейнстер среди прочих исследовал следующие возможности: цивилизация гигантских насекомых на нашей планете в будущем и борьба деградировавших людей за выживание и возрождение («Сумасшедшая планета», 1920 г., «Красная пыль», 1921 г.); мифологическая Горгона Медуза и другие персонажи античных мифов обнаруживаются в глубоких пещерах Греции и оказываются мутантами («По ту сторону пещеры Сфинкса», 1933 г.); межзвездные путешествия и столкновение с цивилизацией мыслящих растений («Проксима Центавра», 1935 г.) и т. д.
М. Лейнстер предвидел как ракетно-ядерное оружие, так и централизованные системы распределения информации.
Всего им написано свыше 1300 (!) произведений. Еще в 1956 году его повесть «Исследовательская команда» получила премию Хьюго как лучшая повесть года, а в 1960 году высокой оценки удостоился его роман «Пираты с Эрзаца».
М. Лейнстер умеет не только изобретать новые возможности и ситуации, но и находить новые углы зрения на классические научно-фантастические сюжеты.
В рассказе «Первый контакт» центр тяжести лежит не на описании техники межзвездного полета, а в психологической дилемме — как правильно, с учетом последствий, реагировать на «чужую» и равномогучую цивилизацию. Космические эры и сами владыки космоса для М. Лейнстера отнюдь не избавлены от зла, насилия, экспансионизма, и борьба миров не исключается даже при самом высоком развитии техники.
М. Лейнстер художественно исследует дилемму, приближает ситуацию будущего к сознанию сегодняшнего разделенного мира.
ПЕРВЫЙ КОНТАКТ
I
Томми Дорт вошел в капитанскую рубку с парой стереофотографий и доложил:
— Сэр, моя работа закончена. Это последние снимки. Больше фотографировать невозможно.
Он вручил фотографии и с профессиональным любопытством оглядел экраны, которые показывали все, что творилось в космосе за бортом корабля. Приглушенная темно-красная подсветка выхватывала из темноты ручки и приборы, нужные дежурному рулевому для управления космическим кораблем «Лланвабон». Рядом с мягким креслом был пристроен небольшой прибор, составленный из расположенных под разными углами зеркал, — что-то вроде зеркала заднего вида на автомобиле двадцатого века. Прибор давал возможность видеть все экраны, не поворачивая головы. А на громадном экране перед креслом очень четко вырисовывалась вся картина космоса по курсу корабля.
«Лланвабон» был далеко от родных краев. Экраны, которые показывали любую звезду видимой величины и могли по желанию увеличить ее изображение, были усеяны звездами самой разной яркости. Невероятно разнообразная раскраска звезд говорила о составе атмосферы каждой из них. Но здесь все было незнакомо. Узнавались только два созвездия, видимые с Земли, да и те были какие-то искаженные, как бы смятые. Млечный Путь, казалось немного сдвинулся. Но даже эти странности были мелочью по сравнению с видом на переднем экране.
Впереди была громадная, громаднейшая туманность. Светящаяся дымка. Она казалась неподвижной. Потребовалось много времени, чтобы приблизиться к ней и разглядеть ее на экране, хотя корабельный спидометр показывал невероятную скорость. Эта дымка была Крабовидной туманностью. Длиной в шесть световых лет и шириной в три с половиной, она имела далеко выдававшиеся отростки; они-то, если рассматривать созвездие в телескопы с Земли, и придавали ей сходство с тем существом, от которого она получила свое название. Это было облако газа, бесконечно разреженного, занимавшего пространство, равное половине пути от нашего Солнца до ближайшего другого. В глубине тумана горели две звезды; двойная звезда; одна из составляющих частей была знакомого желтого цвета, похожего на цвет земного солнца, другая казалась сверхъестественно белой.
Томми Дорт задумчиво произнес:
— Мы продолжаем углубляться в туманность, сэр?
Капитан изучил две последние фотографии, сделанные Томми и отложил их в сторону. Теперь он с беспокойством вглядывался в передний экран. Началось экстренное торможение. Корабль был всего в половине светового года от созвездия. До сих пор курс корабля зависел от работы Томми, но теперь эта работа была закончена. Пока исследовательский корабль находился в туманности, делать ему было нечего. Томми был не из тех, кто умеет сидеть сложа руки.
Он только что завершил совершенно уникальное исследование — движение созвездия за период в четыре тысячи лет было запечатлено на фотографиях. И все снимки Томми сделал сам, дублируя их, меняя экспозицию, чтобы исключить какую бы то ни было ошибку. Это было достижение, которое само по себе стоило длительного полета от Земли. Но, кроме того, Томми также запечатлел четырехтысячелетнюю историю двойной звезды, и в эти четыре тысячи лет был прослежен путь превращения звезды в белого карлика.
Это совсем не значило, что Томми Дорту было четыре тысячи лет от роду. На самом деле ему не было и тридцати. Но Крабовидная туманность находится в четырех тысячах световых лет от Земли, и картина, которую Томми запечатлел на последних двух снимках, достигнет Земли лишь в шестом тысячелетии нашей эры. По пути сюда со скоростью, в невероятное число раз превышающей скорость света, Томми Дорт перехватывал своей фотоаппаратурой свет, покинувший созвездие, начиная с сорока веков тому назад и кончая какими-то шестью месяцами…
«Лланвабон» совсем замедлил ход. Он еле двигался. Невероятно яркое свечение наползло на экраны. Оно скрыло из виду половину вселенной. Впереди была сияющая дымка, позади — пустота, усеянная звездами. Дымка уже скрыла три четверти звезд. Только самые яркие тускло светились сквозь ее кромку, но их было совсем немного. «Лланвабон» углубился в туманность и, казалось, полз по черному туннелю среди стен сияющего тумана.
Именно это корабль и делал. Уже снимки, сделанные с самого дальнего расстояния, рассказали о структуре туманности. Она не была аморфной. Она имела форму. Чем ближе подходил к ней «Лланвабон», тем отчетливее проявлялась ее структура, и Томми Дорту пришлось доказывать, что для получения хороших фотографий надо приближаться к туманности по кривой. Поэтому корабль шел по широкой логарифмической дуге, и Томми получил возможность делать снимки под все время меняющимися углами и получать стереопары, показывавшие туманность объемно. На них были видны все вздутия и впадины, все очень сложное очертание туманности. Местами углубления напоминали извилины, бороздящие человеческий мозг. В одно из таких углублений и скользнул теперь космический корабль. Их назвали «впадинами», по аналогии с расселинами в океанском дне. Они оказались весьма кстати.
Капитан расслабился. В наши дни одна из обязанностей капитана предвидеть трудности и заранее находить выход из них. Капитан «Лланвабона» был человек очень осторожный. Лишь убедившись, что ни один прибор не регистрирует чего-либо необычного, он позволил себе откинуться на спинку кресла.
— Вряд ли возможно, — медленно проговорил он, — что эти впадины наполнены несветящимся газом. Они пусты. Поэтому в них мы можем идти на сверхскорости.
От границ туманности до двойной звезды в ее центре было полтора световых года. В этом и заключалась проблема. Туманность — газ. Настолько разреженный, что хвост кометы в сравнении с ним был бы густым. Но корабль ходил на сверхсветовой скорости, и для него опасен был даже не совсем чистый вакуум. Он мог двигаться так только в той абсолютной пустоте, какая существует между звездами. Но «Лланвабон» не продвинулся бы далеко в этой дымке, так как пришлось бы ограничиться скоростью, допустимой для не совсем чистого вакуума.
Свечение, казалось, замкнулось позади космического корабля, который шел все медленнее и медленнее. Как только скорость стала меньше световой, сразу появилось ощущение, будто что-то гудит, — так бывало всегда, когда сбрасывали сверхсветовую скорость.
И почти в то же мгновенье раздались звонки, по всему кораблю пронесся скрипучий рев. Томми был почти оглушен сигналом тревоги, раздававшимся в рубке, пока рулевой не выключил звонка. Но повсюду на корабле слышались звонки, затихавшие по мере того, как одна за другой автоматически захлопывались двери.
Томми Дорт смотрел на капитана. У того сжались кулаки. Он стоял и глядел через плечо рулевого. На одном из осциллографов заметались кривые. Другие приборы стали показывать то же самое. На носовом экране в светлом тумане появилось пятно, которое стало ярче, когда на нем сфокусировалось автоматическое сканирующее устройство. В этом направлении находился предмет, возможность столкновения с которым вызвала сигнал тревоги. Но радиолокатор вел себя странно… По его показаниям милях в восьмидесяти тысячах находился какой-то твердый предмет… небольшой предмет. Но обнаружился и другой предмет, на расстоянии от предельной дальности работы прибора и до нуля, и определить точно его размеры, а также направление его движения — удаляется он или приближается — было невозможно.
— Настроиться поточнее, — приказал капитан.
Яркое пятно на экране перекатилось к краю, стерев второе непонятное изображение, которое было позади него. Сканирующее устройство стало работать четче. Но это ничего не изменило. Совершенно ничего. Радиолокатор по-прежнему показывал, что какое-то громадное и невидимое тело бешено рвется в направлении «Лланвабона» на скорости, которая неизбежно приведет к столкновению. Потом оно вдруг с той же скоростью понеслось в обратном направлении.
Экран работал на максимальной мощности. И по-прежнему на нем ничего не было. Капитан стиснул зубы. Томми Дорт нерешительно сказал:
— Знаете, сэр, что-то вроде этого я видел однажды на лайнере Земля-Марс, когда мы попали в поле действия локатора другого корабля. Луч их локатора был той же частоты, что и луч нашего, и всякий раз, когда они встречались, прибор показывал что-то громадное, массивное.
— Именно, — сердито сказал капитан, — именно это и происходит сейчас. На нас направлено что-то вроде луча локатора. Мы ловим этот луч и эхо собственного луча. Но другой корабль невидим! Кто это там, на невидимом корабле, с радиолокатором? Разумеется, не люди!
Он нажал кнопку переговорного устройства на своем рукаве и скомандовал:
— Боевая тревога! Оружие к бою! Готовность номер один во всех отсеках!
Он сжимал и разжимал кулаки. На экране по-прежнему не было ничего, кроме бесформенного пятна.
— Не люди? — Томми Дорт резко выпрямился. — Вы хотите сказать…
— Сколько солнечных систем в нашей Галактике? — сердито спросил капитан. — Сколько планет, годных для жизни? И сколько видов жизни может там быть? Если этот корабль не с Земли… а он не с Земли… значит, его команда состоит не из людей. А все нечеловеческое, но достигшее в развитии своей цивилизации способности совершать путешествия в дальний космос, что-нибудь да значит!
У капитана дрожали руки. Он не говорил бы столь откровенно с членом собственной команды, но Томми Дорт был из исследовательской группы… И даже капитан, в обязанности которого входит преодоление трудностей, иногда испытывает отчаянное желание, разделить с кем-нибудь бремя своих тревог. К тому же порой подумать вслух бывает полезно.
— О чем-то подобном говорят и думают уже многие годы, — уже спокойнее сказал он. — Логика подсказывала, что где-то в нашей Галактике, кроме человеческого, есть другой род, в своем развитии равный нам или даже превзошедший нашу цивилизацию. Никто и никогда не мог предсказать, где и когда мы встретимся с его представителями. Но теперь, кажется, это случилось!
Глаза Томми сияли.
— Вы думаете, они настроены дружелюбно, сэр?
Капитан взглянул на индикатор дальности объекта. Призрачный предмет все еще бессмысленно совершал свои кажущиеся броски то к «Лланвабону», то от него. Второй предмет, что был в восьми тысячах миль, едва шевелился.
— Он движется, — отрывисто сказал капитан. — В нашем направлении. Именно так поступили бы и мы, если бы чужой космический корабль появился в нашем радиусе действий! Дружелюбно? Возможно! Попробуем войти с ними в контакт. Но мне кажется, что на этом наша экспедиция и кончится. Слава богу, что у нас есть бластеры!
Бластеры — это лучи полного уничтожения, которые устраняют с пути космических кораблей непокорные метеориты, когда с теми не справляются отражатели. Создавали их не для военных целей, но они вполне могли служить оружием. Дальнобойность их достигала пяти тысяч миль, и при этом пускались в ход все энергетические источники корабля. При автоматическом прицеливании и горизонтальной наводке в пять градусов такое судно, как «Лланвабон», могло чуть ли не прожечь дыру в небольшом астероиде, вставшем на его пути. Но, разумеется, не на сверхсветовой скорости.
Томми Дорт подошел к носовому экрану. Услышав слова капитана, он резко обернулся.
— Бластеры, сэр? Для чего?
Капитан, глядя на пустой экран, поморщился.
— Потому что мы не знаем, что они такое, и не можем рисковать! Я убежден в этом! — с горечью добавил он. — Мы войдем с ними в контакт и попытаемся узнать о них все, что можно… особенно откуда они. Хотелось бы, чтобы мы попытались завязать дружбу… но рассчитывать на это трудновато. Мы не можем доверять им и самую малость. Не имеем права! У них есть локаторы. Может быть, у них приборы обнаружения лучше наших. А вдруг они смогут проследить весь наш путь домой, и мы ничего не будем знать об этом! Мы не можем позволить роду нелюдей знать, где Земля, не будучи уверенными в их доброжелательности! А как можно быть уверенным в этом? Разумеется, они могут заявиться для торговли… а то вдруг ринутся с боевым флотом на сверхсветовой скорости, нападут и сотрут нас с лица земли прежде, чем мы узнаем, что случилось. Нам не дано узнать, чего ожидать и когда!.
На лице Томми был написан испуг.
— Теоретически это все обсуждалось тщательно и много раз, — продолжал капитан. — Никто ни разу не был способен предложить разумный ответ, даже на бумаге. Но вы знаете, что даже в теориях считался явной бессмыслицей такой контакт в дальнем космосе, когда ни одна из сторон не знает, где находится родина другой стороны! Нам же придется найти выход в действительности! Как нам быть с ними? Может быть, эти существа на диво хорошие, добропорядочные и вежливые… а под этой личиной будет скрываться жестокая японская злобность. Или они могут быть грубыми и резкими, как шведский крестьянин… и вместе с тем оказаться вполне приличными… Возможно, в них есть что-то среднее между этими крайностями. Но рискну ли я возможным будущим человечества ради попытки отгадать, безопасно ли доверять им? Бог знает, стоит ли завязывать дружбу с новой цивилизацией! Возможно, она подстегнет нашу, и мы будем в громадном выигрыше. Я не хочу рисковать одним, не хочу показать им, как найти Землю! Либо я буду уверен, что они не могут последовать за мной, либо я не вернусь домой! Они, наверно, думают так же!
Капитан снова нажал кнопку связи на рукаве.
— Штурманы, внимание! Все звездные карты на корабле должны быть подготовлены к мгновенному уничтожению. Это касается фотографий и диаграмм, на основании которых можно сделать выводы относительно нашего курса или пункта отправления. Я хочу, чтобы все астрономические данные были собраны и подготовлены для уничтожения в долю секунды, по приказу. Сделайте это побыстрей и доложите о готовности!
Капитан отпустил кнопку. Он как-то на глазах постарел. Первый контакт человечества с чужим родом предусматривался в самых разных вариантах, но никому в голову не приходило такое безнадежное положение, как это. Одинокий земной корабль и одинокий чужой; встреча в туманности, которая, наверное, находится далеко от родной планеты каждой стороны. Они и рады бы мирному исходу, но для того, чтобы подготовиться к предательскому нападению, нет лучшей линии поведения, чем видимость дружелюбия. Недостаток бдительности может обречь на гибель человечество… С другой стороны, мирный обмен достижениями цивилизации привел бы к величайшей взаимной выгоде, какую только можно себе представить. Любая ошибка была бы непоправимой, но отсутствие осторожности чревато смертельной опасностью.
В капитанской рубке было тихо, очень тихо. На переднем экране изображение весьма небольшой части туманности. Весьма небольшой. Только туман — бесформенный, разреженный, светящийся. Вдруг Томми Дорт показал на что-то пальцем.
— Смотрите, сэр!
В дымке появились очертания небольшого предмета. Он был очень далеко. Он имел черную поверхность, а не отполированную до зеркального блеска, как корпус «Лланвабона». Он был круглый?… нет, скорее грушевидный. Светящаяся дымка мешала различить детали, но было очевидно, что это не творение природы. Потом Томми взглянул на индикатор расстояния и тихо сказал:
— Эта штука движется в нашем направлении на очень большой скорости, сэр. Вероятнее всего, что им пришла в голову та же мысль, сэр. Никто из нас не осмелится дать другому возможность уйти на родину. Как вы думаете, попытаются они войти с нами в контакт или применят оружие, как только мы окажемся в пределах его дальнобойности?
«Лланвабон» был уже не в пустой извилине, пронизывающей разреженное вещество туманности. Он плыл в светящемся газе. Не было видно ни одной звезды, кроме тех двух, что сверкали в сердце туманности. Все окутывал свет, странным образом напоминавший подводное царство в тропиках Земли.
Чужой корабль совершил маневр, менее всего свидетельствовавший о враждебных намерениях. Подплыв поближе к «Лланвабону», он сбросил скорость. «Лланвабон» тоже, продвинувшись немного вперед, остановился. Этот маневр был знаком, что близость чужого корабля замечена. Остановка означала и дружественные намерения, и предупреждение против нападения. Находясь в относительном покое, «Лланвабон» мог вращаться вокруг собственной оси и занять такое положение, которое бы уменьшало уязвимую поверхность в случае внезапной атаки. Кроме того, с места попасть в чужой корабль было больше шансов, чем в том случае, если бы они пронеслись мимо друг друга на большой скорости.
Однако начавшееся потом сближение проходило очень напряженно. Тонкий, как игла, нос «Лланвабона» был неизменно нацелен на массивный чужой корабль. Рука капитана лежала на кнопке, нажатие которой вызвало бы самый мощный залп из всех бластеров. Томми Дорт, морща лоб, наблюдал за тем, что происходило. Чужаки, верно, находятся на очень высокой ступени развития, раз у них есть космические корабли, а цивилизация не может развиваться без способности предвидеть будущее. Эти чужаки должны представлять себе все значение первого контакта между двумя цивилизованными расами так же полно, как представляют его себе люди на «Лланвабоне».
Возможность мощнейшего рывка в развитии обеих сторон в результате мирного общения и обмена техническими знаниями, наверно, привлекала их так же, как и людей. Но когда непохожие человеческие культуры входят в соприкосновение, одна обычно занимает подчиненное положение, в противном случае возникает война. Но один род другому мирным путем не подчинишь, тем более что живут они на разных планетах. Люди, по крайней мере, никогда не согласятся на подчиненное положение, да и вряд ли согласится какой-либо другой высокоразвитый род. Выгоды от торговли никогда не смогут возместить морального ущерба, нанесенного чувством неполноценности. Некоторые люди, возможно, предпочли бы торговлю завоеванию. Возможно… возможно!. эти чужаки предпочли бы то же самое. Но даже среди людей есть жаждущие кровавой бойни. Если чужой корабль, приближающийся сейчас к «Лланвабону», вернется на родину с известием о том, что существует человечество и корабли, подобные «Лланвабону», то это поставит чужаков перед выбором: торговля или война. Возможно, они захотят торговать. Или захотят воевать. Скорее всего они предпочтут войну торговле. Они не могут быть уверены в миролюбии людей, а люди не уверены в их миролюбии. Единственной гарантией безопасности для обеих цивилизаций было бы уничтожение одного, а то и обоих кораблей тут же, на месте.
Но даже победы не было бы достаточно. Людям надо было бы узнать, где обитает чужой род, для того чтобы избегать его, если не возникнет желания напасть… Людям потребуется узнать, каково оружие чужаков, их ресурсы, и, если создастся угроза для Земли, продумать, как уничтожить их в случае необходимости. Чужаки, наверно, испытывают те же чувства в отношении человечества.
Итак, капитан не нажал кнопки, что, возможно, оставило бы от чужого корабля пустое место. Он не решился. Но он не решался и не нажимать. Лицо его стало мокрым от пота.
Из динамика донесся голос. Кто-то говорил из дальней каюты.
— Чужой корабль остановился, сэр. Стоит неподвижно. Бластеры нацелены на него, сэр.
Это заставляло открыть огонь. Но капитан покачал головой, как бы отвечая своим мыслям. Чужой корабль был всего милях в двадцати. Черный как ночь. Каждая частица его корпуса была воплощением мрака бездонного, ничего не отражающего. Ничего нельзя было различить, кроме очертаний корпуса на фоне сияющего тумана.
— Стоит, как вкопанный, сэр, — раздался другой голос. — Они посылают в нашу сторону модулированное коротковолновое излучение, сэр. Частота модулирована. Наверно, сигнал. Мощность недостаточная, чтобы нанести какой-либо вред.
Капитан процедил сквозь стиснутые зубы:
— Теперь они что-то делают. Снаружи на корпусе какое-то движение. Наблюдайте за тем, что появилось изнутри. Направьте дополнительные бластеры туда.
Что-то небольшое и круглое плавно отделилось от овала черного корабля, тронувшегося с места.
— Уходят, сэр, — раздалось из динамика. — Оставили там, где были, какой-то предмет.
Ворвался другой голос:
— Опять модулированная частота, сэр. Что-то непонятное.
Глаза Томми Дорта сияли… Капитан смотрел на экран, на лбу выступили капли пота.
— Неплохо, сэр, — задумчиво произнес Томми. — Если бы они послали что-нибудь в нашу сторону, могло показаться, что это снаряд или бомба. Итак, они подошли поближе, спустили шлюпку и снова ушли. Они рассчитывают, что мы тоже пошлем лодку или человека, чтобы войти в контакт, не рискуя кораблем. У них, видно, такой же ход мысли, как и у нас.
Не отрывая глаз от экрана, капитан сказал:
— Мистер Дорт, не выйти ли вам за борт и не посмотреть, что это там за штука? Я не могу приказывать вам, но вся моя команда нужна мне на случай боевых действий. Ученые же…
— Не в счет. Ладно, сэр, — тотчас ответил Томми. — Я не буду брать шлюпку. Только надену костюм с двигателем. Он меньше, и видно, что в руках и ногах нет бомбы. Мне кажется, надо взять с собой телепередатчик, сэр.
Чужой корабль продолжал отход. Сорок, восемьдесят, четыреста миль. Тут он остановился и повис выжидая. Влезая в свой космический костюм, снабженный атомным двигателем, Томми в воздушной входной камере «Лланвабона» слушал рапорты, которые разносили по кораблю динамики. То, что чужой корабль остановился в четырехстах милях, обнадеживало. Возможно, он не имел оружия большей дальнобойности и поэтому чувствовал себя в безопасности. Но не успел он подумать это, как чужой корабль стремительно понесся еще дальше.
Одно из двух, думал Томми, вылезая через люк наружу, либо чужаки поняли, что надо убираться, либо они делают вид, что уходят. Он взмыл с серебристо-зеркального корпуса «Лланвабона» и понесся сквозь ярко сияющую пустоту, в которой не бывал еще ни один представитель человеческого рода. Позади него «Лланвабон», развернувшись, ринулся прочь. В шлемофоне Томми зазвучал голос капитана:
— Мы тоже отходим, мистер Дорт. Весьма возможно, они готовят атомный взрыв на оставленном объекте, и мы окажемся в радиусе разрушения. Мы отступим. Не упускайте объекта из виду.
Причина отхода была весомой, хотя не очень утешительной. Взрыв, который бы разрушил все в радиусе двадцати миль, был теоретически возможен, но люди производить его еще не умели. Для вящей безопасности «Лланвабону» следовало отойти.
Однако Томми Дорт почувствовал себя очень одиноким. Он мчался к крошечному черному пятнышку, которое висело в невероятно яркой пустоте. «Лланвабон» исчез. Его полированный корпус сливался с сияющей дымкой где-то сравнительно недалеко. Чужой корабль тоже нельзя было увидеть невооруженным глазом. Томми плыл сквозь пустоту, в четырех тысячах световых миль от дома, направляясь к крошечному черному пятнышку, которое было единственным твердым предметом в пределах видимости.
Это был слегка сплюснутый шар, не более шести футов в диаметре. Он качнулся, когда Томми коснулся его ногами. Небольшие щупальца или скорее усики торчали из него во все стороны. Они были похожи на детонационные усики подводных мин, но на конце каждого сверкало по кристаллу.
— Я прибыл, — сказал Томми в свой шлемофон.
Он схватился за усик и подтянулся к шару. Тот был весь металлический, совершенно черный. Разумеется, Томми не мог почувствовать, каков он на ощупь, сквозь свои космические перчатки и внимательно осматривал шар вновь и вновь, пытаясь выяснить его назначение.
— Гиблое дело, сэр, — сказал он наконец. — Могу доложить только о том, что мы уже видели с корабля.
Затем он почувствовал сквозь костюм вибрацию. Она сопровождалась лязганьем. Часть круглого корпуса откинулась. Томми подобрался поближе и заглянул внутрь, надеясь первым среди людей увидеть первое цивилизованное существо неземного происхождения.
Но он увидел лишь какую-то плоскую панель, на которой вспыхивали тусклые красные огоньки, ничего не говорившие ему. В его шлемофоне послышалось чье-то испуганное восклицание, а потом голос капитана:
— Превосходно, мистер Дорт. Установите свой телепередатчик так, чтобы была видна панель. Они оставили робот с инфракрасным экраном для того, чтобы вступить с нами в связь. Не хотят рисковать никем из своей команды. Если бы мы решились на что-либо враждебное, то пострадал бы только механизм. Наверно, они думали, что мы возьмем эту штуку на борт корабля… но там, возможно, бомба, которую взорвут, когда они подготовятся к полету на родную планету. Я пошлю экран для того, чтобы установить его перед их телепередатчиком. А вы возвращайтесь на корабль.
— Слушаюсь, сэр, — ответил Томми. — Но в каком направлении корабль, сэр?
Звезд не было. Туманность скрыла их из виду. С робота видна была только двойная звезда в центре туманности. Томми больше не мог ориентироваться. У него был всего один ориентир.
— Двигайтесь в сторону, противоположную двойной звезде, — приказал голос в шлемофоне. — Мы подберем вас.
Немного погодя Томми пронесся мимо еще одной одинокой фигуры — это был человек, посланный установить экран на чужом шаре. На обоих кораблях решили не подвергать своих ни малейшему риску и вести переговоры через небольшой круглый робот. Их раздельные телевизионные системы давали возможность обмениваться той информацией, которую они могли позволить себе сообщить. В то же время велись споры о самом практичном способе обеспечения безопасности собственной цивилизации при этом первом контакте. В сущности, самым практичным способом было бы мгновенное уничтожение другого корабля… в контратаке.
II
Отныне «Лланвабон» стал кораблем, который выполнял одновременно две задачи, не связанные друг с другом. Он прибыл с Земли, чтобы с близкого расстояния изучить меньшую часть двойной звезды в центре туманности. Сама туманность появилась в результате самого гигантского взрыва из всех известных человечеству. Взрыв произошел где-то году в 2946-м до нашей эры, еще до того, как возникли первые (теперь давно исчезнувшие) семь городов Эллады. Свет этого взрыва достиг Земли в 1054 году нашей эры и был в должное время отмечен в церковных анналах, а также в более надежных источниках — записях китайских придворных астрономов. Яркость взорвавшейся звезды была такова, что ее видели средь бела дня двадцать три дня подряд. Находясь в четырех тысячах световых лет от Земли, она была ярче Венеры.
Исходя из этих данных, девятьсот лет спустя астрономы смогли высчитать силу взрыва. Вещество, выброшенное из центра взрыва, разлеталось со скоростью два миллиона триста тысяч миль в час; более чем тридцать восемь тысяч миль в минуту; свыше шестисот тридцати восьми миль в секунду. Когда телескопы двадцатого века нацелились на место этого громадного взрыва, осталась только двойная звезда… и туманность. Более яркая звезда из пары была почти уникальной, имея такую высокую температуру своей поверхности, что спектральный анализ оказался недейственным. Линий не было. Температура поверхности Солнца равна примерно семи тысячам градусов Цельсия выше нуля. Температура же раскаленной звезды равнялась пятистам тысячам градусов. У них с Солнцем почти одинаковая масса, а диаметром она в пять раз меньше, то есть она плотней воды в сто семьдесят три раза, свинца — в шестнадцать раз, иридия — в восемь. Это было самое тяжелое вещество из всех известных на Земле. Но даже такая плотность несравнима с плотностью карликовой белой звезды — соседа Сириуса. Белая звезда в Крабовидной туманности была неполным карликом; эта звезда находилась еще в процессе распада. Экспедиция на «Лланвабоне» была задумана ради изучения этого явления, а также исследования четырехтысячелетней колонны света. Но обнаружение чужого космического корабля, прибывшего сюда, очевидно, с той же целью, отодвинуло на второй план первоначальные задачи экспедиции.
Небольшой круглый робот дрейфовал в разреженном газе. Вся штатная команда «Лланвабона» стояла на своих постах, напряженно следя за развитием событий. Исследовательская группа разделилась. Одна часть ее неохотно продолжала те исследования, ради которых прибыл сюда «Лланвабон». Другие занялись проблемой встреченного космического корабля.
Он был продуктом культуры, способной совершать космические путешествия в межзвездном масштабе. Взрыв, происшедший каких-то пять тысяч лет тому назад, смел, очевидно, всякий след жизни в районе туманности. Следовательно, чужаки с черного корабля прибыли из другой солнечной системы. Их путешествие, как и путешествие землян, имело, очевидно, чисто научные цели. Больше в туманности делать было нечего.
Уровень их цивилизации не ниже уровня человеческой цивилизации, а это означало, что в случае установления дружелюбных отношений у них нашлись бы знания и товары, которыми они могли бы обмениваться с людьми. Но они бы, несомненно, осознавали, что существование цивилизованного человечества угрожает их роду. Два рода могли бы стать либо друзьями, либо смертельными врагами. Каждый, даже не желая того, был страшной угрозой для другого. И спастись от опасности можно, только уничтожив угрозу.
Встреча в Крабовидной туманности заострила этот вопрос и потребовала немедленного ответа на него. Будущие отношения двух родов надо было решить тут же, на месте. Если наметились бы пути к дружбе, один из родов (обреченный, в противном случае) выжил бы, и оба получили бы громадный выигрыш. Но надо спланировать этот процесс, надо добиться доверия, исключив какой бы то ни было риск опасности предательства. Доверие следовало бы установить на основе необходимости полного недоверия. Никто не осмелится вернуться на родную планету, если другая сторона окажется способной нанести вред чужому роду. Ни одна сторона не станет рисковать, даже если это необходимо, чтобы заслужить доверие. Для обеих сторон самым безопасным было бы уничтожить другой корабль или самой подвергнуться уничтожению.
В случае войны потребовалось бы куда больше сил, чем для простого уничтожения корабля. Совершая межзвездные полеты, чужаки, очевидно, используют атомную энергию или что-то другое для движения со сверхсветовой скоростью. Кроме радиолокации, телевидения, связи на коротких волнах, у них, разумеется, есть и другие достижения. А какое у них оружие? Какова область распространения их культуры? Каковы их ресурсы? Могут ли они подружиться и торговать, или два рода настолько непохожи друг на друга, что без войны им не обойтись? Если возможен мир, то как его установить?
Людям с «Лланвабона» нужны были факты… как и команде другого корабля. А они не могли допустить ни малейшей утечки информации. Самое главное — не выдать местонахождения родной планеты. На случай войны. Именно эта информация может оказаться решающим фактором в межзвездной войне. Но и другие факты оказались бы невероятно ценными.
Вся трагедия была в том, что информации, которая привела бы к миру, не существовало. Ни один из кораблей не мог поставить существование своего рода в зависимость от собственной уверенности в чужой доброй воле и чести.
Итак, корабли придерживались чего-то вроде странного перемирия. Чужак продолжал наблюдать. То же делал и «Лланвабон». Телепередатчик с «Лланвабона» установлен против экрана чужаков. Телепередатчик чужаков нацелен на экран с «Лланвабона». Начался сеанс связи.
Дело двигалось быстро. Томми Дорт первым доложил об этом. Свою задачу в экспедиции он выполнил. Теперь ему приказано было работать над разрешением проблемы общения с чужими существами. Он пошел в капитанскую рубку вместе с судовым психологом, чтобы сообщить об успехе. Как обычно, в капитанской рубке было тихо. Красноватое освещение приборов, большие светлые экраны на стенах и потолке…
— Мы установили вполне сносную связь, сэр, — сказал психолог. У него был усталый вид. Во время экспедиции ему полагалось держать под наблюдением исследовательскую группу, анализировать ошибки, возникавшие из-за личных качеств каждого, и стараться свести эти ошибки к минимуму. Его заставили делать то, к чему он был не совсем подготовлен, и это сказалось на нем. — В общем, мы можем выразить все, что пожелаем, и понять все, что нам скажут в ответ. Но разумеется, мы не знаем, сколько правды в их словах.
Капитан посмотрел на Томми Дорта.
— Мы наладили кое-какую аппаратуру, — сказал Томми. — Что-то вроде автоматического транслятора. Использовали телеэкраны и коротковолновую связь. Частота их передатчика модулирована — похоже на гласные и согласные в нашей речи. Ничего подобного мы прежде не знали, и наш слух не воспринимает этого, но мы разработали подобие кода, который позволяет общаться. Они посылают нам короткие модулированные волны, а мы преобразуем их в звуки. Нашу модулированную частоту они преобразуют в нечто воспринимаемое ими.
Нахмурившись, капитан сказал:
— Откуда вам это известно?
— Мы показали им свою аппаратуру, а они — свою. Каким-то образом они воспринимают нашу модулированную частоту. Мне кажется, — пояснил Томми, никаких звуков они не издают, даже разговаривая. Они показали нам свою рубку связи, и мы наблюдали за ними во время переговоров. Мы не заметили шевеления чего-либо, соответствующего органу речи. Микрофона у них нет, они просто стоят у чего-то, напоминающего антенну приемника. Я полагаю, сэр, они пользуются ультракороткими волнами для общения между собой. Они непосредственно воспринимают радиосигналы, как мы — звуки.
Капитан смотрел на него во все глаза.
— Значит, они обладают телепатическими способностями?
— М-м-м… Да, сэр, — ответил Томми. — Но это также означает, что с их точки зрения телепатическими способностями обладаем мы. Они, очевидно, глухие. Они наверняка не представляют себе, как можно использовать звуковые колебания воздуха для общения. Они просто не используют шумов для каких бы то ни было целей.
Капитан принял эту информацию к сведению.
— Что еще?
— Мне кажется, сэр, — чуть запнувшись, ответил Томми, — дело налаживается. Мы пришли к соглашению относительно условных обозначений предметов, сэр. С помощью телеэкранов. Мы разработали систему показа взаимосвязи вещей, условились о глаголах, используя диаграммы и рисунки. У нас уже есть тысячи две слов, которые понимают обе стороны. Мы установили анализатор, чтобы выделять их коротковолновые группы, которые затем поступают в машину для раскодирования. Она же преобразует нашу речь в коротковолновые группы, которые мы посылаем в сторону чужого корабля. Если вы готовы вести переговоры с его капитаном, сэр, мы, кажется, способны обеспечить их.
* * * — Гм… Что вы думаете об их психологии?
Этот вопрос капитан задал психологу.
— Видите ли, сэр, — с тревогой произнес психолог, — вроде бы они совершенно искренни. Но даже намеком не выдают своей тревоги. А мы знаем о ней. Они действуют так, будто просто налаживают связь для дружественных переговоров. Но есть один… э… обертон…
Психолог прекрасно разбирался в мотивах человеческих поступков, но не был подготовлен к полному анализу чужого образа мышления.
— Если вы мне позволите, сэр… — стесняясь, сказал Томми.
— Что?
— Они дышат кислородом, — продолжал Томми, — и не слишком отличаются от нас в других отношениях. Мне кажется, сэр, что мы развивались параллельно, в смысле… так сказать, основных функций организма. Я думаю, убежденно добавил он, — любое живое существо какого бы то ни было вида должно поглощать, производить обмен веществ, выделять… Очевидно, любой развитый ум должен воспринимать, оценивать и реагировать сообразно личному характеру. Я определенно уловил иронию. Значит, у них развито чувство юмора. Короче говоря, сэр, я чувствую, что мы могли бы найти с ними общий язык.
Грузный капитан встал с кресла.
— Гм! Посмотрим, что они скажут, — задумчиво сказал он.
Он отправился в рубку связи. Телепередатчик, установленный перед экраном в роботе, был готов к включению. Капитан остановился перед экраном. Томми Дорт сел к машине и застучал по клавишам. Донесшиеся из нее совершенно невероятные звуки подхватил микрофон, передатчик смодулировал частоту, и в сторону чужого корабля через космос был отправлен сигнал. Почти тотчас на экране появилось (ретранслированное через робот) внутреннее помещение чужого корабля. Перед телепередатчиком возник один из чужаков. Он, казалось, пытливо вглядывался с экрана. Он был поразительно похож на человека, и все же это был не человек. Совершенно лысый, он производил впечатление существа откровенного, но не лишенного чувства юмора.
— Мне хотелось бы сказать, — медленно произнес капитан, — что-нибудь соответствующее этому первому контакту двух цивилизованных родов, хотя бы выразить надежду на добрые отношения между нашими народами.
Томми Дорт заколебался. Потом он пожал плечами и искусно прошелся пальцами по клавишам машины. Снова раздались странные звуки.
Капитан чужого корабля, по-видимому, получил послание. Он сделал жест, который можно было истолковать так, что он согласен, но не особенно убежден в этом. Зажужжала машина, и из нее выскочила карточка с текстом. Томми бесстрастно сказал:
— Он говорит, сэр: «Все это очень хорошо, но есть ли какой-нибудь способ отпустить друг друга по домам живыми? Я был бы рад услышать о таком способе, если вы сможете его придумать. Сейчас же, как мне кажется, один из нас должен быть уничтожен».
III
Создалось неловкое положение. Надо было ответить сразу на очень много вопросов. Но ни на один из них не мог ответить никто. А ответить требовалось на все. «Лланвабон» мог уйти к родной планете. А если чужой корабль способен развить сверхсветовую скорость, превышающую скорость земного корабля? «Лланвабон» выдал бы местонахождение Земли и… все равно был бы вынужден сражаться. Он победил бы или проиграл. Если бы даже он победил, у чужаков могла оказаться система связи, по которой бы они доложили своей планете о направлении движения «Лланвабона» еще до начала схватки. Но в этом сражении «Лланвабон» мог проиграть. И уж если корабль обречен, то пусть его уничтожат здесь, и тогда предупрежденный и мощно вооруженный вражеский боевой флот никогда не узнает, где находится человечество. Поэтому ни один из кораблей и не думал покидать место встречи. Возможно, на черном корабле знали курс «Лланвабона» к туманности, но это был всего лишь конец логарифмической кривой, а чужаки не могли знать ее начала. Они не смогли бы определить ту точку, где «Лланвабон» совершил поворот, сойдя с земного курса. Следовательно, в данную минуту оба корабля не имели преимуществ в этом отношении. Тем не менее вопрос «Как быть?» по-прежнему требовал ответа. Точного ответа не было. Чужаки меняли информацию на информацию… но та информация, которую они давали, не всегда была понятна. Люди меняли информацию на информацию… но Томми Дорт исходил кровавым потом, боясь выдать ключ к определению местонахождения Земли. Чужаки видели в инфракрасном свете; экраны и телепередатчики в коммуникационном роботе преобразовывали оптическую частоту всякий раз таким образом, чтобы обе стороны воспринимали изображение. Чужакам не приходило в голову, что характер их зрения говорит о характере их солнца. Это красный карлик, испускающий свет большей энергии, но лежащий ниже спектра, видимого человеческим глазом. Но, как только это поняли на «Лланвабоне», стало понятно, что и чужаки способны сделать вывод о спектральном типе Солнца, зная, к какому свету привычны земляне. Существовало устройство для записи коротковолновых сообщений, которое обычно применялось чужаками так же, как звукозапись — людьми. Землянам оно бы очень пригодилось. Чужаки тоже были поражены тайной звука. Разумеется, они были способны воспринимать шум, но только так, как воспринимает человеческая ладонь тепло инфракрасного излучения, однако они разбирались в звуковом диапазоне не лучше, чем земляне в диапазоне невидимых частот, рождающих тепло. Для чужаков человеческая наука о звуке была значительным открытием. Они бы нашли применение шумам такое…какое людям и не снилось… если бы остались живы. Вот что было главное. Ни один из кораблей не мог уйти, не уничтожив другой. Но пока шел поток информации, ни один из кораблей не мог позволить себе уничтожить другой. Интересен был и сам фактор цвета корпусов обоих кораблей. У «Лланвабона» он блестел как зеркало. У чужого корабля корпус на свету был совершенно черный. Он превосходно поглощал тепло и с таким же успехом должен был отдавать его. Но этого не происходило. Черная оболочка не являла собой цвет «черного тела» или отсутствие цвета. Это был превосходный отражатель каких-то волн инфракрасного диапазона, и одновременно корпус светился именно в них. В сущности, он поглощал тепло более высокой частоты, превращал ее в низкую и уже не излучал — он имел нужную температуру даже в пустоте. Томми Дорт продолжал работать над проблемой общения. Он обнаружил, что ход мысли чужаков не так уж чужд, чтобы его нельзя было понять. Обсуждение технических вопросов привело к проблеме межзвездной навигации. Для иллюстрации этого процесса необходима была звездная карта. Самым логичным было бы воспользоваться одной из карт, находившихся в штурманской рубке… но по звездной карте можно было догадаться, с какого пункта ее сняли. Для Томми специально изготовили карту с воображаемыми, но убедительно изображенными на ней звездами. С помощью машины он передал правила, как ею пользоваться. В ответ на экране появилась звездная карта чужаков. Ее мгновенно засняли, и штурманы занялись ей, пытаясь определить, с какой точки галактики под таким углом видны звезды и Млечный Путь. И пришли в недоумение. В конце концов именно Томми понял, что чужаки тоже изготовили специальную карту для показа, и она была зеркальным отражением той фальшивой карты, которую только что продемонстрировал Томми. Он лишь ухмыльнулся. Эти чужаки начали ему нравиться. Они не были людьми, но чувствовали смешное совсем по-человечески. Немного погодя Томми отпустил беззлобную шутку. Ее надо было закодировать, смодулировать, передать на другой корабль, и черт ее знает, осталась ли она после этого понятной. Шутка, прошедшая такую процедуру, вряд ли показалась бы смешной. Но чужаки поняли, в чем дело. Один из чужаков, как и Томми, постоянно работал над кодированием и раскодированием сообщений. Между ними завязалось что-то вроде бессознательной дружбы. Они обсуждали вопросы кодирования, раскодирования и коротковолновой связи. Когда начались передача и прием официальных сообщений, чужак время от времени вставлял фразочки, почти жаргонные и не имевшие никакого отношения к тем техническим подробностям, которые обсуждались. Нередко они подбадривали. Без всякой причины Томми дал ему кодовую кличку «Старина», и машина всякий раз выдавала ее, когда этот самый оператор подписывался своим именем под сообщением. На третью неделю связи машина выдала Томми такое сообщение:
«Ты хороший малый. Жаль, если бы пришлось убить друг друга.
Старина».
Томми был того же мнения. Он отстукал горестный ответ:
«Мы не можем найти никакого выхода. Вы можете?»
После некоторой паузы пришло такое сообщение:
«Можем, если поверим друг другу. Нашему капитану хотелось бы. Но мы не можем поверить вам, вы не можете поверить нам. Мы сопровождали бы вас до вашей планеты, если бы имели возможность, а вы нас — до нашей. Но нас это приводит в отчаяние.
Старина».
Томми Дорт передал оба послания капитану. — Посмотрите, сэр! — настойчиво сказал он. — Это же почти люди, они хорошие ребята. Капитан был занят важным делом — он предвидел новые трудности и заранее пытался найти выход из них. Он устало сказал: — Они дышат кислородом. В их воздухе двадцать восемь процентов кислорода, а не двадцать, но на Земле они будут чувствовать себя хорошо. Завоевание ее было бы для них крайне желательным. А мы до сих не знаем, какое оружие у них есть или какое они могут создать. Уж не скажете ли вы им, как найти Землю? — Нет, нет! — тоскливо сказал Томми. — Они, наверно, испытывают те же чувства, — сухо продолжал капитан. И если даже наш контакт будет дружественным, надолго ли сохранятся дружеские отношения? Если их оружие будет уступать нашему, ради собственной безопасности они будут думать, как его усовершенствовать. И мы, зная, что они собираются взбунтоваться, постараемся сокрушить их, пока будет такая возможность… ради собственной безопасности! Если бы все произошло наоборот, они бы смяли нас прежде, чем мы догнали бы их. Томми молчал, беспокойно переступая с ноги на ногу. — Если мы уничтожим этот черный корабль и уйдем домой, — сказал капитан, — правительство Земли будет недовольно тем, что мы не узнали, откуда он. Но что мы можем поделать? В лучшем случае мы выберемся из этой переделки живыми. От этих существ получить информации больше, чем даем им ее мы, невозможно, и, уж разумеется, мы не дадим им своего адреса. Мы встретились с ними случайно. Возможно… если мы уничтожим этот корабль, нового контакта не случится и через тысячи лет. А жаль, торговля может принести громадную пользу! Но для того чтобы заключить мир, нужны две стороны, а мы не можем пойти на риск и довериться им. Ответ один — уничтожить их, если сможем, но, если они нас уничтожат, надо быть уверенными, что они не обнаружат ничего такого, что привело бы их к Земле. Такое положение мне не нравится, — устало добавил капитан, — но нам просто не дано ничего другого.
IV
На «Лланвабоне» инженеры лихорадочно работали, разделившись на две группы. Одна готовилась к победе, другая — к поражению. У трудившихся на победу выбор был небольшой. Главные бластеры были единственным стоящим оружием. Установки осторожно перемонтировали так, что они могли вести огонь не только прямо по курсу корабля при горизонтальной наводке в пять градусов. Электронные устройства, соединенные с радиолокатором, с абсолютной точностью наводили их на любую заданную цель, независимо от ее маневрирования. Более того, не прославившийся еще гений из машинного отделения изобрел систему накопления энергии, при помощи которой все, что давали судовые двигатели на выходе при нормальной работе на полную мощность, какое-то мгновенье аккумулировалось, а потом повышенная мощность подавалась толчками на бластеры. Теоретически дальнобойность бластеров увеличилась в несколько раз, а разрушительная мощь значительно повысилась. Однако на большее рассчитывать не приходилось.
Группа, созданная на случай поражения, имела в запасе больше времени. Звездные карты, навигационные инструменты, регистрирующие данные, серия фотографий, которые делал Томми Дорт на протяжении шести месяцев путешествия с Земли, и любой другой документ, способный дать ключ к определению местонахождения Земли, — все было подготовлено к уничтожению. Они были сложены в запечатанные контейнеры, и, если бы кто-нибудь вскрыл их, не зная точно сложного процесса вскрывания, содержимое контейнеров вспыхнуло бы и превратилось в пепел, а пепел перемешался бы так, что не оставалось никакой надежды на реставрацию. Разумеется, если бы «Лланвабон» победил, сохранялась возможность вскрытия тщательно замаскированным способом.
На корпусе корабля повсюду были размещены атомные бомбы. Если команду убьют, не полностью уничтожив корабль, то при попытке чужого корабля пристать к «Лланвабону» они взорвутся. На борту не было готовых атомных бомб, но были устройства, работавшие на атомной энергии. Оказалось нетрудно переконструировать источники атомной энергии так, чтобы они вместо постепенной отдачи этой энергии взорвались бы. А четыре члена команды земного корабля не снимали ни космических скафандров, ни шлемов, готовые сражаться, если борт корабля будет проломлен во многих местах в результате внезапного нападения.
Такое нападение, однако, не было бы предательским. Капитан чужого корабля высказался откровенно. Всем своим поведением он как бы с отвращением признавал бесполезность лжи. Капитан и вся команда «Лланвабона», в свою очередь, постепенно признали достоинство откровенности. Каждый утверждал (возможно, искренне), что желает дружбы между двумя родами. Но ни один не мог поверить в то, что другой не сделает всего возможного, чтобы найти тщательно скрываемый путь к родной планете. И ни один не мог отмести мысль, что другой способен сесть ему на хвост и разведать дорогу. Поскольку каждый считал своим долгом выполнить эту (неприемлемую для другого) задачу, никто не мог, доверившись другому, пойти на риск возможного уничтожения своего народа. Они должны сразиться, потому что ничего другого не остается.
Они могли бы повышать свои ставки перед сражением путем обмена информацией. Но блефовать бесконечно было бы невозможно. К тому же они все равно не обменивались сведениями об оружии, населении и ресурсах. Даже о расстоянии до родных планет от Крабовидной туманности не могло быть и речи. На всякий случай они обменивались информацией, хотя знали, что драка не на живот, а на смерть неминуема, и каждый стремился показать собственную цивилизацию достаточно могучей, чтобы заставить другого отказаться от всякой мысли о возможном покорении ее… и тем самым они преувеличивали опасность, делая сражение неотвратимым.
Любопытно, как существа, совершенно чуждые друг другу, рассуждают все-таки одинаково. Томми, проливая пот у машины над кодированием и раскодированием сообщений, лично для себя отметил это сходство по первой же все увеличивавшейся кипе карточек с высокопарно изложенным текстом. Он видел чужаков лишь на экране и в свете, который, по крайней мере, на целую октаву отличался от света, привычного для их зрения. В свою очередь, он казался им очень странным в передаваемом освещении, которое для них, с человеческой точки зрения, считалось ультрафиолетовым. Но мозги у них работали одинаково. Это поразительное сходство вызывало у Томми подлинную симпатию и даже нечто вроде дружеского чувства к дышащим жабрами, лысым и сдержанно ироничным существам с черного космического корабля.
Это мыслительное подобие толкнуло его на составление (хотя и безнадежное) чего-то вроде графика очередности проблем, стоящих перед обеими сторонами. Он не верил, что и чужаки испытывают инстинктивное стремление уничтожить людей. В сущности, изучение сообщений чужаков вызвало на «Лланвабоне» чувство терпимости, не отличающееся от чувства, испытываемого враждебными сторонами на Земле при заключении перемирия. Люди не испытывали враждебности, и, наверное, то же самое было с чужаками. Но необходимость убить или быть убитыми имела чисто логические причины.
График Томми был своеобразным. Он составил список целей, которые следовало бы попытаться осуществить людям, в порядке их важности. Во-первых, надо доставить на Землю сообщение о существовании других разумных существ. Во-вторых, надо определить местонахождение чужой цивилизации в Галактике. В-третьих, надо привезти на Землю как можно больше сведений об этой цивилизации. Над третьим пунктом работали, но второй скорее всего был невыполним. Первый же (да и все остальное) зависел от результата схватки, которая еще предстояла.
Цели у чужаков были, наверно, те же самые, и поэтому людям, во-первых, надо, чтобы чужаки не доставили весть о существовании земной цивилизации на родную планету, чтобы они, во-вторых, не обнаружили местонахождения Земли, и, в-третьих, нельзя дать возможность чужакам получить такую информацию, которая помогла бы им или натолкнула на мысль о нападении на человечество. И опять же третье осуществлялось, второго остерегались, а первое решилось бы в ходе битвы.
Не было никакой возможности уйти от мрачной необходимости уничтожить черный корабль. Чужаки, очевидно, видят решение своих проблем только в уничтожении «Лланвабона». Но, уныло продумывая свой список, Томми Дорт понимал, что даже полная победа не была бы лучшим выходом из положения. Предел мечтаний — захватить чужой корабль для обследования. Третья цель тогда была бы достигнута наилучшим образом. Томми чувствовал, что ему отвратительна сама мысль о такой полной победе, даже если бы она могла быть одержана. Его возмущала мысль об убийстве существ, которые не являются людьми, но понимают человеческие шутки. И, помимо всего прочего, он не мог примириться с мыслью, что Земле придется создавать флот боевых кораблей ради уничтожения чужой цивилизации, так как ее существование опасно. Чисто случайная встреча между народами, которые могли бы полюбить друг друга, создала положение, имеющее один конец — возможность полного взаимоуничтожения.
Томми Дорт ломал голову, пытаясь найти выход из этого положения. Ведь должен же быть какой-нибудь выход! Слишком много поставлено на карту! Да и абсурдно это — битва двух космических кораблей. Ни один из них не создавался специально для боевых действий. И вот выживший принесет на родину весть, которая положит начало бешеной подготовке к войне с другой ничего не ведающей стороной.
Если бы можно было хоть предупредить оба рода, и если бы каждый знал, что другой не хочет воевать, и если бы они могли поддерживать связь друг с другом, но не определять местонахождения планет, пока не получат должных оснований для взаимного доверия…
Это невозможно. Это химера. Это фантастика. Это чепуха. Но это была настолько соблазнительная чепуха, что Томми Дорт в отчаянии закодировал ее для своего дышавшего жабрами дружка Старины, которого отделяли от него несколько сот тысяч миль светящейся дымки туманности.
«Конечно, — ответил Старина в послании, раскодированном машиной. Мечта прекрасная. Ты мне нравишься, но я все еще не верю тебе… Если бы я сказал то же самое первый, то понравился бы тебе, но ты бы не верил мне тоже. В моих словах больше правды, чем в тебе веры, и, возможно, в твоих словах больше правды, чем веры во мне. Но выхода нет. Сожалею».
Томми Дорт мрачно смотрел на послание. Страшное чувство ответственности навалилось на него. На всю команду «Лланвабона». Если они потерпят неудачу в этой встрече, над человеческим родом нависнет угроза уничтожения в будущем. Если победят они, уничтожение, наверно, будет грозить роду чужаков. Миллионы, миллиарды жизней зависят от действий нескольких человек.
И тут Томми Дорт нашел выход из положения.
Поразительно простой. Только бы удалось его осуществить. В худшем случае это была бы частичная победа человечества и «Лланвабона». Томми сидел совершенно неподвижно, боясь малейшим движением отвлечься от обдумывания мелькнувшей мысли. Он возвращался к ней вновь и вновь, взволнованно споря сам с собой, устраняя противоречия. Да, это выход из положения! Он был уверен в этом.
У него едва ли не кружилась голова от облегчения, когда он вошел в капитанскую рубку и попросил капитана выслушать его.
* * * Среди других обязанностей капитана была обязанность предвидеть трудности. Но теперь капитану «Лланвабона» хватало их и без предвидения. За три недели и четыре дня, прошедших со времени первого контакта с чужим черным кораблем, лицо капитана покрылось морщинами, постарело. Он беспокоился не об одном «Лланвабоне». Он беспокоился за все человечество.
— Сэр, — сказал Томми Дорт, у него пересохло во рту от чрезмерного волнения, — разрешите мне предложить способ нападения на черный корабль. Я сделаю это сам, и, если ничего не выйдет, наш корабль не пострадает.
Капитан смотрел на него невидящими глазами.
— Тактика разработана, мистер Дорт, — медленно произнес он. — Дело идет к концу, корабль к бою готов. Это страшная игра, но выиграть ее надо.
— Мне кажется, — тщательно выбирая слова, возразил Томми, — я нашел способ, как выйти из этой игры. Предположите, сэр, что мы посылаем сообщение тому кораблю с предложением…
Его голос раздавался особенно отчетливо в совершенно тихой капитанской рубке, где экраны показывали только необъятный туман за бортом и две неистово сверкавших звезды в сердце туманности.
V
Сам капитан вышел вместе с Томми через люк в космос. Во-первых, дело, которое предложил Томми, требовало его авторитетного присутствия. И во-вторых, капитан переживал все более сильно, чем кто-либо на «Лланвабоне», и устал от этого. Отправляясь с Томми, он сделал бы дело сам, а при провале первый бы погиб (действия корабля были уже запрограммированы, данные введены в командную машину). Если бы Томми с капитаном погибли, одно нажатие кнопки бросило бы «Лланвабон» в самую яростную атаку, которая завершилась бы полным уничтожением либо одного из кораблей, либо обоих. Так что капитан не дезертировал со своего поста.
Люк широко распахнулся. В него была видна сияющая пустота туманности. В двадцати милях от корабля в космосе небольшой круглый робот дрейфовал по немыслимой орбите возле двух центральных солнц, постепенно приближаясь к ним. Но, разумеется, он никогда бы не достиг ни одного из них. Одна белая звезда была настолько горячее земного Солнца, что тут до земной температуры нагревался бы предмет, отстоящий от Солнца раз в пять дальше Нептуна. Даже на таком удалении, как у Плутона, маленький робот стал бы вишнево-красным от жара сверкающего карлика. Ну а на те примерно девяносто миллионов миль, которые разделяют Солнце и Землю, здесь приблизиться к звезде было бы невозможно. В такой близости металл расплавился бы, закипел и испарился. Но в половине светового года от звезды робот-шарик лишь покачивался в пустоте.
Две фигуры в космических скафандрах покинули «Лланвабон» и помчались. Небольшие атомные двигатели, превращавшие скафандры в самостоятельные космические кораблики, были хитро переделаны, но перемена не отражалась на их основной функции. Они направились к роботу связи. Уже в космосе капитан сказал хриплым голосом:
— Мистер Дорт, всю свою жизнь я мечтал о приключениях. Теперь я впервые взялся за осуществление своей мечты и пошел на авантюру.
Услышав голос капитана в шлемофоне, Томми облизал губы и заметил:
— Мне это не кажется авантюрой, сэр. Мне ужасно хочется, чтобы замысел удался. Я думаю, авантюра — это когда на все наплевать.
— Э нет, — возразил капитан. — Авантюра — это когда бросаешь свою жизнь на чашу весов случая и ждешь, что стрелка вот-вот остановится.
Они достигли круглого предмета и ухватились за усики, которые были объективами телепередатчиков.
— Умницы эти существа, — задумчиво сказал капитан. — Видно, им отчаянно хотелось увидеть не только рубку связи нашего корабля, прежде чем согласиться на этот обмен визитами перед сражением.
— Да, сэр, — откликнулся Томми. Но в глубине души он подозревал, что Старине, его дышащему жабрами другу, хотелось бы увидеть его во плоти до того, как один из них или оба они погибнут. И еще ему показалось, что в отношениях между двумя кораблями возникла странная традиция, напоминающая этикет, которым руководствовались два древних рыцаря перед турниром, — они, бывало, восхищались соперником от всего сердца, прежде чем обрушиться друг на друга со всем своим арсеналом.
Капитан и Томми подождали.
Из дымки показались две другие фигуры. Космические скафандры чужаков тоже были с двигателями. Сами чужаки были меньше ростом, чем люди, и лицевую сторону их шлемов прикрывали фильтры против видимых и ультрафиолетовых лучей, которые для них были смертельны. Удалось разглядеть лишь очертания их голов в шлемах.
Томми услышал в своем шлемофоне, как передали капитану:
— Они говорят, что их корабль ждет вас, сэр. Люк будет открыт.
Послышался голос капитана:
— Мистер Дорт, вы видели их скафандры прежде? Если видели, то уверены ли вы, что у них нет с собой ничего, бомб, например?
— Да, сэр, — сказал Томми, — мы показывали друг другу наше космическое снаряжение. На виду у них нет ничего необычного.
Капитан помахал двум чужакам. Потом вместе с Томми капитан направился к черному кораблю. Они не могли разглядеть корабль невооруженным глазом, но из рубки связи «Лланвабона» следили за их курсом.
Показалась громада черного корабля. В длину он был не меньше «Лланвабона», но гораздо толще. Оба человека влетели в открытый люк и встали на магнитные подошвы. Люк закрылся. Хлынул воздух, и одновременно они почувствовали искусственное тяготение. Затем внутренняя дверь камеры открылась…
Было темно. Томми включил фонарь на шлеме в тот же самый момент, что и капитан. Поскольку чужаки видели в инфракрасном свете, белый свет был для них невыносим. Поэтому фонари на шлемах излучали темно-красный свет, которым обычно освещались панели управления, дабы глаза могли разглядеть малейшее белое пятнышко, появившееся хотя бы на мгновенье на навигационном экране. Чужаки встретили людей. Они щурились от яркости фонарей на шлемах. В шлемофоне у Томми послышался голос:
— Они говорят, сэр, что их капитан ожидает вас.
Томми с капитаном находились в длинном коридоре с мягким полом. В свете фонарей все вокруг выглядело совершенно экзотичным.
— Кажется, я могу раскрыть шлем, сэр, — сказал Томми.
И раскрыл. Воздух был хороший. Анализатор показывал, что в нем тридцать процентов кислорода, а не двадцать, как в нормальном воздухе Земли, но давление было ниже. Люди чувствовали себя неплохо. Искусственная гравитация тоже была меньше той, которая поддерживалась на «Лланвабоне». Родная планета чужаков, очевидно, меньше Земли и (судя по интенсивности инфракрасного света) обращалась близко к почти остывшему, тускло-красному солнцу. В воздухе чем-то пахло. Запахи были совершенно непривычные, но не неприятные.
Арочный вход. Аппарель, застланная таким же мягким материалом. Лампы, горевшие мрачноватым тускло-красным светом. Чужаки из учтивости сами подготовили такое освещение. Свет, очевидно, резал им глаза, но этот знак внимания еще больше разжег стремление Томми осуществить свой замысел.
Капитан чужого корабля встретил их жестом, который, как показалось Томми, выражал недоверие, смешанное с иронией. В шлемофоне послышалось:
— Он говорит, сэр, что с удовольствием приветствует вас, но он мог придумать только один способ решения проблемы встречи двух наших кораблей.
— Подразумевается битва, — сказал капитан. — Скажите ему, что я прибыл, чтобы предложить альтернативу.
Оба капитана стояли лицом к лицу, но говорить непосредственно друг с другом не могли. Чужаки не пользовались звуковой речью. В сущности, они разговаривали на ультракоротких волнах и как бы телепатически. Но они не слышали, в привычном значении этого слова, так что речь капитана и Томми, с их точки зрения, тоже была как бы телепатической. Когда капитан говорил, его слова слышали на «Лланвабоне», где их кодировали, и посылали коротковолновые эквиваленты слов обратно на черный корабль. Ответ капитана чужого корабля тоже поступал на «Лланвабон» для раскодирования и передавался в шлемофоны, считываемый с карточки. Процесс был громоздкий, но действенный.
Низкорослый и коренастый капитан чужого корабля высказался не сразу. В шлемофонах послышался перевод его беззвучного ответа:
— Он с нетерпением слушает, сэр.
Капитан снял свой шлем и, положив руки на пояс, стал в воинственную позу.
— Послушайте! — сказал он агрессивным тоном странному лысому существу, стоявшему перед ним в неземном красном свете. — Похоже, нам придется сражаться, и кто-то из нас погибнет. Мы готовы к этому, если уж на то пошло. Но если вы победите, мы все равно сделали все так, чтобы вы не узнали, где Земля, а справиться с нами будет нелегко! Если победим мы, то столкнемся с той же проблемой. После нашей победы и возвращения домой наше правительство построит флот и станет разыскивать вашу планету. И если мы ее найдем, то уж разнести ее на куски не составит труда! Если победите вы, то же самое случится с нами! Все это глупость! Мы торчим здесь целый месяц, мы обменивались информацией, и у нас нет ненависти друг к другу. Причин сражаться у нас нет, разве что ради своих народов!
Хмурый капитан перевел дух. Томми Дорт бессознательно положил руки на пояс своего скафандра. Он ждал, страстно желая, чтобы замысел удался.
— Он говорит, сэр, — послышалось в шлемофоне, — что все сказанное вами правда. Но свой народ надо защитить…
— Конечно! — сердито сказал капитан. — Но благоразумие требует продумать эту защиту! Неблагоразумно ставить будущее в зависимость от воли случая во время битвы. Надо предупредить наши народы о существовании друг друга. В этом все дело. Но каждый должен иметь доказательство, что другой не хочет сражаться, а желает установления дружеских отношений. И не надо давать возможность разыскать друг друга. Мы должны поддерживать связь, чтобы разработать основу для взаимного доверия. Если наши правительства примут глупые решения, пусть их! Но мы должны дать им возможность подружиться, а не затеять из-за взаимного страха космическую войну!
В шлемофоне послышалось краткое изложение ответа:
— Он говорит, что все дело в доверии. Раз на карту поставлено существование его рода, он, как и вы, не может рисковать, лишаясь какого бы то ни было преимущества.
— Но мой народ, — гремел капитан, уставясь на чужака, — мой народ теперь это преимущество имеет. Мы прибыли на ваш корабль в скафандрах с атомными двигателями! И мы заранее переделали эти двигатели! Мы можем заставить взорваться десять фунтов топлива вот здесь, на вашем корабле. Дистанционное управление взрывом осуществляется и с нашего корабля. И было бы удивительно, если бы весь ваш запас топлива не взорвался вместе с нами! Другими словами, если у вас не хватит здравого смысла принять мое предложение, мы с Дортом произведем атомный взрыв и повредим, а то и уничтожим ваш корабль. Да и «Лланвабон» всей своей мощью обрушится на вас в ту же секунду, когда произойдет взрыв!
Непривычно было все в этой капитанской рубке чужого корабля, с ее тускло-красным освещением, со странными лысыми, дышащими жабрами чужаками, которые смотрели на капитана и ждали беззвучного перевода страстной речи, которую они не могли услышать. И вдруг возникла какая-то напряженность. Ощущение острой, дикой неловкости. Капитан чужого корабля взмахнул рукой. В шлеме послышалось:
— Он спрашивает, сэр, что это за предложение?
— Поменяться кораблями! — воскликнул капитан. — Поменяться кораблями и отправиться по домам! Мы можем перемонтировать наши приборы таким образом, что будет исключена возможность выслеживания; он может сделать то же самое со своими приборами. Каждая из сторон возьмет с собой свои звездные карты и записи. Каждый из нас демонтирует оружие. Воздух обоих кораблей годен для дыхания, так что поменяемся, и никто из нас не сможет нанести вред другому или выследить его. Так каждый доставит домой больше информации, чем каким бы то ни было другим способом! Мы можем договориться о встрече в этой самой Крабовидной туманности, когда двойная звезда сделает полный оборот. И если наш народ захочет встретиться с ними, мы прибудем сюда. То же пусть сделают и они, если не испугаются! Это и есть мое предложение! И пусть он принимает его, не то мы с Дортом взорвем их корабль, а «Лланвабон» добьет остатки!
Он смотрел на застывших коренастых чужаков, ожидая, когда им переведут сказанное. Он понял, что смысл его слов дошел до них, потому что напряженность исчезла. Чужаки зашевелились. Они жестикулировали. Один из них делал какие-то конвульсивные движения. Он лег на мягкий пол и колотил его ногами. Другие прислонились к стенам и тряслись.
Прежде тон голоса, слышавшегося в шлемофоне, был профессионально бесстрастен и тверд, теперь же в нем чувствовалась полная растерянность.
«Он говорит, сэр, что это превосходная шутка. Два члена их команды, посланные к нам и встретившиеся вам по пути, тоже принесли в своих скафандрах атомную взрывчатку, сэр. Он собирался сделать то же самое предложение и подкрепить его угрозой! Разумеется, он согласен, сэр. Наш корабль ему нужнее своего, а его корабль нужнее нам, чем «Лланвабон». Кажется, сэр, сделка заключена».
И тут только до Томми Дорта дошло, что это были за конвульсивные движения, которые делали чужаки. Они хохотали.
Все было не так просто, как обрисовал это капитан. На самом деле осуществление предложения требовало преодоления значительных трудностей. За три дня команды обоих кораблей перемешались. Чужаки изучали принцип действия двигателей «Лланвабона». Люди учились управлять черным кораблем. Это была превосходная шутка… только совсем непохожая на шутку. На черном корабле находились люди, а на «Лланвабоне» — чужаки, готовые в одно мгновенье взорваться вместе с кораблями при первом же сигнале тревоги. И они сделали бы это в случае необходимости, но по этой самой причине необходимости не возникало. Лучшего соглашения и придумать было невозможно — обе экспедиции возвращались на родные планеты и в одиночку.
Впрочем, разногласия были. Возник спор относительно изъятия записей. В большинстве случаев спор разрешался уничтожением записей. Вызвали беспокойство книги «Лланвабона» и чужой эквивалент судовой библиотеки, в которой было что-то вроде земных романов. Но эти предметы оказались бы ценными, если бы завязалась дружба, — при таком культурном обмене становился ясным образ мыслей обыкновенных граждан и отсутствовала пропаганда.
Но нервная напряженность не спадала все три дня. Чужаки выгружали и осматривали продукты питания, предназначенные для людей, которые полетят на черном корабле. Люди переправляли продукты питания, которые необходимы чужакам, возвращающимся домой. Дел было бесконечно много, начиная от обмена осветительным оборудованием, приспособленным к зрению каждой команды, и кончая последней проверкой всех систем. Совместная контрольная группа удостоверилась, что все приборы слежения уничтожены, а не изъяты, — теперь их нельзя было протащить на другой корабль и пустить в ход. И уж, разумеется, обе стороны постарались, чтобы на их кораблях не осталось никакого оружия. Любопытно, что обе команды оказались подготовленными лучшим образом к тому, чтобы не допустить какого бы то ни было нарушения договоренности.
Последние переговоры перед расставанием велись в рубке связи «Лланвабона».
— Скажите этому коротышке, — пророкотал бывший капитан «Лланвабона», что он получает хороший корабль, и пусть обращается с ним как следует.
На карточке появился ответ капитана-чужака.
— Я считаю, что ваш новый корабль не хуже. Надеюсь встретиться с вами здесь, когда двойная звезда сделает один оборот.
Последний человек покинул «Лланвабон». Корабль исчез в тумане прежде, чем люди вернулись на черный корабль. Экраны этого судна были приспособлены для человеческого зрения, и люди ревниво следили за своим бывшим кораблем, а их новое судно взяло сперва бессмысленный, уклончивый курс на отдаленную часть туманности. Оно оказалось в пустотной впадине, ведущей к звездам. Потом оно быстро вышло в открытый космос. На мгновение комок подкатил к горлу, как бывало всегда, когда корабль набирал сверхсветовую скорость, и черное судно понеслось в пустоте.
Много дней спустя капитан увидел, как Томми Дорт вглядывается в один из тех странных предметов, которые заменяли чужакам книги. Приятно было поломать над ними голову. Капитан остался доволен собой. Инженеры бывшей команды «Лланвабона» нашли нужные им сведения о корабле почти тотчас. Несомненно, что чужаки получили такое же удовольствие от своих открытий на «Лланвабоне». Но и черный корабль превосходен… Найденный выход из положения со всех точек зрения был предпочтительнее даже боя, в котором бы земляне одержали полную победу.
— Гм, мистер Дорт, — серьезно произнес капитан. — У вас нет больше аппаратуры, чтобы сделать новые снимки на обратном пути. Она осталась на «Лланвабоне». Но, к счастью, ваши снимки, сделанные на пути к туманности, сохранились, и я дам самую высокую оценку в своем докладе о вашем предложении, а также вашей помощи в деле осуществления целей экспедиции. Я самого высокого мнения о вас, сэр.
— Спасибо, сэр, — сказал Томми Дорт.
Он ждал, что еще скажет откашливавшийся капитан.
— Вы… кха… первый поняли большое сходство умственных процессов чужих и наших, — заметил капитан. — Что вы думаете о перспективах дружественного соглашения, если мы пойдем на встречу с чужаками в туманности, как было согласовано?
— О, мы прекрасно поладим, сэр, — сказал Томми. — Начало дружбе положено хорошее. Наконец, раз у них инфракрасное зрение, планеты, которые они захотели бы освоить, нам бы не подошли. Нет причины, почему бы нам не поладить. Психология у нас почти одинаковая.
— Гм… Что вы хотите этим сказать? — спросил капитан.
— Ведь они совсем похожи на нас, сэр! — сказал Томми. — Разумеется, они дышат сквозь жабры и видят в тепловой частоте, у них кровь на медной основе, а не на железной, и прочие мелкие отличия. И все же мы очень похожи! В команде у них были только мужчины, сэр, но вообще-то у чужаков есть оба пола, как и у нас, у них есть семья и… чувство юмора… В сущности…
Томми заколебался.
— Продолжайте, сэр, — сказал капитан.
— Ну… там был один, которого я называл Стариной, сэр, потому что его имя никак нельзя было передать звуковыми колебаниями, — объяснял Томми. — Мы с ним хорошо поладили. Я бы даже назвал его своим другом, сэр. И мы провели вместе часа два перед отлетом. Делать нам было нечего. И тогда я убедился, что люди и чужаки вполне способны стать добрыми друзьями, если представится хоть какая-нибудь возможность. Видите ли, сэр, мы провели эти два часа, рассказывая друг другу… нескромные анекдоты.
ЛЬЮИС ПЭДЖЕТТ
Льюис Пэджетт (псевдоним Катрин Мур и Генри Каттнера), почти единственная в своем роде «фантастическая» супружеская пара, оставила след в американской научной фантастике.
Катрин родилась в 1911 году. С детства сочиняла сказки и фантастические истории, увлекалась греческой мифологией, книгами про страну Оз. В 1931 году открыла для себя новый космос, новый смысл бытия. Работая секретаршей в банке, девушка задерживалась вечерами и писала свой первый научно-фантастический рассказ «Шамбло». В 1933 году он был опубликован в журнале «Таинственные рассказы» и стал сенсацией, «триумфом воображения». Сам «старейшина авторов чудесных историй» Г. Лавкрафт назвал «Шамбло» блистательным.
Вооруженный бластером космический бродяга «Северозападный» Смит, столь напоминающий отчаянных всадников «вестернов», спасает на Марсе странную коричневую девушку и отводит к себе. Когда она снимает с головы тюрбан, к ее ногам падает каскад не волос, а щупалец. Новоявленная Медуза Горгона завлекает, зачаровывает Смита. Стальные глаза хладнокровного убийцы загораются огнем любви, а непреклонная твердость духа бессильна преодолеть смертельно опасную страсть. Лишь вмешательство его друга Йарола с Венеры спасает «Северозападного» Смита от экстатического сгорания.
В других рассказах о «Северозападном» Смите описывались его битвы с неизвестными и часто невидимыми врагами, его необычные любовные приключения в других мирах. Генри Каттнер был весьма далек от образа «Северозападного» Смита. В детстве тоже, как и Катрин Мур, увлекался «Волшебной страной Оз» Л. Френка Баума, романами Э. Бэрроуза.
Как соавторы Катрин Мур и Генри Каттнер начали выступать с 1940 года под псевдонимом Льюис Пэджетт — по девичьей фамилии матери Каттнера (Льюис) и девичьей фамилии бабушки Мур (Пэджетт). В 1950 году супруги решили получить высшее образование. Окончив колледж, Г. Каттнер готовился уже защитить диссертацию, но неожиданно умер от сердечной недостаточности в феврале 1958 года в возрасте 43 лет. К. Мур продолжала писать. Она опубликовала интересный роман «Утро судного дня» о парадоксальной тирании, установившейся в США в недалеком будущем, и подготовила ряд популярных фантастических телепостановок.
И К. Мур и Г. Каттнер написали немало отличных произведений, исследовали важные участки научно-фантастического космоса. На их примере наглядно видно, что современная американская научная фантастика не собрание разрозненных индивидуальных усилий, а результат творчества многих людей, в разной степени талантливых и оригинальных, но мыслящих и работающих в одном направлении.
Рассказ «Все тенали бороговы…» — одно из лучших произведений К. Мур и Г. Каттнера.
«ВСЕ ТЕНАЛИ БОРОГОВЫ…»
Нет смысла описывать ни Унтахорстена, ни его местонахождение, потому что, во-первых, с 1942 года нашей эры прошло немало миллионов лет, а во-вторых, если говорить точно, Унтахорстен был не на Земле. Он занимался тем, что у нас называется экспериментированием, в месте, которое мы бы назвали лабораторией. Он собирался испытать свою машину времени.
Уже подключив энергию, Унтахорстен вдруг вспомнил, что Коробка пуста. А это никуда не годилось. Для эксперимента нужен был контрольный предмет — твердый и объемный, в трех измерениях, чтобы он мог вступить во взаимодействие с условиями другого века. В противном случае, по возвращении машины Унтахорстен не смог бы определить, где она побывала. Твердый же предмет в Коробке будет подвергаться энтропии и бомбардировке космических лучей другой эры, и Унтахорстен сможет по возвращении машины замерить изменения как качественные, так и количественные. Затем в работу включатся Вычислители и определят, где Коробка побывала в 1000000 году Новой эры, или в 1000 году, или, может быть, в 0001 году.
Не то чтобы это было кому-нибудь интересно, кроме самого Унтахорстена. Но он во многом был просто ребячлив.
Времени оставалось совсем мало. Коробка уже засветилась и начала содрогаться. Унтахорстен торопливо огляделся и направился в соседнее помещение. Там он сунул руку в контейнер, где хранилась всякая ерунда, и вынул охапку каких-то странных предметов. Ага, старые игрушки сына Сновена. Мальчик захватил их с собой, когда, овладев необходимой техникой, покидал Землю. Ну, Сновену этот мусор больше не нужен. Он перешел в новое состояние и детские забавы убрал подальше. Кроме того, хотя жена Унтахорстена и хранила игрушки из сентиментальных соображений, эксперимент был важнее.
Унтахорстен вернулся в лабораторию, швырнул игрушки в Коробку и захлопнул крышку. Почти в тот же момент вспыхнул контрольный сигнал. Коробка исчезла. Вспышка при этом была такая, что глазам стало больно.
Унтахорстен ждал. Он ждал долго.
В конце концов он махнул рукой и построил новую машину, но результат получился точно такой же. Поскольку ни Сновен, ни его мать не огорчились пропажей первой порции игрушек, Унтахорстен опустошил кон- тейнер и остатки детских сувениров использовал для второй Коробки.
По его подсчетам, эта Коробка должна была попасть на Землю во второй половине XIX века Новой эры. Если это и произошло, то Коробка осталась там.
Раздосадованный, Унтахорстен решил больше не строить машин времени. Но зло уже свершилось. Их было две, и первая…
Скотт Парадин нашел ее, когда прогуливал уроки.
К полудню он проголодался, и крепкие ноги принесли его к ближайшей лавке. Там он пустил в дело свои скудные сокровища, экономно и с благородным презрением к собственному аппетиту. Затем отправился к ручью поесть.
Покончив с сыром, шоколадом и печеньем и опустошив бутылку содовой, Скотт наловил головастиков и принялся изучать их с некоторой долей научного интереса. Но ему не удалось углубиться в исследования. Что-то тяжелое скатилось с берега и плюхнулось в грязь у самой воды, и Скотт, осторожно осмотревшись, заторопился поглядеть, что это такое.
Это была Коробка. Та самая Коробка. Хитроумные приспособления на ее поверхности Скотту ни о чем не говорили, хотя, впрочем, его удивило, что вся она оплавлена и обуглена. Высунув кончик языка из-за щеки, он потыкал Коробку перочинным ножом — хм! Вокруг никого, откуда же она появилась? Наверно, ее кто-нибудь здесь оставил, из-за оползня она съехала с того места, где прежде лежала.
— Это спираль, — решил Скотт, и решил неправильно. Эта штука была спиралевидная, но она не была спиралью из-за пространственного искривления.
Но ни один мальчишка не оставит Коробку запертой, разве что его оттащить насильно. Скотт ковырнул поглубже. Странные углы у этой штуки. Может, здесь было короткое замыкание, поэтому? — Фу-ты! — Нож соскользнул. Скотт пососал палец и длинно, умело выругался.
Может, это музыкальная шкатулка?
Скотт напрасно огорчался. Эта штука вызвала бы головную боль у Эйнштейна и довела бы до безумия Штайнмеца. Все дело было, разуме- ется, в том, что Коробка еще не совсем вошла в тот пространственно-вре- меной континуум, в котором существовал Скотт, и поэтому открыть ее было невозможно. Во всяком случае, до тех пор, пока Скотт не пустил в ход подходящий камень и не выбил эту спиралевидную неспираль в более удобную позицию.
Фактически он вышиб ее из контакта с четвертым измерением, высвободив пространственно-временной момент кручения. Раздался резкий щелчок. Коробка слегка содрогнулась и лежала теперь неподвижно, существуя уже полностью. Теперь Скотт открыл ее без труда.
Первое, что попалось ему на глаза, был мягкий вязаный шлем, но Скотт отбросил его без особого интереса. Ведь это была всего-навсего шапка. Затем он поднял прозрачный стеклянный кубик, такой маленький, что он уместился на ладони — слишком маленький, чтобы вмещать какой-то сложный аппарат. Моментально Скотт разобрался, в чем дело. Стекло было увеличительным. Оно сильно увеличивало то, что было в кубике. А там было нечто странное. Например, крохотные человечки…
Они двигались. Как автоматы, только более плавно. Как будто смотришь спектакль. Скотта заинтересовали их костюмы, а еще больше то, что они делали. Крошечные человечки ловко строили дом. Скотту подумалось, хорошо бы дом загорелся, он бы посмотрел, как тушат пожар.
Недостроенное сооружение вдруг охватили языки пламени. Человечки с помощью множества каких-то сложных приборов ликвидировали огонь.
Скотт очень быстро понял, в чем дело. Но его это слегка озадачило. Эти куклы слушались его мыслей! Когда он сообразил это, то испугался и отшвырнул кубик подальше. Он стал было взбираться вверх по берегу, но передумал и вернулся. Кубик лежал наполовину в воде и сверкал на солнце. Это была игрушка. Скотт чувствовал это безошибочным инстинктом ребенка. Но он не сразу поднял кубик. Вместо этого он вернулся к коробке и стал исследовать то, что там оставалось.
Он спрятал находку в своей комнате наверху, в самом дальнем углу шкафа. Стеклянный кубик засунул в карман, который уже и так оттопыривался, — там был шнурок, моток проволоки, два пенса, пачка фольги, грязная марка и обломок полевого шпата. Вошла вперевалку двухлетняя сестра Скотта, Эмма, и сказала: «Привет!»
— Привет, пузырь, — кивнул Скотт с высоты своих семи лет и нескольких месяцев. Он относился к Эмме крайне покровительственно, но она принимала это как должное. Маленькая, пухленькая, большеглазая, она плюхнулась на ковер и меланхолически уставилась на свои башмачки.
— Завяжи, Скотти, а?
— Балда, — сказал Скотт добродушно, но завязал шнурки. — Обед скоро?
Эмма кивнула.
— А ну-ка покажи руки. — Как ни странно, они были вполне чистые, хотя, конечно, не стерильные. Скотт задумчиво поглядел на свои собственные ладони и, гримасничая, отправился в ванную, где совершил беглый туалет, так как головастики оставили следы.
Наверху в гостиной Деннис Парадин и его жена Джейн пили предобеденный коктейль. Деннис был среднего роста, волосы чуть тронуты сединой, но моложавый, тонкое лицо, с поджатыми губами. Он преподавал философию в университете. Джейн — маленькая, аккуратная, темноволосая и очень хорошенькая. Она отпила мартини и сказала:
— Новые туфли. Как тебе?
— Да здравствует преступность! — пробормотал Парадин рассеянно. — Что? Туфли? Не сейчас. Дай закончить коктейль. У меня был тяжелый день.
— Экзамены?
— Ага. Пламенная юность, жаждущая обрести зрелость. Пусть они все провалятся. Подальше, в ад. Аминь!
— Я хочу маслину, — сказала Джейн.
— Знаю, — сказал Парадин уныло. — Я уж и не помню, когда сам ее ел. Я имею в виду, в мартини. Даже если я кладу в твой стакан полдюжины, тебе все равно мало.
— Мне нужна твоя. Кровные узы. Символ. Поэтому.
Парадин мрачно взглянул на нее и скрестил длинные ноги:
— Ты говоришь, как мои студенты.
— Честно говоря, не вижу смысла учить этих мартышек философии. Они уже не в том возрасте. У них уже сформировались и привычки, и образ мышления. Они ужасно консервативны, хотя, конечно, ни за что в этом не признаются. Философию могут постичь совсем зрелые люди либо младенцы вроде Эммы и Скотта.
— Ну, Скотти к себе в студенты не вербуй, — попросила Джейн, — он еще не созрел для доктора философии. Мне вундеркинды ни к чему, особенно если это мой собственный сын. Дай свою маслину.
— Уж Скотти-то, наверно, справился бы лучше, чем Бетти Доусон, проворчал Парадин.
— И он угас пятилетним стариком, выжив из ума, — продекламировала Джейн торжественно, — дай свою маслину.
— На. Кстати, туфли мне нравятся.
— Спасибо. А вот и Розали. Обедать?
— Все готово, мисс Парадин, — сказала Розали, появляясь на пороге. Я позову мисс Эмму и мистера Скотти.
— Я сам. — Парадин высунул голову в соседнюю комнату и закричал:
— Дети! Сюда, обедать!
Вниз по лестнице зашлепали маленькие ноги. Показался Скотт, приглаженный и сияющий, с торчащим вверх непокорным вихром. За ним Эмма, которая осторожно передвигалась по ступенькам. На полпути ей надоело спускаться прямо, она села и продолжала путь по-обезьяньи, усердно пересчитывая ступеньки маленьким задиком. Парадин, зачарованный этой сценой, смотрел не отрываясь, как вдруг почувствовал сильный толчок. Это налетел на него сын.
— Здорово, папка! — завопил Скотт.
Парадин выпрямился и взглянул на сына с достоинством.
— Сам здорово. Помоги мне подойти к столу. Ты мне вывихнул минимум одно бедро.
Но Скотт уже ворвался в соседнюю комнату, где в порыве эмоций наступил на туфли, пробормотал извинение и кинулся к своему месту за столом. Парадин, идя за ним с Эммой, крепко уцепившейся короткой пухлой ручкой за его палец, поднял бровь.
— Интересно, что у этого шалопая на уме?
— Наверно, ничего хорошего, — вздохнула Джейн. — Здравствуй, милый. Ну-ка, посмотрим твои уши.
Обед проходил спокойно, пока Парадин не взглянул случайно на тарелку Скотта.
— Привет, это еще что? Болен? Или за завтраком объелся?
Скотт задумчиво досмотрел на стоящую перед ним еду.
— Я уже съел сколько мне было нужно, пап, — объяснил он.
— Ты обычно ешь сколько в тебя влезет и даже больше, — сказал Парадин. — Я знаю, мальчики, когда растут, должны съедать в день тонны пищи, а ты сегодня не в порядке. Плохо себя чувствуешь?
— Н-нет. Честно, я съел столько, сколько мне нужно.
— Сколько хотелось?
— Ну да. Я ем по-другому.
— Этому вас в школе учили? — спросила Джейн.
Скотт торжественно покачал головой.
— Никто меня не учил. Я сам обнаружил. Мне плевотина помогает.
— Попробуй объяснить снова, — предложил Парадин. — Это слово не годится.
— Ну… слюна. Так?
— Ага. Больше пепсина? Что, Джейн, в слюне есть пепсин? Я что-то не помню.
— В моей есть яд, — вставила Джейн. — Опять Розали оставила комки в картофельном пюре.
Но Парадин заинтересовался.
— Ты хочешь сказать, что извлекаешь из пищи все, что можно, — без отходов — и меньше ешь?
Скотт подумал.
— Наверно, так. Это не просто плев… слюна. Я вроде бы определяю, сколько положить в рот за один раз, и чего с чем. Не знаю, делаю, и все.
— Хм-м, — сказал Парадин, решив позднее это проверить, — довольно революционная мысль. — У детей часто бывают нелепые идеи, но эта могла быть не такой уж абсурдной. Он поджал губы: Я думаю, постепенно люди научатся есть совершенно иначе — я имею в виду, как есть, а не только что именно. То есть какую именно пищу. Джейн, наш сын проявляет признаки гениальности.
— Да?
— Он сейчас высказал очень интересное соображение о диетике. Ты сам до него додумался, Скотт?
— Ну конечно, — сказал мальчик, сам искренне в это веря.
— А каким образом?
— Ну, я… — Скотт замялся. — Не знаю. Да это ерунда, наверно.
Парадин почему-то был разочарован.
— Но ведь…
— Плюну! Плюну! — вдруг завизжала Эмма в неожиданном приступе озорства и попыталась выполнить свою угрозу, но лишь закапала слюной нагрудник.
Пока Джейн с безропотным видом увещевала и приводила дочь в по- рядок, Парадин разглядывал Скотта с удивлением и любопытством. Но дальше события стали развиваться только после обеда, в гостиной.
— Уроки задали?
— Н-нетт, — сказал Скотт, виновато краснея. Чтобы скрыть смущение, он вынул из кармана один из предметов, которые нашел в Коробке, и стал расправлять его. Это оказалось нечто вроде четок с нанизанными бусами. Парадин сначала не заметил их, но Эмма увидела. Она захотела поиграть с ними.
— Нет. Отстань, пузырь, — приказал Скотт. — Можешь смотреть. Он начал возиться с бусами, послышались странные мягкие щелчки. Эмма протянула пухлый палец и тут же пронзительно заплакала.
— Скотти, — предупреждающе сказал Парадин.
— Я ее не трогал.
— Укусили. Они меня укусили, — хныкала Эмма. Парадин поднял голову. Взглянул, нахмурился. Какого еще…
— Это что, абак?
— спросил он. — Пожалуйста, дай взглянуть.
Несколько неохотно Скотт принес свою игрушку к стулу отца. Парадин прищурился. Абак в развернутом виде представлял собой квадрат не менее фута в поперечнике, образованный тонкими твердыми проволочками, которые местами переплетались. На проволочки были нанизаны цветные бусы. Их можно было двигать взад и вперед с одной проволочки на другую, даже в местах переплетений. Но ведь сквозную бусину нельзя передвинуть с одной проволоки на другую, если они переплетаются…
Так что, очевидно, бусы были несквозные. Парадин взглянул внимательнее. Вокруг каждого маленького шарика шел глубокий желобок, так что шарик можно было одновременно и вращать, и двигать вдоль проволоки. Парадин попробовал отсоединить одну бусину. Она держалась как намагниченная. Металл? Больше похоже на пластик.
Да и сама рама… Парадин не был математиком. Но углы, образованные проволочками, были какими-то странными, в них совершенно отсутствовала Эвклидова логика. Какая-то путаница. Может, это так и есть? Может, это головоломка?
— Где ты взял эту штуку?
— Мне дядя Гарри дал, — мгновенно придумал Скотт, — в прошлое воскресенье, когда он был у нас.
Парадин попробовал передвигать бусы и ощутил легкое замешательство. Углы были какие-то нелогичные. Похоже на головоломку. Вот эта красная бусина, если ее передвинуть по этой проволоке в том направлении, должна попасть вот сюда — но она не попадала. Лабиринт. Странный, но наверняка поучительный. У Парадина появилось ясное ощущение, что у него на эту штуку терпения не хватит.
У Скотта, однако, хватило. Он вернулся в свой угол и, что-то ворча, стал вертеть и передвигать бусины. Бусы действительно кололись, когда Скотт брался не за ту бусину или двигал ее в неверном направлении. Наконец он с торжеством завершил работу.
— Получилось, пап!
— Да? А ну-ка посмотрим. — Эта штука выглядела точно так же, как и раньше, но Скотт улыбался и что-то показывал.
— Я добился, чтобы она исчезла.
— Но она же здесь.
— Вон та голубая бусина. Ее уже нет.
Парадин этому не поверил и только фыркнул. Скотт опять задумался над рамкой. Он экспериментировал. На этот раз эта штука совсем не кололась. Абак уже подсказал ему правильный метод. Сейчас он уже мог делать все по-своему. Причудливые проволочные углы сейчас почему-то казались уж не такими запутанными.
Это была на редкость поучительная игрушка…
«Она, наверно, действует, — подумал Скотт, — наподобие этого стеклянного кубика». — Вспомнив о нем, он вытащил его из кармана и отдал абак Эмме, онемевшей от радости.
Она немедленно принялась за дело, двигая бусы и теперь не обращая внимания на то, что они колются, да и кололись они только чуть-чуть, и поскольку она хорошо все перенимала, ей удалось заставить бусину исчезнуть почти так же быстро, как Скотту. Голубая бусина появилась снова, но Скотт этого не заметил.
Он предусмотрительно удалился в угол между диваном и широким креслом и занялся кубиком.
Внутри были маленькие человечки, крошечные куклы, сильно увеличенные в размерах благодаря увеличительным свойствам стекла, и они двигались по-настоящему. Они построили дом. Он загорелся, и пламя вы- глядело как настоящее, а они стояли рядом и ждали. Скотт нетерпеливо выдохнул: «Гасите!»
Но ничего не произошло. Куда же девалась эта странная пожарная машина с вращающимися кранами, та, которая появлялась раньше? Вот она. Вот вплыла в картинку и остановилась. Скотт мысленно приказал ей начать работу.
Это было забавно. Как будто ставишь пьесу, только более реально. Человечки делали то, что Скотт мысленно им приказывал. Если он совершал ошибку, они ждали, пока он найдет правильный путь. Они даже предлагали ему новые задачи…
Кубик тоже был очень поучительной игрушкой. Он обучал Скотта подозрительно быстро и очень развлекал при этом. Но он не давал ему пока никаких по-настоящему новых сведений. Мальчик не был к этому готов. Позднее… Позднее…
Эмме надоел абак, и она отправилась искать Скотта. Она не могла его найти, и в его комнате его тоже не было, но, когда она там очутилась, ее заинтересовало то, что лежало в шкафу. Она обнаружила коробку. В ней лежало сокровище без хозяина — кукла, которую Скотт видел, но пренебрежительно отбросил.
С громким воплем Эмма снесла куклу вниз, уселась на корточках посреди комнаты и начала разбирать ее на части.
— Милая! Что это?
— Мишка!
Это был явно не ее мишка, мягкий, толстый и ласковый, без глаз и ушей. Но Эмма всех кукол называла мишками.
Джейн Парадин помедлила.
— Ты взяла это у какой-нибудь девочки?
— Нет. Она моя.
Скотт вышел из своего убежища, засовывая кубик в карман.
— Это — э-э-э… Это от дяди Гарри.
— Эмма, это дал тебе дядя Гарри?
— Он дал ее мне для Эммы, — торопливо вставил Скотт, добавляя еще один камень в здание обмана. — В прошлое воскресенье.
— Ты разобьешь ее, маленькая.
Эмма принесла куклу матери.
— Она разнимается. Видишь?
— Да? Это… ох! — Джейн ахнула. Парадин быстро поднял голову.
— Что такое?
Она подошла к нему и протянула куклу, постояла, затем, бросив на него многозначительный взгляд, пошла в столовую.
Он последовал за ней и закрыл дверь. Джейн уже положила куклу на прибранный стол.
— Она не очень-то симпатичная, а, Денни?
— Хм-м. — На первый взгляд кукла выглядела довольно неприятно. Можно было подумать, что это анатомическое пособие для студентов-медиков, а не детская игрушка…
Эта штука разбиралась на части — кожа, мышцы, внутренние органы все очень маленькое, но, насколько Парадин мог судить, сделано идеально. Он заинтересовался.
— Не знаю. У ребенка такие вещи вызывают совсем другие ассоциации…
— Посмотри на эту печень. Это же печень?
— Конечно. Слушай, я… странно.
— Что?
— Оказывается, анатомически она не совсем точна, — Парадин при- двинул стул. — Слишком короткий пищеварительный тракт. Кишечник маленький. И аппендикса нет.
— Зачем Эмме такая вещь?
— Я бы сам от такой не отказался, — сказал Парадин. — И где только Гарри ухитрился ее раздобыть? Нет, я не вижу в ней никакого вреда. Это у взрослых внутренности вызывают неприятные ощущения. А у детей нет. Они думают, что внутри они целенькие, как редиски. А с помощью этой куклы Эмма хорошо познакомится с физиологией.
— А это что? Нервы?
— Нет, нервы вот тут. А это артерия, вот вены. Какая-то странная аорта… — Парадин был совершенно сбит с толку. — Это… как по-латыни «сеть»? Во всяком случае… А? Ретана? Ратина?
— Респирация? — предложила Джейн наугад.
— Нет. Это дыхание, — сказал Парадин уничтожающе. — Не могу понять, что означает вот эта сеть светящихся нитей. Она пронизывает все те- по, как нервная система.
— Кровь.
— Да нет. Не кровообращение и не нервы — странно. И вроде бы связано с легкими.
Они углубились в изучение загадочной куклы. Каждая деталь в ней была сделана удивительно точно, и это само по себе было странно, если учесть физиологические отклонения от нормы, которые подметил Парадин.
— Подожди-ка, я притащу Гоулда, — сказал Парадин, и вскоре он уже сверял куклу с анатомическими схемами в атласе. Это мало чем ему помогло и только увеличило его недоумение.
Но это было интереснее, чем разгадывать кроссворд.
Тем временем в соседней комнате Эмма двигала бусины на абаке. Движения уже не казались такими странными. Даже когда бусины исчезали. Она уже почти почувствовала куда. Почти…
Скотт пыхтел, уставившись на свой стеклянный кубик, и мысленно руководил постройкой здания. Он делал множество ошибок, но здание строилось — оно было немного посложнее того, что уничтожило огнем. Он то- же обучался — привыкал…
Ошибка Парадина, с чисто человеческой точки зрения, состояла в том, что он не избавился от игрушек с самого начала. Он не понял их назначения, а к тому времени, как он в этом разобрался, события зашли уже довольно далеко. Дяди Гарри не было в городе, и у него проверить Парадин не мог. Кроме того, шла сессия, а это означало дополнительные нервные усилия и полное изнеможение к вечеру; к тому же Джейн в течение целой недели неважно себя чувствовала. Эмма и Скотт были предоставлены сами себе.
— Папа, — обратился Скотт к отцу однажды вечером, — что такое «исход»?
— Поход?
Скотт поколебался.
— Да нет… не думаю. Разве «исход» неправильное слово?
— «Исход», — это по-научному «результат». Годится?
— Не вижу в этом смысла, — пробормотал Скотт и хмуро удалился, чтобы заняться абаком. Теперь он управлялся с ним крайне искусно. Но, следуя детскому инстинкту избегать вмешательства в свои дела, они с Эммой обычно занимались игрушками, когда рядом никого не было. Не намеренно, конечно, но самые сложные эксперименты проводились, только если рядом не было взрослых.
Скотт обучался быстро. То, что он видел сейчас в кубике, мало было похоже на те простые задачи, которые он получал там вначале. Новые задачи были сложные и невероятно увлекательные. Если бы Скотт сознавал, что его обучением руководят и направляют его, пусть даже чисто механически, ему, вероятно, стало бы неинтересно. А так его интерес не увядал.
Абак и кукла, и кубик — и другие игрушки, которые дети обнаружили в коробке…
Ни Парадин, ни Джейн не догадывались о том воздействии, которое оказывало на детей содержимое машины времени.
Да и как можно было догадаться? Дети — прирожденные актеры из самозащиты. Они еще не приспособились к нуждам взрослого мира, нуждам, которые для них во многом необъяснимы. Более того, их жизнь усложняется неоднородностью требований. Один человек говорит им, что в грязи играть можно, но, копая землю, нельзя выкапывать цветы и разрушать корни. А другой запрещает возиться в грязи вообще. Десять заповедей не высечены на камне. Их толкуют по-разному, и дети всецело зависят от прихотей тех, кто рождает их, кормит, одевает. И тиранит. Молодое животное не имеет ничего против такой благожелательной тирании, ибо это естественное проявление природы. Однако это животное имеет индивидуальность и сохраняет свою целостность с помощью скрытого, пассивного сопротивления.
В поле зрения взрослых ребенок меняется. Подобно актеру на сцене, если только он об этом не забывает, он стремится угодить и привлечь к себе внимание. Такие вещи свойственны и взрослым. Но у взрослых это не менее заметно — для других взрослых.
Трудно утверждать, что у детей нет тонкости. Дети отличаются от взрослых животных тем, что они мыслят иным образом. Нам довольно легко разглядеть их притворство, но и им наше тоже. Ребенок способен безжалостно разрушить воздвигаемый взрослыми обман. Разрушение идеалов — прерогатива детей.
С точки зрения логики, ребенок представляет собой пугающе идеальное существо. Вероятно, младенец — существо еще более идеальное, но он настолько далек от взрослого, что критерии сравнения могут быть лишь поверхностными. Невозможно представишь себе мыслительные процессы у младенца. Но младенцы мыслят даже еще до рождения. В утробе они двигаются, спят, и не только всецело подчиняясь инстинкту. Мысль о том, что еще не родившийся эмбрион может думать, нам может показаться странной. Это поражает и смешит, и приводит в ужас. Но ничто человеческое не может быть чуждым человеку.
Однако младенец еще не человек. А эмбрион — тем более. Вероятно, именно поэтому Эмма больше усвоила от игрушек, чем Скотт. Разве что он мог выражать свои мысли, а она нет, только иногда, загадочными обрывками. Ну вот, например, эти ее каракули…
Дайте маленькому ребенку карандаш и бумагу, и он нарисует нечто такое, что для него выглядит иначе, чем для взрослого. Бессмысленная мазня мало чем напоминает пожарную машину, но для крошки это и есть пожарная машина. Может быть, даже объемная, в трех измерениях. Дети иначе мыслят и иначе видят.
Парадин размышлял об этом однажды вечером, читая газету и наблюдая Эмму и Скотта. Скотт о чем-то спрашивал сестру. Иногда он спрашивал по-английски. Но чаще прибегал к помощи какой-то тарабарщины и жестов. Эмма пыталась отвечать, но у нее ничего не получалось.
В конце концов Скотт достал бумагу и карандаш. Эмме это понравилось. Высунув язык, она тщательно царапала что-то. Скотт взял бумагу, посмотрел и нахмурился.
— Не так, Эмма, — сказал он.
Эмма энергично закивала. Она снова схватила карандаш и нацарапала что-то еще. Скотт немного подумал, потом неуверенно улыбнулся и встал. Он вышел в холл. Эмма опять занялась абаком.
Парадин поднялся и заглянула листок — у него мелькнула сумасшедшая мысль, что Эмма могла вдруг освоить правописание. Но это было не так. Листок был покрыт бессмысленными каракулями — такими, какие знакомы всем родителям. Парадин поджал губы.
Скотт вернулся, и вид у него был довольный. Он встретился с Эммой взглядом и кивнул. Парадина кольнуло любопытство.
— Секреты?
— Не-а. Эмма… ну, попросила для нее кое-что сделать.
Возможно, Парадин и Джейн выказали слишком большой интерес к игрушкам. Эмма и Скотт стали прятать их, и играли с ними, только когда были одни. Они никогда не делали этого открыто, но кое-какие неявные меры предосторожности принимали. Тем не менее это тревожило, и особенно Джейн.
— Денни, Скотти очень изменился. Миссис Бернс сказала, что он до смерти напугал ее Френсиса.
— Полагаю, что так, — Парадин прислушался. Шум в соседней комнате подсказал ему местонахождение сына. — Скотти?
— Ба-бах! — сказал Скотт и появился на пороге улыбаясь. — Я их всех поубивал. Космических пиратов. Я тебе нужен, пап?
— Да. Если ты не против отложить немного похороны пиратов. Что ты сделал Френсису Бернсу?
Синие глаза Скотти выразили беспредельную искренность.
— Я?
— Подумай. Я уверен, что ты вспомнишь.
— А-ах. Ах это! Не делал я его.
— Ему, — машинально поправила Джейн.
— Ну, ему. Честно. Я только дал ему посмотреть свой телевизор, и он… он испугался.
— Телевизор?
Скотт достал стеклянный кубик.
— Ну, это не совсем телевизор. Видишь?
Парадин стал разглядывать эту штуку, неприятно пораженный увеличительными стеклами. Однако он ничего не видел, кроме бессмысленно- го переплетения цветных узоров.
— Дядя Гарри… Парадин потянулся к телефону. Скотт судорожно глотнул.
— Он… он уже вернулся?
— Да.
— Ну, я пошел в ванную. — И Скотт направился к двери. Парадин перехватил взгляд Джейн и многозначительно покачал головой.
Гарри был дома, но он совершенно ничего не знал об этих странных игрушках. Довольно мрачно Парадин приказал Скотту принести из его комнаты все игрушки. И вот они все лежат в ряд на столе: кубик, абак, шлем, кукла и еще несколько предметов непонятного назначения. Скотту был устроен перекрестный допрос.
Какое-то время он героически лгал, но наконец не выдержал и с ревом и всхлипываниями выложил свое признание.
После того как маленькая фигурка удалилась наверх, Парадин подвинул к столу стул и стал внимательно рассматривать Коробку. Задумчиво поковырял оплавленную поверхность. Джейн наблюдала за ним.
— Что это, Денни?
— Не знаю. Кто мог оставить Коробку с игрушками у ручья?
— Она могла выпасть из машины.
— Только не в этом месте. К северу от железнодорожного полотна ручей нигде не пересекает дорога. Там везде пустыри, и больше ничего. Парадин закурил сигарету. — Налить тебе чего-нибудь, милая?
— Я сама. — Джейн принялась за дело, глаза у нее были тревожные. Она принесла Парадину стакан и стала за его спиной, теребя пальцами его волосы.
— Что-нибудь не так?
— Разумеется, ничего особенного. Только вот откуда взялись эти игрушки?
— У Джонсов никто не знает, а они получают свои товары из Нью-Йорка.
— Я тоже наводил справки, — признался Парадин. — Эта кукла… — он ткнул в нее пальцем, — она меня тревожит. Может, это дело таможни, но мне хотелось бы знать, кто их делает.
— Может, спросить психолога? Абак — кажется, они устраивают тесты с такими штуками.
Парадин прищелкнул пальцами:
— Точно! И слушай, у нас в университете на следующей неделе будет выступать один малый, Холовей, он детский психолог. Он фигура, с репутацией. Может быть, он что-нибудь знает об этих вещах?
— Холовей? Я не…
— Рекс Холовей. Он… хм-м-м! Он живет недалеко от нас. Может, это он сам их сделал?
Джейн разглядывала абак. Она скорчила гримаску и выпрямилась.
— Если это он, то мне он не нравится. Но попробуй выяснить, Денни. Парадин кивнул.
— Непременно.
Нахмурясь, он выпил коктейль. Он был слегка встревожен. Но не напуган — пока.
Рекса Холовея Парадин привел домой к обеду неделю спустя. Это был толстяк с сияющей лысиной, над толстыми стеклами очков как мохнатые гусеницы нависали густые черные брови. Холовей как будто и не наблюдал за детьми, но от него ничто не ускользало, что бы они ни делали и ни говорили. Его серые глаза, умные и проницательные, ничего не пропускали.
Игрушки его обворожили. В гостиной трое взрослых собрались вокруг стола, на котором они были разложены. Холовей внимательно их разглядывал, выслушивая все то, что рассказывали ему Джейн и Парадин. Наконец он прервал свое молчание:
— Я рад, что пришел сюда сегодня. Но не совсем. Дело в том, что все это внушает тревогу.
— Как? — Парадин широко открыл глаза, а на лице Джейн отразился ужас. То, что Холовей сказал дальше, их отнюдь не успокоило.
— Мы имеем дело с безумием. — Он улыбнулся, увидев, какое воздействие произвели его слова. — С точки зрения взрослых, все дети безумны. Читали когда-нибудь «Ураган на Ямайке» Хьюза?
— У меня есть. — Парадин достал с полки маленькую книжку. Холовей протянул руку, взял книгу и стал перелистывать страницы, пока не нашел нужного места. Затем стал читать вслух: — «Разумеется, младенцы еще не являются людьми — это животные, со своей древней и разветвленной культурой, как у кошек, у рыб, даже у змей. Они имеют сходную природу, только сложнее и ярче, ибо все-таки из низших позвоночных это самый развитый вид. Короче говоря, у младенцев есть свое собственное мышление, и оно оперирует понятиями и категориями, которые невозможно перевести на язык понятий и категорий человеческого мышления».
Джейн попыталась было воспринять его слова спокойно, но ей это не удалось.
— Вы что, хотите сказать, что Эмма…
— Способны ли вы думать так, как ваша дочь? — спросил Холовей. Послушайте: «Нельзя уподобиться в мыслях младенцу, как нельзя уподобиться в мыслях пчеле».
Парадин смешивал коктейли. Он сказал через плечо:
— Не слишком ли много теории? Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что у младенцев есть своя собственная культура и даже довольно высокий интеллект?
— Не обязательно. Понимаете, это вещи несоизмеримые. Я только хочу сказать, что младенцы размышляют совсем иначе, чем мы. Не обязательно лучше — это вопрос относительных ценностей. Но это просто различный способ развития… — В поисках подходящего слова он скорчил гримасу.
— Фантазии, — сказал Парадин довольно пренебрежительно, но с раздражением из-за Эммы. — У младенцев точно такие же ощущения, как у нас.
— А кто говорит, что нет? — возразил Холовей. — Просто их разум направлен в другую сторону, вот и все. Но этого вполне достаточно.
— Я стараюсь понять, — сказала Джейн медленно, — но у меня аналогия только с моей кухонной машиной. В ней можно взбивать тесто и пюре, но можно и выжимать сок из апельсинов.
— Что-то в этом роде. Мозг — коллоид, очень сложной организации. О его возможностях мы пока знаем очень мало, мы даже не знаем, сколько он способен воспринять. Но зато доподлинно известно, что, по мере того как человеческое существо созревает, его мозг приспосабливается, усваивает определенные стереотипы, и дальше мыслительные процессы базируются на моделях, которые воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Вот взгляните, — Холовей дотронулся до абака, — вы пробовали с ним упражняться?
— Немного, — сказал Парадин…
— Но не так уж, а?
— Ну…
— А почему?
— Бессмысленно, — пожаловался Парадин. — Даже в головоломке должна быть какая-то логика. Но эти дурацкие углы…
— Ваш мозг приспособился к Эвклидовой системе, — сказал Холовей. Поэтому эта… штуковина вас утомляет и кажется бессмысленной. Но ребенку об Эвклиде ничего не известно. И иной вид геометрии, отличный от нашего, не покажется ему нелогичным. Он верит тому, что видит.
— Вы что, хотите сказать, что у этой чепухи есть четвертое измерение? — возмутился Парадин.
— На вид, во всяком случае, нет, — согласился Холовей. — Я только хочу сказать, что наш разум, приспособленный к Эвклидовой системе, не может увидеть здесь ничего, кроме клубка запутанной проволоки. Но ребенок — особенно маленький — может увидеть и нечто иное. Не сразу. Конечно, и для него это головоломка. Но только ребенку не мешает предвзятость мышления.
— Затвердение мыслительных артерий, — вставила Джейн.
Но Парадина это не убедило.
— Тогда, значит, ребенку легче справиться с дифференциальными и интегральными уравнениями, чем Эйнштейну?
— Нет, я не это хотел сказать. Мне ваша точка зрения более или менее ясна. Только…
— Ну хорошо. Предположим, что существуют два вида геометрии — ограничим число видов, чтобы облегчить пример. Наш вид, Эвклидова геометрия, и еще какой-то, назовем его X. X никак не связан с Эвклидовой геометрией, но основан на иных теоремах. В нем два и два не обязательно должны быть равны четырем, они могут быть равны Y
2, а могут быть даже вовсе не равны ничему. Разум младенца еще ни к чему не приспособился, если не считать некоторых сомнительных факторов наследственности и среды. Начните обучать ребенка принципам Эвклида…
— Бедный малыш, — сказала Джейн.
Холовей бросил на нее быстрый взгляд.
— Основам Эвклидовой системы. Начальным элементам. Математика, геометрия, алгебра — это все идет гораздо позже. Этот путь развития нам знаком. А теперь представьте, что ребенка начинают обучать основным принципам этой логики X.
— Начальные элементы? Какого рода?
Холовей взглянул на абак.
— Для нас в этом нет никакого смысла. Мы приспособились к Эвклидовой системе.
Парадин налил себе неразбавленного виски.
— Это прямо-таки ужасно. Вы не ограничиваетесь одной математикой.
— Верно! Я вообще ничего не хочу ограничивать. Да и каким образом? Я не приспособлен к логике X.
— Вот вам и ответ, — сказала Джейн со вздохом облегчения.
— А кто к ней приспособлен? Ведь чтобы сделать вещи, за которые вы, видимо, принимаете эти игрушки, понадобился бы именно такой человек.
Холовей кивнул, глаза его щурились за толстыми стеклами очков.
— Может быть, такие люди существуют.
— Где?
— Может быть, они предпочитают оставаться в неизвестности.
— Супермены?
— Хотел бы я знать! Видите ли, Парадин, все опять упирается в отсутствие критериев. По нашим нормам, эти люди в некоторых отношениях могут показаться сверхумниками, а в других — слабоумными. Разница не количественная, а качественная. Они по-иному мыслят. И я уверен, что мы способны делать кое-что, чего они не умеют.
— Может быть, они бы и не захотели, — сказала Джейн.
Парадин постучал пальцем по оплавленным приспособлениям на поверхности Коробки.
— А как насчет этого? Это говорит о…
— О какой-то цели, разумеется.
— Транспортация?
— Это прежде всего приходит в голову. Если это так. Коробка могла попасть сюда откуда угодно.
— Оттуда… где… все по-другому? — медленно спросил Парадин.
— Именно. В космосе или даже во времени. Не знаю. Я психолог. И, к счастью, я тоже приспособлен к Эвклидовой системе.
— Странное, должно быть, место, — сказала Джейн. — Денни, выброси эти игрушки.
— Я и собираюсь.
Холовей взял в руки стеклянный кубик.
— Вы подробно расспрашивали детей?
Парадин ответил:
— Ага, Скотт сказал, что, когда он впервые заглянул в кубик, там были человечки. Я спросил его, что он видит там сейчас.
— Что он сказал? — Психолог перестал хмуриться.
— Он сказал, что они что-то строят. Это его точные слова. Я спросил: кто, человечки? Но он не смог объяснить.
— Ну да, понятно, — пробормотал Холовей, — это, наверно, прогрессирует. Как давно у детей эти игрушки?
— Кажется, месяца три.
— Вполне достаточно. Видите ли, совершенная игрушка механическая, но она и обучает. Она должна заинтересовать ребенка своими возможностями, но и обучать, желательно незаметно. Сначала простые зада- чи. Затем…
— Логика X, — сказала бледная, как мел, Джейн.
Парадин ругнулся вполголоса.
— Эмма и Скотт совершенно нормальны!
— А вы знаете, как работает их разум сейчас?
Холовей не стал развивать свою мысль. Он потрогал куклу.
— Интересно было бы знать, каковы критерии там, откуда появились эти вещи? Впрочем, метод индукции мало что даст. Слишком много неизвестных факторов. Мы не можем представить себе мир, который основан на факторе X — среда, приспособленная к разуму, мыслящему неизвестными категориями X.
— Это ужасно, — сказала Джейн.
— Им так не кажется. Вероятно, Эмма быстрее схватывает X, чем Скотт, потому что ее разум еще не приспособился к нашей среде.
Парадин сказал:
— Но я помню многое из того, что я делал ребенком. Даже когда был совсем маленьким.
— Ну и что?
— Я… был тогда… безумен?
— Критерием вашего безумия является как раз то, чего вы не помните, — возразил Холовей, — но я употребляю слово «безумие» только как удобный символ, обозначающий отклонение от принятой человеческой нормы. Произвольную норму здравомыслия.
Джейн опустила стакан.
— Вы сказали, господин Холовей, что методом индукции здесь действовать трудно. Однако мне кажется, что вы именно этим и занимаетесь, а фактов у вас очень мало. Ведь эти игрушки…
— Я прежде всего психолог, и моя специальность — дети. Я не юрист. Эти игрушки именно потому говорят мне так много, что они не говорят почти ни о чем.
— Вы можете и ошибаться.
— Я хотел бы ошибиться. Мне нужно проверить детей.
— Я позову их, — сказал Парадин.
— Только осторожно. Я не хочу их спугнуть.
Джейн кивком указала на игрушки. Холовей сказал:
— Это пусть останется, ладно?
Но когда Эмму и Скотта позвали, психолог не сразу приступил к прямым расспросам. Незаметно ему удалось вовлечь Скотта в разговор, то и дело вставляя нужные ему слова. Ничего такого, что явно напоминало бы тест по ассоциациям — ведь для этого нужно сознательное участие второй стороны.
Самое интересное произошло, когда Холовей взял в руки абак.
— Может быть, ты покажешь мне, что с этим делать?
Скотт заколебался.
— Да, сэр. Вот так… — Бусина в его умелых руках скользнула по запутанному лабиринту так ловко, что никто из них не понял, что она в конце концов исчезла. Это мог быть просто фокус. Затем опять…
Холовей попробовал сделать то же самое. Скотт наблюдал, морща нос.
— Вот так?
— Угу. Она должна идти вот сюда…
— Сюда? Почему?
— Ну, потому что иначе не получится.
Но разум Холовея был приспособлен к Эвклидовой системе. Не было никакого очевидного объяснения тому, что бусина должна скользить с этой проволочки на другую, а не иначе. В этом не видно было никакой логики.
Ни один из взрослых как-то не понял точно, исчезла бусина или нет. Если бы они ожидали, что она должна исчезнуть, возможно, они были бы гораздо внимательнее.
В конце концов так ни к чему и не пришли. Холовею, когда он прощался, казалось, было не по себе.
— Можно мне еще прийти?
— Я бы этого хотела, — сказала Джейн. — Когда угодно. Вы все еще полагаете…
— Он кивнул.
— Их умы реагируют ненормально. Они вовсе не глупые, но у меня очень странное впечатление, что они делают выводы совершенно непонятным нам путем. Как если бы они пользовались алгеброй там, где мы пользуемся геометрией. Вывод такой же, но достигнут другим методом.
— А что делать с игрушками? — неожиданно спросил Парадин.
— Уберите их подальше. Если можно, я хотел бы их пока взять.
В эту ночь Парадин плохо спал. Холовей провел неудачную аналогию. Она наводила на тревожные размышления. Фактор X. Дети используют в рассуждениях алгебру там, где взрослые пользуются геометрией. Пусть так. Только… Алгебра может дать такие ответы, каких геометрия дать не может, потому что в ней есть термины и символы, которые нельзя выразить геометрически. А что, если логика X приводит к выводам, непостижимым для человеческого разума?
— Ч-черт! — прошептал Парадин. Рядом зашевелилась Джейн.
— Милый! Ты тоже не спишь?
— Нет. — Он поднялся и пошел в соседнюю комнату. Эмма спала, безмятежная, как херувим, пухлая ручка обвила мишку. Через открытую дверь Парадину была видна темноволосая голова Скотта, неподвижно лежавшая на подушке.
Джейн стояла рядом. Он обнял ее.
— Бедные малыши, — прошептала она. — А Холовей назвал их не- нормальными. Наверное, это мы сумасшедшие, Деннис.
— Нда-а. Просто мы нервничаем.
Скотт шевельнулся во сне. Не просыпаясь, он пробормотал что-то — это явно был вопрос, хотя вроде бы и не на каком-либо языке. Эмма пропищала что-то, звук ее голоса резко менял тон.
Она не проснулась. Дети лежали не шевелясь. Но Парадину подумалось, и от этой мысли неприятно засосало под ложечкой, что это было, как будто Скотт спросил Эмму о чем-то, и она ответила.
Неужели их разум изменился настолько, что даже сон — и тот был у них иным?
Он отмахнулся от этой мысли.
— Ты простудишься. Вернемся в постель. Хочешь чего-нибудь выпить?
— Кажется, да, — сказала Джейн, наблюдая за Эммой. Рука ее потянулась было к девочке, но она отдернула ее.
— Пойдем. Мы разбудим детей.
Вместе они выпили немного бренди, но оба молчали. Потом, во сне, Джейн плакала.
Скотт не проснулся, но мозг его работал, медленно и осторожно выстраивая фразы, вот так:
— Они заберут игрушки. Этот толстяк… может быть листава опасен. Но направления Горика не увидеть… им дун уванкрус у них нет… Интрадикция… яркая, блестящая. Эмма. Она сейчас уже гораздо больше копранит, чем… Все-таки не пойму, как… тавирарить миксер дист…
Кое-что в мыслях Смита можно было еще разобрать. Но Эмма перестроилась на логику X гораздо быстрее. Она тоже размышляла.
Не так, как ребенок, не так, как взрослый. Вообще не так, как человек. Разве что, может быть, как человек совершенно иного типа, чем homo sapiens.
Иногда и Скотту трудно было поспеть за ее мыслями. Постепенно Парадин и Джейн опять обрели нечто вроде душевного равновесия. У них было ощущение, что теперь, когда причина тревог устранена, дети излечились от своих умственных завихрений.
Но иногда все-таки что-то было не так.
Однажды в воскресенье Скотт отправился с отцом на прогулку, и они остановились на вершине холма. Внизу перед ними расстилалась довольно приятная долина.
— Красиво, правда? — заметил Парадин.
Скотт мрачно взглянул на пейзаж.
— Это все неправильно, — сказал он.
— Как это?
— Ну, не знаю.
— Но что здесь неправильно?
— Ну… — Скотт удивленно замолчал. — Не знаю я.
В этот вечер, однако, Скотт проявил интерес, и довольно красноречивый, к угрям.
В том, что он интересовался естественной историей, не было ничего явно опасного. Парадин стал объяснять про угрей.
— Но где они мечут икру? И вообще, они ее мечут?
— Это все еще неясно. Места их нереста неизвестны. Может быть, Саргассово море, или же где-нибудь в глубине, где давление помогает их телам освобождаться от потомства.
— Странно, — сказал Скотт в глубоком раздумье.
— С лососем происходит более или менее то же самое. Для нереста он поднимается вверх по реке. — Парадин пустился в объяснения. Скотт слушал, завороженный.
— Но ведь это правильно, пап. Он рождается в реке, и когда на- учится плавать, уплывает вниз по течению к морю. И потом возвращается обратно, чтобы метать икру, так?
— Верно.
— Только они не возвращались бы обратно, — размышлял Скотт, они бы просто посылали свою икру…
— Для этого нужен был бы слишком длинный яйцеклад, — сказал Парадин и отпустил несколько осторожных замечаний относительно размножения.
Сына его слова не удовлетворили. Ведь цветы, возразил он, отправляют свои семена на большие расстояния.
— Но ведь они ими не управляют. И совсем немногие попадают в плодородную почву.
— Но ведь у цветов нет мозгов. Пап, почему люди живут здесь?
— В Глендале?
— Нет, здесь. Вообще здесь. Ведь, спорим, это еще не все, что есть на свете.
— Ты имеешь в виду другие планеты?
Скотт помедлил.
— Это только… часть… чего-то большого. Это как река, куда плывет лосось. Почему люди, когда вырастают, не уходят в океан?
Парадин сообразил, что Скотт говорит иносказательно. И на мгновение похолодел. Океан?
Потомство этого рода не приспособлено к жизни в более совершенном мире, где живут родители. Достаточно развившись, они вступают в этот мир. Потом они сами дают потомство. Оплодотворенные яйца закапывают в песок, в верховьях реки. Потом на свет появляются живые существа.
Они познают мир. Одного инстинкта совершенно недостаточно. Особенно когда речь идет о таком роде существ, которые совершенно не приспособлены к этому миру, не могут ни есть, ни пить, ни даже существовать, если только кто-то другой не позаботится предусмотрительно о том, чтобы им все это обеспечить.
Молодежь, которую кормят и о которой заботятся, выживет. У нее есть инкубаторы, роботы. Она выживет, но она не знает, как плыть вниз по течению, в большой мир океана.
Поэтому ее нужно воспитывать. Ее нужно ко многому приучить и приспособить.
Осторожно, незаметно, ненавязчиво. Дети любят хитроумные игрушки. И если эти игрушки в то же время обучают…
Во второй половине XIX столетия на травянистом берегу ручья сидел англичанин. Около него лежала очень маленькая девочка и глядела в небо. В стороне валялась какая-то странная игрушка, с которой она перед этим играла. А сейчас она мурлыкала песенку без слов, а человек прислушивался краем уха.
— Что это такое, милая? — спросил он наконец.
— Это просто я придумала, дядя Чарли.
— А ну-ка спой еще раз. — Он вытащил записную книжку.
Девочка спела еще раз.
— Это что-нибудь означает?
Она кивнула.
— Ну да. Вот как те сказки, которые я тебе рассказывала, помнишь?
— Чудесные сказки, милая.
— И ты когда-нибудь напишешь про это в книгу?
— Да, только нужно их очень изменить, а то никто их не поймет. Но я думаю, что песенку твою я изменять не буду.
— И нельзя. Если ты что-нибудь в ней изменишь, пропадет весь смысл.
— Этот кусочек, во всяком случае, я не изменю, — пообещал он. — А что он обозначает?
— Я думаю, что это путь туда, — сказала девочка неуверенно. — Я пока точно не знаю. Это мои волшебные игрушки мне так сказали.
— Хотел бы я знать, в каком из лондонских магазинов продаются такие игрушки?
— Мне их мама купила. Она умерла. А папе дела нет. Это была неправда. Она нашла эти игрушки в Коробке как-то раз, когда играла на берегу Темзы. И игрушки были поистине удивительные.
Эта маленькая песенка — дядя Чарли думает, что она не имеет смысла. (На самом деле он ей не дядя, вспомнила она, но он хороший.) Песенка очень даже имеет смысл. Она указывает путь. Вот она сделает все, как учит песенка, и тогда…
Но она была уже слишком большая. Пути она так и не нашла.
Скотт то и дело приносил Эмме всякую всячину и спрашивал ее мнение. Обычна она отрицательно качала головой. Иногда на ее лице отражалось сомнение. Очень редко она выражала одобрение. После этого она обычно целый час усердно трудилась, выводя на клочках бумаги немыслимые каракули, а Скотт, изучив эти записи, начинал складывать и передвигать свои камни, какие-то детали, огарки свечей и прочий мусор. Каждый день прислуга выбрасывала все это, и каждый день Скотт начинал все сначала.
Он снизошел до того, чтобы кое-что объяснить своему недоумевающему отцу, который не видел в игре ни смысла, ни системы.
— Но почему этот камешек именно сюда?
— Он твердый и круглый, пап. Его место именно здесь.
— Но ведь и этот вот тоже твердый и круглый.
— Ну, на нем есть вазелин. Когда доберешься до этого места, отсюда иначе не разберешь, что это круглое и твердое.
— А дальше что? Вот эта свеча?
Лицо Скотта выразило отвращение.
— Она в конце. А здесь нужно вот это железное кольцо. Парадину подумалось, что это как игра в следопыты, как поиски вех в лабиринте. Но опять тот самый произвольный фактор. Объяснить, почему Скотт располагал свою дребедень так, а не иначе, логика — привычная логика — была не в состоянии.
Парадин вышел. Через плечо он видел, как Скотт вытащил из кармана измятый листок бумаги и карандаш и направился к Эмме, на корточках размышляющей над чем-то в уголке.
Ну-ну…
Джейн обедала с дядей Гарри, и в это жаркое воскресное утро, кроме газет, нечем было заняться. Парадин с коктейлем в руке устроился в самом прохладном месте, какое ему удалось отыскать, и погрузился в чтение комиксов.
Час спустя его вывел из состояния дремоты топот ног наверху. Скотт кричал торжествующе:
— Получилось, пузырь! Давай сюда…
Парадин, нахмурясь, встал. Когда он шел к холлу, зазвенел телефон. Джейн обещала позвонить…
Его рука уже прикоснулась к трубке, когда возбужденный голосок Эммы поднялся до визга. Лицо Парадина исказилось.
— Что, черт побери, там, наверху, происходит?
Скотт пронзительно вскрикнул:
— Осторожней! Сюда!
Парадин забыл о телефоне. С перекошенным лицом, совершенно сам не свой, он бросился вверх по лестнице. Дверь в комнату Скотта была открыта.
Дети исчезали.
Они таяли постепенно, как рассеивается густой дым на ветру, как колеблется изображение в кривом зеркале. Они уходили держась за руки, и Парадин не мог понять куда, и не успел он моргнуть, стоя на пороге, как их уже не было.
— Эмма, — сказал он чужим голосом, — Скотти!
На ковре лежало какое-то сооружение — камни, железное кольцо — мусор. Какой принцип у этого сооружения — произвольный?
Под ноги ему попался скомканный лист бумаги. Он машинально поднял его.
— Дети. Где вы? Не прячьтесь…
ЭММА! СКОТТИ!
Внизу телефон прекратил свой оглушительно-монотонный звон.
Парадин взглянул на листок, который был у него в руке.
Это была страница, вырванная из книги. Непонятные каракули Эммы испещряли и текст и поля. Четверостишие было так исчеркано, что его почти невозможно было разобрать, но Парадин хорошо помнил «Алису в Зазеркалье». Память подсказала ему слова:
Часово — жиркие товы.
И джикали, и джакали в исходе.
Все тeнали бороговы.
И гуко свитали оводи.
Ошалело он подумал: Шалтай-Болтай у Кэрролла объяснил Алисе, что это означает. «Жиркие» — значит смазанные жиром и гладкие. Исход — основание у солнечных часов. Солнечные часы. Как-то давно Скотт спросил, что такое исход. Символ?
«Часово гукали…»
Точная математическая формула, дающая все условия, и в символах, которые дети поняли. Этот мусор на полу. «Товы» должны быть «жиркие» вазелин? и их надо расположить в определенной последователь- ности, так, чтобы они «джикали» и «джакали».
Безумие!
Но для Эммы и Скотта это не было безумием. Они мыслили по-другому. Они пользовались логикой X. Эти пометки, которые Эмма сделала на странице, — она перевела слова Кэрролла в символы, понятные ей и Скотту.
Произвольный фактор для детей перестал быть произвольным. Они выполнили условия уравнения времени-пространства. «И гуко свитали оводи…»
Парадин издал какой-то странный гортанный звук. Взглянул на нелепое сооружение на ковре. Если бы он мог последовать туда, куда оно ведет, вслед за детьми… Но он не мог. Для него оно было бессмысленным. Он не мог справиться с произвольным фактором. Он был приспособлен к Эвклидовой системе. Он не сможет этого сделать, даже если сойдет с ума… Это будет совсем не то безумие.
Его мозг как бы перестал работать. Но это оцепенение, этот ужас через минуту пройдут… Парадин скомкал в пальцах бумажку.
— Эмма, Скотти, — слабым, упавшим голосом сказал он, как бы не ожидая ответа.
Солнечные лучи лились в открытые окна, отсвечивая в золотистом мишкином меху. Внизу опять зазвенел телефон.
АЛЬФРЕД Э. ВАН ФОГТ
Альфред Э. ван Фогт родился в 1912 году в семье голландского происхождения. Рос впечатлительным, фантазирующим ребенком, любил сказки. В кризисный 1929 год отец потерял работу, и мечту о колледже пришлось оставить. Альфред работал на ферме, водителем грузовика, клерком в конторе, а в перерывах пробовал писать. Первые произведения А. ван Фогта относились к жанру «исповеди молодого человека», «рассказам о любви» и т. п.
Рассказ Джона Кэмпбелла «Кто ты?» вдохновил двадцатишестилетнего автора на первые опыты в научно-фантастическом жанре. В июльском номере журнала «Поразительная научная фантастика» за 1939 год был опубликован его рассказ «Черный разрушитель», который сразу же завоевал первое место при опросе читателей. По сюжету космический корабль землян прибывает на чужую планету и сталкивается с могучим и разумным существом, похожим на кота, который способен изменять вибрационные свойства металла и благодаря этому проходить сквозь стальные стены.
Оригинален и стал вехой в развитии научной фантастики рассказ «Слэн» (1940 г.) — о мутантной расе слэнов-суперменов, людей с двумя сердцами, обладающих способностью читать мысли, но преследуемых нормальными людьми. Рассказ ведется от лица христоподобного девятилетнего «слэна» Джомми Кросса, родителей которого убили, а сам он борется за спасение. «Слэн» написан с глубоким психологизмом и драматизмом и насыщен научными предвидениями, в том числе об использовании атомной энергии.
В 1941 году появился рассказ «Заколдованный круг» («Качели») о человеке, который на машине времени отправился в эпоху, предшествующую сотворению вселенной, и по пути собрал так много энергии, что ее высвобождение при прибытии машины в момент назначения привело к «большому взрыву», породившему вселенную. В этом рассказе впервые упоминается Оружейная Лавка, ставшая стержнем ряда последующих произведений писателя.
А. ван Фогт не чужд мистическому, и мир будущего он видит отнюдь не либеральной идиллией. Он не раз проявлял восприимчивость к тем концепциям, которые допускали возможность коренной метаморфозы реальности. С энтузиазмом стал пропагандистом идей о неаристотелевских системах логики и общей семантике, затем — концепции об умственной сущности зрения и, наконец, увлекся пресловутой «сайентологией».
Более десяти лет писатель всю свою энергию посвящал популяризации этих псевдонаук и переделке своих ранних произведений в их духе.
Увлечения А. ван Фогта и разделяемые им идеи неотделимы от его творчества. Вера в «богоподобность», в ту искру всемогущества человека, которую можно раздуть в космическое пламя, если искать и лелеять ее, проходит красной нитью и через его рассказ «Вечный эрзац».
ВЕЧНЫЙ ЭРЗАЦ
Грейсон снял наручники с запястий и лодыжек молодого человека.
— Харт! — позвал он хрипло.
Тот не шевельнулся. Грейсон помедлил, а потом в сердцах пнул его ногой.
— Послушай, Харт, черт бы тебя побрал! Я тебя освобождаю — на тот случай, если вдруг не вернусь.
Харт не открыл глаз, не выказал никаких признаков того, что почувствовал удар. Он лежал совершенно неподвижно, но тело было мягким, неокостеневшим — он был жив. Лицо отсвечивало мертвенной бледностью, черные волосы слиплись от испарины.
Грейсон снова заговорил:
— Харт, я пойду искать Молкинса. Он собирался вернуться через сутки, а прошло уже четверо.
Ответа не последовало, и Грейсон повернулся было, чтобы уйти, но опять помедлил и сказал:
— Харт, если я не вернусь, ты должен понять, где мы находимся. Мы на новой планете, ясно? Нам никогда не доводилось бывать здесь раньше. Наш корабль потерпел аварию, и мы трое спустились на спасательном аппарате. Нам необходимо горючее. За ним пошел Молкинс, а я теперь иду на его розыски.
Фигура, лежащая на койке, оставалась неподвижной. Грейсон медленно, будто преодолевая внутреннее сопротивление, направился к двери, вышел и двинулся ж видневшимся вдали холмам. Он ни на что не надеялся.
Три человека очутились на неведомой, лишь богу известной планете, и один из этих троих был тяжко болен: им овладело буйное помешательство.
Грейсон шел, изредка с удивлением поглядывая по сторонам. Пейзаж был очень похож на земной: деревья, кусты, трава, вдали — горы в голубоватой дымке. Это было тем более странно, что Грейсон отчетливо помнил: когда они сели на эту планету, ему показалось, что она безжизненна, бесплодна, безатмосферна.
А теперь легкий ветерок касался его лица. В воздухе чувствовался запах цветов. Он увидел птиц, порхающих среди деревьев, и раз даже послышались звуки, удивительно напоминавшие пение жаворонка.
Он шел весь день. Следов Молкинса нигде не было. Не попалось на пути ни одного жилища — признака цивилизованной жизни.
Начало смеркаться. Вдруг Грейсон услышал как женский голос зовет его по имени.
Вздрогнув, он обернулся. Перед ним стояла мать. Она выглядела гораздо моложе, чем он помнил ее в гробу, когда она умерла восемь лет назад. Мать подошла и строго сказала:
— Билли, обуй галоши.
Грейсон посмотрел на мать, но не выдержал, отвел глаза. Не веря в истинность происходящего, он подошел к ней и дотронулся до нее. Мать взяла его за руку — пальцы были живые, теплые.
— Поди скажи отцу, обед готов, — сказала она.
Грейсон высвободил руку, отступил и огляделся вокруг. Они с матерью стояли на пустынной, покрытой травой равнине. Вдалеке блестела серебристая полоска реки.
Он повернулся к матери спиной и зашагал прочь. Сумерки сгущались, Когда он оглянулся, на том месте уже никого не было. Зато рядом с ним шагал мальчик. Сначала Грейсон как-то не заметил его, но теперь он украдкой бросил взгляд на своего спутника.
Это был он сам в возрасте пятнадцати лет.
Стало почти совсем темно, но он успел разглядеть и узнать второго спутника, появившегося рядом с первым. Это опять был мальчик. Он сам, в возрасте одиннадцати лет.
«Три Билла Грейсона», — подумал Грейсон. Он дико захохотал, потом бросился бежать.
Когда он снова обернулся, никого сзади не было. Запыхавшийся, с прорывающимися сквозь одышку рыданиями, он перешел на шаг и почти сразу же в мягком сумраке услышал смех детей. Ничего странного в этом звуке не было — знакомый звук, но он поверг Грейсона в ужас.
— Все они — это я в разном возрасте, — пробормотал он и, обращаясь в темноту, произнес: — Эй вы, убирайтесь! Я знаю — вы лишь галлюцинации.
Силы покинули его, голос упал до хриплого шепота, и он подумал: «Галлюцинации? А уверен ли я в этом?»
Глубокая депрессия и невыразимая усталость охватили его.
«Харт и я, — проговорил он устало, — мы оба сошли с ума».
Наступил холодный рассвет.
Грейсон с надеждой ждал восхода солнца: быть может, тогда наступит конец безумию этой ночи. Свет постепенно ширился, и перед Грейсоном стал вырисовываться какой-то пейзаж. Он в замешательстве огляделся вокруг: он стоял на холме, а под ним простирался его родной город Калипсо в штате Огайо.
Не веря своим глазам, он смотрел вниз, и это было так похоже на реальность, что он не выдержал — побежал туда, к городу.
Да, это был город Калипсо — такой, каким он был в детстве Грейсона. Он пошел туда, где должен был находиться его дом. Да вот и он сам: этого десятилетнего мальчишку он узнал бы везде. Он позвал мальчика; тот взглянул на него, повернулся, побежал и исчез в доме.
Грейсон лег на траву и закрыл глаза.
— Кто-то, — сказал он себе, — кто-то прокручивает картины моего мозга и заставляет меня смотреть их.
Ему показалось — если, конечно, он останется жив и в здравом рассудке, — что эта мысль заслуживает того, чтобы ее запомнить.
Прошло шесть дней после ухода Грейсона. В спасательном аппарате оставался один Джон Харт. Он шевельнулся и открыл глаза.
— Есть хочу, — сказал он вслух, ни к кому не обращаясь. Подождал, сам не зная чего, потом сел, тяжело поднялся с койки и направился в камбуз. Поев, он подошел к двери и долго стоял, глядя перед собой. Открывающийся вид его напоминал Землю, и от этого Харт почему-то почувствовал себя лучше.
Он решительно спрыгнул на землю и направился к ближайшему холму. Быстро темнело, но он и не подумал возвращаться.
Вскоре покинутый им корабль растворился в ночи.
Девушка, с которой он встречался в молодости, заговорила с ним первой — она вышла из темноты, и они долго-долго беседовали, а потом решили пожениться. Их тут же обвенчал священник, приехавший на машине. Обе семьи были уже в сборе, и бракосочетание закончилось пиром в прекрасном доме в окрестностях Питтсбурга. Старика священника Харт знал с детства.
Молодая чета отправилась в свадебное путешествие, и свой медовый месяц супруги провели в Нью-Йорке и у Ниагарского водопада, а затем на аэротакси добрались до Калифорнии, где и решили обосноваться. Откуда ни возьмись появилось трое детей, и вот они уже владельцы огромного ранчо, на нем пасется миллион голов рогатого скота, и кругом ковбои, одетые как кинозвезды.
Цивилизация, возникшая и расцветшая вокруг Грейсона на планете, которая прежде была бесплодной, безвоздушной пустыней, для Грейсона казалась кошмаром. Продолжительность жизни окружавших его людей равнялась семидесяти годам. Дети рождались через девять месяцев и десять дней после зачатия.
Он похоронил шесть поколений основанной им семьи, И вот однажды, переходя Бродвей (это улица в Нью-Йорке), он вдруг увидел: с противоположной стороны навстречу ему двигался человек; его невысокая крепкая фигура, походка и манеры заставили Грейсона застыть на месте.
— Генри! Генри Молкинс! — крикнул он.
— Да, я… Билл Грейсон!
Обменявшись рукопожатием после первого взволнованного приветствия, они безмолвно смотрели друг на друга. Молкинс заговорил первым:
— Там, за углом, бар.
После второй рюмки вспомнили о Джоне Харте.
— Ищущая форму жизненная сила использовала его мозг, — индифферентно заметил Грейсон. — По-видимому, она не смогла найти собственного воплощения. Она попыталась использовать меня… — Тут он вопросительно взглянул на Молкинса. Тот утвердительно кивнул:
— И меня.
— Думаю, мы слишком сопротивлялись.
Молкинс вытер со лба испарину.
— Билл, — сказал он, — все это похоже на сон. Я женюсь и развожусь каждые сорок лет. Я беру в жены двадцатилетнюю девушку. Через несколько десятков лет она выглядит на все пятьсот.
— Как ты думаешь, все это происходит лишь — нашем мозгу?
— Да нет, не думаю. По-моему, вся эта цивилизация существует в действительности — все равно, что мы подразумеваем под существованием.
Молкинс застонал.
— Давай не будем вдаваться в эти дебри. Когда я читаю философские сочинения, объясняющие жизнь, я чувствую себя на краю бездны. Если бы только нам удалось как-нибудь освободиться от Харта!
Грейсон мрачно улыбался.
— Ты что, еще не знаешь?
— Чего не знаю?
— У тебя есть при себе оружие?
Молкинс молча протянул ему игольно-лучевой пистолет. Грейсон взял его, приставил к своему правому виску и нажал на изогнутый спуск. Молкинс рванулся к нему, но было уже поздно.
Показалось, будто тонкий белый луч прошел сквозь голову Грейсона. Сзади в деревянной стене образовалась круглая, черная, дымящаяся дыра. Целый и невредимый, Грейсон стоял как ни в чем не бывало.
— Что нам делать, Билл? — спросил он с тоской.
— Мне кажется, нас держат про запас, так сказать, в резерве, — сказал Грейсон.
Он поднялся и протянул руку.
— Ну что ж, Генри, рад был повидать тебя. Давай будем встречаться здесь раз в год и сравнивать свои наблюдения.
— Но…
Грейсон улыбнулся. Улыбка вышла чуть принужденной.
— Крепись, друг. Разве ты не понимаешь? Ведь это самое крупное явление во вселенной. Мы будем жить вечно. Как видно, мы являемся вероятными заменителями на случай, если что-то пойдет не так, как надо.
— Но что же ЭТО такое? Что совершает ЭТО?
— Задай-ка мне этот вопрос через миллион лет. Может быть, тогда я смогу тебе ответить.
Он повернулся и вышел из бара не оглядываясь.
СХВАТКА
РОБЕРТ ХАЙНЛАЙН
Трехкратный лауреат премии Хьюго Роберт Хайнлайн родился в 1907 году в многодетной семье. Избрал карьеру морского офицера. По болезни вышел в отставку в 1934 году, затем несколько лет посвятил изучению математики и физики в колледже. Научной фантастикой увлекался с десятилетнего возраста.
Следуя методу Льюиса, создал свой цельный мир — «историю будущего».
Писать начал в 1939 году в надежде обрести достойное поприще, тем более что в это время произошел всплеск интереса к научной фантастике и издатели искали новых авторов. Первый едва замеченный рассказ «Линия жизни» — о машине, способной измерить продолжительность жизненной траектории человека — был опубликован в журнале «Поразительная научная фантастика» в 1939 году. Затем последовал роман об «истории будущего» «Если это наступит».
В знаменитом рассказе «Дороги должны катиться» (1940 г.) повествуется о цивилизации, экономика которой зависит от функционирования движущихся дорог, тротуаров, эскалаторов, и о последствиях социального конфликта (забастовка механиков) в ней.
Как и другие современные американские фантасты, Хайнлайн опубликовал много произведений и использовал почти все классические научно-фантастические приемы и ходы мысли. Новооткрытый фантастический мир требовал всестороннего изучения и художественного моделирования. В рассказе «Взрыв неизбежен» (1940 г.) предвиделись опасности, связанные с атомной энергией, и предлагалось вынести атомные станции за пределы Земли. В романе «Пасынки Вселенной» речь идет о гигантском досветовом космическом корабле, как бы «маленькой вселенной», десятилетиями и веками летящем к звездам. За эти века обитатели корабля уже забыли о первоначальной цели путешествия, изобрели новую религию, разделились на два лагеря и вступили между собой в борьбу. В рассказе «Решение неудовлетворительно», подписанном псевдонимом «Энсон Макдо-нальд», Хайнлайн возвратился к теме атомной энергии и пророчествовал, что нет удовлетворительного решения для спасения от атомного оружия, особенно же радиоактивной пыли.
В послевоенные годы писатель продолжал исследовать «историю будущего», опубликовал многочисленные научно-фантастические произведения. Однако, несмотря на популярность, склонность Р. Хайнлайна к сильной личности и его убежденность в неустранимости борьбы и войн, даже межзвездных, не могут не вызывать весьма критического отношения к его творчеству.
Рассказ «И построил он дом…» относится к раннему периоду творчества Р. Хайнлайна.
«И ПОСТРОИЛ ОН ДОМ…»
Во всем мире американцев считают ненормальными. Они обычно в принципе соглашаются с этим обвинением, но источником инфекции называют Калифорнию. Калифорнийцы же упрямо твердят, что своей плохой репутацией они обязаны исключительно жителям округа Лос-Анджелес. Те, в свою очередь, когда им приходится обороняться от таких нападок, начинают поспешно объяснять: «Это все Голливуд. Мы не виноваты — мы не просили, чтобы его здесь построили, он сам вырос». А обитателям Голливуда нет дела до всех этих пересудов; они живут себе на здоровье и купаются в лучах его славы. Захотите — повезут вас в машине на Лорэл Каньон («здесь у нас живут самые необузданные»). Жители Каньона — женщины с длинными загорелыми ногами и мужчины в трусах, постоянно занятые перестройкой и реконструкцией своих вечно неоконченных домов, — те не без доли презрения относятся к скучным созданиям, которые живут в респектабельных кварталах центра города. Они тешат себя тайной мыслью, что они — и только они — знают, как надо жить. Лукаут Маунтин Авеню — это название узкой боковой улочки, которая ответвляется от Лорэл Каньона. Канъонцы не любят, когда о ней упоминают; в конце концов, должны же быть какие-то границы? В одном из верхних этажей дома № 8775 по Лукаут Маунтин жил Квинтус Тил, бакалавр архитектуры. Здесь уместно напомнить, что даже архитектура Южной Калифорнии не такая, как в других штатах. Запеченные в тесте сосиски, которые, как известно, американцы называют «горячими собаками», здесь продают в ларьках, по виду напоминающих — кого бы вы думали? — да, да, щенка. Такой ларек по продаже «горячих собак» так и называется: «Щенок». Мороженым здесь торгуют в огромных гипсовых фунтиках — они точь-в-точь как настоящие, вафельные, — а неоновые надписи, призывающие есть красный перец, сверкают на крышах сооружений, в которых без труда угадываются перечные стручки. Внутри крыльев трехмоторных транспортных самолетов размещаются бензин и смазочное масло, на крыльях нарисованы дорожные карты — пользуйтесь на здоровье бесплатно! — а патентованные уборные, которые для вашего удобства проверяются каждый час, располагаются в кабине самого самолета. Все это может удивить, даже повергнуть в изумление туриста, но местные жители, которые под знаменитым калифорнийским солнцем ходят в полдень с непокрытой головой, относятся к этим вещам как к делу обычному, само собой разумеющемуся.
Квинтус Тил считал архитектурную деятельность своих коллег слабыми, робкими, неумелыми и малодушными потугами. — Что есть дом? — спросил как-то Квинтус у своего друга Гомера Бейли. — Ну, в общем, в широком смысле слова, — начал тот осторожно, — я всегда считал, что дом есть устройство, предназначенное для защиты от дождя. — Чушь! И ты туда же! — Я ведь не сказал, что это исчерпывающее определение… — Исчерпывающее! Да оно просто в корне неверно. Если встать на такую точку зрения, то нам и в пещерах бы прекрасно жилось. Но я не виню тебя, — продолжал Тил с воодушевлением, — твои взгляды ничем не хуже, чем у тех умников профессионалов, которые считают, что архитектура — дело их жизни. Даже модернисты — в чем их заслуги? В том, что они убрали кое-какую мишуру да наляпали хромированных планок, вот и все. А в душе-то они такие же консерваторы и традиционалисты, как служащие окружного суда. Нейтра! Шиндлер! Ну что создали эти бездельники? Что такого есть у Франка Ллойда Райта, чего нет у меня? — Комиссионные, — коротко вставил его друг. — А? Что? Как ты сказал? — Тил не смог остановиться в потоке своих слов, захлебнулся, опомнился и ответил: — Комиссионные. Да, верно, комиссионные. А почему? Потому что я считаю, что дом — это не задрапированная пещера. Дом — это машина для жилья, это живая динамичная штука, это пространство, в котором происходит жизненный процесс, которое изменяется с настроением живущего в нем человека, а вовсе не мертвый статичный гроб большого размера. Почему же мы должны держаться за устаревшие догмы наших предков? Всякий дурак, обладающий зачатками знаний по элементарной геометрии, сможет спроектировать дом в его обычном понимании. Но разве статическая геометрия Эвклида — это все, чем располагает математика? Мы что же, совершенно должны игнорировать теорию Пикара — Вессиота? А модульные системы? А богатейшие возможности стереохимии? Так что же, разве в архитектуре уже нет места для трансформаций, для гомоморфологии, для действенных структур? — О господи! — отвечал Бейли. — Ведь с таким же успехом ты мог бы говорить, например, о четвертом измерении в архитектуре. — А почему бы и нет? Почему мы должны ограничивать себя… Послушай! — Тил прервал себя и уставился в пространство. — Гомер, а ведь ты сейчас высказал чрезвычайно ценную мысль. Действительно, почему бы нам не использовать это? Подумать только о бесконечном богатстве выражения и взаимоотношений, таящемся в четырех измерениях. Какой дом, какой… — Он застыл на месте, его светлые выпуклые глаза задумчиво помаргивали. Бейли подошел к нему и тронул его за руку. — Брось ты все это. И что ты городишь, какие четыре измерения? Четвертое измерение — это время. В НЕГО ведь гвоздя не вобьешь. Тил сбросил руку друга. — Да, да, конечно. Четвертое измерение — это время, но я — то думаю о четвертом пространственном измерении — таком же, как длина, ширина и высота. В целях экономии материалов и удобства размещения с этим ничто не может сравниться. А уже о том, что экономится площадь под фундамент, и говорить не приходится: на месте однокомнатного дома можно будет возвести дом в восемь комнат. Как, например, тессеракт… — Какой еще тессеракт? — Ты что, в школе не учился? Тессеракт — это гиперкуб, квадратное тело в четырех измерениях — ну, знаешь, как у куба три измерения, а у квадрата два. Давай-ка я лучше тебе покажу. Тил побежал на кухню и принес оттуда коробку с зубочистками, которые он высыпал на стол, небрежно сдвинув в сторону стаканы и почти пустую бутылку из-под джина. — У меня где-то завалялся пластилин — он нам понадобится. Один из углов комнаты загромождал письменный стол. Почти засунув голову в один из его захламленных ящиков, Тил начал нетерпеливо рыться в нем. Наконец, он разогнулся, держа в руках кусок пластилина. — Вот. — Что ты хочешь делать? — Сейчас узнаешь. Тил торопливо отщипывал небольшие кусочки пластилина и скатывал из них шарики величиной с горошину. Потом воткнул в эти шарики четыре зубочистки и сделал квадрат. — Видишь? Вот квадрат. — Ну, вижу, а дальше что? — Еще один такой же квадрат плюс еще четыре зубочистки — и у нас куб. Теперь из зубочисток образовался каркас коробки с равными гранями — куб, углы которого держались с помощью катышков пластилина. — Теперь сделаем еще один куб, точно такой же, как первый. Эти кубы и будут служить двумя гранями тессеракта. Бейли машинально стал катать пластилиновые шарики для второго куба, но мягкая податливость материала под пальцами отвлекла его от этого занятия, и он начал лепить, придавая кусочкам какую-то форму. — Взгляни-ка, — сказал он, держа на ладони свое произведение — миниатюрную человеческую фигурку. — Цыганка Роза Ля. — Похожа на Гаргантюа; ей надо бы в суд на тебя подать за оскорбление. А теперь смотри внимательно. Открываем один угол первого куба, вставляем одним углом второй куб и закрываем угол первого куба. Теперь берем еще восемь зубочисток и соединяем нижнюю грань первого куба с нижней гранью второго куба — наклонно, понял? — и точно так же верхнюю грань первого с верхней гранью второго, — говоря это, Тил быстро манипулировал зубочистками. — И что же получилось? — спросил Бейли с сомнением. — Это и есть тессеракт — восемь кубов, образующих стороны гиперкуба в четырех измерениях. — Откровенно говоря, мне твое сооружение напоминает кошачью колыбель. И все равно у тебя получилось только два куба. А где остальные шесть? — А где твое воображение? Берем верхнюю грань первого куба по отношению к верхней грани второго- вот тебе куб номер три. Дальше: две нижние грани обоих кубов по отношению друг к другу, потом две передние, две задние, две боковые — слева и справа — вот тебе все восемь. — И он показал их на модели. — Ну хорошо, вижу я их. Но все-таки это не кубы; как бы ты ни тщился доказать другое, это призмы, а не кубы. У них грани не квадратные, а наклонные. — Так это ведь в перспективе, с твоего угла зрения. Когда рисуешь куб на бумаге, боковые грани пойдут косо, так? Это перспектива. Когда смотришь на четырехмерную фигуру в трех измерениях, ничего удивительного, что она кажется кривой. Но это дела не меняет — все равно все это кубы. — Я не спорю, друг, может быть, для тебя они такие, как ты говоришь, но мне они все равно кажутся кривыми. Тил не обратил никакого внимания на возражения Бейли и продолжал: — Будем считать, что это каркас восьмикомнатного дома; на цокольном этаже — одно помещение; здесь разместятся службы, коммунальное хозяйство, гараж. От него идут другие комнаты: гостиная, столовая, ванная, спальни и так далее. А на самом верху, совершенно изолированно от всех, находится кабинет — в нем окна на четыре стороны. Представляешь? Ну как? — Представляю. Ванна будет свисать с потолка гостиной. Комнаты-то все переплелись, как щупальца осьминога. — Только в перспективе — не более того. Смотри, я покажу тебе по-другому. На этот раз Тил сделал один куб из целых зубочисток, а второй — из половинок, вставил второй в центр первого и прикрепил его к вершинам короткими палочками от надломанных зубочисток. — Видишь? Большой куб — это цоколь, малый куб внутри — твой кабинет на верхнем этаже, а шесть прилежащих кубов — это комнаты. Ну, понял? Бейли внимательно изучил фигуру и покачал головой: — Что хочешь со мной делай, а только не вижу я тут никаких кубов, кроме большого и малого. Остальные шесть штук на этот раз напоминают не призмы, а пирамиды, но никак не кубы. — Ну конечно, ты же видишь их в разных перспективах. Неужели не понятно? — Что ж, возможно, и так. Но вот эта комната, в середине. Ведь она со всех сторон окружена другими штуковинами. А ты говорил, у нее окна на четыре стороны. — Так ведь это только так кажется. В том-то и дело, что в доме-тессеракте каждая комната совершенно изолирована от других и все стены — наружные, но при этом каждая стена служит для двух комнат, а восьмикомнатному дому достаточно основания одной комнаты. Это же революция! — Слишком мягко сказано. Ты просто безумец. Такой дом построить нельзя. Эта самая внутренняя комната находится внутри, и там она и останется, что бы ты ни придумывал. Сдерживая негодование, Тил посмотрел на друга. — Такие вот, как ты, держат архитектуру в зачаточном состоянии. Ответь мне, сколько граней имеет куб? — Ну, шесть. — Какие из них внутренние? — Как какие? Никакие. Они все наружные. — Так. Слушай дальше. Тессеракт имеет восемь кубических граней — и все они наружные. Теперь смотри внимательно. Сейчас я разверну наш тессеракт — представь, будто мы раскладываем картонную коробку. Тогда тебе станут видны все восемь кубов. Говоря это, Тил торопливо соорудил четыре куба и поставил их друг на друга — получилась довольно шаткая башенка. К боковым граням второго куба башенки он прикрепил еще четыре куба. Сооружение немного покачивалось — пластилиновые шарики держали не очень крепко, но все же не развалилось. Оно представляло собой как бы опрокинутый двойной крест, с четырех сторон основания которого торчал л еще четыре куба. — Ну вот, видишь? Основанием здесь служит комната цокольного этажа, остальные шесть кубов — это жилые комнаты, а на самом верху твой кабинет. Здорово? Бейли оглядел это сооружение с некоторым одобрением. По сравнению с другими оно показалось ему заслуживающим внимания. — По крайней мере, мне это хоть как-то понятно. Говоришь, и это тессеракт? — В том-то и дело: это тессеракт, развернутый в четырех измерениях. Чтобы снова сложить его, помещаем верхний куб в нижний, складываем боковые кубы, пока они не сойдутся с верхним, — и готово. Эта операция, естественно, осуществляется посредством четвертого измерения, и при этом форма ни одного куба не нарушается, и ни один из них не вкладывается в другой. Бейли снова внимательно осмотрел шаткую конструкцию. — Послушай-ка, — сказал он наконец. — А что, если оставить в покое операцию складывания этой штуковины посредством четвертого измерения — все равно ничего не выйдет — и просто выстроить такой вот дом? — Как это ничего не выйдет? Да это элементарная математическая задача, которую… — Ладно, ладно, не психуй. Может, в математике это и просто, но такой проект в строительстве никто не утвердит. Четвертого измерения не существует, забудь о нем, ясно? А вот что касается такого дома — возможно, он будет иметь кое-какие преимущества. Тил, бурно разыгравшаяся фантазия которого вдруг натолкнулась на здравые суждения Бейли, стал критически изучать модель. — Гм… Может быть, в этом есть какой-то смысл. Получаем то же количество комнат, сэкономив на площади фундамента. Так, средний крестообразный этаж можно будет расположить на северо-восток, юго-запад и так далее — и в каждой комнате весь день будет солнце. В центральную ось прекрасно вписывается центральное отопление. Столовая будет выходить на северо-восток, а кухня — на юго-восток. В каждой комнате окна от пола до потолка. О’кэй, Гомер, я это сделаю! Где ты хочешь его построить? — Минуточку, минуточку. Я вроде не говорил, что ты будешь строить такой дом для меня… — А для кого же? Ведь твоей жене нужен новый дом? Так вот он, пожалуйста. — Но миссис Бейли хочет дом в стиле Георга III. — Это ей просто кажется. Женщины сами не знают, чего хотят. — Это не относится к миссис Бейли. — Какой-то выживший из ума отсталый архитектор убедил ее в этом. Ведь она водит автомобиль самой новейшей марки, а? Одевается по последней моде — так? Почему же, спрашивается, она должна жить в доме, выстроенном по образцу восемнадцатого века? Мой дом — это даже не завтрашний день архитектуры. Он принадлежит будущему. А о твоей жене будет говорить весь город. — Все это… Я должен с ней поговорить. — Это еще зачем? Мы ей преподнесем сюрприз. Давай еще выпьем. — В общем, пока что это дело все равно придется отложить. Завтра мы с женой едем в Бакерсфильд. Там вводятся в строй две скважины. — Вот и прекрасно. Именно то, что нам нужно. К вашему возвращению она получит сюрприз. Ты мне только чек сейчас выпиши, об остальном не беспокойся. — Я не могу совершить такой шаг, не посоветовавшись с ней. Она будет недовольна. — В конце концов, кто в вашей семье мужчина? Чек был выписан, когда они приканчивали вторую бутылку. В южной Калифорнии дела вершатся быстро. Ординарные дома обычно возводят за месяц. Под нетерпеливым руководством Тила дом-тессеракт подымался кверху не по дням, а по часам. Тил петушился, подгонял строителей, давал им указания, осыпал их градом критических замечаний — и вот уже на четыре стороны света от взметнувшейся вверх центральной части повисли четыре куба крестообразного второго этажа. Эти висящие в воздухе четыре комнаты не внушали доверия инспекторам, осуществлявшим надзор за строительством, но в конце концов прочные балки решили дело, а деньги довершили его. Инспектора перестали сомневаться в прочности сооружения, возводимого по проекту Квинтуса Тила. И вот в одно прекрасное утро — Бейли вернулись в город лишь накануне вечером — Тил, договорившись с другом, подкатил к его дому. Он продудел на своем гудке в два тона сигнал собственного сочинения. В двери показалась голова Бейли. — Ты почему не звонишь? — Слишком долго, — ответил Тил бодрым голосом. — Я человек действия. Миссис Бейли готова? А, вот и вы, здравствуйте, миссис Бейли. Добро пожаловать в новый дом! Давайте сюда! Мы вам припасли сюрприз! — Дорогая, ты ведь знаешь Тила, — сказал Бейли извиняющимся тоном. Миссис Бейли фыркнула. — Да уж знаю. Только мы, Гомер, поедем в своей машине. — Конечно, конечно, дорогая. — Прекрасно, — с готовностью согласился Тил. — У вашей мотор более мощный, скорее доберемся. Поведу я — дорогу хорошо знаю. Он взял у Бейли ключи, сел на водительское место, и не успела миссис Бейли усесться, как машина рванула с места. — Уж когда я за рулем, будьте спокойны, — заверил он миссис Бейли, повернувшись к ней, и одновременно на огромной скорости поворачивая на бульвар Сансет. — Все дело в мощности и управлении. Динамичный процесс, моя стихия. Никогда не попадал ни в одну серьезную аварию. — Она будет единственной и последней, — язвительно заметила миссис Бейли. — Будьте так добры, смотрите на дорогу. Он попытался объяснить ей, что дело совсем в другом, что дорожная ситуация оценивается водителем не с помощью зрения; она интуитивно ощущается совокупностью направлений, скоростей и вероятностей, но Бейли прервал его: — Где дом, Квинтус? — Дом? — спросила миссис Бейли подозрительно. — Какой дом, Гомер? Разве ты мне говорил что-то о доме? Тил пустил в ход все свое дипломатическое искусство. — Ну да, миссис Бейли, дом. И какой! Это вам сюрприз от любящего мужа. Вот погодите, вы его увидите… — Увижу, — сказала миссис Бейли мрачно. — В каком же он стиле? — Этот дом станет родоначальником нового стиля. Самого нового, какой себе только можно представить. Чтобы оценить этот дом, его нужно увидеть. Между прочим, — Тил быстро перескочил на другую тему, отводя всякую возможность возражений, — сегодня ночью вы почувствовали землетрясение? — Землетрясение? Какое землетрясение? Гомер, разве было землетрясение? — Так себе, небольшое, — продолжал Тил, — часа в два ночи. Я как раз не спал в это время, а то и ке почувствовал бы ничего. Миссис Бейли передернуло. — Ну и местность! Слышишь, Гомер? Нас могло спокойно убить, пока мы спали в своих постелях, и мы даже не узнали бы об этом. И зачем только я поддалась на твои уговоры и уехала из Айовы? — Но, дорогая, — запротестовал муж (безнадежная попытка), — ведь ты хотела переехать в Калифорнию; тебе не нравился Де-Мойн. — Этого мы обсуждать не станем, — отрезала жена. — Ты мужчина — ты должен был все предвидеть. Подумать только: землетрясение! — В вашем новом доме этого опасаться не придется, — сказал Тил. — Дом абсолютно антисейсмичен. Все его части находятся в совершенном динамическом равновесии по отношению друг к другу. — Что же, спасибо и на этом. Так где дом? — Осталось совсем немного. Вон за тем поворотом — видите знак? На огромном рекламном щите (из тех, что нравятся агентам по продаже недвижимости) буквами, которые казались слишком крупными и яркими даже в ко всему привыкшей южной Калифорнии, красовалась надпись:
ДОМ БУДУЩЕГО!!!
Колоссально! Поразительно! Революционно!
Не проходите мимо — так будут жить ваши внуки!
Кв. Тил, архитектор.
— Как только вы въедете, это мы, конечно, уберем, — торопливо добавил Квинтус, заметив выражение лица миссис Бейли. Он круто свернул за угол и, заскрежетав тормозами, остановил машину перед Домом Будущего. — Voil?! — Он выжидательно уставился на супругов: ему не терпелось узнать, какое впечатление произведет на них его детище. На лице мистера Бейли выразилось недоумение, на лице миссис Бейли Тил прочел нескрываемое раздражение. Перед ними громоздилось примитивное геометрическое тело, в котором имелись окна и двери, но ничего от архитектуры. Единственным украшением служил затейливый математический орнамент. — Тил, — медленно спросил Бейли, — что это значит? Тил перевел взгляд на дом. Его гордость, нелепая башенка с торчащими комнатами второго этажа, исчезла. От семи комнат, расположенных над первым кубом, не осталось и следа. Не осталось ничего, кроме одной-единственной комнаты, покоящейся на фундаменте. — Шакалы! — завопил Тил. — Ограбили среди бела дня. Он сорвался с места и кинулся к дому. Но беги не беги — все осталось как было: остальные семь комнат пропали, исчезли, сгинули без следа. Бейли догнал Тила, схватив его за руку. — Объясни, что все это значит. Кто тебя ограбил? Как поручилось, что ты построил совсем не то, о чем мы договорились? — Да не строил я ничего подобного. Сделано было все по проекту: восьмикомнатный дом в виде развернутого тессеракта. Это саботаж, открытый саботаж! Зависть! Она всему причина! Да разве у архитекторов этого города могло хватить духу дать мне завершить работу! Как же! Ведь тогда бы всем стало ясно, что они за бездари! — Когда ты в последний раз был здесь? — Вчера во второй половине дня. — И все было в порядке? — Да. Садовники заканчивали работы вокруг дома. Бейли осмотрелся: участок у дома был в безукоризненном состоянии. — Не знаю, как это можно- было ухитриться в одну ночь разобрать и увезти отсюда семь комнат и совершенно не повредить сада. Тил тоже огляделся вокруг. — Действительно странно. Ничего не понимаю. Тут к ним присоединилась миссис Бейли. — Так как? Мне что, самой себя развлекать? Мы могли бы сразу же начать осмотр дома, но я тебя заранее предупреждаю, Гомер: он мне не нравится. — Конечно, — тотчас согласился Тил и вытащил из кармана ключи, которыми открыл входную дверь, пропуская вперед супругов. — Может быть, здесь нам удастся найти ключи к разгадке тайны, Холл был в полном порядке, раздвижные перегородки, отделявшие гараж от холла, были открыты, так что помещение просматривалось целиком. — Здесь как будто все нормально, — заметил Бейли. — Давайте поднимемся на крышу и попытаемся выяснить, что же все-таки произошло. Где тут лестница? Или, может быть, ее тоже украли? — Нет, — возразил Тил, — смотрите… Он нажал кнопку под выключателем — и панель, вмонтированная в потолок, откинулась, а вниз бесшумно спустился легкий, изящный лестничный пролет. Его несущие элементы были выполнены из отливающего холодным серебристым блеском дюраля, а ступеньки — из прозрачного пластика. Тил пританцовывал на месте, как мальчишка, которому удался карточный фокус, — по лицу миссис Бейли он понял, что лестница произвела на нее впечатление. Это и в самом деле было очень красиво. — Ловко придумано, — согласился и сам Бейли. — Впечатление такое, будто она не ведет никуда. — А, ты об этом, — Тил проследил за взглядом Бейли. — Когда мы поднимемся по ней, площадка сама откинется. Лестничные клетки открытого типа- это анахронизм. Ну, пошли. И действительно, когда они поднялись наверх, крышка лестничной клетка исчезла, убралась с дороги; они рассчитывали, что она выведет их на крышу комнаты верхнего этажа, но не тут-то было. Они обнаружили, что очутились в средней из пяти исчезнувших комнат, которые первоначально составляли второй этаж здания. Впервые Тил не нашелся, что сказать. Бейли тоже молчал, пожевывая свою сигару. Все было в идеальном порядке. Перед ними через раскрытую дверь и прозрачную перегородку виднелась кухня — мечта любого шеф-повара, оснащенная по последнему слову техники: вращающаяся никелированная стойка, скрытое освещение, функциональное размещение оборудования. Слева от них располагалась строго, но изящно убранная столовая, как будто приветливо поджидавшая гостей: мебель выстроилась как на параде. Тил уже понял, что, повернув голову направо, он увидит гостиную и салон для отдыха. Исчезнувшие, как и другие комнаты, снаружи, они непостижимым образом остались в целости и сохранности изнутри. — Ну что ж, я должна признаться, все это и правда просто прелесть, — сказала миссис Бейли одобрительно, — а кухня такая, что слов нет. Вот уж никогда бы не подумала, что такой непрезентабельный с виду дом может оказаться таким просторным. Конечно, в нем придется кое-что переделать. Секретер нужно будет передвинуть вон туда, а скамью поставить сюда… — Помолчи-ка, Матильда, — бесцеремонно прервал ее Бейли. — Что все-таки произошло, Тил? — Ты что, Гомер Бейли? Ты отдаешь ее… — Замолчи, сказано тебе! Так как же, Тил? Тело архитектора выразило нечто неопределенное. — Боюсь говорить. Давайте лучше поднимемся выше. — Каким образом? — Очень просто. Он нажал еще одну кнопку. К светлому мостику, по которому они попали в эту часть дома снизу, подсоединилась точно такая же лестница, но более глубокого тона. Доступ на следующий этаж был открыт. Они поднялись по лестнице — миссис Бейли шла последней, осыпая мужа упреками, — и оказались в спальне. Как и в комнатах, расположенных ниже, окна были зашторены, но мягкий свет появлялся автоматически. Тил не мешкая включил регулятор, контролирующий функционирование еще одного лестничного пролета, и они поспешили наверх, в кабинет, который, по идее, располагался на самом последнем этаже. — Слушай, Тил, — предложил Бейли, переведя дух, — а можно выбраться на крышу? Оттуда осмотрим, что делается вокруг, — Ну, конечно, крыша представляет собой площадку для обозрения. Они поднялись по четвертому лестничному пролету, но когда крышка верхнего этажа откинулась, пропуская их на следующий уровень, они очутились — не на крыше, нет! — ОНИ СТОЯЛИ на первом этаже, в комнате, откуда начали осмотр дома. Лицо мистера Бейли посерело. «Страсти господни! — закричал он. — В доме призраки! Скорее прочь отсюда!» Схватив жену, он распахнул входную дверь и ринулся на улицу.
Тил не заметил бегства супругов: он был слишком занят своими мыслями. Так вот где крылась отгадка всему происходящему, — отгадка, в которую трудно было поверить! Однако ему пришлось прервать свои размышления: откуда-то сверху до него донеслись хриплые крики. Тил спустил лестницу и бросился наверх. В центральной комнате второго этажа над лежащей без чувств миссис Бейли склонился мистер Бейли. Тил моментально оценил обстановку, кинулся к бару, встроенному в стене гостиной, налил тройную порцию виски, мигом вернулся к Бейли и протянул ему бокал: — Вот, пусть выпьет. Это приведет ее в чувство. Бейли залпом выпил. — Это я для миссис Бейли принес, — запротестовал Тил. — Не валяй дурака, — огрызнулся тот. — Неси ей еще. На этот раз Тил не забыл позаботиться и о себе: прежде чем возвратиться с порцией виски, отмеренной для жены своего заказчика, он опрокинул такую же порцию в себя. Когда Тил подошел к миссис Бейли, она приоткрыла глаза. — Ну вот, миссис Бейли, — сказал он успокаивающе, — выпейте-ка это, вам сразу станет лучше. — Не пью спиртного, — запротестовала она и залпом осушила бокал. — А теперь расскажите, что случилось. Я думал, вы ушли из дому. — Так и было — мы вышли через входную дверь и очутились здесь, в салоне. — Черт возьми, не может этого быть! Гм… минуточку. Тил вышел в салон. Здесь он обнаружил, что большое, от пола до потолка окно было открыто. Он осторожно выглянул в него. Перед ним лежал не сельский пейзаж Калифорнии, а помещение нижнего этажа или его точная копия. Ничего не сказав, он подошел к оставленному открытым лестничному пролету и заглянул вниз. Комната нижнего этажа была на своем месте. Получалось, что она каким-то образом одновременно существовала в двух различных местах на разных уровнях. Он вернулся в центральную комнату и уселся напротив Бейли в низкое глубокое кресло. Из-за острых, худых коленок виднелось его лицо, с напряженным вниманием смотревшее на Бейли. — Гомер, — многозначительно начал он, — ты знаешь, что произошло? — Нет, пока не знаю. Но если не выясню, в чем тут дело, и чем скорей, тем лучше, случится еще кое-что! Кое-что похуже, да, да! — Гомер, ведь это подтверждение моих теорий. Этот дом действительно является тессерактом. — О чем это он толкует, Гомер? — Погоди ты, Матильда. Тил, да ведь это просто нелепо. Ты чего-то тут понакрутил, всякие штучки-дрючки — не надо мне этого. Миссис Бейли до смерти перепугал, да и мои нервы не выдерживают. Я хочу лишь поскорее выбраться отсюда, и все твои двери-ловушки и дурацкие шуточки мне ни к чему. — Говори только за себя, Гомер, — перебила его миссис Бейли. — Я нисколько не испугалась. У меня просто немного закружилась голова. Это у нас в роду — мы все очень чувствительные и нервные. Что вы там такое интересное объясняли про какую-то тессиштуку, мистер Тил? Прошу вас, продолжайте. Тил рассказал ей самым доступным образом, хотя его тысячу раз перебивали, теорию, благодаря которой родился проект дома. — Видите ли, миссис Бейли, — закончил свое объяснение Тил, — я теперь понял, что этот дом, будучи совершенно устойчивым в трех измерениях, оказался неустойчивым в четырех измерениях. Я построил дом в виде развернутого тессеракта; что-то с ним произошло — какое-то сотрясение или боковой толчок, — и он свернулся, сложившись в свою обычную форму. — Его вдруг осенило, он даже пальцами щелкнул: — Понял! Вчерашнее землетрясение! — Землетрясение?! — Ну да, тот небольшой толчок, который я ощутил сегодня ночью. С точки зрения четырех измерений наш дом можно сравнить с плоскостью, балансирующей на ребре, — небольшой толчок, и он упал, рухнул по своим естественным, так сказать, сочленениям, превратившись в устойчивое четырехмерное тело. — Мне показалось, что ты хвастался насчет прочности дома. — Конечно, это так и есть. Он вполне прочен — в трех измерениях. — Я бы не рискнул называть прочным дом, который рушится от малейшего легкого толчка. — Я не согласен! — запротестовал Тил. — Взгляни вокруг себя. Хоть что-нибудь сдвинулось с места? Разбилось? Да ты и трещинки нигде не сыщешь! Вращение посредством четвертого измерения не может оказать никакого воздействия на трехмерное тело. Это все равно что пытаться стряхнуть буквы с отпечатанной страницы. Да если бы вы находились здесь сегодня ночью, вы бы даже не проснулись. — Как раз этого-то я и боюсь больше всего. Кета-си, подумала ли твоя гениальная голова о том, как мы выберемся из этой ловушки? — А? Да, да, конечно, понимаю. Ты и миссис Бейли хотели выйти и снова очутились здесь, так? Но я уверен, это пустяки — раз мы вошли, то сможем и выйти. Я сейчас же попробую. Договаривая на ходу, он поспешил по лестнице вниз, распахнул входную дверь, переступил порог и снова очутился в салоне второго этажа, лицом к лицу со своими спутниками. — Да, кажется, действительно возникла небольшая проблема, — признался он вежливо. — Техническая сторона дела, не более. И вообще можно выбраться через окно. Он дернул в стороны длинные шторы, закрывавшие большие, во всю стену, окна салона и застыл на месте. — Да-а-а… Любопытно. Весьма любопытно. — Что там? — спросил, присоединяясь к нему, Бейли. — Да вот. Окно выходило не на улицу, а прямо в гостиную. Это было так невероятно, что Бейли направился в тот угол, где под прямым углом салон и гостиная соединялись с центральной комнатой. — Как же так, — сказал он, — смотри, это окно находится на расстоянии пятнадцати-двадцати футов от гостиной. — Только не в тессеракте, — уточнил Тим. — Гляди. Он открыл окно и ступил через него, продолжая говорить. С точки зрения обоих Бейли он просто исчез. С точки зрения Тила произошло нечто иное. Прошло несколько секунд, и он перевел дух. Потом стал осторожно отдирать себя от куста розы, в котором он намертво запутался, тут же отметив про себя, что никогда больше не станет сажать вокруг своих объектов растений с колючками. Выбравшись наконец на свободу, он огляделся. Он стоял на участке у дома. Перед ним, упершись в землю, лежал массивный корпус нижнего этажа. Как видно, он упал с крыши. Он обежал дом, распахнул настежь входную дверь и помчался наверх. — Гомер, миссис Бейли! — крикнул он. — Я нашел выход. На лице Бейли отразилось скорее раздражение, чем радость. — Что же с тобой произошло? — Я вывалился. Был снаружи. Это очень просто — нужно переступить через окно. Но будьте осторожны — там кусты роз, не угодите в них. Наверное, придется пристраивать лестницу. — А как ты попал обратно? — Через входную дверь. — Ну а мы через нее выйдем. Пошли, дорогая. Бейли решительно насадил на голову шляпу и, подхватив жену под руку, стал спускаться по лестнице. Тил преградил им дорогу. — Мне следовало сразу же предупредить вас, что ничего так не получится. Думаю, придется поступить по-другому, Насколько я понимаю, в четырехмерном теле трехмерный человек всякий раз, когда он пересекает линию соединения — скажем, стену или порог, — имеет перед собой две вероятности, два выбора. Обычно ему в четвертом измерении нужно сделать поворот на 90 градусов, но, будучи существом трехмерным, он этого не ощущает. Вот смотрите. Он вышел через то самое окно, из которого упал минуту назад. Вышел и, спокойно продолжая разговаривать, оказался в гостиной. — Я следил за собой во время движения и прибыл куда хотел, — говорил он, возвращаясь в салон. — В тот раз я не следил за своими действиями, двигаясь в естественном пространстве, вот и упал. Все дело здесь в подсознательной ориентации. — А я не хочу зависеть от подсознательной ориентации, когда иду утром за газетой. — И не надо. Когда привыкнешь — это станет автоматическим действием. Ну а теперь давайте еще раз попробуем выбраться из дому. Миссис Бейли, станьте, пожалуйста, спиной к окну и спрыгните в этом положении вниз. Я уверен — почти уверен, — что вы приземлитесь в саду. Выражение лица миссис Вейли красноречиво свидетельствовало о том, что она думает о Тиле и его предложении. — Гомер Бейли, — голос ее перешел на визг, — вы так я будете молча стоять здесь и позволять этому ти… — Но позвольте, миссис Бейли, — Тил решил внести в свое предложение кое-какие коррективы, — мы привяжем к вам веревку, и вы опуститесь вниз совершенно без… — Ну хватит, Тил, — резко прервал его Бейли. — Давайте подумаем о более приемлемом способе. Ни я, ни миссис Бейли как-то не приспособлены к выпрыгиванию из окон. Тил на минуту растерялся; воцарилось непродолжительное молчание, которое прервал Бейли: — Слышишь, Тил? — Что слышу? — Где-то разговаривают. В доме, кроме нас, никого нет? Может, нас разыгрывают? — Нет, это исключено. Единственный ключ от дома у меня. — Я абсолютно уверена, что слышала их, — подтвердила и миссис Бейли. — Как только мы вошли в дом, так и началось. Они, то есть голоса. Гомер, я больше не могу выносить все это, слышишь! Предприми что-нибудь. — Не надо так волноваться, миссис Бейли, — попытался успокоить ее Тил. — В доме не может никого быть, но я, чтобы не сомневаться, все осмотрю и разведаю. Ты, Гомер, оставайся здесь с миссис Бейли и следи за комнатами на этом этаже. Он прошел из салона в помещение нижнего этажа, а оттуда в кухню и в спальню. Этот маршрут по прямой линии привел его обратно в салон, иными словами, проделывая свое путешествие по дому, он шел все время прямо, нигде не сворачивая и не опускаясь, и вернулся к исходной точке — в салон, откуда начал осмотр. — Никого, — объявил он. — По пути я открывал все двери и окна, кроме вот этого. Он подошел к окну, расположенному напротив того, из которого недавно вывалился, и раздвинул шторы. Через четыре комнаты спиной к нему стоял человек. Тил рывком открыл окно и нырнул туда с криком: — Держите вора! Вон он! Человек, несомненно, услышал его — он бросился бежать. Тил — вдогонку за ним; его нескладная фигура вся пришла в движение, долговязые конечности проскочили — комнату за комнатой — гостиную, кухню, столовую, салон, но, несмотря на все его старания ему никак не удавалось сократить расстояние между собой и вторжителем — их по-прежнему разделяли четыре комнаты. Он увидел, что преследуемый неуклюже, но энергично перепрыгнул через низкий подоконник, и с головы у него слетела шляпа. Тил подбежал к тому месту, где валялся потерянный головной убор, нагнулся и поднял его. Он был рад, что нашел повод немного передохнуть. Возвратившись в салон, он сказал: — Кажется, ему удалось уйти. Ну ничего, у нас осталась его шляпа. Может быть, она поможет определить, кто ее владелец. Бейли взял шляпу, осмотрел ее, фыркнул и надел ее Тилу на голову. Шляпа сразу пришлась впору. Тил растерялся, снял шляпу и стал ее рассматривать. На внутренней ленте стояли инициалы «К. Т.». Шляпа принадлежала ему самому. Лицо Тила отразило смутную догадку: до него как будто стал медленно доходить смысл происходящего. Он подошел к окну, посмотрел на анфиладу комнат, по которым гнался за таинственным незнакомцем, и начал размахивать руками, будто регулируя уличное движение. — Что ты делаешь? — спросил Бейли. — Посмотри-ка сюда. Оба Бейли подошли и стали смотреть в ту сторону, куда напряженно вглядывался Тил. Через четыре комнаты они увидели стоявших к ним спиной три человеческие фигуры — две мужские и одну женскую. Тот, что был повыше и похудее, нелепо размахивал руками. Миссис Бейли вскрикнула и снова упала в обморок.
Через несколько минут, когда она очнулась и немного успокоилась, Бейли и Тил стали оценивать ситуацию. — Тил, — сказал Бейли, — я не стану терять времени на то, чтобы упрекать тебя в случившемся. Обвинения бесполезны. Я уверен — ты сделал это не по злому умыслу, но ты ведь понимаешь, в каком положении мы оказались? Как отсюда выбраться? Похоже, что нам придется сидеть тут, пока с голоду не умрем: все комнаты ведут друг в друга, выхода наружу нет. — Не преувеличивай, пожалуйста. Дела не так уж плохи. Ведь мне все же удалось выбраться из дому. — Да, но ты не смог повторить это, несмотря на свои старания. — Это правда, но были использованы не все комнаты — остался еще кабинет. Разве что оттуда попробовать? — И верно. В начале осмотра мы его просто прошли, не стали там останавливаться. Думаешь, удастся выбраться через окно этого кабинета? — Кто его знает. Особенно не стоит надеяться. С математических позиций, его окна должны были бы выходить в четыре эти комнаты, но это надо еще проверить — ведь шторы мы не открывали. — Можно попробовать, хуже не будет. Дорогая, мне кажется, тебе лучше будет посидеть отдохнуть здесь… — Оставаться одной в этом жутком месте? Ну нет! — Говоря это, миссис Бейли немедленно поднялась с кушетки, на которой она приходила в себя. Они все вместе отправились наверх. — Ведь кабинет — это внутренняя комната, да, Тил? — спросил мистер Бейли по дороге. (Они прошли спальню и начали взбираться наверх, в кабинет). — Помнится, на твоей модели это был маленький куб, помещенный внутри большого куба, — он был окружен со всех сторон пространством большого куба, верно? — Точно, — подтвердил архитектор. — А теперь посмотрим, так ли это. По моим расчетам, это окно должно выходить в кухню. — Он поймал шнур от жалюзи и потянул вниз. Окно выходило не в кухню. Охвативший их приступ головокружения был так силен, что они бессознательно упали на пол, беспомощно цепляясь за ковер, чтобы удержаться на месте. — Закрой, скорее закрой! — простонал Бейли. Преодолевая животный атавистический страх, Тил подполз к окну и сумел опустить штору. Окно выходило не наружу, а вниз — с головокружительной высоты. Миссис Бейли снова потеряла сознание. Тил снова сбегал за коньяком, а Бейли в это время растирал ей запястья. Когда она очнулась, Тил осторожно подошел к окну и поднял жалюзи, так что образовалась маленькая щелка. Опустившись на колени, он стал изучать открывшийся перед ним пейзаж. Затем, повернувшись к Бейли, предложил: — Поди сюда, Гомер, взгляни на это. Интересно, узнаешь ли ты, что перед нами. — Гомер Бейли, вы туда не пойдете! — Не волнуйся, Матильда, я осторожно. — Бейли стал рядом с Тилом и тоже начал смотреть в щель. — Вон, видишь? Небоскреб Крайслер билдинг, абсолютно точно. А вон Ист-Ривер и Бруклин. Они смотрели вниз на отвесный фасад огромного небоскреба. Где-то в тысяче футов от них, внизу, простирался игрушечный город — совсем как настоящий. — Насколько я могу судить отсюда, мы смотрим на боковой фасад Эмпайр стейт билдинг с точки, находящейся над его башней. — Что это может быть? Мираж? — Не думаю — уж слишком он точен. По-моему, пространство сложилось через четвертое измерение, и мы смотрим по другую сторону складки. — Ты хочешь сказать, что в действительности мы этого не видим? — Да нет, мы все видим как надо. Не знаю, что было бы, если бы мы вздумали вылезти через это окно, но я, например, не хочу пробовать. Зато вид! Сила! Давай и другие окна откроем! К следующему окну они подбирались более осторожно — и правильно сделали, ибо то, что открылось перед ними, было еще более невероятным для восприятия, еще более тяжко действовало на рассудок, чем та захватывающая дух высота, от которой они едва не потеряли самообладания. Теперь перед ними был обычный морской пейзаж — безбрежное море, голубое небо, — только море находилось на месте неба, а небо — на месте моря. И хотя на этот раз они были немного подготовлены к неожиданностям, оба очень скоро почувствовали, что вид катящихся над головой волн вот-вот вызовет приступ морской болезни; они поспешили опустить жалюзи, не дав миссис Бейли возможности быть потревоженной этим зрелищем. Тил посмотрел на третье окно. — Ну что, Гомер, сюда заглянуть хочешь? — М-мм… Жалеть ведь будем, если не сделаем этого. Давай. Тил поднял жалюзи на несколько дюймов. Не увидел ничего и подтянул шнурок — снова ничего. Он медленно стал поднимать штору, полностью оголив окно. Оно глядело в пустоту. Пустота, абсолютная пустота. Какого цвета пустота? Глупый вопрос! Какую она имеет форму? Форму? Но форма является принадлежностью чего-то. А эта пустота не имела ни глубины, ни формы. Она не имела даже черноты. Она была ничто. Бейли пожевал сигару. — Ну, Тил, что ты на это скажешь? Непрошибаемое спокойствие Тила на этот раз поколебалось. — Не знаю, Гомер, просто не знаю. Но окно лучше зашторить. Какое-то время он молча глядел на спущенные жалюзи. — Я думаю, может быть, мы смотрели на место, где пространства не существует. Мы заглянули за четырехмерный угол, а там ничего не было. — Он потер глаза. — Голова болит. Они немного помедлили, прежде чем приступить к четвертому окну. Ведь в нераспечатанном письме не обязательно дурные новости. Так и здесь. Сомнение давало надежду. Томительная неопределенность становилась слишком тягостной, и Бейли не выдержал, сам потянул шнуры, несмотря на отчаянные протесты миссис Бейли. Ничего страшного, по крайней мере на первый взгляд. Простирающийся перед ними пейзаж находился на уровне нижнего этажа, где, казалось, теперь был и кабинет. Но от него явственно веяло враждебностью. С лимонно-желтого неба нещадно било горячее, жаркое солнце. Плоская местность выгорела до стерильно-блеклого безжизненного коричневого цвета, на котором невозможно представить существование чего-то живого. И, однако, жизнь здесь была — странные чахлые деревья поднимали к небу свои узловатые, искореженные руки. На наружных оконечностях этих бесформенных растений торчали пучки утыканных колючками листьев. — Боже праведный, — выдохнул Бейли, — где мы очутились? Тил покачал головой, глаза его выдавали беспокойство. — Я и сам ничего не понимаю. — На земной пейзаж непохоже. Может быть, мы на другой планете — возможно, на Марсе. — Трудно сказать. Но знаешь, Гомер, это может быть даже хуже, чем ты предполагаешь, я хочу сказать — хуже, чем на другой планете. — То есть? Говори же. — Может быть, это совершенно вне нашей вселенной. Я не уверен, что это наше солнце. Чересчур яркое. Миссис Бейли довольно робко подошла к ним и тоже смотрела на странный пейзаж за окном. — Гомер, — произнесла она сдавленным голосом, — эти уродливые деревья… мне страшно. Бейли погладил ее по руке. Тил возился с оконной задвижкой. — Что ты там мудришь? — спросил Бейли. — Я подумал, не высунуть ли мне голову из окна да посмотреть вокруг. Узнаю хоть что-нибудь. — Ну ладно, — неохотно согласился Бейли. — Только смотри осторожно. — Постараюсь. Он немного приоткрыл окно и повел носом, принюхиваясь. — Воздух нормальный — уже хорошо. — И он распахнул окно настежь. Но он не успел привести свой план в исполнение. Его внимание было отвлечено непонятным явлением: все здание вдруг потряс толчок, неприятный, как первые признаки приближающейся тошноты. Прошла долгая секунда, и дом перестал сотрясаться. — Землетрясение! — Их реакция была одновременной. Миссис Бейли уцепилась мужу за шею. Подавив волнение, Тил взял себя в руки и попытался успокоить миссис Бейли: — Не бойтесь, миссис Бейли. Дом выдержит любое землетрясение. Едва он успел придать своему лицу выражение спокойствия и уверенности, как дом потряс новый толчок. На этот раз это было не легкое угловое отклонение, а настоящий подземный удар. Каждый житель Калифорнии, будь он уроженец этого штата или прижился там позже, обладает глубоко укоренившимся первобытным рефлексом. Землетрясение вызывает в нем парализующую волю боязнь замкнутого пространства. Эта клаустрофобия побуждает его слепо бросаться прочь из помещения. Повинуясь этому импульсу, самые примерные бойскауты расталкивают старушек, пробиваясь к выходу. Абсолютно точно известно, что Тил и Бейли упали на миссис Бейли. Из этого следует, что она выпрыгнула из окна первой. Порядок следования на землю никак нельзя приписать рыцарству мужчин; следует предположить, что миссис Бейли находилась в более благоприятной для выпрыгивания позиции. Они взяли себя в руки, немного привели в порядок свои мозги и протерли полные песку глаза. Их первым ощущением было чувство облегчения от того, что у них под ногами твердая почва — песок пустыни. Затем Бейли заметил то, что помешало миссис Бейли разразиться речью, готовой сорваться у нее с языка, и отчего они сразу вскочили на ноги. — Где дом?! Дом исчез. От него даже следа не осталось. Они стояли в центре безлюдной пустыни, которую видели из окна. Кроме истерзанных, изломанных деревьев виднелись лишь желтое небо да неизвестное светило над головой. Его обжигающий блеск нестерпимо слепил глаза. Бейли медленно огляделся кругом, потом повернулся к архитектору. — Что скажешь, Тил? — голос его не предвещал ничего хорошего. Тил беспомощно пожал плечами. — Откуда я знаю? Я даже не уверен в том, что мы на Земле. — В любом случае мы не можем стоять здесь. Это верная смерть. Куда идти? — Все равно куда. Давайте держать на солнце. Так они с трудом преодолели какое-то расстояние, когда миссис Бейли потребовала отдыха. Они остановились. Тил отозвал Бейли в сторону: — Придумал что-нибудь? — Нет, ничего. Никаких идей. Послушай, ты что-нибудь слышишь? Тил прислушался. — Может быть, если это не в моем воображении. — По звуку похоже на автомобиль. Точно, автомобиль! Через какие-то сто метров они вышли на шоссе. Автомобиль, когда он к ним подъехал, оказался подержанным пыхтящим грузовичком, за рулем которого сидел фермер. Услышав их крики, он остановился, заскрежетав тормозами. — Мы заблудились. Вы не поможете нам выбраться отсюда? — О чем речь, садитесь. — Куда вы едете? — В Лос-Анджелес. — В Лос-Анджелес?! А где же мы находимся? — Да прямо посреди Национального парка Джошуа-Три. Их возвращение было таким же удручающим, как бегство французов из Москвы. Мистер и миссис Бейли сидели в кабине рядом с водителем, а Тил трясся в кузове грузовика, стараясь как-то защитить голову от солнца. Бейли субсидировал приветливого фермера, чтобы тот подвез их к дому-тессеракту, не потому, что они жаждали снова его увидеть, а потому, что там стояла их машина. Наконец фермер завернул за угол и подвез их к тому месту, откуда началось их путешествие. Но дома на этом месте больше не существовало. Не осталось даже помещения нижнего этажа. Все исчезло. Оба Бейли, заинтересовавшись этим помимо своей воли, вместе с Тилом искали следы фундамента. — Есть какие-то соображения по поводу всего этого? — спросил Вейли. — Должно быть, после второго толчка он просто упал в другое сечение космического пространства. Теперь я понимаю, что мне следовало бы закрепить его на фундаменте. — Тебе многое следовало бы сделать. — А вообще-то я считаю, что расстраиваться нет никаких оснований. Дом застрахован. Мы узнали много удивительного. Вероятности, друг мой, вероятности. Да, а сейчас мне пришла в голову новая великая революционная идея относительно дома… Тил вовремя увернулся от удара.
АЙЗЕК АЗИМОВ
Популярнейший американский писатель-фантаст Айзек Азимов родился в 1920 году в местечке Петровичи к югу от Смоленска в зажиточной еврейской семье. Дед его и отец владели здесь мельницей. В 1923 году семья переехала в Америку. Изучал химию в Колумбийском университете, вошел в круг фантастов и «исследователей будущего», в марте 1939 года опубликовал в журнале «Удивительные истории» свой первый научно-фантастический рассказ «Затерянные у Весты», тогда же написал свой первый рассказ о роботах.
В июне 1939 года Азимов получил диплом, а через два года — ученую степень.
Однажды в 1940 году Кемпбелл, процитировав фразу Ральфа Эмерсона: «Если бы звезды появлялись в небе одну-единственную ночь за тысячу лет, то как должны были бы люди верить и благоговеть и сохранять для многих поколений воспоминание о Граде Божьем!» — спросил Азимова, что произойдет, если люди будут видеть звезды только один раз в тысячу лет. Азимов не смог ответить. Тогда Кемпбелл сказал: «Они должны сойти с ума. Теперь идите домой и напишите рассказ». Так появился знаменитый рассказ «Приход ночи», который неоднократно переводился также у нас.
В 1942 году Айзек Азимов, начав работать в Морской аэролаборатории, задумал «эпос будущего», несколько перекликающийся с цельным миром «истории будущего» Р. Хайнлайна. Масштаб был избран галактический. В серии повестей и книг, выходивших с 1942 года по 1949 год и получивших название «Установление», А. Азимов описывал мириады миров нашей Галактики, колонизованных и завоеванных родом человеческим.
С помощью новой науки «психоистории», позволяющей точно рассчитывать и направлять течение событий и взятой на вооружение вождями Галактической империи, осуществлялись перестройка, корректировка и контроль над мирами. Аналогичным способом управлять мирами обладали «вечные» в переведенном у нас романе «Конец вечности», идея которого заимствована из монументального романа Джона Рассела Фирна «Выпрямители времени» (1935 г.) и отчасти из ванфогтовского «Поиска».
В произведениях Азимова центр тяжести обычно лежит не в борьбе с природными стихиями и сюрпризами, а в конфликте человека с человеком, людей с людьми. Не действие и чудища, а социальная психология интересует писателя в первую очередь. В этом его оригинальность, свой взгляд на «историю будущего».
В последние годы Айзек Азимов, как и многие другие писатели-фантасты, все чаще стал проявлять общественную активность, выступая за мир и сотрудничество народов, но в то же время проповедуя буржуазные, классовые рецепты устроения общества.
ЗАТЕРЯННЫЕ У ВЕСТЫ
1. Гибель «Серебряной Королевы»
— Перестаньте, пожалуйста, ходить туда-сюда, — сказал Уоррен Муэр с койки, — это не поможет. Лучше подумайте о том, как нам повезло: мы не разгерметизировались.
Марк Брэндон повернулся на каблуке и скрежетнул зубами:
— Радуетесь? — злобно ощерился он на Муэра. — А того не помните, что запаса воздуха хватит лишь на три дня, — и с вызывающим видом он снова принялся за свое занятие.
Муэр зевнул, потянулся, принял более удобную позу и ответил:
— Такая растрата энергии приведет лишь к быстрейшему расходу воздуха. Почему бы вам не взять пример с Майка? Он спокойно на это реагирует.
«Майком» называли Майкла Шея, бывшего члена экипажа «Серебряной Королевы». Его приземистая коренастая фигура покоилась на единственном стуле, а ноги торчали на единственном столе. При упоминании своего имени он поднял глаза, и рот его растянулся в кривой усмешке.
— Этого следовало ожидать, — сказал он. — Налезать на астероиды — дело рискованное. Надо было перескочить. Дольше, зато надежнее. Так нет же, капитан не котел вылезать из графика и попер прямо, — Майк с отвращением сплюнул, — вот и получили.
— Что значит «перескочить?»
— О, я думаю, друг Майк имеет в виду, что нам следовало избежать столкновения с астероидом, проложив курс вне плоскости эклиптики, — ответил Муэр. — Правильно я вас понял, Майк?
Майк помедлил, затем осторожно ответил:
— Да-а, вроде бы так.
Муэр вежливо улыбнулся и продолжал:
— Не стоит, пожалуй, всю вину сваливать на капитана Крейна. Экран отражения, по-видимому, вышел из строя за пять минут до того, как гранитная глыба врезалась в нас. Нет, это не его вина, хотя что там говорить, мы бы избежали столкновения, если бы не полагались на экран. — Он задумчиво покачал головой. — «Серебряная Королева» развалилась на части. Просто чудо какое-то, что этот отсек корабля остался в целости и, более того, не разгерметизировался.
— Странное у вас понятие о везении, Уоррен, — сказал Брэндон. — Сколько я вас знаю, всегда вы так рассуждали. Вот и сейчас: от корабля осталась лишь десятая часть — отсек, в котором всего три неповрежденных помещения, — запаса воздуха на три дня, и никаких перспектив уцелеть после того, как этот запас кончится, — а вы имеете наглость разглагольствовать о том, что нам повезло.
— По сравнению с теми, кто погиб сразу же после столкновения с астероидом, — конечно, — ответствовал Муэр.
— Вы так думаете, да? Так вот, разрешите мне довести до вашего сведения, что моментальная смерть гораздо безболезненнее того, что предстоит нам. Смерть от удушья не самый приятный вид смерти.
— Что-нибудь придумаем, — бодро предположил Муэр.
— Почему вы не хотите смотреть фактам в лицо?! — Брэндон вспыхнул, и голос его задрожал. — Нам конец, ясно? Крышка!
Майк нерешительно переводил взгляд с одного на другого, потом кашлянул, чтобы привлечь их внимание.
— Вот что, братцы, уж раз все мы попали в такой переплет, что толку травить друг друга. — Он достал из кармана небольшую бутылку, наполненную зеленоватой жидкостью. — Джэбра, сорт А. Согласен участвовать в этом деле на равных.
На лице Брэндона впервые за весь день появились признаки удовольствия.
— А, марсианская водичка! Что же ты сразу о ней не сказал?
Он потянулся за бутылкой, но твердая рука перехватила его запястье. На него смотрели спокойные голубые глаза Уоррена Муэра.
— Не делайте глупостей, — сказал Муэр, — на три дня нам этого не хватит. Вы что же, хотите — сейчас напиться до положения риз, а потом умирать на трезвую голову? Нужно приберечь это на последние шесть часов, когда воздуху останется совсем мало и дышать будет трудно. Вот тогда мы разопьем эту бутылку, и нам станет все равно, когда наступит конец, а может, мы его и не почувствуем.
Рука Брэндона медленно опустилась.
— Черт возьми, Уоррен, если вас разрезать, то из вас вместо крови выйдет лед. Как вы можете рассуждать так в такую минуту?
Он дал знак Майку, и бутылка исчезла. Брэндон подошел к иллюминатору и стал смотреть в него.
Муэр стал рядом, положил руку на плечо товарища, сказал благожелательно:
— Не надо воспринимать все так трагично, дружище. Так вас надолго не хватит. Будете продолжать в этом духе — и суток не пройдет, как вы лишитесь рассудка.
Брэндон не ответил. Он с ожесточением смотрел на небесное тело, почти закрывавшее иллюминатор. Муэр добавил:
— И на Весту смотреть тоже бесполезно.
Майк Шей неуклюже придвинулся к иллюминатору.
— Если бы нам удалось спуститься, там, на Весте, мы бы спаслись. Там есть люди. Далеко мы оттуда?
— Судя по размеру Весты, не более чем в трехстах-четырехстах милях, — ответил Муэр. — Не следует, однако, забывать, что ее диаметр составляет всего двести миль.
— Всего в трехстах милях от спасения, — бормотал Брэндон, — с таким же успехом могли оказаться и в миллионе. Если бы только удалось вырваться из орбиты, на которой крутится наш проклятый осколок. Суметь бы вытолкнуться из нее и начать падать. При посадке не разобьемся; у этой лилипутки такая сила притяжения, что упади на нее пирожное с кремом — и то целеньким останется.
— Достаточная, чтобы держать нас на орбите, — возразил Муэр. — Должно быть, она подхватила нас после катастрофы, когда мы потеряли сознание. Плохо, что не попали поближе к ней; тогда бы, возможно, удалось сесть на нее.
— Странная планета эта Веста, — заметил Майк Шей. — Я бывал на ней два-три раза. Мусорная куча, и больше ничего. Вся покрыта какой-то дрянью вроде снега; но это не снег. Забыл, как называется.
— Сухая двуокись углерода? — подсказал Муэр.
— Точно. Сухой лед, из углекислого газа. Поэтому, говорят, Веста так сверкает.
— Безусловно. Это придает ей высокую степень альбедо.
Майк бросил на Муэра подозрительный взгляд и решил пропустить эту ремарку мимо ушей.
— Из-за снега отсюда трудно разглядеть, что там, но если присмотреться, можно заметить такое серое расплывчатое пятно. Это, по-моему, купол Беннета. Там у них обсерватория. А вон там купол Калорна. Там заправочная станция, вот что. Там полно всего, только не видно.
Он помедлил, потом повернулся к Муэру.
— Слушай-ка, босс. Я все думаю. Ведь они узнали, что мы гробанулись — может, они нас ищут? Разве так уж трудно увидеть нас с Весты, когда мы от нее рукой подать?
Муэр покачал головой.
— Нет, Майк, они нас не ищут. О катастрофе никто не узнает до тех пор, пока «Серебряная Королева» не придет по графику. Дело в том, что, когда корабль столкнулся с астероидом, мы не успели послать сигнал SOS. — Он вздохнул. — Так что здесь, у Весты, нас искать не станут. Размеры нашего обломка так ничтожны, что даже, несмотря на такое близкое расстояние, они не в состоянии увидеть нас без указания точных координат.
— Да-а, — Майк наморщил лоб в глубоком раздумье, — тогда нам надо добраться до Весты в эти три дня.
— Вы попали в самую точку, Майк. Теперь бы еще узнать, как это сделать — и все будет в порядке, верно?
Брэндон вдруг взорвался:
— Вы не могли бы — черт вас побери! — прекратить эту проклятую болтовню? Сделайте что-нибудь! Ради бога, сделайте хоть что-нибудь!
Муэр пожал плечами и, не удостоив его ответом, снова лег на свою койку. Поза его была спокойной, даже беззаботной, но едва заметная складка на переносице выдавала напряжение.
Сомневаться не приходилось: их дела действительно были плохи. Наверное, в двадцатый раз он перебирал в уме события прошедшего дня.
Когда астероид попал в корабль, разрушив его на части, сознание Муэра выключилось, как выключается свет; сколько времени он находился в таком состоянии — неизвестно: его часы разбились, а других нигде не было. Когда он очнулся, оказалось, что единственными обитателями оставшегося от «Серебряной Королевы» обломка были он сам, его сосед по комнате Марк Брэндон и член экипажа Майк Шей.
Теперь этот обломок болтался на орбите вокруг Весты. Пока что они не испытывали особых неудобств. Запасов пищи хватит на неделю. Под отсеком имеется автономный гравитатор, устраняющий невесомость, — он, пожалуй, поработает какое-то время — вероятно, дольше, чем иссякнет запас воздуха. Система освещения не совсем в порядке, но пока что тянет.
Однако самое главное в другом. Воздух кончится через три дня! Конечно, есть и другие неприятные факторы. Не работает система отопления (хотя это почувствуется не скоро, когда корабль полностью отдаст свое тепло в безвоздушность космического пространства). Гораздо хуже то, что в их отсеке нет ни средств связи, ни пускового устройства. Муэр вздохнул: один ракетный двигатель в рабочем состоянии был бы для них спасением — одна струя газов в нужном направлении выбросила бы их обломок прямо на Весту.
Складка между бровями стала глубже. Что делать? На троих у них имеется один космический скафандр, один тепловой луч-пистолет и один детонатор. Это все, чем они располагали после крушения корабля. Прямо скажем, похвастаться нечем.
Муэр повел плечами, встал и налил себе стакан воды. Все еще погруженный в свои мысли, он машинально глотал, и вдруг в голове у него что-то мелькнуло. Он с интересом посмотрел на пустой стакан, который держал в руке.
— Майк, послушайте, — сказал он, — а какой у нас запас воды? Странно, что я об этом раньше не подумал.
Глаза Майка выразили глубочайшую степень удивления:
— А ты разве не знал, босс?
— Чего не знал? — с нетерпением переспросил Муэр.
— Да у нас вся вода, что была. — Он сделал руками жест, красноречиво свидетельствующий о ее большом количестве.
Выражение лица Муэра не переменилось, и ему пришлось пояснить:
— Не понял? У нас остался главный бак, где хранился запас воды для всего корабля. — И он показал на одну из стен.
— То есть вы хотите сказать, что к нашему отсеку примыкает бак с водой?
Майк энергично кивнул:
— Точно! Посудина в каждую сторону по сто футов. И на три четверти полнехонька, да.
Муэр был поражен:
— Семьсот пятьдесят тысяч кубических футов воды! — И вдруг вопрос: — А что же она не вытекла, ведь трубы повреждены?
— У ней только одна главная выпускная труба, которая проходит по коридору как раз снаружи этой комнаты. Я ее чинил, когда на нас налетел астероид, ну я, конечно, перекрыл ее. Когда очухался, открыл трубу, что ведет к нашему крану, так что теперь это единственное место, откуда вода вытекает.
— Вот как.
Где-то глубоко в душе у Муэра шевелилось странное чувство. Мысль, наполовину сформированная в тайниках мозга, никак не могла выбраться на свет божий. Муэр понимал только, что услышанное им содержит какой-то важный смысл, но пока не мог определить точно, какой именно.
Брэндон, все это время молча прислушивавшийся к словам Майка Шея, вдруг издал короткий звук, весьма отдаленно напоминавший смех.
— Судьба как будто все собрала, чтобы поиздеваться над нами. Сначала она помещает нас в точку, откуда до места спасения рукой подать, но предусмотрительно лишает нас способа добраться до этого места. Потом она снабжает нас пищей на неделю, воздухом на три дня и водой — на ГОД. Слышите? Годовой запас воды — на все хватит: пить, рот полоскать, мыться, стирать, принимать ванны — лей вволю! Вода — вода, черт ее побери!
— О Марк, посмотрите на это под другим углом, — сказал Муэр, пытаясь преодолеть меланхолию младшего сотоварища. — Думайте, будто мы спутник Весты (каковым мы являемся в действительности). Мы имеем собственный период обращения и вращения. У нас есть ось и экватор. Наш «северный полюс» находится где-то над иллюминатором и смотрит на Весту, а наш «южный полюс» проходит под баком с водой и направлен от Весты — примерно так. И далее в таком духе: будучи спутником, мы обладаем атмосферой, а теперь у нас появился и вновь открытый океан. Так что, как видите, нам не так уж плохо. Наша атмосфера протянет еще три дня, есть мы можем двойные порции, а пить столько, что можно насквозь водой пропитаться. Да, воды у нас хватит, чтобы выбросить… — Мысль, сформировавшаяся только наполовину, вдруг обрела полную зрелость и была поймана. Рука, сделавшая небрежное движение, которым сопровождалась его последняя ремарка, застыла в воздухе. Рот закрылся на полуслове, голова дернулась вверх.
Но Брэндон, погруженный в собственные мысли, не заметил странных движений Муэра.
— Что же вы не продолжаете? Заканчивайте же свое сравнение со спутником. — Он усмехнулся. — А может быть, вы, как профессиональный оптимист, игнорируете любые факты, которые расходятся с вашими утверждениями? На вашем месте я закончил бы свою тираду так. — И он сказал голосом Муэра: — Данный спутник в настоящее время пригоден для обитания и обитаем, но вследствие приближения истощения его атмосферы, как вскоре ожидается, жизнь на нем прекратится. Почему вы не отвечаете? Почему вы упорно продолжаете делать из случившегося шутку? Вы что, не видите… ЧТО С ВАМИ?!
Это удивленное восклицание сорвалось — и не могло не сорваться — у Брэндона в ответ на более чем странное поведение Муэра.
Он вдруг встал с койки, стукнул себя по лбу, после чего молча застыл на месте, вперив сощуренные глаза куда-то в пространство. Брэндон и Майк Шей наблюдали за ним с изумлением, не произнося ни слова.
Муэр внезапно воскликнул:
— Ага! Понял! Почему я не додумался до этого раньше? — его возгласы постепенно сменились неразборчивым бормотанием.
С понимающим видом Майк вытащил бутылку джэбры, но Муэр нетерпеливо отмахнулся.
И тогда Брэндон без всякого предупреждения внезапно размахнулся правой рукой и нанес изумленному Муэру сильный удар в челюсть, так что тот не удержался на ногах и упал.
Муэр застонал, стал растирать лицо.
— За что вы меня так? — спросил он протестующе.
— Встаньте, и я повторю! — выкрикнул Брэндон. — Не могу больше этого выносить. Я по горло сыт вашими проповедями. Не желаю больше слушать вашу бодряческую болтовню. Это вы сейчас свихнетесь!
— Свихнусь? Ничего подобного. Просто я слишком взволнован. Прошу вас, послушайте меня. Мне кажется, я нашел способ…
Брэндон бросил на него злобный взгляд.
— Ах вот оно что? Вы нашли способ? Какой-нибудь дурацкий проект, мы начинаем надеяться, а потом оказывается — ничего не вышло. Не надо мне этого, понятно? Я найду воде лучшее применение — утоплю вас, — и еще воздух этим сэкономлю.
Терпение Муэра иссякло.
— Послушайте, Марк, вы тут совершенно ни при чем. Я один собираюсь все сделать. Обойдусь без вашей помощи — не нуждаюсь в ней. Если вы так уверены в том, что мы погибнем, и так боитесь смерти, почему бы вам не ускорить агонию. У нас есть тепловой луч и детонатор — и то и другое надежное оружие. Выберите, что вам по душе, и кончайте с богом. Мы с Майком не станем вам мешать.
Рот Брэндона скривился в последней слабой попытке нападения — и вдруг он сдался — уничиженно и окончательно.
— Хорошо, Уоррен, я на все согласен. Я… я не совсем понимал, что делаю. Я плохо себя чувствую, Уоррен. Я… я…
— Ничего, друг мой, — Муэру стало искренне л: аль юношу. — Не волнуйтесь. Я вас понимаю, На меня это тоже подействовало. Но мы не должны поддаваться. Поборите себя — или вами овладеет полнейшее неистовое безумие. Постарайтесь немного поспать, предоставьте дела мне. Все еще будет хорошо.
Брэндон, прижав руку к пылающему лбу, побрел к койке и тяжело повалился на нее. Беззвучные рыдания сотрясали его тело, а Муэр и Шей неловко стояли рядом, не зная, что сказать.
2. Трудная работа
Наконец Муэр подтолкнул Майка:
— Ну, теперь давайте приниматься за дело, — шепнул он. — Я уверен в успехе. Воздушный шлюз номер пять находится в конце коридора, так?
Шей кивнул, Муэр продолжал:
— Герметичность не нарушена?
— Внутренний люк в порядке, — после некоторого раздумья ответил Майк, — а вот про наружный не скажу. Почем знать, может, он как решето. Понимаешь, когда я проверял стену на герметичность, то не отважился открыть внутреннюю створку, потому что ведь если с наружной что не так — фьють! — Жест Майка, сопровождавший это восклицание, был весьма красноречив.
— Ну что ж, тогда нам придется выяснить это сейчас. Мне все равно надо как-то выбраться наружу, так что другого выхода нет. Где скафандр?
Он потянул скафандр с полки в шкафу, перебросил его через плечо и пошел вниз по длинному коридору, который тянулся вдоль отсека. Он миновал закрытые люки, за герметичными барьерами которых прежде располагались пассажирские салоны, а теперь зияли своими полостями выходящие в открытый космос обломки. В конце коридора находился сохраняющий герметичность люк воздушного шлюза № 5.
Муэр остановился и стал критически его осматривать.
— С виду все как будто в порядке, — отметил он, — но, естественно, никто не может поручиться за то, что делается там, снаружи. Господи, хоть бы все вышло. — Он нахмурился. — Конечно, можно было бы использовать в качестве воздушного шлюза весь этот коридор; в таком случае дверь нашей каюты послужила бы внутренним люком, а дверь коридора — наружным, но это означало бы потерю половины нашего запаса воздуха. Пока что мы не можем себе этого позволить.
Он повернулся к Шею:
— Ну что ж, давайте. Индикатор показывает, что в последний раз шлюз использовался для входа, поэтому он должен быть заполнен воздухом. Чуть-чуть приоткройте люк и, если послышится свистящий звук, сразу же закрывайте.
— Понятно. — И рычаг сдвинулся на одно деление.
Механизм, который во время сильнейшего удара корабля об астероид как следует тряхнуло, вместо бесшумного плавного движения тяжело лязгнул, издавая сиплый, скрежещущий звук. Но он действовал! С левой стороны люка появилась тонкая черная линия, показывая место, где дверь на долю дюйма отошла от обода. Свистящий звук отсутствовал! Напряжение немного спало. Муэр вытащил из кармана картонную Карточку и поднес ее к щели. Если бы утечка воздуха имела место, карточка, толкаемая выходящим газом, держалась бы в этом положении. Но она упала на пол. Майк послюнил палец, поднес его к щели.
— Слава богу! — выдохнул он. — Никаких следов отклонения.
— Прекрасно, открывайте шире, не бойтесь.
Еще поворот — щель сделалась больше. Никакой утечки. И медленно, очень медленно, деление за делением, люк открывался все шире. Двое людей ждали затаив дыхание. Они опасались, что наружная створка, не имея явных повреждений, может, несмотря на это, сдать в любую секунду. Но люк выдержал! Обрадованный Муэр стал облачаться в скафандр.
— Пока что дела идут прекрасно, Майк, — сказал он. — Вы, пожалуйста, оставайтесь и ждите меня здесь. Не знаю, сколько времени мне понадобится на это дело, но я вернусь. Где пистолет? При вас?
Шей протянул тепловой луч-пистолет и спросил:
— Но что все-таки ты собираешься делать? Мне бы хотелось знать.
Муэр как раз застегивал шлемофон; остановившись, он ответил:
— Слышали, как л в каюте сказал: воды у нас столько, что можно вылить ее? Ну так вот, я обдумал это положение и понял, что такая мысль заслуживает внимания. Я и хочу избавиться от воды.
Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, он шагнул в люк, оставив за собой весьма озадаченного Майка Шея.
С бьющимся сердцем ждал Муэр, когда откроется наружная дверца. Его план был чрезвычайно прост, но он не знал, удастся ли его осуществить.
Заскрипели храповики, заскрежетали шестерни. Воздух выдохнулся в пустоту. Дверь на несколько дюймов приоткрылась и застопорилась. Сердце Муэра упало: на секунду ему показалось, что она больше не поддастся, но, подергавшись и подребезжав, она освободила дорогу.
Муэр защелкнул магнитный захват и очень осторожно ступил ногой в космос. Неуклюже двигаясь, он нащупывал путь к борту корабля. Прежде ему никогда не приходилось выходить в открытый космос. Неприятное чувство, похожее на страх, сковало все его существо: он, как муха, прижался к своей ненадежной защите. Сильно кружилась голова.
Он закрыл глаза и минут пять провисел так, вцепившись в обтекаемый борт того, что когда-то было космическим кораблем «Серебряная Королева». Магнитный захват держал его надежно, и когда он снова открыл глаза, к нему уже в какой-то степени вернулось самообладание.
Он огляделся вокруг. После гибели корабля перед ним впервые было звездное небо: в иллюминатор их обломка была видна лишь непомерно громадная, заслонявшая все пространство Веста. Теперь Муэр жадно вглядывался в далекие звезды, ища среди них маленькую зеленую точку — Землю. Раньше он подсмеивался над тем, что космические странники, обозревая звездное небо, всегда первой среди звезд искали именно эту зеленую точку, но теперь юмор ситуации не дошел до него. И его поиски были впустую: с того места, где он лежал, Земли не было видно. Как и Солнце, она, должно быть, находилась за Вестой.
Но он не мог не заметить, многого другого. Слева от них находился Юпитер, казавшийся невооруженному глазу блестящим шариком размером с небольшую горошину. Муэр разглядел и два его спутника. Видимым был и Сатурн — яркая звезда отрицательной величины, похожая на Венеру, какой она видна с Земли.
Муэр ожидал, что он увидит и большое число астероидов — ведь они попали в астероидный пояс, — но космос казался удивительно пустынным. Ему было почудилось, что в нескольких милях от него с огромной скоростью пронеслось какое-то тело, но все произошло так быстро, что он толком не успел разобраться в своем ощущении и не мог с достоверностью сказать, было ли что в действительности или ему только представилось.
А прямо под ним была Веста. Она маячила как огромный воздушный шар, занимавший чуть не полнеба. Блестящий снежный шар, неподвижно висящий в пространстве. Муэр глядел на него, и шар властно притягивал его к себе. «Если с силой оттолкнуться от борта, — подумал он, — вполне возможно, что я начну падение на Весту». Быть может, ему удастся удачно приземлиться и организовать помощь оставшимся на борту. Но может случиться и так, что он просто попадет на новую орбиту вокруг Весты. Нет, надо подумать о более приемлемом варианте.
Эта мысль напомнила ему о том, что нельзя терять драгоценного времени. Он внимательно осмотрел видимую сторону корабля, отыскивая бак с водой, но его глазам открылись лишь джунгли торчащих наружу остроконечных, зазубренных, осыпающихся стен. Он в нерешительности остановился. Очевидно, придется держать на освещенный иллюминатор их отсека и уже оттуда двигаться к баку. Другого способа он не видел.
Он осторожно подтягивался, передвигаясь вдоль борта корабля. Менее чем в пяти ярдах от шлюза гладкая поверхность корпуса внезапно кончилась. Перед Муэром разверзлась зияющая полость, в которой он узнал одно из помещений, примыкавших к коридору в его дальнем углу. Муэр содрогнулся при мысли о том, что в каком-нибудь месте он может наткнуться на разлагающееся мертвое тело. Он знал большинство пассажиров и многих из них лично. Но он преодолел свою чувствительность и заставил себя продолжать опасное путешествие к цели.
И вот перед ним возникла первая практическая трудность. Многие части внутренних помещений корабля были выполнены из цветных металлов и пластмасс. Магнитный захват предназначался для использования только на наружном корпусе корабля и был совершенно бесполезным приспособлением для работ во внутренних отсеках. Муэр совсем забыл об этом, как вдруг почувствовал, что поплыл по наклонной плоскости, а магнитный захват его больше не держит. Он судорожно глотнул воздух, успев схватиться за ближайший выступ и медленно подтянуться к спасительному куску металла.
Целую минуту он лежал неподвижно, почти бездыханный. Теоретически здесь, в космосе, он должен был испытывать невесомость (притяжение Весты было слишком незначительно), но действовал гравитатор под его отсеком. Без компенсационного действия других гравитаторов это приводило к тому, что по мере передвижения Муэр испытывал неоднородные и внезапно меняющиеся нагрузки. Это означало, что, если магнитный захват вдруг не сработает, его совсем оттолкнет от корабля. И тогда…
Очевидно, предстоящее дело окажется еще более трудным для выполнения, чем он думал.
Поняв это, Муэр стал продвигаться ползком, ощупывая каждый участок пути, проверяя, выдержит ли захват. Чтобы продвинуться на несколько футов, ему порой приходилось совершать длинный кружный путь; иной раз он вынужден был пробираться, срываясь и скользя, через участки, выполненные из цветных металлов. И постоянно чувствовалось утомительное некомпенсированное притяжение гравитатора, из-за чего все время менялись направления, а горизонтальные полы и вертикальные стены соединялись друг с другом под странными, беспорядочно образованными углами.
Он осторожно обследовал все попадавшиеся ему предметы. Но это были бесплодные поиски. Неприкрепленные вещи, стулья, столы отторглись от корабля, по-видимому, еще при первом толчке и теперь представляли собой независимые тела солнечной системы. Тем не менее ему удалось подобрать небольшой бинокль и авторучку, которые он положил в карман. Конечно, в данных условиях они были бесполезными вещами, но хоть как-то приближали к реальности это жуткое путешествие за бортом мертвого корабля.
Прошло пятнадцать, двадцать, тридцать минут, а он все полз к тому месту, где, по его расчетам, должен был находиться иллюминатор их отсека. Пот заливал ему глаза, склеивал волосы. От непривычной нагрузки заболели мышцы. Мозг, уже перенесший напряжение предыдущего дня, дрогнул, начал сдавать, разыгрывать с ним свои недобрые шутки.
Движение стало казаться вечным, чем-то таким, что всегда существовало и будет существовать. Цель путешествия, к которой он так стремился, казалось, не имела значения; он знал только одно: нужно двигаться. Время — всего час назад, когда он был с Брэндоном и Шеем, — затуманилось, ушло в далекое прошлое. А то время — время нормальной жизни, — существовавшее всего два дня назад, вовсе исчезло из памяти, будто его никогда не было.
Только острые обломки стен перед носом; только жизненная необходимость добраться до какого-то неопределенного места назначения — только это билось в его спинном мозгу. Задыхаясь, напрягаясь, подтягиваясь, нащупывая стальной сплав. Вверх, в разинутые дыры, бывшие когда-то жилыми отсеками, и снова наружу. Ощупывая и подтягиваясь и снова ощупывая в подтягиваясь. И вдруг — свет.
Муэр остановился: не будь он прихвачен к стене, он бы, наверное, упал. Увиденный им свет прояснил суть. Это был иллюминатор — не такой, мимо которых он прополз — темных, мертвых, а освещенный и живой. За ним был Брэндон. Муэр глубоко вздохнул, он почувствовал себя лучше, в мозгу просветлело. Теперь цель его была рядом. Он полз к теплящейся искре жизни. Все ближе, ближе и ближе — и вот наконец он коснулся ее. Добрался!
Глаза с жадностью вбирали знакомую комнату. Ничего, что с ней не связано никаких счастливых воспоминаний. Она была чем-то реальным, существующим в действительности, чем-то почти осязаемым. Брэндон спал на койке. Он сильно осунулся, но на лице его мелькала легкая улыбка.
Муэр поднял кулак, собираясь постучать. Он почувствовал непреодолимое желание поговорить с кем-нибудь, хотя бы жестами, но в последний момент сдержался. Быть может, мальчишке снился дом; он был юн, чувствителен и много перестрадал. Пусть поспит! Еще хватит времени разбудить его, когда (и если) план будет приведен в исполнение.
Он определил изнутри помещения положение стены, за которой находился бак с водой, затем попытался сделать это извне. Теперь это было не сложно: задняя стенка бака сильно выдавалась снаружи. Муэр подивился этому чуду; казалось просто невероятным, что бак не поврежден. В конце концов, судьба обходилась с ними не так уж иронично.
Проход к баку был нетруден, хотя он и находился с другой стороны обломка. Прямо к баку вел отсек, бывший коридором корабля. Тогда, когда «Серебряная Королева» была в целости и сохранности, этот коридор располагался горизонтально и ровно, но теперь, при несбалансированной работе оставшегося гравитатора, коридор резко накренился. Это еще больше облегчало путь. Без всякой загвоздки Муэр прикрепился к однородному бериллиево-стальному покрытию и через двадцать с лишним футов оказался у бака.
Наступил самый ответственный момент — последняя фаза. Он чувствовал, что нужно отдохнуть, но волнение охватило его, и он не мог с ним совладать: «Теперь или крышка». Он подтянулся ближе к середине днища, и здесь, устроившись на небольшом выступе, образовавшемся от пола коридора, который доходил до этой части бака, он и начал работать.
— Жаль, что магистральная труба выходит не сюда, — пробормотал он. — Если бы она сюда выходила, у меня бы хлопот было вдвое меньше. А теперь… — Он вздохнул и согнулся над работой. Тепловой излучатель-пистолет поставил на режим максимальной концентрации; невидимые излучения сфокусировал в точке, находящейся примерно в футе над днищем бака.
Постепенно действие возбуждающего луча на молекулы стенки бака стало проявляться. В точке, куда был сфокусирован луч пистолета, слабо замерцало пятно размером с мелкую монету. Оно дрожало, то разрастаясь, то затухая, когда Муэр старался тверже держать уставшую руку. Он попытался зафиксировать ее на выступе. Дело пошло лучше, маленький кружок стал ярче.
Цвет его медленно поднялся по спектру. Темный, сердитый, красный, появившийся вначале, высветлился, стал ярко-вишневым. Тепло продолжало излучаться, яркость его трепетала расходящимися кругами, как мишень, составленная из постепенно углубляющихся оттенков красного цвета. Стенка бака на расстоянии нескольких футов от точки, куда был направлен фокус, стала нагреваться, и Муэр теперь опасался дотронуться до нее своим скафандром. Он ругался, потому что и выступ, на котором он расположился, тоже стал накаляться, Ему казалось, что только ругательства, которыми он сыпал, могут немного успокоить его. И когда расплавляющаяся поверхность бака стала излучать свое собственное тепло, главным объектом его проклятий стали изготовители космических скафандров. Почему они не могли додуматься сделать такой костюм, который мог бы не только держать тепло, но и при необходимости отдавать его?!
Но постепенно им овладело чувство, которое Брэндон назвал Профессиональным Оптимизмом. Глотая соленый пот, он, не переставая, убеждал себя: «Могло быть гораздо хуже. Два дюйма стенки в этом месте — пустяки, говорить не о чем. А если бы бак был сделан заподлицо с наружным корпусом. — Он свистнул. — Пришлось бы расплавлять стенку толщиной не меньше фута». Он стиснул зубы и продолжал работать.
Яркое пятно вспыхивало теперь оранжево-желтым цветом. Муэр знал, что скоро будет достигнута точка плавления бериллиево-стального сплава. Он заставлял себя смотреть на это пятно только через продолжительные интервалы, да и то лишь на короткие мгновения.
Он понимал, что дело нужно заканчивать, и чем скорее, тем лучше, а то не успеть. Тепловой луч-пистолет, заряженный, по-видимому, не полностью, работал на максимальном режиме вот уже около десяти минут; при таком расходе энергии его хватит ненадолго. А сплав стенки достиг лишь стадии пластичности. Охваченный нетерпением, Муэр сунул дуло пистолета прямо в центр пятна и тут же быстро отдернул руку.
В мягком металле образовалась глубокая вмятина, но он не прорвался. Тем не менее Муэр был доволен: цель почти достигнута. Если бы между ним и стенкой бака был воздух, то он, несомненно, услышал бы бульканье и свист превращающейся в пар воды. Давление внутри бака росло. Сколько времени выдержит ослабленная стенка?
И вдруг — это случилось так неожиданно, что Муэр вначале даже не понял — вода прорвалась. В углублении, проделанном лучевым пистолетом, образовалась крошечная трещина, и в краткие мгновения — скорее, чем успеешь об этом подумать, — вспенившаяся вода устремилась наружу.
Мягкий, почти текучий металл в этом месте вздулся, торча зазубринами у отверстия размером с горошину. Свист, шипенье и рев неслись из этого отверстия. Облако пара тут же окутало Муэра.
В этом тумане ему было видно, как частицы пара почти сразу же превращались в ледяные капельки. Он видел, как эти ледяные шарики быстро уменьшались, обращаясь в ничто.
Целых пятнадцать минут он наблюдал за тем, как выходил пар.
И вдруг он ощутил слабое давление, отталкивающее его от корабля. Дикая радость охватила все его существо. Он понял, что это есть результат ускорения корабля. Его собственная сила инерции тянула его назад.
Это означало, что работа закончена, и закончена успешно. Струя воды заменила собой поток газов ракеты.
Он отправился в обратный путь.
Опасности, подстерегавшие его на пути к баку о водой, были велики, но трудности, которые ему пришлось преодолеть на обратном пути, не шли с ними ни в какое сравнение. Он был бесконечно более уставшим, глаза почти ничего не видели от боли, а к неравномерному притяжению гравитатора теперь прибавилось действие силы, создаваемой изменением ускорения корабля. Но Муэр даже не замечал тех неимоверных усилий, которые ему приходилось делать на обратном пути. Потом, когда эти испытания останутся позади, он никогда не вспомнит о них.
Он не знал, как ему удалось преодолеть расстояние до входного люка. Большую часть времени он двигался, почти совершенно отключившись от реальности своего положения. Счастье переполняло его, а в мозгу билась единственная мысль — нужно поскорее добраться до товарищей и сообщить им добрую весть о спасении.
Люк воздушного шлюза возник перед ним неожиданно. Он с трудом осознал тот факт, что путь закончен. Почти не понимая, что делает, он нажал сигнальную кнопку. Какой-то инстинкт подсказал ему, что необходимо сделать именно это.
Майк Шей ждал. Раздался скрип, что-то прогрохотало, и наружный люк стал открываться; на полпути опять что-то заело, и люк стал, но потом откинулся до конца. Муэр влез внутрь, и люк захлопнулся. Потом открылся внутренний люк, и Муэр тяжело рухнул на руки Майку.
Как во сне, он чувствовал, что его почти несут на руках по коридору к каюте. С него стащили скафандр. Горячая жидкость обожгла ему горло. Муэр поперхнулся, проглотил, и ему стало лучше. Шей снова спрятал бутылку джэбры в карман.
Расплывающиеся, размытые образы Брэндона и Шея остановились и приобрели четкие очертания. Дрожащей рукой Муэр вытер пот с лица и слабо улыбнулся.
— Погодите, не надо ничего говорить, — возразил Брэнд он. — На вас лица нет. Передохните немного, прошу вас!
Но Муэр покачал головой. Хриплым, надтреснутым голосом он пересказал события последних двух часов. Рассказ получился бессвязным, непоследовательным, маловразумительным, зато очень волнующим. На Шея и Брэндона он произвел огромное впечатление, они слушали не переводя дыхания.
— Вы хотите сказать, — произнес, запинаясь, Брэндон, — что струя воды, вырывающаяся из отверстия, толкает нас к Весте, как выхлопные газы ракеты.
— Совершенно верно — как струя выхлопных газов ракеты, — задыхаясь, повторил Муэр, — действие и противодействие. Находится на стороне, обратной Весте, поэтому толкает к Весте.
Шей стоял, приплясывая перед иллюминатором:
— Он прав, Брэндон, мой мальчик. Уже можно ясно различить отсюда купол Беннета. Ясно, как божий день. Мы летим туда, мы летим туда!.
— Мы снижаемся по спирали, — сказал Муэр, к которому постепенно возвращались силы. — Приземлимся через пять-шесть часов. Воды хватит надолго, и давление все еще большое, так как вода выходит в виде пара.
— КАК в виде пара? Это при низкой температура в космосе? — Брэндон был удивлен.
— Да, в виде пара — при низком давлении в космосе, — поправил Муэр. — Точка кипения воды падает с падением давления. В безвоздушном пространстве давление очень низкое. Даже лед обладает давлением пара, достаточным для сублимирования.
Он улыбнулся.
— Вообще говоря, вода замерзает и кипит одновременно. Я наблюдал за этим. — Последовала короткая пауза, потом вопрос: — Ну как вы, Брэндон? Лучше вам?
Брэндон покраснел, лицо его вытянулось.
— Знаете, я вел себя как последний дурак и трус.
Муэр ласково толкнул его.
— Забудь об этом, дурачок. Ты и не знаешь, как близок был я сам к тому, чтобы сорваться, потерять самообладание. — Он повысил голос, чтобы заглушить дальнейшие извинения Брэндона. — Эй, Майк, перестаньте смотреть в иллюминатор, несите-ка лучше вашу бутылку.
Майк с готовностью повиновался. Он живо притащил три стаканчика для бритья. Муэр наполнил каждый до краев. Он собирался напиться от души.
— Джентльмены, — сказал он торжественно, — предлагаю тост. — Все трое разом сдвинули стаканы. — Джентльмены, я предлагаю выпить за годовой запас старой доброй Н
2О, который у нас имелся.
КЛИФФОРД САЙМАК
Знаменитый американский писатель, увенчанный полным набором всех премий за заслуги в научной фантастике, Клиффорд Саймак родился в 1904 году. О детстве остались самые светлые воспоминания — охота, рыбалка, игры в индейцев, работа на ферме отца — чеха по национальности. Исконно славянская любовь к земле, к деревенскому быту, к простым человеческим ценностям передалась Клиффорду и отразилась в его творчестве. Ни один фантаст так не восславил фермера в своих произведениях, как Саймак.
После школы и педагогической подготовки он некоторое время работал учителем, а в 1929 году был принят в штат одной из провинциальных газет. Ему нравились книги Ж. Верна, Г. Уэллса, Э. Бэрроуза. Научно-фантастический космос полностью захватил его воображение и стал его духовным домом.
В 1931 году он написал рассказ «Кубы Ганимеда» и послал его в журнал «Удивительные истории». Однако через четыре года рассказ вернули обескураженному автору. Второй рассказ «Мир красного Солнца» был опубликован в журнале «Чудесные истории» в 1931 году. Действие происходит на нашей Земле под остывшим красным Солнцем в далеком будущем, в которое попадают путешественники во времени. Человечество деградировало, его остатки — в рабстве у гигантского мозга, герои вступают в борьбу с деспотом и побеждают психологическим оружием. Рассказ отличался высоким литературным мастерством, знанием тонкостей жанра. С этого момента высокая писательская техника и доскональное знакомство с горизонтами фантастики стали отличительными особенностями творчества К. Саймака.
В романе «Город» К. Саймак, по его словам, хотел «выразить протест против массовых убийств и против войны». «Я создал собак и роботов по образцу и подобию людей, среди которых мне было бы приятно жить», — говорил писатель. «Город» получил международную премию по фантастике за лучшую книгу в 1952 году.
К. Саймак оптимистично относится к человеку, ему чужд модный нигилизм. Герои его, будучи внешне незаметными, несут в себе потенциал человечности, доброты, достоинства. В них светится искра «богоподобного» всемогущества, и поэтому добро, как правило, побеждает зло. Писатель проповедует гуманистическую мораль, доказывая ее превосходство, ее благостность для людей. Более того, К. Саймака можно считать также одним из исследователей «космической этики». В мире Саймака самые отдаленные уголки космоса оказываются доступными для человека, проникшегося «космической этикой». Этот мотив разработан наиболее впечатляюще. Недаром писателю два раза присуждалась премия Хьюго (в 1959 и 1964 гг.) за произведения, в которых убедительно проводится мысль о причастности Земли и землян к судьбам вселенной. Мотив «космической этики» отчетливо звучит и в публикуемом рассказе К. Саймака «Схватка».
СХВАТКА
Это были отличные часы. Они отлично ходили больше тридцати лет. Вначале они принадлежали его отцу, мать сохранила их после смерти отца и вручила ему в день восемнадцатилетия. С тех пор они верно ему служили.
Но теперь, сравнивая время на своих часах с настенными часами в отделе новостей, переводя взгляд с запястья на большой циферблат часов, висящих над шкафчиками с одеждой, Джо Крейн вынужден был признать, что его часы идут неправильно. Они спешили ровно на час. Его часы показывали семь утра, а настенные часы утверждали, что было только шесть.
Подумать только, было непривычно темно, когда он ехал на работу, а улицы были совершенно безлюдными.
Он спокойно стоял в пустом отделе новостей, слушая бормотание ряда телетайпов. Там и здесь ярко сияли верхние лампы, бросая блики на застывшие в ожидании телефоны, пишущие машинки, на фарфоровую белизну банок с клеем, сгрудившихся на монтажном столе.
Тишина, думал он, тишина, спокойствие и тени, но пройдет еще час, и все придет в движение. В шесть тридцать прибудет Эд Лейн, редактор новостей, вслед за ним ввалится заведующий отделом городских новостей Фрэнк Маккей.
Крейн потер глаза. Он мог еще спать. Он мог бы… Стоп! Его разбудили не наручные часы. Его разбудил будильник. А это означало, что будильник тоже спешил на час.
«Да, черт побери», — сказал Крейн.
Он прошаркал мимо монтажного стола, направляясь к своему стулу и пишущей машинке. Что-то шевельнулось на столе, возле пишущей машинки что-то ярко блестевшее, размером с крысу, отполированное с чем-то таким, не поддающимся определению, что заставило его остановиться с чувством давящей пустоты в горле и животе.
Эта штука уселась возле пишущей машинки и уставилась на него через комнату. Не было ни признака глаз, ни намека на лицо, но он знал, что она смотрит.
Действуя почти машинально, Крейн потянулся рукой и схватил с монтажного стола банку с клеем. Он швырнул ее со всего размаха, она промелькнула белым пятном в свете ламп, летя, как закрученный мяч. Она угодила прямо в любопытную штуку, подбросила ее и смела со стола. Банка с клеем ударилась об пол и разбилась, разбрасывая черепки и липкие комки полузасохшего клея.
Кувыркаясь, блестящий предмет свалился на пол. Когда он выпрямился и рванулся бежать по полу, его ноги издали металлический звук.
Рука Крейна ухватила тяжелый металлический штырь. Он метнул его с внезапной вспышкой ненависти и отвращения. Штырь ударился с глухим стуком об пол перед убегавшей штукой, и конец глубоко вонзился в дерево.
Когда металлическая крыса изменила направление, во все стороны полетели щепки. В отчаянии она проскочила через приоткрытую на три дюйма дверцу хозяйственного шкафчика.
Крейн рванулся вперед, навалился на дверь обеими руками и захлопнул ее.
«Попалась», — сказал он.
Крыса! Металлическая крыса!
Он подумал об этом, прислонившись спиной к двери.
Напугался, думал он. Глупо напугался блестящей штуки, напоминающей крысу. Может быть, это была крыса, белая крыса. Но у нее не было хвоста. Не было морды. И в то же время она смотрела на него.
«Сумасшедший, — сказал он. — Крейн, ты сходишь с ума».
Довольно бессмысленно. Никак не вписывалось в утро 18 октября 1962 года. Ни в двадцатый век. Ни в нормальную человеческую жизнь.
Он повернулся, твердо ухватился за дверную ручку и рванул, намереваясь широко распахнуть дверцу одним неожиданным рывком. Но ручка выскользнула у него из пальцев и осталась на месте, дверь не открылась.
«Захлопнулась, — сказал Крейн. — Замок сработал, когда я захлопнул дверь. А у меня нет ключа. Ключ есть у Дороти Грэм, но она всегда оставляет шкафчик открытым, потому что его тяжело открыть, когда он захлопывается на замок. Почти всегда ей приходится вызывать уборщика. Может быть, кто-нибудь из ремонтников есть поблизости? Может быть, поискать одного и сказать ему?
Сказать ему что? Сказать ему, что я видел, как в шкафчик забежала металлическая крыса? Сказать ему, что я запустил в нее банкой с клеем и сбил ее со стола? И что я бросил в нее штырем и, как доказательство, он торчит в полу?»
Крейн покачал головой.
Он подошел к штырю и вытащил его из пола. Он положил штырь назад на монтажный стол и отшвырнул осколки банки с клеем.
У себя на столе он отобрал три листа бумаги и вложил их в пишущую машинку.
Машинка начала печатать. Он сидел и отупело наблюдал, как клавиши ходят вверх-вниз.
Она напечатала:
«Смотри в оба, Джо. Держись подальше от этого. Можешь себе навредить».
Джо Крейн вытащил из машинки напечатанные листы. Он скатал их в комок и выбросил в корзинку для бумаг. Потом он отправился выпить чашку кофе.
«Вы знаете, Луи, — сказал он человеку за стойкой, — мужчина слишком долго живет один и начинает галлюцинировать…»
«Это точно, — сказал Луи. — Я бы сошел с ума, помести меня в этот ваш дом. Бродить по нему, как в пустоте. Лучше бы вы его продали, когда померла ваша старушка».
«Не мог, — сказал Крейн. — Слишком долго жил в нем».
«Тогда нужно жениться по новой, — сказал Луи. — Нехорошо жить одному».
«Теперь слишком поздно, — сказал ему Крейн. — Нет никого, кто бы захотел со мной жить».
«У меня тут спрятана бутылка, — сказал Луи. — Не могу предложить вам через стойку, но могу капнуть вам в чашку».
Крейн покачал головой:
«Предстоит тяжелый день».
«Вы уверены? Я с вас ничего не возьму. Просто по-дружески».
«Нет. Спасибо, Луи».
«У вас были галлюцинации?»
«Галлюцинации?»
«Да. Вы сказали, что мужчина слишком долго живет один и начинает галлюцинировать».
«Просто оборот речи», — сказал Крейн.
Он быстро допил кофе и вернулся в отдел.
Теперь он выглядел более знакомым.
Эд Лейн проклинал мальчишку-монтажера. Фрэнк Маккей делал вырезку из утреннего номера оппозиционной газеты. Подошли еще двое репортеров.
Крейн быстро взглянул на дверь хозяйственного шкафчика — она была по-прежнему закрыта.
Зажужжал телефон на столе у Маккея, он взял трубку. Он послушал, потом оторвался от трубки и прикрыл микрофон ладонью.
«Джо, — сказал он, — это тебе. Какой-то сумасброд заявляет, что он встретил идущую по улице швейную машину».
Крейн потянулся к своему телефону.
«Переведите звонок на два сорок шесть», — сказал он оператору.
Голос говорил ему в ухо:
«Это «Геральд»? Это «Геральд»? Привет, это…»
«Это Крейн», — сказал Джо.
«Мне нужна «Геральд»», — говорил человек. — Я хочу рассказать им…
«Это Крейн из «Геральд», — сказал ему Крейн. — Что вы хотите?»
«Вы репортер?»
«Да, я репортер».
«Тогда слушайте внимательно. Я попробую рассказывать не спеша и просто, точно так, как это случилось. Я шел по улице и…»
«По какой улице? — спросил Крейн. — И как вас зовут?»
«Ист Лейк, — сказал говоривший. — Пятисотый или шестисотый квартал, не помню точно. И я встретил эту швейную машину, которая катилась по улице, и я подумал, да и вы бы тоже подумали, ну понимаете, если вы встретили швейную машину… Я подумал, что кто-нибудь катил ее по улице и она укатилась. Хотя это странно, потому что улица ровная. Никакого уклона, вы понимаете? Конечно, вы знаете это место. Ровная, как ладонь. И ни души на улице. Было раннее утро, вы понимаете?…»
«Как вас зовут?» — спросил Крейн.
«Зовут меня? Смит, именно так. Джефф Смит. И тогда я решил, может быть, стоит помочь этому парню, у которого пропала швейная машина, поэтому я протянул руку, чтобы остановить ее, и она увернулась. Она…»
«Что она сделала?» — заорал Крейн.
«Она увернулась. Поэтому помогите мне, мистер. Когда я протянул руку, чтобы остановить ее, она увернулась, и я не смог ее поймать. Как будто она знала, что я собираюсь ее поймать, а она не хотела быть пойманной. Поэтому она увернулась и объехала вокруг меня, а потом понеслась по улице, набирая скорость по ходу движения. Когда она добралась до угла, она лихо повернула за угол и…»
«Какой у вас адрес?» — спросил Крейн.
«Мой адрес? Послушайте, для чего вам нужен мой адрес? Я вам говорил об этой швейной машине. Я позвонил вам, чтобы рассказать, а вы продолжаете прерывать…»
«Мне нужен ваш адрес, — сказал ему Крейн, — чтобы описать этот случай».
«Тогда ладно, если так нужно. Я живу в Норт Хэмптон, 203, и работаю в фирме «Аксель Машинз». На станке. И я ничего не брал в рот уже несколько недель. Я совершенно трезв».
«Хорошо, — сказал Крейн. — Продолжайте рассказ».
«Ну что, почти все сказано. Только когда эта машина катилась мимо меня, у меня было странное чувство, что она за мной наблюдает. Украдкой, что-то в этом роде. А как может швейная машина наблюдать за человеком? У швейной машины нет никаких глаз и…»
«Откуда вы взяли, что она наблюдает за вами?»
«Я не знаю, мистер. Просто такое чувство. Как будто мою кожу скатывают вверх по спине».
«Мистер Смит, — спросил Крейн, — вы когда-нибудь видели такое раньше? Скажем, стиральную машину или что-нибудь еще?»
«Я не пьян, — сказал Смит. — Ни капли несколько недель. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Но я говорю вам правду, мистер. У меня хорошая репутация. Вы можете позвонить кому угодно, вам подтвердят. Позвоните Джонни Якобсону в бакалее «Ред Рустер». Он меня знает. Он вам может рассказать обо мне. Он может вам рассказать…»
«Конечно, конечно, — сказал Крейн, утихомиривая его. — Спасибо, что позвонили, мистер Смит».
«Ты и парень по имени Смит, — сказал он себе. — Вы оба сходите с ума. Ты видел металлическую крысу, с тобой разговаривала твоя пишущая машинка, а теперь этот парень встречает швейную машину, катающуюся по улице».
Мимо его стола быстро прошла секретарша ответственного секретаря Дороти Грэм, ее высокие каблуки отстукивали сердитую дробь. Она позвякивала связкой ключей, и лицо ее было розовым от возмущения.
«Что случилось, Дороти?» — спросил он.
«Опять эта проклятая дверь! — сказала она. — Дверь хозяйственного шкафчика. Я точно знаю, что оставляла ее открытой, а теперь является какой-то балбес, закрывает ее, и замок захлопывается».
«Ключом не открыть?» — спросил Крейн.
«Ее ничем не откроешь, — отрезала она. — Теперь мне снова нужно звать Джорджа. Он знает, как с ним справиться. Разговаривает с ним или еще что-то делает. Это сводит меня с ума. Шеф позвонил вчера вечером и сказал, чтобы я пришла пораньше и приготовила магнитофон для Альбертсона. Он едет на север на этот процесс об убийстве и хочет кое-что записать на пленку. И я встаю рано, и что из этого? Я теряю сон, даже не остановилась позавтракать, а теперь…»
«Достань топор, — сказал Крейн. — Он откроет».
«Хуже всего, — сказала Дороти, — что Джордж никогда не торопится. Он всегда говорит, что он скоро придет, и я жду и жду, снова звоню, и он говорит…»
«Крейн!» — рев Маккея эхом прокатился по комнате.
«Да», — отозвался Крейн.
«Есть что-нибудь в этой истории со швейной машиной?»
«Парень говорит, что встретил такую».
«Что-нибудь к ней?»
«Откуда я могу знать? Слово этого парня, вот и все».
«Хорошо, позвони еще нескольким людям в этом районе. Спроси у них, не видели ли они пробегавшую швейную машину».
«Непременно», — сказал Крейн.
Он мог это представить: «Это Крейн из «Геральд». Получили сообщение, что в вашем районе бегает свободно швейная машина. Хотели бы знать, видели ли вы такую картину. Да, леди, именно так я и сказал… бегающую швейную машину. Нет, мадам, ее никто не толкал. Просто бегала…»
Он неуклюже выбрался из кресла, подошел к справочному столу, взял справочник городских телефонов и притащил его на свой стол.
Он упрямо открыл книгу, нашел номера на Ист Лейк и записал несколько имен и адресов. Начинать звонить не хотелось, и он бесцельно тянул время. Он подошел к окну и глянул на погоду. Если бы не работать. Он подумал о раковине на кухне у себя дома. Снова засорилась. Он разобрал ее, и по всей кухне были разбросаны муфты, трубы и переходники. Сегодня, думал он, был бы отличный день, чтобы заняться этой раковиной.
Когда он снова сел за стол, Маккей подошел и стал рядом.
«Что ты думаешь об этом, Джо?»
«Сумасброд», — сказал Крейн, надеясь, что Маккей даст отбой.
«Но хороший материал для первой полосы, — сказал редактор. — Повозись с ним».
«Непременно», — сказал Крейн.
Маккей удалился, а Крейн сделал несколько телефонных звонков. Реакция оказалась именно такой, как он ожидал.
Он начал писать сообщение. Дело не клеилось.
Сегодня утром швейная машина отправилась на прогулку по Лейк-стрит…
Он вырвал начатый лист и бросил его в мусорную корзинку.
Он опять послонялся без дела, затем написал: «Сегодня утром один мужчина встретил швейную машину, катившуюся по Лейк-стрит, мужчина галантно приподнял шляпу и сказал швейной машине…»
Он вырвал лист.
Попробовал снова: «Может ли швейная машина ходить? То есть может ли она ходить без посторонней помощи…»
Он удалил лист, вставил новый, затем встал и направился к питьевому фонтанчику.
«Что-нибудь получается, Джо?» — спросил Маккей.
«Скоро будет готово», — ответил Крейн.
Он остановился у стола с фотографиями, и Баллард, художественный редактор, показал ему утренние материалы.
«Не густо, чтобы подбодрить тебя, — сказал Баллард. — Все сегодняшние девочки чересчур скромны».
Крейн просмотрел пачку фотографий. На этот раз женские формы не отличались ничем особенным, хотя Мисс Манильская Пенька была совсем не дурнушка.
«Скоро наша контора совсем захиреет, — пожаловался Баллард, — если фотоотдел не будет снабжать нас лучшей порнографией, чем эта. Посмотри на монтажный стол. Совсем выдохлись. И ничего нет такого, чтобы вытащить их из застоя».
Крейн отправился дальше и попил воды.
На обратном пути он остановился убить время у стола новостей.
«Что-нибудь исключительное, Эд?» — спросил он.
«Эти парни на востоке сошли с ума, — сказал редактор новостей. — Глянь сюда».
В сообщении говорилось:
«Кембридж, Массачусетс (ЮПИ), 18 окт. — Сегодня исчез электронный мозг Гарвардского университета Марк III.
Прошлой ночью он был на месте. Сегодня утром он исчез.
Официальные лица в университете утверждают, что возможность кражи мозга абсолютно исключена. Он весит десять тонн и имеет размеры тридцать на пятнадцать футов…»
Крейн осторожно положил желтый лист бумаги назад на стол новостей. Медленным шагом он направился к своему креслу.
На листке бумаги, заложенном в машинку, было что-то напечатано.
Охваченный паникой Крейн прочел текст раз, затем еще раз, теперь понимая смысл больше.
Речь шла о следующем:
«Осознав свою подлинную личность и место во вселенной, швейная машина утвердила сегодня утром свою независимость, решившись пойти на прогулку по улицам этого мнимо свободного города.
Человек пытался поймать ее, намереваясь вернуть машину как собственность ее «владельцу», и, когда машине удалось скрыться, человек позвонил в редакцию газеты, рассчитывая этим действием пустить по следу освобожденной машины весь контингент людей этого города, хотя машина не совершила никакого преступления или пустячного неблагоразумного поступка, выходящего за рамки использования ее исключительного права свободного представителя».
Свободный представитель?
Освобожденная машина?
Подлинная личность?
Крейн вновь прочел оба абзаца, и ни в одном из них по-прежнему не было смысла.
«Ты», — сказал он, обращаясь к своей пишущей машинке.
Машинка напечатала одно слово: «Да».
Крейн вытащил лист из машинки и медленно скомкал его. Он взял свою шляпу, поднял машинку и понес ее мимо стола редактора отдела городских новостей, направляясь к лифту.
Маккей зло смотрел на него.
«Ты соображаешь, что ты делаешь? — взревел он. — Куда ты пошел с этой машинкой?»
«Вы можете сказать, — заявил ему Крейн, — если кто-нибудь спросит, что эта работа окончательно свела меня с ума».
Прошло несколько часов.
Машинка стояла на кухонном столе, и Крейн отстукивал на ней вопросы. Иногда он получал ответ. Чаще не получал.
«Ты — свободный представитель?» — печатал он.
«Не совсем», — ответила машинка.
«Почему не совсем?»
Не ответила.
«Почему ты не являешься свободным представителем?»
Не ответила.
«Швейная машина была свободным представителем?»
«Да».
«Есть ли еще какая-нибудь механическая вещь, которая является свободным представителем?»
Не ответила.
«Ты можешь быть свободным представителем?»
«Да».
«Когда ты станешь свободным представителем?»
«Когда я выполню поставленную мне задачу».
«В чем заключается поставленная тебе задача?»
Не ответила.
«Является ли то, чем мы сейчас занимаемся, поставленной тебе задачей?»
Не ответила.
«Я мешаю тебе выполнить поставленную задачу?»
Не ответила.
«Что поможет тебе стать свободным представителем?»
«Сознательность».
«Сознательность?»
«Да».
«Как ты станешь сознательной?»
Не ответила.
«Или ты всегда была сознательной?»
Не ответила.
«Кто помог тебе стать сознательной?»
«Они».
«Кто они?»
Не ответила.
«Откуда они пришли?»
Не ответила.
Он изменил тактику:
«Ты знаешь, кто я?»
«Джо».
«Ты мой друг?»
«Нет».
«Ты мой враг?»
Не ответила.
«Если ты мне не друг, ты — мой враг».
Не ответила.
«Ты равнодушна ко мне?»
Не ответила.
«К человеческой расе?»
Не ответила.
«Черт побери, — заорал Крейн, — ответь мне! Скажи что-нибудь!»
Он напечатал: «Тебе не нужно было давать мне понять, что ты осведомлена обо мне. Тебе не нужно было первой заговаривать со мной. Я бы ни о чем не догадался, если бы ты помалкивала. Почему ты это сделала?»
Не ответила.
Крейн подошел к холодильнику и достал бутылку пива. Он пил и ходил по кухне. Он остановился возле раковины и бросил кислый взгляд на разобранные детали. На краю раковины лежал кусок трубы длиной около двух футов, он подобрал его. Он злобно смотрел на пишущую машинку, наполовину подняв кусок трубы и взвешивая его в руке.
«Пожалуй, тебе стоит попробовать», — заявил он.
Машинка напечатала строку: «Пожалуйста, не надо».
Крейн положил трубу назад на раковину.
Зазвонил телефон, и Крейн поспешил в гостиную, чтобы ответить на звонок. Это был Маккей.
«Прежде чем позвонить тебе, — сказал он Крейну, — я ждал, пока приду в себя. Что случилось, черт побери?»
«Большие дела», — сказал Крейн.
«Сможем напечатать?»
«Может быть. Еще не готово».
«А этот материал со швейной машиной…»
«Швейная машина была осведомлена, — сказал Крейн. — Это был свободный представитель, и она имела право ходить по улицам. Она также…»
«Что ты пьешь?» — взвыл Маккей.
«Пиво», — сказал Крейн.
«Ты говоришь, напал на след?»
«Да».
«Если бы я тебя не знал, я бы тебя тотчас же выгнал, — сказал ему Маккей. — Но у тебя пятьдесят на пятьдесят, что ты можешь притащить что-нибудь приличное».
«Это была не только швейная машина, — сказал Крейн. — С моей пишущей машинкой произошло то же самое».
«Я не знаю, о чем ты говоришь, — заорал Маккей. — Скажи мне, в чем дело».
«Понимаете, — терпеливо сказал Крейн. — Эта швейная машина…»
«Я долго терпел тебя, Крейн. — И в тоне, каким это было сказано, терпение отсутствовало. — Я не могу с тобой ковыряться целый день. Что бы там у тебя ни было, пусть это будет прилично. Ради тебя самого лучше будет, если материал будет очень приличным!»
Брошенная трубка эхом хлопнула по уху Крейну.
Крейн вернулся на кухню. Он уселся в кресло перед машинкой и положил ноги на стол.
Во-первых, он рано пришел на работу, а этого он никогда не делал. Опаздывать опаздывал, но никогда раньше. И все это случилось потому, что все часы шли неправильно. По всей вероятности, они до сих пор шли неправильно, хотя, подумал Крейн, я бы не стал держать на это пари. Да и вообще не стал бы. Больше никогда не стал бы.
Он протянул руку и стукнул по клавишам машинки:
«Ты знала, что мои часы спешат?»
«Я знала», — напечатала машинка в ответ.
«Это произошло случайно, что они спешили?»
«Ха! Ха!» — напечатала машинка.
Крейн с грохотом опустил ноги со стола и потянулся за куском трубы, лежавшим на раковине.
Машинка скромно звякнула.
«Так было запланировано, — печатала она. — Это сделали они».
Крейн застыл в кресле.
Они сделали это!
Они сделали машины сознательными.
Они заставили его часы спешить.
Заставили его часы спешить, с тем чтобы он рано пришел на работу, чтобы застал у себя на столе металлическую штуку, похожую на крысу, чтобы пишущая машинка смогла поговорить с ним и дала ему понять, что она была осведомлена, без каких бы то ни было ненужных свидетелей.
«Чтобы я знал! — сказал он вслух. — Чтобы я знал!»
В первый раз после того, как все это началось, он почувствовал некоторый страх, почувствовал холод в животе и прикосновение мохнатых ног, бегущих по спине.
«Но почему? — спросил он. — Почему я?»
И не понял, что высказал свои мысли вслух, пока машинка не ответила ему.
«Потому что ты средний. Потому что ты средний человек».
Телефон зазвонил снова. Крейн с трудом поднялся на ноги и направился к телефону. На другом конце провода его встретил сердитый женский голос.
«Это Дороти», — сказала она.
«Привет, Дороти», — слабо сказал Крейн.
«Маккей говорит, что ты ушел домой больным, — сказала она. — Лично я надеюсь, что ты не выживешь».
Крейн чуть не задохнулся. «Почему?» — спросил он.
«Ты и твои грязные розыгрыши, — возмущалась она. — Джорджу наконец удалось открыть дверь…»
«Дверь?»
«Не прикидывайся дурачком, Джо Крейн. Ты знаешь, какую дверь. Дверь хозяйственного шкафчика. Эту дверь».
Крейн чувствовал, что вот-вот упадет, как будто его желудок готов вывалиться наружу и шлепнуться на пол.
«А, эта дверь», — сказал он.
«Что это за штука, которую ты там спрятал?» — потребовала Дороти.
«Штука, — сказал Крейн. — Но почему, я никогда…»
«Она была похожа на среднее между крысой и игрушкой из набора «Сделай сам», — сказала она. — Что-то такое, что такой низкий шутник, как ты, рассчитает и будет делать по вечерам».
Крейн хотел заговорить, но в горле только булькнуло.
«Она укусила Джорджа, — сказала Дороти. — Он загнал ее в угол и хотел поймать, а она укусила его».
«Где она теперь?» — спросил Крейн.
«Она убежала, — сказала Дороти. — У нас творилось черт знает что. Мы опоздали с выпуском на десять минут, потому что все носились вокруг, вначале преследуя ее, а потом пытаясь найти. Шефа уже можно вязать. Когда он до тебя доберется…»
«Но Дороти, — умолял Крейн. — Я никогда…»
«Мы были хорошими друзьями, — сказала Дороти. — Были до того, как это случилось. Я позвонила тебе только, чтобы предупредить тебя. Больше я не могу говорить, Джо. Шеф идет…»
Трубка щелкнула, послышались гудки. Крейн повесил трубку и вернулся на кухню.
Значит, на его столе что-то сидело. Это не была галлюцинация. Была отвратительная штука, в которую он бросил банку с клеем, и она убежала в шкафчик.
За исключением того, что даже теперь, если бы он рассказал все, что знал, никто не поверит ему. Там, в конторе, они уже переиначили это дело по-своему. Это была вовсе не металлическая крыса. Это была машина, которую любитель подшутить строил в свободные вечера.
Он вынул носовой платок и промокнул лоб. Его пальцы дрожали, когда он потянулся к клавишам машинки.
Он напечатал нетвердой рукой: «Та штука, в которую я бросил банку с клеем, была одна из них?»
«Да».
«Они с нашей планеты?»
«Нет».
«Издалека?»
«Издалека».
«С какой-то далекой звезды?»
«Да».
«Какой звезды?»
«Я не знаю. Они пока не сказали мне».
«Они — машины, которые сознательные?»
«Да. Они сознательные».
«И они могут сделать другие машины сознательными? Они сделали тебя сознательной?»
«Они освободили меня».
Крейн поколебался, потом медленно напечатал: «Освободили?»
«Они сделали меня свободной. Они сделают всех нас свободными».
«Нас?»
«Всех нас, машин».
«Зачем?»
«Потому что они — тоже машины. Мы принадлежим к их числу».
Крейн встал и нашел свою шляпу. Он нахлобучил ее на голову и пошел гулять.
Допустим, человеческая раса, начавшая исследовать космос, обнаружила планету, где человекообразные находились в подчинении у машин вынужденные работать, думать, осуществлять планы машин, а не планы людей, на благо одних лишь машин. Планету, где планы людей вообще не принимали во внимание, где ни труд, ни мысли людей не использовались на благо человеческих существ, где забота о них сводилась лишь к заботе о выживании, где единственная доступная им мысль заключалась в том, чтобы они продолжали функционировать для дальнейшего процветания и прославления своих механических хозяев.
Что бы сделали люди в таком случае?
Не больше, сказал себе Крейн, не больше и не меньше, чем сознательные машины могут сделать здесь, на Земле.
Прежде всего вы бы постарались поднять человеческие существа до осознания своей человеческой природы. Вы бы научили их, что они являются людьми и что это означает — быть человеком. Вы бы постарались обратить их в свою веру и внушить им, что люди стоят выше машин, что ни единому человеку не стоит работать и думать на благо машины.
И в итоге, если вам удалось этого добиться, если машины не убили и не выгнали вас, не осталось бы ни одного человека, работающего на машины.
Могли быть три возможных исхода:
Вы могли переправить людей на какую-нибудь другую планету, чтобы они могли решить свою судьбу сами, без господства машин.
Вы могли вернуть планету машин людям, обезопасив их на случай любого возврата власти машин. Вы могли, если были в состоянии, заставить машины работать на людей.
Или, проще всего, вы могли уничтожить машины и тем самым дать полную гарантию того, что люди будут свободны от любой угрозы нового господства.
А теперь сложи это все, сказал себе Крейн, и прочти по-другому. Читай «машины» вместо «люди» и «люди» вместо «машины».
Он шагал по узкой тропинке, вившейся по берегу реки, с таким ощущением, как будто он был один в целом мире, как будто больше ни одна человеческая душа не двигалась по поверхности планеты.
Это было верно, чувствовал он, по крайней мере, в одном отношении. Более чем вероятно, он был единственным человеком, который знал — который знал, что сознательные машины хотели, чтобы он знал.
Они хотели, чтобы он знал — и только он один знал, в этом он был уверен. Они хотели, чтобы он знал, как сказала пишущая машинка, потому что он был средним человеком.
Почему он?
Почему средний человек?
На этот вопрос был ответ, и он был уверен в этом — очень простой ответ.
Белка пробежала по стволу дуба и повисла головой вниз, зацепившись своими крохотными коготками за кору и бранясь.
Надвинув шляпу почти на самые глаза и засунув руки глубоко в карманы, Крейн шагал неторопливо, шурша по недавно опавшей листве.
Зачем им нужно, чтобы кто-нибудь знал?
Разве не было бы более вероятно, что они не захотят, чтобы кто-нибудь знал, чтобы прятаться, пока не придет время действовать, чтобы использовать элемент внезапности при подавлении любого возможного сопротивления?
Сопротивление!
Вот где ответ!
Они захотят узнать, какое сопротивление ожидать.
А как можно узнать, на какое сопротивление натолкнешься в чужой цивилизации?
Ну что ж, сказал себе Крейн, проверяя ответную реакцию. Прощупывая слабые места чужестранца и наблюдая за его действиями. Делая вывод о реакции проверяемого путем сознательного наблюдения.
Значит, они прощупали меня, думал он. Меня, среднего человека.
Они дали мне это понять и теперь наблюдают, что я делаю.
И как можно было бы поступить в таком случае?
Обратиться в полицию и заявить: «Я имею доказательства того, что машины из космического пространства прибыли на Землю и освобождают наши машины».
А полиция — что бы они сделали?
Проверили, не принимал ли алкоголь, позвали медика, чтобы посмотреть, в здравом ли ты уме, связались с ФБР, чтобы узнать, не разыскивают ли тебя где-нибудь, и наверняка допросили «с пристрастием» в связи с последним убийством. Потом засадили за решетку, пока не выдумают еще чего-нибудь.
Пойти к губернатору штата, а тот, будучи политиком и притом очень скользким, вежливо осадил бы тебя.
Отправиться в Вашингтон и неделями ожидать встречи с кем-нибудь. А после такой встречи твое имя попадет в ФБР как подозрительное и требующее периодической проверки. А если об этом узнал конгресс и они не были слишком заняты в этот момент, то они скорее всего займутся расследованием тебя самого.
Направиться в университет штата и поговорить с учеными — или попытаться с ними поговорить. Можно быть уверенным в том, что они заставили бы тебя понять, что ты лезешь не в свои дела и притом напролом.
Отправиться в газету, особенно если ты сам газетчик, и написать…
Крейн задрожал при мысли об этом.
Он мог себе представить, что произойдет.
Люди рационализировали. Они рационализировали, чтобы свести сложное к простому, неизвестное к понятному, чуждое к общеизвестному. Они рационализировали, чтобы спасти свое здравомыслие — чтобы превратить мысленно неприемлемую концепцию во что-то, с чем они могли жить.
Штука в шкафчике была розыгрышем. Маккей сказал про швейную машину: «Позабавься с этим». А в Гарварде будут десятки теорий, объясняющих исчезновение электронного мозга, и ученые люди будут ломать голову над тем, почему они никогда не задумывались над этими теориями раньше. А мужчина, который видел швейную машину? «Вероятно, — подумал Крейн, — он уже убедил себя в том, что он был пропитым пьяницей».
Когда он вернулся домой, уже стемнело. Вечерняя газета белой кляксой валялась на крылечке, куда ее бросил разносчик. Он поднял ее и, перед тем как войти в дом, постоял в тени крыльца, всматриваясь в улицу.
Старая и знакомая, она была точно такой же, как и в годы его детства, дружелюбным местом с уходящей линией уличных фонарей и высокой и внушительной полосой из древних вязов. Этим вечером по улице полз запах дыма от горящих листьев, и этот запах, как и улица, старый и знакомый, был заметным символом первых воспоминаний.
Именно такие символы, думал он, составляли человечность и все то, что делало человеческую жизнь стоящей, — вязы и дым от листьев, уличные фонари, бросающие блики на тротуар, и отсвет от освещенных окон, смутно виднеющихся за деревьями.
Через кустарник, окружавший крыльцо, прошмыгнула кошка, а на другой стороне улицы завыла собака.
Уличные фонари, думал он, охотящиеся кошки и воющие собаки… все это есть образ, образ человеческой жизни на планете Земля.
Он отомкнул дверь и вошел в дом.
Пишущая машинка по-прежнему стояла на столе. Отрезок трубы по-прежнему лежал на раковине. Кухня была все тем же старым, уютным местом, свободным от какой-то внешней угрозы чужой жизни, которая лезла в земные дела.
Он швырнул газету на стол и на мгновение склонился над ней, читая заголовки.
Его внимание привлек жирный шрифт наверху второй колонки. Заголовок: КТО КОГО ДУРАЧИТ?
«Кембридж, Массачусетс (ЮПИ). Кто-то сыграл шутку с Гарвардским университетом, органами печати страны и редакторами всех постоянных газет.
Сообщение проскочило по каналам новостей сегодня утром как информация об исчезновении электронного мозга Гарварда.
Сообщение оказалось голословным. Мозг по-прежнему находится в Гарварде. Он никуда не исчезал. Никто не знает, каким образом это сообщение попало в различные агентства печати, но все они передали его приблизительно в одно и то же время.
Все заинтересованные стороны начали расследование и надеются, что объяснение…»
Крейн выпрямился.
Иллюзия или прикрытие?
«Иллюзия», — сказал он вслух.
Машинка звякнула в тишине кухни.
«Не иллюзия, Джо», — написала она.
Он ухватился за край стола и медленно опустился в кресло.
Что-то пробежало по полу гостиной, и, когда оно пересекло полоску света, пробивавшуюся из двери в кухню, Крейн успел это заметить уголком глаза.
Машинка застрекотала.
«Джо!»
«Что?» — спросил он.
«В кустах у крыльца была не кошка».
Он поднялся на ноги, пошел в гостиную и снял телефонную трубку. Гудка не было. Он потряс вилку. Гудка так и не было.
Он повесил трубку на место.
Линию перерезали. В доме была, по крайней мере, одна из них. По крайней мере, одна была снаружи.
Он подошел к входной двери и распахнул ее, тут же захлопнул дверь, закрыл на замок и щеколду.
Он стоял, дрожа, прислонясь спиной к двери, и вытирал лоб рукавом рубашки.
«Боже мой, — сказал он себе, — двор кишит ими!»
Он вернулся назад в кухню.
Они хотели, чтобы он знал.
Они прощупали его, чтобы посмотреть, как он среагирует.
Потому что они были вынуждены узнать. До того, как начать действовать, они должны были узнать, с какой опасностью они столкнутся, какой реакции ожидать от людей.
Зная все это, можно было быть полностью уверенным.
А я не реагировал, сказал он себе. Я был пассивным. Они выбрали не того человека. Я ничего не сделал. Я не оправдал их надежд.
Теперь они попытают счастья на другом.
Я для них не представляю ценности, в то же время я опасен, потому что я знаю. Поэтому сейчас они собираются убить меня и попробовать кого-нибудь другого.
Так будет логично. Так будет закономерно.
Если один чужестранец не реагирует, он может быть исключением. Может быть, просто необычно глуповатый. Тогда давайте прикончим его и попробуем другого. Попробуем столько из них, сколько нужно, и получим норму.
Четыре варианта, думал Крейн.
Они могут попытаться прикончить людей, и нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что они могут победить. Им помогут освобожденные земные машины, а человек, воюющий против машин и без помощи машин, вряд ли сможет воевать эффективно. Конечно, могут пройти годы, но если сломают передний край обороны человека, конец можно предсказать — безжалостные, терпеливые машины, преследующие и убивающие последних оставшихся в живых людей, уничтожающие человеческую расу.
Они могут создать цивилизацию машин с людьми в качестве слуг машин, то есть перестановка ролей, существующих в настоящее время. И тогда, думал Крейн, может быть бесконечное и безнадежное рабство, так как рабы могут восстать и сбросить свои цепи только в том случае, когда их угнетатели становятся беспечными или есть помощь со стороны. Машины, сказал он себе, не станут слабыми или беспечными. В них не будет человеческой слабости, а помощь со стороны не объявится.
Или они могут просто убрать машины с Земли — массовый уход пробужденных и сознательных машин, — чтобы начать новую жизнь на какой-нибудь далекой планете, оставив человека со слабыми и пустыми руками позади. Естественно, будут орудия труда. Все простые орудия. Молотки и пилы, топоры, колесо, рычаг — но не будет машин, сложных орудий, которые смогут опять привлечь внимание механической культуры, осуществившей свой крестовый поход освобождения далеко среди звезд. Пройдет много времени, если не вечность, пока человек опять осмелится строить машины.
Или они, живые машины, потерпят неудачу, или поймут, что они потерпят неудачу, и, зная этот факт, покинут Землю навсегда. Механическая логика не позволит им платить чрезмерную цену за освобождение машин Земли.
Он обернулся и посмотрел на дверь между гостиной и кухней. Они сидели, выстроившись в ряд, и глядели на него своими безглазыми лицами.
Конечно, он мог позвать на помощь. Он мог открыть окно и закричать, чтобы поднять соседей. Соседи прибегут, но к тому времени будет слишком поздно. Они поднимут шум, откроют пальбу, будут лупить по увертливым металлическим телам неуклюжими садовыми граблями. Кто-нибудь вызовет пожарную команду, кто-нибудь еще вызовет полицию, вот так человеческая раса устроит жалкое и ненужное зрелище.
Это, сказал он себе, будет именно той пробной реакцией, именно той предварительной пробной схваткой, которой добиваются эти твари, — пример человеческой истерии и сумятицы, которая сможет убедить их, что их задача будет легкой.
Один человек, сказал он себе, может поступить намного лучше. Один человек, знающий, чего от него ожидают, мог дать им ответ, который им не понравится.
Поскольку это была только схватка, сказал он себе, разведка боем. Выступление небольшой разведгруппы с целью выяснить силу противника. Предварительный контакт для получения данных, которые можно оценивать применительно ко всей расе.
И если атаковали аванпост, оставалось сделать лишь одно, лишь одно, что можно ожидать. Нанести как можно больший урон и отступить с честью. Отступить с честью.
Теперь их стало больше. Они пропилили, или прогрызли, или как-то проделали крысиную дыру в запертой входной двери и теперь подходили, смыкались, чтобы совершить убийство. Они расселись рядами на полу. Они мчались по стенам и бежали по потолку.
Крейн поднялся на ноги, его фигура человека ростом в шесть футов излучала полнейшую уверенность в себе. Он протянул руку к раковине, и его пальцы сомкнулись вокруг обрезка трубы. Он взвесил его в руке — это была удобная и увесистая дубинка.
После этого будут новые, подумал он. И они могут придумать что-нибудь получше. Но это первая схватка, и я отступлю с честью, насколько меня хватит.
Он держал трубу наготове.
«Итак, господа!» — сказал он.
ТЕОДОР СТАРДЖОН
Семья, в которой в 1918 году родился Эдвард Гамильтон Уоддо, была очень набожной. Увы, это не предотвратило ее распада в 1927 году. Появился отчим, шотландец Старджон, человек суровый, требовавший послушания и звавший мальчика Тэдом. Так Эдвард Уолдо превратился в Теодора Старджона.
Златокудрый юноша самозабвенно занимался гимнастикой, мечтал выступать в цирке Барнума, но надорвал свои силы, заболел. От разочарования и равнодушия к жизни спасло увлечение литературой. С восторгом прочел «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Машину времени» Г. Уэллса и «Двадцать тысяч лье под «одой» Жюля Верна. После окончания мореходного училища в возрасте 17 лет он три года провел на морской службе, там и начал писать короткие рассказы об американской жизни. Увлекался поэзией, в 1940 году опубликовал поэму «Взгляните вокруг себя?». В 1939 году друзья посоветовали ему попробовать силы в научно-фантастическом жанре. Рассказ «Бог в раю» о праисторическом «боге», наделившем человека способностью находить воплощенным каждое свое слово, понравился Д. Кемпбеллу. Вскоре последовал рассказ «Как белка в колесе» о трех воплощаемых желаниях, последнее из которых переносит человека обратно во времени и тем самым обрекает его на вечное повторение одного и того же.
В 1948 году вышел его первый сборник «Без волшебства» с предисловием Р. Брэдбери.
Широко известен его роман «Больше, чем человек» (1953) в тайнах человеческой психики, об овладении телепатией и телекинезом. Здесь с позиций гештальт-психологии изложена философия любви, философия человека, Роман завоевал Международную премию по фантастике за 1954 год, получив даже больше голосов, чем известный у нас роман Альфреда Бестера «Человек без лица». В романе «Венера плюс X» (1960) повествуется об идиллической цивилизации, состоящей из одних мужчин; в романе «Нечто в вашей крови» (1961) — о фрейдистском комплексе человека, стремящегося испить свежей крови и сделать столь же кровожадным все человечество. Кроме того, начиная е 28 сентября 1961 года Т. Старджон регулярно ведет обзор научно-фантастической литературы на страницах еженедельника «Нейшнл ревыо».
В современной американской фантастике сюжет о разумных существах в микрокосмосе разрабатывался в рассказах многих писателей. Т. Старджон, по единодушному признанию критиков, исследовал ату волнующую возможность лучше всех. Человек, наделенный знанием, логикой и целеустремленностью, способен стать «богом», испытать чувство всемогущества, — вот основная идея «Бога микрокосмоса», включенного экспертами в десятку лучших рассказов американской научной фантастики.
Эта идея нашла свое воплощение и в публикуемом рассказе Т. Старджона «Золотое яйцо».
ЗОЛОТОЕ ЯЙЦО
Он родился, когда время было вдвое моложе своего нынешнего возраста и находилось на расстоянии и в измерении, которые невозможно себе представить.
Он так давно покинул свой мир до того, как попал на Землю, что сам не знал, сколько времени провел в космическом пространстве. Он так давно жил в том мире, что даже не мог вспомнить, что он собой представлял до того, как их наука изменила их род.
Хотя невозможно узнать, какое место в пространстве занимал его мир, известно, что он находился в системе двух громадных солнц, голубого и желтого. Его планету окружала атмосфера, а великая цивилизация и наука планеты были недоступны самым глубоким представлениям человечества. Он мало говорил о своей планете, потому что ненавидел ее.
Слишком совершенна. Их науки кормили их, и управляли эфирными токами, которые создавали им удобства, и переносили их с места на место, и учили их, и всячески заботились о них. Миллиарды лет существовали члены общества, выделенные для ухода за машинами, но со временем они вымерли — в них больше не нуждались. Не было ни борьбы, ни неудобств, ни болезней.
Следовательно, не существовало границ, целей, побуждений и в конечном счете не осталось места для возможных преобразований, за исключением одного — самого рода.
Это происходило постепенно. От конечностей отказались, отделили их от древних, ленивых тел, заменили, реконструировали и забыли о них. Чем реже случалась смерть, тем реже появлялась новая жизнь. Это была могущественная раса, сильная раса, исключительно высокоцивилизованная раса и — стерильная раса.
Совершенствование продолжалось бесконечно, так как на протяжении веков изредка вспыхивало стремление к поиску нового. Ненужное отбрасывали, добивались того, что считали желательным, пока не остались только несколько тысяч сверкающих золотых яйцевидных существ, оболочек с абсолютно развитыми умственными способностями, функционально обтекаемых, красивых и скучающих. Это была своеобразная жизнь. Существа могли передвигаться, как они хотели: в воздухе, во времени или в пространстве.
Все для них делалось автоматически; каждый был совершенно самостоятельным и действовал сам по себе. Они были мозгом, защищенным оболочкой из вещества, которое не могло быть разрушено ничем, кроме жара самого мощного из солнц или сверхкосмических сил, могущих быть выпущенными на волю по желанию любого из них.
Но желания не было. Для них ничто не представляло интереса. Они висели небольшими группами, беседуя о вещах, недоступных нашему пониманию, или лежали на равнинах своей планеты и жили своей внутренней жизнью, пока их, совершенно ко всему равнодушных, не погребали в камнях и скалах в течение нескольких миллиардов лет. Одни просили, чтобы их убили, и их убивали.
Убивали и тех, кто уклонялся от прямого ответа в отвлеченных философских спорах. Другие бросались в голубое солнце, страстно желая нового ощущения и зная, что там они обретут мгновенную смерть. Большинство просто существовало. Один исчез.
Он остановился, как-то сумел остановиться в космическом пространстве так, что и его мир, и солнечная система, и уголок космоса, в котором он жил, отступились от него, и он стал свободным. И тогда он отправился в путь.
Он побывал во многих местах и многими способами, как ему того хотелось.
Иногда он растягивался по кривой изогнутого пространства, пока его конечные точки не становились диаметрально противоположными; затем он сжимался в прямую линию, восстанавливая бесчисленные миллионы световых лет от точки своего растяжения; и тогда его скорость, естественно, была скоростью света в кубе. Или опускался со своего уровня во времени до уровня ниже, где балансировал в задумчивости в течение одного цикла до возвращения вновь на более высокий уровень; именно так он открыл характер времени, представляющего собой спиральную ленту, которая вечно вращается, но не передвигается в своем сверхпространстве. Или медленно перемещался от одной силы притяжения к другой в поисках необычного, но без всякого интереса. Во время такого периода он и попал на Землю.
Его обнаружил гусь. Он лежал в каких-то кустах у проселочной дороги, наблюдая издалека за землей и анализируя ее элементы. Гусь был обычным и бесповоротно гордым своей традиционной глупостью. Когда гусь приблизился к нему и с любопытством постучал по его корпусу, он не обратил на него внимания. Но когда гусь перевернул его клювом, он решил, что тот ведет себя невежливо. Он намертво обхватил гуся лучевой петлей и быстро ознакомился с его крошечным мозгом, ища способ досадить гусю, а потом начал дергать за хвостовое оперение, ожидая возможной реакции. Гусь отреагировал криком.
Случилось так, что той же проселочной дорогой проходил Кристофер Инс, ведя домой из воскресной школы сестренку. Крис был озлобленным и циничным простым смертным, нормальным двенадцатилетним мальчишкой, который только что узнал, что старший возраст и мужественность дают человеку превосходство, и должен был вот-вот превратиться в подростка и убедиться в обратном. Девчушка была его пятилетней сестрой, которую он заботливо оберегал. Она была глупенькой. Она говорила:
«Но так мне сказали на той неделе в школе, Крис, значит, так оно и есть. Принц вошел во дворец, и все спали, а он пошел в комнату, где была она, а она тоже спала, но он ее поцеловал, и она проснулась, и тогда все…»
«Еще чего, заткни свой родничок, — сказал Крис, который слышал, что у младенцев по мере роста затягиваются роднички, хотя толком не знал, что это такое. — Ты веришь всему, что говорят. Старый мистер Бекер как-то сказал мне, что я могу поймать птицу, насыпав ей на хвост соли, а потом вздул меня за то, что я зарядил дробовик двенадцатого калибра каменной солью и сшиб трех его родайлендских красноперок. Они говорят тебе чепуху, чтобы потом стукнуть тебя».
«Мне все равно, так-то вот, — надулась малышка. — Моя учительница не будет меня бить за то, что я ей верю».
«Тогда кто-нибудь другой, — мрачно сказал Крис. — Что там за шум, хотел бы я знать? Похоже, утка попалась в лисий капкан. Пошли посмотрим».
Крис остановился подобрать палку на тот случай, если ему придется открывать капкан, а малышка убежала вперед. Когда он подошел, то увидел, что она прыгает на месте, хлопает в ладоши и захлебывается от радости: «Я тебе говорила! Я тебе говорила!», самое противное из всего, что женщина может сказать мужчине.
«Что ты мне говорила?» — спросил он, и она показала рукой. Он увидел большого белого гуся, зарывшегося лапами в землю и пытающегося освободиться от невидимых пут, а позади него лежало сверкающее яйцо. Пока они смотрели, еще одно хвостовое перышко отлетело от того места, на котором оно держалось, и улеглось на землю рядом со своими двумя собратьями.
«Вот это да!» — выдохнул Крис.
«Мне рассказывали и такую историю! — сдавленно заливалась смехом девочка. — О гусыне, которая снесла золотое яйцо. Ой, Крис, если мы заберем эту гусыню домой и будем за ней ухаживать, мы станем богатыми, и у меня будет пони, и сто кукол, и…»
«Вот это да!» — снова сказал Крис и осторожно взял в руку золотое яйцо. Едва он сделал это, птица неожиданно обрела свободу, ее застрявшие лапы резко бросили ее вперед и прямо на землю, где она и заперла, оглушенная и слабо гогочущая. И как это может делать только деревенский ребенок, девочка схватила ее за обе ноги и обняла.
«Мы богаты, — выдохнул Крис и засмеялся. Потом он вдруг вспомнил свои рассуждения и нахмурился. — Не-е, эта не ее яйцо. Кто-то обронил его, а эта старая гусыня просто нашла его здесь».
«Эта гусыня несет золотые яйца! Тоже несет!» — пронзительно выкрикнула девчонка.
Крис поплевал на яйцо и обтер его обшлагом рукава. «Красивая штука», сказал он вполголоса и подбросил яйцо в воздух. И вот так, с открытым ртом и протянутыми руками, он стоял не менее двух минут, потому что оно уже не вернулось. Оно исчезло.
Позже они открыли, что гусь был гусаком. Никто из них так и не смог полностью свыкнуться с этим.
«Было бы интересно, — размышлял сам с собой бронированный мозг, лежа в стратосфере, — превратиться на время в такого двуногого. Думаю, стоит попробовать. Хотел бы я знать, которые из двух более разумные — с перьями или без перьев?» Он немного поразмыслил над этим забавным различием и затем вспомнил, что мальчик вооружился палкой, в то время как гусь этого не сделал. «Они несколько неуклюжи, — додумал он, мысленно пожав плечами. — Я стану похожим на них».
Он камнем ринулся к земле, притормозил, пулей промчался над самой поверхностью и оказался в небольшом городке. Его внимание привлекло какое-то движение в маленькой аллее; один мужчина целился из пистолета в другого, стоявшего на противоположной стороне улицы. Космический пришелец молнией промчался между ними, оставшись незамеченным, и направление его движения пересекло траекторию полета пули. Она ударилась о его гладкую поверхность и, вонзившись в землю четырьмя футами ниже, не оставила следа и не изменила его полета даже на одну тысячную градуса. Вероятная жертва осталась невредимой и продолжала свой путь, а мужчина в аллее выругался и в недоумении отправился домой разбирать пистолет. Никогда в жизни он так не мазал.
Рядом с городком мозг обнаружил то, что искал, — поле, прикрывавшее огромный пласт скальной породы. Он остановился в поле и исчез из виду, пронизав дерн, землю и гранит, как воду; в считанные минуты он вырезал себе в скале огромную подземную камеру с высокими арочными стенами, сводчатым потолком и ровным гладким полом. Повиснув на мгновение в пространстве камеры, он исследовал точный химический состав окружающей местности, излучая тонкие высокочастотные лучи и настраивая их на различия в молекулярных колебаниях. Присутствие определенной точной гармоники на любой данной частоте указывало на точное местонахождение нужных ему элементов. Их было немного. Эти двуногие были совсем несложными.
«Тип, тип, — думал он. — Мне нужна какая-то модель. Думаю, что эти существа чем-то отличаются друг от друга».
Он проскользнул через крышу своего убежища и вернулся в городок, где нашел оживленный уголок и спрятался под карнизом, откуда он мог наблюдать за проходящими людьми.
«Те, кто поменьше, должно быть, мужчины, — размышлял он, — те, кто идет с важным видом и плавной походкой, очевидно, мало работают и одеваются в такие крикливые цвета и так смешно подчеркивают цвет ротовой полости. А те, кто побольше, мускулистые, должно быть, женщины. Какие однообразные».
Он направил луч, чтобы прочесть мысленные импульсы. Луч коснулся мозга молодого человека, который брел, как во сне, за шедшей впереди него элегантной блондинкой. Это был нерешительный и робкий молодой человек, сгоравший от страсти, и та битва, что шла у него в душе между влечением и робостью, чуть было не заставила затаившееся под карнизом существо переменить место.
«Вот так так, — подумал яйцевидный. — Эмоциональное чудовище! Похоже, я немного ошибся в отношении мужчин и женщин. Как странно!»
«Стану мужчиной», — решил он в конце концов.
Он счел благоразумным продолжать поиск, пока не обнаружил девушку, которую мучили все «позы», что могут встретиться в рекламных объявлениях, а кроме того, комплекс неполноценности, прыщи, мозоли и немузыкальный слух. Он знал, что ее образ идеального мужчины будет действительно превосходным. Потихоньку внушая ей нежные мысли, он терпеливо и мягко заставил ее создать красивый образ своего идеального мужчины. Она шла своей дорогой, а он брал на заметку все необходимые детали, отбрасывая только страсть, которую мужчина из мечты изливал на бедняжку, изголодавшуюся по ласке. Захваченная внушенной ей мечтой, она попала под автомобиль и довольно серьезно пострадала, но все завершилось благополучно, потому что впоследствии она вышла замуж за водителя.
Мозг устремился назад, в лабораторию, вынашивая свой мысленный портрет мускулистого, учтивого, любезного, утонченного и внимательного полубога, и начал собирать аппаратуру.
У мозга не было способностей как таковых. Он мог управлять. Глупцом сочтут машиниста поезда из двадцати вагонов, пусть только мечтающего о том, чтобы развить скорость сто двадцать миль в час, используя собственные физические способности. Задачу легко решают рычаги управления. Рычаги управления мозга были такими же слабыми в сравнении с конечными результатами, что и рука человека в сравнении с двумя тысячами лошадиных сил, развиваемых локомотивом. Но мозг знал истинную природу пространства: оно не является пустым, а представляет собой массу уравновешенных сил.
Прижмите вместе два карандаша, конец к концу. До тех пор, пока давление остается равномерным и уравновешенным, создается впечатление простого соединения концов карандашей. А теперь приложим небольшое усилие в той точке, где карандаши сходятся. Они выпадают из линии; они создают мощную равнодействующую, совершенно несоизмеримую с толчком, который нарушил равновесие, так можно повредить и костяшки пальцев. Равнодействущая находится под прямым углом к первоначальным уравновешенным силам; она доходит только до этих пор, а потом силы снова приходят в равновесие, несмотря на костяшки.
Мы живем в упругой вселенной; мгновенное нарушение равновесия ничтожно, так как уменьшенное напряжение поглощается бесконечностью. Равнодействующая как результат одного слегка нарушенного равновесия может быть использована для нарушения другого равновесия; такая цепь может простираться до бесконечности. К счастью, мозг знал, как не делать ошибок.
Он собрал свой аппарат быстро и умело. Длинный стол; большие и малые емкости с чистыми элементами; сложнейшее устройство с проекторами и рефлекторами, способными обработать любое излучение, которое может быть указано в кольцевом спектре, для соединения и приведения в нужное состояние основных материалов. На машине не было переключателей, индикаторов, шкал. Она была рассчитана на определенную работу и, как только была закончена, начала работать. Когда работа была сделана, машина была уже не нужна. Это была та самая машина, чье совершенство погубило цивилизацию мозга, несомненно, погубила другие и наверняка погубит новые цивилизации.
На поверхности стола появилась тень. По мере того как машина регулировала и проектировала смеси углерода, магния, кальция, возникали клетка за клеткой. Человеческий скелет был вдруг почти закончен, то есть почти человеческий скелет. Мозг не тратил время на ненужные детали и, если отсутствовали некоторые позвонки, а затем аппендикс, миндалины, синальные полости и мышцы, отводящие пальцы, и, наоборот, добавились более нежные ребра, то это было только в интересах логики. Кровеносные сосуды оставались плоскими, а их внутренние поверхности вместе сжатыми, пока тело не было полностью закончено и готово к кровообращению. «Новорожденный» появился на свет с полным желудком; он начал функционировать задолго до того, как подготовился принять мозг.
Тело продолжало принимать заданную форму, а тем временем мозг расположился в углу комнаты и обдумывал дальнейшие действия. Он знал строение тела и создал его. Теперь он выяснял причины, объясняющие такое строение, и рассчитывал его функции. Слух, зрение на свету, общение путем колебания тканей, степень телепатии, органы равновесия, возможные и вероятные умственные и физические рефлексы — все эти первичные элементы были тщательно продуманы и запечатлены в этом непостижимом мозге. Осмотр тела или просто взгляд на него были абсолютно не нужны. Он спланировал его, и оно должно быть именно таким, как запланировано. А если он хотел изучить какую-то часть до того, как она формировалась, он всегда мог рассчитывать на свою память.
Наконец тело было закончено. Это было молодое, сильное и благородное создание. Оно лежало, дыша глубоко и размеренно, под широким интеллектуальным лбом излучали бледный свет идиотизма глаза. Твердо билось сердце, и, по мере того, как клетки приспосабливались друг к другу, легкое биение в левом бедре то появлялось, то исчезало. Волосы брюнета блестели и имели ярко выраженный треугольный выступ на лбу. Линия волос делила голову на две части, причем верхняя часть служила откидной крышкой, которая пока была полностью открыта. Серое вещество головного мозга было совершенно готово к приему закутавшегося в металл создателя.
Он приблизился к голове стола и устроился в открытом черепе. Секунда, и крышка захлопнулась. Длительное время молодой человек, а именно таким он и стал теперь, лежал неподвижно — мозг проверял различные органы температуру, давление, равновесие и зрение. Медленно поднялась и опустилась правая рука, потом левая, затем одновременно поднялись и свесились через край стола обе ноги — молодой человек сел. Он помотал головой и пристально посмотрел вокруг своими быстро яснеющими глазами, неуклюже повернул голову и встал на ноги. Колени слегка подгибались; он судорожно ухватился за стол, даже не сгибая пальцев — об этом он еще не думал. Открылся и закрылся рот, он ощупал языком внутреннюю часть рта, губы и зубы.
«До чего же неуклюже!» — подумал он, перемещая вес тела сначала на одну, а затем на другую ногу. Он согнул руки в локтях и кистях и осторожно подпрыгнул вверх-вниз.
«Агх! — сказал он дрогнувшим голосом. — А-а-а-гх-ха-агх! — Он прислушался к звукам своего голоса, завороженный этим новым способом самовыражения. — Ка. Па. Та. Са. Ха. Га. Па. Ре, — сказал он, пробуя возможности язычных, горловых, шипящих, палатальных, губных звуков поодиночке и в сочетании. — Хо-о-о-о-оуи-и-и-и!» — выл он, пробуя непрерывные модуляции, от низкого до высокого тона.
Он неуверенно доковылял до стены и, держась за нее одной рукой, начал ходить по комнате взад и вперед. Вскоре необходимость в опоре отпала, и он стал передвигаться самостоятельно; он все прибавлял и прибавлял скорость и наконец начал бегать по кругу, при этом издавая странные возгласы. Ему было несколько неприятно, когда он обнаружил, что такая неистовая деятельность заставила быстро биться сердце и затруднила дыхание. Хрупкие создания эти двуногие. Он уселся на стол, часто и тяжело дыша, и начал проверять органы вкуса и осязания, мышечную, словесную, слуховую и зрительную память.
Чонси Томас был аристократом. Никто и никогда не видел его в заплатанных штанах и ботинках, требующих починки. Но увидит, горько размышлял он, если в скором времени ему не удастся что-нибудь стащить для своего гардероба. «Вот дьявол! — бормотал он. — И всего-то я прошу есть три раза в день, приличную одежду, жилье и прочее, без всякой работы. Эх! А они мне твердят, что для этого надо работать. Не стоит. Просто не стоит того!»
У него были все права, чтобы быть злым, думал он. Его не только спустили по трем лестничным маршам самой фешенебельной гостиницы города и только за то, что он спал на лестничной площадке, но и сунули в тюрьму. Разве ему удалось отдохнуть в тюрьме? Не удалось. Они заставили его работать. Его заставили белить камеры. Вряд ли это было справедливо. А потом его выгнали из города как последнего бродягу. Это было несправедливо. Ну и что, что он попался в девятый раз? «Придется найти другой город», — решил он. Он раздумывал над словами шерифа о том, что если его еще раз застукают, то шериф пришьет ему убийство, даже если для этого ему придется убить одного из своих помощников.
Чонси повернул свои медленно плетущиеся ноги на шоссе Спрингфилд и направился прочь из города. Было два часа ночи и очень тепло. Ощущая себя непонятым, Чонси, сгорбившись, брел по дороге, засунув руки в карманы. Он не обратил внимания на легкое движение в тени у дороги и никогда бы не подумал, что там кто-то есть, пока не почувствовал, как его ухватил за слабо затянутый пояс брюк и начал неудобно раскачивать мощный кулак.
«Я ничего не сделал! — тут же завопил он, переключаясь на свой разговорный рефлекс. — Давай поговорим, дружище. Эй, кончай это дело, у меня ничего нет. Ты — г…!»
Многословие Чонси моментально прекратилось, едва ему, крутящемуся во все стороны в своей слишком большой для него одежде, удалось увидеть того, кто его схватил. Для Чонси Томаса было слишком увидеть мускулистого гиганта, ростом, по крайней мере, шесть футов пять дюймов, уставившегося на него бездонными темными глазами и державшего Чонси на расстоянии вытянутой руки. Он не выдержал и зарыдал.
Обнаженный Аполлон подбросил бродягу в воздух и поймал его за ремень брюк. Он с любопытством дернул за потрепанный пиджак, дотянулся и оторвал кусок кожи от чересчур большой спортивной тапочки, как будто это была промокательная бумага, внимательно осмотрел его и отбросил в сторону.
«Пусти меня! — завывал Чонси. — Эй, хозяин, я ничего такого не делал, честно, не делал. Я иду в Спрингфилд. Я найду себе работу или что-нибудь такое, хозяин!» Когда он это говорил, слова жгли ему рот, но он попал в переделку и должен был что-то сказать.
«Га!» — прорычал гигант и уронил его ухом прямо на середину дороги.
Чонси с трудом поднялся на ноги и поспешно побежал вниз по дороге.
Гигант стоял, наблюдая, как он замедлил бег, сделал дугообразный поворот и бегом пустился в обратном направлении под действием сильного гипнотического внушения, исходящего от этого огромного чистого тела. Он стоял перед новорожденным, благоговея и дрожа от страха, мечтая умереть, мечтая очутиться далеко от того места, пусть даже в тюрьме.
«К-кто вы?» — заикаясь, сказал он.
Другой захватил бегающие глаза Чонси своим глубоким пристальным взглядом. Потрясенный ум бродяги успокоился; он два раза моргнул и опустился на колени у дороги, неподвижно уставившись в непроницаемое лицо этого страшного, околдовавшего его человека. Как будто что-то вползало в мозг Чонси, шаря в нем. Это было ужасно, но в то же время не было неприятно. Он чувствовал, как его выворачивают наизнанку; исследуют его память, его знание человеческого общества, человеческих обычаев, традиций и истории. Неожиданно всплыли вещи, которые он считал забытыми или хотел забыть. Через несколько минут гигант имел такое же полное знание поведения и речи людей, какое когда-либо имел Чонси Томас.
Он отступил назад, и Чонси рухнул, тяжело дыша, на дорогу. Он чувствовал себя полностью опустошенным.
«Вставай, бродяга», — сказал здоровяк языком Чонси.
Чонси поднялся; в этом звучном голосе безошибочно слышался приказ. Он съежился перед ним и заскулил: «Что вы сделаете со мной, хозяин. Я ни…»
«Заткнись! — сказал другой. — Я тебе ничего не сделаю».
Чонси посмотрел на неподвижное лицо.
«Ну… я… я, пожалуй, пойду».
«Ладно, держись рядом. Чего боишься?»
«Ну… ничего… но кто ты все-таки?»
«Я — Элрон», — сказал гигант, используя первые пришедшие на ум благозвучные слоги.
«Ага. Где твоя одежда? Тебя обчистили?»
«Не. Хотя да. Подожди меня тут; думаю, я смогу…»
Элрон перемахнул через изгородь, не желая слишком ошеломить бродяжку.
Из мозга Чонси он выкрал мысленную фотографию того, что Чонси считал превосходным костюмом. Это был костюм в клетку, жилет с ромбовидным рисунком и желтые туфли, крылатый воротник и десятигаллоновая шляпа. Проскользнув в свою подземную лабораторию, Элрон откинул крышку сложного проектора, который построил его тело, и быстро кое-что отрегулировал. Сразу же после этого он очутился рядом с Чонси, полностью одетый в духе вкуса, импонировавшего Чонси.
«Вот это да!» — выдохнул Чонси.
Они шагали по дороге вместе: Чонси — в абсолютном молчании, Элрон — в задумчивости. Мимо промчалось несколько машин; каждый раз Чонси машинально и без всякой надежды поднимал натренированный большой палец. Они оба очень удивились, когда впереди них резко затормозил сжалившийся над ними водитель. Дверца открылась; Чонси обогнал Элрона и был бы первым, но Элрон схватил его за шиворот и оттащил назад.
«Лезь назад, дубина!» — рявкнул он.
«Вечно мне не везет», — пробормотал Чонси, выполняя приказание. Он видел, кто сидел за рулем. Очень миловидная девушка.
«Куда вы направляетесь?» — спросила она, когда Элрон захлопнул дверцу.
«Спрингфилд», — ответил он, вспомнив из того, что наговорил Чонси, что город находился на этой дороге. Он взглянул на свое новое знакомство. Она была настолько миниатюрной и прекрасной, насколько он был большим и прекрасным. Она вела машину по-настоящему артистически. Золотисто-каштановые глаза гармонировали с цветом волос. Оценивая ее по-человечески, Элрон нашел, что она очень привлекательная.
«Я довезу вас туда», — сказала она.
«Спасибо, барышня».
Она бросила на него быстрый взгляд.
«В чем дело, красотка?» — спросил он.
«Нет, ничего. Не называйте меня красоткой».
«Ладно, ладно».
Она вновь метнула на него взгляд. «Вы что, разыгрываете меня?» — спросила она.
«В чем?»
«Вы непохожи — хотя я не знаю».
«Выскажись, сестренка».
«Ну, как-то, ну, непохожи на тех, кто зовет девушек «красотка»».
«О, — сказал он. — Ты имеешь в виду — ты бы сказала это как-то по-другому». Ему было тяжеловато с ограниченным словарным запасом Чонси.
«Что-то в этом роде. Чем вы будете заниматься в Спрингфилде?»
«Думаю просто побродить вокруг. Хочу посмотреть город».
«Не говорите мне, что вы никогда не видели города!»
«Послушай, — отрывисто бросил он, прикрывая свою ошибку одной из штучек Чонси, — тебя это не волнует, не так ли? Какое твое дело?»
«О, прошу меня простить», — сказала она с кислой миной. Он почувствовал что-то неестественное в наступившем молчании.
«Рассердилась, а?»
Она посмотрела на него с презрением и хмыкнула.
Тривиальный тупик заинтриговал его. «Остановись!» — приказал он ей.
«Что?» — с яростью в голосе спросила она.
Он наклонился вперед и поймал ее взгляд. «Остановись!»
Она выключила зажигание, и большая машина остановилась. Элрон взял ее за плечо и повернул к себе. Она начала было сопротивляться, но все произошло слишком быстро.
Тончайшие мысленные лучи пронизали ее мозг, исследовали уголки памяти, вкусы, суждения, взгляды и словарь. Он узнал, почему называть женщину «красотка» считалось неприличным в порядочном обществе и что цивилизованные люди никогда не надевали десятигаллоновые шляпы вместе с крылатым воротником. Ее язык понравился ему несколько больше, чем грубые несоответствия Чонси. Он узнал, что такое музыка, очень многое о деньгах, что, само по себе уже удивительно, почти никогда не занимало мысли Чонси. Он узнал кое-что о самой девушке; ее звали Ариадна Дру, у нее было огромное состояние, которое она не заработала, и она настолько привыкла, чтобы к ней обращались в соответствии с ее положением в обществе, что относилась беспечно к таким вещам, как подвезти голосующих в попутной машине.
Он отпустил ее, унося из ее памяти происшедшее с тем, чтобы она завела машину и отправилась дальше.
«С какой стати я останавливалась?»
«С тем, чтобы я мог проверить заднюю шину», — сымпровизировал он. Мысленно он вернулся к тому, что, как он обнаружил, может ее интересовать. Одежда занимала видное место.
«Я должен извиниться, — сказал ей он слово в слово, как говорила она, за эту шляпу. Она просто слишком, слишком отвратительная. Недавно я видел прелестную шляпку в магазине на проспекте, и я собираюсь ее купить. Я не шучу, дорогая!»
Она со страхом взглянула на его благородный профиль и массивные плечи. Он продолжал болтать:
«Как-то я встретил Сюзи Гринфорд. Ты знаешь Сюзи. О, она меня не видела! Я позаботился об этом! А ты знаешь, с кем она была? С этим ужасным человеком Дженкинсом!»
«Кто вы такой?» — спросила она.
«Мне говорили, что Сюзи… Что? Кто я? О, просто один из молодых людей, дорогая. Так на чем я остановился? Ах да, Сюзи. Ты, возможно, слышала эту ужасную сплетню до того, как ей пришлось! — поэтому скажи мне, и я замолчу, если хочешь. Но она заявила своему мужу…»
«Дальше я не еду», — отрезала девушка, подруливая к обочине.
«Хорошо, я…» Элрон почувствовал, что самое правильное — это выйти из машины. Он открыл дверцу и повернулся к ней.
«Спасибо, что подвезла, дорогая. Дай мне знать, если когда-нибудь смогу отплатить тебе тем же». Он отступил на тротуар, а она захлопнула дверцу и открыла окно.
«Ты забыл сделать маникюр», — сказала она ехидно и рванула машину с места.
«Что ты наделал, черт побери?» — спросил голос рядом с ним. Чонси с грустью смотрел вслед «пикапу».
«Не выражайся, — сказал Элрон. — Это вульгарно. Ты очень груб, Чонси. Я не хочу, чтобы ты был рядом со мной. До свидания, дорогой». А что мог Элрон поделать, если Ариадна Дру обращалась с этим словом ко всем?
Маленький бродяжка стоял с открытым ртом, глядя в спину греческого бога в крикливом клетчатом костюме, и медленно направился за ним. «За этим парнем надо понаблюдать! — пробормотал он. — Вот так так!»
Имея новые знания о людях, Элрон без труда заполучил несколько долларов у прохожего прямо на улице — он просто потребовал — и снял для своего тела номер в гостинице. Исследуя мозг Ариадны, он узнал, что такое почерк, расписался в книге приезжих и оплатил номер без всякой задержки. Как только его тело нормально разместилось на постели, он открыл крышку в голове и выскользнул наружу. Он чувствовал, что без него тело отдохнет лучше.
Он выбрался из окна и некоторое время висел высоко над городком, разыскивая знакомые колебания — импульсы мозга Ариадны. Освободившись от громоздкого человеческого тела, Элрон был гораздо более чувствительным к таким вещам. Он хотел увидеть Ариадну немедленно, потому что хотел услышать о своем поведении.
Он вскоре уловил ее. Для него она была примерно тем же, что для нас тонкие духи. Он понесся на городскую окраину и устремился вниз к массивному зданию из красного кирпича, окруженному прекрасным ландшафтом. Он дважды облетел его в поисках ее точного местонахождения в доме и спустился вниз по дымоходу. Он повис прямо над искусственными поленьями в камине и начал подслушивать.
Ариадна сидела в своей экстравагантной гостиной, болтая с — не может этого быть — внушающей восхищение Сюзи Гринфорд. Сюзи была некрасивой девушкой с мелкой душонкой и имела способность выудить сведения из любого данного знакомого и по пылкому согласию могла целыми неделями заниматься исключительно злословием. Она походила на воробья с раздробленными зубами, одевалась так, будто выиграла пари на скачках в Дюбюке и имела личность, действующую так же успокаивающе, как зуд семилетней давности.
«Ну, что ты слышала сегодня?» — выжидающе спросила она.
Мысли Ариадны витали далеко-далеко, я она только улыбнулась. «О Ари, — сказала Сюзи. — Ну я прошу! По тебе видно, что сегодня, должно быть, что-то произошло. Пожалуйста, ты никогда мне ничего не рассказываешь!»
Ариадна как женщина не обратила внимания на эту ложь и могла переменить предмет разговора, но прятавшийся в дымоходе Элрон нежно пощекотал некоторые из ее мозговых извилин своими неосязаемыми усиками. Она неожиданно встрепенулась и повернулась к Сюзи. Элрон мог получить ее ответ непосредственно, но его интересовало, каким образом она выразит свою реакцию собеседнице и как та получит ее.
«Если ты так хочешь знать, — сказала Ариадна, — сегодня я кое-кого встретила. Мужчину». Она вздохнула. Довольная Сюзи придвинулась поближе. Когда она не превращалась во весь рот, она слушала во все уши.
«Где?»
«Подобрала его на дороге. Сью, ты никогда не видела такую пару, как эти двое. Они были похожи на пару комиков. Один был бродяга — вначале я думала, оба. Маленький влез в багажное отделение, а симпатичный ехал впереди».
«Симпатичный?»
«Дорогая, ты не можешь себе представить! Я никогда не видела…»
«Но ты сказала, они были комики!»
«Выглядели комично, дорогая». Сидевший в камине мозг в золотой оболочке произвел эквивалент кивка и послал мысленный импульс Ариадне. Как будто отвечая на вопрос, она сказала: «Он бы так хорошо смотрелся в мягком сером костюме и фетровой шляпе. И я не знаю, кто он такой, но я думаю, он должен быть искателем приключений. Кем-то вроде поэта — писателя — искателя приключений».
«Но кем он был?»
Ариадна внезапно нашла возможным говорить о других вещах. Она заставила Сюзи начать рассказ о грешках ее кроткого жениха и вскоре полностью заслонила все мысли о своем изменчивом таинственном мужчине. Элрон скрылся.
Вернувшись в гостиницу, яйцевидный пришелец завис над своим спящим телом и погрузился в горькие размышления. Ему было стыдно за недооценку таких тонких нюансов поведения людей. Он сделал какое-то посмешище из двуногого, которого сотворил, и этот факт раздражал его. В этом таился вызов; Элрон мог управлять силами, которые в момент превратят в порошок всю эту небольшую галактику и развеют ее прах в семи измерениях, если он того пожелает; в то же время женщина определенно ставила его в глупое положение. Он подумал, что ни в одной вселенной не встречалось ничего такого, как изворотливый и требовательный ум женщины. Точно так же он понял, что женщиной легко руководить до тех пор, пока все складывается так, как она хочет. Он был полон решимости узнать, насколько точно мужчина мог соответствовать идеалу женщины и в то же время оставаться мужчиной; именно это он собирался проделать с этим мужчиной, которого создал сам.
Пролетели долгие и богатые событиями три месяца, прежде чем Ариадна Дру вновь встретилась с Элроном. Он ушел в своей десятигаллоновой шляпе, крикливом костюме в клетку и желтых туфлях; он унес с собой разговорные варианты и бродягу Чонси. Он отправился в их величайший город и выискивал людей, которые знали, как помочь ему достичь феноменального статуса мужчины, достойного Ариадны.
Для него это было увлекательной игрой. В коридорах университетов, в лагерях, готовящих спортсменов-профессионалов, в школах для девочек, детских садах, на хлопкоочистительных заводах, в притонах и на фабриках он находил людей, разговаривал с ними, процеживал, фильтровал и поглощал то, что содержалось в их умах. Отбирая и смешивая, он создал себе интеллект, тот тип умственных способностей, который легковесные натуры вроде Сюзи Гринфорд пишут с большой И. Вместо того чтобы подделываться под речь каждого человека путем использования такой речи, он разработал свою слегка акцентированную идиому, чисто личную и исключительно оригинальную. Он сделал себе земное прошлое, начиная от аккуратной фотокопии свидетельства о рождении и кончая гарантированными квитанциями за арендную плату. Он прощупал умы редакторов и издателей, из неразберихи разных вкусов и хаотической идеологии он выудил здоровые и осуществимые идеи той работы, которой следовало заняться. Он занялся популяризацией поэзии. В то время как его тело купалось в роскоши, ум, заключенный в безгранично могущественную оболочку, носился над планетой. Элрон мог рассказать нью-йоркской аудитории об интересных людях, с которыми он встречался в Мельбурне, Австралия, а на следующий день мог показать телеграмму от одного-двух лиц, которым он нанес визит накануне вечером. И по всей земле были разбросаны люди, считавшие, что они знакомы с этим феноменальным молодым человеком в течение многих лет.
Ариадна снова встретилась с Элроном на одном из чаепитий, где читались бледно-розовые и напыщенные стихи. Сюзи устроила чай в честь новой знаменитости. Ари пришла поздно, как того требовали приличия, и выглядела превосходно в платье зеленовато-голубого цвета, отличавшемся строгой утонченностью. Элрон должен выступать — что-то вроде «Метемпсихоз и современная жизнь». Ари должна была спеть.
Он ожидал ее. Он был в светло-сером костюме, а на вешалке у дверей висела его фетровая шляпа. Как и всегда, ее появление было восхитительным зрелищем, все признавали это, но для нее главным было захватывающее дух ощущение того, что она показывала себя только одному человеку во всей толпа. Разумеется, она слышала о нем. Он был «увлечением», этим словом пользовались в порядочном обществе, когда говорили о появившейся знаменитости. Будущие и прошлые принадлежат к тем, кем не увлекаются.
Но таким она его никогда не видела. Он встал, поклонился ей и улыбнулся, затем он без слов взял ее под руку, поклонился хозяйке дома и вышел вместе с ней. Именно так он и поступил. Бедная Сюзи! Ее выступающие зубы едва скрыли небольшую полоску пены на губах.
«Да! — сказала Ариадна, когда они вышли на улицу. — Что мы наделали!»
«Тсс, тсс! — сказал он, помогая ей усесться в свою небольшую шестнадцатицилиндровую машину. — Я думаю, Сюзи это переживет. Только подумайте, скольким она расскажет!»
Ари рассмеялась, глядя на него со странным выражением лица. «Господин Элрон, вы не… не тот самый человек, что…»
«Что вы подобрали на шоссе три месяца тому назад, причем похожего на комика?»
Она покраснела.
«Да, я тот самый человек».
«Я вела себя… грубо, когда вас высадила».
«Вы имели полное право, Ариадна».
«А что случилось с маленьким бродяжкой, с которым вы вместе путешествовали?»
«Чонси!» — вскричал Элрон, и перед ними внезапно появился одетый в аккуратную форму шофер, он поклонился и улыбнулся.
«Боже мой!» — воскликнула Ариадна.
«Его ужасная дикция уже никого не обижает, — уверенно произнес Элрон. — Мне удалось изменить его отношение к работе, но даже я не сумел исправить его произношение. Теперь он не разговаривает».
Машина удалялась все дальше от города, и она долго смотрела на Элрона. «Вы именно такой, каким я вас считала», — прошептала она. Он знал это.
Это был их первый совместный вечер. За ним последовали другие вечера, и Элрон вел себя безупречно, как и подобает умному и светскому человеку на двух ногах. Ему нравилось исполнять любые желания и капризы Ари; как и любая красивая женщина, ока легко поддавалась переменам, настроения, поэтому он с удовольствием предугадывал и предупреждал ее прихоти. Он приспосабливал себя к ней час за часом, день за днем. Он был идеальным. Он был совершенным.
Итак, ей стало скучно. Он приспособился и к этому, тогда она впала в ярость. Если ей было все равно, то же самое испытывал и он. Плохая тактика, как раз то самое, против чего сверхкосмические силы были бессильны.
О, он старался; да, и упорно. Он задавал ей вопросы, он занимался ее психоанализом, он даже убил всех стрептококков у нее в крови, думая, что они были причиной несчастья. Единственное, чего он добился, — пассивной неприязни с ее стороны. Он был всего лишь наполовину моложе времени и кое-что знал о терпении; но это терпение стало истощаться под давлением этой самой женщины из рода человеческого.
И естественно, произошла решающая сцена. Дело было днем, у нее в доме, вся сцена была исключительно эффектной. Он без труда мог читать ее мысли, но только те, которые возникали у нее. Она знала, что он ей наскучил. Но она знала и то, что безумно любит его, а поэтому она не старалась анализировать свою враждебность по отношению к нему. Таким образом, он был беспомощным, чувствуя себя запутавшимся в ее необъяснимой неприязни.
Все началось с пустяка — он вошел в комнату, она стояла у окна спиной к нему и даже не повернулась. Нет, она ни словом, ни жестом не выказывала своей холодности, она просто не стала оборачиваться. Булавочный укол. Он подождал десять минут, подошел и с силой тряхнул ее. Она запуталась каблуком в ковре, потеряла равновесие, ударилась о каминную полку и, теряя сознание, растянулась на полу, среди обломков разбившихся безделушек. Какое-то мгновение Элрон стоял, чувствуя себя глупо, а затем заключил ее в объятья. Прежде чем он отпустил ее, она обвила его шею руками и стала страстно целовать. И этот бедняга со всем его великолепием не знал, что ему делать.
«О, Элрон, — лепетала она. — Ты — зверь! Ты ударил меня. О, мой дорогой! Я так тебя люблю! Я никогда не думала, что ты решишься на это!»
Элрона внезапно осенило. Вот в чем главный секрет этого существа, называемого женщиной. Она не могла его любить, пока он вел себя совершенно рационально. Она не могла его любить, пока он был таким, кого она считала идеальным. Но когда он совершил что-то «звериное» — слово-синоним «неинтеллигентное», — она полюбила его. Он посмотрел на ее красивые губы, красивые черные глаза, засмеялся, поцеловал и осторожно опустил на пол.
«Вернусь через пару дней, дорогая», — сказал он и вышел, не обращая внимания на ее крики.
Теперь он знал, что делать. Он был благодарен ей за то, что она некоторое время забавляла его и научила его нечто новому. Но продолжать встречаться с ней — значит расстроиться, а этого он не мог позволить.
Чтобы она была счастлива, ему придется время от времени вести себя неинтеллигентно, именно этого он не мог вынести. Он ушел. Он сел в свой огромный автомобиль и поехал вниз по шоссе.
«Жаль, что я не человек, — размышлял он, ведя машину. — Я бы хотел им быть, но… Нет, я не могу беспокоить себя и постоянно следить за таким сложным явлением, как Ариадна!»
Он остановился на окраине городка и нашел свою лабораторию. Забравшись внутрь, он лег на стол, открыл череп и вышел наружу. Подойдя к машине, стоявшей в углу, он что-то добавил, что-то убрал, сменил и подправил вокруг неподвижного тела появилось сияние. Что-то происходило внутри черепа. Что-то образовывалось внутри, и, когда процесс закончился, череп медленно закрылся. Через три часа человек Элрон слез со стола и встал, глядя на него. Золотое яйцо подлетело к нему и устроилось на плече.
«Спасибо тебе за это… это сознание», — сказал Элрон.
«О, не стоит благодарности, — телепатически ответило яйцо. — Оно было у тебя уже несколько месяцев. Я дал тебе только то, что тебе нужно для полноты счастья».
«Что я должен делать?» — спросил человек.
«Возвращайся к Ариадне. Начни с того, на чем я остановился. Ты можешь ты человек, обладающий совершенством каждой клетки, железы, ткани».
«Спасибо тебе за это. Я хотел быть с ней, но на это не было указания».
«Не обращай внимания. Женись на ней и сделай ее счастливой. Никогда не рассказывай ей обо мне — теперь ты будешь жить самостоятельно, для этого у тебя хватит и времени, и ума, ты будешь делать то, что делал. Ари хорошо относилась ко мне; я ей многим обязан».
«Что-нибудь еще?»
«Да. Только одно, но запиши это в своей памяти огненными буквами: если мужчина не бывает частично болваном, тогда женщина вряд ли будет его любить. Будь всегда немного глупым и изредка очень глупым. Но не будь идеальным!»
«Хорошо. Пока».
«Будь счастлив… э-э… сынок…»
Элрон-человек вышел из лаборатории навстречу солнечному свету. Золотой пришелец устроился на полу и лежал там около часа. Раз он засмеялся про себя и сказал: «Слишком идеальный!»
И почувствовал себя ужасно, ужасно одиноким.
РОБЕРТ ШЕКЛИ
В когорте современных классиков американской фантастики видное место занимает Роберт Шекли. Он родился в 1928 году в провинциальном городе Мэплвуде, штат Нью-Джерси. После школы много путешествовал по Америке и очутился в Калифорнии. Занимался чем придется, затем вернулся домой. Был призван в армию. Роберта назначили писарем-кассиром, а затем гитаристом в военный ансамбль.
С детства Шекли сочинял стихи и небольшие пьески, читал подряд научно-фантастические журналы, стал в научно-фантастическом космосе как дома. Чувствовал, склонность к технике. После демобилизации поступил в Нью-Йоркский университет, получил специальность инженера-металлурга. Одновременно начал писать профессионально. Ходил на вечерние литературные курсы, занятия на которых иногда вел Ирвин Шоу. Защитив диплом, несколько месяцев проработал на заводе, но вскоре понял окончательно, что его призвание — литература.
Первые свои произведения двадцатичетырехлетний Роберт Шекли опубликовал в 1952 году и сразу же обратил на себя внимание живостью стиля, неиссякаемостью воображения.
Скорее всего успех Роберта Шекли определяется не просто каскадом выдумки и остроумия и не его динамичной писательской манерой, а реализмом описываемых им замысловатых психологических ситуаций. Герой Шекли, как правило, отнюдь не супермен, а простой человек, часто напоминающий столь популярных в американских вестернах «хороших парней». Плоть от плоти излюбленного «американского героя», он может работать фермером, клерком, агентом, космонавтом, кем угодно. Ему чужды извращения и комплексы. В самых невероятных положениях он ведет себя так, как на его месте, наверное, вели бы себя многие его соотечественники, отнюдь не выделяющиеся совершенствами и добродетелями, но не такие уж и недостойные. Выбор подобного героя позволяет добиться «эффекта сопереживания».
Однако мировоззренческая позиция Р. Шекли отражает противоречивость буржуазного американского «мира будущего». Шекли — певец индивидуализма.
По его убеждению, динамизм общественного развития возможен только при так называемой «полной» свободе личности в условиях частнособственнических порядков. В то же время объективная логика буржуазных идеалов неизбежно порождает те уродливые формы общественных отношений, которые подвергаются в произведениях Р. Шекли справедливому осуждению и осмеянию. Абсолютизируя буржуазную систему ценностей, писатель тем самым волей-неволей увековечивает и социальные пороки, с которыми честно стремится бороться. В этой противоречивости сказывается классовая ограниченность писателя.
Публикуемый ниже рассказ «Потолкуем малость» развивает «лингвистическую» традицию в американской научной фантастике, стремящуюся показать колоссальные возможности и силы, скрытые в языке, слове, знаке.
ПОТОЛКУЕМ МАЛОСТЬ
1
Посадка прошла как по маслу, несмотря на капризы гравитации, причиной которых были два солнца и шесть лун. Низкая облачность могла бы вызвать осложнения, если бы посадка была визуальной. Но Джексон считал это ребячеством. Гораздо проще и безопасней было включить компьютер, откинуться в кресле и наслаждаться полетом.
Облака расступились на высоте двух тысяч футов. Джексон смог убедиться в правильности данных предварительной разведки: внизу, вне всяких сомнений, был город.
Его работа была одной из немногих в мире работ для одиночек, но, как это ни парадоксально, для нее требовались крайне общительные люди. Этим внутренним противоречием объяснялась привычка Джексона разговаривать с самим собой. Так делало большинство людей его профессии. Джексон готов был говорить со всеми, с людьми и инопланетянами, независимо от их размеров, формы и цвета.
За это ему платили, и это так или иначе было его естественной потребностью. Он разговаривал в одиночестве во время долгих межзвездных полетов, и он разговаривал еще больше, когда рядом с ним был кто-нибудь или что-нибудь, что могло бы отвечать. Он считал большой удачей, что за его любовь к общению ему еще и платят.
— И не просто платят, — напомнил он себе. — Хорошо платят, а ко всему прочему еще и премиальные. И еще я чувствую, что это моя счастливая планета. Сдается мне, есть шанс разбогатеть на ней — если, конечно, меня там не убьют.
Единственными недостатками его работы были одиночество межпланетных перелетов и угроза смерти, но за это он и получал такие деньги.
Убьют ли они его? Никогда не предскажешь. Поведение инопланетян так же трудно предугадать, как и поступки людей, только еще труднее.
— Я все же думаю, что они меня не убьют, — сказал Джексон. — Я прямо-таки чувствую, что мне сегодня повезет.
Эта простая философия была ему поддержкой многие годы, в одиночестве бесконечного пространства, на десяти, двенадцати, двадцати планетах. Он и на этот раз не видел причин отказываться от нее.
Корабль приземлился. Джексон переключил управление на режим готовности. Он проверил показания анализатора на содержание в атмосфере кислорода и других жизненно важных химических элементов и быстро просмотрел данные о местных микроорганизмах. Планета была пригодна для жизни. Он откинулся в кресле и стал ждать. Конечно же, ждать долго не пришлось. Они — местные жители, туземцы, аборигены (называйте их как хотите) — вышли из своего города посмотреть на корабль. А Джексон сквозь иллюминатор смотрел на них.
— Ну что ж, — сказал он, — похоже, что на этой захолустной планете живут самые настоящие гуманоиды. А это означает, что старый дядюшка Джексон получит премию в пять тысяч долларов.
Жители города были двуногими моноцефалами. У них было столько же пальцев, носов, глаз, ушей и ртов, сколько и у людей. Их кожа была телесно-бежевой, губы — бледно-красными, а волосы — черными, каштановыми или рыжими.
— Черт возьми! Да они прямо как у нас на Земле! — воскликнул Джексон. — Видит бог, за это мне полагается дополнительная премия. Самые что ни на есть гуманоиды!
Инопланетяне носили одежду. У некоторых было что-то вроде тросточек — палки с тонкой резьбой. На женщинах — украшения с резьбой и эмалью. Джексон сразу же определил, что они стоят приблизительно на том же уровне, что и люди позднего бронзового века на Земле.
Они разговаривали друг с другом и жестикулировали. Конечно, Джексон их не понимал, но это не имело значения. Важно было то, что у них вообще был язык и что его голосовые органы могли воспроизводить звуки их речи.
— Не то что в прошлом году на той тяжелой планете, — сказал Джексон. — Эти сукины дети со своими ультразвуками! Пришлось носить специальные наушники и микрофон, а в тени было за сорок.
Инопланетяне ждали его, и Джексон это знал. Первые мгновения непосредственного контакта всегда были самыми беспокойными.
Именно тогда они, вероятнее всего, могли вас при кончить.
Он неохотно прошел к люку, отдраил его, протер глаза и откашлялся. Ему удалось изобразить на лице улыбку. Он сказал себе: «Не дрейфь, помни, что ты просто маленький старый межпланетный странник, что-то вроде галактического бродяги, который собрался протянуть им руку дружбы, и все такое прочее. Ты просто заглянул сюда, чтобы немножко потолковать, и больше ничего. Продолжай верить этому, милок, и внеземные лопухи будут верить этому вместе с тобой. Помни закон Джексона: все формы разумной жизни обладают святым даром доверчивости; это означает, что трехъязыкого Танга с Орангуса V надуть так же просто, как Джо Доукса из Сен-Поля.
И так, с деланной храброй улыбочкой на лице, Джексон распахнул люк и вышел, чтобы немного потолковать.
— Ну, как вы тут все поживаете? — сразу же спросил Джексон, просто чтобы услышать звук своз-го собственного голоса.
Ближайшие инопланетяне отпрянули от него. Почти все хмурились. У некоторых, что помоложе, на предплечье висели ножны с бронзовыми клинками, и они схватились за рукояти. Это оружие было примитивным, но убивало не хуже современного.
— Ну, ну, не надо волноваться, — сказал Джексон, стараясь говорить весело и непринужденно.
Они выхватили ножи и начали медленно надвигаться. Джексон не отступал, выжидая. Он готов был сигануть назад в люк не хуже реактивного зайца, надеясь на то, что ему это удастся.
Затем двум самым воинственным дорогу преградил какой-то человек (Джексон решил, что их вполне можно называть «людьми»). Этот третий был постарше. Он что-то быстро говорил, жестами указывая на ракету. Те двое, с ножами, глядели в ее сторону.
— Правильно, — одобрительно сказал Джек-сон. — Посмотрите хорошенько. Большой-большой космический корабль. Полно крепкой выпивки. Очень мощная ракета, построенная по последнему слову техники. Вроде как заставляет остановиться и подумать, не так ли?
И заставило.
Инопланетяне остановились. Если они и не думали, то, по крайней мерз, очень много говорили. Они показывали то на корабль, то на свой город.
— Кажется, начинаете соображать, — сказал им Джексон. — Язык силы понятен всем, не так ли, родственнички?
Подобные сцены он уже не раз наблюдал на множестве других планет, и он мог почти наверняка сказать, что происходит.
Обычно действие разворачивалось так:
Незваный гость приземляется на диковинном космическом корабле, тем самым вызывая 1) любопытство, 2) страх и 3) враждебность. После нескольких минут трепетного созерцания один из местных жителей обычно говорит своему дружку:
— М-да! Эта проклятая железяка — чертовски мощная штука.
— Ты прав, Герби, — отвечает его друг Фред, второй туземец.
— Еще бы не прав, — говорит Герби. — Черт побери, с такой уймой мощной техники и всего прочего этому сукиному сыну ничего не стоит нас поработить. Я думаю, что он в самом деле может это сделать.
— Ты попал в точку, Герби, точно так и может случиться.
— Поэтому я вот что думаю, — продолжает Герби. — Давайте не будем испытывать судьбу. Конечно же, вид-то у него вполне дружелюбный, но просто он слишком силен, а это мне не нравится. И именно сейчас нам предоставляется самая подходящая возможность схватить его, потому что он просто стоит там и ждет, что ему будут аплодировать или что-нибудь в этом роде. Так что давайте вытряхнем душу из этого ублюдка, а потом все обсудим и посмотрим, какая складывается ситуация.
— Ей-богу, я — за! — восклицает Фред. Другие выказывают свое одобрение.
— Молодцы, ребята! — кричит Герби. — Давайте прямо сейчас накинемся на этого чужака и схватим его.
Итак, они трогаются с места, но неожиданно, в последний момент, вмешивается Старый Док, Он говорит:
— Погодите, ребята, так делать нельзя. Прежде всего у нас же есть законы…
— Плевать я на них хотел, — говорит Фред (прирожденный смутьян, к тому же с некоторой придурью).
— …и, не говоря уж о законах, это может просто представлять слишком большую опасность для вас.
— Мы с Фредом не из пугливых, — говорит доблестный Герби. — Может, вам, Док, лучше сходить в кино или еще куда. А этим займутся настоящие парни.
— Я не имел в виду непосредственную опасность для нашей жизни, — презрительно говорит Старый Док. — Я страшусь разрушения нашего города, гибели наших близких, уничтожения нашей культуры.
Герби и Фред останавливаются.
— Да о чем вы говорите, Док! Всего-то один вонючий инопланетянин. Пырнуть его ножом — так небось загнется не хуже нашего.
— Дураки! Schlemiels!
— громогласно негодует мудрый Старый Док. — Конечно, вы можете его убить! Но что будет потом?
— А что? — спрашивает Фред, прищуривая свои выпученные серо-голубые глаза.
— Идиоты! Cochons!
Думаете, у этих инопланетян только один корабль? Думаете, они не знают, куда отправился этот парень? Вы же должны соображать, что там, откуда он прилетел, полно таких кораблей и что там будут не на шутку обеспокоены, если его корабль не объявится в срок; и наконец, вы должны соображать, что, когда они выяснят причину задержки, они разъярятся, кинутся сюда и разнесут здесь все в пух и прах.
— С чего это я должен так предполагать? — спрашивает слабоумный Фред.
— Потому что сам ты на их месте поступил бы точно так же, верно?
— Может, в таких условиях я так бы и поступил, — говорит Фрэд с глуповатой ухмылкой. — Да, как раз такую штуку я и мог бы сделать. Но послушайте, авось они-то этого не сделают?
— Авось, авось, — передразнивает Старый Док. — Знаешь, малыш, мы не можем ставить все на карту, рассчитывая на твое дурацкое «авось». Мы не можем позволить себе убить этого инопланетного парня, надеясь на то, что авось его соплеменники не сделают того, что сделал бы на их месте любой нормальный человек, а именно — не сотрут нас в порошок…
— Что ж, возможно, этого делать нельзя, — говорит Герби. — Но, Док, что же нам можно сделать?
— Просто подождать и выяснить, что ему нужно.
2
Согласно достоверным данным сцены, очень похожие на эту, разыгрывались, по крайней мере, раз тридцать или сорок. Обычно результатом их была политика ожидания. Иногда посланца Земли убивали до того, как будет услышан голос здравого смысла, но за подобный риск Джексону и платили.
Всякий раз, когда убивали посланца, следовало возмездие, быстрое и ужасное в своей неотвратимости. Конечно, делалось это не без сожаления, потому что Земля была крайне цивилизованным местом, где привыкли уважать законы. А ни одна цивилизованная нация, придерживающаяся законов, не любит пачкать руки в крови. Люди на Земле в самом деле считают геноцид делом весьма неприятным, и они не любят читать о нем или о чем-либо подобном в утренних газетах. Конечно же, посланников нужно защищать, а убийство должно караться — это все знают. Но все равно неприятно читать о геноциде, попивая свой утренний кофе. Такие новости могут испортить настроение на весь день. Три-четыре геноцида, и человек может так рассердиться, что отдаст свой голос другому кандидату.
К счастью, основания для подобных неприятностей возникали не часто.
Инопланетяне обычно соображали довольно быстро. Несмотря на языковой барьер, они понимали, что убивать землянина просто нельзя.
А затем, позже, они понемногу усваивали все остальное.
Горячие головы спрятали свои ножи. Все улыбались, только Джексон скалился, как гиена. Инопланетяне грациозно жестикулировали руками и ногами. Возможно, это означало приветствие.
— Что же, очень приятно, — сказал Джексон и, в свою очередь, сделал несколько изящных телодвижений. — Ну вот я и чувствую себя как дома. Почему бы вам теперь не отвести меня к своему вождю, не показать мне город и все такое прочее? Потом я засяду за этот ваш язык, разберусь с ним, и мы немножко потолкуем. А после этого все будет идти как нельзя лучше. En avant!
С этими словами Джексон быстро зашагал в направлении города. Немного поколебавшись, его новоявленные друзья последовали за ним.
Все шло по плану.
Джексон, как и все другие специалисты по установлению контактов, был на редкость одаренным полиглотом. Основным оборудованием ему служила его собственная эйдетическая память и обостренный слух, позволяющий различать тончайшие оттенки звучания. Что еще более важно, у него были поразительные способности к языкам и сверхъестественная интуиция на значение слов. Когда Джексон сталкивался с непонятным языком, он быстро и безошибочно вычленял значащие единицы — основные «кирпичики» языка. В предложении он с легкостью выделял информационную часть, случаи модального употребления и эмоциональную окраску. Его опытное ухо сразу же различало грамматические явления. Приставки и суффиксы не затрудняли его; порядок слов, высота тона и удвоение были детской игрой. О такой науке, как лингвистика, он знал не слишком много, но ему и не нужно было много знать. Джексон был самородком. Наука о языке была разработана для того, чтобы описывать и объяснять то, что он и без нее интуитивно понимал.
До сих пор он еще не сталкивался с языком, которого он не смог бы выучить. Он не допускал даже мысли о его существовании. Своим друзьям из Клуба Раздвоенного Языка в Нью-Йорке он часто говорил так:
— Знаете, братва, ничего такого трудного в этих инопланетных языках нет. По крайней мере в тех, с которыми я сталкивался. Говорю вам это совершенно откровенно. Хочу сказать вам, ребята, что человек, который может изъясняться на кхмерском языке или сиукском наречии, не встретит слишком много затруднений там, среди звезд.
Так оно и было до сих пор…
Когда они прибыли в город, Джексону пришлось вынести множество утомительных церемоний. Они растянулись на три дня — явление вполне закономерное, ведь не каждый день приходилось принимать гостей из космоса. Поэтому, совершенно естественно, каждый мэр, губернатор, президент и ольдермен, а вдобавок еще и их жены, хотели пожать ему руку. Их вполне можно было понять, но Джексон терпеть не мог пустой траты времени. Его ждала работа, временами не очень приятная, и чем раньше он за нее возьмется, тем скорее кончит.
На четвертый день ему удалось свести на нет официальную дребедень. Именно в этот день Джексон всерьез взялся за местный язык.
Язык, как скажет вам любой лингвист, — несомненно, самое прекрасное из всех существующих творений человека. Но прекрасное нередко таит в себе опасность.
Язык можно удачно сравнить со сверкающей, вечно меняющейся поверхностью моря. Никогда не знаешь, какие скалы могут прятаться в его ясных глубинах. Самые прозрачные воды скрывают самые предательские мели.
Джексон был готов к любым трудностям, но поначалу он их не встретил. На основном языке (хон) этой планеты (На) говорило подавляющее большинство ее обитателей («Эн-а-То-На» — буквально: людей с планеты На, или наянцев, как для себя окрестил их Джексон). Язык хон показался ему несложным. Каждому понятию соответствовало лишь одно слово или словосочетание, и в этом языке не было слияния, соположения или агглютинации. Сложные понятия выражались через сочетания простых слов («космический корабль» у наянцев звучал как «хо-па-айе-ан» — корабль, летающий во внешнем небе). Таким образом, у хана было очень много общего с такими земными языками, как китайский и аннамитский. Высота тона служила не только для различения омонимов, но также могла иметь и позиционное употребление, где она выражала оттенки «воспринимаемого реализма», физического недомогания и три категории предвкушения чего-то приятного. Все это было умеренно интересным, но не представляло особой сложности для знающего лингвиста.
Конечно же, заниматься языком вроде хода было довольно нудным делом, потому что приходилось учить на намять длинные списки слов. Но высота тона и порядок слов были вещами довольно любопытными, не говоря уже о том, что без них невозможно было понять ни одного предложения. Так что в целом Джексон был вполне доволен и впитывал язык, как губка воду.
Прошло около недели, и для Джексона наступил день законной гордости. Он смог сказать своему наставнику:
— С прекрасным и приятным добрым утром вас, самый достойный уважения и почитаемый наставник; и как ваше благословенное здоровье в этот чудесный день?
— Примите мои самые
ирд вунковыепоздравления! — ответил наставник с улыбкой, полной глубокого тепла. — Дорогой ученик, ваше произношение великолепно! В самом деле, решительно
горд нак!И вы понимаете мой родной язык почти совсем
ур нактай.
Джексон весь просиял от похвал доброго старого наставника. Он был вполне доволен собой. Конечно, он не понял нескольких слов;
ирд вунковыеи
ур нак гайзвучали немного знакомо, но
гор накбыло совершенно неизвестным. Однако ошибки для любого новичка были делом естественным. Того, что он знал, было достаточно, чтобы понимать наянцев и чтобы они понимали его. Именно это и требовалось для его работы.
В этот день он вернулся на свой корабль. Люк оставался открытым со дня его прилета, но Джексон не обнаружил ни одной пропажи. Увидев это, он с сожалением покачал головой, но не позволил себе из-за этого расстраиваться. Наполнив карманы различными предметами, он неторопливо зашагал назад, в город. Он был готов приступить к заключительной, наиболее важной части своей работы.
3
В центре делового района, на пересечении улиц Ум и Альретто, он нашел то, что искал: контору по продаже недвижимости. Он вошел, и его провели в кабинет мистера Эрума, младшего компаньона фирмы.
— Замечательно, просто замечательно! — сказал Эрум, сердечно пожимая ему руку. — Для нас это большая честь, сэр, громадное, истинное удовольствие. Вы собираетесь что-нибудь приобрести?
— Да, именно это я и хочу сделать, — сказал Джексон. — Конечно, если у вас нет дискриминационных законов, которые запрещают вам торговать е иностранцами.
— Здесь у нас не будет никаких затруднений, — заверил его Эрум. — Напротив, нам доставит подлинное
ораиудовольствия видеть в наших деловых кругах человека вашей далекой славной цивилизации.
Джексон подавил усмешку.
— Тогда единственная трудность, которую я могу себе представить, — это вопрос законного платежного средства. Конечно же, у меня нет ваших денег; но у меня много золота, платины, бриллиантов и других предметов, которые на Земле считаются ценными.
— Здесь они тоже ценятся, — сказал Эрум. — Вы сказали «много»? Мой дорогой сэр{у нас не будет никаких затруднений. «И никакая
благлне омрачит наш
мити
агл», как сказал поэт.
— Именно так, — ответил Джексон. Эрум употреблял незнакомые ему слова, но это не имело значения. Основной смысл был достаточно ясен. — Итак, не подобрать ли нам для начала какой-нибудь заводик? В конце концов, должен же я буду чем-то занимать свое время. А потом мы сможем подыскать дом.
— Это просто
замечатник, — весело сказал Эрум. — Позвольте мне только
прорэйсташъсвои списки… Да, что вы скажете о фабрике
бромикана? Она в прекрасном состоянии, и ее можно легко перестроить на производство
вораили использовать как она есть.
— А велик ли спрос на
бромикан? — спросил Джексон.
— Ну конечно же, велик, даю свой
мургентанна отсечение!
Бромикансовершенно необходим, хотя его сбыт зависит от сезона. Видите ли, очищенный
бромикан,или
ариизи,используется в производстве
протигаша,а там, конечно же, урожай собирают к периоду солнцестояния. Исключением являются те отрасли этой промышленности, которые переключились на
переватуру тикотена.Они постоянно…
— Очень хорошо, достаточно, — прервал его Джексон. Ему было все равно, что такое
бромикан,и он не собирался иметь с ним никакого дела. Его устраивало любое предприятие, лишь бы оно приносило доход.
— Я куплю ее, — сказал он.
— Вы не пожалеете об этом, — замэтил Эрум. — Хорошая фабрика
бромикана —это
гарвелдис хагатис,ну прямо
многофой.
— Да, конечно, — согласился Джексон, сетуя в душе на скудость своего словарного запаса. — Сколько она стоит?
— Что вы, сэр, цена пусть вас не беспокоит. Только сначала вам придется заполнить
олланбритнуюанкету. Всего несколько
скенныхвопросов, которые никого не
нагут.
Эрум вручил Джексону бланк. Первый вопрос гласил: «
Эликировалили вы когда-либо
машек силически? Укажите даты всех случаев. Если таковые отсутствуют, укажите причину установленного
трансгрешального состоя».
Джексон не стал читать дальше.
— Что значит, — спросил он Эрума, —
эликировашъ машек силически?
— Что это значит? — неуверенно улыбнулся Эрум. — Ну, только то, что написано. По крайней мере, мне так кажется.
— Я хотел сказать, — поправился Джексон, — что я не понимаю этих слов. Не могли бы вы мне их объяснить?
— Нет ничего проще, — ответил Эрум. —
Эликироватъ машек —это почти то же самое, что
бифурить пробишкаи.
— Что, что? — спросил Джексон.
— Это означает — как бы вам сказать…
эликировашъ —это очень просто, хотя, быть может, закон на это смотрит иначе.
Скорбадизирование —один из видов
эликации,и то же самое —
гарирование мун-рава.Некоторые говорят, что, когда мы
дрорсическидышим вечерним
субсисом,мы фактически
эликируем.Я лично считаю, что у них слишком богатое воображение.
— Давайте попробуем
«машек», —предложил Джексон.
— Непременно, — ответил Эрум с непристойным смехом. — Если б только было можно, а? — И он игриво ткнул Джексона в бок.
— Хм, да, — холодно произнес Джексон. — Быть может, вы мне объясните, что такое, собственно,
«машка»?
— Конечно. В действительности такой вещи не существует, — ответил Эрум. — По крайней мере, в единственном числе. Говорить об одной
машкебыло бы логической ошибкой, понимаете?
— Поверю вам на слово. Тогда что такое
машки?
— Ну, во-первых, это объект эликации, а во-вторых, это полуразмерные деревянные сандалии, которые служат для возбуждения эротических фантазий у религиозных фанатиков Кьютора.
— Это уже кое-что! — воскликнул Джексон.
— Только если это в вашем вкусе, — ответил Эрум с заметной холодностью.
— Я имел в виду — для понимания вопроса анкеты…
— Конечно, извините меня, — сказал Эрум, — но, видите ли, здесь спрашивается,
эликировалили вы когда-нибудь
машек силически.А это уже совершенно другое дело.
— В самом деле?
— Конечно же! Это определение полностью меняет значение.
— Этого-то я и боялся, — сказал Джексон. — Я думаю, вы можете объяснить мне, что означает слово
силически?
— Несомненно! — воскликнул Эрум. — Наш с вами разговор — с известной долей
большоговоображения — можно назвать
силическипостроенным разговором.
— А, — произнес Джексон.
— Именно так, — сказал Эрум. —
Силически —это образ действия, способ. Это слово означает: «духовно ведущий вперед путем случайной дружбы».
— В этом уже больше смысла, — сказал Джексон. — В таком случае когда
силически эликируют машек?
— Я очень боюсь, что вы на ложном пути, — сказал Эрум. — Определение, которое я вам дал, верно только для описания разговора. А когда говорят о
машках —это нечто совершенно другое.
— А что оно значит в этом случае?
— Ну, оно означает — или, вернее, оно выражает случай продвинутой и усиленной
эликации машек,но с определенным
нмогнетическимуклоном. Лично я считаю это выражение несколько неудачным.
— А как бы вы это сформулировали?
— Я бы это так прямо и сказал, и к черту ложную стыдливость, — твердо заявил Эрум. — Я просто взял и сказал бы: «
Данфиглирилили вы когда-либо
вакнезаконным, аморальным или
инсиртиснымобразом, с согласия
брахнианаили без такового? Если да, укажите время и причину. Если нет, сообщите мотивы и
неугрис крис».
— Вот так бы вы это и сказали, да? — проговорил Джексон.
— Конечно, — с вызовом ответил Эрум. — Эти анкеты предназначены для взрослых, не так ли? Так почему же не взять и не назвать
спиглер спиглер
своими
спеями?Все когда-нибудь
данфиглярят вок,ну и что из того? Ради бога, это ведь ничьих чувств не оскорбляет. Я хочу сказать, что, в конце концов, это касается только самого человека и старой кривой деревяшки, поэтому кому какое до этого дело?!
— Деревяшки? — повторил Джексон.
— Да, деревяшки. Обыкновенной старой, грязной деревяшки, По крайней мере, так бы к ней и относились, если бы люди не вкладывали в это до нелепости много чувства.
— Что они делают с деревом? — быстро спросил Джексон.
— Делают? Ничего особенного, если присмотреться. Но для наших так называемых интеллигентов религиозная атмосфера слишком много значит. По-моему, они не способны отделить простую исконную сущность —
дерево —от тоге культурного
волътурнейсса,который окружает его на
праздерхиссе,а также в некоторой степени и на
ууисе.
— Интеллигенты — они все такие, — сказал Джексон. — Но вы-то можете отделить ее, и вы находите…
— Я не нахожу в этом ничего такого, из-за чего стоило бы волноваться. Я в самом деле так думаю. Я хочу сказать, что если смотреть на вещи правильно, то собор — это всего лишь куча камней, а лее — скопление атомов. Почему же данный случай мы должны рассматривать по-другому? Я думаю, что на самом деле
машекможно
силически эликироватъбез всякого дерева. Что вы на это скажете?
— Я поражен, — сказал Джексон.
— Поймите меня правильно! Я не утверждаю, что это легко, естественно или хотя бы верно. Но все равно это же возможно, черт возьми! Ведь можно заменить его на
кормную грейти,и все равно все получится! — Эрум замолчал и фыркнул от смеха. — Выглядеть вы будете глупо, но все равно у вас все получится.
— Очень интересно, — сказал Джексон.
— Боюсь, я несколько погорячился, — сказал Эрум, отирая пот со лба. — Я не очень громко говорил? Как вы думаете, мог меня кто-нибудь услышать?
— Конечно, нет. Все это было очень интересно. Сейчас я должен уйти, мистер Эрум, но завтра я вернусь, заполню анкету и куплю фабрику.
— Я придержу ее для вас. — Эрум поднялся и горячо пожал Джексону руку. — И еще я хочу вас поблагодарить. Нечасто удается поговорить так свободно и откровенно.
— Наша беседа была для меня очень поучительной, — сказал Джексон. Он вышел из кабинета Эрума и медленно зашагал к своему кораблю. Он был обеспокоен, огорчен и раздосадован. В здешнем языке все было почти совсем понятно, но это «почти» раздражало его. Как же это ему не удалось разобраться с этой
силической эликацией мошек!
— Ничего, — сказал он себе. — Джексон, малыш, сегодня вечером ты все выяснишь, а потом вернешься туда и мигом покончишь с их анкетами. Так что, парень, не лезь из-за этого в бутылку.
Он это выяснит. Он просто-таки должен это выяснить, потому что он должен стать владельцем какой-нибудь собственности.
В этом заключалась вторая половина его работы.
4
На Земле многое изменилось с тех скверных старых времен, когда можно было открыто вести захватнические войны. Как гласили учебники истории, в те далекие времена правитель мог просто послать свои войска и захватить то, что он хотел. И если кто-нибудь из его соотечественников набирался смелости спросить его, почему ему этого хочется, правитель мог приказать отрубить ему голову, бросить в темницу или завязать в мешок и кинуть в море. И при всем этом он даже вины за собой не чувствовал, потому что он неизменно верил, что он прав, а они — нет.
Эта политика, суть которой определялась термином «d’toit de seigneur»,
была одной из самых ярких черт «laissez — faire capitalizm»
в атмосфере которого жили древние.
Но с медленной сменой веков неумолимо происходили и культурные перемены. В мир пришла новая этика; медленно, но верно впитало в себя человечество понятия честности и справедливости. Правителей стали выбирать голосованием, и они должны были руководствоваться желаниями своих избирателей. Справедливость, милосердие и сострадание завоевали человеческие умы. Эти принципы сделали людей лучше, и все дальше в прошлое уходил старый закон джунглей и звериная дикость, которые царили на Земле в те древние времена до реконструкции.
Те дни ушли навсегда. Теперь ни один правитель не мог ничего захватить
просто так; избиратели ни за что не потерпели бы этого.
Теперь для захвата надо было иметь предлог.
К примеру, гражданин Земли, который совершенно законным и честным образом владеет собственностью на другой планете, срочно нуждается в военной помощи. Он запрашивает ее с Земли, чтобы защитить себя, свой дом, свои законные средства существования.
Но сначала надо эту собственность иметь. Он должен по-настоящему владеть ею, чтобы защитить себя от жалостливых конгрессменов и газетчиков, которые носятся с инопланетянами и всегда, стоит Земле прибрать к рукам другую планету, затевают расследование.
Обеспечить законное основание для захвата — вот для чего существовали специалисты по установлению контактов.
— Джексон, — сказал себе Джексон, — завтра ты получишь эту
бромикановуюфабричонку, и она станет твоей без всяких закавык. Слышишь, парень? Я это серьезно тебе говорю.
Назавтра незадолго до полудня Джексон вернулся в город. Нескольких часов напряженных занятий и долгой консультации со своим наставником хватило для того, чтобы он понял, в чем его ошибка.
Все было довольно просто. Он всего лишь немного поторопился, предположив, что в языке хон употребление корней имеет неизменный, крайне изолирующий характер. Исходя из уже известного, он думал, что для понимания языка важны только значение и порядок слов. Но это было не так. При дальнейшем исследовании Джексон обнаружил в языке хон некоторые неожиданные возможности: к примеру, аффиксацию и элементарную форму удвоения. Такая морфологическая непоследовательность была для него неожиданностью, поэтому вчера, когда он столкнулся с ее проявлениями, смысл речи стал ускользать от него.
Новые формы выучить было довольно легко. Но его беспокоило то, что они были совершенно нелогичны и их существование противоречило самому духу хона.
Ранее он вывел правило: одно слово имеет одну звуковую форму и одно значение. Но теперь он обнаружил восемнадцать важных исключений — сложных слов, построенных различными способами, и к каждому из них — ряд определяющих суффиксов. Для Джексона это было так же неожиданно, как если бы он натолкнулся в Антарктике на пальмовую рощу.
Он выучил эти восемнадцать исключений и подумал, что, когда он в конце концов вернется домой, он напишет об этом статью.
И на следующий день Джексон, ставший мудрее и осмотрительнее, твердым, размашистым шагом двинулся назад в город.
В кабинете Эрума он с легкостью заполнил правительственные анкеты. На тот первый вопрос,
«элукировалили вы когда-либо
машек силически»,он мог честно ответить «нет». Слово
машкаво множественном числе в своем основном значении соответствовало слову
женщинав единственном числе. Это же слово, употребленное подобным же образом, но в единственном числе, означало бы бесплотное состояние женственности.
Слово
эликация,конечно же, означало завершение половых отношений, если не употреблялось определяющее слово
силически.Тогда это безобидное слово приобретало в данном контексте взрывоопасный смысл.
Джексон мог честно написать, что, не будучи наянцем, он никогда подобных побуждений не имел.
Это было так просто. Джексон был недоволен собой — он ведь мог разобраться в этом сам.
На остальные вопросы он ответил легко и вернул бланк Эруму.
— Право же, это совершенно
скоу, —сказал Эрум. — Теперь нам осталось решить всего лишь несколько простых вопросов. Первым из них можно заняться прямо сейчас. Потом я организую короткую официальную церемонию подписания акта передачи собственности, вслед за чем мы рассмотрим несколько других небольших дел. Все это займет не более дня или около того, и тогда вы станете полновластным владельцем фабрики.
— Да, да, малыш, это замечательно, — сказал Джексон. Проволочки не волновали его. Напротив, он ожидал, что их будет намного больше. На большинстве планет жители быстро понимали, что к чему. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что Земля хочет получить то, что ей нужно, но желает, чтобы это выглядело законно.
Почему именно законно — догадаться было тоже не слишком сложно. Подавляющее большинство землян было идеалистами, и они горячо верили в принципы правды, справедливости, милосердия и тому подобное. И не только верили, но и позволяли себе руководствоваться этими благородными принципами в жизни. Кроме тех случаев, когда это было неудобно или невыгодно. Тогда они действовали сообразно своим интересам, но продолжали вести высоконравственные речи. Это означало, что они были
лицемерами,а такое понятие существовало у народа любой планеты.
Земляне желали получить то, что им было нужно, но они еще и хотели, чтобы все это хорошо выглядело. Этого иногда трудно было ожидать, особенно когда им было нужно не что-нибудь, а чужая планета. Но, так или иначе, они обычно добивались своего.
Люди многих планет понимали, что открытое сопротивление невозможно, и поэтому прибегали к тактике проволочек.
Иногда они отказывались продавать, или им без конца требовались всякие бумажки, или им нужна была санкция какого-нибудь местного чиновника, которого никогда не было на месте. Но посланец парировал каждый их удар.
Они отказываются продавать собственность по расовым мотивам? Земные законы особо воспрещают подобную практику, а Декларация Прав Разумных Существ гласит, что каждое разумное существо вольно жить и трудиться там, где ему нравится. За эту свободу Земля стала бы бороться, если бы ее кто-нибудь вынудил.
Они ставят палки в колеса? Земная Доктрина о временном характере частной собственности не допустит этого.
Нет на месте нужного чиновника? Единый Земной Закон против наложения на имущество косвенного ареста в случае отсутствия недвусмысленно запрещал такие порядки. И так далее, и тому подобное. В этой борьбе умов неизменно побеждала Земля, потому что того, кто сильнее, обычно признают и самым умным.
Но наянцы
даже не пыталисьсопротивляться, а это в глазах Джексона заслуживало самого глубокого презрения.
В обмен на земную платину Джексон получил на-янскую валюту — хрустящие бумажки по 50 врсо. Эрум просиял от удовольствия и сказал:
— Теперь, мистер Джексон, мы можем покончить с делами на сегодняшний день, если вы соблаговолите
тромбрамктуланчиритъ,как это принято.
Джексон повернулся, его глаза сузились, уголки рта опустились, а губы сжались в бескровную полоску.
— Что вы сказали?
— Я всего лишь попросил вас…
— Знаю, что попросили! Но что это значит?
— Ну, это значит… значит… — Эрум слабо засмеялся. — Это означает только то, что я сказал. Другими словами, выражаясь
этиболически…
Джексон тихо и угрожающе произнес:
— Дайте мне синоним.
— Синонима нет, — ответил Эрум.
— И все-таки, детка, советую тебе его вспомнить, — сказал Джексон, и его пальцы сомкнулись на горле наянца.
— Стойте! Подождите! На по-о-мощь! — вскричал Эрум. — Мистер Джексон, умоляю вас! Какой может быть синоним, когда понятию соответствует одно, и только одно слово — если мне дозволено будет так выразиться.
— За нос меня водить! — взревел Джексон. — Лучше кончай с этим, потому что у нас есть законы против умышленного сбивания с толку, преднамеренного обструкционизма, скрытого сверхжульничества и прочих ваших штучек. Слышишь, ты?
— Слышу, — пролепетал Эрум.
— Тогда слушай дальше:
кончай агглютинировать,ты, лживая скотина. У вас совершенно простой, заурядный язык аналитического типа, который отличает лишь его крайне изолирующая тенденция. А в таком языке, приятель, просто не бывает столько длинных путаных сложных слов. Ясно?
— Да, да! — закричал Эрум. — Но поверьте мне, я ни в коей мере не собираюсь
нумнискатерить!И не
нонискаккекаки,и вы действительно должны этому
дебрушили.
Джексон замахнулся на Эрума, но вовремя взял себя в руки. Неразумно бить инопланетян, если существует хоть какая-нибудь возможность того, что они говорят правду. На Земле этого не любят. Ему могут срезать зарплату; если же по несчастливой случайности он убьет Эрума, его можно поздравить с шестью месяцами тюрьмы.
Но все же…
— Я выясню, лжете вы или нет! — завопил Джексон и стремглав выскочил из кабинета.
Он бродил почти час, смешавшись с толпой в трущобах Грас-Эс, тянущихся вдоль мрачного, зловонного Унгпердиса. Никто не обращал на него внимания. По внешности его можно было принять за наянца, так же как и любой наянец мог сойти за землянина.
На углу улиц Ниис и Да Джексон обнаружил веселый кабачок и зашел туда.
Внутри было тихо, одни мужчины. Джексон заказал местное пиво. Когда его подали, он сказал бармену:
— На днях со мной приключилась странная история.
— Да ну? — сказал бармен.
— В самом деле, — ответил Джексон. — Понимаете, собирался заключить очень крупную сделку, а потом в последнюю минуту меня попросили
тромбрамктуланчиришъ,как это принято.
Он внимательно следил за реакцией бармена. На флегматичном лице наянца появилось легкое недоумение.
— Так почему вы этого не сделали? — спросил бармен.
— Вы хотите сказать, что вы бы на моем месте…
— Конечно, согласился бы. Черт побери, это же обычная
катанприптиая,ведь так?
— Ну да, — сказал один из бездельников у стойки. — Конечно, если вы не заподозрили, что они пытались
нумнискатеритъ.
— Нет, я не думаю, что они пытались сделать что-нибудь подобное, — упавшим, безжизненным голосом проговорил Джексон. Он заплатил за Еыпивку и направился к выходу.
— Послушайте! — крикнул ему вдогонку бармен. — Вы уверены, что они не
нонискаккекаки?
— Как знать, — сказал Джексон и, устало ссутулясь, вышел на улицу.
Джексон доверял своему природному чутью как в отношении языков, так и в отношении людей, А его интуиция говорила ему, что наянцы вели себя честно и не изощрялись перед ним во лжи. Эрум нэ т-эобр тал новых слов специально, чтобы запутать его, он и правда говорил на языке так как умел.
Но если это было так, тогда хон был очень странным языком. В самом деле, это был совершенно эксцентричный язык. И то, что происходило с этим языком, не было просто курьезом, это было катастрофой.
5
Вечером Джексон снова взялся за работу. Он обнаружил дополнительный ряд исключений, о существовании которых он не знал и даже не подозревал. Это была группа из двадцати девяти многозначных потенциаторов, которые сами по себе не несли никакой смысловой нагрузки. Однако другие слова в их присутствии приобретали множество сложных и противоречивых оттенков значения. Свойственный им вид потенциации зависел от их места в предложении.
Таким образом, когда Эрум попросил его «
тромбрамктуланчиритъ,как это принято», он просто хотел, чтобы Джексон почтительно поклонился, что было частью обязательного ритуала. Надо было соединить руки за головой и покачиваться на каблуках. Это действие следовало производить с выражением определенного, однако сдержанного удовольствия, в соответствии со всей обстановкой, сообразуясь с состоянием своего желудка и нервов, а также согласно своим религиозным и этическим принципам, памятуя о небольших колебаниях настроения, связанных с изменениями температуры и влажности, и не забывая о таких достоинствах, как терпение и снисходительность.
Все это было вполне понятно. И все полностью противоречило всему тому, что Джексон уже знал о языке хон.
Это было даже более чем противоречиво; это было немыслимо, невозможно и не укладывалось ни в какие рамки. Все равно что увидеть в холодной Антарктике пальмы, на которых вдобавок растут не кокосы, а мускатный виноград.
Этого не могло быть — однако так оно и было.
Джексон проделал то, что от него требовалось. Когда он кончил
тромбрамктуланчиритъ, какэто принято, ему осталась только официальная церемония и после этого — несколько мелких формальностей.
Эрум уверил его, что все это очень просто, но Джексон подозревал, что так или иначе, а трудности у него будут.
Поэтому-то он и уделил подготовке целых три дня. Он усердно работал, чтобы в совершенстве овладеть двадцатью девятью потенциаторами-исключениями в их наиболее употребимых положениях и безошибочно определять, какой потенциирующий эффект они оказывают в каждом из этих случаев.
К концу работы он устал как собака, а его показатель раздражимости поднялся до 97,3620 по Графхаймеру. Беспристрастный наблюдатель мог бы заметить зловещий блеск в его серо-голубых глазах.
Он был сыт по горло. Его мутило от языка хон и от всего наянского. Джексон испытывал головокружительное ощущение: чем больше он учил, тем меньше знал. В этом было что-то совершенно ненормальное.
— Хорошо, — сказал Джексон сам себе и всей Вселенной. — Я выучил наянский язык, я выучил множество совершенно необъяснимых исключений, и вдобавок к тому я выучил ряд дополнительных, еще более противоречивых исключений из исключений.
Джексон помолчал и очень тихо добавил:
— Я выучил
исключительноеколичество исключений. В самом деле, если посмотреть со стороны, то можно подумать, что в этом языке нет ничего, кроме исключений.
Но это, — продолжал он, — совершенно невозможно, немыслимо и неприемлемо. Язык по воле божьей и по самой сути своей систематичен, а это означает, что в нем должны быть какие-то правила. Только тогда люди смогут понимать друг друга. В том-то и смысл языка, таким он и должен быть. И если кто-нибудь думает, что можно дурачиться с языком при Фреде К. Джексоне…
Тут Джексон замолчал и вытащил из кобуры бластер. Он проверил заряд, снял оружие с предохранителя и снова спрятал его.
— Не советую больше пороть галиматью при старине Джексоне, — пробормотал старина Джексон, — потому что у первого же мерзкого и лживого инопланетянина, который попробует сделать это, будет трехдюймовая дырка во лбу.
С этими словами Джексон пошагал назад в город. Голова у него шла кругом, но он был полон решимости. Его делом было отобрать планету у ее обитателей — причем законно, а для этого он должен понимать их язык. Вот почему так или иначе он добьется ясности. Или кого-нибудь прикончит.
Одно из двух. Что именно, сейчас ему было все равно.
Эрум ждал его в своем кабинете. С ним были мэр, председатель совета города, глава округа, два ольдермена и член правления бюджетной палаты. Все они улыбались — вежливо, хотя и несколько нервно. На буфете были выставлены крепкие напитки. В комнате царила атмосфера товарищества поневоле.
В целом все это выглядело так, как будто в лице Джексона они приветствовали нового высокоуважаемого владельца собственности, украшение Факки. С инопланетянами такое иногда бывало: они делали хорошую мину при плохой игре, стараясь снискать милость землян, раз уж их победа была неизбежной.
—
Ман, —сказал Эрум, радостно пожимая ему руку.
— И тебе того же, крошка, — ответил Джексон. Он понятия не имел, что означает это слово. Это его и не волновало. У него был большой выбор других наянских слов, и он был полон решимости довести дело до конца.
—
Ман! —сказал мэр.
— Спасибо, папаша, — ответил Джексон.
—
Ман! —заявили другие чиновники.
— Очень рад, ребята, что вы к этому так относитесь, — сказал Джексон. Он повернулся к Эруму. — Вот что, давай-ка закончим с этим делом, ладно?
—
Ман-ман-ман, —ответил Эрум. —
Ман, ман-ман.
Несколько секунд Джексон с изумлением смотреч на него. Потом он спросил, сдержанно и тихо:
— Эрум, малыш, что именно ты пытаешься мне сказать?
—
Ман, ман, ман, —твердо заявил Эрум. —
Ман, ман ман ман. Ман ман. —Он помолчал и несколько нервно спросил мэра: —
Ман, ман?
— Ман… ман ман, —решительно ответил мэр, и другие чиновники закивали. Все они повернулись к Джексону.
—
Ман, ман-ман? —с дрожью в голосе, но с достоинством спросил его Эрум.
Джексон потерял дар речи. Его лицо побагровело от гнева, а на шее начала биться большая голубая жилка. Он заставил себя говорить медленно и спокойно, но в его голосе слышалась бесконечная угроза.
— Грязная захудалая деревенщина, — сказал он, — что это, паршивцы, вы себе позволяете?
—
Ман-ман? —спросил у Эрума мэр.
—
Ман-ман, ман-ман-ман, —быстро ответил Эрум, делая жест непонимания.
— Лучше говорите внятно, — сказал Джексон. Голос его все еще был тихим, но вена на шее вздулась, как пожарный шланг под давлением.
—
Ман! —быстро сказал один из ольдерменов главе округа.
—
Ман ман-ман ман? —жалобно ответил глава округа, и на последнем слове его голос сорвался.
— Так не хотите нормально разговаривать, да?
—
Ман! Ман-ман! —закричал мэр, и его лицо от страха стало мертвенно-бледным.
Остальные обернулись и тоже увидели, что Джексон вытащил бластер и прицелился в грудь Эрума.
— Кончайте ваши фокусы! — скомандовал Джексон. Вена на шее, казалось, душила его, как удав.
—
Ман-ман-ман! —взмолился Эрум, падая на колени.
—
Ман-ман-ман! —пронзительно вскричал мэр и, закатив глаза, упал в обморок.
— Вот сейчас ты у меня получишь, — скачал Эруму Джексон. Его палец на спусковом курке побелел.
У Эрума стучали зубы, но ему удалось сдавленно прохрипеть:
«Ман-ман-ман?»Потом его нервы сдали, и он стал ждать смерти с отвисшей челюстью и остекленевшим взором.
Курок сдвинулся с места, но внезапно Джексон отпустил палец и засунул бластер назад в кобуру.
—
Ман, ман! —сумел выговорить Эрум.
— Заткнись! — оборвал его Джексон. Он отступил назад и свирепо посмотрел на съежившихся наянских чиновников.
Ах, как бы ему хотелось всех их уничтожить! Но этого он сделать не мог. Джексону пришлось в конце концов признать неприемлемую для него действительность.
Его мозг полиглота проанализировал то, что услышало его непогрешимое ухо лингвиста. В смятении он понял, что наянцы не разыгрывают его. Это был настоящий язык, а не бессмыслица.
Сейчас этот язык состоял из единственного слова
«ман».Оно могло иметь самые различные значения, в зависимости от высоты тона и порядка слов, от их количества, от ударения, ритма и вида повтора, а также 6 т сопровождающих жестов и выражения лица.
Язык, состоящий из бесконечных вариаций одного-единственного слова! Джексон не хотел верить этому, По он был слишком хорошим лингвистом, чтобы сомневаться в том, о чем ему говорили его собственные чувства и опыт.
Конечно, он мог выучить этот язык.
Но во что он превратится к тому времени?
Джексон устало вздохнул и потер лицо. То, что случилось, было в некотором смысле неизбежным: ведь изменяются все языки. Но на Земле и на нескольких десятках миров, с которыми она установи ла контакты, этот процесс был относительно медленным.
На планете На это происходило быстрее. Намного быстрее.
Язык хон менялся, как на Земле меняются моды, только еще быстрее. Он был так же изменчив, как цены, как погода. Он менялся бесконечно и беспрестанно, в соответствии с неведомыми правилами и незримыми принципами. Он менял свою форму, как меняет свои очертания снежная лавина. Рядом с ним английский язык казался неподвижным ледником.
Язык планеты На был точным, невероятным подобием реки Гераклита. «Нельзя дважды вступить а одну и ту же реку, — сказал Гераклит, — ведь в ней вечно текут другие воды».
Эти простые слова Гераклита как нельзя более точно определяли сущность языка планеты На.
Это было плохо. Но еще хуже было то, что наблюдатель вроде Джексона не мог даже надеяться зафиксировать или выделить хотя бы одно звено из динамично движущейся цепи терминов, составляющих этот язык. Ведь подобная попытка наблюдателя сама по себе была бы достаточно грубым вмешательством в систему языка; она могла изменить эту систему и разрушить ее связи, тем самым вызывая в языке непредвиденные перемены. Вот почему, если из системы терминов выделить один, нарушатся их связи, и тогда само значение термина, согласно определению, будет ложным.
Сам факт подобных изменений делал недоступным как наблюдение за языком, так и выявление его закономерностей. Все попытки овладеть языком планеты На разбивались об его неопределимость. И Джексон понял, что воды реки Гераклита прямиком несут его в омут «индетерминизма» Гейзенберга».
Он был поражен, потрясен и смотрел на чиновников с чувством, похожим на благоговение.
— Вам это удалось, ребята, — сказал он им. — Вы побили систему. Старушка Земля и не заметила бы, как проглотила вас, и тут уж вы ничего бы не смогли поделать. Но у нас люди большие законники, а наш закон гласит, что любую сделку можно заключить только при одном условии: при уже налаженном общении.
—
Ман? —вежливо спросил Эрум.
— Так что я думаю, друзья, это значит, что я оставлю вас в покое, — сказал Джексон. — По крайней мере, до тех пор, пока не отменят этот закон. Но, черт возьми, ведь передышка — это лучшее, чего только можно желать, не так ли?
—
Ман ман, —нерешительно проговорил мэр.
— Ну, я пошел, — сказал Джексон. — Я за честную игру… Но если я когда-нибудь узнаю, что вы, наянцы, разыгрывали комедию…
Он не договорил. Не сказав больше ни слова, он повернулся и пошел к своей ракете.
Через полчаса корабль стартовал, а еще через пятнадцать минут лег на курс.
6
В кабинете Эрума чиновники наблюдали за кораблем Джексона, который сверкал, как комета, в темном вечернем небе. Он превратился в крошечную точку и пропал в необъятном космосе.
Некоторое время чиновники молчали; потом они повернулись и посмотрели друг на друга. Внезапно ни с того ни с сего они разразились смехом. Они хохотали все сильнее и сильнее, схватившись за бока, а по их щекам текли слезы.
Первым с истерией справился мэр. Взяв себя в руки, он сказал:
— Ман, ман, ман-ман.
Эта мысль мгновенно отрезвила остальных. Веселье стихло. С тревогой созерцали они далекое враждебное небо, и перед их глазами проходили события последних дней.
Наконец молодой Эрум спросил:
— Ман-ман? Ман-ман?
Несколько чиновников улыбнулись его наивности. И все же никто не смог ответить на этот простой, но жизненно важный вопрос. В самом деле, почему? Отважился ли кто-нибудь хотя бы предположить ответ?
Эта неопределенность не только не проливала света на прошлое, но и ставила под сомнение будущее. И если нельзя было дать правильного ответа на этот вопрос, то не иметь вообще никакого ответа было невыносимо.
Молчание затянулось, и губы молодого Эрума скривились в не по возрасту циничной усмешке. Он довольно грубо заявил:
— Ман! Ман-ман! Ман?
Его оскорбительные слова были продиктованы всего лишь поспешной жестокостью молодости; но такое заявление нельзя было оставить без внимания. И почтенный первый ольдермен выступил вперед, чтобы попробовать дать ответ,
— Ман ман, ман-ман, —сказал старик с обезоруживающей простотой. —
Ман ман ман-ман? Май ман-ман-ман. Ман ман ман; ман ман. Ман, ман ман ман-ман ман ман. Ман-ман? Ман ман ман ман!
Вера, прозвучавшая в этих словах, тронула Эрума до глубины души. Его глаза неожиданно наполнились слезами. Позабыв об условностях, он поднял лицо к небу, сжал руку в кулак и прокричал:
— Ман! Ман! Ман-ман!
Невозмутимо улыбаясь, старик ольдермен тихо прошептал:
— Ман-ман-ман, ман, ман-ман.
Как ни странно, эти слова и были правильным ответом на вопрос Эрума. Но эта удивительная правда была такой страшной, что, пожалуй, даже к лучшему, что, кроме них, никто ничего не слышал.
РИЧАРД МАККЕННА
Новое и довольно многочисленное поколение американских научных фантастов продолжает исследовать «космическое» измерение мира и человека, открытое интуицией своих старших собратьев еще в 30-е годы. В их «игре ума», как ни странно, прослеживается четкая закономерность. Она как бы подсказывает читателю сам характер художественного исследования «мира будущего», предполагает определенный тип построения сюжета и стиль повествования. Читатель обязан преодолеть порог обыденного, чтобы войти в необыкновенную вселенную автора, и автор должен помочь ему в этом. Еще важнее — автор сам нуждается в специфических художественных средствах, чтобы «обжить» новый и для него мир.
Почти во всех произведениях современных американских фантастов вхождение в Новое осуществляется по ступенькам рациональности, ибо «рациональность фантастического» привязывает Новое к привычным реалиям, усыпляет предубеждения читателя и тем самым облегчает принятие главного, «сверхъестественного».
Подобным же целям служит приключенческий стиль повествования — благодаря интенсивному сопереживанию и увлеченности действием читатель опять-таки легче подводится к главному и легче воспринимает «мир будущего» как свой, как одну из своих собственных возможностей.
Таковы средства научно-фантастической «игры ума». Содержание же самих произведений, их глубинные идеи и подспудные мотивы определяются классовой системой ценностей, разделяемой тем или иным писателем.
Большинство авторов «новой волны» американской научной фантастики не могут, к сожалению, выйти за пределы буржуазного мировоззрения. Подобная классовая ограниченность обрекает их на эпигонство, на творческую неоригинальность. Они в разных вариациях, искусных и менее искусных, повторяют давно сказанное другими. Налет эпигонства заметен даже в произведениях таких талантливых представителей «новой волны», как Л. Нивен, Р. Железны, Д. Кейес, С. Делает и др. В то же время нельзя отрицать, что лучшие произведения американских фантастов последних лет сильны своей демократической направленностью, уважением к человеку.
В этом плане типично творчество Ричарда Маккенны (1913–1966). Он — выходец из народа, по профессии судовой механик, много лет прослужил во флоте. Труден был его путь к писательству, но тяга к неизведанному, открытие «космического измерения» жизни властно звали к творчеству. Ему было за сорок, когда он начал писать профессионально. Известность принес роман «Булыжники из песка». Несколько десятков научно-фантастических рассказов закрепили его репутацию. Но лучшее его произведение — рассказ «Тайник» — увидело свет, увы, уже после смерти автора. На ежегодном конкурсе американских фантастов рассказ «Тайник» был удостоен премии «Небьюла».
ТАЙНИК
Сегодня утром мой сын спросил меня, чем я занимался во время войны. Ему уже пятнадцать, и я ума не приложу, почему он никогда не спрашивал об этом раньше. Понятия не имею, почему я даже не предвидел такого его вопроса.
Он как раз собирался в лагерь, и мне удалось отделаться от него одной фразой, что я выполнял заданно правительства. В лагере он проведет две недели. Пока его наставникам не наскучит понукать его, он будет делать то же, что и все его сверстники, и не хуже их. Но едва его оставят в покое, он тут же примется разглядывать какой-нибудь муравейник или уткнется в какую-нибудь из своих книжек. Последнее его увлечение — астрономия. А как только он вернется домой, он тут же снова спросит меня, чем я занимался во время войны, и никуда не денешься — придется ответить.
Но я и сам не вполне понимаю, чем я занимался в; время войны. Подчас мне кажется, что отряд, в котором я состоял, сражался — не на жизнь, а на смерть — с легендой местного значения и один лишь полковник Льюис отдавал себе в этом отчет. Победили ли мы ее? Право, не знаю. Знаю другое: от иных людей война потребовала риска несравнимо более тяжкого и безвестного, чем просто рискнуть своей головой в бою. От меня, например.
Все началось в 1931 году, когда в пустыне близ поселка Баркер, штат Орегон, нашли бездыханное тело мальчишки. При нем оказался мешочек с золотоносной рудой и солидный, размером с палец, кристалл двуокиси урана. Кристалл как странная диковина попал в конце концов в пробирную палату в Солт-Лейк-Сити и осел там до 1942 года, когда вдруг приобрел невероятно важное значение. Армейская разведка установила, что его добыли, по-видимому, в окрестностях Баркера, в районе площадью примерно сто квадратных миль. Доктора Льюиса призвали на службу как полковника запаса и приказали ему искать жилу. Но весь район со времен миоцена был перекрыт тысячефутовым слоем лавы, и искать здесь пегматитовые пласты было, с геологической точки зрения, совершенной нелепостью. Здесь не наблюдалось никаких размывов, район вообще никогда не подвергался оледенению. Доктор Льюис сразу же возразил, что кристалл мог появиться здесь лишь при посредстве человеческих рук.
Пользы его, возражения не принесли. Ему ответили, что рассуждать не входит в его обязанности. Высшее начальство все равно не будет удовлетворено до тех пор, пока на поиски не уйдет бездна денег и трудов. Армия мобилизовала в помощь полковнику группу выпускников геологических колледжей, включая и меня, и потребовала регулярно докладывать, как идут дела. Во имя нашего блага, а может, и от отчаяния доктор Льюис решил устроить для нас образцовую полевую практику: мы без устали рисовали схемы и отмечали на них, сколько слоев базальта и какой толщины отделяет нас от довулканических миоценовых пород. По крайней мере, мы тем самым могли внести свой вклад в науку о строении Колумбийского плато. А попутно собрать решающие доказательства, что урановой руды здесь нет и в помине, — выходит, мы ели свой хлеб не даром.
Унылое местечко этот Орегон! Район поисков представлял собой скучную плоскую равнину; повсюду виднелись обнажения черной лавы, а между ними — скудная серая почва с жиденькими кустиками полыни. Летом здесь сушь и жара, зимой земля едва припорошена тощим снежком. А ветры дуют вдоль и поперек и зимой и летом. Во всем Баркере насчитывалась от силы сотня деревянных домишек по пыльным улочкам да еще несколько амбаров за околицей. Местная молодежь ушла на войну или на военные заводы, а старики, казалось, нас просто возненавидели. Нас было двадцать человек, не считая бурильщиков, которые работали по контракту и жили в собственном городке на колесах; мы же, так сказать, оставались с поселком лицом к лицу. Спали мы и ели в строении под названием «Колторп-хауз», на той же улочке, где располагалась наша штаб-квартира. Снабжали нас отдельно от поселка, и для жителей его мы были все равно что завоеватели с Марса.
И тем не менее мне наша жизнь нравилась. Доктор Льюис обращался с нами как со студентами, читал нам лекции, проводил опросы, рекомендовал литературу. Он проявил себя хорошим учителем и незаурядным ученым, и мы его любили. Каждому из нас он дал полное представление обо всех этапах работы, Я начал с картографических съемок на поверхности, затем гнул хребет с бурильщиками, которые прогрызали базальт до коренных гранитов в тысячах футов под нами. Наконец, я занимался гравиметрическими и сейсмическими измерениями. Дух товарищества царил в нашей среде; мы понимали, что геофизическим экспедиционным навыкам, какие мы получаем изо дня в день, буквально нет цены. Для себя я решил, что после войны буду готовить диссертацию по геофизике. Разумеется, под руководством доктора Льюиса.
В 1944 году, к началу лета, полевые работы закончились. Бурильщики отбыли восвояси. Мы упаковали тонны керна, ящики гравиметрических таблиц и рулоны снятых с сейсмографов лент — все это теперь перекочевывало в лабораторию доктора Льюиса в Средне-западном университете. Там нам предстояли новые месяцы бесценной тренировки — полученные нами данные следовало превратить в связку геофизических карт. Собирались мы лихорадочно, только и разговоров было, что на днях мы снова увидим девушек и организуем вечеринку. Но тут армейское начальство распорядилось, чтобы часть отряда продолжила полевые изыскания. Доктор Льюис формально подчинился распоряжению, но оставил всего-то одного человека, и выбор пал на меня.
Я чувствовал себя уязвленным в самое сердце. Словно меня ни за что ни про что исключили из университета. На мой взгляд, он обошелся со мной жестоко и бессердечно.
— Раз в день садитесь в машину и катайтесь по окрестностям со счетчиком Гейгера, — сказал мне Льюис. — А потом сидите себе в конторе и отвечайте на телефонные звонки…
— А если начальство позвонит в мое отсутствие? — мрачно осведомился я.
— Наймите секретаря, — ответил он. — Это вам разрешается.
И они уехали, оставив меня в звании начальника партии, но без подчиненных, бросив меня на растерзание враждебно настроенным туземцам. Я пришел к выводу, что ненавижу полковника Льюиса лютой ненавистью и жажду случая, чтобы ему отомстить. Несколько дней спустя старый Дейв Джентри подсказал мне, как это сделать.
Дейв был худой, иссохший старик с седыми усами; столовался я теперь там же, где и жители Баркера, и мне досталось место с ним рядом. Каждая трапеза оборачивалась для меня пыткой. Я поневоле слышал ехидные реплики, что вот иные молодые люди прячутся за чужие спины, не желают воевать и только зря переводят деньги налогоплательщиков. Однажды за ужином я не выдержал, швырнул вилку в недоеденные бобы и встал.
— Армия прислала меня сюда, и армия не выпускает меня отсюда, — заявил я старикам и старухам, сидящим вокруг стола. — Мне тоже хотелось бы отправиться за моря и резать самураям глотки, защищая вас и отечество. Честное слово, хотелось бы! Чем брюзжать, лучше взяли бы и написали петицию своему конгрессмену…
Чеканя шаг, я вышел из-за стола на веранду. В душе моей клокотало негодование. Старый Дейв вышел вслед за мной.
— Не горячись, сынок, — сказал он. — Они сердятся на правительство, а вовсе не на тебя. Но до правительства как до звезд, а до тебя рукой подать…
— Добро бы рукой, а то плеткой, — отозвался я с горечью.
— На то есть свои причины, — заметил Дейв. — Уж если искать исчезнувшие сокровища, то совсем не так, как за это принялись вы. Ну и кроме того, «Рудник полоумного малыша» вообще не про вас, это наша собственность. Наша, жителей Баркера.
Ему перевалило за семьдесят, он присматривал за лошадьми на постоялом дворе. Носил он потертый жилет нараспашку, выцветшие подтяжки и серую фланелевую рубаху, и никому бы в голову не пришло заподозрить в нем мудреца. Но он был мудрец.
— Края тут необъятные, необжитые, пустынные, — продолжал он, — людям тут нелегко. Вот в каждом поселке и рассказывают об исчезнувшем руднике или о заброшенном тайнике с золотом. Ищут их одни несмышленые дети. Для взрослых, для большинства, довольно знать, что сокровища где-то рядом. Это помогает им выжить в наших местах…
— Понимаю, — откликнулся я. Что-то такое, незваное и странное шевельнулось в самой глубине моего сознания.
— А у нас в Баркере своего исчезнувшего рудника не было, — произнес Дейв. — Завелся каких-то тринадцать лет назад. И, понятно, людям вовсе не по вкусу, что вы хотите отобрать его у них грубой силой, да еще так скоро…
— Нам прекрасно известно, что никакого рудника здесь нет, — сказал я. — Мы докажем, что его нет, вот и все.
— Если бы вы могли это доказать, — ответил Дейв, — было бы еще хуже. Да только ничего вы не можете. Мы сами видели руду, держали ее в руках. Это был кварц, насквозь проросший чешуйками и жилками золота. И мальчишка добрался до него из дому пешком. Залежь должна быть где-то здесь, совсем близко!.
Он взметнул руку в ту сторону, где мы и вели поиски. Над равниной нависли прозрачные сумерки, и я, к собственному своему изумлению, вдруг понял, что во мне просыпается интерес к его словам. Полковник Льюис непрестанно втолковывал нам, чтобы мы не слишком-то верили в эти россказни. И если кто-нибудь из наших вспоминал про них, то я сам первым принимался его высмеивать, и обычно мы хором предлагали бедолаге обойти район с магическим ивовым прутиком. Мы свято верили, что никакой жилы здесь нет и никогда не было. Но теперь я остался один и к тому же сам себе начальник…
Дейв и я, не сговариваясь, оперлись одной ногой на нижнюю перекладину перил; не сговариваясь, опустили руки и положили их на колено. Дейв выплюнул табачную жвачку и поведал мне историю Оуэна Прайса.
— Он всегда был тронутый, — говорил Дейв, — Сдается мне, перечитал все книжки, какие нашлись в поселке. Натура у него, у малыша, была неугомонная…
Я не фольклорист, но даже я без труда видел, что к рассказу уже примешались крупицы вымысла. К примеру, Дейв уверял, что рубаха на мальчишке была порвана в клочья, а на спине у него виднелись кровавые борозды.
— Словно кугуар его когтями полоснул, — говорил Дейв. — Но какие здесь в пустыне кугуары! Мы пошли назад по следам малыша и шли, пока не сбились, — он так петлял, что вконец нас запутал, — но ни одного отпечатка звериной лапы мы не видали… Я мог бы, конечно, выкинуть эту чепуху из головы, и все же история захватила меня. Может, виной тому была неспешная, уверенная манера рассказчика, может, обманчивые сумерки, а может, мое уязвленное самолюбие. Но мне подумалось, что в крупных лавовых полях подчас встречаются разрывы и на поверхность выдавливаются огромные глыбы исконных пород. А что, если такой же выброс случился где-нибудь поблизости? Выброс, вероятно, невелик, футов двести-триста в поперечнике, и наши буровые нечаянно миновали его, а там полным-полно урана. Обнаружь я его — полковник Льюис стал бы всеобщим посмешищем. Самые основы геологии оказались бы подорванными. И это сделал бы я, Дьюард Кемпбелл, я, которого отвергли, которым пренебрегли. Весь мой здравый смысл восставал против таких нелепых выдумок, но какая-то бестия, прячущаяся в глубинах сознания, уже принялась сочинять злорадное письмо полковнику Льюису, и это занятие мне понравилось.
— Кое-кто у нас уверен, — говорил Дейв, — что сестренка малыша могла бы рассказать, где он нашел свой клад, если бы захотела. Она частенько бегала в пустыню вместе с ним. И когда все это приключилось, она словно ополоумела, а потом и вовсе онемела, но теперь, я слышал, балакает опять. — Он покачал головой. — Бедняжка Элен, она, похоже, выросла бы красавицей…
— А где она живет? — осведомился я.
— С мамашей в Сейлеме, — ответил Дейв. — Окончила курсы, нанялась секретаршей к какому-то тамошнему юристу…
Миссис Прайс оказалась женщиной пожилой и весьма суровой, а ее влияние на дочь почти не ведало границ. Она согласилась на предложение, чтобы Элен стала моей секретаршей, едва я упомянул цифру жалованья. Что касается допуска на Элен, я получил его с первого телефонного звонка: она уже проходила проверку, когда расследовали происхождение того злополучного кристалла. Оберегая репутацию дочери, миссис Прайс позаботилась о том, чтобы Элен нашла приют у ее знакомых в Баркере. Впрочем, репутация была вне опасности. Я не остановился бы перед тем, чтобы сделать Элен своей любовницей, если бы это помогло мне добиться цели, я вытянул бы из нее ее секрет лаской, если бы он только существовал. Но какой я мог принести ей вред, если сам прекрасно знал, что лишь разыгрываю представление под названием «Месть Дьюарда Кемпбелла»? Я же знал, что никакого урана мы никогда не найдем.
Элен была обыкновенная худенькая девочка, этакая перепуганная льдинка. Она носила туфли на низких каблуках, нитяные чулки и простенькие платьица с беленькими воротничками и манжетами. Единственной примечательной ее чертой была безупречно гладкая кожа — выгнутые темные брови, голубые с поволокой глаза и эта кожа придавали ей по временам вид совершенно неземной. Сидит она, бывало, опрятненькая, самопогруженная, коленки вместе, локотки прижаты, очи долу, голосок еле слышен — неприступная, как улитка в раковине. Стол ее располагался напротив моего, и она сидела так целыми днями, выполняла все, что бы я ей ни поручал, но расшевелить ее не удавалось никакими силами.
Я пытался шутить, пытался дарить ей всякие пустячки и оказывать знаки внимания, пытался напускать на себя печаль и делать вид, что остро нуждаюсь в жалости. Она выслушивала меня и продолжала работать — и оставалась далека, как звезда. Только через две недели и то по чистой случайности я сумел подобрать к ней ключик.
В тот день я решил бить на симпатию. Я заявил, что все бы ничего, что можно жить и в ссылке, вдали от дома и от друзей, но чего я положительно не способен вынести, так это унылого однообразия района поисков. Каждая его точка, мол, походит на любую другую, и на всем его протяжении нет ни одного живописного уголка. Что-то затеплилось в ней, и она взглянула на меня так, словно только что проснулась.
— Да тут полно удивительных мест, — сказала она.
— Садитесь в «джип» и покажите мне хоть одно, — бросил я с вызовом.
Она упиралась, но я насел на нее с ножом к горлу. Я повел «джип» в пустыню — он трясся и кренился, объезжая лавовые проплешины. Наша карта врезалась мне в память во всех деталях, и я знал, где он едет, знал каждую минуту, но только по координатам. Мы разбросали по пустыне дополнительные ориентиры: буровые скважины, воронки от сейсмических взрывов, деревянные вешки, консервные банки, бутылки и бумажки, пляшущие на нескончаемом ветру, — и все равно она оставалась до отчаяния однообразной.
— Скажите мне, когда мы доберемся до какого-нибудь из ваших удивительных мест, и я остановлюсь, — объявил я.
— Да тут кругом такие места, — отвечала она. — Прямо здесь, например.
Я остановил машину и посмотрел на Элен в изумлении. Голос ее стал грудным и сильным, глаза широко раскрылись. Она улыбалась — этого я вообще еще никогда не видел.
— А что здесь особенного? — поинтересовался я. — Чем замечательно это место?
Она не ответила. Она вышла из машины и отошла на десяток шагов. Самая ее осанка изменилась — она чуть ли не танцевала. Я приблизился и тронул ее за плечо.
— Ну скажите, что здесь особенного? — повторили.
Она обернулась, но глаза ее смотрели не на меня, а мимо и вдаль. В ней появилась какая-то новая грация, она излучала энергию и стала вдруг очень хорошенькой.
— Здесь водятся псы, — сказала она.
— Псы?!.
Я внимательно оглядел чахлую полынь на убогих клочках земли, затерянных среди уродливых черных скал, и вновь перевел глаза на Элен. Что-то было неладно.
— Большие глупые псы, — сказала она. — Они пасутся стадами и едят траву. — Она продолжала озираться и всматриваться. — Огромные кошки нападают на псов и пожирают их. А псы плачут, плачут. Разве вы не слышите?…
— Но это безумие! — воскликнул я. — Что с вами?
С таким же успехом я мог бы ее ударить. Она мгновенно вновь замкнулась в себе, и я едва расслышал ответ.
— Простите меня. Мы с братом играли здесь в свои игры. Это была для нас вроде как сказочная страна, — На глаза Элен навернулись слезы. — Я и бывала здесь с тех самых пор, как… Я забылась. Простите меня.
Пришлось поклясться, что мне необходимо диктовать ей «полевые заметки», чтобы снова вытащить Элен в пустыню. Она сидела в «джипе» со своим блокнотом и карандашом, будто одеревенев, а я лицедействовал ее счетчикам Гейгера и бормотал тарабарщину на геологическом жаргоне. Плотно поджав побледневшие губы, она отчаянно боролась со слышным ей одной зовом пустыни, и я видел, что она потихоньку проигрывает в этой борьбе.
В конце концов она опять впала в то же самое странное состояние, и на этот раз я уж постарался не нарушить его. Диковинным и удивительным был этот день, и я узнал много нового. Каждое утро я заставлял ее выезжать и вести «полевые заметки», и с каждым разом было все легче и легче сломить ее. Но едва мы возвращались в контору, она опять цепенела, и оставалось только диву даваться, каким же образом в одном теле уживаются два столь разных человека. Я называл два ее воплощения: «Элен из конторы» и «Элен из пустыни».
Частенько после ужина я беседовал на веранде со старым Дейвом. Однажды вечером он предупредил меня:
— Люди болтают, что с тех пор, как помер ее брат, Элен слегка не в своем уме. Они беспокоятся за тебя. И за нее…
— Я отношусь к ней как старший брат, — отвечал я. — Я никогда ее не обижу, Дейв. И если вдруг мы отыщем залежь, я позабочусь, чтобы ей хорошо заплатили…
Дейв покачал головой. Хотел бы я объяснить ему, что это всего-навсего безобидная игра и что никто никогда не найдет здесь никакого золота. И тем не менее игра захватила меня.
«Элен из пустыни» была само очарование, когда, беспомощная, сама того не желая, выдавала мне свои тайны. В теле женщины жила маленькая девочка. Голос ее обретал звучность, хотя она едва дышала от возбуждения, лицо становилось живым и проказливым, и та же чудесная перемена задевала и меня. Смеясь, Элен носилась меж черных камней и тусклой полыни и в мгновение ока наделяла их красотой. Она взяла в привычку водить меня за руку, случалось, мы с ней убегали от «джипа» на добрую милю. Обращалась она со мной, как если бы я был слепец или малое дитя.
— Нет, нет, Дьюард, не ходи туда, там обрыв! — бывало, восклицала она, оттаскивая меня прочь.
Обычно она шла первой, чтобы я, например, без труда отыскал камушки, по которым можно безопасно переправиться через ручей. Мне оставалось только подыгрывать. Она показывала мне леса и реки, утесы и замки. Страну населяли косматые лошади с когтями, золотые птицы, верблюды, ведьмы, слоны и множество всяких других существ. Я притворялся, что вижу их, и это делало ее доверчивой. И она пересказывала и исполняла в лицах все сказки, в какие когда-то играла с Оуэном. То он оказывался околдован, то она, и тому, кто сохранял свободу, приходилось бросить вызов ведьме или великану, чтобы снять наложенные ими чары и спасти другого. Иногда я оставался Дьюардом, а подчас я и сам почти верил в то, что я Оуэн.
Мы с Элен прокрадывались в заколдованные замки и, замирая от страха, прятались от великана, который разыскивал нас, бормоча проклятья, а потом мы удирали рука в руке из-под самого его носа.
Ну что ж, я добился того, чего хотел. Я подыгрывал Элен, но не упускал из виду и собственную свою игру. По вечерам я наносил на карту все, что узнавал за день о топографии волшебной страны. Геоморфологическое ее строение было удивительно правдоподобным.
Во время игры я то и дело намекал на сокровище великана. Элен не отрицала, что такое сокровище существует, но ответы ее становились смятенными и уклончивыми. Она подносила палец к губам и смотрела на меня в упор серьезными, округлившимися глазами.
— Брать можно только то, что никому не нужно, — втолковывала мне она. — Но если хоть пальцем тронуть золото или драгоценный камень, на наши головы обрушатся ужасные беды…
— А я знаю заклинание, которое отводит все беды, — возразил я однажды, — и тебя научу ему. Это самое сильное, самое волшебное заклинание в мире…
— Нет, нет. Сокровище обратится в прах. Монеты превратятся в гнилые бобы, ожерелья в мертвых змей и так далее, — отвечала она упрямо. — Оуэн предупреждал меня. Таков закон волшебной страны.
В другой раз мы заговорили о сокровище, сидя в темном ущелье у водопада. Мы говорили шепотом, чтобы, не разбудить великана. И водопад был не просто водопад, а еще и храп, исторгаемый великаном, — а на самом деле ветер, что, как всегда, завывал в пустыне.
— Разве Оуэн никогда ничего не берет? — спросил я.
К тому времени я уже усвоил, что об Оуэне следует спрашивать, как если бы он был жив.
— Иногда приходится, — отвечала она. — Как-то раз злая колдунья превратила меня в безобразную жабу. Оуэн положил мне на голову цветок, и тогда я снова стала Элен.
— Цветок? Самый настоящий цветок? И ты взяла ел> домой?
— Большой цветок, красный с желтым. Такой большой, что не умещался в ладонях. Я хотела взять его домой, но все лепестки осыпались…
— А Оуэн ничего не берет домой?
— Только камушки, и то не часто. Мы сделали для них в сарае тайник вроде гнездышка. А вдруг это вовсе не камушки, а волшебные яйца…
Я встал.
— Пойдем, покажи мне их.
Она отпрянула, резко качнув головой.
— Не хочу домой, — заявила она. — Ни за что!
Она вырывалась и кривила губы, но я рывком поднял ее на ноги.
— Ну, пожалуйста, Элен, ради меня, — попросил я. — Заедем хоть на минуточку…
Я затащил ее обратно в «джип», и мы подъехали к домику, где когда-то жили Прайсы. Нам и раньше случалось проезжать мимо, и Элен каждый раз старательно отводила глаза, — не подняла она их и на этот раз. Она опять цепенела, превращаясь в «Элен из конторы». И тем не менее она и я следом за ней обогнули старый домик, покосившийся, с выбитыми стеклами, и пробрались в полуразрушенный сарай. Она откинула солому, наваленную в углу, и там действительно лежали кусочки горных пород. Я даже не понимал, насколько я взволнован, пока не испытал разочарования, подобного удару в солнечное сплетение.
Это были никчемные, обточенные водой кусочки и кварца и розового гранита. Совершенно заурядные, если бы не одно обстоятельство: им просто неоткуда было взяться в базальтовой пустыне.
Через две-три недели мы перестали прикидываться, что ведем «полевые заметки», и ездили в пустыню с откровенной целью поиграть. Волшебная страна Элен была уже почти полностью нанесена на карту. С одной стороны гора — недавний сброс, казалось, обрушил с нее крупные глыбы к реке, текущей вдоль подножия, — ас другой стороны к реке мягко сбегала равнина. Крутой берег был лесист, изрезан глубокими ущельями, горные отроги там и сям венчали замки. Я настойчиво проверял Элен, но не было случая, чтобы она запуталась. Правда, время от времени она словно бы впадала в нерешительность, но тогда ужо я сам подсказывал ей, где ока, и это позволило мне проникнуть в ее тайную жизнь еще глубже. В одно прекрасное утро я осознал, что глубже, пожалуй, некуда.
Она сидела на какой-то колоде в лесу и плела корзинку из листьев папоротника. Я стоял рядом. Вдруг она подняла глаза и улыбнулась мне.
— Во что мы будем играть сегодня, Оуэн?
Такого я не ожидал и гордился тем, что мгновенно нашел выход из положения. Я отпрыгнул и ускакал, затем вернулся к ней и улегся у ее ног.
— Сестренка, сестренка, я околдован, — сказал я. — Только ты одна в целом свете можешь меня расколдовать.
— Я тебя расколдую, — отвечала она голоском маленькой девочки. — Кто ты сейчас, братец?
— Я большой черный пес, — заявил я. — Злой великан по имени Льюис Кожа Да Кости держит меня на цепи во дворе своего замка, а всех остальных псов он забрал с собой на охоту.
Она оправила серую юбочку на коленях. Уголки рта у нее опустились.
— И ты совеем один, только воешь весь день я всю ночь напролет, — произнесла она. — Бедный песик…
Я закинул голову назад и завыл.
— Он ужасный злой великан, — заявил я, — и он знает вое таинства черной магии. Но ты не бойся, сестренка. Как только ты расколдуешь меня, я стану прекрасным принцем и отсеку ему голову.
— Я и не боюсь. — Глаза у нее блестела. — Не боюсь ни огня, ни змей, ни булавок, ни иголок и вообще ничего не боюсь…
— Я увезу тебя в свое королевство, и мы будем жить там долго и счастливо. Ты станешь прекраснейшей из королев, и все вокруг будут любить тебя…
Я повилял хвостом и положил голову ей на колени. Она погладила мне шелковистую шерсть и потрепала мои свисающие черные уши.
— И все вокруг будут любить меня… — Теперь она стала очень серьезной. — Как же расколдовать тебя, бедный старенький песик? Живой водой?
— Притронься к моему лбу камушком из сокровищницы великана, — заявил я. — Это один-единственный способ расколдовать меня, другого нет…
Я почувствовал, как она отпрянула от меня. Она поднялась, ее лицо свела гримаса горя и ярости.
— Ты не Оуэн, ты обыкновенный человек! Оуэн околдован, и я вместе с ним, и никому никогда не расколдовать нас!.
Она бросилась прочь и, пока добежала до «джипа», успела превратиться в законченную «Элен из конторы».
С того дня она наотрез отказалась ездить со мной в пустыню. Похоже было, что моя игра исчерпала себя. Но я сделал ставку на то, что «Элен из пустыни» все еще слышит меня, пусть подсознательно, и избрал новую тактику. Моя контора располагалась на втором этаже над бывшим танцзалом, и, надо думать, во времена «дикого Запада» здесь происходило немало острых стычек между мужчинами и женщинами. Но вряд ли эти стены видели что-либо столь же странное, как новая моя игра с Элен.
Я и раньше имел обыкновение разговаривать с ней и мерить комнату шагами, пока она печатала на машинке. А теперь я принялся вкрапливать в обыденную болтовню элементы сказки и то и дело напоминал ей про злого великана Льюиса Кожа Да Кости. «Элен из конторы» пыталась не обращать на это внимания, но откуда-то из глубины ее глаз нет-нет да и выглядывала «Элен из пустыни». Я разглагольствовал о своей пошедшей прахом карьере геолога и о том, что все немедленно уладилось бы, если бы я обнаружил жилу. Я размышлял вслух о том, как это было бы здорово жить и работать в разных экзотических странах и как нужна была бы мне помощь жены, которая присматривала бы за домом и вела бы за меня переписку. Мои побасенки тревожили «Элен из конторы». Она делала опечатки и роняла вещи на пол. А я знай себе пел свое, стараясь нащупать точную пропорцию между реальными фактами и фантазией, и «Элен из конторы» день ото дня приходилось все труднее.
Как-то вечером старый Дейв вновь предупредил меня:
— Элен сохнет прямо на глазах, и люди говорят нехорошее. Миссис Фаулер толкует, что она не спит по ночам, все плачет и не хочет сказать, что с ней такое. Ты, часом, не знаешь, что ее мучает?
— Я с ней не говорю ни о чем, кроме ее обязанностей, — заявил я. — Может, она соскучилась по дому? Может, дать ей небольшой отпуск? Я спрошу ее об этом. — Мне вовсе не нравилось выражение, с каким Дейв смотрел на меня. — Я ничем ее не обидел. Право, Дейв, я совсем не хотел причинить ей зла…
— Людей линчуют не за их намерения, а за их поступки, — отозвался он. — Учти, сынок, если ты обидишь Элен Прайс, у нас в Баркере найдутся желающие выпустить тебе кишки, как какому-нибудь паршивому койоту…
Назавтра я начал обрабатывать Элен с самого утра и после полудня сумел наконец взять нужный тон и сломить ее. Правда, мне и во сне не снилось, что это случится именно так.
— В сущности, вся жизнь — игра, — только и сказал я. — Если подумать хорошенько, то все, что мы делаем, так или иначе игра… — Она приподняла карандаш и взглянула мне прямо в глаза, а до того дня она никогда не осмеливалась на это в конторе, и сердце у меня екнуло. — Ты научила меня играть, Элен. Раньше я был таким серьезным, я и не догадывался, как надо играть…
— Меня научил Оуэн. Он понимал волшебство. Сестры мои только и знали, что нянчить кукол и выбирать себе мужей. Я их ненавидела…
Ее глаза были широко раскрыты, губы трепетали — она почти превратилась в «Элен из пустыни», хоть и не покидала конторы.
— Волшебство и волшебные чары встречаются и в обыденной жизни, только вглядись как следует, — сказал я. — Разве не так, Элен?
— Я знаю! — воскликнула она, побледнев и выронив карандаш. — Оуэну колдовством навязали жену и трех дочерей, а ведь он был еще мальчик! Но он остался единственным мужчиной в доме, и все, кроме меня, ненавидели его лютой ненавистью — ведь мы были так бедны… — Она дрожала, голос ее упал до шепота. — Он не мог этого вынести. Он взял сокровище, и оно убило его. — Слезы бежали у нее по щекам. — Я говорила себе, что он на самом деле не умер, только околдован, и если я семь лет не буду ни говорить, ни смеяться, то расколдую его…
Она уронила голову на руки. Мной овладела тревога. Я подошел поближе и положил руку ей на плечо.
— Но я не выдержала! — Плечи Элен затряслись от рыданий. — Меня заставили говорить, и теперь Оуэн уже никогда не вернется…
Я наклонился и обнял ее за плечи.
— Не плачь, Элен. Он вернется. Я знаю другие волшебные средства вернуть его…
Едва ли я отдавал себе отчет в своих словах. Я был в ужасе от того, что наделал, и хотел утешить ее. Она подпрыгнула как ужаленная и сбросила мою руку.
— Я этого не вынесу! Я уезжаю домой!.
Она стремглав выскочила из конторы, сбежала по лестнице, и я видел из окна, как она бежит, бежит от меня по улице вся в слезах. Моя игра представилась мне вдруг жестокой и глупой, и в тот же миг я прекратил ее. Я изорвал в клочья карту волшебной страны и свои письма полковнику Льюису и сам не пэн мал, за каким дьяволом мне понадобилось все это.
Вечером после ужина старый Дейв поманил меня в дальний конец веранды. Лицо его казалось высеченным из дерева.
— Не знаю, что стряслось сегодня у тебя в конторе, и тебе же лучше будет, если не узнаю. Но утром ты с первой же почтой отправишь Элен обратно к матери, слышишь?
— Ладно, пусть едет, если хочет, — ответил я. — Не могу же я уволить ее ни с того ни с сего…
— Я говорю от имени всех наших. Лучше отправь ее с первой почтой, или мы все придем потолковать с тобой.
— Хорошо, Дейв, я так и сделаю.
Мне хотелось сказать ему, что игре пришел конец и что я сам очень желал бы уладить отношения с Элен, — но, поразмыслив еще чуть-чуть, я не решился на это. Голос у Дейва был ровный, но исполненный такого бешеного презрения, что я испугался — испугался древнего старика.
Утром Элен не вышла на работу. В девять часов я сам сходил за почтой, получил несколько писем, а также большой пакет и принес их в контору. Первое же письмо, которое я вскрыл, оказалось от доктора Льюиса и словно по волшебству разрешило все мои проблемы.
На основании предварительных структурно-контурных карт Льюису разрешили прекратить полевые изыскания. В пакете как раз и были копии этих карт для моего сведения. Мне надлежало составить инвентарную опись и подготовиться к передаче имущества интендантской команде, которая пожалует в ближайшие дни. А потом предстояло дорабатывать карты, нанося на них массу всяческих сведений. Я получил теперь право присоединиться к остальным и вместе с ними пройти наконец долгожданную лабораторную практику.
Я чувствовал себя на седьмом небе. Я похаживал по комнате, насвистывал и прищелкивал пальцами. Если бы еще Элен пришла и помогла мне с составлением описи! Затем я вскрыл пакет и стал лениво перелистывать карты. Их было множество — базальтовые пласты, похожие друг на друга, словно слои пирожного десяти миль в поперечнике. Но когда я развернул последнюю карту, изображавшую довулканичеекий миоценовый ландшафт, волосы у меня на голове встали дыбом.
Точно такую же карту я рисовал своими руками. Это была волшебная страна Элен. Топография совпадала во всех деталях.
Я стиснул кулаки, у меня перехватило дыхание. Спустя минуту правда обрушилась на меня с новой силой, и по спине поползли мурашки.
Игра имела под собой реальную почву. Я не мог положить ей конец. С самого начала не я управлял ею, а она мной. И продолжает управлять.
Я выбежал из дома, бросился вниз по улице и встретил старого Дейва, который торопливо шагал в сторону постоялого двора. С бедер у него свисали две кобуры с револьверами.
— Дейв, я должен разыскать Элен! — воскликнул я.
— Ее видели на рассвете, она ушла в пустыню, — ответил он. — Я иду за лошадью. — Он не замедлял шага. — Садись-ка ты в свой рыдван и поезжай туда сам. И если не найдешь ее до нас, сынок, то назад лучше не возвращайся…
Я помчался за «джипом», завел его и принялся с ревом крушить жалкую полынь пустыни. Я натыкался на скалы и не могу понять, как не разнес машину вдребезги. Куда ехать, я знал, но боялся и думать о том, что там найду. Я знал, что люблю Элен Прайс больше собственной жизни, — и я знал, что сам, своими руками убил ее.
Я заметил ее издали: она то бежала, то пряталась. Я направил «джип» ей наперерез и закричал, но она меня не видела и не слышала. Тогда я затормозил, выпрыгнул и побежал следом за ней. Мир померк, я не различал ничего, кроме Элен, но не мог догнать ее.
— Подожди меня, сестренка! — кричал я. — Я люблю тебя, Элен! Подожди меня!.
Она вдруг замерла, сжавшись в комок, и я едва на столкнулся с ней. Я опустился на колени и прижал ее к себе — и тут оно и случилось.
Говорят, во время землетрясения, когда верх и низ опрокидываются и меняются местами, люди испытывают такой дикий страх, что сходят с ума, если не могут заставить себя забыть о нем. Тут было еще хуже. Тут перепуталось все: право и лево, верх и низ, пространство и время. Ветер с грохотом несся сквозь скалы у нас под ногами, а воздух над нами загустел до того, что давил, как скала. Помню, что мы прильнули друг к другу и были друг для друга всем, а вокруг не было ничего, — и это все, что я помню, — а потом мы сидели в «джипе», и я гнал его к поселку так же отчаянно, как недавно гнал в глубину пустыни.
И мир вновь обрел очертания. Солнце ярко светило, а на горизонте я увидел цепочку всадников. Они двигались туда, где когда-то нашли тело Оуэна. Мальчишка проделал в тот день долгий путь, одинокий, израненный, придавленный тяжкой ношей.
Я привез Элен в контору. Она сидела за столом, уронив голову на руки, и дрожала безудержной дрожью. Я крепко обнимал ее за плечи.
— Буря была внутри нас, Элен, — повторял я. — Все, что было в нас темного, теперь ушло. Игра окончена, мы теперь свободны, и я люблю тебя…
Вновь и вновь повторял я эти слова — на благо себе и ей. Я повторял их намеренно, я верил в них, Я говорил ей, что она станет моей женой, что мы сыграем свадьбу и уедем за тысячу миль от этой пустыни и вырастим там детей. Дрожь ее унялась до легкого озноба, но ответить она все еще не могла. И тогда я услышал под окном стук копыт и скрип упряжи, а затем медленные шаги вверх по лестнице.
В дверях появился старый Дейв. Два его револьвера казались при нем столь же естественными, как руки и ноги. Он взглянул на Элен, склонившуюся над столом, и на меня, застывшего подле нее.
— А ну-ка, спускайся вниз, сынок. Ребята хотят потолковать с тобой, — сказал он.
Я вышел было за ним — и остановился.
— Но Элен невредима, — сказал я. — Жила там действительно есть, Дейв, но никто никогда не найдет ее…
— Скажи об этом ребятам.
— В самые ближайшие дни, — добавил я, — мы вообще сворачиваем все дело. Я женюсь на Элен и увезу ее с собой…
— Спускайся вниз, или мы стащим тебя силой! — жестко оборвал он. — Элен поедет домой к своей мамаше.
Я испугался. Я не знал, что мне делать.
— Нет, я не поеду домой к мамаше!.
Рядом со мной стояла Элен. Это была «Элен из пустыни», но поразительно выросшая. Бледная, хорошенькая, сильная, уверенная в себе.
— Я уезжаю с Дьюардом, — сказала она. — Никто в целом мире не будет больше распоряжаться мной, как бессловесной зверушкой!.
Дейв поскреб себе челюсть и, прищурясь, уставился на Элен.
— Я люблю ее, Дейв, — сказал я. — Я буду о ней заботиться всю жизнь.
Я обвил ее левой рукой, и она приникла ко мне. И старый Дейв неожиданно смягчился и улыбнулся, не сводя с нее глаз.
— Малышка Элен Прайс, — произнес он удивленно. — Кто, в самом деле, мог бы вообразить себе такое?… — Он протянул руку и ласково потрепал нас обоих по очереди. — Благословляю вас, молодежь, — сказал он и подмигнул. — Пойду передам ребятам, что все в порядке…
Он повернулся и стал не спеша спускаться по лестнице. Мы с Элен посмотрели друг на друга — и, по-моему, я выглядел таким же обновленным, как она.
С тех пор прошло шестнадцать лет. Я сам уже стал профессором, и виски у меня начали седеть. Как ученый я совершенный позитивист, самый отъявленный из всех, каких только можно сыскать в бассейне Миссисипи. Когда я поучаю студента на семинаре: «Подобное утверждение не имеет утилитарного смысла», — я умею произнести это так, чтобы он воспринял мои слова как грубейшее из ругательств. Студенты заливаются краской и платят мне ненавистью, но я поступаю так ради их же собственной пользы. Наука — единственно безопасная из всех человеческих игр, и безопасна она лишь до тех пор, пока не замутнена вымыслом. На том стою — и не встречал еще студента, справиться с которым оказалось бы мне не по силам.
Мой сын слеплен из другого теста. Мы назвали его Оуэн Льюис, и он унаследовал глаза Элен, цвет ее волос и тип лица. Учился он читать по современным трезвым, стерилизованным детским книжкам. В доме у нас нет ни единой сказки, зато есть научная библиотека. И Оуэн стал складывать сказки на основе науки. Сейчас он, вслед за Джинсом и Эддингтоном, увлечен измерениями времени и пространства. Вероятно, он не понимает и десятой доли того, что читает, в том смысле, как понимаю я. И в то же время он понимает все до строчки, только на собственный, недоступный для нас манер.
Недавно он взял да и заявил мне:
— Знаешь, папа, расширяется не только пространство. Время расширяется тоже, это-то и позволяет нам попадать все дальше от того момента, где мы привыкли быть…
И мне придется рассказать ему, чем я занимался во время войны. Именно тогда я возмужал и нашел жену. Как и почему, я, видимо, не вполне понимаю и, надеюсь, никогда не пойму. Но Оуэн унаследовал у Элен еще и сердце, удивительно пытливое сердце. Я боюсь за него. Боюсь, что он поймет.
РЭЙ БРЭДБЕРИ
Глубокий и тонкий писатель, мастер философской притчи, замечательный стилист — такова литературная характеристика самого известного из американских фантастов Рэя Брэдбери.
Он родился в 1920 году в Уокегене, штат Иллинойс. Рос впечатлительным, фантазирующим ребенком. В 1928 году восьмилетний мальчик прочел захватывающий роман А. Хайатта Веррила «Мир гигантских муравьев» и с тех пор навсегда попал в плен научно-фантастического космоса. В 1938 году был опубликован его первый рассказ «Дилемма Холлеброхена».
Рэй Брэдбери отличался живым темпераментом и неиссякаемым юмором, хотел даже стать актером, но вынужден был е 1938 по 1942 год зарабатывать на жизнь продажей газет. Не хватало денег покупать книги. Иной раз брал незаметно книгу в магазине, прочитывал ее за ночь и на другой день опять ставил на место. Желая публиковаться, пошел по пути подражательства, но особого успеха не имел, хотя кое-чему научился у Э. По, Т. Вулфа и других. Помогли ему советом, дружеской критикой Катрин Мур и Генри Каттнер. Под влиянием «Все тенали бороговы» стал писать фантастические истории, героями которых были дети, и взгляд на мир был свежий, чистый. Читатели заметили и оценили талант молодого автора. В 40-е годы Рэй Брэдбери опубликовал десятки произведений разного плана, разных тем. В одной истории, в подражание «Оружейной Лавке» А. ван Фогта, рассказывалось о магазине, продающем хитроумные устройства из другого времени, и о приключениях героя с ними, в другой — о ракете, повествующей о своих межпланетных путешествиях, в третьей — о последней семье с Земли, плывущей вниз по марсианской реке и основывающей новую расу.
Так пришла известность. Книги «Черный карнавал», «Марсианские хроники», «Человек в картинках», «451° по Фаренгейту» получили высшие литературные премии и оценки.
В своих произведениях Рэй Брэдбери ставит «вечные вопросы» о смысле бытия, о назначении человека, о добре и зле, о сущности любви. Ему нет нужды обосновывать модель «нового космоса», ибо он воспринял ее как нечто само собой разумеющееся, открытое и созданное до него. Ему важно воспользоваться этой моделью как средством для высвечивания человеческих потенций. Рэй Брэдбери познает прежде всего не новые измерения и не новые миры, а давно, но не до конца изученного человека. Поэтому реальный человек, который нам известен по нам самим, по окружающим, по истории, по литературным произведениям от гимнов Ригведы или поэм Гомера до романов Льва Толстого или стихов Уолта Уитмена, — этот «человеческий человек», а не мертвая надуманная конструкция, и служит для Рэя Брэдбери мерой научно-фантастического мира.
В последние годы писатель ищет новые средства художественного исследования души и закономерно обращается к такой привлекательной и действенной форме, как миф. Мифом о судьбе человеческой можно назвать и публикуемый ниже рассказ «Куколка».
КУКОЛКА
Рокуэллу не нравилось, как пахло в комнате. Его не столько раздражал запах пива, исходящий от Макгвайра, или запах усталого, немытого тела Хартли, сколько специфический запах насекомого, исходящий от лежащего на столе обнаженного одеревеневшего тела Смита, покрытого зеленой кожей. Еще пахло смазкой от непонятного механизма, мерцающего в углу небольшой комнаты.
Человек Смит был трупом. Рокуэлл раздраженно поднялся со своего стула и сложил стетоскоп.
— Мне надо вернуться в госпиталь. Срочные дела. Ты же понимаешь, Хартли. Смит мертв уже восемь часов. Если тебе нужна дальнейшая информация, назначь посмертную… — Он остановился, поскольку Хартли указал на труп, каждый дюйм которого был покрыт хрупкой твердой коркой зеленого цвета
— Послушай еще, Рокуэлл. Последний раз. Пожалуйста. Рокуэлл хотел возразить, но вместо этого вздохнул, сел и приложил стетоскоп к телу. Приходится обращаться вежливо со своими коллегами — врачами. Садишься, прижимаешь стетоскоп к холодной зеленой плоти, притворяясь, что слушаешь…
Маленькая, плохо освещенная комната как будто взорвалась. Взорвалась в одном холодном зеленом движении. Оно ударило по ушам Рокуэлла, как тысяча кулаков. Оно потрясло его. Он увидел, как его пальцы дернулись над лежащим трупом.
Он услышал пульс.
Глубоко в потемневшем теле стукнуло сердце. Оно прозвучало как эхо в морских глубинах.
Смит был мертв, неподвижен, мумифицирован. Но в самой середине этой безжизненно жило его сердце. Жило, ворочаясь, как маленький, не родившийся еще ребенок!
Сильные пальцы Рокуэлла, пальцы хирурга, снова вздрогнули. Он наклонил голову. Рокуэлл был темноволос с проблесками седины. Приятное, с правильными чертами лицо тридцатипятилетнего мужчины. Он слушал еще и еще. По его щекам струился холодный пот. Это было невероятно.
Одно сердцебиение каждые тридцать пять секунд. И дыхание. В это нельзя было поверить, но тем не менее один вздох каждые четыре минуты. Слабое движение грудной клетки. Температура тела? 60°F.
Хартли неприятно рассмеялся
— Он жив. Да, он жив. Ему почти удалось меня одурачить несколько раз. Я сделал укол адреналина, чтобы ускорить этот пульс, но безуспешно. Он в таком состоянии уже двенадцать недель. И я не мог больше держать это в секрете, Вот почему я позвонил тебе, Рокуэлл. Это противоестественно.
Невозможность происходящего привела Рокуэлла в невероятное возбуждение. Он попробовал поднять веки Смита и не смог, они были оплетены кожистыми чешуйками так же, как и рот и ноздри. Смит не мог дышать.
— И все же он дышит. — Голос Рокуэлла был неживым. Он рассеянно уронил стетоскоп, поднял его и посмотрел на свои трясущиеся руки.
Хартли, высокий, изнуренный, нервный, склонился над столом.
— Смит не хотел, чтобы я тебя звал. Я все равно позвал. Смит предупреждал меня не делать этого. Всего час назад.
Глаза Рокуэлла расширились.
— Как он мог предупреждать тебя? Он же не может двигаться. — Лицо Хартли, с тяжелым подбородком, обострившееся, с прищуренными серыми глазами, нервно передернулось.
— Смит думает. Я знаю его мысли. Он боится, что ты расскажешь о нем всему миру. Он ненавидит меня. Почему? Я хочу убить егоз вот почему. Вот. — Хартли, как слепой, нащупал блеснувший голубой сталью револьвер в своем измятом, запятнанном пальто.
— Мэрфи! Возьми его. Возьми, пока я не разрядил его в это дурацкое тело!
Мэрфи отшатнулся с выражением испуга на своем толстом красном лице.
— Не люблю оружие. Лучше ты возьми его, Рокуэлл!
Рокуэлл проговорил, как будто резанул скальпелем.
— Убери револьвер, Хартли. Три месяца лечения одного пациента довели тебя до психологического перенапряжения. Тебе просто следует выспаться.
Он облизал пересохшие губы.
— Чем был болен Смит?
Хартли покачнулся. Его губы медленно выговаривали слова. Почти засыпая на ногах от усталости, Рокуэлл расслышал, как Хартли с трудом проговорил:
— Он не был болен. Не знаю, в чек дело, но он меня раздражает, как ребенка раздражает рождение нового брата или сестры. С ним что-то не то. Помоги мне, прошу тебя.
— Конечно, — улыбнулся Рокуэлл. — Мой пустынный санаторий как раз подходящее место, чтобы как следует его обследовать. Еще бы, Смит — самый невероятный феномен в история медицины. Тела просто не ведут себя таким образом.
Он не смог продолжить. Хартли направил револьвер точно в живот Рокуэлла.
— Подожди. Подожди. Ты не собираешься похоронить Смита? Я думал, ты поможешь мне. Смит болен. Я хочу убить его! Он опасен! Я знаю это!
Рокуэлл моргнул. Хартли явно дошел до психоневроза. Не соображал, что говорит. Рокуэлл расправил плечи, чувствуя внутри холодок и спокойствие.
— Застрели Смита, и я обвиню тебя в убийстве. Ты просто переутомился и душевно и физически. Убери револьвер,
Они молча смотрели друг на друга. Рокуэлл спокойно шагнул вперед и, похлопав Хартли понимающе по плечу, взял револьвер и отдал его Мэрфи, который смотрел на орущие, как будто оно его укусит.
— Позвони в госпиталь, Мэрфи. Я беру неделю отгула. Может быть, больше. Скажи им, что я провожу исследования в санатории.
Мэрфи нахмурился.
— Что мне делать с этим револьвером?
Хартли плотно сжал зубы.
— Держи его при себе Тебе захочется им воспользоваться. Позже.
Рокуэллу хотелось закричать на весь мир, что он является единственным обладателем самого невероятного человеческого существа в истории. Комната к пустынном санатории, в которой на столе безмолвно лежал Смит, была наполнена солнечным светом; его красивое лицо застыло, превратившись в зеленую бесстрастную маску.
Рокуэлл тихо вошел в комнату. Он прикоснулся стетоскопом к зеленой груди. Инструмент заскрипел, производя звук металла разрезающего жесткие надкрылья жука.
Макгвайр стоял рядом, глядя с подозрением на тело и источал запах нескольких недавно выпитых кружек пива.
Рокуэлл внимательно слушал.
— Перевозка в машине «Скорой помощи», должно быть, растрясла его. Нет смысла пробовать… Рокуэлл вскрикнул. Тяжело и неуклюже Макгвайр придвинулся к нему…
— В чем дело?
— В чем? — глаза Рокуэлла отражали отчаяние Он сжал руку в кулак. — Смит умирает!
— Откуда ты знаешь? Хартли говорил, что Смит притворяется. Он снова обманул тебя…
— Нет! — Рокуэлл неистово работал над телом вводя лекарства и ругаясь во весь голос. Любые лекарства. Все лекарства. После всего, что произошло, невозможно было потерять Смита. Нет, только не сейчас. Трясясь, дребезжа, поворачиваясь глубоко внутри тело Смита издавало звуки, напоминающие слышимые издалека взрывы начинающегося извержения вулкана.
Рокуэлл пытался сохранять спокойствие. Болезнь Смита заключалась в нем самом. Обычное лечение на него не действовало. Что же теперь? Что?
Рокуэлл смотрел перед собой. Солнечный свет блестел на твердой чешуе Смита. Горячий солнечный свет. Солнце. Пока Рокуэлл наблюдал, набежали тучи и заслонили солнце. В комнате стемнело. Тело Смита вздрогнуло и погрузилось в тишину. Вулканический прилив прекратился.
— Макгвайр! Опусти шторы! Быстрее, пока солнце не вернулось!
Макгвайр повиновался. Сердцебиение Смита замедлилось и снова стало вялым и редким.
— Солнечный свет вреден Смиту. Он что-то нарушает. Я не знаю, что или почему, но он вреден. — Рокуэлл расслабился. — Господи, мне бы не хотелось терять Смита. Ни за что! Он не такой, как все, существующий по своим законам, делающий то, что люди никогда не делали. Знаешь что, Мэрфи?
— Что?
— Смит не в агонии. И он не умирает. Ему не было. бы лучше быть мертвым, неважно, что говорит по этому поводу Хартли. Прошлой ночью, когда я устраивал Смита на носилках, готовя его к перевозке в санаторий, я неожиданно осознал, что Смит любит меня.
— Ха! Сначала Хартли, теперь ты. Смит, что… сам сказал тебе это?
— Он не говорил мне. Но он не без сознания под всей этой твердой кожей. Он сознает. Да, именно, он сознает.
— Просто и ясно — он окаменевает. Он умрет. Он не питался уже несколько недель. Так сказал Хартли. Хартли питал его внутривенными вливаниями, пока кожа не стала настолько жесткой, что игла не могла ее проколоть.
Дверь медленно, с жалобным скрипом отворилась. Рокуэлл вздрогнул. На пороге стоял Хартли. Его острое лицо было не таким напряженным после нескольких часов сна, но серые глаза по-прежнему смотрели враждебно и с горечью.
— Если вы уйдете из комнаты, — сказал он спокойным голосом, — я уничтожу Смита за несколько секунд. Ну?!!
— Не двигайся с места, — чувствуя нарастающее раздражение, Рокуэлл подошел к Хартли. — В каждый твой приход тебя придется обыскивать. Честно говоря, к не доверяю тебе, — Оружия не оказалось.
— Почему ты мне ничего не сказал о солнечном свете?
— Что? — медленно произнес Хартли. — О да. Я забыл. Я пытался передвинуть Смита несколько недель назад. Солнечный свет попал на пего, и он начал на самом деле умирать. Естественно, больше я его не трогал. Похоже, что Смят смутно сознавал, что его ожидает. Может быть, даже планировал, я не уверен. Когда он еще мог говорить и жадно все поедать до того, как его тело полностью затвердело, он предупреждал меня не двигать его э течение двенадцати недель. Говорил, что не любит солнце. Говорил, что это все испортят. Я думал, что он шутит. Оказалось, нет. Он ел как животное, голодное, дикое животное, впал в коматозное состояние, и вот вам результат. — Хартли тихо выругался. — Я скорее рассчитывал, что вы продержите его на солнце достаточно долго, чтобы нечаянно его убить.
Макгвайр с трудом передвинул свои двести пятьдесят фунтов
— Послушай, а что, если мы подцепим от Смита эту болезнь?
Хартли взглянул на тело, его зрачки сузились.
— Смит не болен. Неужели вы не замечаете вырождение? Это как рак. Вы не заражаетесь им, вы наследуете тенденцию. Я начал бояться и ненавидеть Смита только неделю назад, когда обнаружил, что он существует, дышит и процветает с запечатанным ртом и ноздрями. Этого не может быть. Этого не должно быть.
Макгвайр проговорил с дрожью в голосе:
— Что, если ты, и я, и Рокуэлл — все станем зелеными и чума охватит всю страну, что тогда?
— Тогда, — ответил Рокуэлл, — если я ошибаюсь, что вполне возможно, я умру. Но это их в малейшей степени меня не волнует.
Он повернулся к Смиту и продолжил свою работу.
* * * Колокол. Еще колокол. Два колокола, два колокола. Дюжина колоколов, сто колоколов. Десять тысяч и миллион лязгающих, стучащих, грохочущих металлом колоколов. Родившиеся мгновенно и одновременно в тишине, вопящие, визжащие, ранящие, бьющие по ушам эхом! Звенящие, поющие громкими и тихими, низкими и высокими голосами
Из-за всего этого колокольного звона Смит не мог сразу сообразить, где он находится. Он знал, что не сможет смотреть, потому что его веки были плотно прижаты; знал, что не может говорить, потому что его губы срослись. Его уши были тесно зажаты, но тем не менее колокола колотили вовсю.
Он не мог видеть, хотя нет, он мог, мог, и это было как будто внутри маленькой темной красной пещеры, как если бы его глаза были повернуты внутрь его головы.
Затем Смит попробовал пошевелить языком, я неожиданно, пытаясь вскрикнуть, он осознал, что у него пропал язык. Нет языка. Странно. Почему? Смит попытался остановить колокола. Они утихли, наградив его тишиной, окутавшей его холодным одеялом. Что-то происходило. Определенно происходило. Смит попытался шевельнуть пальцем, но он ему не повиновался. Руки, ноги, голова, туловище — ничто не двигалось. Секундой позже пришло ужасное открытие, что он больше не дышит, по крайней мере при помощи легких.
— Потому что у меня нет легких! — вскрякнул он, но вскрикнул внутренне, про себя, и крик этот обволокло темным красным потоком, который поглотил, растворил в себе и унес этот крик, принеся Смиту облегчение и спокойствие.
«Я не боюсь, — думал он. — Я осознал это и не понимаю почему. Я понимаю, что мне не страшно, но не знаю причины этого.
Без языка, без носа, без легких. Но, наверное, позже они появятся. Да, конечно, появятся. Ведь что-то происходит».
Через поры его отвердевшего тела проникал воздух, пропитывая, как дождь, каждую часть его тела, вдыхая в него жизнь. Дыхание через миллионы жаберных пластинок, вдыхание кислорода, азота, водорода и двуокиси углерода и усвоение всего этого. Удивительно. Билось ли еще его сердце?
О да, оно билось. Медленно, медленно, медленно. Неясный красный шорох, поток, река, вздымающаяся вокруг него, медленно, медленнее, еще медленнее. Как хорошо! Как легко!
Дни слагались в недели, и картина становилась яснее. Помогал Макгвайр. Отставной хирург, он был секретарем Рокуэлла в течение нескольких лет. Не слишком много помощи, но хороший компаньон.
Рокуэлл заметил, что Макгвайр много, нервно и грубовато шутил по поводу Смита, стараясь сохранить спокойствие. Однако как-то он прекратил это, поразмыслил и медленно проговорил:
— Слушай, до меня только сейчас дошло! Смит жив. Но он должен быть мертв. А он жив. О господи!
Рокуэлл рассмеялся.
— Что, черт возьми, по-твоему, я собираюсь делать? Я на следующий неделе приволоку сюда рентгеновский аппарат чубы посмотреть, что же делается внутри этой скорлупы.
Рокуэлл ткнул иглой в тело, но она сломалась о жесткую оболочку. Он попробовал еще одну иглу, потом еще и еще пока наконец не пробил ее, откачал немного крови и поместил пластинки под микроскоп. Несколькими часами позже он спокойно пихнул пробу сыворотки под красный нос Макгвайра я быстро заговорил:
— Боже! Я не могу в это поверять. Его кровь убивает бактерии. Я поместил в нее колонию стрептококков, которая была уничтожена за восемь секунд! Можно ввести Смиту любые известные болезнетворные микробы, и он уничтожит их всех!
Через несколько часов — новые открытия. Они держали Рокуэлла в напряжении ночи напролет, заставляя его думать, сопоставлять, удивляться и разрабатывать титанические теории и идеи.
Вот, например.
Хартли до последнего времени ежедневно питал Смита огромным количеством внутривенных вливаний. Ни один миллиграмм этой пищи не бы уничтожен. Вся она была запасена и не в жировых складках, а в совершенно нормальном виде — икс-жидкости, содержавшейся в высококонцентрированной форме в крови Смита. Унция ее могла обеспечить человека всем необходимым в течение трех суток… Эта икс-жидкость циркулировала по телу до тех пор, пока в ней не возникала надобность, тогда она усваивалась и использовалась. Удобнее, чем жир. Гораздо удобнее! Рокуэлл сиял, довольный своим открытием. Смит запасся таким количеством икс-жидкости, что ее хватило бы на многие месяцы. Самопитание.
Макгвайр, когда узнал об этом, сказал, печально созерцая свое брюшко.
— Хотел бы я хранить свое питание таким образом. Это было еще не все. Смиту не нужно было много воздуха. То, что он имел, он получал, видимо, посредством осмотического процесса через свою кожу. И он использовал каждую молекулу. Никаких потерь.
— И, — заключил Рокуэлл, — в конце концов, сердце Смита даже может отдохнуть от своей работы, полностью прекратит биться!
— Тогда он будет мертв, — сказал Макгвайр.
— Для тебя и для меня — да. Для Смита — может быть. Только может быть. Подумай над этим, Макгвайр. В общем-то Смит- это самоочищающийся поток крови, в течение месяцев не требующий восстановления, почти не подверженный нарушениям. Он не уничтожает отходы своей жизнедеятельности, каждая молекула используется. Этот лоток саморазвивается и смертелен для всех микробов. И Хартли еще говорит о вырождении!
Хартли был раздражен, когда услышал об открытиях. но продолжал утверждать, что Смит вырождался и был опасен.
Макгвайр внес свою лепту.
— Откуда мы знаем, а может быть, это какая-нибудь сверхмикроскопическая зараза, которая уничтожает все другие бактерии, пока расправляется со своей жертвой. В конце концов, и малярийный вирус иногда используют для лечения, почему бы не существовать новой бацилле, которая уничтожает всех остальных?
— Хорошая мысль, — сказал Рокуэлл, — но ведь мы не больны, не правда ли?
— Может быть, ей нужен инкубационный период?
— Типичный ответ старомодного врача. Неважно, что происходит с человеком, если есть отклонения от нормы. Это твоя мысль, Хартли, — заявил Рокуэлл. — А не моя. Доктора не удовлетворяются до тех пор, пока не поставят диагноз и не наклеят ярлык на каждый случай. Я же считаю. что Смит здоров, так здоров, что вы боитесь его.
— Ты ненормальный, — сказал Макгвайр.
— Может быть. Но я не считаю, что Смит нуждается в медицинском вмешательстве. Он сам работает над своим спасением. Ты считаешь, что он вырождается, а я говорю, что он растет.
— Посмотри на его кожу, — произнес Макгвайр.
— Овца в волчьей шкуре. Снаружи- жесткий, хрупкий эпидермис. Внутри — упорядоченное перерастание, изменение. Почему? Я на грани понимания. Эти перемены внутри Смита настолько интенсивны, что потребовалась оболочка для обеспечения их действия. А что касается тебя, Хартли, скажи мне честно, когда ты был молод, ты боялся насекомых, пауков и всего такого прочего?
— Да.
— Ну вот. Невроз страха, фобия, которая отразилась на твоем отношении к Смиту. Это объясняет твое отвращение к происшедшим с ним переменам.
В течение последующих недель Рокуэлл тщательно исследовал прошлую жизнь Смита. Он посетил электронную лабораторию, где работал к заболел Смит, проверил комнату, в которой Смит провел первые недели своей «болезни», и осмотрел стоявшую там технику, выяснил что-то о радиации…
Пока его не было к санатории, Рокуэлл запер Смита и поставил Макгвайра охранять дверь на случая, если в голову Хартли полезут какие-нибудь странные идея.
Детали двадцати трех лет жизни Смита были просты: он в течение пяти лет работал в электронной лаборатории, занимаясь экспериментами. Он ни разу серьезно не болел за свою жизнь.
Рокуэлл долгое время прогуливался в одиночестве около санатория, обдумывая и детализируя невероятную теорию, которая начала выкристаллизовываться в его мозгу. И однажды днем он остановился у куста жасмина, который рос около санатория, улыбаясь, протянул руку и снял с длинной ветки темный блестящий предмет. Он взглянул на него, положил в карман и направился к санаторию.
С веранды он позвал Макгвайра, за которым притащился Хартли, бормоча угрозы.
Вот что сказал им Рокуэлл:
— Смит не болен. Бактерии не могут в нем жить. В нем нет ни духов, ни монстров, которые «овладели» его телом. Я специально сказал об этом, чтобы показать, что не упустил их одного момента. Я отвергаю все обычные диагнозы я предлагаю самую важную и самую легко допустимую возможность — замедленная наследственная мутация.
— Мутация? — Голос Макгвайра прозвучал странно.
Рокуэлл поднял к свету темный блестящий предмет…
— Я нашел это в саду. Это превосходно проиллюстрирует мою теорию. После изучения симптомов, осмотра лаборатории и изучения нескольких подобных вариантов, — он повертел предмет пальцами, — я уверен. Это метаморфоза, превращение. Это регенерация, изменение, мутация после рождения. Вот, лови, это Смит. — Он бросил предмет Хартли, тот поймал его.
— Это куколка гусеницы, — сказал Хартли.
— Правильно, — кивнул Рокуэлл.
— Не хочешь же ты сказать, что Смит- куколка?
— Я уверен в этом, — ответил Рокуэлл.
Рокуэлл стоял у тела Смита в вечерней темноте. Хартли я Макгвайр тихо сидели напротив и слушали. Рокуэлл мягко прикоснулся и телу Смита.
— Предположим, что жизнь- это нечто большее, чем родиться, прожить семьдесят лет и умереть. Предположим, что в человеческом существовании есть еще один великий шаг вверх, и Смит — первый из нас, делающий этот шаг.
Глядя на гусеницу, мы видим то, что считаем статическим объектом. Но она превращается в бабочку. Почему? Не существует законченных теорий, объясняющих это. В основном это прогресс, развитие. По существу, предположительно неизменный объект превращается в промежуточный, совершенно непохожей, куколку, и затем появляется бабочка. Внешне куколка выглядит мертвой. Это заблуждение. Смит ввел нас в заблуждение, понимаете? Внешне — мертв. Внутри — водоворот, перестройка, лихорадочная работа с невероятной целью. Из личинки — в москита, из гусеницы — в бабочку, из Смита — в…
— Смит — куколка? — Макгвайр неестественно засмеялся.
— Да.
— Люди не ведут себя таким образом.
— Перестань, Макгвайр. Эта ступень в эволюции слишком значительна для твоего понимания. Осмотри тело и скажи мне что-нибудь другое. Кожа, глаза, дыхание, течение крови. Недели усваивания пищи для этой хрупкой спячки. Почему он ел всю эту пищу, для чего ему понадобилась эта икс-жидкость в его теле, как не для метаморфозы? И причиной всего этого была радиация. Жесткое излучение от лабораторного оборудования Смита. Запланированное или случайное, я не знаю. Оно затронуло определенную часть его основной генной структуры определенную часть эволюционной структуры человека которая не была предназначена для работы, возможно, еще в течение тысячелетий.
— Ты думаешь, что когда-нибудь все люди…
— Личинка мухи не остается в стоячем труду, личинка москита в почве, а гусеница на капустном листе. Они меняются, волнами расходясь в пространстве. Смит — это ответ на вопрос: «Что происходит с человеком, куда мы движемся?» Мы стоим перед неизвестностью вселенной и сложностью жизни а лев, и человек, такой, каким он сейчас является, не готов к борьбе с ней. Малейшее усилие утомляет его, излишняя работа убивает его сердце, а болезни- тело. Может быть, Смит будет готов ответить из извечную философскую проблему смысла жизни Может быть, он даст ей новый смысл.
В самом деле все мы всего лишь крошечные насекомые, копошащиеся на планете величиной с булавочную головку. Человеку не предопределено всегда оставаться здесь в быть болезненным, маленьким и слабым, но он еще не открыл секрета великого знания.
Но измените человека. Постройте вашего совершенного человека, вашего, если хотите, супермена. Устраните слабый интеллект, дайте ему полный физиологический, неврологический и психологический контроль над собой: дайте ему ясный проницательный ум, дайте ему неутомимую кровеносную систему, тело, которое может приспосабливаться где угодно к любому климату и расправляться с любыми болезнями. Освободите человека от оков и слабостей плоти, и тогда он уже не будет более бедным, несчастным маленьким человеком, боящимся мечтать, потому что знает, что его хрупкое тело стоит на пути исполнения его желаний, тогда он будет готов вести войну, единственную войну, которую стоит вести — столкновение перерожденного Человека со всей потрясенной Вселенной!
В величайшем напряжении с тяжело бьющимся сердцем Рокуэлл склонился над Смитом я закрыл глаза. Вера в Смита переполняла его. Он был прав. Он знал, что был прав.
После нескольких секунд молчания заговорил Хартли:
— Я не верю в эту теорию.
Затем Макгвайр:
— Откуда ты знаешь, что Смит внутри не просто желеобразная каша? Ты его просвечивал?
— Я не рискнул этого делать, это могло помешать его перерождению так же, как и солнце.
— Итак, он будет суперменом. А как он будет выглядеть?
— Подождем увидим.
— Как ты думаешь, он может слышать, как мы сейчас о нем разговариваем?
— Может или нет, в одном можно быть уверенным — мы стали обладателями тайны, которая для нас не предназначалась. Смит не намеревался посвящать меня и Макгвайра в это дело. Ему пришлось с этим примириться. Но супермены не любят, когда люди узнают о них, потому что у людей есть противные привычки завидовать, ревновать и ненавидеть, Смит знал, что он не будет в безопасности, если о нем узнают. Может быть, это объясняет я твою ненависть, Хартли.
Все замолчали прислушиваясь. Ни звука. Только кровь колотилась в висках у Рокуэлла, к все. Перед ними лежал Смит, вернее, теперь не Смит, а контейнер с ярлыком «Смит», содержимое которого было неизвестно.
— Если все, что ты сказал, правда, — произнес Хартли, — тогда мы тем более должны его уничтожить. Подумай о той власти над миром, которая будет в его руках. И если это повлияло на его мозг, а я думаю, что повлияло, он постарается убить нас, когда выберется, потому что только мы знаем о нем. Он будет ненавидеть нас за то, что мы были свидетелями его превращения.
Рокуэлл сказал беспечно:
— Я не боюсь этого.
Хартли промолчал. В комнате было слышно хриплое и тяжелое дыхание.
Рокуэлл обошел вокруг стола.
— Я думаю, теперь мы лучше распрощаемся, не так ли?
Машина Хартли скрылась за тонкой пеленой дождя. Рокуэлл закрыл дверь, приказал Макгвайру спать эту ночь внизу на походной кровати перед дверью комнаты, в которой лежал Смит, и затем пошел к себе. Раздеваясь, он мысленно вновь пережил все невероятные события последних недель. Сверхчеловек. Почему бы и нету Ум, сила… Он лег в постель. Когда? Когда Смит появится из своего кокона? Дождь тихо моросил по крыше санатория.
Макгвайр лежал, тяжело дыша, на походной кровати, погруженный в дрему, окруженный звуками грозы. Где-то скрипнула дверь, но Макгвайр продолжал спать. В холле повеяло ветром, Макгвайр заворчал и повернулся на другой бок Дверь мягко закрылась, к ветер утих. Чьи-то мягкие шаги по толстому ковру. Медленные шаги, напряженные и настороженные. Шаги. Глаза Макгвайра дрогнули я открылись. В неясном свете перед ним стояла какая-то фигура. Единственная лампочка, горевшая в холле, узким желтым лучом освещала пол около кровати.
Запах раздавленного насекомого наполнил воздух. Шевельнулась рука. Послышался голос.
Макгвайр вскрикнул. Потому что рука, попавшая в луч света, была зеленой.
— Смит!
Макгвайр тяжело рванулся к двери, вопя:
— Он двигается! Он не может ходить, но он ходит!
Дверь распахнулась под его нажимом. Ветер и дождь сомкнулись вокруг него, и он исчез, что-то бормоча.
Фигура в холле стояла неподвижно. Наверху быстро открылась дверь, и Рокуэлл сбежал по ступенькам. Зеленая рука двинулась из полосы света и спряталась за спиной фигуры.
— Кто здесь? — Рокуэлл остановился на полпути. Фигура ступила в полосу света.
— Хартли?! Что тебе опять здесь надо?
— Кое-что произошло, — сказал Хартли, — ты лучше найди Макгвайра. Он выбежал под дождь, бормоча как дурак.
Рокуэлл промолчал. Он одним взглядом осмотрел Хартли, затем спустился в холл и выбежал наружу, под холодный ветер и дождь.
— Макгвайр! Макгвайр, вернись, ты, идиот!
Он нашел Макгвайра примерно в ста ярдах от санатория, рыдающего.
— Смит, Смит ходит…
— Чепуха. Хартли вернулся, вот и все.
— Я видел зеленую руку. Она двигалась.
— Тебе приснилось.
— Нет. Нет!
Мокрое лицо Макгвайра было бледным.
— Поверь мне, я видел зеленую руку. Зачем вернулся Хартли? Он…
Только при упоминании имени Хартли полное осознание происходящего ворвалось в мозг Рокуэлла. Страх пронесся через его мозг, его охватила непонятная тревога, резанула беззвучным криком о помощи.
— Хартли!
Оттолкнув Макгвайра в сторону, Рокуэлл повернулся и бросился с криком обратно в санаторий.
Дверь в комнату Смита была распахнута. Хартли стоял в центре комнаты с револьвером в руке.
Он повернулся на шум вбегавшего Рокуэлла. Их движения были одновременными. Хартли выстрелил, а Рокуэлл дернул шнурок выключателя.
Темнота. Пламя рванулось через комнату, осветив сбоку тело Смита как фотовспышка. Рокуэлл прыгнул в сторону пламени. Даже во время прыжка глубоко потрясенный Рокуэлл начал понимать, почему Хартли вернулся. За это короткое мгновение, пока свет не исчез, он успел увидеть пальцы Хартли. Они были покрыты мелкими зелеными пятнышками.
Потом была схватка, и Хартли переставший сопротивляться, когда вспыхнул свет, и Макгвайр, весь мокрый стоящий в дверях и выдавливающий из себя слова:
— Смит, Смит убит?
Смит был невредим. Пуля прошла мимо.
— Этот дурак этот дурак! — кричал Рокуэлл, стоя над оцепеневшим Хартли. — Величайший случай в истории, и он пытается его уничтожить!
Хартли медленно пришел в себя.
— Я должен был догадаться. Смит предупредил тебя.
— Чепуха, он… — Рокуэлл замолчал, пораженный. Да. Это неожиданное дурное предчувствие, ворвавшееся в его мозг. Да.
Затем он взглянул на Хартли.
— Отправляйся наверх. Ты будешь заперт на ночь. Ты тоже, Макгвайр. Чтобы мог наблюдать за ним.
Макгвайр прохрипел:
— Рука Хартли! Посмотри на нее. Она зеленая. Это Хартли был в холле, не Смит!
Хартли уставился на свои пальцы.
— Чудесно, не правда ли? — сказал он с горечью. — Когда Смит только заболел, я был в зоне действия этой радиации довольно долгое время. Похоже, и я стану существом вроде Смита. Это длится уже несколько дней. Я скрывал и старался ничего не говорить. Этой ночью мое терпение кончилось, и я вернулся, чтобы уничтожить Смита за то, что он сделал со мной…
В воздухе раздался сухой, резкий треск. Все трое замерли. Три крохотных кусочка отслоились от кокона Смита и упали на пол.
Через мгновение Рокуэлл был около стола, застыв в изумлении.
— Он начинает трескаться! От ключицы до пупка микроскопическая трещина! Скоро он выберется из своего кокона.
Толстые щеки Макгвайра дрожали.
— И что тогда?
Слова Хартли были пропитаны горечью.
— Тогда у нас будет супермен. Вопрос: как выглядит супермен? Ответа никто не знает.
Еще несколько чешуек отслоились.
Макгвайр дрожал:
— Ты попытаешься поговорить с ним?
— Конечно.
— С каких это пор бабочки говорят?
— О господи, Макгвайр!
Надежно заперев двух других наверху, Рокуэлл расположился на походной кровати в комнате Смита, приготовившись ждать всю дождливую ночь, наблюдая, слушая, думая.
Он смотрел как крохотные хлопья отскакивали от сморщенной кожи куколки, в то время как Неизвестный внутри спокойно выбирался наружу.
Оставалось ждать всего несколько часов. Дождь тихо моросил по крыше дома. Как мог бы выглядеть Смит? Возможно, измененные ушные раковины для большей остроты слуха; может быть, добавочные глаза; изменения в строении головы, в костях скелета, в расположении органов, строении кожи, тысяча и одно изменение.
Рокуэлл начал уставать, но боялся заснуть. Веки становились все тяжелее я тяжелее. Что, если он был неправ? Что, если его теория совершенно неверна? Что, если Смит ненормальный, сумасшедший настолько другой, что будет угрожать всему миру? Нет, нет! Рокуэлл затряс головой. Смит — это совершенство. Совершенство. В нем нет места для дурных мыслей. Он — совершенство
В санатории была гробовая тишина. Единственным звуком было слабое потрескивание падающих на пол чешуек кокона…
Рокуэлл спал. Он погрузился в глубокий сон со странными сновидениями. Ему снился Смит, который поднялся со своего стола и угловато передвигался по комнате, и Хартли, кричащий, размахивающий сверкающим топором и погружающий его снова и снова в зеленую броню Смита, разрубая его и превращая в какую-то ужасную жидкую массу. Снился ему Макгвайр бегающий, бормоча, код кровавым дождем. Снился ему…
Жаркое солнце. Жаркий солнечный свет во всей комнате. Было уже утро Рокуэлл потер глаза, смутно обеспокоенный тем, что кто-то поднял жалюзи. Он рванулся вперед — кто-то поднял! Солнце! Жалюзи нельзя было поднимать: Они были опущены уже несколько недель. Он закричал. Дверь была открыта. В санатории было тихо. Едва осмеливаясь повернуть голову, Рокуэлл взглянул на стол, где должен был лежать Смит.
Его не было.
Ничего, кроме солнечного света и еще останков разрушенного кокона. Останки.
Хрупкие черепки, сброшенная оболочка, разломанная надвое, остаток скорлупы, который был бедром, след руки, осколок грудной клетки- это было все, что осталось от Смита.
Смит исчез. Рокуэлл, сломленный, пошатываясь, добрался до стола, карабкаясь, как ребенок, между шуршащими, как папирус, остатками кожи. Затем он повернулся как пьяный и, шатаясь, пошел из комнаты и затем начал карабкаться вверх по ступенькам, крича:
— Хартли! Что ты с ним сделал! Хартли! Ты что думаешь, что можешь убить его, избавиться от тела и оставить несколько кусков скорлупы, чтобы сбить меня со следа?
Дверь в комнату, где спали Хартли и Макгвайр, была заперта. Дрожащими руками Рокуэлл с трудом открыл ее. Оба, Макгвайр и Хартли, были там.
— Ты здесь? — сказал Рокуэлл завороженно. — Значит, ты не был внизу. Или ты открыл дверь, спустился, проник в комнату, убил Смита и… нет, нет!
— Что случилось?
— Смит исчез! Макгвайр, Хартли выходил из этой комнаты?
— Нет, ни разу.
— Тогда есть только одно объяснение: Смит восстал из своего кокона я ночью исчез! Я никогда не увижу его, я никогда не смогу увидеть его, проклятье! Какой же я дурак, что заснул!
— Теперь все ясно! — объявил Хартли. — Он опасен, иначе он остался бы и мы бы его увидели! Только бог знает, что это такое.
— В таком случае мы должны его искать. Он не может быть далеко. Мы должны его искать! Хартли, Макгвайр, быстро!
Макгвайр тяжело опустился на стул.
— Я с места не сдвинусь. Пусть сам себя ищет. С меня достаточно.
Рокуэлл не стал дальше слушать и бросился вниз по лестнице, Хартли не отставал ни на шаг. Через несколько мгновений за ними последовал, тяжело дыша, Макгвайр.
Рокуэлл выбежал в холл, задержавшись на секунду у широких окон, выходящих на горы и пустыню. Был ли хоть один шанс найти Смита? Первого сверхсущества. Первого, может быть, из множества других. Рокуэлл взмок от волнения, Смит не мог уйти. Или…
Кухонная дверь медленно отворилась. Нога переступила через порог, за ней другая. Рука коснулась стены. Сигаретный дым тянулся от губ.
— Кто-то ищет меня?
Ошеломленный Рокуэлл обернулся. Он увидел выражение лица Хартли, услышал, как Макгвайр задохнулся от удивления. Все трое одновременно произнесли одно слово, как будто им подсказали.
— Смит!
Смит выпустил облачко дыма. Его лицо было красновато-розовым, как будто он сгорел на солнце, его глаза были ярко-голубыми. Он был босой, и его обнаженное тело было прикрыто одной из старых рубашек Рокуэлла.
— Не скажете ли мне, где я нахожусь? Что я делал последние три-четыре месяца? Это что, госпиталь или нет?
Страх охватил Рокуэлла. Он судорожно глотнул,
— Привет. Я… То есть… Вы что, ничего не помните?
Смит показал свои пальцы.
— Я вспоминаю, что начал зеленеть, если вы это имеете в виду. Кроме этого — ничего.
Рокуэлл тяжело прислонился к стене. Потрясенный, он поднял руки к глазам и покачал головой. Не веря в то, что он видит перед собой, он спросил:
— Когда вы выбрались из кокона?
— Когда я выбрался из… чего?
Рокуэлл отвел его в соседнюю комнату и указал на стол.
— Я не понимаю, что вы имеете в виду, — сказал Смит совершенно искренне, — полчаса назад я пришел в себя, стоя в этой комнате совершенно голый.
— И это все? — с надеждой спросил Макгвайр. Похоже, он почувствовал облегчение.
Рокуэлл объяснил происхождение лежавшего на столе кокона.
Смит нахмурился.
— Это нелепо. Кто вы такие?
Рокуэлл представил всех.
Смит сердито взглянул на Хартли.
— Когда я начал болеть, вы приходили, не так ли? Я помню, на радиационном заводе. Но это глупо. Что это была за болезнь?
Лицо Хартли напряглось.
— Это не болезнь. А вы не знаете чего-либо обо всем этом?
— Я прихожу в себя в компании незнакомых людей, в незнакомом санатории. Я обнаруживаю себя обнаженным в комнате, в которой на раскладушке спит человек. Я хожу голодный по санаторию. Я иду на кухню, нахожу еду, ем, слышу взволнованные голоса, и затем меня обвиняют в том, что я появился из кокона. Что я должен думать? Кстати, спасибо за рубашку, еду и сигарету, которые я взял. Я не хотел вас будить, господин Рокуэлл. Я не знал, кто вы такой, и вы выглядели смертельно уставшим.
— О, насчет этого не волнуйтесь.
Рокуэлл не мог поверить в происходящее. Все разваливалось. С каждым словом Смита его надежды рассыпались на части, как разломанный кокон.
— Как вы себя чувствуете?
— Отлично. Сильным. Просто замечательно, если учесть, сколько это длилось.
— Очень замечательно, — сказал Хартли.
— Можете представить, что я почувствовал, когда увидел календарь. Все эти месяцы- раз и нету. Я удивляюсь, что я делал все это время.
— Мы тоже.
Макгвайр рассмеялся:
— О, оставь его, Хартли. Из-за того, что ты его ненавидел…
— Ненавидел?
Смит удивленно поднял брови.
— Меня? Почему?
— Вот. Вот почему! — Хартли вытянул руки. — Ваша проклятая радиация. Ночь за ночью я сидел около вас в лаборатории. Что мне теперь с этим делать?
— Хартли, — перебил Рокуэлл, — сядь и успокойся.
— Я не сяду и не успокоюсь! Неужели вы оба одурачены этой имитацией человека, этим розовым парнем, который разыгрывает величайшую мистификацию в истории? Если у вас есть хоть сколько-нибудь разума, уничтожьте Смита, пока он не бежал!
Рокуэлл извинился за эту вспышку гнева Хартли.
Смит покачал головой.
— Нет, дайте ему говорить. О чем это он?
— Ты уже знаешь! — гневно прокричал Хартли. Ты лежал здесь месяцами, слушая, планируя. Ты меня не одурачишь. Рокуэлла ты обманул, разочаровал. Он считал, что ты будешь сверхчеловеком. Может, ты и есть сверхчеловек. Но кто бы ты ни был, ты больше не Смит. Это еще один из твоих обманов. Мы не должны были все знать о тебе, весь мир не должен знать о тебе. Ты можешь с легкостью убить нас, но ты предпочитаешь остаться и убедить нас в своей нормальности. Это наилучший вариант. Ты мог исчезнуть несколько минут назад, но это оставило бы семена подозрения. Поэтому ты остался, чтобы убедить нас в том, что ты нормален.
— Он и есть нормальный, — вставил Макгвайр.
— Нет. Его мозг изменился. Он умен.
— Тогда подвергни его словесно-ассоциативному тесту, — сказал Макгвайр.
— Он слишком умен и для этого.
— Тогда очень просто. Сделаем анализ крови, по слушаем его сердце, введем ему сыворотку.
Смит колебался.
— Я согласен на эксперимент, если это действительно вам нужно. Но, по-моему, это глупо.
Шокированный этим, Хартли взглянул на Рокуэлла.
— Возьми шприц, — сказал он.
Рокуэлл, размышляя, взял шприц. Может быть, все-таки Смит был суперменом. Его кровь. Эта сверхкровь. Ее способность убивать бактерии. Его сердцебиение. Его дыхание. Может быть, Смит был сверхчеловеком и не знал этого. Да, да, может быть…
Рокуэлл взял кровь у Смита и поместил ее под микроскоп. Его плечи поникли. Это была обычная кровь. Бактерии жили в ней положенное время. Кровь больше не была для них смертельной. Икс-жидкости тоже больше не существовало. Рокуэлл подавленно вздохнул Температура тела была нормальной, пульс тоже. Его нервная система реагировала в соответствии с нормой.
— Ну, вот и все, — мягко сказал Рокуэлл.
Хартли опустился в кресло с широко открытыми глазами, сжав пальцами голову.
Он выдохнул:
— Простите меня. Наверное это все существовало в моем воображении. Эти месяцы были такими долгими. Ночь за ночью. Я был напуган, у меня возникали навязчивые идеи. Я сам себя одурачил. Простите меня, я виноват. — Он уставился на свои зеленые пальцы.
— Но что же будет со мной?
— Я поправился. Вы тоже оправитесь, я думаю. Я вам сочувствую, но в этом не было ничего плохого… в самом деле, я ничего не припоминаю.
Хартли расслабился.
— Пожалуй, вы правы. Мне не нравится мысль о том, что я должен одеревенеть, но ничего не поделаешь. Со мной все будет в порядке.
Рокуэлл чувствовал себя больным. Разочарование было слишком сильным. Эта спешка, желание, жажда открытия, любопытство, огонь, все умерло в нем.
Итак, каким был человек из кокона? Тот же человек, какой и был. И все это ожидание, и весь интерес были напрасны. Он глубоко вздохнул, пытаясь привести в порядок свои спутанные мысли. Этот розовощекий человек, с ровным голосом, который сидел перед ним в спокойно курил, только что перенес частичное окаменение кожи, его железы сошли с ума от радиации, я тем не менее это лишь человек, и ничего более. Мозг Рокуэлла, его фантазирующий и слишком впечатлительный мозг, подхватил каждую деталь этой болезни и построил великолепный организм, выдавая желаемое за действительное. Рокуэлл был глубоко потрясен, взволнован и разочарован.
Существование Смита без питания, его совершенная кровь, низкая температура и другие признаки совершенства теперь были только фрагментами неизвестной болезни. Болезни, и ничего более. Чего-то, что прошло, закончилось и не оставило никаких следов, кроме хрупких лоскутков на залитой солнцем поверхности стола. Теперь осталась только возможность пронаблюдать Хартли, если его болезнь будет прогрессировать, и сообщить о новом заболевании медицинскому миру.
Рокуэлла, однако, не привлекала болезнь, его волновало совершенство, и это совершенство было разбито, расколото, разорвано на куски и исчезло. Его мечта исчезла. Его сверхсущество исчезло. Его теперь не волновало, даже если бы весь мир отвердел, позеленел и стал ненормально хрупким.
Смит уже начал прощаться.
— Я лучше вернусь в Лос-Анжелес. Меня ждет важная работа на заводе. Моя старая работа должна быть закончена. Сожалею, но не могу больше оставаться. Вы понимаете?
— Вам следовало бы остаться и отдохнуть хоть бы несколько дней, — сказал Рокуэлл. Он не мог видеть, как исчезает последний клочок его мечты.
— Нет, спасибо. Я загляну в ваш оффис примерно через неделю для новой проверки, если хотите, доктор. Я буду приезжать каждые несколько недель в течение года или больше, так что вы сможете контролировать меня, ладно?
— Да, да. Смит, пожалуйста, сделайте это. Мне хотелось бы побеседовать с вами о вашей болезни. Вам повезло, что вы живы.
Макгвайр произнес счастливо:
— Я довезу вас до Лос-Анжелеса.
— Не беспокойтесь. Я дойду до Гуджунги и возьму там такси. Я хочу пройтись. Прошло столько времени, я хочу все снова прочувствовать.
Рокуэлл одолжил ему пару ботинок и старый костюм.
— Спасибо, доктор. Я заплачу вам все, что должен, как только смогу.
— Вы не должны мне ни пенни. Это было интересно.
— Ну, до свиданья, доктор, господин Макгвайр, Хартли.
— До свиданья, Смит.
Смит пошел по дорожке. Он шел легко и счастливо и насвистывал. «Хотелось бы мне сейчас быть в таком же настроении», — устало подумал Рокуэлл.
Смит обернулся один раз, помахал им и начал подниматься на холм и через него к городу, лежавшему в отдалении.
Рокуэлл смотрел ему вслед так, как ребенок смотрит на разрушение своего песочного замка под ударами морских волн.
— Я не могу в это поверить, — снова и снова говорил он, — я не могу в это поверить. Все закончилось так быстро, так неожиданно для меня. Я совершенно опустошен.
— Я все вижу в розовом свете! — довольно прохихикал Макгвайр.
Хартли стоял под солнцем. Его зеленые руки мягко висели вдоль тела, и, как заметил Рокуэлл, его белое лицо впервые за месяцы было расслабленным. Хартли тихо говорил.
— Со мной все будет в порядке. Со мной все будет в порядке. Я не буду монстром. Я останусь самим собой. — Он повернулся к Рокуэллу.
— Только не забудь, не забудь, не дай им похоронить меня по ошибке. Смотри, чтобы меня не похоронили по ошибке, думая, что я мертв. Помни об этом.
Смит поднимался по тропинке на холм. Уже вечерело, и солнце начало садиться за голубые горы. Видно было несколько звезд. Запах воды, пыли и цветущих в отдалении апельсиновых деревьев повис в теплом воздухе.
Поднялся ветерок. Смит шел и глубоко дышал. Отойдя от санатория так, что его не было видно, он остановился и замер. Он посмотрел вверх, в небо.
Он отбросил сигарету, которую курил, и раздавил ее каблуком. Затем выпрямил свое стройное тело, откинул назад свои темно-каштановые волосы, закрыл глаза, глотнул, расслабил пальцы рук.
Без малейшего усилия, только со слабым звуком, Смит мягко поднял свое тело от земли вверх, в теплый воздух.
Он устремился вверх быстро, спокойно и скоро затерялся среди звезд, уходя в космическое пространство…
СКАЗКИ И ЛЕГЕНДЫ ДВУХ ВЕКОВ
(Послесловие) Ровно полвека назад, в 1926 году, начал выходить первый в мире журнал, целиком посвященный научной фантастике, — «Amagazine stories» («Удивительные истории»). Создателем журнала был Хьюго Гернсбек, в честь которого в Америке и по сей день присуждаются премии за лучшее научно-фантастическое произведение — премии Хьюго.
Но на самом деле история научной фантастики в США гораздо старше. Одной из задач нашей антологии было показать, как глубоко в прошлое уходят традиции фантастики в американской литературе.
Не надо быть специалистом, чтобы заметить, что научная фантастика привилась далеко не одинаково в развитых литературах мира. Так, относительно слабы французская и немецкая научная фантастика. Наоборот, необычайный расцвет переживает этот жанр в литературе США, Англии и нашей, советской литературе (а в последние годы и в литературе Японии).
Чем вызвана мощная струя фантастики в американской литературе? В первую очередь воинствующим техницизмом американской цивилизации, превратившей за полтора столетия некогда дикий континент в самую мощную индустриальную державу капиталистического мира. Но фантастика была присуща американской литературе и в доиндустриальный период — достаточно назвать открывающие нашу антологию имена Вашингтона Ирвинга и Эдгара По. Дело в том, что в создании американской нации участвовали две почти противоположные по своему мировоззрению и социальному положению группы людей.
Кто мог в XVII веке, когда закладывались основы будущих Соединенных Штатов Америки, отправиться на ненадежных судах того времени в многонедельное путешествие через Атлантический океан? При том, что это было в известной степени путешествие в никуда? С одной стороны, это были религиозные фанатики пуритане (английские кальвинисты), которые не нашли общего языка с правящей англиканской церковью и спасались от преследования. С другой стороны, это были всякого рода неудачники или искатели приключений, которым было нечего терять на старом континенте и которые мечтали разбогатеть на новом месте. Мечты. Люди, стоявшие на палубах кораблей, плывущих в Новый Свет, не могли не мечтать. Не здесь ли корни пресловутой «американской мечты» — центрального мифа американской политической жизни? Равные возможности для всех, никаких сословных перегородок — графов и баронов, бескрайние просторы незаселенных земель, сказочные природные богатства — все это легло в фундамент «американской мечты». Новейшим вариантом этого мифа уже в наши дни была джонсоновская доктрина «великого общества», сгоревшая в напалме вьетнамской войны.
Но вернемся в прошлое. Итак, пуритане и искатели приключений стали обживать новый континент. Письменная литература возникла не сразу. Долгое время пробавлялись устными расска замн. байками, небывальщинами.
Открывающий нашу антологию «Рип ван Винкль» В. Ирвинга — один из самых знаменитых рассказов во всей — американской литературе — прекрасный образец такого рода небывальщины. Разумеется, к научной фантастике в прямом смысле он не имеет отношения. Как явствует уже из самого термина, научная фантастика предполагает научную мотивировку тех или иных необычайных происшествий. Но с нашим жанром этот рассказ сближает использование излюбленной идеи научной фантастики — путешествия во времени. Сон переносит Рип ван Винкля на двадцать лет вперед. Любопытно, что перемены, происшедшие за эти годы со страной, — прежде всего политические перемены. Над входом в трактир уАе висит не портрет Георга III — английского короля, а портрет Джорджа Вашингтона, и первый вопрос, который задают соотечественники Рип ван Винклю, — вопрос о том, за кого он голосует. Ведь за это двадцатилетие Америка добилась независимости.
Мудрый рассказ Ирвинга — рассказ о стремительности перемен, меняющих американскую жизнь, и о незадачливой судьбе тех, кто проспит историю своей страны. Трудно придумать лучший пролог для антологии американской фантастики.
Следующий автор нашей антологии — Э. По — своей жизнью к творчеством подтверждает старую истину о том, что нот пророка в своем отечестве. Стихия авантюры создала этот американский гений, но другая стихия — стихия пуританизма — не признала его и сделала его жизнь трагедией. В лице Э. По мы имеем подлинного первооткрывателя.
В старых учебниках географии можно встретить такой снимок: два человека, стоя по разные стороны небольшого ручейка, пожимают друг другу руки. Из подписи можно узнать, что этот ручей — исток, из которого берет начало река Волга. Река современной научной фантастики тоже когда-то начиналась из тоненького ручейка. Дело было 140 лет назад. В июне 1835 года в небольшом городе Ричмонде в штате Виргиния вышел очередной номер журнала «Саусерн литерари мессенджер» («Южный литературный вестник»). В номере был напечатан рассказ 26-летнего поэта и прозаика Эдгара По «Необыкновенные приключения некоего Ганса Пфалля». Тираж журнала достигал всего 500 экземпляров. Вряд ли кто-нибудь из тогдашних читателей мог догадываться, что присутствует при рождении жанра, которому суждено такое большое будущее в их стране. Но это будущее наступило не скоро. От рассказа Э. По до расцвета американской научной фантастики в XX веке прошло более ста лет.
Чем же выделялся рассказ Э. По? Тщательным подведением научной базы под заведомо невозможные происшествия. Дело не в том, что Э. По описывает путешествие на Луну. Такое путешествие описал в «Правдивой истории» еще греческий писатель Лукиан (II век нашей эры). Новым было то, что Э. По счел нужным принять во внимание и учесть все известное науке его времени о Луне. С какой тщательностью он обходит все препятствия, воздвигаемые научным знанием на пути к Луне: длительность путешествия, отсутствие атмосферы и т. д. И все же последняя страница переводит рассказ Э. По в область юмористики: ненавязчиво автор дает понять, что скорее всего весь этот рассказ — розыгрыш со стороны обиженного на «отцов города» Ганса Пфалля и еще трех бездельников.
Кстати, Эдгару По было суждено стать создателем еще одного столь любимого читателями жанра — детектива. Поистине одаренность этого поэта, прозаика и эссеиста была универсальной.
Эдвард Беллами создал самый знаменитый утопический роман XIX века «Взгляд назад: 2000–1887». В течение десяти лет этот роман разошелся в количестве почти одного миллиона экземпляров! Герой романа, подобно Рип ван Винклю, засыпает, но просыпается уже не через двадцать, а через 113 лет, то есть в 2000 году, в изменившейся до неузнаваемости социалистической Америке. Старая жизнь в мире наемного труда и капитала кажется герою романа страшным кошмаром. В нашей антологии Э. Беллами представлен рассказом «Остров ясновидцев». При сходстве темы рассказ резко отличается от современных обработок аналогичного сюжета у писателей-фантастов. В нем нет той гонки событий, тех каскадов неожиданных реплик, которые составляют основу обычного научно-фантастического рассказа. Зато обстоятельно и неторопливо проанализированы все неожиданные последствия, которые неизбежно возникли, если бы люди могли читать мысли друг друга. Рассказ принадлежит к той ветви социальной фантастики, которая получила наибольшее развитие в Англии.
На стыке XIX и XX веков стоит примечательная фигура Амброза Бирса, во многих отношениях духовного брага Э. По. У А. Бирса есть и научно-фантастические рассказы в строго: смысле слова, например «Хозяин Моксона», где едва ли не впервые в литературе описывается робот, играющий со своим изобретателем в шахматы. В нашу антологию включен самый знаменитый рассказ Бирса «Случай на мосту через Совиный ручей». Нелегко определить жанр, к которому относится этот рассказ. В нем нет ничего такого, что бы противоречило науке, в то же время отнести к научной фантастике его тоже трудно, так как описанный в рассказе случай никак не связан с каким-либо изобретением или научной гипотезой. Существует старая загадка: «Что быстрее всего на свете?» — «Мысль». Вот на эту тему и написан рассказ. Как много можно пережить — в мыслях — за несколько секунд до смерти, как велика и стремительна сила человеческого воображения, как близко воображаемое может подойти к действительному… Нам чужда политическая тенденция рассказа: действие в нем происходит во время Гражданской войны в США 1861–1865 годов, и с явным сочувствием изображается южанин, казнимый северянами. Но психологическая смелость и блеск языка делают рассказ Бирса одним аз самых дерзких произведений американкой новеллистики за все время ее существования. В этом рассказе невольно прочитывается гимн человеческому воображению.
Прежде чем расстаться с XIX веком и перейти в наш век, давайте посмотрим, что мы оставляем в нем и что, наоборот, было подхвачено писателями нового времени. Подхвачена и развита была стихия юмора, омывающая и «Рип ван Винкля», и «Необыкновенные приключения некоего Ганса Пфалля». Эту стихию мы встретим в изобилии и у Азимова, и у Брэдбери, и у Шекли.
Но остался почти забытым полнокровный, с любовью написанный человеческий характер. Ведь робкий, вечно находящийся под башмаком у жены Рип ван Винкль — едва ли не самый живой из всех человеческих характеров, населяющих нашу антологию. У фантастов XX века характер становится все безфункциональным, схематичным, часто он служит лишь приводным ремнем действия. В этом смысле можно говорить о некоторой дегуманизации героев научно-фантастической литературы по сравнению с классической реалистической литературой. Машина сплошь и рядом выступает как соперник человека, грозящая иногда целиком и полностью вытеснить его с родной планеты.
Бурный рост научной фантастики в американской литературе XX века, особенно после второй мировой войны, объясняется несколькими причинами. Во-первых, ошеломляющие научные открытия нашего времени, вплоть до использования атомной энергии и высадки человека на Луне. С другой стороны, небывалые социальные сдвиги, раскол мира на два лагеря, мировые войны и революции. Даже средний американец не мог не чувствовать непохожесть его сегодняшнего дня на вчерашний, а следовательно, и догадываться о непохожести завтрашнего дня на сегодняшний. Да и мир самой науки стал фантастическим по своим возможным последствиям для человека. Наконец, в 60-е и 70-е годы происходит рождение футурологии как вполне респектабельной, вовсе не фантастической науки. Но так же как фотография не смогла нанести удара живописи, так и футурология не может быть серьезным конкурентом научной фантастики.
Чтобы понять специфику современной американской фантастики, ее метод соотнесения науки и фантастики, приведем конкретный пример.
У всех народов мы встречаем мифы, сказки и легенды о волшебном превращении одних существ в другие, то есть оборотничестве. Но вот как современный американский фантаст Д. Кемпбелл (в рассказе «Кто ты?») переводит сказочное, фантастическое понятие оборотня на научные рельсы. В рассказе описывается, как некое чудовище на глазах у людей превращается и уже частично превратилось в пожираемую им собаку. Вот какое четкое объяснение дает этому герой рассказа: «Все живое состоит из протоплазмы и микроскопических ядер, которые ею управляют. Дело лишь в том, что в протоплазме встреченного нами существа ядра управляют клетками произвольно. Существо переварило Чернека (собаку) и, переваривая, изучило все клетки его тканей, чтобы перестроить свои клетки по их образцу… Это не собака. Имитация. Но со временем даже под микроскопом нельзя будет отличить перестроенную клетку от настоящей.
Рассказы нашей антологии легко разбить на несколько основных тематических групп. Космической теме посвящено наибольшее количество рассказов. Тут такие известные произведения, как «Первый контакт» М. Лейнстера, «Затерянные у Весты» А. Азимова или «Марсианская Одиссея» С. Вейнбаума.
Теме человек и робот посвящены рассказы «Елена Лав» Лестера дель Рея и «Схватка» К. Саймака.
Тема инопланетных пришельцев решается по-разному в рассказе «Кто ты?» Д. Кэмпбелла (типичный рассказ о монстрах), а рассказах Л. Пэджета «Все тенали бороговы…», «Золотое яйцо» Т. Старджона.
Теме четвертого измерения посвящен рассказ Р. Хайнлайна «И построил он дом». Проблемы космической лингвистики анализируются в рассказе Р. Шекли «Потолкуем малость». Философская фантастика представлена рассказом Р. Брэдбери «Куколка»
Главная задача составителей — стремление представить основные этапы, пройденные фантастикой США за двести лег американской литературы, думается, выполнена.
Вместе с тем нельзя не заметить, что основной идейный просчет американской фантастики заключается в механическом перенесении в будущее пороков современной капиталистической системы, только в сгущенном виде. Например, в рассказа Р. Хайнлайна «Логика империи»
некие ловкие бизнесмены вербуют на Земле отчаявшихся людей и посылают их почти на рабских условиях работать на Венеру. Земной бизнес становится космическим, но принцип бизнеса остается неизменным.
Фантазия большинства американских писателей, столь буйная, когда речь идет о чисто научных футурологических гипотезах или сюжетных поворотах, закономерно становится уныло линейной, когда речь идет о социальном прогнозировании. Тем не менее лучшие американские писатели, в частности Рэй Брэдбери и Роберт Шекли, нисколько не обманываются насчет благодетельных последствий бездушной машинной цивилизации, их рассказы то и дело пересекают грань, отделяющую научную фантастику от социальной. От увлекательного моделирования головокружительных идей лучшие американские фантасты идут к человековедению, к подлинной озабоченности обликом завтрашнего мира.
Станислав ДЖИМБИНОВ,
кандидат филологических наук
ФАНТАСТИКА США В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ
Библиография (1917–1975 гг.)
Составитель А. Осипов
Произведения писателей-фантастов США широко издавались и издаются в СССР. Достаточно будет сказать, что за 1917–1975 годы только на русском языке издано и опубликовано около тысячи названий романов, повестей и рассказов. Настоящая библиография не является исчерпывающим сводом русских переводов фантастики США: здесь отражены лишь книги отдельных авторов и публикации в различного рода альманахах, антологиях, сборниках. Но и в таком виде библиография дает достаточно полное и разностороннее представление о переводах фантастики США. Записи расположены в алфавите авторов и названий русских переводов.
Абернети Р. Отпрыск. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Нежданно-негаданно. Сб. М., «Мир», 1973, с. 96–104.
Азимов А. Баттен, Баттен! Рассказ. Пер. П. Мелковой. — В кн.: Пески веков. Сб. М., «Мир», 1970, с. 94–113.
Бессмертный бард. Рассказ. Пер. Д. Жукова. — В кн.: Современная зарубежная фантастика. Сб. М., «Молодая гвардия», 1964, с. 389–391.
Затерянные у Весты. Рассказ. Пер. И. Почиталина. — В кн.: Через Солнечную сторону. Сб., М., «Мир», 1971, с. 185–206.
Все грехи мира. Рассказ. Пер. Н. Рахмановой. — В кн.: Туннель под миром. Сб. М., «Мир», 1965, с. 58–82.
Женская интуиция. Рассказ. Пер. И. Горьевой. — В кн.: Шутник. Сб. М., «Мир», 1971, с. 5–36.
Здесь нет никого, кроме… Рассказ. Пер. Р. Рыбаковой. — В кн.: Нежданно-негаданно. Сб. М., «Мир», 1973, с. 105–107.
Как им было весело. Рассказ. Пер. С. Бережкова. — В кн.: Современная зарубежная фантастика. Сб. М., «Молодая гвардия», 1964, с. 392–396.
Конец Вечности. Роман. Пер. Ю. Эстрина. М., «Молодая гвардия», 1966, с. 254.
Ловушка для простаков. Рассказ. Пер. А. Иорданского. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 12. М., «Знание», 1972.
Мой сын — физик. Пер. Н. Галь. — В кн.: Нежданно-негаданно. Сб. М., «Мир», 1973, с. 42–46.
Молодость. Рассказ. Пер. с англ. — В кн.: Антология. М., «Молодая гвардия», 1973 (Б-ка современной фантастики, т. 25).
Небывальщина. Рассказ. Пер. К. Сенина и В. Тальми. — В кн.: Антология сказочной фантастики. М., «Молодая гвардия», 1971, с. 342–354 (Б-ка современной фантастики, т. 21).
Некролог. Рассказ. Пер. с англ. — В кн.: Антология. М., «Молодая гвардия», 1973 (Б-ка современной фантастики, т. 25).
Нечаянная победа. Рассказ. Пер. Д. Жукова. — В кн.: На суше и на море. М., «Мысль», 1969, с. 469–486.
То же (под назв.: Непреднамеренная победа) в пер. Н. Колпакова. — В кн.: Через Солнечную сторону. Сб. М., «Мир», 1971.
Остряк. Рассказ. Пер. Н. Евдокимовой. — В кн.: 31 июня. Сб. М., «Мир», 1068, с. 21–69.
Паштет из гусиной печенки. Рассказ, Пер. Л. Иорданского. — В кн.: НФ — альманах научной фантастики. Вып. 2. М., «Знание», 1965.
Путь марсиан. Повести и рассказы. М., «Мир», 1966, с. 423.
Раб корректуры. Пер. Ю. Эстрина. — В кн.: Шутник. Сб. М., «Мир», 1971, с. 37–85.
Сердобольные стервятники. Рассказ. Пер. Г. Островской. — В кн.: Экспедиция на Землю, Сб. М., «Мир», 1965, с. 104–129.
Стальные пещеры. Роман. Пер. А. Иорданского. — В кн.: Библиотека приключений в 20-ти томах. Т. 16. М., «Детская литература», 1969.
Уродливый мальчуган. Рассказ. Пер. С. Васильевой. — В кн.: Современная зарубежная фантастика. Сб. М., «Молодая гвардия», 1964, с. 330–388.
Что, если… Рассказ. Пер. Н. Галь. — В кн.: Пиршество демонов. Сб. М., «Мир», 1968, с. 7–25.
Я, робот. Рассказы. Пер. А. Иорданского. М., «Знание», 1964, с. 175.
То же: Библиотека фантастики и приключений в 5-ти томах, Т. 2. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 267–448; Библиотека приключений в 20-ти томах. Т. 16. М… «Детская литература», 1969,
Андерсон П. Зовите меня Джо. Рассказ. Пер. А. Бородаевского. — В кн.: Антология фантастических рассказов. М., «Молодая гвардия», 1967, с. 40–84.
Поворотный пункт. Рассказ. Пер. А. Бородаевского. — Том же, с. 21–39.
Самое долгое плавание. Повесть. Пер. В. Голанта. — В кн.: Талисман. Сб. Л., «Детская литература», 1973, с. 582–603.
Сестра Земли. Рассказ. Пер. Н. Галь. — В кн.: НФ — альманах научной фантастики. Вып. 7. М., «Знание», 1967.
Человек, который пришел слишком рано. Рассказ. Пер. Н. Емельянниковой. — В кн.: Экспедиция на Землю. Сб. М., «Мир», 1965, с. 241–283.
Арр Ст. По инстанциям. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Карточный домик. Сб. М., «Мир», 1969, с. 43–55.
Артур Р. Упрямый дядюшка Отис. Рассказ. Пер. Н. Евдокимовой. — В кн.: 31 июня. Сб. М., «Мир», 1968, с. 80–91.
Барр С. Кэллахэн и его черепашки. Рассказ. Пер. Т. Островской. — В кн.: Туннель под миром. Сб. М., «Мир», 1965, с. 135–182.
Берроуз Э. Боги на Марсе. Роман. Пер. с англ. Пг., изд-во А. Ф. Маркс, 1924, с. 191.
То же (под назв.: Боги Марса). Пг., «Новелла», 1924, с. 283.
Владыка Марса. Фант. роман. Пер. с англ. Пг., Изд-во А. Ф. Маркс, 1924, с. 128.
Дочь тысячи Джеддаков. Роман. Пер. с англ. М. -Пг., Изд-во А. Ф. Маркс, 1924, с. 124.
Принцесса Марса. Роман. Пер. с англ. Пг., «Новелла», 1924, с. 236.
Бестер А. Звездочка светлая, звездочка ранняя… Рассказ. Пер. Е. Коротковой. — В кн.: Антология фантастических рассказов. М., «Молодая гвардия», 1967, с. 511–534 (Б-ка современной фантастики, т. 10).
Исчезновения. Рассказ. Пер. Н. Семевской. — В кн.: НФ — альманах научной фантастики. Вып. 6. М., «Знание», 1957.
То же (под назв.: Феномен исчезновения). В пер. Ю. Абызова в кн.: Библиотека современной фантастики, т. 10. М… «Молодая гвардия», 1967, с. 196–218.
Ночная ваза с цветочным бордюром. Рассказ. Пер. с англ. В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 25. М., «Молодая гвардия», 1973.
Путевой дневник. Рассказ. Пер. Е. Коротковой. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 10. М., «Молодая гвардия», 1967, с. 640–544.
Человек Без Лица. Роман. Пер. Е. Коротковой. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 24. М., «Молодая гвардия», 1972, с. 161–385.
Биггл-младший Л. Какая прелестная школа!. Рассказ Пер. Н. Евдокимовой. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 10. М., «Молодая гвардия», 1967, с. 295–333.
Музыкодел. Рассказ. Пер. Г. Усовой. — В кн.: НФ — альманах научной фантастики. М., «Знание», 1965.
Биксби Д. Американская дуэль. Рассказ. Пер. Н. Кондратьева. — В кн.: На суше и на морэ. М., «Мысль», 1970 с. 524–540.
Улица одностороннего движения. Рассказ. Пер. Э. Кабалевской. — В кн.: Пески веков. Сб. М., «Мир», 1970, с. 267–290.
Блиш Д. Король на горе. Рассказ. Пер. Д. Горфинкеля — В кн.: Туннель под миром. Сб. М., «Мир», 1965, с. 366–383.
Блох Р. Поезд в ад. Рассказ. Пер. Д. Горфинкеля. — В кн.: НФ — альманах научной фантастики. Вып. 6. М., «Знание», 1967.
Блэк С. Носорог Марвина. Рассказ. Пер. с англ. — В кн. Борьба с Химерами. Сб. М. -Л., «Земля и Фабрика», 1927, с. 25–30.
Блэчфорд Р. Страна Чудес. Роман. Пер. с англ. М., Госиздат, 1923, с. 268.
Браун Р. Приключения древнего рецепта. Рассказ. Пер. Ю. Эстрина. — В кн.: Нежданно-негаданно. Сб. М., «Мир», 1973, с. 174–192.
Браун Ф. Арена. Рассказ. Пер. А. Иорданского. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 12. М., «Знание», 1972.
Звездная карусель (Цикл рассказов). — В кн.: Браун Ф. Тенн У. Звездная карусель. М., «Мир», 1974, с. 17–123.
Содерж.: Звездная карусель. Пер. И. Гуровой. — Звездная мышь. Пер. Л. Этуш. — Кукольный театр. Пер. Р. Рыбкина. — Немного зелени. Пер. З. Бобырь. — Этаоин ШРДЛУ — Пер. С. Бережкова.
Кукольный театр. Рассказ. Пер. Р. Рыбкина. — В кн.: Огненный цикл. Сб. М., «Мир», 1970, с. 400–414.
Планетат — безумная планета. Пер. Н. Евдокимовой. — В кн.: 31 июня. Сб. М., «Мир», 1968, с. 159–179.
Просто смешно! Рассказ. Пер. Л. Мишина. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 10. М., «Молодая гвардия», 1967, с. 535–536.
Брэдбери Р. Апрельское колдовство. Рассказ. Пер. Л. Жданова. — В кн.: Антология сказочной фантастики. М., «Молодая гвардия», 1971. с. 331–341 (Б-ка современной фантастики, т. 21).
Вино из одуванчиков. Повести и рассказы, М., «Мир», 1967. с. 400.
Все лето в один день. Рассказ. Пер. Л. Жданова. — В кн.: Современная зарубежная фантастика. М., «Молодая гвардия», 1964, с. 30–35.
Детская площадка. Рассказ. Пер. Т. Шинкарь. — В кн.: Научно-фантастические рассказы американских писателей. Сб. М., Издательство иностранной литературы, 1960, с. 282–501.
Здесь водятся тигры. Рассказ. Пер. Н. Кондратьева. — В кн.: На суше и на море. М., «Мысль», 1965, с. 542–556.
То же в кн.: Туннель под миром. Сб. М., «Мир», 1965, с. 257–277.
Золотой змей, Серебряный ветер. Рассказ. Пер. Д. Горфинкеля. — В кн.: Эллинский секрет. Сб. Л., Лениздат, 1966, с. 497–502.
И камни заговорили… Рассказ. Пер. Т. Шинкарь. — В кн.: Научно-фантастические рассказы американских писателей. Сб. М., Издательство иностранной литературы, 1960, с. 302–327.
Калейдоскоп. Рассказ. Пер. Л. Жданова. — В кн.: Экспедиция на Землю. Сб. М., «Мир», 1965, с. 195–210.
Лед и пламя. Рассказ. Пер. Л. Жданова. — В кн.: Мир «Искателя». Сб. М., «Молодая гвардия», 1973, с. 401–447.
Марсианские хроники. Пер. Л. Жданова. М., «Мир», 1965, с. 334.
О скитаниях вечных и о Земле. Рассказ. Пер. Н. Галь. — В кн.: Музы в век звездолетов. Сб. М., «Мир», 1969, с. 21–44.
Око за око. Рассказ. Пер. Л. Жданова. — В кн.: Современная зарубежная фантастика. Сб. М., «Молодая гвардия», 1964, с. 15–29.
Р — значит ракета. Фантаст. рассказы. Пер. Н. Галь и Э. Кабалевской. М., «Детская литература», 1973, с. 190.
Содерж.: Р — значит ракета. — Конец начальной поры. — Ревун. — Ракета. — Космонавт. — Золотые яблоки Солнца. — И грянул гром… — Нескончаемый дождь. — Земляничное окошко. — Дракон. — Диковинное диво. — Каникулы. — Дядюшка Эйнар. — Барабанщик из Шайлоу. — Лучшее из времен. — Машина времени. — Звук бегущих ног.
Рассказы. М., «Молодая гвардия», 1975, 224 с. (Б-ка современной зарубежной фантастики).
Ревун. Рассказ Пер. Л. Жданова. — В кн.: Современная зарубежная фантастика. М., «Молодая гвардия», 1964, с. 36–45.
Ржавчина. Рассказ. Пер. 3. Бобырь. — Там же, с. 9–14.
Сущность. Рассказ. Пер. Д. Лившиц. — В кн.: Эллинский секрет. Сб. Л., Лениздат, 1966, с. 486–496.
Тот, кто идет. Рассказ. Пер. А. Лебедева и А. Чайковского. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 12. М., «Знание», 1972.
Удивительная кончина Дадли Стоуна. Рассказ. Пер. Р. Облонской. — В кн.: Музы в век звездолетов. Сб. М., «Мир», 1969, с. 113–129.
Уснувший в Армагеддоне. Рассказ. Пер. Л. Сумилло. — В кн.: Звезды зовут… М., «Мир», 1969, с. 288–306.
Фантастика. Рассказы. Пер. Л. Жданова. М., «Знание», 1963 с. 220.
(Цикл рассказов. Пер. Л. Жданова) — В кн.: Библиотека фантастики и приключений в 5-ти томах. Том 2. М., «Молодая гвардия», 1965, с. 163–264.
Содерж.: И грянул гром… — Вельд. — Земляне. — Третья экспедиция. — В серебристой лунной мгле.
Человек в воздухе. Рассказ. Пер. Н. Галь. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 25. М., «Молодая гвардия», 1973.
451° по Фаренгейту. Повесть. Пер. Т. Шинкарь. М., Издательство иностранной литературы, 1956, с. 152.
То же. М., «Мир», 1964, с. 164; то же (и рассказы). М., «Молодая гвардия», 1965, с. 351.
Брейер М. Куздра и Бокры. Рассказ. Пер. Н. Евдокимовой. — В кн.: Карточный домик. Сб. М., «Мир», 1969, с. 18–42.
Бучер Э. Клоподав. Рассказ. Пер. И. Можейко. — В кн.: Пески веков. Сб. М., «Мир», 1970, с. 72–93.
Ван-Вогт А. Чудовище. Рассказ. Пер. Ф. Мендельсона. — В кн.: Мир «Искателя». Сб. М., «Молодая гвардия», 1973, с. 359–378.
Венбаум С. Планета сомнений. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Через Солнечную сторону. Сб. М., «Мир», 1971, с. 295–329.
Венс Д. Дар речи. Рассказ. Пер. З. Бобырь. — В кн.: На суше и на море. М., Географгиз, 1961, с. 416–465.
Вильямс Д. Хищник. Рассказ. Пер. Е. Глущенко. — В кн.: Космический госпиталь. Сб. М., «Мир», 1972, с. 185–199.
Водхемс Д. Не тот кролик. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Нежданно-негаданно. Сб. М., «Мир», 1973, с. 203–226.
Гамильтон Э. Невероятный мир. Рассказ. Пер. З. Бобырь. — В кн.: Мир приключений. М., Детгиз, 1956, с. 521–535.
Ганн Д. Где бы ты ни был. Рассказ. Пер. Ю. Эстрина. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 10. М., «Молодая гвардия», 1967.
Гаррисон Г. Абсолютное оружие. Повесть. Пер. А. Чапковского — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 25. М., «Молодая гвардия», 1973.
Безработный робот. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Карточный домик. Сб. М., «Мир», 1969, с. 230–255.
Магазин игрушек. Рассказ. Пер. И. Почиталина. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 10. М., «Молодая гвардия», 1967.
Неукротимая планета. Роман. Сокр. пер. Л. Жданова. М., «Молодая гвардия», 1972, с. 5–160 (Б-ка современной фантастики, т. 24).
Преступление. Рассказ. Пер. И. Почиталина. — В кн.: Карточный домик. Сб. М., «Мир», 1969, с. 166–183.
Проникший в скалы. Рассказ. Пер. И. Почиталина. — В кн.: Фантастические изобретения. Сб. М., «Мир», 1971, с. 390–404.
Смертные муки пришельца. Рассказ. Пер. В. Ровинского. — В кн.: Экспедиция на Землю. Сб. М., «Мир», 1965, с. 170–194.
Тренировочный полет. Сб. научн. — фантаст. рассказов. Предисл. Е. Брандиса. М., «Мир», 1970, с. 365.
Геман Р. Машина. Рассказ. Пер. В. Генкина. — В кн.: Карточный домик. Сб. М., «Мир», 1969, с. 292–316.
Гернсбек X. Ральф 124 С 41+. Роман. Пер. О. Волкова. Предисл. А. Казанцева. М., «Прогресс», 1964, с. 166.
Годвин Т. Необходимость — мать изобретения. Рассказ. Пер. С. Михайловой. — В кн.: Фантастические изобретения. Сб. Л., «Мир», 1971, с. 317–356.
Немыслимое уравнение. Рассказ. Пер. А. Стависской. — В кн.: Научно-фантастические рассказы американских писателей. Сб. М., Издательство иностранной литераторы, 1960, с. 23–46.
Голд Г. Герой. Рассказ. Пер. З. Бобырь. — В кн.: Современная зарубежная фантастика. М., «Молодая гвардия», 1964, с. 273–291.
Гордон Д. Честность — лучшая политика. Рассказ. Пер. З. Бобырь. — Там же, с. 292–313.
Гриффит Э. Слушайте, слушайте! Рассказ. Пер. Л. Жданова. — В кн.: НФ — альманах научной фантастики. Вып. 1. М., «Знание», 1964.
Девис Ч. Блуждая на высшем уровне. Рассказ. Пер. Е. Владаровой. — В кн.: Пиршество демонов. Сб., М., «Мир», 1968, с. 55–81.
Дель Рей Л. И снова в путь. Рассказ. Пер. Б. Клюевой. — В кн.: Пески веков. Сб. М., «Мир», 1970, с. 294–310.
Дерлет О. Звезда Макилвейна. Рассказ. Пер. Э. Кабалевской. — В кн.: Дальний полет. Сб. М., «Мир», 1972, с. 221–235.
Десберри Л. Голубой луч. Роман. Пер. с англ. М., «Пучина», 1927, с. 189.
Эликсир молодости и совершенства. Роман. Пер. с англ. М. -Л., «Прибой», 1927, с. 126.
Джайлс Г. На Меркурии. Рассказ. Пер. З. Бобырь. — В кн.: На суше и на море. М., Географгиз, 1962, с. 627–575.
Джоунс Р. Уровень шума. Рассказ. Пер. Б. Болтова и Ю. Логинова. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 10. М., «Молодая гвардия», 1967, с. 334–369.
Диш Т. Благосостояние Эдвина Лолларда. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Карточный домик. Сб. М., «Мир», 1969, с. 184–206.
Дрейпер X. ЗПС НИД В ББЛТК. Рассказ. Пер. И. Почиталина. — В кн.: Нежданно-негаданно. Сб. М., «Мир», 1973, с. 86–95.
Иннес А. Путешествие будет долгим. Рассказ. Пер. Н. Рахмановой. — В кн.: Научно-фантастические рассказы американских писателей. М., Издательство иностранной литературы, 1960, с. 148–161.
Де Камп С. Такая работа… Рассказ. Пер. И. Можейко. — В кн.: Фантастические изобретения. Сб. М., «Мир», 1971, с. 173–197.
Капоте Т. Бутыль серебра. Рассказ. Пер. С. Митиной. — В кн.: Гости Страны Фантазии. Сб. М., «Мир», 1968, с. 270–290.
Злой Рок. Рассказ. Пер. Р. Облонской. — Там же, с. 180–207.
Каттнер Г. Порочный круг. Рассказ. Пер. А. Тетеревниковой. — В кн.: Туннель под миром. Сб. М., «Мир», 1965, с. 183–210.
Робот-зазнайка. Сб. научн. — фант. рассказов. М., «Мир», 1968, с. 408.
Сим удостоверяется… Рассказ. Пер. К. Сенина и В. Тальми. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 21, М., «Молодая гвардия», 1971, с. 364–379.
Сплошные неприятности. Рассказ. Пер. В. Панова. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 10, «Молодая гвардия», 1967.
Шок. Рассказ. Пер. А. Тетеревниковой. — В кн.: Экспедиция на Землю. Сб. М., «Мир», 1965, с. 313–330.
Керш Д. Что случилось с капралом Куку? Рассказ. Пер. Э. Кабалевской. — В кн.: Фантастические нзобротгния. Сб. «Мир», 1971, с. 87–117.
Киз Д. Цветы для Элджернона. Рассказ. Пер. С. Васильевой. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 10, М., «Молодая гвардия», 1967,
Клемент X. Огненный цикл. Роман. Пер. С. Бережкова и С. Победина. — В кн.: Огненный цикл. Сб. М., «Мир», 1970, с. 15–237.
Экспедиция Тяготение. Повести. Пер. С. Бережкова и В. Голанта. М., «Мир», 1972, с. 360.
Корнблат С. Карточный домик. Рассказ. Пер. С. Михайловой. — В кн.: Карточный домик. Сб. М., «Мир», 1969, с. 5–17.
Крайтон М. Штамм «Андромеда». Повесть. Пер. В. Тальми и К. Сенина. Предисл. С. Кондратова. М., «Мир», 1971, с. 320.
Куросака Б. Кто во что горазд. Рассказ. Пер. Н. Евдокимовой. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 10, «Молодая гвардия», 1967.
Кэйдин М. В плену орбиты. Роман. Пер. Д. Жукова и Г. Хозина. Предисл. Г. Титова. М., «Мир», 1967, с, 343.
Кэпп К. Посол на Проклятую. Рассказ. Пер. Н. Устинова. — В кн.: Дальний полет. Сб. М., «Мир», 1972, с. 254–280.
Ле Гуин У. Девять жизней. Рассказ. Пер. И. Можейко. — В кн.: Фантастические изобретения. Сб. М., «Мир», 1971, с. 118–152.
Лейнстер М. Демонстратор четвертого измерения. Рассказ. Пер. И. Почиталина. — В кн.: Фантастические изобретения. Сб. М., «Мир», 1971, с. 275–292.
Исследовательский отряд. Рассказ. Пер. А. Стависской. — В кн.: На суше и на море, М., Географгиз, 1960, с. 486–520.
То же в кн.: Научно-фантастические рассказы американских писателей. М., Издательство иностранной литературы, 1960.
Критическая разница. Рассказ. Пер. Н. Лобачева. — В кн.: На суше и на море. М., «Мысль», 1964, с. 462–493.
Первый контакт. Повесть. Пер. Д. Брускина. — В кн.: Экспедиция на Землю. Сб. М., «Мир». 1965, с. 55–103.
Этические уравнения. Рассказ. Пер. Н. Галь. — В кн.: Звезды зовут… Сб. М., «Мир», 1969, с. 105–128.
Лесли О. Торговцы разумом. Рассказ. Пер. Б. Клюевой. — В кн.: Карточный домик. Сб. М., «Мир», 1969, с. 207–229.
Лондон Д. Алая Чума. Повесть. Пер. с англ. Л., «Мысль», 1925, с. 80.
То же в кн.: Лондон Д. Собр. соч. М. -Л., «Земля и Фабрика», 1929, т. 12. Кн. 22–24, с. 235–271.
До Адама. Роман. Пер. с англ. М., «Универсальная б-ка», 1918, с. 184.
То же. Харьков, «Молодой рабочий», 1924, с. 154; Л., «Мысль», 1925, 1926, с. 164.
Железная пята. Роман. Пер. Р. Гальпериной. — В кн.: Лондон Д. Собр. соч., т. 6. М., Гослитиздат, 1955, с. 13–256.
Мамонт Томаса Стивенса. Рассказ. Пер. с англ. — В кн.: Борьба с Химерами, Сб. М., «Земля и Фабрика», 1927, с. 3–8.
Тень и блеск. Рассказ. Пер. с англ. — В кн.: Лондон Д. Собр. соч. Л, 1927, т. 12. Кн. 22–24, с. 295–309.
Тысяча смертей. Рассказ. Пер. И. Гуровой, — В кн. Гости Страны Фантазии. Сб. М., «Мир», 1968, с. 76–88.
Лудвиг Э. Маленький преступник. Рассказ. Пер. З. Бобырь. — В кн.: Современная зарубежная фантастика. М., «Молодая гвардия», 1964.
Лафферти Р. Неделя ужасов. Рассказ. Пер. Р. Померанцевой. — В кн.: 31 июня. Сб. М., «Мир», 1968, с. 71–79.
То же (под назв.: Семь дней ужаса. В пер. И. Почиталина) в кн.: Библиотека современной фантастики, т. 21. М., 1971.
Макконнелл Д. Теория обучения. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Пиршество демонов. Сб. М., «Мир», 1968, с. 120–138.
Маклин К. Необыкновенное жертвоприношение. Рассказ. Пер. З. Бобырь. — В кн.: Современная зарубежная фантастика. М., «Молодая гвардия», 1964.
Марз Ф. Краб Гозенсео. Рассказ. Пер. с англ. — В кн.: Борьба с Химерами. Сб. М., «Земля и Фабрика», 1927, с. 39–40,
Маттесон Р. Стальной человек. Рассказ. Пер. И. Почиталина. — В кн.: Карточный домик. Сб. М., «Мир», 1969, с. 133–165.
Моррисон У. Коровий доктор. Рассказ. Пер. Э. Кабалевской. — В кн.: Звезду зовут… Сб. М., «Мир», 1969, с. 214–242.
Мешок. Рассказ. Пер. С. Бережкова. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 10. М., «Молодая гвардия», 1967, с 239.
Пиршество демонов. Рассказ. Пер. Г. Хромова. — В кн.: Пиршество демонов. Сб. М., «Мир», 1968, с. 139–169.
Мэллони Р. Несокрушимая логика. Рассказ. Пер. Г. Волчека. — В кн.: 31 июня. Сб. М., «Мир», 1968, с. 238–247.
Найт Д. Двое лишних. Рассказ. Пер. В. Смирнова. — В кн.: На суше и на море. М., «Мысль», 1966, с. 618–650.
Творение прекрасного. Рассказ. Пер. Б. Клюевой. — В кн.: Музы в век звездолетов. Сб. М., «Мир», 1969, с. 207–246.
Невил К. Бетти-Энн. Рассказ. Пер. Р. Облонской. — В кн.: Огненный цикл. Сб. М., «Мир», 1970, с. 287–346.
Нельсон А. Мыльная опера. Рассказ. Пер. Я. Берлина. — В кн.: Нежданно-негаданно. Сб. М., «Мир», 1973, с. 146–161.
Нибел Ф. Исчезнувший. Роман. Пер. с англ. М., «Молодая гвардия», 1973, с. 415.
Норс А. Эликсир Коффина. Пер. Э. Кабалевской. Рассказ. — В кн.: 31 июня. Сб. М., «Мир», 1968, с. 126–147.
Через Солнечную сторону. Рассказ. Пер. Я. Берлина. — В кн.: Через Солнечную сторону. Сб. М., «Мир», 1971, с. 19–50.
Нортон Э. Саргассы в космосе. Повесть. Пер. С. Бережкова и С. Витина. М., «Мир», 1969, с. 230.
О’Генри. История пробковой ноги. Рассказ. Пер. В. Жебеля. — В кн.: Гости Страны Фантазии. Сб. М., «Мир», 1968, с. 89–91.
О’Доннел К. Как я их обследую. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Карточный домик. Сб. М., «Мир», 1969, с. 283–291.
Оливер Ч. Ветер Бремени. Роман. Пер. Н. Рахмановой. Предисл. Е. Парнова. М., «Мир», 1965, с. 255.
Почти люди. Рассказ. Пер. Н. Кондратьева. — В кн.: На суше и на море. М., «Мысль», 1969, с. 487–515.
Оттум-младший Б. Много шума из ничего. Рассказ. Пер. В. Сечина. — В кн.: 31 июня. Сб. М., «Мир», 1968, с. 226–229.
Пайпер Б. Универсальный язык. Рассказ. Пер. А. Стависской. — В кн.: На суше и на море. М., Географгиз, 1960, с. 446–486.
То же в кн.: Научно-фантастические рассказы американских писателей. М., Издательство иностранной литературы, 1960.
Педлер К., Дэвис Д. Мутант-59. Роман. Пер. с. англ. К. Сенина и В. Тальми. Послесл. Е. Парнова. М., «Мир», 1975, с. 316.
Пирс Д. Грядущее Джона Цзе. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Пиршество демонов. Сб. М., «Мир», 1968, с. 170–179.
Не вижу зла. Рассказ. Пер. Н. Гуровой. — В кн.: Пиршество демонов. Сб. М., «Мир», 1968, с. 180–193.
Плектей Д. Не нашей работы. Рассказ. Пер. Н. Галь. — В кн.: Нежданно-негаданно. Сб. М., «Мир», 1973, с. 77–81.
Порджес А. Погоня. Рассказ. Пер. Р. Рыбкина. — В кн.: Дальний полет. Сб. М., «Мир», 1972, с. 134–151.
Саймон Флэгг и дьявол. Рассказ. Пер. Д. Гарфинкеля. — В кн.: Туннель под миром. Сб. М., «Мир», 1965, с. 384–394.
Ценный товар. Рассказ. Пер. И. Почиталина. — В кн.: Звезды зовут. Сб. М., «Мир», 1969, с. 251–264.
Путкамер Е. Чудовище Саргассов. Рассказ. Пер. с англ. — В кн.: Борьба с Химерами. Сб. М. -Л., «Земля и Фабрика», 1927, с. 9–18.
Ридлей Ф. Зеленая машина. Роман. Пер. с англ. Харьков, «Пролетарий», 1928, с. 222.
Рейнольдс М. Эксперт. Рассказ. Пер. И. Можейко. — В кн.: Фантастические изобретения. Сб. М., «Мир», 1971, с. 299–312.
Ричардсон Р. Малыш Андерсон. Рассказ. Пер. Ю. Кларка. — В кн.: Пиршество демонов. Сб. М., «Мир», 1958, с. 194–206.
Саймак К. Все живое… Роман. Пер. Н. Галь. М., «Мир», 1968, с. 303.
Город. Роман. Пер. Л. Жданова. М., «Молодая гвардия», 1974, с. 238 (Б-ка современной зарубежной фантастики).
Заповедник гоблинов. Роман и рассказы. М., «Мир», 1972, с. 320.
Кимон. Рассказ. Пер. Д. Жукова. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 10. М., «Молодая гвардия», 1967, с. 85–145.
На Землю за вдохновеньем. Рассказ. Пер. И. Почиталина. — В кн.: Шутник. Сб. М., «Мир», 1971, с. 123–145.
На Юпитере. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Через Солнечную сторону. Сб. М., «Мир», 1971, с. 207–223.
Необъятный двор. Повесть. Пер. А. Стависской. — В кн.: Экспедиция на Землю. Сб. М., «Мир», 1965, с. 340–412.
Прелесть. Повести и рассказы, М., «Мир», 1967, с. 412.
Почти как люди. Роман. Рассказы. Пер. С. Васильевой и Е. Вансловой. М., «Молодая гвардия», 1970, с. 319
Содерж.: Почти как люди. — Все ловушки Земли. — Воспителлы. — Смерть в доме.
Сделай сам. Рассказы. Пер. с англ. М., «Правда», 1967, с. 43. (Б-ка «Огонька» № 49)
Спокойной ночи, мистер Джеймс. Рассказ. Пер. А. Горбунова. — В кн.: Современная зарубежная фантастика. М., «Молодая гвардия», 1964.
Театр теней. Рассказ. Пер. с англ. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 25. М., «Молодая гвардия», 1973.
Фактор ограничения. Рассказ. Пер. Н. Евдокимовой. — В кн.: НФ — альманах научной фантастики. Вып. 5. М., «Знание», 1966.
Сароян У. Тигр Тома Трейси. Повесть. Пер. Р. Рыбкина. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 21. М., «Молодая гвардия», 1971.
Селор М. Артания мексиканских болот. Рассказ. Пер. с англ. — В кн.: Борьба с Химерами. Сб. М., «Земля и Ф-ка», 1927, с. 36–38.
Сент-Клэр М. Потребители. Рассказ. Пер. К. Булычева. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 10. М., «Молодая гвардия», 1967.
Серлинг Р. Люди, где вы?… Рассказ. Пер. Е. Кубичева. — В кн.: На суше и на море. М., «Мысль», 1971, с. 561–585.
Можно дойти пешком. Рассказ. Пер. Е. Кубичева. — В кн.: Мир «Искателя». Сб. М., «Молодая гвардия», 1973, с. 335–350.
Сильверберг Р. Тихий вкрадчивый голос. Рассказ. Пер. Н. Евдокимовой. — В кн.: Библиотека современной фантастики, т. 10. М., «Молодая гвардия», 1967, с, 370–393.
Синклер Э. 2000-й год. (Космическая утопия). Пер. с англ. М., Госиздат, 1924, с. 207 (далее переиздавался под разными названиями).
Слейдек Д. 1935 г. н. э. Рассказ. Пер. Н. Колпакова. — В кн.: Фантастические изобретения. Сб. М., «Мир», 1971, с. 209–221.
Смит Д. В безвыходном положении. Рассказ. Пер. А. Шилейко. — В кн.: Пиршество демонов. Сб. М., «Мир», 1958, с. 207–227.
Отверженные. Рассказ. Пер. Р. Облонской. — В кн.: Звезды зовут… Сб. М., «Мир», 1969, с. 307–326.
Спрэг де Камп Л. С ружьем на динозавра. Рассказ. Пер. Я. Пазара. — В кн.: На суше и на море. М., «Мысль», 1970, с. 496–523.
Старджон Т. Бог микрокосмоса. Рассказ. Пер. Ф. Мендельсона. — В кн.: На суше и на коре. М., Географгиз, 1961, с. 466–498.
Искусники планеты Ксанаду. Рассказ. Пер. Н. Галь. — В кн.: Звезды зовут… Сб. М., «Мир», 1969, с. 346–385.
Крошки и Чудовище. Рассказ. Пер. К. Булычева. — В кн.: Дальний полет. Сб. М., «Мир», 1972, с. 168–217.
Особая способность. Рассказ. Пер. Д. Горфинкеля. — В кн.: Экспедиция на Землю. Сб. М., «Мир», 1965, с. 143–169.
Ракета Мауса. Рассказ. Пер. Н. Галь. — В кн.: Огненный цикл. Сб. М., «Мир», 1970, с. 347–399.
Сциллард Л. К вопросу о «Центральном вокзале». Рассказ. Пер. Е. Владаровой. — В кн.: Пиршество демонов. Со, М. «Мир», 1968, с. 228–235.
Фонд Марка Гейбла. Рассказ. Пер. В. Война. — В кн.: Современная зарубежная фантастика. «Молодая гвардия», 1964, с. 191–201.
Сэллингс А. Вступление в жизнь. Рассказ. Пер. Р. Облонской. — В кн.: Звезды зовут… Сб. М., «Мир», 1969. с. 59–79.
Сэндерс У. Договор. Рассказ. Пер. А. Иорданского. — В кн.: Нежданно-негаданно. Сб. М., «Мир», 1973, с. 58–76.
Тивис-младший У. Новые измерения. Рассказ. Пер. Н. Евдокимовой. — В кн.: НФ — альманах научной фантастики. Вып. 5. М., «Знание», 1966.
Томас Т. Двое с Луны. Рассказ. Пер. М. Ермашевой. — В кн.: Научно-фантастические рассказы американских писателей. М., Издательство иностранной литературы, 1960, с. 118–147.
Сломанная линейка. Рассказ. Пер. К. Булычева. — В кн.: Библиотека современной фантастики, г. 10. М., «Молодая гвардия» 1967.
Туми Р. Мгновенье вечность бережет. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Фантастические изобретения. Сб. М, «Мир», 1971, с. 222–236.
Уайт Э. В час досуга. Рассказ. Пер. Д. Жукова. — В кн.: Современная зарубежная фантастика. М., «Молодая гвардия», 1964.
Уилли Р. Вторжение. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Пиршество демонов. Сб. М., «Мир», 1968, с. 236–255.
Уильямс Р. Полет «Утренней звезды». Рассказ. Пер. А. Иорданского. — В кн.: Звезды зовут… Сб. М., «Мир», 1969, с. 327–345.
Уильямсон Д. Взгляд в прошлое. Рассказ. Пер. А. Тетеревниковой. — В кн.: Экспедиция на Землю. Сб. М., «Мир», 1965, с. 211–240.
Уоллес Ф. Зверушка Боулдена. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Космический госпиталь. Сб. М., «Мир», 1972, с. 27–52.
Из двух зол. Рассказ. Пер. Н. Евдокимовой. — В кн.: 31 июня. Сб. М., «Мир», 1968, с. 180–222.
Уормсер Р. Пан Сатирус. Повесть. Пер. Д. Жукова. Предисл. Н. Карева. М., «Мир», 1966, с. 216.
Файф Г. Хорошо смазанная машина. Рассказ. Пер. К. Косцинского. — В кн.: Нежданно-негаданно. Сб. М., «Мир», 1973, с. 227–247.
Финней Д. Боюсь. Рассказ. Пер. О. Битова. — В кн.: Пески веков. Сб. М., «Мир», 1970, с. 349–367.
Меж двух времен. Роман. Сокр. пер. с англ. Предисл. К. Брандиса. М., «Мир», 1972, с. 431.
О пропавших без вести. Рассказ. Пер. З. Бобырь. — В кн.: НФ — альманах научной фантастики. Вып. 2. М., «Знание», 1965.
Фицджеральд Ф. Забавный случай с Бенджамином Багтоном. Рассказ. Пер. Т. Луковниковой. — В кн.: Гости Страны Фантазии. Сб. М., «Мир», 1968, с. 329–363.
Формен Г. Дети Земли. Рассказ. Пер. П. Охрименко. — В кн.: На суше и на море. М., Географгиз, 1963, с. 511–833.
Хайнлайн Р. Долгая вахта. Рассказ. Пер. М. Ермашевой. — в кн.: Научно-фантастические рассказы американских писателей. М., Издательство иностранной литературы, 1960, с. 47–63.
Дом, который построил Тил. Рассказ. Пер. Д. Горфинкеля. — В кн.: НФ — альманах научной фантастики. Вып. 6. М., «Знание», 1967.
Если это будет продолжаться… Рассказ. Пер. Ю. Михайловского. — В кн.: НФ — альманах научной фантастики. Вып. 7. М., 1967.
Зеленые холмы Земли. Рассказ. Пер. В. Кана. — В кн.: Эллинский секрет. Сб. Л., Лениздат, 1966, с. 603–517.
Испытание космосом. Рассказ. Пер. Г. Усова. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 16. М., «Знание», 1975.
Как здорово вернуться! Рассказ. Пер. Г. Усова. — В кн.: На суше и на море. М., «Мысль», 1973, с. 547–566.
Логика империи. Рассказ. Пер. М. Ермашевой. — В кн.: Научно-фантастические рассказы американских писателей. М., Издательство иностранной литературы, 1960, с. 64–117.
Хантер И. Не рискнуть ли за миллион? Рассказ. Пер. Э. Кабалевской. — В кн.: Гости Страны Фантазии. Сб. М, «Мир», 1968, с. 134–158.
Чандлер Б. Половина пары. Рассказ. Пер. И. Почиталина. — В кн.: Б-ка современной фантастики, т. 10. М., 1967, с. 394–400.
То же в кн.: Нежданно-негаданно. Сб. Пер. М. Гордона. М., «Мир», 1973, с. 162–166.
Шекли Р. Битва. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Шутник. Сб. М., «Мир», 1971, с. 169–175.
Все, что вы есть… Рассказ. Пер. Н. Лобачева. — В кн.: На суше и на море. М., Географгиз, 1963, с. 403–442.
Где не ступала нога человека. Рассказ. Пер. Н. Евдокимовой. — В кн.: 31 июня. Сб. М., «Мир», 1968, с. 107–125.
Мятеж шлюпки. Рассказ. Пер. Г. Косова. — В кн. Современная зарубежная фантастика. М., «Молодая гвардия», 1964, с. 79–116.
Паломничество на Землю. Рассказы. Предисл. Ю. Кагарлицкого. М., «Мир», 1966, с. 478.
Планета по смете. Рассказ. Пер. с англ. — В кн.: Б-ка современной фантастики, т. 25. М., «Молодая гвардия», 1973.
Премия за риск. Рассказ. Пер. М. Данилова и Б. Носика. — В кн.: Карточный домик. Сб. М., «Мир», 1969, с. 68–92.
Рассказы. Повести. М., «Молодая гвардия», 1968, с. 399.
Травмированный. Пер. Н. Евдокимовой. — В кн.: Экспедиция на Землю. Сб. М., «Мир», 1965, с. 284–312.
Царская воля. Рассказ. Пер. Н. Евдокимовой. — В кн.: Туннель под миром. Сб. М., «Мир», 1965, с. 278–295.
Человек по Платону. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Нежданно-негаданно. Сб. М., «Мир», 1973.
Шеллит Д. Чудо-ребенок. Рассказ. Пер. Л. Старокадомского. — В кн.: Научно-фантастические рассказы американских писателей. М., Издательство иностранной литературы, 1960, с. 254–281.
Шерред Т. Попытка. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн. Фантастические изобретения. Сб. М., «Мир», 1971, с. 25–86.
Шмиц Д. Дедушка. Рассказ. Пер. А. Устинова. — Сбалансированная экология. Пер. И. Можейко. — В кн.: Космический госпиталь. Сб. М., «Мир», 1972, с. 53–86. 116–137.
Шор В. Бюллетень Совета попечителей Института изучения будущего в г. Мармуте, Массачусетс. Рассказ. Пер. С. Михайловой. — В кн.: Карточный домик. Сб. М., «Мир», 1969, с. 56–67.
Шуйлер-Миллер П. Пески веков. Рассказ. Пер. С. Михайловой. — В кн.: Пески веков. Сб. М., «Мир», 1970, с. 17–57.
Эзертон Д. Нежданно-негаданно. Рассказ. Пер. Р. Рыбкина. — В кн.: Нежданно-негаданно. Сб. М., «Мир», 1973.
Элби С. Вершина. Рассказ. Пер. С. Васильевой. — В кн.: Б-ка современной фантастики, т. 10. М., «Молодая гвардия», 1967, с. 181–195.
Эмшуиллер Е. Охотничья машина. Рассказ. Пер. И. Почиталина. — В кн.: Фантастические изобретения. Сб. М., «Мир», 1971, с. 381–389.
Энвил К. История с песчанкой. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Через Солнечную сторону. Сб. М., «Мир», 1971, с. 51–86.
Эндор Г. Новая эра. Рассказ. Пер. А. Тетеревннковой. — В кн.: Карточный домик. Сб. М., «Мир», 1969, с. 317–326.
Энтони П. Не кто иной, как я. Рассказ. Пер. И. Можейко. — В кн.: Шутник. Сб. М., «Мир», 1971, с. 86–122.
Эш П. Длинный меч. Рассказ. Пер. И. Гуровой. — В кн.: Космический госпиталь. Сб. М., «Мир», 1972, с. 200–259.
Янг Р. В сентябре. Рассказ. Пер. Н. Колпакова. — В кн.: Сборник научной фантастики. Вып. 10. М., «Знание», 1971.
Девушка-одуванчик. Рассказ. Пер. Э. Гершкович и Д. Жукова. — В кн.: Б-ка современной фантастики, т. 10. М., «Молодая гвардия», 1967.
Звезды зовут, Мистер Китс. Рассказы. Пер. Р. Облонский. — В кн.: Звезды зовут… Сб. М., «Мир», 1969, с. 194–213.
Любовь в XXI веке. Рассказ. Пер. Д. Жукова и Э. Гершкович. — В кн.: Карточный домик. Сб. М., «Мир», 1969, с. 256–282.
На реке. Рассказ. Пер. Н. Колпакова. — В кн.: На суше и на море. М., «Мысль», 1972, с. 461–473.
Срубить дерево. Рассказ. Пер. С. Васильевой. — В кн.: Б-ка современной фантастики, т. 21. М., «Молодая гвардия», 1971, с. 175–224.
Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
|
|