 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Аддамс Петтер :: Лондон Джек :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Нортон Андрэ :: Говард Роберт Ирвин Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Тень стройной женщины :: По ту сторону любви :: Отречение :: 1-е МАРТА 1917 года :: Трагическая охота :: 64 килобайта о Фидо :: True Names :: С тех пор мы вместе :: Байки из дворца Джаббы Хатта-1: Человек со своим монстром (История смотрителя ранкора) |
Купол на КельмеModernLib.Net / Приключения / Оффман Петр Евгеньевич / Купол на Кельме - Чтение (стр. 3)
– Не горюй, Катя, я привезу тебе живого медвежонка. Катя оживляется. – Только не очень большого, – просит она. Звонко лязгает станционный колокол. Все вздрагивают. – Прощайте, не забывайте, пишите!.. Легкий толчок. Плывет перрон, ярко освещенные желтые окна, руки, машущие платками, деревянный настил, бухающие вагоны. Сразу же за вокзалом ночь. Ветер качает фонари, и тени скользят по шпалам. Уходят во тьму водокачки, стрелки, горы шлака и угля, склады, поворотные круги, кладбище ржавых паровозов. Я усаживаюсь поудобнее и чувствую себя удовлетворенным и счастливым. Кажется, едем. Ну конечно, едем! В самом деле едем! Едем в тайгу за вескими доказательствами. Как ни странно, мы всё собираемся доказывать. Ребята доказывают, что из них получатся геологи и не зря мы выбрали их троих. Я хочу доказать Ирине, что лучшего спутника в жизни ей не найти. А Маринов доказывает, что теория его верна, что директор института не зря рискнул, а остальные нападали на него напрасно. Вопрос поставлен, ответ осенью. Кто из нас вернется с доказательством, а кто с грустно поникшей головой, жалуясь, что в жизни у него не сошлось с ответом? ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Ночь. Размашисто двигая «локтями», как бегун-марафонец, по темным полям бежит поджарый паровоз. Перед ним тьма, не городской серовато-желтый полусвет, а глухая, черная стена. Но, сам себе освещая дорогу, он уверенно продвигается вперед, только чуть пыхтит на подъеме и разбрасывает по хмурому небу горсти недолговечных искр. За ним – гуськом вагоны. Желтые отсветы окон скользят по откосам насыпи, проваливаются в овраги, прыгают по кочкам. На некоторых окнах шторки с круглыми помпонами, и тень каждого помпона бежит по насыпям и выемкам до самого рассвета. Второе окно в четвертом вагоне – наше. Все мы лежим на полках, укрытые серыми железнодорожными одеялами, и все одинаково покачиваемся в такт колесному рокоту и одновременно вздрагиваем, когда паровоз тормозит. Я лежу на верхней полке, напротив меня – Глеб, Маринов внизу. А на второй нижней полке, наискось от меня, – Ирина. Она вся в тени, я вижу только кусок освещенной щеки. Но мне и не нужно видеть. Я знаю, что она здесь, рядом, и, лежа с закрытыми глазами, думаю о ней. Неправда, что любовь проходит. Любовь похожа на молодую иву. Может быть, вы знаете, что ивы срезают через год после посадки; вместо свежего побега остается еле видный пенек, жалкий обрубок. Казалось бы, дереву конец. Но это только кажется. В пеньке, под корой, существуют скрытые почки, когда придет весна, они дадут новые побеги, и не один, а несколько – все более мощные, жизнеспособные, быстрорастущие. Я не думал об Ирине все годы на фронте. Она не провожала меня, не вспоминала с теплым чувством, не писала писем на полевую почту. Я считал, что она не имеет права на мои мысли. В часы затишья вспоминал о Катюше, о моей московской рабочей комнате, о столе с клеенкой, закапанной чернильными пятнами. С охотой я думал о Москве, старался представить простор Красной площади, причудливый силуэт Василия Блаженного на фоне вечернего неба, освещенного прожекторами, золотые стрелки на черном циферблате Спасской башни. Только раз я не выдержал характера и написал Ирине. Это было сразу после ранения. Мне очень захотелось теплого слова. Но я не послал письма, написал его и разорвал. Просить о сочувствии, о жалости, о любви, по-моему, унизительно. Я отменил любовь, вычеркнул ее, срезал под самый корень. Я был совершенно спокоен и не знал, что в сердце остались скрытые почки, готовые дать побеги, как только наступит весна. Для меня весна пришла утром первого апреля. В окнах отражалось голубое небо. Из водосточных труб с грохотом вылетали сосульки. Автомашины проваливались в жидкую кашу. Жизнерадостно звенела капель. «Мы будем встречаться очень часто», – сказала Ирина. И я решил, что незачем считаться обидами, зачеркнул прошлое крест-накрест. Передо мной был другой человек – вдумчивее, взрослее и еще красивее, чем прежде. Мы встречались очень часто, иногда по нескольку раз в день: в институте, на складе, на квартире Маринова… Мы вели серьезные деловые разговоры: о девонских отложениях, о патронах в бумажных гильзах и о брезентовых рукавицах. Иногда я провожал Ирину до скверика на Большой Полянке. Мы сидели на скамейке под липой и опять говорили о девонских глинах и брезентовых рукавицах. Сказать что-нибудь лирическое я не решался. Меня смущали глаза Ирины – светло-серые, с глубоким зрачком и длинными ресницами. Она смотрела в упор, прямо в глаза мне, как будто спрашивала, все ли я договариваю. Я смущался, начинал проверять каждое слово. Мне самому уже казалось, что я высказываюсь недостаточно чистосердечно, недостаточно глубокомысленно, недостаточно умно для Ирины. И разговор у нас не клеился. Ведь невозможно целый вечер говорить исключительно умные слова. А потом я шел домой мимо серых утесов Дома правительства, через Большой Каменный мост. Отсюда лучше всего виден Кремль – его всегда снимают с этой стороны. Внизу, подо мной, на обеих набережных плечом к плечу стояли парочки. Стояли часами, глядя на темную воду, в которой светились разноцветные огни – белые, красные, зеленые, говорили друг другу незначительные слова и думали о великой любви. Я смотрел на них сверху, свысока, с легким чувством зависти. Я шел один. Ирина уже простилась со мной. Она сказала: «До завтра», – и выразительно посмотрела прямо в глаза. Как понимать: «До завтра»? Будет ли завтра счастливее, чем сегодня? Будет ли завтра сказано что-нибудь более важное? В поезде я не люблю много спать – побаиваюсь, как бы не просмотреть что-либо замечательное. В начале пути мы едем по самой длинной в мире железной дороге – по магистрали Москва – Владивосток. Путь идет через Мытищи, Пушкино, Загорск, Александров, Ростов Ярославский. Ведь жалко будет, если зайдет разговор как-нибудь о Ростове Ярославском, а ты скажешь: не видел, проспал! Часов в восемь утра в коридор выходит свежевыбритый Маринов с полотенцем через плечо. Здоровается, подходит к окну. – Что мы будем делать сегодня, Гриша? – спрашивает он. Что же делать? Отдыхать только. Ребятам поспать не мешает. У Маринова другое мнение. – Спать можно восемь часов, – говорит он, – от силы девять. Куда девать еще пятнадцать? Я хочу дать ребятам задание: пусть почитают, а завтра к вечеру сделают небольшой доклад. Допустим, Глеб расскажет нам о девонской фауне, Николай – о каменноугольной. Это будет полезно для каждого из них и для нас всех тоже. Я начинаю понимать его. Мы проведем в вагоне пять суток. После пяти суток безделья трудно сразу включиться в работу. Значит, еще несколько дней уйдет на раскачку. И вот Маринов решил, не теряя времени, раскачивать людей сейчас. В самом деле, что делать, когда отоспишься? Не смотреть же в окно пятнадцать часов подряд. – А мне не стоит сделать доклад? – спрашиваю я. Маринов кивает головой: – Очень хорошо! Но вам я дам тему потруднее: например «Тектоника платформы. История развития взглядов». Пойдет?.. В нашей геологической партии шесть человек, но шесть человек – это еще не партия. Партией они станут только тогда, когда превратятся в единое существо с общей целью. Мы сидим в купе все шестеро, все разные люди. Опытный Маринов и восемнадцатилетний Левушка, полный энтузиазма и нетерпения. Флегматичный Глеб и бойкий Николай. Глеба нужно раскачивать, Николая сдерживать. Против скромной, исполнительной Ирины сидит самонадеянный Гордеев… Сегодня это шесть пассажиров, едущих в Югру. Они едят, почитывают, поглядывают в окошко. Но Маринов знает: детали притираются в работе. Автомашина, которая прошла тысячу километров, работает лучше совершенно новой. И он спешит «пустить нас в ход». – Займемся делом, – говорит он. Самым трудолюбивым из нас оказался Николай. Уже с утра он возился, стучал молотком, скреб напильником. Николай решил переделать замки у чемоданов, набить подковки на все ботинки, зарядить патроны, сменить подставку для компаса. «Левушка, подержи! Левушка, дай гвозди! Левушка, найди отвертку!.. – требовал он, вполне естественно обращаясь к Левушке, как к самому молодому. – Левушка, достань чемодан… А теперь положи его наверх… Кажется, станция, Левушка. Ты бы сбегал за кипятком». А Левушке хотелось готовить реферат. Он так старательно читал, морща лоб и, шевеля губами, с такой неохотой отрывался от книги, с трудом сдерживался, чтобы не крикнуть: «Что я маленький, что ли, бегать за тебя! У тебя свои ноги есть». И Маринов, конечно, заметил это. – Давайте распределим обязанности, – сказал он. – Пусть Глеб ходит на рынок, Лева – в буфет, а за кипятком – Николай. Сейчас большая станция. Коля, не пропускай! Глебу распределение не понравилось. – Рынок надо поручить Николаю, а то я не умею торговаться. Но Маринов невозмутимо повторил: – Я сказал – Глеб ходит на рынок! Глеб заупрямился. К обеду он не принес молока и ягод. И с обеда до ужина Маринов подтрунивал над ним, вспоминая то и дело: «Хорошо бы молочка холодного… А у соседей есть молоко. Глеб, попроси глоточек! Или просить ты тоже стесняешься?» Мы все охотно включились в эту «игру». То и дело слышалось: «И всегда ты боишься торговок, Глеб?» «Да, уж молочка не попробуешь до осени». В Данилове рассвирепевший Глеб принес целый бидон и с грохотом поставил на столик. Маринов поднял крышку и сказал невозмутимо: – Зря купил так много. Оно же скиснет. Ты не слыхал, что молоко скисает? Не в молоке дело, мы могли обойтись без него. Важно другое: в коллективе не должно быть бар и вьючных ослов. Поручения надо выполнять… в том числе и неприятные. Выполнять самому, не валить на товарища. Сказано – делай! И не спорь с начальником из-за пустяков! Я с головой погрузился в книгу, и опять возникло у меня студенческое ощущение: как жаль, что экзамен близко и нельзя все прочесть до конца, неторопливо обдумать каждую строку. Я должен был сделать доклад о тектонике платформы. Тектоника – молодая отрасль геологии, это наука о движении земной коры. Тектоникой занимался Маринов. Наша экспедиция была тектонической. Учебник тектоники я читал как путеводитель. Так вот: земная кора делится на геосинклинали и платформы. Геосинклинали – это подвижные зоны: горы, океанские впадины, глубокие долины, предгорные опускания. Это зоны землетрясений, вулканических извержений… беспокойные, изломанные участки земной коры. Платформы – это равнины и плоскогорья: участки спокойные, жесткие, малоподвижные, как бы замершие. Что интереснее изучать? Казалось бы, горы: горы многообразнее, в горах больше ископаемых. Вообще добыча ископаемых называется горным делом. И геология зародилась в горах, потому что в горах больше материала, потому что недра там выворочены наружу, хорошо видны. А на равнинах все спрятано под толщей вековой пыли – глазам ничего не видно, проникать надо умственным взором. Но тому, кто ценит умственный взор, кто любит искать неясное, лучше работать на равнинах. Вековая пыль под ногами. Лёсс – это пыль из азиатских пустынь. Красная глина – пыль, принесенная ледниками. Известняк – муть, осевшая на дне теплых морей. Песок – морское дно у побережья. Глина серая и зеленая – морское дно на глубоких местах. Бурая прослойка – гумус из высохших болот. Не тысячелетия, а сотни миллионов лет утаптывались пыль, песок и ил, чтобы образовался слой в километр толщиной. Сотни миллионов лет! Дух захватывает от геологических чисел! История гор проходит бурно: лавины, обвалы, горные потоки, землетрясения, извержения, – сложное переплетение катастроф. Равнины слегка колышутся – то вверх, то вниз. Голландия тонет в море, а Скандинавия всплывает – местами на целый метр за столетие. Медлительность необычайная, но каковы масштабы – ползут вверх три государства сразу: Швеция, Норвегия и Финляндия! В истории Земли активные периоды сменяются спокойными. Последний период горообразования – альпийский – закончился миллион лет назад (а может быть, все еще продолжается). Следующий наступит приблизительно через сто миллионов лет. Интересно, какая будет жизнь тогда? Возможно, люди не захотят вулканов и землетрясений и не допустят их, распорядятся подземным теплом по своему усмотрению и выстроят горы там, где им понадобится. Для нашей страны, например, полезно было бы отгородить Арктику высокими горами. Тогда зима была бы мягче – и в Европейской России и в Сибири. А Сибирь невредно было бы наклонить к югу, чтобы великие реки несли пресные воды не в Ледовитый океан, а в пустыни Средней Азии. Нет, я не говорил об этом на конференции. Там речь шла не о научной лирике. Там я рассказывал, что платформы состоят из кристаллического фундамента и чехла осадочных пород. Древние лежат глубже, более молодые – ближе к поверхности. Руководящая фауна такая-то… Наша походная конференция вышла довольно интересной. Глеб сделал толковый, обстоятельный доклад. И Левушка порадовал нас. Он хорошо разобрался в вопросах, еще незнакомых ему по программе. А Николай не успел подготовить свою тему. Он всю дорогу возился с хозяйством, и на чтение у него не хватило времени. Но мы не сетовали на него. Николай действительно переворошил все наше имущество и сделал уйму дел. Конференция состоялась во время долгой стоянки. Наш вагон отцепили от скорого поезда и присоединили к местному рабочему. Теперь мы ехали по ветке, законченной только что, в годы Отечественной войны. Здесь все было новое, с иголочки, иной раз даже недостроенное. Станционные будки сияли свежими, еще не потемневшими срубами. Возле строений лежали груды щепок – их еще не успели сжечь. На полянах сверкали свежие пни. Под Москвой неприятно смотреть на вырубки, но здесь, в сплошной тайге, топор и пила отмечают начало деятельности человека. Километр за километром, час за часом, а за окном все одно и то же – широкая просека в густом лесу, редкие разъезды, у разъездов два – три дома, огороды, гуси плещутся в болотце, маленькие ребятишки в больших картузах старательно машут ручонками вслед проходящему поезду. И снова прямой бесконечный путь, убегающий за горизонт. В сущности, эта дорога – величественный памятник труду. Вот в этой выемке работал экскаватор. Нижней челюстью он поддевал крутую глину, а машинист считал секунды, чтобы выполнить обязательство на сто двадцать процентов. Прогромыхал мостик. Здесь стояли копры, тяжелая баба с уханьем падала на сваю, и закоперщик карандашом писал цифры на светлом бревне: «От залоги до залоги свая ушла в грунт на 14 сантиметров». Ночь. Точнее – поздний вечер. Часов одиннадцать. Солнце скрылось за частоколом стволов. Оно спускалось медленно, полого, как бы нехотя, и теперь еще, через час после заката, на севере догорает заря. Небо светлое, но читать у окна нельзя. Тайга освещена странным, мерцающим светом. Предметы теряют вес и форму. У них нет теней, и сами они кажутся тенями. Близкое путается с далеким, мелкое – с крупным. Представьте себе затянувшиеся сумерки в сочетании с ночной тишиной, и вы поймете, что такое белая ночь. Мы любуемся белой ночью вдвоем: Ирина и я. Щеки ее в этом блеклом свете кажутся очень бледными, глаза смотрят задумчиво и немножко грустно. Белыми ночами полагается грустить. Ирина вздыхает, и я вздыхаю. Она близка и далека одновременно. Близка, потому что стоит рядом; далека, так как я еще не сказал три маленьких коротких слова, которые объединят нашу грусть и радость. Почему так трудно выговариваются эти слова? Не хватает решимости? Нет, человек я не скромный и не робкий. Дело в том, что ответ для меня слишком важен. Я не могу сказать: «Да так да, а нет так нет». «Нет так нет» меня не устраивает. Я ношу три слова давно, но всё не решаюсь произнести. Иногда она не в настроении, иногда – я. Или обстановка неподходящая – нельзя же объясняться на складе, возле бочки для окурков, как это делал Анатолий Тихонов. Иногда мне кажется, что Ирине не понравятся эти слова. И вообще как-то странно вдруг ни с того ни с сего объявить: «А знаете, Ирина, я…» Но сегодня белая ночь, бледное зарево за сумрачным лесом. Однообразный рокот колес сливается с тишиной. Мы одни в этой спящей тайге, мы одни в этом спящем вагоне. Не стоит откладывать. Ведь каждую минуту Ирина может сказать: «Я устала» – и уйдет. И три слова не будут произнесены. Ирина говорит что-то, но я сейчас не способен понимать. Она ждет ответа, смотрит мне в глаза вопросительно и строго. Я вижу совсем близко темный зрачок, тонкие ноздри, светлые усики на пухлой губе. – Неправда, Гриша!.. – Не понимаю… – Неправда, Гриша, то, что вы хотите сказать. Просто нет других девушек рядом, и вы… Не заслужила я такого отношения. Так было просто и хорошо, а вы все испортили. Обидно, даже плакать хочется… Скажите, пожалуйста, моя любовь для нее обидна! Тихонов нехорош, я нехорош! Что же она, собственно, воображает о себе? Конечно, во мне нет ничего замечательного. Я простой геолог – и только. Но и сама она – обыкновенная девушка, такой же геолог, как я. Право, не вижу оснований для гордости! Я разочарован, унижен, сбит с толку, возмущен и просто взбешен. Я говорю заветных три слова, и еще десять, и тысячу. Говорю без нежности, запальчиво и гневно. Ирина не уходит… Слушает все же. Она считает себя обиженной и удивляется моим упрекам. Такая точка зрения нова для нее. – Нехорошо у нас вышло, Гриша, – говорит она наконец. – Не знаю, кто из нас виноват. По-моему, вы. Но не это важно. Лучше вы полюбите другую девушку, более достойную, чем я. А мы с вами будем друзьями. Хорошо? Что означает обычно разговор о «более достойной девушке»? – Вы любите другого? Ирина отвечает медленно, обдумывая каждое слово: – Нет, – говорит она, – не люблю. Мне кажется, я вообще не способна любить. Вот вы говорите о любви, а у меня в душе спокойно и… пусто. Мне очень жалко самой, но я ничего не могу поделать. Давайте забудем сегодняшний разговор и будем по-прежнему друзьями. Она протягивает мне руку. Я нехотя пожимаю ее, принимая как подачку унылую дружбу. Нам обоим грустно, и мы молчим. Нелепое положение: стоим рядом, вдвоем, я люблю, а она не любит… Вот такое получилось у меня объяснение. ГЛАВА ПЯТАЯ Говорят, что сейчас в Югре выстроен новый вокзал с кафе-рестораном, буфетом, читальней, тремя залами ожидания, парикмахерской и даже с комнатой матери и ребенка. Тогда этого не было. Сойдя с поезда, мы увидели вагон, врытый в землю, возле путей, а позади вагона – чахлый ельник. Между, вагоном и ельником разлилось целое озеро. Единственная дорога ныряла прямо в жидкую грязь, а где выбиралась – неизвестно. Белая ночь с ее мерцающим светом подчеркивала унылое безлюдье этой таежной станции. Основное шоссе, как выяснилось, пряталось за елочками. Расторопный Николай нырнул в темноту и вскоре привел огромный рычащий грузовик. Хлюпая и разбрызгивая черную жижу, грузовик протаранил лужу. Впрочем, оказалось, что он приехал не за нами, а за каким-то местным начальством. Здесь всегда встречали приезжающих на грузовиках, потому что легковые машины увязли бы по пути к станции. 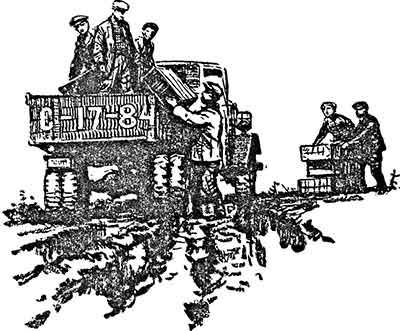
Начальник разрешил нам погрузить в кузов наши разноцветные чемоданы. Шофер развернул машину и, благополучно миновав топь, выбрался на шоссе. А еще минут через десять мы перевалили через лесистые холмы и въехали в город. Югра показалась нам очень чистенькой и просторной. Вдоль улиц стояли приятные для глаз двухэтажные домики, свежеоштукатуренные и выбеленные. Улицы были очень широки, словно скроены на рост. Деревянные тротуары пересекали их поперек, а кое-где и наискось. Очевидно, машины проезжали тут редко. Хозяин нашего грузовика высадился на главной площади, где на чугунной скамейке сидел юный Пушкин с книжкой в руке – копия памятника, стоящего в садике у Царскосельского лицея. Было пять часов утра, и, кроме Пушкина, мы не встретили никого. – А вас куда везти? – спросил шофер. – В гостиницу? – Мы, собственно, сами не знаем. – Можете остановиться в любом доме, – сказал шофер радушно. – У нас гостей любят. Не то что в Москве: миллион квартир, а приезжий может заночевать на улице. – Да нет, мы не хотим на квартиру, – сказал Маринов. – Сейчас не холодно. Везите нас куда-нибудь на окраину, где посуше. Будем в палатках жить. – В таком случае я вас на стадион подброшу, – решил шофер. – Там много вашей братии – целый геологический городок. И через несколько минут он высадил нас на высоком, обрывистом берегу. Внизу протекала извилистая речка Югра Малая. Сейчас она была заполнена сплавным лесом и походила на суп с лапшой. «Как же тут пробираются пароходы?» – подумал я. Над обрывом белели палатки. – А вот и наши, – заметила Ирина. И правда, навстречу нам шагал Толя Тихонов в высоких сапогах, с полевой сумкой, с биноклем и молотком. За три версты можно было узнать в нем неопытного геолога. Всем известно, что начинающие поэты больше похожи на поэтов, чем самые знаменитые, которым не нужно быть похожими – они и так поэты. – Привет товарищам по несчастью! – возгласил Толя. – Устраивайтесь поуютнее в этой мышеловке. Вы здесь надолго. На реке половодье, потом надо переждать сплав, потом еще что-то. Геология на месяц отменяется. Считайте, что вы попали в дом отдыха. Распорядок общий для всех: ночью мерзнем, днем сохнем, утром воюем с местными бюрократами, вечером – с комарами. Он был очень возбужден и многословен. Очевидно, он впервые столкнулся с экспедиционными трудностями, растерялся и утешал себя язвительной иронией. Студенты переглянулись, несколько смущенные. Им тоже не хотелось сидеть на берегу в ожидании парохода. Левушка шепотом спросил Ирину: – Это всегда так бывает? – Мы отдыхать не будем. У нас мало людей – много километров! – крикнул, бодрясь, Николай. Толя поглядел на него презрительно: – И все же придется. На этой великой реке только два парохода. Один наскочил на плоты и сломал колесо, другой повез продукты в низовья и вернется через три недели. Через три недели! Из трех месяцев потерять три недели… Для нас это было почти катастрофа. После завтрака Маринов с Ириной собрались в город, а мне поручено было ставить палатки. Ставить палатки – дело нехитрое. Не раз я занимался этим в армии. Я распределил обязанности: Глеба отправил за большими кольями, Левушке приказал заготовить маленькие, а сам с Николаем начал раскладывать палатки, чтобы проверить петли и веревки. С Николаем приятно было работать: каждое поручение он выполнял с охотой и еще делал лишку про запас. Неожиданно выяснилось, что Левушка не умеет обращаться с топором. У нас уже все было готово, а он еще тюкал неуверенно, рискуя отрубить собственные пальцы. Нет, Левушка не был хлипким комнатным ребенком. Мечтая о будущих путешествиях, он занимался спортом, изучал природу в подмосковных лесах, закалял себя: весной и осенью спал на балконе, а зимой без отопления. Он даже пробовал сутки не есть, чтобы испытать силу характера. Но все эти лишения были искусственными. Когда кончался срок, Левушка доставал с полки хлеб и включал батареи. Топить печку ему не приходилось, костры разводить в подмосковных лесах запрещается, Левушке просто не случалось рубить дрова. – Эх ты, тёпа! – сказал Николай. – Дай-ка топор! Но Левушка не принял помощи. – Нет, я сам! – сказал он настойчиво и спрятал топор за спину. Я показал парню, как надо рубить – не поперек волокон, а наискосок, показал, как держать топор, заостряя колья. Левушка затюкал увереннее. Тут подошел Глеб с длинными кольями, и мы занялись первой палаткой. Лагерь вышел на славу. Все четыре палатки мы выстроили в ряд, лицом к реке (одну – для нас с Мариновым, вторую – для Ирины, третью – для студентов, в четвертой устроили склад), окопали их канавками на случай дождя, перед входами устроили линейку, очистили ее от камней, веток, щепок, подмели. Мы даже смастерили стол и скамейки из неошкуренных осинок. Это Николай придумал сделать стол. Потом мы нарубили лапника, подстелили под спальные мешки и улеглись с чистой совестью. Только Левушка не захотел отдыхать. Он взял топор и ушел в осинник тренироваться. Так лежали мы до обеда, ожидая, чтобы Маринов пришел, удивился и расхвалил нас. Дождались!.. – Очень красиво! – сказал Маринов. – Но кто будет подметать? Только не я. И кто будет сторожить снаряжение? Лично я предпочитаю по ночам спать, чтобы днем работать со свежей головой. Дайте мне синий чемодан и желтый полосатый, я положу их под голову. А вы, если хотите, можете дежурить ночью. В заключение он попросил переставить его палатку к реке тылом. – Не люблю, когда дует в дверь, – сказал он. И еще добавил: – стол переставлять не нужно. Я понял урок и запомнил его. Смысл его: не действуй по шаблону! Да, палатки ставят и солдаты и геологи. Но в гарнизонах важнее всего дисциплина. Поэтому порядок, чистота, внешний вид там важнее отдыха. А в экспедиции самое главное работа – геологическая съемка. Лагерь ставится, чтобы люди отдохнули, – он должен отвлекать как можно меньше сил. – Вы даже не спрашиваете, куда мы ходили, – сказал Маринов за обедом. – В самом деле, куда? Разве не в банк? – Прежде всего мы пошли в обком. – Леонид Павлович прочел там лекцию о задачах экспедиции, – вставила Ирина. – А зачем вы ходили туда? Ведь обком не властен над половодьем! – Вот и в обкоме сказали: «Мы не распоряжаемся половодьем. Надо было написать нам своевременно. Тогда мы посоветовали бы ехать в Усть-Лосьву зимой санным путем, а в начале июня с высокой водой подниматься по Лосьве». – Конечно, надо было писать, – сказал Глеб. – В Усть-Лосьву послали письмо, а сюда не догадались. – А сейчас все размокло: и дороги и аэродром, – ответили нам. – Надо ждать, пока он высохнет. Но можно договориться, чтобы вашу экспедицию отправили в первую очередь. – Да, самолет нас выручил бы, – заметил Левушка. – Надо, не откладывая, сходить на аэродром. – Уже были, – улыбнулась Ирина, – Леонид Павлович и там сделал доклад о задачах экспедиции. – Неужели подействовало? – На начальника аэродрома нет. Он твердил, что по инструкции не имеет права посылать самолеты. Но механики сказали, что есть там еще одно влиятельное лицо – старший летчик Фокин. И, если Фокин захочет лететь, начальник не откажет. – И он захотел? – спросил Левушка с восхищением. – К сожалению, нет. Но Леонид Павлович прочел ему отдельно лекцию о задачах экспедиции, и Фокин согласился прийти посмотреть наш груз. Через полчаса к нам в лагерь пришел небольшого роста седоватый человек в синей фуражке с гербом и потертом кителе, поздоровался за руку со всеми по очереди, зоркими глазами осмотрел палатки и сразу сказал решительно: – У вас тонна груза и шесть человек – еще килограммов четыреста. А у нас по норме нагрузка на самолет не более двухсот килограммов. Так что ничего не выйдет. Старший летчик Фокин был достопримечательностью Югорского края. В то время ему было лет сорок пять, а начал летать он еще в гражданскую войну, когда самолеты были похожи на этажерки и бомбы выбрасывали за борт руками. За двадцать пять лет Фокин налетал около миллиона километров, грудь его украшала трехрядная колодка, но шрамов было больше, чем орденов. Из военной авиации Фокина уволили как инвалида, но в гражданской он держался в этом отдаленном краю только потому, что счастливо избегал медицинской комиссии. Фокин не боялся ничего, кроме врачей, и тщательно скрывал свою болезнь – последствия контузии, – которая сказывалась в длительных полетах. «Тебе лечиться надо. Ты разобьешься в конце концов», – говорили ему друзья. И Фокин отвечал неизменно: «Раньше смерти не помру. А помру, как подобает летчику, – в самолете, не в постели». Во всей области не было равного ему. На своем неторопливом «По-2» он садился на крошечных лужайках, песчаных островках и при встречном ветре и при боковом, при дневном свете и в сумерки. О нем рассказывали десятки историй. Однажды вместе с молодым летчиком он летел на двух самолетах в Югру. Уже на подходе к аэродрому подул сильный боковой ветер. Сам Фокин сумел бы приземлиться, но за неопытного спутника он побаивался. Тогда Фокин повел самолет на другой аэродром, проследил, как снизился его ведомый, а сам вернулся в Югру и благополучно сел при боковом ветре. Другой раз, тоже с молодым стажером, Фокин летел за Полярный круг. В тех местах бывают снежные вихри, похожие на громадные комья снега. Фокин заметил такой ком и развернулся, чтобы уйти в сторону. Ведомый не понял, а вихрь приближался и через минуту мог захлестнуть его самолет. Тогда Фокин развернулся еще раз, догнал ведомого и, так как уходить было поздно, дал знак идти на посадку. Они приземлились на какой-то лужайке в ту секунду, когда пошел снег. И вот этот таежный ас, наша последняя надежда, отказал наотрез: «Ничего не выйдет. У вас тонна груза и шесть пассажиров. А норма двести килограммов на самолет». – На аэродроме семь самолетов, – сказал Маринов. – Как раз получается по двести килограммов. – Есть самолеты, летчиков нет! – отрезал Фокин. – Молодежь, стажировщики. Сейчас по этой трассе им не разрешат летать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
|||||||