 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Горький Максим :: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Грин Александр :: Сименон Жорж :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: Ожерелье Иомалы :: Сухая сосна :: Вторая книга Царств :: Третий поворот налево :: Питейные истории :: Лет за триста до братьев Люмьер :: Возвращение :: Магия луны (Том 1) :: Маска Димитриоса :: Священный ужас |
Серебряные рельсы (сборник)ModernLib.Net / Путешествия и география / Чивилихин Владимир Алексеевич / Серебряные рельсы (сборник) - Чтение (стр. 14)
Совсем мало пришлось спать. Сашка ткнул в спину и сказал, что утро, и я решил его не ругать, спина все равно болела. Мы поели хлеба с сыром, чаю выпили, пошли. Росы не было – ее ночью местный ветер высушил. Он бежал с гольцов до озера, потому что туча на западе не продвинулась, там и стояла. Сразу хорошую тропу взяли, она была нам и нужна. Сашка впереди раздвигал березки, собирал на себя росу – тут она была, потому что березка густо срослась и ветер к земле не пускала. Сашка головы не поднимал и даже собаку обгонял, а я все время смотрел на горы, на черный камень, на серый мох, в развалы смотрел, видел, как светлеет все, лучше обозначается, и мне было хорошо. Солнце оторвалось от гор, и стало рядом с ним ладно. Затеплел у лица воздух, и спина моя прошла. Показалось Чиринское озеро, совсем небольшое. От него холод пошел. С детства не понимаю, откуда оно столько воды берет. Много прожил, много видел, а этого не пойму. Если б оно протекало, другое дело, а то само родилось. Льет да льет из себя, сразу же реветь в камнях начинает, на истоке, потом кидается отвесно, вроде в яму, и к большому озеру прибегает шибко сердитой речкой… Я маленько уставал, когда открылась глубокая долина. За ней поднимались гольцы, такие, как эти, только наши, однако, были выше и чище. Долина уходила вниз, к Алтын-Колю, по пути кидала отросток к дальним горам, а наше урочище поднималось к Абаканскому хребту, под небо. – Вертолет! – крикнул Сашка. – Где? Правда, вертолет. Маленький, вроде комара. Ползет по зеленому, и его даже не слышно, потому что звук относило ветром с гольцов. Вот дополз до развилка долины, скрылся за хребтом. – В Кыгу, – сказал я. – А это разве не Кыга? – спросил Сашка и вроде чего-то испугался. – Это Тушкем. – Какой еще Тушкем? – Он в Кыгу справа падает. Шибко падает. Алтайцы туда не лазят, считается плохое место… Сашка опять посмотрел на меня пугаными глазами и еще сильней побежал тропой. Я не успевал за ним и боялся, что спина скоро болеть начнет. Мы совсем перевалили в долину, в луга спустились и больше тропа не сходила вниз, по боку хребта к самой вершине Тушкема тянулась. Я знал ее хорошо, она чистая, кругом обходит это плохое урочище, ведет к главному перевалу и мимо горячих ключей – в Абакан. На перевале надо решить, куда мы. Оттуда два хода – в Кыгу и в Тушкем. Из этого развилка деться некуда. Инженер где-то там, внизу. По гольцам и малый ребенок выйдет, не то что лесной ученый. Сашку я нескоро догнал. Он стоял на тропе, смотрел то в долину, то на меня, ждал, когда я приду. Я сел спиной к теплому камню, а Сашка сказал, надо идти, он вроде вспоминает. – Что вспоминаешь? – спросил я, хотя в его память совсем не верил. – Это вон что? Он показал на другую сторону долины. Там резал гору приметный ручей. Воды не было видно, только тайга в том месте густела, к воде сбегалась. – Это Кынташ, – сказал я. – Будто бы помню я его, – нетвердо сказал он, но пусть бы вспоминал. – Вон тот изгиб в середине помню. – А с какого места ты его видал? – С осыпи. Когда вылезал, пересек какую-то большую осыпь, в лесу там просвет, и я увидел. Точно! Этот ручей, Тобогоев. Гад буду, этот ручей! Он меня сильно обрадовал, но я виду не показал, мало верил ему, знал, что у них голова в тайге пустая делается. – Может, от перевала начнем разбирать? – Сколько до него еще километров? – опять поглупому спросил он. – Кто считал? Мой отец отсюда четыре трубки курил. К ночи можно успеть на перевал. 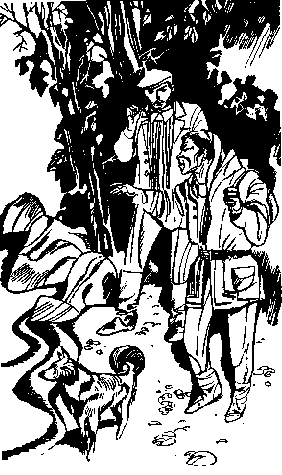
– Нет уж, давай вниз! Где-то тут я вылазил, гад буду! Вон ту загогулину помню. – А вы по целой траве долго шли? – Ну. Тропу бросили и поперли прямо над речкой. – Знаешь, Сашка, трава сейчас в тайге жирная, – объяснил я ему. – Думаешь, найдем след? Прошли еще, увидели воду, поели у нее и покурили. – Думай, Сашка, – сказал я. – Если залезем в это урочище, тяжело назад. Тут проход искать надо. Ниже стены стоят… – Знаю! Я тоже долго в них тыкался. Вылез окатом. – По курумнику я не полезу, Сашка. Глупый человек курумником ходит. Мы вдоль ручья пошли, чтоб всегда было пить, стало круто, и у меня спина заболела. Потемнело, хотя до вечера еще далеко. Кедры тут густо росли, и вчерашняя туча надвигалась на эти гольцы. Дождь будет, плохо будет. И стены сейчас остановят. Высокие тут, старики говорили, стены. Камень кинешь, не слышно. Один способ спуститься – найти тропу марала. А она тут должна быть, зверь хребты всегда прямой тропой соединяет. Сашка ломает кусты внизу, плохие слова говорит. Стена? Пусть хоть что будет, в тайге так ругаться нельзя. Пустая башка! Тут тихо надо говорить. В духов я не верю, просто обычай такой. Стена. На самом краю стоял Урчил, водил носом над глубиной и визжал. Сашка держался за куст и хотел глядеть вниз. Там был Тушкем, а наш ручей пропал. Я лазил туда и сюда. Стена была везде, без разломов. Да нет, бесполезно. Надо звериный проход искать. Сказал Сашке об этом, а он заругался и говорит, что делай как знаешь. Все, что с ним происходит, очень понятно. Пусть, лишь бы не ошибся про Кынташ! Тогда инженер внизу, и люди зря в Кыге ищут. Часа два мы лазили над стеной. В завалах и камнях много крапивы было, руки у меня горели. Я рвал бадан и прикладывал, а Сашка свои руки царапал до крови. Когда я ему сказал, что бадан всегда холодный и хорошо облегчает, он заругался, вспомнил нехорошо бога. Так нельзя, совсем из дикого мяса парень. Хотел пить, но воды уже не было. Стало совсем темнеть. И Урчил мой пропал. Наверно, белку погнал. Молодой, глупый. Вот голова еще одна! Нет, его отец и бабка были не такие, по-пустому не обдирались. Урчил мне уже одну охоту испортил, женился в тайге. Как будет новый сезон держать себя? Однако ночевать? Только хотел о ночевке думать, тут же шибко обрадовался. Урчил подал слабый голос снизу, из-под стены, и я крикнул Сашке, что сейчас будем спускаться. Он опять заругался – или от радости, или подумал, пустая голова, что я обманул. Мы стали на крутую тропу марала уже темно. Сашка сказал, корни кедров открыты, по ним можно слезать, как по лестнице. Вроде я этого не знал. Только я остановил его. И зверь, бывает, убивается в таких местах. Про спину свою ничего не сказал. Она болела, как давно не болела. Сделали костер. Воды не было, и мы поели плохо. Урчил вылез из темноты, ко мне прижался. Он был горячий, и сердце у него дрожало и стукало, как у птицы. Ничего, хороший собака. – Сашка, ты верно Кынташ узнал? – спросил я про главное, когда мы закурили. – Он! Верно говорю. С поворотинкой. – Как ваши головы придумали залезть вниз? – Тропа вела. В сторону никуда не ступить – камень, потом завалы, а все тропы шли по пути. – Постой-ка! Выходит, вы в Тушкем попали с того хребта, откуда бежит Кынташ? – А черт его знает! – Сашка шибко плохо соображал. – От перевала в цирки. Знаем, что Кыга откуда-то оттуда пойдет к озеру, и давай напрямик. Кругом горы, не разберешь. Скоро тропа пересекла траву, повела вниз… – Вы думали, в Кыгу лезете? – Да вроде так. – Однако, – сказал я. – Что? – В Кыге спасатели зря обдираются. И вертолет зря летает. – А где, ты думаешь, Легостаев? Сашка спросил про главное, а что я ему мог ответить? Внизу он где-то, ему отсюда никуда не деться. – Утром будем смотреть, – говорю я. – Завтра число какое? – Двенадцатое или тринадцатое… Ничего хорошего нет. Инженер уже четвертый день один. Залез, видать, под эти стены и не вылезет. Или что случилось, и он пропал совсем. Может, сорвался в воду, а Тушкем все кости на камнях поломает. Они, однако, вот этой тропой с того хребта вниз. Надо бы наверх, но эти дурные головы вдоль воды полезли, где одну смерть найдешь. Шаманы давно запрет клали на урочище. У нас по гольцам надо, куда хочешь придешь… Дождь? Совсем плохо. Спина болит, вроде печенки от нее отдирают. Худо. Я надеялся, к утру спина заживет, мы спустимся, и будет видно, пустая голова у Сашки или в ней что есть. А спину Савикентичу надо показать, пусть погреет своей синей лампой. Но где три дня пропадает инженер?.. Свежим утром пришли к Тушкему, ничего, хоть в других местах было круто, почти на отвес, и я не знаю, как тут марал ходит. Под ногами от дождя скользко, однако спустились. Тушкем громко в камнях работал, даже Урчила не слыхать. Долго пили, руками черпали. Потом вдоль воды полезли и скоро на след попали. Сашка крикнул, что тут Легостаева последний раз видел, и опять заругался. Стало плохо лезть. Мы на ту сторону по камням ушли, но там тоже к воде прижимало. Решили взять выше правой стороной и там держать след. Последний раз перешли на левый берег. Урчила снесло, однако не ударило. Когда Урчил упал в воду с камня, я подумал, что своего собаку не увижу – шибко его вода схватила, и он сразу пропал. Потом он ниже нас появился, где было шире и Кынташ падал. Вижу, мой Урчил ногами камень топчет, на нас смотрит, и зубы скалит, вроде смеется. У меня тут сердце в стуке перебилось. На том берегу кто-то черный лежал под косой колодиной, а от нее дым шел. Сашка крикнул: – Человек, только не он! Как не он, когда тут никого другого не должно быть? Хотел вверх по течению кинуться, чтобы скорей на ту сторону, а дурак Сашка какое-то бревно схватил, через главную струю перекинул и прыгнул. Эх, башка! Бревно повело водой. Сашка там упал, но как-то камень схватил, в одном сапоге вылез и весь мокрый. К инженеру он попал раньше меня. Когда я к ним перебрался, Сашка голову просунул под лесину к инженеру и плакал, плечами тряс. Инженер живой был. Он открыл на меня глаза без очков и начал ими двигать, как слепой, головой потянулся, спросил хорошим голосом: – Пришли? – Витек! Ты живой? Ты живой?.. – Сашку трясло. – Виктор! Скажи ему, что я ничего не делал с тобой. Скажи, что я не виноват! – Скажу. – Инженер узкими глазами смотрел на меня. – Тобогоев, это вы? – Я. – А я ногу сломал. Тащите меня. Тащите меня отсюда скорей. Мы тихо достали его из канавы, он даже не крикнул. И скоро солнце вышло, маленькое сырое кострище осветило. Какая-то тряпка на веревочке и рассыпанный камень. Инженера я тоже хорошо тут рассмотрел. Он был весь грязный, и мухи на лицо ему садились, не боялись совсем. На лбу и на руках были рваные раны, а одна, глубокая, черным следом шла по груди. Майка там прилипла. Толстая правая нога чуркой лежала, обмотанная тряпками, а носок ее был внутрь повернут. Конец ноге. Я взглянул вверх и понял, как получилось. Он ступил на сыпучий камень, свалился и хорошо еще ногами упал, а не спиной, не головой. Его по скале катило, как росомаху, только той ничего не делается, у нее железные кости и жесткое мясо. От инженера шибко пахло, дышать рядом было плохо. Так и медведь в петле не воняет, когда гниет. Урчил откуда-то сверху скатился, язык подобрал, понюхал инженера, отскочил к дальнему краю площадки и там остался. Инженер спросил закурить. Я сказал, что сейчас нельзя, и стал костер делать. Дам ему котелок горячего чаю, банку сгущенки туда и сахару еще добавлю, сахар сильно помогает. Только он просил курить. Сашка не выдержал, дал ему сырую сигарету. Инженер спасибо сказал, быстро кончил курить, потом закрыл глаза и откинул руки – видно, пьянел. Мокрый Сашка сидел рядом и смотрел на него. Вода быстро сварилась, тут было высоко. Я остудил котелок в Тушкеме, дал инженеру. Руки у него тряслись и работали плохо. Тогда Сашка поднял его за плечи и держал голову, а я поил. Тут же инженер опять попросил курить, и Сашка дал ему. – Жамин, паспорт твой у меня, – сказал инженер. – Возьми, я его со своим положил… – На хрена он мне, пускай лежит. – Вы двое пришли? Сашка начал говорить. Я испугался, чтоб он пустого не понес, и сказал ему, что надо высушить одежду на теплых камнях и у костра. Сашка снял все, и я увидел, что он белый как снег, с большой грудью и толстыми руками. Мы, алтайцы, другие. – Вы вдвоем? – опять спросил инженер. – Человек двадцать ищут, – говорю я. – И вертолет вызвали. – Вертолет не годится, – сказал инженер и закрыл глаза. – Я уже думал. Он тут не сядет и не зависнет. Выходило плохое дело. Я обед готовил и все думал, что делать? Мы нашли инженера, а дальше? Людей надо, продуктов, лекарств. Может, у него уже огонь в теле? Я совсем испугался и все бросил. Говорю, надо ногу глядеть, но инженер сказал, что он досыта насмотрелся и пусть так остается, а то больно трогать перелом и терять память. Я подумал, Савикентича из поселка хорошо, только старик от такой высоты и дороги помрет, у него сердце слабое. Да и мы с Сашкой помрем, если сами инженера тащить будем. Еды мало, носилок нет. Зачем зря думать, мы его даже из этого кармана не достанем. Все плохо. Мы смотрели, как инженер ел. Он обливался, глотал сразу и поправлял черными пальцами хлеб у рта. А после еды Сашка сказал, ему за народом надо. Однако голова у него не совсем пустая. Я начал объяснять, как подняться сразу на гольцы, а от Чиринского озера спуститься к Алтын-Колю. Там круто, и тропа шибко петлями вьет, но брать надо прямей – трава густая, мягкая, камней нет, и березы редко стоят, как над Белей, даже ночью можно идти. И тут я снова испугался, сердце застучало. Ведь Сашкину обутку Тушкем забрал. Босиком в горах нельзя, пропадешь. Мне идти, дойду ли? Дойду нескоро. Вот тебе дело! Моя обутка Сашке не подойдет – мала. Может, сапог выбросило на берег? – Пойдем вниз, Сашка, – сказал я. – Посмотрим… – Куда вы? – крикнул инженер. – Зачем? – не понял Сашка. 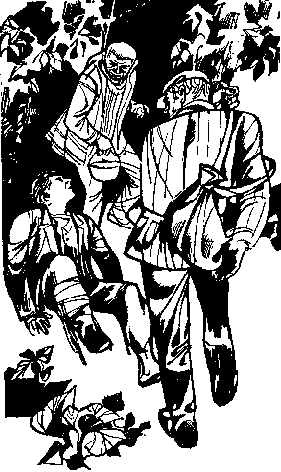
– Может, сапог твой Тушкем выкинул? Сашка на свою босую ногу глянул и заругался, крест назвал поганым словом. – Стойте! – крикнул инженер и даже задвигался. – Саша, какую тебе ногу разуло? Левую? Сорок второй носишь? Тяни мой сапог. Только тихо, не дергай! Инженер не смотрел глазами, однако понял дело сразу. И хорошо получилось. Сашка обут, а то бы не знаю, что было. Инженер звука не подал, когда Сашка с его ноги сапог тянул, крепко руками камни взял. Сашка хлеба отломил и сказал, что сырая куртка ему не нужна, а тут пригодится. Он попрощался и ушел. Урчил проводил его немного и вернулся. – Тобогоев, только вы не уходите, – сказал инженер. – Куда мне, – сказал я и подумал, с чего начать дела. – Скоро холодно станет, дров надо, – услышал я. – Как здесь без дров? – говорю я, а сам все по бокам скалы смотрю, ладную палку ищу, чтоб длинная была, прямая и сухая. – Не дадите мне хлеба, Тобогоев? – Почему не дам? Дал хлеба и подумал, что хватит, а то плохо ему станет. И еды мало, а когда помощь будет, неизвестно, все теперь зависит от Сашки и его головы. Палку я нашел, обчистил ножом и сказал, буду сейчас привязывать ее к больной ноге, чтоб не двигалась кость. Он сказал, что это я, пожалуй, ничего себе придумал. Палка ладная, под самую его подмышку. Я резал лямки от рюкзака и делал что хотел. Как лежала нога, так и привязал ее к палке. Инженер терпел, и я опять удивился, вроде он все же человек, а не росомаха. Дров тут мало, а солнце зашло уж за хребет, и стало холодно. Перекатил через камень кедровую лесину с корнем, березовых сучьев набрал, только больше сырых и гнилых, береза быстро пропадает на земле, если с нее кору не снять. А бересты натряс много и сухой красной пихты набрал, чтоб костер ночью кормить. В запасе еще колодина, под ней утром лежал инженер. Спать я ему наладил хорошо. Наломал мягких веток, распорол и подстелил рюкзак, Сашкину энцефалитку тоже, а своей курткой прикрыл. Костер загорелся, инженеру было тепло. Я ждал, когда он заснет, однако не дождался. – Тобогоев, нельзя ли мне еще хлеба? Хлеба я дал мало и сказал, что у нас одна банка сгущенки, одна тушенки, лапши горсть и сахар. А хлеба меньше буханки. – Не густо, – сказал он. – Правду говоришь. – Тушенку на ужин, – распорядился он. – Чтоб ночью было теплей. Но до ужина еще не скоро. Давайте поговорим о чем-нибудь. – Почему не говорить? Давай начинай. Инженер закрыл глаза, а я глядел на огонь, на речку и красные камни Кынташа. Они начали помирать без солнца и совсем были темные, когда я глядел на них после огня. А Тушкем сильно работал, в голову шум пришел и не уходил. – Тобогоев, почему вас только двое? – Другие в Кыге ищут, – решил я сказать правду. – Постой, а это разве не Кыга? – Нет. Тушкем. Он сощурился на меня, хотел что-то сказать, но вроде передумал. – Ладно… А что значит Тушкем? – Как это по-русски будет? «Тот, кто падает». – Сильно! А есть у вас места хуже, чем это? – Почему нет? Есть. Башкаус место плохое. Над озером тоже есть. Урочище Аю-Кечпес. – А это как перевести? – «Медведь не пройдет». – Ух ты! А тут медведь есть? – Куда девался? Однако мало. – Почему? – Ореха в том году не было… Сейчас медведя плохо встретить. – Почему? – Женятся. Свадьбы гуляют. – А какие это свадьбы? – Медведиха смотрит, а они борются. – Каким образом? – Считай, как люди. Поднимутся на задние лапы, а передними борются. – Насмерть? – Случаем бывает. Инженер говорил о пустом. Ладно, пусть! Ущелье стало темным. Сверху звезд не видно, тучи обратно пришли. Урчил рядом лежал, на костер глядел, не мигал, а инженер никуда не глядел, все спрашивал да спрашивал. – Расскажите, Тобогоев, что-нибудь про жизнь. – Как это? – Ну, про свою жизнь. – Живем, однако. Только жена болеет, и коня отобрали. – Как отобрали? – Закон пришел. А без коня алтаец куда? – Идиоты! – закричал инженер. – Пни! – Ты не кричи. Закрывай глаза, лежи. – Тогда и у меня надо «Москвича» отнять! – снова закричал он. – У тебя есть машина? – спросил я, а то он был злой. – Своя? – Своя. – Это шибко хорошо! – сказал я. – Куда захотел, туда и поехал. – Идиоты! – У него голос стал, как у парнишки. – Ну, можно ли тут коня отбирать? Это неправильно! Реку не перебродишь. Этот закон все равно отменят, Тобогоев! – На машине хорошо, – говорю я. – Куда захотел, туда поехал. – Надо было есть и спать. Я плохо думал, и говорить по-русски стало тяжело. – Еще что-нибудь про жизнь расскажите! – снова попросил инженер. – Вы сейчас в партии? – А как же? – говорю. – Всегда. На фронте вступали. – Вон оно что, – медленно сказал инженер. – А с кем сейчас из наших таксаторов? В какой партии работаете? – Не работаю. Сонс прогнал. Давай, знаешь, еду делать начну… Еда вышла жирная. Я снова держал инженеру голову и кормил. Когда осталась в котелке половина, он лег, однако я взял три ложки и сказал, что не хочу. Тогда он доел все. Урчилу мы ничего не дали. Собака завтра сеноставку или бурундука поймает. Не помрет. Чай заварил я листом смородины и сахару много насыпал. Было густо пить, хорошо. Костер я перенес на другую сторону от инженера, под гнилую колоду, и привалил мою лесину. Это дало жар, стало как под солнцем, потому что камни держали тепло. Инженера я повернул, чтоб ногу не грело, а он все время просил положить ее удобно. Я скоро понял, это зря. Трогаю тряпки, а он говорит, вот теперь лучше, спокойнее ноге. И пить просил много. Я стал говорить, столько воды нельзя. Мы спали плохо. Утром я собрал палки сварить чаю. Урчила не было с нами, ушел. Я открыл последнюю банку сгущенки и подумал, надо было привязать собаку, мало ли что получится. Сашка совсем просто может не выйти к озеру. Все они ходят по тайге – глаза не смотри. Скалы на другой стороне Тушкема закрыл туман. Он не двигался. Не туман, а вроде белые облака сели на камни. У нас было сыро. Инженер дрожал, согревался у костра, начал двигать руками, однако глаз не раскрывал. – Пожалуйста, переложите мне ногу, Тобогоев! – попросил он. – Вот так. Спасибо. А я, как вчера, совсем ее не перекладывал, только потрогал палку. Мы доели почти весь хлеб, остался сахар да табак. – А если они сегодня не придут? – Куда денутся? – сказал я. – Придут. Давай о другом говорить. – Пожалуй, будет вернее. За жизнь? – Давай, – сказал я. – Чем вы живете? – спросил он. – Ну, вот зиму? – Белку бьем, соболя добываем. А осенью я марала на дудку беру… – Как на дудку? – Дудки у нас деревянные, надо в себя воздух тянуть. Красивая охота! Осени еще нет, а я лягу спать, закрою глаза и слышу, как марал ревет. Он хорошо ревет, ни на что не похоже, вроде поет… Я тоже хорошо реву. – А марала много в вашей тайге? – Медведя мало – марала много. – Он его задирает? – Не так его, как маралят. Маралуха убежит, а мараленок в траве вроде мертвый, хотя медведь тут нюхает. Глазами встретятся, мараленок прыгает от земли, и ему смерть. Медведь и мать бы догнал, но глупый. Маралуха скроется, и медведь за ней не бежит. Глупый. – Ну да, глупый! В цирке их учат на велосипеде, на коньках и даже в хоккей. – Нет, глупый, – повторил я. – У него ума половину от человека, а может, и двадцать пять процентов. – Что? – спросил инженер и засмеялся. Я удивился, что он в таком положении смеется. Какой смех? Еды нет. Солнце придет, и станет жарко, а когда люди придут? Урчил убежал и не показывается. Он не дурак. Сейчас я пойду. – Не уходите, Тобогоев! – закричал инженер. Он смотрел на меня, щурился, глаза сильней раскрывал и снова щурился, хотел лучше увидеть. – Кислицы соберу, – сказал я. – Ты отдыхай маленько. Смородина была зеленая, твердая, сильно кислая. Я сварил полный котелок, растолок камнями сахар в тряпочке и засыпал еду. – В войну плохо ели, – сказал я инженеру. – Домой пришел – голод. Шкуру теленка нашел под крышей, варил два дня, и все ели полдня. – А эта кислица ничего! Мне радость, что он много съел. Стоял полный день, только солнце не появилось, и небо было серое. Потом пылью пошел дождь. Плохо. Я вытащил из-под инженера рюкзак, накрыл больного, ногу ладно накрыл. Инженер молчал, а я думал про его терпенье. Так не все могут. Я бы пропал. – Нет, надо о чем-нибудь говорить, Тобогоев! – сказал он. – Иначе нельзя. Надо говорить, говорить!.. Вы видели речку, которая напротив падает? – Видал. – А камни там правда красные или это мне кажется? – Красные. – Почему? – Видать, руда. – А что значит Кынташ? – Таш – камень. – А кын? – Кровь, – сказал я. – Инженер замолчал, а я подумал, зря такой разговор пошел. – А как будет по-алтайски водка? – спросил он, не знаю зачем. – Кабак аракы. – Вот если б вы взяли с собой кабак аракы, хоть четвертинку! – Нет. Ладно, не взяли. – Почему? – Уже бы выпили, – сказал я. Он снова засмеялся, а мне стало плохо, потому что он может головой заболеть. Когда они придут? Ночь я останусь, а утром надо за народом. Другого не придумаешь, пропадем двое. Правда, надо о чем-нибудь говорить. О простом. Если человеку плохо, надо с ним говорить о простом. – Главное, – сказал что попало я, – куда захотел, туда поехал… Я пожалел, что так сказал. Он снова растянул губы в светлой бороде. Это вчера борода была черная, а утром я помыл ее. – Тобогоев, как будет по-алтайски «Я хочу пить»? – Мен суузак турум. Ты пить хочешь? Принес котелок с водой, он выпил много. Голова у него была горячая и тяжелая, а глаза не смотрели. День кончался. Неизвестно, где сейчас солнце, только стало холодно, и я пошел за дровами. Сварил чай с березовой чагой и положил в котелок весь сахар, У нас был еще маленький кусочек хлеба. – Мен суузак турум, – к месту сказал инженер, и я дял ему чаю. Мне осталась половинка, и я с большой радостью тоже выпил. Хлеб отдам ему перед ночью. Где Урчил? Знаю, что близко, однако не показывается. Умный собака. – Тобогоев, а как по-алтайски «друг»? – Тебе трудно выговорить. Надьы. – Что тут трудного? Нады? – Верно, однако, – не стал поправлять его я. – Можно еще спросить, Тобогоев? Пусть спрашивает про наш язык. Мы будем говорить, а думать не надо. – Как по-вашему «брат»? – Это просто: карындаш. – Карандаш? – Не так. Карындаш! Темнота в ущелье, и надо за дровами, пока видно. От горячих углей уходить плохо. Спина сильно болит, я промочил ее под дождем и не просушил. – Карындаш! – хорошо повторил инженер. Дождь не идет, но и звезд нету. Вертолета не будет. 6 КОТЯ, ТУРИСТ Умора, как я-то попал в эту историю, просто подохнуть можно со смеху. Иными словами, плачу и рыдаю… Еще зимой мы с Бобом решили куда-нибудь дикарями. А куда, расскажите вы мне, можно в наше время податься? – Дед, махнем в Рио! – с тоской собачьей говорил всю весну Боб. – А? Днем Копакабана, креолочки в песочке, вечером кабаре. Звучит, дед? – Мысль, – соглашался я. – Ничего, Боб! Придет наше время. А перед самым летом Боба осенило. – Дед! – толкует он мне по телефону. – У нас тут звон идет насчет Горного Алтая. А? Тайга, горы, медведи, туда-сюда. Звучит, а? Боб, иными словами Борька, работает в каком-то номерном институте. Что эта контора пишет, никто не знает, даже Боб, по-моему. Вокруг всего заведения китайская стена, за которой давятся от злости и грызут с голодухи свои цепи мощные волкодавы. Боб там программистом, какие-то кривые рисует, что ли. Мы с детства вместе. Потом Бобкин папа попробовал его изолировать в суворовском училище, да не вышло. Маман ощетинилась, и Боб снова стал цивильным мальчиком. Пошел, как все люди, в школу и попал в наш класс. Маман у него ничего, душа-женщина, а папа сугубый. Вояка, орденов целый погребок, на Бобкину куртку не помещаются. А в общем все это лажа… – Боба, ты гений! – крикнул я в трубку. – Мы же давно мечтали сбежать от цивилизации. Понимаешь, голый человек на голой земле… – Постой-ка, затормози! – перебил он меня. – А девочек мы там найдем? – Мы? Не найдем? – неуверенно спросил я, хотя знал, как скоро и чисто умеет Боб эти дела обтяпывать, был бы объект-субъект. – Сибирячки, сообража? – Да знаю я эту толстопятую породу! – заныл Боб. – Ну, лады. Выходи на плац, покалякаем. Мы с Бобом живем в одном доме, и он до моего балкона может запросто доплюнуть, если хорошо рассчитает траекторию. После школы я тоже не попал в институт, поступил на курсы иностранных языков. Иными словами, мы с Бобом не только соседи, но и кореши до гробовой доски, как говорят «дурные мальчики» на нашей Можайке. Правда, здесь, в Горном Алтае, я его и себя увидел в другом аспекте, меж нами пролегла трещина громадной величины – иными словами, пропасть, как пишут в романах. Французы вечно ловчат – шерше, мол, ля фам. В нашем случае женщина, конечно, была, но не только в ней дело, будь я проклят! Приехали мы сюда не дикарями, а как честные члены профсоюза – в Бобкином институте горели ясным огнем две турпутевки, и мы на это дело купились. «Сибирь – это хорошо!» – изрек мой папа и снабдил. У Боба тоже было прилично рупий, и потому все начиналось ажурно. Адье, Москва, бонжур, Сибирь! На вокзале маман даже слезу пустила, настолько далеко мы уезжали. Иными словами, в неизвестность… Деревянненькая турбаза стояла на высоком берегу озера. Из него черпали воду и таскали в столовку. По озеру плавали щепки, а рядом, в деревне, весь берег был потоптан копытными животными. – Коровы тоже пить хотят, – успокоил я Боба. Во время обеда этот сноб подозвал официантку. Она была здоровенная, в заляпанном переднике и дышала, как лошадь после заезда с гандикапом. – Богиня, скажите, тарелка немытая? – спросил Боб. – Сами вы немытые! – «Богиня» с ходу взяла в галоп. Боб скис. Да и скиснешь на столовском блюдаже и, кроме того, на безлюдье. Полторы калеки каких-то пенсионеров не в счет. Мне тоже тут было что-то не в дугу. На этой занюханной турбазе надо было загорать еще несколько дней, пока не наберется кодло для поездки по озеру. Вечером мы фланировали вокруг турбазы, и Боб ныл: – Где горы? Это же не горы, а пупыри! Незаметно добрели до поселка лесорубов и у магазина употребили бутылку кислого. – Отличный кальвадос! – приободрился Боб. – Мартини! – подтвердил я. А наутро он сбегал в поселок и еще принес бургундского под железной пробкой. Во время завтрака опять подозвал «богиню» и, понюхивая подгорелую пшенную кашу, спросил: – Что это такое? – А че? – Пахнет! – простонал Боб. – Сами вы пахнете. – Пардон? – спросил я, но «богиня» уже диспарючнулась, как сказали бы французы, иными словами – исчезла. В тот день приехали дикарями какие-то иностранцы с гитарой. У них были мощные рюкзаки и две палатки. Вели они себя буйно, как дома. Орали «Очи черные» на своем языке, твистовали под гитару, читали стихи; парни ржали, как лошади на ипподроме, но все заглушал свинячий визг, потому что были среди них девчонки, прямо скажу, нормальненькие. – Кто такие? – сразу ожил мой Боб, и глаза у него зарыскали. Инструктор базы сказал, что он и сам толком не поймет, откуда эта банда. Будто бы из какого-то малявочного государства – не то из Монако, не то из Андорры. – Кот, – говорит мне Боб. – Ты ведь по-французски мекаешь! – Да ну! – покраснел я. – Ты же знаешь, как я на эти курсы хожу… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
|||||||