 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Раззаков Федор :: Горький Максим :: Азимов Айзек :: Толстой Лев Николаевич :: Борхес Хорхе Луис :: Чехов Антон Павлович :: Грин Александр :: Сименон Жорж :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: Ожерелье Иомалы :: Сухая сосна :: Вторая книга Царств :: Третий поворот налево :: Маска Димитриоса :: Питейные истории :: Лет за триста до братьев Люмьер :: Возвращение :: Магия луны (Том 1) :: Фильм на экране одного кинотеатра |
Серебряные рельсы (сборник)ModernLib.Net / Путешествия и география / Чивилихин Владимир Алексеевич / Серебряные рельсы (сборник) - Чтение (Весь текст)
Владимир Алексеевич Чивилихин Серебряные рельсы СЕРЕБРЯНЫЕ РЕЛЬСЫ 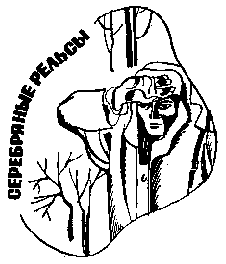 ТАЙНА КАЗЫРА Этих мест, куда я забрался, пожалуй, не знает и сам дьявол. Эх, Казыр, Казыр, злая непутевая река! Мало людей прошло по твоим берегам от истоков до устья, и ни один человек еще не пробился через все твои шиверы и пороги. О чем бормочет твоя говорливая вода? Что ты рассказываешь, Казыр, – единственный свидетель и недобрый участник трагедии, о которой вот уже много лет помнят тысячи сибиряков… Чтобы найти исток Казыра, надо от знаменитых красноярских Столбов брать к центру Саян. Причудливые голые скалы вскоре переходят в лесистые округлые «шеломы», глубоко и густо изрезанные притоками красивейшей сибирской реки Маны. И вот уже высится обширное Белогорье – издали видны лишь сизые гольцы, белесый олений мох на крутых склонах да снег ослепительной свежести. Не вздумай туда зимой – пропадешь ни за понюх табаку. Да и летом эти места можно пройти лишь звериными тропами. Горные кабарожьи тропы приведут к Фигуристым и Агульским белкам, в гигантские мраморные башни и цирки, каких нигде больше не увидишь. А еще дальше – первозданная стихия камня. Сюда, к этому намертво запутанному каменному узлу, тянется с запада островерхий хребет Крыжина, с востока – Хонда-Джуглымский, а с юга – неприступный дремучий Ергак-Таргак-Тайга. Сталкиваются, сплетаются, пересекаются мощные горные цепи, выбрасывая за облака гору Пирамиду, пик Грандиозный, Поднебесный голец, Кулак-белок. Кажется, не будет конца царству скал, отвесным стенам, глубоким и темным, как преисподняя, провалам, диким утесам выразительных и странных форм. Здесь-то, в самом центре каменного хаоса, рождается Казыр, отсюда он начинает свой стремительный бег к Енисею. Жизнь этой реке дают лед и солнце, и казырская вода унаследовала от них заоблачный холод и вечную энергию. Силен Казыр, не везде перебродишь его, не везде переплывешь – упругая струя подхватит смельчака, разобьет на рыжих ослизлых валунах… Есть на Казыре бурливые перекаты – шиверы, вода тут серебрится и что-то невнятно лопочет, есть тихие глубокие плесы, где танцует златоперый хариус, есть мутные водовороты, ямы и воронки. Подмоет, повалит река высокий кедр, дотащит его до такого бучила, поставит корнями вверх и медленно всосет, утопит, чтобы вскоре выбросить этого лесного красавца помятым и бездыханным. Но главное препятствие на Казыре – пороги. В одном месте вся река собирается в узком гранитном горле, в другом – прорывается по длинному, извилистому коридору, в третьем – прыгает по ступенчатым лбам. Есть порог, который тянется на семь километров, и в солнечный день стоит над каждым его сливом цветистая радуга… Долго беснуется Казыр, пока не расступятся горы и плавные увалы Минусинской покати не смирят его буйный норов. Вдоль Казыра – непролазная черневая тайга. На взгорках стоят лохматые кедровники, распадки забиты сбежистыми кронами елей, к сырым низинным местам собираются пахучие пихты, чтобы в полую воду вволю пошлепать по мутной волне широкими лапами. В таком лесу тихо и сумрачно. До земли свисает с веток седой мох, гниют внизу остатки поживших свое лесных великанов. Встречаются по берегам Казыра черные гари, на добрую сотню километров протянулся гибник – лес, съеденный залетными вредителями: сибирским шелкопрядом и монашенкой. Древесные скелеты подтачиваются червями и падают от ветра. Ни зверь не живет на этом лесном кладбище, ни птица. Только вечный труженик дятел долбит и долбит сухие стволы. Первые люди пришли на Казыр за соболиными шкурками. Это было не так давно. Потом сюда потянулись рыбаки, топографы, ботаники, геологи, оставляя после себя просеки, затесы, вешки. И все-таки можно неделями брести по казырской долине и не встретить ни одного зимовья, ни одной меты… Зима памятного сорок второго нагрянула в Южную Сибирь неожиданно, вдруг. В казырской долине забуранило звериные тропы, кусты и колодник. Пышные снежные шапки пригнули ветки елей и пихт. Даже Казыр смирился – заковало льдом его уловы и ямы. Ни птичьего гомона, ни собачьего лая, ни человеческих голосов. Но вот в безмолвие зимней тайги ворвался посторонний, нездешний звук. Он шел с неба. Низко, у самых вершин кедров, пролетел самолет. Потом другой. Самолеты до сумерек кружили над Казыром. Назавтра они снова прилетели, а потом еще и еще. На все вопросы с земли радисты отвечали: – Продолжаем поиски. Сотни людей в Абакане, Новосибирске и Нижнеудинске нетерпеливо ожидали известий с Казыра. «Наверно, не смогли пройти Щеки», – говорили одни. «В этот порог они не сунутся, там сразу видно, что только берегом можно, – высказывались другие. – А вот в Базыбае действительно могли сгинуть – это же такая мясорубка!» – «А вдруг они отклонились от маршрута? – предполагали третьи. – И границу перешли…» Снова надвинулись на Саяны низкие тучи, и повалила кидь – густой непроглядный снег. Пурга прогнала самолеты на базы. Теперь было не подступиться к казырской долине. Вскоре о результатах поисков запросила Москва. В Новосибирске, откуда была послана пропавшая экспедиция, жил в это время московский профессор. Его сын возглавлял ушедшую группу. Старик никому не верил, что сын может пропасть. Смертельную обиду нанес ему тот человек, который сказал, что люди, возможно, ушли за границу… Проходили дни, а сына все не было. Из поселка Верх-Гутары, что расположен в Центральных Саянах, передали по радио протокол опроса проводника. Экспедиция брала этого проводника с условием, что он выведет людей к Минусинску. Однако проводник быстро вернулся из тайги вместе с оленями. Он объяснил, что его отправили назад от места слияния Правого и Левого Казыра. Проводник был последним человеком, который видел исчезнувшую группу. Отец начальника экспедиции рвался в Саяны, чтобы поговорить с ним, но все перевалы забило рыхлым снегом, и путь в горы был отрезан, по крайней мере для человека, которому уже под семьдесят. Экспедиция исчезла. Однако старик все не терял надежды, зная, что сын не раз бывал в трудных переплетах. Писал в конце ноября домой в Москву: «Отсутствие от него сведений наделало здесь большой переполох. Снова собираются посылать самолеты. Я-то думаю, что он по зиме, как совсем замерзнут реки, выберется. Пройдет забережками, как по тротуару. Такой мужик едва ли пропадет». Друзья пропавших и пограничники, живущие на Казыре, организовали наземные поиски. Ушли в тайгу на «камысных» – подбитых лосем – лыжах два отряда. Главный поисковый отряд, которым руководил верный друг и ученик начальника экспедиции, двигался с верховьев Казыра. Следов пропавшей экспедиции было много: в одном месте – затес, в другом – кострище, в третьем – плот, застрявший в камнях. Вначале показалось, что люди погибли в пороге Щеки – бешеная вода вздыбила плот на острых каменюках, и он стоял сейчас в крутом наклоне, намертво вмерзнув в рваный лед, а вокруг свирепо клокотала вода. Конечно, целым из такого пекла не вылезешь! Однако ниже порога раскопали под снегом остатки костра и свежие пни – видно, тут строился новый плот. Этот плот из пихтового сушняка был обнаружен в Китатском пороге. Потом затесы исчезли. На деревьях, растущих по берегам Казыра, не было уже ни одной меты. А вскоре натолкнулись на странную находку. Над заметной скалой были подвешены к вывороту кедра мешки. Огромное корневище выступало над берегом, и любой человек, проходящий долиной мимо, обратил бы внимание на этот лабаз. Мешки сняли. В них были образцы камней, замерзшее оленье мясо, дробь, соль, телогрейки. Почему все это было оставлено? Перерыли все – никакой записки. В чем дело? Потом поисковый отряд нашел в долине еще несколько стоянок экспедиции – кострища, лежаки из пихтовых веток, срубленный вокруг сухостой. Ниже Базыбая под глубоким снегом дорылись до последнего лагеря. Дальше всякие следы исчезли. От этого места до пограничной заставы оставалось всего около сорока километров. Экспедиция могла пройти это расстояние при любых обстоятельствах. Ведь она преодолела самые трудные казырские пороги! Оставался пустяк, но куда делись люди? Уже около месяца шли по тайге лыжники. Устали от бесконечного труда и бесконечных неудач. Собрались было на заставу, однако руководитель отряда решил посмотреть долину Нижнего Китата. Этот большой правобережный приток Казыра тек с хребта Крыжина, за которым бежал Кизир. Старик профессор говорил в Новосибирске, что сын писал ему о возможности исследования Кизира, если в казырской долине экспедиция получит отрицательный результат. Может быть, действительно экспедиция по Нижнему Китату прошла на Кизир? Ночью поисковый отряд остался без проводника – тот сбежал, стремясь скорее выбраться к жилью. Два инженера двинулись вверх по Нижнему Китату, внимательно осматривая долину. Здесь была девственная заснеженная тайга без конца и края, и абсолютно никаких следов человека. Продукты уже кончались. Вскоре выдался добрый денек, и в небе показался самолет. Может, нашли? Нет, самолет не качал крыльями. Быстро разложили два костра – условный знак. Самолет сбросил вымпел и разочарованно нырнул за гору. В записке значилось: «Все поисковые отряды вернулись. Экспедиция не найдена. Ждем вас. Необходимо выходить из тайги, ожидается метель». Через несколько дней донельзя измученные люди были на заставе. Они виновато качали головами: – Нету. Вскоре прибыли и пограничники, обследовавшие район последней стоянки. Действительно, этот лагерь был последним. Ниже по реке – ничего. Что с экспедицией? Где она? Может, преступление? Время военное, тревожное, разные люди бродят по тайге… Летом поиски возобновились. Отряд опытных таежников снова исследовал Казыр от истоков до устья – безрезультатно. Все местные охотники знали, насколько важно любое известие. Районная газета «Артемовский рабочий» напечатала об этом статью. Приезжал в Саяны и московский профессор, отец начальника пропавшей экспедиции. Он назначил от себя большую награду тому, кто найдет сына живым или мертвым. Однако тайна оставалась нераскрытой. Прошло около года. Родные и друзья погибших не могли смириться с утратой, но что было делать? Пограничники тоже перестали искать, хотя их застава стояла всего в двух днях ходьбы от последней ночевки исчезнувшей экспедиции. За этот год они излазили все подступы к хребту Ергак-Таргак-Тайга, по которому проходила тогда государственная граница, и пришли к выводу, что проникнуть за хребет люди не могли. Начальника пограничной заставы вызвали в Новосибирск с подробным отчетом. Но что было толку в этой бумаге? А когда пришла коренная вода, заставу взволновала одна загадочная находка. С пограничного катера увидели на дне реки какой-то поблескивающий предмет. Привязавшись веревкой, прыгнули в воду и вытащили заржавевшее ружье. Отчистив находку, установили, что ружье было бельгийского завода. С трудом разобрали номер. Кому принадлежала эта бельгийка двенадцатого калибра № 76087? Никто в окрестных селах не мог ответить на этот вопрос. Обнаружили ружье почему-то совсем рядом с заставой. Перерыли архивы за долгие годы. Нет, никто из командиров и красноармейцев заставы не был владельцем этого охотничьего ружья. Для выяснения загадки начальник заставы Переверзев отправил находку в Артемовск… О тревожных радиограммах, что сыпались год назад на заставу, о неудачных поисках, о приезде старика профессора, о загадочном ружье знали и рыбаки, живущие неподалеку. Это были суровые деды, коренные саянские жители. Проводив сынов на войну, они и сами не захотели сидеть в такое время сложа руки: снабжали казырским омулем и хариусом отдаленные золотые прииски. В поисках уловистых омутов старики не раз хаживали вверх по Казыру, за Базыбайский порог. Они хорошо знали низовья реки. Каждый приметный камень имел у них свое имя – Лоб, Чалый, Братья, Пьющий Камень… Еще по весне рыбаки оглядели Казыр. Особенно тщательно, как и пограничники, они изучали район последней стоянки исчезнувшей экспедиции. – Нету, – говорили они Переверзеву. – Стало, в Тазараму ушли… Тазарамой они по-старинному называли пограничный хребет Ергак-Таргак-Тайга. Может, действительно люди ушли за границу? Однако это предположение ничем не подкреплялось и не могло разрешить загадки. В половодье приемыш рыбака Андрея Бякова двенадцатилетний Санька Баштаков увидел вмерзший в лед маленький плот, который стремительно пронесся мимо заставы. Этот же плот видела Лиза Степанова, дочь другого рыбака. Девушка прибежала тогда к начальнику заставы Переверзеву и со слезами на глазах требовала, чтобы послали вдогонку катер. Но мало ли чей салик может притащить река с верховьев? Да и как его поймаешь? К концу лета рыбаки перестали строить догадки, отчаявшись, прекратили поиски. Наступила осень 1943 года. Снова поредел лес, потемнела голубая казырская вода. Однажды рыбак Иннокентий Степанов толкался левым берегом на лодке к Базыбаю – под этот порог вчера ушли его товарищи с сетями. Река сузилась, началась быстрина. Лодка вертелась, шла плохо. «Проклятая Баня! – ругался про себя старик. – Взопреешь, пока пройдешь. Одно слово – Баня. Однако, вон уже и Кедровый остров!» Степанов налег на шест, и лодка вышла на тихое место. Вдруг он остановился – сквозь воду виднелся листочек бумаги, прилипший к камню. «Однако, кто-нибудь из пограничников тушенку раскрывал», – предположил Степанов, но все же внимательно осмотрел дно реки. Неподалеку в прозрачной струе трепетал еще один такой же листок. Старик подплыл ближе к берегу и отшатнулся – на мелководье в прибрежных кустах лежал полузанесенный песком человек. Лица нельзя было различить. Сквозь воду хорошо был виден форменный синий китель. Старик выбрался на берег, предусмотрительно поставил вешку, на кустах ольшаника сделал заметную вязь. «Мало ли что со мной в тайге может случиться, – подумал он, – а так люди заметят». 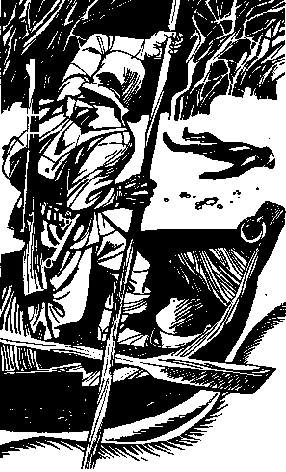
Назавтра он приплыл к Кедровому острову со своими старыми товарищами – Киприяном Лихачевым и Андреем Бяковым. В лодке был и вертлявый белоголовый Санька Баштанов. Мальчишка свесился с кормы и звонко закричал: – Бумаг-то, бумаг! Дядя Иннокентий, бумаг! – Не колготи! – одернул его Бяков, и Санька присмирел. В суровом молчании они подплыли к кустам. На берегу глухо и торжественно шумели по-осеннему черные кедры, в воде зыбились их неясные тени. – Ишь застругивает, – кивнул на воду Лихачев. – Песок тянет. Чуть погодя намыло бы косу на него – и с концом… – Давно лежит, – заметил Бяков. – А я, паря, мимо Кедрового сколь раз сей год проходил, да все правым берегом, протокой. А он левым, Дурной Матерой шел… – Тут, на приверхе, с ним и приключилось, – вернувшись с берега, сказал Иннокентий. – А гляньте, перед быстриной лег. Еще б десять сажен вниз ступил, полая вода снесла б его в воду и Баня размочалила бы по косточкам. – В Артемовск надо сообщить, Кеша. Трогать его нельзя сейчас, самим-то. – А мы прямо отсюда на заставу. Только вот что, мужики, – Степанов прошел вдоль берега. – Бумаг-то сколько в воде! Нешто собрать их сейчас? Пропадут же! А может, в них есть что? Старики начали доставать со дна реки одинаковые продолговатые листочки. – Рукой написано. Цифры на уголках, – сказал Киприян Лихачев. – И не смыло, разобрать можно. Карандаш, верно, особый у него был. Приедем, берестой переложим. Ну-ка, Саня, прочитай – у тебя глаза острее. Мальчишка осторожно взял в руки сырой листочек. – Понимаю! – крикнул он и поднял глаза на Лихачева. – Читать? «Имеются граниты серые крупно– и мел… мелкозернистые… исключительно красивые розовые граниты и гранит-пор… порфиры, зеленые серпат…сер-пен-тины». Непонятные какие-то слова… Санька передохнул и взял из рук Лихачева еще один листок. – «На всякий случай ружье держу все время при себе и наготове пару патронов, заряженных разрывными пулями. Это тем более не-об-ходимо… что… что пользуется дурной репу… ре-пу-та-цией». Дядя Киприян, а что это «репутацией»? – Умный человек писал, Саня. На-ка еще почитай. – «Терраса заросла многовековой тайгой, – едва разбирал парнишка, – что дает возможность трас…си… трассировать по ней линию без особого укрепления берегов и регу… регуляционных соор-ру-же-ний». Опять длинные слова. А вот снова понятно. «Прошли одиннадцать километров. Выехали утром в восемь часов. Была морозная ночь, что нам кстати, а то мясо мокрое и могло бы испортиться. Сейчас его подморозило». – Рисунок! – крикнул издали Бяков. В поисках листочков он спустился к началу Бани. – Это же Саянский порог у него срисован, о пяти сливах… – А что могло приключиться? А, мужики? – спросил Иннокентий Степанов, когда они уже ничего не могли увидеть на дне реки и собрались обсушиться у костра. – Ни ружья при нем, ни припасу. И потом на заставе говорили, что они втроем шли. Где еще двое? Молодые-то ребята где? Никто не ответил. Старики молчали, грея руки у костра. С каждой минутой сгущалась тьма. Лес застыл в неподвижности и безмолвии. Уже в темноте старики ломали пихтарник для ночлега… – А может, это и не он? – выразил утром сомнение Киприян Лихачев. – В тайге все может быть. А тут граница рядом, и война идет. – Так китель же на нем. – Мало ли что, – строго сказал Лихачев. – В общем, мужики, надо на заставу скорей. Переверзев и документы с него возьмет, целы небось… Через день в Новосибирск и Артемовск была передана радиограмма: «Согласно сообщению бригадира рыболовной артели Золотопродснаба Степанова И. Ф., находившегося 4 октября 1943 года на рыбалке в районе острова Кедровый (4 км выше устья реки Нижний Китат), на дне реки Казыр им был обнаружен труп неизвестного гражданина. Тут же рассеяны бумаги по дну реки. На неизвестном виден форменный железнодорожный китель с петлицами и знаками отличия (две звездочки). Необходимо следствие». …Эх, Казыр, Казыр, злая, непутевая река! МИХАЛЫЧ Что-то неведомое тянуло вдаль, на труды и опасности. Обеспеченная, но обыденная жизнь не удовлетворяла жажды деятельности. Молодая кровь била горячо… Шла первая военная весна. Но не до весны было москвичам. Большой город боролся с врагом, окольцованный сетями воздушного заграждения и лучами прожекторов, глубокими рвами и стальными ежами. За темными шторами не было видно огня. Но в этой просторной комнате люди работали всю ночь – отвечали на резкие, требовательные звонки, советовались, подсчитывали, решали. Их покрасневшие от постоянного недосыпания глаза время от времени обращались к разноцветным картам фронтов и тыловых районов, к огромной, во всю стену, схеме железных дорог страны. Были намечены меры по ускорению строительства железной дороги на Воркуту, к заполярному углю, подписан приказ об организации новых восстановительных поездов, найдены на дальних магистралях тысячи вагонов для прифронтовых дорог. К утру состоялся один короткий разговор. – Пора, товарищи, начинать изыскания в Саянах. – Да, расправляет плечи Сибирь… – То ли будет после победы! А в Саяны сильного мужика надо посылать. – Начальником экспедиции предлагают Кошурникова. – Как! Старик? Михаил Николаевич? – Нет. Сын его, Александр. Знаем его, умеет работать. Кулунду в прошлом году сделал, помните? – Ну, если в отца пошел – будет к зиме трасса. Затвердили? …Изыскателю российских железных дорог Михаилу Кошурникову с детьми не везло – за Надеждой родилась Вера, потом Нина, Елена. Мрачный стоял он у своей палатки в калмыцкой степи меж Царицыном и Астраханью. Работы было невпроворот, а тут жена рожала, наверное, очередную, пятую по счету, дочь. Михаил ушел в степь и бродил там, пока кухарка, единственная в партии женщина, не окликнула его. – Николаич! С сыном вас! Он прибежал. Скинул тужурку с орлеными пуговицами. Топоча тяжелыми сапожищами, пустился в пляс вокруг палатки. Собрались рабочие партии. Улыбаясь, смотрели на своего начальника. Им нравилось, что он не таит от них ни горя, ни радости, и чуяли – поставит им сегодня Николаич не меньше ведра: ведь инженерша сыном разрешилась! А вечером счастливый отец палил из берданки в степи, восторженно крича перед каждым выстрелом: Сын! Мужик! Изыскатель! Не было и нет, наверно, на свете такого мальчишки, которого не манили бы морские дали и неведомые края. Побывать бы в далеких странах и совершить там такое, чтоб все ахнули! Всегда мечтали о соленой воде и маленькие сибиряки, хотя как ни крути глобус, а нету больше на земле города, который так же далеко, как Томск, отстоял бы от морей и океанов. Но Саша Кошурников не хотел ни на море, ни в заморские страны. Ему б к отцу! Парнишке часто грезилось, как далеко-далеко за горами и реками идет через тайгу отец – веселый бородатый гигант. В руках у него волшебная медная трубка на треноге. Он направляет трубку на лесную чащобу, и тайга покорно расступается перед ним. Обычно отец все лето вел вдалеке таинственную, полную – опасностей жизнь. Возвращался поздней осенью, к снегу. Медленно стаскивал мокрый плащ, огромные, в ошметках грязи сапоги. Для Саши не было большего удовольствия подхватить за ушки эти «бахилы», как называл их отец, выбежать на улицу к первой луже и вымыть их до жирного блеска. После бани отец спускал с потолка самую большую в доме лампу, доливал в нее керосину и садился чертить. Белые хрустящие листы покрывались загадочными линиями и значками. Учился Саша шутя, над учебниками не корпел. Любил убегать из гимназии на речку Басандайку, вечерами засиживался в отцовской библиотеке, пробираясь с Миклухо-Маклаем сквозь тропические джунгли или путешествуя с Пржевальским в легендарную страну тангутов. Еще интереснее были рассказы отца. Высоко подняв кудрявую голову и раздувая крупные ноздри, завороженный парнишка слушал, как отец с товарищем и проводником где-то между Енисейском и Томском перетаскивали на брезенте лошадей через болота, как в Манском белогорье на них напали с дробовиками старообрядцы, требуя, чтобы «антихристы» со своими инструментами убирались из тайги, как наткнулся однажды отец на бешеного, так называемого «червивого» медведя и уходил его топором. Отец, по мнению знавших его людей, был со странностями. Он до беспамятства любил природу и живопись. Самым прекрасным местом на земле для него был Алтай, а самым лучшим художником он считал никому не известного Гуркина, самородка-ойрота, который якобы заткнул за пояс даже Шишкина, своего учителя. В доме Кошурниковых на стенах висели копии гуркинских полотен: «Хан Алтай», «Озеро горных духов», «Камлание», «Черневая тайга». Всю жизнь отец стремился воспитывать детей в труде, и когда перед революцией он оставил бродячую жизнь и перешел на преподавательскую работу, то срубил на Алтае, в верховьях Катуни, дом-пятистенок, куда на лето семья переезжала из Томска. Отец с сыном раскорчевали там небольшой участок, дочери развели огород. Отец часто брал Сашу в тайгу. Паренек научился вязать салики, делать балаганы, жечь в непогоду костер. Он уже неплохо стрелял и моментально взбирался на самые высокие кедры. А один раз отец отпустил его на целый месяц с артелью «золотничков». В соседнем селе у Саши завелись друзья-приятели, и он подолгу пропадал с ними в тайге, забредая в далекие урочища. – С нами, Санька, куда хошь в тайге, – говорили ему деревенские ребята. И томский гимназистик не раз убеждался, что это так. Маленькие кержачата умели самым чудесным образом вскипятить чай в бересте, одним топором сделать надежную «кулему» – кротовую ловушку, выдоить в лесу отбившуюся от стада какого-нибудь богатея корову, испечь в костре ароматного рябчика. По весне Санька ездил с ними на лошадях к кулакам-мараловодам зарабатывать дробь и мед. Ребята как черти носились по тайге, загоняя маралов в станок, где лесные красавцы в муках прощались с драгоценными пантами. Потом ребята заманивали Саньку на горные речки – вязать и ставить на хариуса «морды» из лозняка. Осенью парнишки нанимались на купецкие хлеба бить кедровые шишки, потому что их отцам не на что было купить муки на зиму и не на чем было привезти ее из хлебородных мест. Времена менялись и здесь. Молодежь в этом далеком таежном селе уже не могла жить по древним старообрядческим заветам – «тихо и смирно». Приходили с германской искалеченные парни, привозили с собой табачище и вольные разговоры, вводя в ярость степенных аскетических старцев. Подрастающие «неслухи» уже отлынивали от молитв, дрались насмерть с кулацкими сынками, а самые отчаянные убегали посмотреть жизнь в Бийск и еще дальше – на шахты, на железную дорогу. Саша Кошурников смотрел и слушал. На селе одни его почитали, потому что он соглашался написать бесплатно любую бумагу, другие внушали своим сыновьям, чтобы они не водились с этим «нехристем», потому что бабка у него каторжанка и до самой войны получала из неметчины письма… Докатился и сюда гром революции. Алтай заполыхал. Кошурниковы поспешили в Томск, оставив Сашу свертывать хозяйство, заколачивать дом. Но сын не вернулся домой. Отец кинулся разыскивать его. Бабы из ближайшего села шепнули, что Санька-грамотей ушел с мужиками в партизаны, и отсоветовали ехать в горы – там хозяйничала банда белогвардейца Кайгородова. Темнее тучи отец приехал обратно. Вернулся Александр, когда его уже перестали ждать. В грязном полушубке и папахе с красной звездой он выглядел старше своих шестнадцати лет. Не раздеваясь, он сидел в прихожей, пока сбегали за отцом. Тот шумно ворвался в дом. – Тише, тише, – освободился он от объятий сына. – Старые кости ломкие. Как? Уже бреешься? – Ага. Ну чего плакать-то, пап? – И курить, чую, научился? – Смолю почем зря! – И водку пил? – Нет. Самогон пробовал. – А дело ладно ли делал? – Кайгородова ликвидировали. – Хорошо, потом расскажешь. Учиться думаешь, блудный сын? – За этим и приехал. К экзаменам Александр готовился самостоятельно и через два года упорных занятий поступил в Томский политехнический институт. Каждое лето он бывал у своих алтайских друзей и после первого курса привез оттуда девушку – маленькую, черноглазую и пугливую. Молодые сняли комнату на окраине Томска. Там всегда было шумно и весело. В ней постоянно торчали однокашники хозяина. Уж больно артельский парень был этот Сашка Кошурников – гитарист, хохотун и заводила. Летом отцу не сиделось дома, и три года подряд он ездил с сыном на Север, проектируя лесовозные дороги в бассейнах Вычегды, Мезени, Емцы. Александр совсем отказался от отцовских дотаций, перешел на свои хлеба. За комнатенку он не платил – зато всю зиму отапливал бесплатно большой дом, в котором жил. Нередко уходил на ночь грузить лес на баржи или подметать базарную площадь. На первые самостоятельные изыскания Александра Кошурникова послали за Томск, в сырые и сумрачные урманы. В глухой таежной деревушке ему присоветовали хожалого старика. – Есть дальше дорога, папаша? – Шибко, однако, торная дорога, паря! – сощурился тот. – Мой отец лет сорок тому с собакой прошел. – Темнишь, старина! – засмеялся Александр. – Цену набиваешь. Мой отец лет двадцать назад с проводником и помощником трех лошадей тут протащил. – Сынок Николаича! – воскликнул засуетившийся старик. – Дак я ж с ними и ходил! Как это я, старый пень, сразу не признал – такой же кучерявый и ухватистый. Ради памяти родителя задарма проведу, Михалыч! Будешь деньги давать – ищи другого проводника… После трудного похода по заболоченной тайге Александр щедро заплатил старику, который всхлипнул на прощанье, однако деньги взял. Технические изыскания железной дороги Томск – Асино были началом беспокойной скитальческой жизни Александра Кошурникова. С этого момента он почти не бывал в городах. Охотничье зимовье либо палатка служили ему квартирой где-нибудь в тайге, горах или степи, потому что чаще всего изыскатели идут нехожеными тропами и живут в таких местах, которые не отмечены кружком ни на одной карте. Нелегка изыскательская планшетка! Прежде чем трасса будущей дороги ляжет на бумагу, изыскатель не раз проедет вдоль нее, пролетит, пройдет, проползет. Геолог обогнет болото, где зудят миллионы комаров, не полезет в густой ельник, с которого сыплются за шиворот клещи. А изыскателю железной дороги нужен кратчайший путь. Поэтому он не может миновать гнилую мочажину, хотя в ней подступает под самое сердце студеная водица. Поэтому он пробирается через густейший кустарник-мордохлест, подстраховываясь, как альпинист, лезет по отвесной скале, преодолевает многокилометровые древесные завалы, оставляя на острых поторчинах клочья одежды. Геологу нечего делать в поле зимой, а изыскатель должен знать, как ведут себя в разное время года камень, вода, снег. В зимнюю стужу иногда приходится даже тянуть трассу. Чтобы добраться тогда до стылой земли, надо рыть в сугробах глубокие ямы. И как часто на полевой работе возникают трудности, которых не предусмотреть, не избежать! Вот отрывок из письма А. Кошурникова, которое писалось в 1933 году студенту-практиканту: «Пишу из Братска, где сижу в ожидании своего хвоста-обоза. У меня за этот сезон много всяких новостей – и приятных, а больше неприятных. Вскоре после твоего отъезда соседняя партия позорно бросила работу. С Илима вернулся 29 октября, а 1-го добрался до них, для чего пришлось заночевать на сентухе (то есть в снегу – это для меня новое чалдонское слово). Помог ребятам наладить дело – и дальше. В ночь с 3-го на 4-е мороз был 33 градуса. Но надо было поддержать вниманием людей на перевале. 7-го к вечеру был там. Открыл торжественное заседание по поводу 15-й годовщины Октября. Оттуда за сотню километров подался на коне к вершине реки Чебочанки, где ребята запутались с трассой. В ночь с 17-го на 18-е мы с Женькой Алексеевым опять ночевали на сентухе во время нашей рекогносцировки к истокам Киренги. В его отряде работали Домрачев Ленька и Матвей Коренблюм. Они все время жили в палатке. Ленька обморозил себе ноги и был отправлен в Игирму недвижимым. Матвей сбежал, а Женька остался один и мужественно перенес трудности. Сейчас послал к нему Володю Козлова. Вдвоем эти парни гору свернут. Самая большая моя неприятность за сезон – беда с Реутским. Он шел из тайги и давал сигнальные выстрелы. Винчестер разорвало. Петрович, наверно, лишится левого глаза. Такая досада – свой бы отдал. Ход на Верею я все же переделал после твоего отъезда. Славно получилось! Обязательно приезжай ко мне на будущий год – разжуем еще какое-нибудь дело». Мог ли не приехать к нему после этого письма днепропетровский студент Исидор Казимиров? Техники Евгений Алексеев и Владимир Козлов, молодые инженеры и рабочие, получая такие послания, снова и снова стремились в партию к Михалычу. Почему? Что особенного в этих письмах? Подробные технические описания перемежаются незатейливыми рассказами о печальных и веселых происшествиях. Александр писал о том, как он переправился через реку, стоя в седле, и даже не замочил ног, как устроил на морозе в ельничке добрую баню, как ему подарили старинную фузею-гусятницу и ее пушечным выстрелом он будит по утрам партию. В другом письме он комично описывал, как прямо из тайги, оборванный, грязный – на одной ноге сапог, на другой валенок, – он полез согласно казенному билету в мягкий вагон, а перепуганный проводник принял его за бродягу и вызвал милицию. Кажется, что привлекательного в такой жизни, когда слишком много тяжкого труда и риска, слишком мало культурного отдыха и развлечений, а высшее счастье – увидеть семью или поспать на вагонной полке? Однако шли годы, немало железных дорог и веток в Сибири трассировал Михалыч, но по-прежнему требовал новых и новых трудных заданий, таская за собой по тайге группу молодых инженеров, верных друзей и надежных помощников. В звоне пятилеток ветвилась Великая Сибирская магистраль – так ветвится в тайге молодая береза, когда ураган повалит перед ней старую, гнилую пихту, которая загораживала солнце… Быть может, изыскателя тянет в тайгу сибирское приволье? Отчасти да. Александру не по душе была буйная, слишком жирная зелень юга, не нравились ему степные равнины, где глазу не на чем остановиться и тишина такая, что ушам больно. Не любил он и больших городов, особенно если по городу надо было тянуть трассу. Кидаются под ноги собаки, целый день вокруг толпятся ребятишки, – того и гляди, что-нибудь стащат. То ли дело тайга! Никто не мешает работать. Шмели гудят, речки бормочут, кедры шумят, по веткам, будто сатана, бурундук скачет. Хотя, сказать по чести, изыскателю даже некогда любоваться этой красотой, не то что с удочкой посидеть или там с ружьишком побаловаться: сроки изысканий всегда до предела сжаты… Возможно, большие деньги зарабатывает в тайге изыскатель? Нельзя этого сказать. – Зато я сплю спокойно, – успокаивал Александр Кошурников жену. – Не всегда, – улыбаясь, возражала Надежда Андреевна. Отчего же не спится изыскателю? Чем забита его головушка? Нет, нелегка изыскательская планшетка! Разведочные, рекогносцировочные изыскания – лишь начало. За так называемыми камеральными работами, когда вычерчивается примерная трасса, идут предварительные изыскания, с инструментами. На трассе ставятся «пикеты», забиваются «сторожки» и колышки, определяются углы поворотов. И снова ночи напролет над чертежной доской, бесконечные согласования, увязки, утверждения. Затем окончательные изыскания. Обычно руководитель изысканий становится автором технического, а потом и рабочего проектов дороги и не раз будет еще приезжать на трассу с поправками, улучшениями, новыми, более выгодными решениями… К чему эти муки? Есть у изыскателя идеал, к которому он постоянно стремится: кратчайшее расстояние и минимальные уклоны. Удлинишь дорогу – поезда будут пробегать лишнее расстояние, заложишь крутой подъем – потребуется снижать вес составов, вводить толкача, двойную тягу. А сокращение длины дороги всего на один километр дает при среднем грузообороте сто тысяч рублей экономии в год. За это стоит побороться! И вот изыскатель перебирает множество вариантов, отыскивая самый выгодный. Рассказ о том, будто дорога между Москвой и Ленинградом построена точно по царской линейке, не больше как анекдот. Это было бы слишком дорого. Самый выгодный вариант не должен удорожать и задерживать строительство дороги, усложнять ее эксплуатацию. Далеко ли местные строительные материалы, вода? Не будут ли полотну угрожать оползни, каменные осыпи, снежные окаты и вешние потоки? Все это должен учесть изыскатель. Этот инженер обязан иметь обширные знания и опыт в проектировании, строительстве, организации работ. В середине тридцатых годов Александр Кошурников выбрал очень сложный горнотаежный участок Рубцовка – Риддер, который должен был строиться сразу после изысканий, и несколько лет проработал здесь в качестве начальника изыскательской экспедиции, автора проекта и главного инженера стройки. Идеала достичь невозможно. Ведь дорога состоит из множества отрезков. И направление каждого из них может иметь свои варианты. Взорвать перевал или пробить тоннель? Построить акведук через падь или засыпать ее? Переходить мостом на другой берег реки или рубить полку в утесе, преградившем путь? И как можно меньше мостов и тоннелей, резких поворотов и полок, выемок и подъемов! На основании бесконечных расчетов, инженерной интуиции изыскатель выбирает какой-то один вариант и дерется за него. Изыскатель должен бесконечно верить в свой вариант – ведь он предлагает его на века, и подтвердить правоту этого инженера могут только потомки, потому что дорога строится обычно лет через двадцать-тридцать после того, как ее наметили. Многие варианты Александра Кошурникова считаются классическими образцами изыскательских решений. Он первым в Сибири сел на самолет для проведения рекогносцировочных изысканий. Его метод попыток при поисках лучшего варианта требовал много работы, зато давал желаемый результат. О творческой силе и работоспособности Михалыча ходили среди сибирских изыскателей легенды. Ради счастья инженерного поиска он мог несколько ночей подряд делать работу за товарища, не требуя ни благодарностей, ни наград. Вот один отрывок из его письма: «Последние дни в основном помогал ребятам. Подсчитал, что применение двойной тяги на двух перегонах дает сокращение длины на 14 километров. Разве можно было упустить этот вариант? Распутал также перевальные петли – чрезвычайно интересное и трудное было дело! Сейчас чувствую полное удовлетворение, а это высшая награда». Если его насильно оттаскивали от чертежной доски, когда работа еще не была закончена, он с мукой смотрел на друзей своими серыми детскими глазами и говорил: – Я же вечно буду думать, что здесь построят не то, что надо! Самое верное дело – ценить человека по его отношению к работе, по тому вкладу, который он вносит в общий труд. Как работник Александр Кошурников был бесценным человеком, однако люди подчеркивали и другие его качества. Причем каждый, в зависимости от своего взгляда на вещи, сам судил, плохие это были качества или хорошие. Во всяком случае, до сего дня сибирские изыскатели, зная Михалыча во плоти и крови, возмущаются, если кто-нибудь стремится преподнести его как идеального человека, этакого бестелесного трудящегося херувима. Приземистый, почти квадратный, Михалыч при встрече очень крепко жал руку, смотрел широко открытыми глазами прямо в зрачки собеседнику, быстро увлекался и начинал хлопать его по спине, ощупывать плечи. Рука у него была кургузая, тяжелая, сильная. Он принципиально писал только длинные письма, любил, трассируя ход в тайге, петь во весь голос, самозабвенно резаться до утра в преферанс, ненавидел охоту, свирепел, если при нем били лошадь, и мог показать свою удаль там, где не следовало бы. Ему ничего не стоило самым невыгодным образом обменять мыло экспедиции на барана, выписать завхозу такой счет, что вся бухгалтерия умирала со смеху, отдать, конечно, без возврата, часть получки попавшему в беду полузнакомому человеку. К деньгам он вообще относился снисходительно. Однажды в глухой приленской тайге встретил однорукого тунгуса с древней кремневкой. Угостил махоркой, расспросил о ближайших речках и тропах. – Куда путь-то держишь, старина? – На медведя, начальник. Купи шкуру. Михалыч от смеха едва не вывалился из седла. – Сколько просишь? – Однако, пятьдесят рублей, начальник. – Бери, – сказал Александр и стал подробно объяснять, как разыскать в тайге изыскательскую партию. – Найду, – оборвал его тунгус, пряча деньги. И он долго стоял, не понимая, почему этот здоровенный начальник в глянцевой кожаной куртке хохочет на всю тайгу, запрокидывая кудрявую голову. Через неделю тунгус принес свой товар в лагерь. Он недоуменно оглядывал хохочущих людей и страшно рассердился, когда кудрявый начальник предложил ему забрать шкуру обратно. Изыскатели потом рассказывали, что Михалыч отвел тунгуса в кусты, угостил спиртом и долго уговаривал поступить к ним завхозом, однако выяснилось, что тот не умеет ни считать, ни писать… Перед войной Михалыча пригласили в Новосибирский институт инженеров транспорта на студенческое собрание. Он вышел на трибуну и сразу заявил, что никого не будет уговаривать в изыскатели, хотя его за этим позвали. Похохатывая, он рассказал о работе молодых инженеров на дороге Тайшет – Братск – Лена, на трассе Янаул – Шадринск. На следующий день вдруг обнаружилось, что весь поток хочет специализироваться на изыскателей. Начальство не раз пробирало Михалыча за то, что он чересчур много возится с молодыми специалистами и студентами-практикантами, доверяет им слишком, хотя не раз имел из-за этого неприятности. В этой связи постоянно вспоминали один случай. Партия ушла «в поле», а студент, которого оставили дежурить в лагере, томился от безделья. Он пробовал читать в палатке, но не было спасу от комаров. Недолго думая, новичок взял в костре головешку и стал выгонять ею комаров из палатки. Убедившись, что это мартышкин труд, ушел в гарь есть малину. А в это время отскочивший от головешки уголек спалил все хозяйство. Ни жив ни мертв ожидал «поджигатель» возвращения изыскателей. Главное, полопались от огня линзы теодолита и дорогой инструмент пришел в негодность. Никаких стипендий не хватит, чтобы рассчитаться… – Эх, голова садовая! – сказал Кошурников вечером. – Так теперь спланируем твою практику – будешь караулить теодолит соседней партии. Как инструмент освободится – на горбу сюда его. Потом назад. – Михалыч… – Возьми-ка логарифмическую линейку. Умножь пятьдесят восемь… Не умеешь? Эх ты, инженер! Дай сюда! Он взял линейку из рук подавленного студента и через минуту сказал: – Примерно тысячу сто километров придется тебе за лето тайгой натопать. Согласен? – Согласен. – Если бежать думаешь – валяй завтра утром. Харчей на дорогу дам. – Не сбегу, Михалыч, сдохнуть легче. Ущерб от пожара был отнесен за счет Кошурникова. Сберкнижки у него сроду не водилось, и он долго не мог внести эти три тысячи рублей, которые спустя несколько лет стали официально именоваться «растратой». Не раз просил: – Спишите. Верну в сто раз больше. – Из каких доходов? – смеялись бухгалтера. – Верну! – Михалыч остервенело хлопал дверью. Наконец его вызвали с трассы в Новосибирск, как было сказано в радиограмме, «по поводу знакомой вам растраты». Пришла в квартиру комиссия. Жена беззвучно плакала. – Надя, не смей! – сказал Александр и обратился к вошедшим: – Дайте неделю отпуска. Рассчитаюсь. Он исчез из города, а через неделю пришел с пачкой денег, улыбающийся, счастливый. – Вот. Три. – Где взял? – Украл. Но еще двести девяносто семь тысяч за мной, как обещал. Жене он, посмеиваясь, рассказал, что только что с Алтая, где вместе со старыми друзьями продал лесничеству отцовское наследство – дом на берегу Катуни. – Смеху было! Дают больше, уговаривают: дом-то, мол, крестовый, крепкий, сто лет еще простоит. А я им толкую, что мне надо ровно три тысячи. Умора! И он заразительно захохотал, расстегивая на могучей груди неизменную косоворотку. Михалыч мало считался с условностями, часто ошибался, но никогда не лгал. Моралисты разных сортов пробовали исправить этот стихийный характер, бесцеремонно вмешивались в личную жизнь Михалыча. Однако с того все это сходило как с гуся вода. Он оставался таким же заводилой, весельчаком и балагуром, пока речь шла не о работе. Но если ему надо было драться за свой вариант, доказывать его выгодность, то он буквально заболевал. В случае неудачи бешено крутил головой, зажмурив глаза, кричал: – Бюрократы! Чертов круг! Перед войной его настойчиво звали работать в аппарат проектного института, предлагали должность начальника отдела, соблазняли квартирой, окладом, премиальными. Он решительно отказывался. А когда молнии на трассу стали чересчур назойливыми, он отправил в Новосибирск телеграмму: «Повторяю. Не хочу в психиатричку. Кошурников. Точка». Но грянула война, остепенился Кошурников, отдал всего себя одному делу – изысканиям. Сразу после начала войны послали его начальником экспедиции на срочные предпостроечные изыскания линии Кулунда – Барнаул. Трудно было с ним людям на этой трассе. Михалыч не щадил ни себя, ни других. Целыми днями в поле, а по ночам делал камеральные работы. Осунулся, похудел, смеяться перестал. Не было в экспедиции главного инженера, и он взвалил на себя его работу. Укрупнил изыскательские партии, вдвое сократив их число. На паспортизацию уже действующего участка дороги вместо целого отряда послал одного опытного инженера. Для ускорения рекогносцировки достал где-то новинку – нивелир-автомат Артанова. Ямы под столбы использовал для геотехнических исследований. Неделю Михалыч не слезал с коня, но все-таки нашел в степи близ Кучукского озера месторождение гравия, необходимого строителям. Экспедиция собрала полные данные о других местных строительных материалах, об источниках водоснабжения, произвела химические и бактериологические анализы вод Кулундинской степи. А главное, начальник экспедиции предложил новый вариант дороги, который стал на целых десять километров короче прежнего, хотя вначале казалось, что на этой прямой степной трассе нечего сокращать. Закончив все работы к зиме, экспедиция А. М. Кошурникова сэкономила государству 311,5 тысячи рублей. Если молодые изыскатели заинтересуются сейчас, как работали их старшие товарищи на первой трассе военного времени, пусть, когда будут в Москве, зайдут в Центральный архив МПС, что на улице Обуха, и полистают в деле № 5 по описи № 143 отчет Сибтранспроекта за 1941 год… Осенью 1941 года Кошурникова перебросили на изыскания дороги Сталинск – Абакан, но вскоре отозвали оттуда и поручили более срочное и трудное дело – за зиму надо было наметить трассы по очень сложному рельефу в горах Хакасии. Железные дороги должны были подойти к тейским и абазинским железорудным месторождениям. Он писал из Абакана другу: «Работаю продуктивно – днем в поле, ночами камеральничаю. Полностью освоил этот военный стиль. Косогоры снял хорошо, с любовью, трасса легла славно, хотя такого результата здесь не ждали. Вариант получается очень и очень конкурентоспособным – „назло надменному соседу“!» Когда все расчеты были закончены, Михалыч начал борьбу за свой вариант. Он предлагал принципиально новое решение – перекинуть трассу на левый берег реки Абакан. К лету 1942 года отстоял этот вариант. Строителям теперь не надо было укреплять слабую правобережную пойму и сооружать два моста… И вот требовательная радиограмма из Новосибирска. Начальник Сибтранспроекта с нетерпением ждал Кошурникова, и когда он пришел, раскрыл дефицитную в то время пачку «Норда». – Саяны, Михалыч, – сказал он, – как смотрите? – Уговаривать собрались? – Инженер пустил над столом синий дым, глянул сквозь него на начальника. – Вариант к зиме нужен? – Да. И прямо тебе скажу: мало кому это дело по зубам. Разжуешь? – Будем еще о чем-нибудь говорить? – спросил Кошурников, вставая. Начальник Сибтранспроекта ласково посмотрел на его непомерно широкую спину, вздрогнул, когда Кошурников шумно прикрыл за собой дверь, хотел было закурить, но вдруг рассмеялся – на столе было пусто, пачка папирос исчезла… БЫЛО ИХ ТРОЕ Мы пускались тогда в глубь азиатских пустынь, имея с собою одного лишь союзника – отвагу; все остальное стояло против нас… Шел незабываемый сорок второй – тревожный, огневой год. Наш народ накапливал силы, чтобы сломать хребет фашистскому зверю. Стальной пружиной напрягся фронт к осени, когда вместе со всей армией под Сталинградом насмерть встали полки сибирских стрелков. Но Родине надо было, чтобы в это грозовое время люди шли не только на запад, к фронту, но и на восток – в горы и тайгу. И вместе со всеми разведчики будущего несли тяжелую ношу войны… Было их трое. Знакомясь с начальником, Алеша Журавлев чуть не охнул от боли. Кошурников отступил на шаг, оглядел статного парня с ног до головы, уважительно протянул: – Ничего! – Что «ничего»? – спросил Алексей. – У некоторых пальчики враз белеют, по неделе потом за гитару не берутся. А ты ничего. – Какой там «ничего»! – Алеша рассмеялся. – Думал, копыта откину. Только с Костей вы так не знакомьтесь. Ладно? Журавлева взяли в проектный институт перед войной прямо со студенческой скамьи. Студенты любили этого покладистого, немногословного парня. Умных разговоров он не переваривал. Стоило в студенческой компании затеять спор о жизни, любви, подвиге и прочих высоких материях, как Алеша протискивался к дверям, чтобы в общежитском дворе крутануть на турнике «солнышко» либо покидать двухпудовку. Лишь временами, когда переговорившие обо всем на свете друзья сидели обалдевшие, Алеша заводил к потолку глаза и произносил мечтательно: – Эх, ребята! Встретиться бы лет через тридцать! Какая жизнь будет! Дружить с ним было необременительно и просто, а в дружбе он оставался верным до конца. Может быть, поэтому ребята шли за ним гуртом, если ему надо было что-то провернуть, как говорится, по общественной линии. Все знали упорство и какую-то странную скрытность Алешки Журавлева. Незадолго до выпускного вечера выяснилось, например, что Алешка может летать на самолете. Вскоре после защиты диплома он пригласил друзей на аэродром: – Пойдемте, корешки, со мной. Летать буду первый раз… Диплом он получил обыкновенный, без отличия, но Алешку хорошо знали в изыскательских партиях, и сейчас Кошурников без звука взял его в трудный поход. Другое дело Костя Стофато. Кошурников не вдруг раскусил этого узкоплечего парня, типичного горожанина. Главное, Костя ни разу не бывал в тайге, не хлебнул изыскательской жизни. Хорошо бы взять вместо него опытного геолога – Казыр в геологическом отношении был для Кошурникова сплошным «белым пятном». Но надежного специалиста сейчас не находилось. Экспедиции был нужен и сметчик для подсчета примерных затрат на строительство будущей дороги. Выбор пал на Стофато. Костя сам рвался в тайгу – одна камеральная работа ограничивает кругозор изыскателя. Молодые инженеры еще не оперились, однако Кошурников не захотел в такое время, когда каждый человек был на счету, брать ни одного из своих учеников – все они сейчас расправляли крылья в самостоятельных полетах. Если б можно было захватить с собой Женьку Алексеева или Володьку Козлова! С Алексеевым они побратались на памятных ангарских изысканиях. Что за время было! Братск тогда считался глухоманью. Но весной тридцать второго года нагрянули на Ангару пришлые люди – гидрологи, лесные таксаторы, изыскатели, геологи. Раскинули свои палатки москвичи и ленинградцы, по-хозяйски расположились сибиряки. По городу ходили слухи, что леса тут будут сводить, протянут с ходу железную дорогу и вроде бы даже собираются перегораживать Ангару у Падуна. Местные старики посмеивались – Ангару-то, однако, нипочем не остановить, – но охотно нанимались проводниками к этим веселым, бесшабашным пришельцам. Поисковые партии экипировались в Братске и уходили в тайгу. Ни одному инженеру и технику в партии Кошурникова не стукнуло еще тридцати. Двадцатисемилетний начальник партии был, казалось, моложе всех – чаще других смеялся, предпринимал самые отчаянные вылазки в лес, быстрее остальных умел тратить деньги, а когда в поле изыскателей так свирепо ели комары, что можно было взбеситься, Кошурников, неподвижно замерший у нивелира, говорил: – Пусть жрут! Крови у меня хватит. Он приходил в лагерь с опухшим, расчесанным лицом и все равно громче других пел вечерами в палатке. Неуемного, живого начальника уравновешивали старший техник Женька Алексеев – рассудительный, упорный, спокойный парень, и техник Володька Козлов – молчун, здоровяк и безответный работяга. Володьку Кошурников подобрал где-то в тайге семнадцатилетним парнишкой и сделал добрым изыскателем. На него можно было положиться, как на самого себя. Козлов вечно просился на самые сложные участки трассы, силушка в нем играла, как в самом Кошурникове. Дружба троих изыскателей крепла потом на других трассах. Это была мужская дружба хорошей закваски. Не та легковесная дружба, когда у иного человека бывает «фотографический» друг, друг-собутыльник или «друг с баяном». Каждый из троих товарищей знал, что двое других поделятся с ним последним сухарем, сделают за него работу, если будет в этом нужда, в случае чего потащат на себе из тайги… Если б Женьку и Володьку с собой! Но Алексеев был далеко. Он сильно вырос в предвоенные годы, стал первоклассным инженером и сейчас сам выполнял ответственное задание. Зато Козлов ни минуты не сомневался, что Михалыч возьмет его в Саянскую экспедицию. – Вдвоем пройдем, Михалыч! – уверял он. – Без проводника пройдем! Вначале Кошурников и сам думал взять его в компаньоны. Но когда изучил предварительный вариант, то выяснилось, что судьба всей экспедиции будет зависеть от одного важнейшего обстоятельства. Дело в том, что трассу будущей дороги от Абакана до Нижнеудинска он решил наметить по наиболее короткому пути. Сама природа подсказала маршрут экспедиции – вдоль реки Казыр. Легче строить дорогу вдоль реки – всегда над берегом есть терраса, всегда под руками надежное транспортное средство, всегда полно рыбы, леса, питьевой и технической воды. Долина Казыра составила бы две трети условного варианта – это было редким и счастливым совпадением. Но чтобы перевалить с верховьев Казыра на восток, к Транссибирской магистрали, надо было преодолеть высокий хребет – один из кряжей Агульских белков. Кошурников наметил, как ему казалось, самое глубокое седло для перевала и решил послать туда Козлова, чтобы тот срочно определил, какой длины потребуется перевальный тоннель. Володя Козлов с партией, состоящей в основном из студентов НИВИТа, выехал в Саяны. Он торопился, потому что перед отъездом состоялся у них с Михалычем решительный разговор. – Если дам нужную отметку, берете? – спросил Володя. – Ты сначала дай отметку, – пробовал отшутиться Кошурников. Он пока не верил, что может быть такое счастье. – Там посмотрим. – Нет, я хочу знать, – настаивал Володя, а потом рассмеялся. – Седло разрою лопатой, но дам отметку. Возьмете? Он был почти уверен, что Кошурников включит его в казырскую группу, если через Салаирский хребет можно пробить тоннель. Через неделю он радировал с водораздела Идеи – Кишта: «К работе приступил. Чую, что возьмете меня на Казыр, поэтому сушу сухари. Когда выезжаете?» Но отъезд задерживался. Надо было скомплектовать еще одну изыскательскую партию для работы в районе Нижнеудинска, сделать предварительное камеральное трассирование варианта, изучить по имеющимся источникам район работы, экипировать экспедицию. Выяснилось, что никто из бывалых людей Новосибирска по Казыру не ходил, а карты, которые как-то могут помочь в работе, сняты еще в 1909 году. Кошурников хорошо понимал сложность задачи, он писал в пояснительной записке к смете: «Немногочисленные экспедиции, которые проходили Центральные Саяны, всегда сопровождались человеческими жертвами – в порогах при сплаве на плотах, при переправах через реки, в горных обвалах и лавинах». Удивительный был этот человек! Перед каждым новым трудным делом Кошурников преображался. Забывалось, отодвигалось на задний план все – и семейные неурядицы, и муки предыдущей работы, и постоянное тягостное ощущение того, что живешь не так, как надо бы, делаешь не все, что можешь. Одно оставалось, главное. И пусть тугие двери, пусть крутые лестницы! Как раз за эти вот минуты, когда летит сердце и цветет душа, он и ценил жизнь… Так было и теперь – для него все перестало существовать, кроме подготовки к экспедиции. Но трудности, с которыми он столкнулся сейчас, были необычными. Бывалые изыскатели и геологи помнят, что стоило в те годы снарядить далекую экспедицию. Все шло на запад, где решались судьбы Родины. А здесь был на строгом учете каждый килограмм крупы, каждая буханка хлеба. Недели проходили в хлопотах, а изыскателям еще многого недоставало. Только в конце лета в партию Козлова выехал Алексей Журавлев. Но он вынужден был задержаться в Нижнеудинске. Оттуда Журавлев писал жене, тоже молодому изыскателю: «Ох и надоело мне ходить по всем начальникам, маленьким и большим! Из-за несчастных топоров бегаешь 2–3 дня, а если что-нибудь поважнее, так и того больше. В общем, трудно сейчас оснащать экспедицию. Очевидно, в конце августа – начале сентября отправляюсь в тайгу. Договорился здесь, что тебя возьмут в партию № 1. Работы тут много». Задержку вызвали особые строгости военного времени. Экспедиция должна была работать вблизи государственной границы, и не могло быть речи о том, чтобы получить разрешение на пользование рацией. Да и пропуск в пограничный район оказалось достать не просто. 1 сентября Алеша сообщал в Новосибирск: «Вчера наконец-то получил пропуск. Но, как назло, испортилось небо – низкая облачность, дождит. В общем, нелетная погодка была. Сегодня, правда, солнышко показалось. Если продержится так, завтра, возможно, улетаю на прииск Покровский, а там к начальному пункту нашей работы – к Верх-Гутарам». Алеша вылетел в Саяны и вскоре был уже в Верх-Гутарах. А Кошурников все сидел в Новосибирске. Не было обуви. Он писал другу: «Сколько еще просижу здесь – неизвестно. Главное, что не могу поехать без сапог, на остальное бы наплевал». Сейчас, может быть, смешно, что такая важная экспедиция задерживалась из-за пустяков. Но мы, наверное, подзабыли войну и не учитываем, что победы на фронте давались дорогой ценой, что железный режим экономии пронизывал тогда все закоулки сложного народного хозяйства, касался каждого человека. Это было время, когда в столовые ходили со своими ложками, в гости – со своим хлебом, когда иждивенец получал на день триста граммов хлеба, да и тот был с примесью картошки, проса и еще каких-то остьев, которые царапали горло. Сахар тогда был желтый, крупнозернистый, а его месячная норма уничтожалась, бывало, за один присест, промтоварные карточки не всегда отоваривались, и на толкучих базарчиках платили бешеные деньги за коробку спичек, обмылок, стакан соли. Нелегко доставалось тогда лесным бродягам – изыскателям и геологам. Не секрет, что нередко приходилось им отправляться в тайгу в обуви на деревянном ходу. Перед отъездом Кошурников получил письмо от отца, который тоже уехал из Новосибирска на восток, – неугомонный старик подрядился спроектировать подъездные пути к какому-то эвакуированному заводу. «Сын! – писал он. – Я узнал, что ты идешь в Саяны. Интереснейшее задание! Надеюсь, не подкачаешь. Смотри, будь мужиком! Что я еще хотел тебе сказать? Да! В Ачинске у дежурного по станции я оставил для тебя свой спальный мешок, по пути заберешь. Хотя ему много лет, однако он еще крепкий, на теплом собачьем меху. Больше нечем помочь, извини». Оставив Костю Стофато заканчивать дела, Кошурников наконец выехал. В Ачинске он отстал от поезда, чтобы взять отцовский подарок, а через день был уже в Нижнеудинске. Здесь он продолжил дневник, который начал вести в поезде. «17 сентября Приехал в 6 часов утра. Сразу задержала милиция для выяснения личности – шел по путям. В Нижнеудинской изыскательской партии полная бесхозяйственность. Нужно будет наладить дело. Исключительно плохо с питанием. Совершенно не использованы резервы местного снабжения. Имеется рудоуправление (завтра зайду к ним), у них свое хозяйство, есть на Бирюсе база. С ними никто из изыскателей не познакомился, в райкоме, в райисполкоме никто не был – игнорируют местные власти и партийную организацию. Так далеко не уедешь. Был у секретаря райкома, у него застал председателя райисполкома; в короткой беседе обрисовал цель и назначение нашей дороги. Очень заинтересовались, обещали помогать. Получил для партии бумажку за подписью председателя райисполкома к местным организациям об оказании помощи рабсилой, транспортом, жильем и пр. Проживу здесь дней пять-шесть, оживлю их работу, иначе нельзя. Они технически неверно приступили к работе. Вместо рекогносцировочного обследования железной дороги на Бирюсу занялись трассированием подхода к Нижнеудинску. Если бы не приехал сюда, провал работы партии № 1 был бы неизбежен. Выяснил, что получение пропуска Стофато связано с большими трудностями, нужно запрашивать Иркутск. Дал телеграмму оформить его в Новосибирске. Вероятно, он приедет дней через шесть. Уеду без него – пусть догоняет. Получил от Журавлева письмо из Верх-Гутар. За партию № 2 спокоен: работу сделают. Хорошие, надежные люди. Нужно помочь им только своим вниманием и присутствием. Дал телеграмму, что нахожусь в Нижнеудинске и скоро еду к ним. Будут хорошо работать». Но телеграмма не застала Алешу, он выехал к Володе Козлову в партию № 2, которая работала на Салаирском хребте Агульских белков. Изыскатели этой партии уже подходили трассой к перевалу. Им надо было выяснить важнейший вопрос: как высоко лежит перевальное седло, можно ли бить сквозь хребет тоннель. «18 сентября Был в Госбанке, получил перевод на 5000 рублей. Очень приветливо встретил меня управляющий. Большой патриот Нижнеудинска. По-детски наивно упрашивает меня дать выход железной дороге именно на Нижнеудинск, а не на Тайшет. В Верх-Гутары директору Саянского соболиного заповедника Громову написал рекомендательное письмо с просьбой оказать мне содействие». «25 сентября Больше недели просидел в Нижнеудинске. Настроение вообще скверное, основная причина – волокита с пропуском Стофато. Из-за нее может сорваться поездка по Казыру. Очень плохо, что время идет и наступают холода. По замерзающей реке не поеду – слишком большой риск. Написал об этом жене – она-то будет рада…» Послал он письмо и сыну Женьке. Парнишка ходил только в пятый класс, но Кошурников уже разговаривал с ним как со взрослым: «Поздравляю с днем рождения. Теперь ты уже, можно сказать, мужик. Я задержался в Нижнеудинске. Завтра утром вылетаю самолетом на Покровский прииск. В Саянах постараюсь купить тебе на зиму унты и Нинке тоже. Если задержусь, то, возможно, вернусь назад. Будь умником. Отец». Надежда Андреевна ответила: «Хорошо, если бы ты вернулся. Правда, ты мечтал об изысканиях в Саянах, говорил, что раз в жизни такое выпадает. Но я бы не беспокоилась, что ты там замерзнешь, и была бы только рада…» Но будет ли рад он? И как это не поехать? Ведь экспедиция могла на год раньше определить направление важнейшей сибирской магистрали! На Тайшет пойдет дорога от Абакана или на Нижнеудинск? Последний вариант был очень привлекательным – более короткая трасса долго шла вдоль Казыра, который тысячелетия прокладывал себе путь в горах. Можно ли построить дорогу по казырской долине, и сколько она будет стоить? Как проложить железнодорожное полотно через Тофаларию, по поднебесью? Есть ли там строительные материалы, местная рабочая сила? Удастся ли пробить тоннель через Салаирский хребет? Не будет ли он чрезмерно длинным? Осилят ли строители сложный горный район у главного казырского порога Щеки? На эти вопросы должны были ответить три инженера, пройдя Саяны насквозь. Ожидая Стофато, Кошурников не терял времени даром. Он облетал на самолете участок нижнеудинской партии, сделал аэросъемку и обработал ее результаты. Но ждать было уже нельзя. Тревожили метеосводки, поступающие из Саян. На перевалах уже лежал снег. Если зима спустится в долину Казыра – поездка не состоится, ответственнейшее задание будет сорвано. «26 сентября Вылетел из Нижнеудинска в 7 часов утра по местному времени. Затолкали меня в брюхо самолета и закрыли крышку. Противно, едешь как в гробу. Обидно, что ничего не видно. Хотелось посмотреть для общего знакомства, но ничего не поделаешь. Прилетел в Покровск с восходом солнца. Местность очень оригинальная. Чувствуется большая высота. Растительность скудная, преимущественно лиственница. Травяной покров жиденький, много мха, часто на поверхность выступают камни. 19 сентября здесь выпал глубокий снег и в затененных местах не стаял до сегодня. В тени днем температура держится ниже 0°. На солнце жарко даже в одной рубашке – характерно для высокогорной местности». Кошурников нанял на прииске лошадей, уложил в мешки снаряжение. Кости все не было. Может, он вообще спасовал? Жена у него как будто ждет второго ребенка. Но ведь и у Кошурникова двое. Алеша тоже оставил маленького сынишку и давно уже в горах… Начальник экспедиции рассеянно бродил вокруг поселка меж тонких корявых лиственниц, пинал сапогами камушки, с надеждой поглядывал на небо. К вечеру тучи сгустились, закрыли гольцы. Пошел мелкий снег. Пропал еще один день. «28 сентября Был у директора прииска. Получил необходимые сведения об условиях работы. Транспорт только зимой, нагрузка на лошадь 350 килограммов. Рейс Нижнеудинск – Верх-Гутары 7–8 дней. На одну транспортную лошадь нужно вести одну лошадь с фуражом, чтобы хватило на дорогу туда и обратно. Самая хорошая дорога в декабре и до половины января, потом появляются наледи на реке Бирюсе. Местной рабсилы нет. Нужно ориентироваться исключительно на привозную. В Покровске есть метеорологическая станция, существует с 1937 года. Одновременно с ней открыты метеостанции в Алыгджере и Верх-Гутарах. Есть метеостанция в Нерое. На Бирюсе гидроствор установлен в 1941 году. Ныне створ пронивелирован, установлены два водпоста, по которым ведутся регулярные наблюдения за температурой воды и горизонтом. Расходы не определялись. Все данные по этим станциям нужно запросить и получить из Иркутска. Вчера весь день была пасмурная погода, шел мелкий снег. Внизу выпал и стаял, на горах держится. Сегодня облачно, однако самолеты летают – облачность высокая. Осадков нет». Назавтра совсем прояснилось. Кошурников побрел к длинной поляне над рекой, куда садились самолеты. Костя прилетел со вторым рейсом. Кошурников видел, как он потер занемевшие плечи, повертел своим греческим носом по сторонам. Заметив начальника, изменил выражение лица. – О, Михалыч! Привет! Дали мне все же пропуск. Кошурников в восторге схватил Костю за плечи. Ему стало стыдно, что он мог подумать о Косте плохо. Спросил: – Родила? – Да нет еще. – Косте было очень приятно, что начальник поинтересовался этим. – Куда мы направим свои стопы теперь? – В Тофаларию, – кивнул Кошурников на гольцы. – А что это такое? – Вроде Тибета, только поменьше. Все государство – пятьсот душ. Живут, как боги, под самым небом – оленей разводят, белку бьют… – Журавлев там? – Алешка еще дальше, на главном перевале. – Кошурников потянул цепочку увесистых часов. – Пошли, Костя, времени у нас в обрез… До Тофаларии было недалеко. «2 октября Из Покровска выехали 29 сентября. Выехали поздно. Доехали до нижнего брода через реку Мурхой и ночевали. Вдоль Мурхоя тропа ниже третьего брода идет около 5 километров, после чего поворачивает влево на водораздел Мурхой – Гутара. До подъема на водораздел тропа сухая, легко проходимая. Начиная с водораздела и до Гутарских озер тропа топкая, почти на всем протяжении настланы сланцы, которые местами разрушены и непригодны для езды. Здесь объезжают стороной по топкому болоту. Лошади идут с трудом. Тропа не разрублена, и с широким вьюком пройти по ней трудно. Пересекая три частых водораздела, тропа подходит к Гутарским озерам. Эти озера расположены в котловане на водоразделе Мурхой – Гутара и имеют сток в обе долины. Между собой озера имеют сообщение. Дно каменистое, на отмелях поросло лопушником. Рыба не водится. Говорят, что со дна выделяются какие-то газы, и рыба дохнет. На озерах много уток. Поселок тофов расположен на левом берегу реки, на широкой надпойменной террасе. В поселке около двадцати пяти дворов. Дома хорошие, рубленные из лиственницы. Русских печей нет». Про Тофаларию Кошурникову рассказывали, будто там нечего делать милиции и судье, так как преступлений испокон веков не бывало. Все племя состоит из пятисот человек. До революции оно вымирало, а сейчас тофы не болеют, и врач томится без клиентуры. Тофские семьи очень дружные, и разводов якобы совсем не бывает. Дома в Тофаларии не запираются, и замков тут нет. О честности тофов ходят в Саянах анекдоты. После революции племя очень удивилось, что никто не требует с них ясак. Тофы сами тогда послали пушнину в Москву, но она вернулась. Новая жизнь пришла в Саяны… Здесь, в тофаларском поселке Верх-Гутары, Кошурников предполагал быстро завершить подготовку к экспедиции, но не вышло. Он шел по поселку своей стремительной походкой с ружьем и рюкзаком за плечами. – Ружьишко-то придется сдать, товарищ! – остановил, его какой-то человек. – Прошу со мной. – Полегче, полегче, – Кошурников поправил ремень своей бельгийки. – Кто вы такой? – Начальник охраны соболиного заповедника. По нашей территории с ружьем нельзя. – Так мы же в Казыр идем, милый человек! Как можно туда без ружья? Медведь наскочит, а то еще и кто пострашней. Время-то какое… – Знаю. Однако я разрешения дать не могу. – А кто может? Мы же спешим. – Громов, исполняющий обязанности директора. Но он в горы ушел и оставил строгий приказ – никаких исключений. Пройдемте со мной. «Я не получил разрешения на провоз ружья. Директор заповедника Громов ушел в тайгу, так что повидать его не удастся. Даже острогу не разрешают взять. Головотяпски-бюрократическое отношение работников заповедника к экспедициям, работающим в этом районе…» – Может, дать ему надо, Михалыч? – спросил утром Костя. – А вот за это я до войны морду бил! – Кошурников с трудом взял себя в руки. – Я сейчас доставлю сюда этого охранника… Он развязал мешки, стал доставать оттуда припасы экспедиции. Начальник охраны сначала отказывался идти к изыскателям. Но скоро понял, что этот кряжистый решительный человек не шутит, грозясь утащить его на себе. Пришлось согласиться. Дорогой разговора не получилось. – Без Громова я все равно ничего не смогу. – Бюрократ ваш Громов! – отрезал Кошурников. – Зимой я снова здесь буду, поговорю тогда с этим дуроломом, исполняющим обязанности. – Так соболь же, валюта, – тянул начальник охраны. – С нас тоже требуют. Соболь – это же… – Нужны мне ваши соболя! В избе, где остановились изыскатели, лежали на лавках сухари, соль, крупа, спички, ножи, хлеб, дробь, порох и другие припасы. Кошурников шепнул Косте, чтоб тот вышел и подпер дверь колом. – Ищите! – потребовал Кошурников, когда они остались вдвоем. – Чего искать? – не понял гость. – Ищите, чем я могу соболя добыть! У нас же только «жакан» на медведя да крупная дробь. Соболя в клочья разнесет. Отдайте ружье, иначе не выпущу отсюда. – С меня же Громов шкуру спустит, – грустно сказал пленник, опускаясь на скамью. – Ну, видно, ваша взяла… В тот же день возникло новое затруднение. «3 октября С нашим продвижением дальше дело осложняется. Нет проводника, а без него я на оленях ехать не берусь – не умею с ними управляться и за ними ухаживать. Оленей дают, а вот проводника нет. Дело плохо. Для поездки имеем весьма ограниченное снаряжение. Продовольствие: сухарей 30 кг, хлеба 20 кг, крупы перловой 5 кг, масла 2 кг, сахару 4 кг, соли 7,5 кг, табаку 1,3 кг, чаю 100 г, спичек 50 коробок, спирту 750 г, омуля 2,3 кг, перцу 200 г, лаврового листа 3 пачки, луку 1,5 кг, мыла 0,5 кг и кусок туалетного, мяса соленого возьму на дорогу в колхозе 5 кг. Имею ружье 12-го калибра, при нем патронташ заряженных патронов, 400 г пороху и 2 кг дроби. С одеждой благополучно. Нет палатки – не дали в Новосибирске. Спальные мешки не беру сам – громоздко. Очень плохо с мешками. Из Новосибирска не получил ни одного мешка. Не знаю, как буду вьючить. Имею 1 топор, 1 пилу поперечную, 1 долото, 4 ножа, 1 кастрюлю (котелков и ведер в Новосибирске не дали), 2 кружки, 2 ложки. Имею 4,5 кг манильского каната (40 метров). Нет остроги и „козы“, возможно, из-за этого придется немного поголодать, так как на охоту я не особенно надеюсь». С гор подул холодный ветер. Зима уже опалила своим дыханием древесную листву, и осенние цветы вокруг поселка пожухли, не успев отцвести. До позднего вечера Кошурников ходил по поселку. Мешков он насобирал кое-каких, но успех дела зависел сейчас от проводника. Нет, не находилось человека, который бы решился сопровождать экспедицию в ее долгом пути по Казыру. Старые тофы отказывались. – Казыр? Шайтан-река? Нет. Идут туда люди и пропадают. – Но ведь государственное же задание! – доказывал Кошурников в правлении колхоза. – Приказ Москвы. – Старики прослышали, что железную дорогу сюда тянуть будут, – и в кусты, – объяснил председатель колхоза. – Белку, говорят, распугают инженеры, кедрачи погубят. Пошел бы я с вами… – Так пойдемте! – обрадовался Кошурников. – До зимней охоты далеко еще. Идет? Все, что мое, – ваше. – В Казыре я не был, но среди оленей с детства. Не могу я идти по другой причине. Предупредили меня – на фронт скоро. Так что не белок зимой стрелять придется. Сами знаете, что сейчас под Сталинградом делается. Однако помочь вам необходимо. «4 октября Воскресенье. Пишу, чтобы не сбиться в счете дней. Вчера договорился с проводником. Берется проводить Холлмоев Александр Иванович. Старик 57 лет. В Казыре не бывал, но мне главное, чтобы ходил за оленями. Договорился с ним на кабальных для меня условиях: 16 рублей в день, из которых половину колхозу, а половину ему на руки; бесплатное питание во время пути туда и обратно, доставка его с провожатым от Абакана до Нижнеудинска с посадкой на самолет; кроме того – и главное, – обязан дать ему бесплатно в Абакане полушубок и пимы. Дорого будет стоить мне этот Александр Иванович! Но ничего не поделаешь, придется часть расхода отнести за счет мяса. Ехать нужно, и с этим считаться не приходится. Заключил с колхозом договор, в котором перечислены все эти пункты, получилась довольно оригинальная бумага. Сегодня председатель колхоза преподнес мне счет за оленей. Оценил по 900 рублей штуку, а когда пил мой спирт, то обещал отдать по 700 рублей. Отпустил из кладовой колхоза 3 кг масла топленого из оленьего молока по 28 рублей за килограмм. С виду масло как масло, а на вкус мне не понравилось – какой-то специфический вкус, вернее, запах. Зверь – он зверь и есть. Председатель колхоза дал мне острогу. Имеет два недостатка: 1) трехзубка – годится преимущественно на крупную рыбу и 2) сломана трубка. Теперь почти всем обеспечен. Подобрали 9 оленей и упряжек к ним. Плохо обстоит дело с сумами, имею только две пары, а набирается 5–6 вьюков. Придется все везти в мешках, а это гиблое дело. Я буквально остался без гроша в кармане. Призывали в армию председателя колхоза, пришлось дать ему 1000 рублей, да на 1000 купил всякого барахла, 1000 взял Костя и 2000 истратил по дороге за проезд, аэросъемку, продукты и пр. Завтра выезжаем». Кошурников спрятал дневник, придерживая стекло, поболтал керосин в лампе, начал писать письма. «Здравствуй, друг, и до свиданья! Завтра в путь. Уезжаю с чувством полного успеха. Надеюсь Казыр проскочить быстро. Постараюсь сократить остановки…» «НЕ МОГУ Я ПОГИБНУТЬ…» Одно радует, что прежняя энергия меня не покидает. Отправляясь в путь, изыскатели не знали, есть ли вдоль Казыра какая-нибудь дорога или хотя бы охотничья тропа, благополучно ли пройдут по долине олени с грузом. Инженеры не могли точно сказать, за какое время преодолеют они расстояние до Абакана. Абакан, собственно, был лишь конечной, а не главной целью. Добраться бы только до первого селения на Нижнем Казыре! Ведь все сложные и неясные вопросы, связанные с изысканиями и строительством будущей дороги, разрешались в безлюдной горно-таежной местности между Верх-Гутарами и пограничной заставой. Крайний срок, который установил Кошурников для выхода к жилью, истекал 20 октября. Он сообщил в Новосибирск, чтобы до этого момента о нем не тревожились. В распоряжении экспедиции оставалось полмесяца… Поздно вечером накануне отъезда Кошурников узнал, что в поселке появился еще один работник заповедника – единственный в Тофаларии человек, который бывал на Казыре. Оказалось, что Колодезников только что вернулся из тайги смертельно уставший, голодный и не мог держаться на ногах. – Завтра, все завтра, – бормотал он сквозь сон, поматывая жесткой бородой. – Бриться завтра, в баню завтра, дела завтра. Кошурников тряхнул его за плечи, приподнял на руках. – Спишь? Слушай, товарищ! Проснись! Нам же выезжать надо. Война же, пойми… – А? Что такое? – Колодезников с трудом приходил в себя. – Да отпусти ты меня! Держишь как малого ребенка… Кошурников коротко высказал свои сомнения. – Издохнут! – услышал он категорический ответ. – Жрать в Казыре оленям нечего. Мы с Громовым сплавлялись на плотах. Несколько порогов непроходимы вообще, бросать плот придется. Заходите завтра утром, расскажу подробнее, а сейчас не могу. Прости, товарищ… Утром быстро приладили вьюки, и караван тронулся вдоль реки Гутары. Широкая битая тропа постепенно поднималась в гору. Олени шли ходко. Только в одном месте задержались, когда замыкающий олень, обходя камень, порвал мешок. Посыпались по крутому косогору драгоценные сухари. Пришлось собирать их, ползая между камней, зашивать гнилой, подопревший мешок, снова вьючить оленя. Кошурников всю дорогу с любопытством осматривал местность. Опытный глаз подмечал мельчайшие детали. Радовало, что долиной Гутары было довольно удобно тянуть дорогу. 
«5 октября. Понедельник Наконец-то отправились по основному маршруту. Выехали в 12 часов дня по местному времени и остановились на ночлег в 6 часов вечера. Проехали 23 км, по словам проводника Александра Ивановича да и по-моему тоже. Нижняя терраса реки поросла ерником, заболочена, налицо все признаки вечной мерзлоты. Чем ближе к Идену, тем беднее слой рыхлых отложений. Сверху все покрыто лесным мхом. Лишь на небольших отдельных участках можно встретить незначительные участки грунта, пригодного для земляного полотна. Во всяком случае, здесь следует ориентироваться на продольную возку земли при средней дальности до 1,2 км. Строительный камень есть на всем протяжении. Песок встречается на первой террасе. Качество – чистый, кварцевый, средне – и крупнозернистый. Строевой лес – лиственница – на всем протяжении». – Не разбегутся? – спросил вечером Кошурников проводника, когда тот пустил оленей в листвяг. – Без привязи-то, Александр Иванович, а? – Оннахо, никуда не денутся, – ответил старик, не поворачивая от костра своего темного и неподвижного лица. Слово «однако» он, как все сибиряки, очень любил, но произносил его по-своему. – Мха тут много, оннахо… – А спят они когда? – Оннахо, никогда не спят. Это же не человек, – он кивнул на Костю Стофато, который устал за день и сейчас спал у костра. Молодому инженеру явно не понравился этот доисторический транспорт. Всю дорогу Костя ерзал на олене, будто ему больно было сидеть, а один раз даже свалился с него. На рассвете пошел густой снег. – Ладно ли? – сказал проводник, который почти всю ночь бесстрастно курил у костра. – Не поедем, оннахо… – Поедем. Верно, Костя? Стофато ничего не ответил, пожал плечами. Пока кипятили чай и вьючили оленей, выглянуло солнце, жаркое, как всегда в горах, и быстро растопило снег. Приток Гутары – река Иден стремительно сбегала с хребта. Везде тут был камень. Пенистые струи Идена пришлифовались к своему каменистому ложу и стремительно скользили вниз, к Гутаре. Олени сейчас ступали осторожно, чтобы не поранить копыта об острые камни. По склонам тоже лежали сыпучие курумники, то и дело караван преодолевал неустойчивые и опасные каменные окаты. Как тут тянуть дорогу? Конечно, если только Иден имеет такую долину, то ничего. А вдруг каменные россыпи и вдоль Малой Кишты и вдоль Казыра?.. – Не шибко идет олень-то твой, – спокойно сказал проводник, и Кошурников вздрогнул. – Скоро он, оннахо, ляжет. – Почему? – спросил Кошурников, почуяв неладное. – Тяжелый ты, начальник, оннахо, – сказал Холлмоев. Олень и вправду вскоре лег. Его подняли, но он снова лег через сотню метров. – Не дойдет, – сказал проводник. Тропа брала все круче. Кошурников шел пешком рядом с оленем и с волнением разглядывал рисунок хребта на горизонте. Вот он, этот Салаир! В Новосибирске начальник экспедиции пытался по темно-коричневым разводам десятиверстки зрительно представить себе контуры хребта. И сейчас он с удивлением и надеждой смотрел на горизонт – ему казалось, что он уже когда-то видел эти горы, и эту низкую падь впереди, и это серое небо, срезанное полукружьем седла. Где-то за седлом Иден – Кишта караван поджидал Алеша Журавлев. Там же, в дремучей тайге, работала группа изыскателей, среди которых был друг и ученик начальника экспедиции Володя Козлов. Ребята, наверно, уже выяснили, можно ли пройти перевал тоннелем, – за день до отъезда Кошурникова из Новосибирска Козлов предупредил его по радио, что это окончательно станет ясно через две недели, а прошло уже три. Козлов умеет держать слово. Только бы не отрицательный результат! А вдруг ребята делают напрасную работу? Мог же он ошибиться, послав их в это седло. И где гарантия, что не соврали старые карты? Вот и перевал. Здесь особенно чувствовалось приближение зимы. Уже затянуло льдом озеро, из которого вытекала Малая Кишта, а снег плотно прикрыл скудный лишайник. Этот нехороший признак недолго тревожил Кошурникова. Начальник экспедиции был счастлив сейчас. Десятки раз за свою жизнь он поднимался на перевалы, но никак не мог привыкнуть к этому – его всегда по-новому захватывало необъяснимое чувство торжества, и будто бы прибавлялось сил, и кровь будто бы становилась свежее и чище. Он услышал, как охнул сзади Костя. Кошурников обернулся. Стофато замер на олене, будто изваяние, и смотрел безотрывно и жадно на панораму, что открылась с хребта. Небо раздвинулось вдруг, открыв необъятные дали. Глаз не задерживался на сизых вершинах у края небосвода, его тянуло вниз. Тайга, казалось, имела бездонную глубину. Темно-зеленая бездна притягивала и пугала. По ней бродили черные тени. …Нет, бесспорно, это самое низкое седло Салаира. Неужели тут нельзя будет пробить короткий тоннель? Знать бы сейчас отметку в метрах! Ведь от нее зависит вся дальнейшая работа экспедиции, судьба варианта. Козлов уже, должно быть, определил отметку и теперь сидит в палатке, ждет меня. Но нет, это не такой парень, чтобы сидел сложа руки. Если слишком высокое седло, он бы уже двинулся навстречу. Но его нет. Где же он? Конечно же! Узнаю Володьку. Он получил положительный результат и не теряет даром времени – врубается в тайгу, тянет теодолитный ход к Казыру. Постой, а может, это только мои мечты? Но если так, то лучше Козлова никто не привяжет трассу к долине Казыра. Не придется брать его с собой, хотя бой он даст – только держись… Кошурников тронул своего усталого оленя, обернулся к Косте: – Первый раз на перевале? – Первый, Михалыч! – Костя был возбужден. Он догнал Кошурникова, поехал рядом, не сводя глаз с глубокой долины. – Там Казыр, Михалыч? – Вон он, – Кошурников показал на черную полосу далеко внизу, прикрытую едва заметным серым туманом. – Скоро тайга начнется. Где-то тут недалеко лагерь наш… Солнце уже склонялось к закату, когда изыскатели въехали в тайгу. Быстро кончилось мелколесье, и караван обступили толстые стволы, похожие на чугунные колонны, глубоко и прочно вкопанные в землю. Костя крутил головой по сторонам, то и дело вскрикивая: – Вот это елка! Вот это деревцо! Михалыч, вы только посмотрите, какая елка! – Какая же это тебе елка? – усмехнулся Кошурников. – А что же? – Лиственница. Это надо знать. – Зачем? – Некоторые ее свойства нам полезны. Кошурников мог бы прочитать о каждом таежном дереве целую лекцию. Взять ту же лиственницу. Кошурников любил это могучее дерево за его удивительную жизнеспособность. Есть вода – растет, нет воды – растет. От Монголии до Чукотки растет. Хвоя нежная, шелковистая. А хитрое дерево до чего! Прет метров до сорока, хотя держится за поверхность земли. Кажется, что зимой повалит его ветер, но не тут-то было – «листвяг» сбрасывает осенью хвою, и ветер пронизывает его насквозь. Смолы из нее, как из бочки, поэтому причалы строят из лиственницы – не гниют. Кержаки первые накаты изб делают тоже из нее, а самые закоренелые в своей вере старики загодя долбят из лиственницы колоды-домовины – двести лет будет лежать в ней запасливый кержак, не боясь тлена и червя. Лиственнице цены нет, потому что древесина у нее прочна и упруга, из коры можно делать дубители, а из смолы – «венецианский терпентин», но не дается она человеку. По рекам плавить нельзя – тонет, а вывозить тяжело: могучие «листвяги» окружают себя настоящим защитным валом из вывороченных ветром деревьев. Иногда такие валы тянутся на десятки километров, и даже сам черт там сломал бы ногу, если б вздумал заняться лесозаготовками… Кошурников улыбнулся и сказал Косте: – Для костра лиственница хороша. Вот когда оборвешься в тайге и захочешь одежду починить – пали почем зря лиственницу. Горит ярко и совсем искры не дает. Смола! – Понятно, – отозвался Стофато и вскрикнул: – А вот это уже точно елка! Теперь-то я вижу разницу. – Ты считаешь, что это елка? – спросил начальник экспедиции. – Конечно. – Это пихта. – А какая разница? – Огромная. Смотри. Вот тебе елка и вот пихта. У пихты хвоя темнее, мягче, а кора глаже и синего цвета, чуешь? К воде тянется она. Древесина мягкая, как репа, и на плот годится. А в ветках хорошо ноги парить от ревматизма… Кошурников замолчал. Снова им овладели мысли о дороге. «Если перевал не преграда, то долину соседней реки Кизира исследую на будущий год только для того, чтобы подтвердить этот вариант – уж больно он соблазнителен! Придется, наверно, и в обход Центрального Саяна, по северным хребтам, провести рекогносцировочные изыскания. Но это уже пустяки. Где же лагерь? Уже темнеет. Что это там за дымок? Конечно, это они. Только вот олешек мой совсем выбился из сил. Привязать его тут, что ли? Завтра пошлю кого-нибудь за ним». – Лагерь! – крикнул он. – Километров пять отсюда. – Дойдем, оннахо, – сказал подъехавший проводник. И взглянул на головного оленя. – Нет, не дойдем. Запалится оленка… «6 октября. Вторник Выехали утром в 10 часов. По дороге случилась одна неприятность: олень, который шел подо мной, два раза ложился, а на третий раз лег – и поднять его не могли. Пришлось расседлать и пересесть на резервного, а этого беднягу оставили привязанным к кустику ночевать. Завтра за ним отправятся от Козлова и переведут его на мясо, если за ночь не сдохнет. Хороший был оленка! Верховья Идена неблагоприятны для проведения железной дороги – все дно долины и борта заполнены курумником, покрытым мхом. Растительный слой почти совсем отсутствует. В 3 часа дня перевалили через основной Салаирский хребет в седле Иден – Кишта. Ярко выраженное седло, ниже хребта на 500–600 м. Отметка седла – 1557 м, то есть то, что я и ожидал. Оказывается, я угадал, в какое седло идти. Еще раз в жизни повезло! С этого момента становится вполне реальным нижнеудинское направление. Теперь остальные ходы нужны только для оправдания правильности выбранного направления. У Козлова работа идет хорошо. Объявил ему в приказе благодарность. Козлов очень огорчен тем, что не беру его с собой на Казыр. Мне его жалко, но если его взять – провалится так хорошо начатая работа». Проснулся Кошурников рано, оглядел в полутьме палатку. У изголовья увидел бритву в стареньком футляре и осколок зеркала. «Молодчина Володька! – подумал он. – Спасибо тебе». Стараясь не шуметь, выполз наружу. Костер уже погас, но кострище было теплым, под серой золой тлели угли. Кошурников разгреб пепел, погрел руки, огляделся. Козлов умел выбирать место для лагеря. Рядом бежал ручей с чистой горной водой, крутой склон защищал лагерь от ветра, две палатки стояли под высокими, сомкнувшими кроны кедрами. Вокруг палаток были выкопаны канавы для стока дождевой воды. Кошурников все лето не был в тайге и сейчас наслаждался привычной обстановкой. Он медленно направился к ручью, приспособил на камне зеркальце, не спеша намылился. Вчера некогда было бриться, да и темнело уже. К тому же в лагере они никого не застали, все были «в поле». Не дожидаясь хозяев, Кошурников начал варить суп. Козлов со своими ребятами пришел уже в темноте. Студенты устало воткнули топоры в пенек, присели у костра, во все глаза разглядывая начальника экспедиции, о котором они так много слышали. Алеша Журавлев радостно отчитался о своей работе и устроился поодаль с Костей, рассказывая ему о здешних местах. А Кошурников, стараясь не показать радости от встречи с Козловым, хлопотал с ужином. – Уж я вас угощу, ребята! Вы такого супа даже у мамы не ели. Вот только погодите – заправлю маслом сейчас, и порядок. Студентам казалось странным, что начальник, можно сказать важнейшей сейчас в стране изыскательской экспедиции, у которого в подчинении сотни людей, готовит для них суп, хотя и несолидно это, и, должно быть, устал он с дороги. Понимал Кошурникова один Володя Козлов. Сдержанно улыбаясь, он не сводил влюбленных глаз с начальника, приговаривающего у костра: – Вот сейчас лучку еще туда покрошить, да лаврового листа сбегаю принесу. А потом телогрейкой котел обернуть, чтоб упрел суп, – языки проглотите! Кошурников весь светился радостью. Ведь он по двум-трем словам Володи понял, что перевал можно пробить тоннелем, что партия уже ведет теодолитный ход к Казыру и вариант, таким образом, начинает жить, а все остальное трын-трава. Когда все уснули, от костра долго еще доносились два приглушенных голоса. Козлов о чем-то просил, умолял, а Кошурников терпеливо и ласково убеждал товарища… Светало медленно, потому что не так-то просто было солнцу выгнать темноту из всех таежных закоулков. Кошурников почуял, как потянуло дымом с горы, – туда ушел ночевать с оленями проводник. Сейчас он, наверно, продрог, проснулся и запалил огонек. Высоко, должно быть над вершинами кедров, запела какая-то пичуга, за ней другая. Кошурников умылся, шумно расплескивая воду, пошел к палаткам. Здесь он набрал воздуху в могучие легкие и запел приятным баритоном: На заре ты ее не буди — На заре она сладко так спит… Вылезли из палатки Алеша, Козлов, Костя. Один за другим выползали студенты. Начался новый день изыскательской партии. Завтрак готовил Алеша Журавлев, а все грелись у костра, курили, перекидываясь редкими словами. – Так как же, Михалыч? – в который уже раз спрашивал Володя Козлов, сидевший у костра, как вросший в землю кряж. – Может, все же… Кошурников любил своего воспитанника, трудно было отказать ему, но что поделаешь? А пригодился бы на Казыре Козлов: в работе он бешеный, силенка есть. Если б он не был так нужен здесь! Партии № 2 надо пройти до зимы теодолитным ходом к Казыру и, сколько успеет, по долине. Нет, нельзя брать Володю… – Так как же, Михалыч? А? – Слушай, ты мой спирт пил? – Ну, пил. – То-то! Я же всю дорогу мучился, тебе берег. – Кошурников засмеялся и обнял друга. – Старый крот! Слушай, сделаешь работу здесь, полную флягу зимой получишь. А со мной пойдешь – ничего не дам! – Да нет, кроме шуток, Михалыч… – Все, Володя! Прекратим этот разговор. Ребят этих сам протащу – я немало таких привечал. А тебе мы поможем привязаться к Казыру. Доволен? – Нет! – свел густые брови Козлов. После завтрака он ушел с теодолитом и топором в тайгу рубить просеку. Кошурников тоже подхватил топор и побежал догонять товарища. «9 октября. Пятница 7. Х Журавлев ходил фотографировать долину Кишты от перевала до лагеря. Снял седло и водопад. Я пошел на работу вместе с Козловым в качестве рубщика. Стофато с проводником перевозил лагерь. За день работы прошли теодолитным ходом 3,780 км фактически при одном рубщике (рубил я), немного помогал рубить передний реечник. Это при данной ситуации и рельефе очень хорошо. Вчера тоже за день прошли 2,900 – рубил Стофато. 6.Х прошли 3,700, рубил Журавлев. Сегодня идет Козлов с тремя студентами. Осталось пройти до Казыра метров 700. Долина Кишты в противоположность долине Идена гораздо мягче и лучше для трассирования; уже начиная с первого лагеря Козлова, в который мы приехали, по бортам долины имеются рыхлые отложения. По долине Малой Кишты наблюдал 6 окатов, из которых 4 с левого берега и 2 с правого. Окаты, очевидно, громадной силы, так как снег, скатываясь, заваливает всю долину и перекидывается на противоположный берег, поднимаясь над рекой на высоту до 20 м». Надо было ехать. Когда приладили вьюки и попрощались, Кошурников сказал Володе: – Будешь в Верх-Гутарах – возьми мой спальный мешок. Отцовский подарок. Правда, он старый, но греет хорошо. – Ладно. – Ты же знаешь, какой теплый собачий мех. – Ладно, спасибо. Может быть, Михалыч, все же?.. – Нет. Володя побежал в палатку, притащил какой-то мешочек. – Тут сухари. Берите. – Ты же от пайка своего отрывал! Не надо! – Берите. Ну, я провожу вас, Михалыч. И он, сумрачно смотря в землю, пошел рядом с оленем Кошурникова. Больше не сказал ни слова. Вдоль Малой Кишты тянулась заброшенная охотничья тропа, по которой и отправилась экспедиция. Алеша Журавлев бодро покрикивал на оленей, будто век ими правил. Подходил иногда к Кошурникову, говорил: – Сейчас каньон будет. Метров тридцать глубины, а в ширину пять. Речонка, бедная, хрипит там, как в удавке. – А следы окатов попадаются? – Нет. Лес густой по склонам. Снег держит. Через каньон работниками соболиного заповедника был переброшен мостик. Внизу в полусумраке глухо ревела река. Олени не шли на мост, тряслись, мотали рогами. – Оннахо, глаза им надо закрывать, – сказал проводник, звякая кресалом, – у него все время гасла трубка. Набросили телогрейки на головы животным, и они спокойно прошли по жиденькому настилу моста. Отсюда Володя Козлов вернулся. Когда он отошел, Кошурников поднял кулак над головой и крикнул: – Европа поднимется и скажет: ты хорошо роешь, старый крот! Володя слабо улыбнулся. Он стоял на мосту, пока последний олень не исчез в лесной чащобе. Тропа там пошла плохая. Олени часто спотыкались о корни деревьев, мешки цеплялись за сучья и пни, рвались. Приходилось останавливаться. В мешках была главная ценность – десять буханок хлеба и 30 килограммов сухарей. На четверых едоков, конечно, не густо, да еще при такой работе – то один, то другой изыскатель брался за топор, чтобы расчистить тропу. «Дорога тяжелая; разрублена в 1941 году, но не для транспорта, а для случайных поездок наблюдателей заповедника. Чтобы привести тропу в порядок для вьючного транспорта, необходимо местами изменить ее трассу и вообще расчистить шире. Сейчас по ней с трудом проходят олени с минимальным вьюком». Казыр встретил изыскателей шумом. В узкое горло река врывалась плотной, упругой массой, а потом разбегалась по камням, шипела, рычала, выкидывала на берег клочья пены. – Бешеная собака, – сказал Алеша. – Шайтан-река, – поддержал проводник, посасывая трубку, и добавил свое неизменное: – Оннахо… Дорога вдоль Казыра вскоре кончилась, перед караваном стеной стояла дикая, неприютная тайга. Иной бывалый сибиряк скажет, что тайга, мол, всегда и приветит, и накормит, и согреет, а дикой и неприютной она кажется городским жителям, да и то лишь тем, кто ее сроду не видывал. Эх, землячок! Одно дело, когда идешь по тайге гуляючи – пострелять рябчиков, глухаришек либо шишковать. Но другую песенку запоешь, если тебе надо протащить десяток олешек по бурелому и колоднику, если сыплется с каждой ветки холодный душ, и нет на тебе сухой нитки, да если ты еще спешишь при этом, будто уносишь ноги от верхового пожара… Тяжелее всех было Стофато. Костя уже не оглядывался по сторонам, шел, не отрывая глаз от земли. Ступал неуверенно, несмело. Черт его знает какая кочка выдержит, какая сломится! Где гнилое бревно, где здоровое? Как это Кошурников вышагивает – легко и свободно? Костя в первый же день проклял и кочки, и преграждающие дорогу квелые стволы, и оленей, что цеплялись вьюками за каждую колоду. Когда пошел дождь, холодный и шумный, Костя проклял дождь. Начали рубить ветки, чтоб расчистить дорогу каравану, – Костя проклял их. Скоро уже не осталось в тайге ничего такого, что можно было бы еще проклясть. Со злостью оттаскивал сучья, что обрубал Кошурников; сумрачно насупясь, перелезал через колдобины, с тоской думал о том, что впереди на многие километры такие же заросли и колдобины. Уже два часа подряд они прорубались сквозь сырой, заросший зеленым мхом ельник. Намокшая одежда стала тяжелой и холодной. Хотелось бросить все и, вернувшись по следу назад, поискать обходный путь. Но не будет ли там еще более густого ельника? На проводника положиться было нельзя – Холлмоев совсем не знал дороги, и польза от него была сейчас минимальной. Оленей приходилось чуть ли не толкать в кусты, потому что вьюки цеплялись за ветки, а животные не умели бороться с их упругой и неверной силой. Больно было видеть, как олень прыгал через колоду, но зацеплялся по пути за какой-нибудь сук и падал, рискуя сломать шею или ноги. Его поднимали, а он смотрел печальными глазами, будто спрашивал: «Зачем же вы мучаете меня, люди?» Хотя бы не было этого трижды распроклятого дождя, от которого уже начинает ломить кости! Кошурников шел впереди, работая топором, как машина, за ним медленно тянулся весь караван. Серое небо низко нависло над лесом, дождь приглушал звуки, не было видно ни птиц, ни зверюшек… – Э-хо-хой! – раздался вдруг в тайге далекий и слабый голос. – Кого это тут носит? – сказал Кошурников, опуская топор. Прислушался. – Дайте-ка ружье, ребята. Ясно, за ними шел какой-то человек. – Без оружия, – прошептал Костя, когда незнакомец мелькнул за деревьями. Это был пожилой тоф, изможденный и робкий. – Я проводник, а там начальник, – сказал он, махнув рукой назад. – Мы были далеко, камни искали. По вашему следу меня послали, хлеба нет давно. – Надо сходить, Михалыч, – сказал Алеша. – Наши люди. Кошурников кивнул головой, направился к вьюку, окликнул Алешу. Они двинулись обратно по просеке. Вскоре пришли к небольшому костру, у которого сидел человек. Высокий, сухой и морщинистый, он поднялся с трудом, протянул руку. – Громов. – Директор заповедника? – удивился Кошурников. – Нет, за соболем гляжу по совместительству. Геолог я. Все горы излазил, сейчас с Агульских белков иду. Приходится – война. Как там? – Туго. В Сталинграде бьются. – Уже в городе? – Да. Они помолчали. – А у меня к вам письмо есть, – вдруг вспомнил Кошурников и достал помятый конверт. – Вот… – Комическая ситуация, – мрачно сказал Громов, прочитав рекомендательное письмо управляющего Нижнеудинским банком. – Все наоборот – пришлось мне к вам за содействием обратиться… – Бывает. – Вы, значит, на Казыр? – внимательно, оценивающе глянул Громов на Кошурникова. – По следу видно, с оленями. Где думаете их бросать? Ведь скоро гиблая тайга начнется. Ни зверя, ни мха. Километров на сто голый лес… – Да, Колодезников говорил. – Выцарапался он все же из тайги? – оживился Громов. – Это мой коллектор. Выбрался, значит? – Пришел. Еле живой. – Образцы принес? – Не знаю. Трудно сейчас геологам… – Всем нелегко. Ружье есть? – Взяли. – Кто разрешил? – Сами. С боем. – Доберусь, строгача дам. Ваши далеко работают? Я послал к перевалу человека вчера. – Козлов у меня здесь. Недалеко. Вы ему помогите в случае чего. – Ладно. Казыр плохо знаете? Давайте-ка блокнот ваш сюда. Они проговорили целый час. Вернулся на олене еще один геолог, побывавший в лагере Козлова. Прощаясь, Кошурников попросил: – Вы уж не наказывайте начальника охраны за ружье. Человеку другого выхода не было. – Посмотрим. А за хлеб спасибо… Возвращаясь в лагерь, изыскатели выработали окончательный план: идти тайгой вдоль Казыра, пока не начнется спокойная вода, а там, отправив оленей обратно, сесть на плот. – Громов говорит: водой не больше двенадцати дней до жилья, – сказал Кошурников. – Это уже хорошо. – А человек-то какой! – восхитился Алеша. – С Агула идет, столько времени хлеба не ел, а при нас даже не взглянул на него. – Да. Сильный мужик. «Встретился с директором заповедника Громовым. Он едет с Агула и случайно попал в Среднюю Кишту. У него уже 10 дней, как вышел весь хлеб, и едут, питаясь одним оленьим мясом. Спустились в Малую Кишту, увидели наш след и послали проводника к нам за хлебом. Выделил из своего запаса одну булку, и Володя дал ему 6 кг муки. Я к нему ходил с Журавлевым. Очень симпатичный человек. Дал мне описание основных порогов на Казыре. Сделал на память зарисовки порогов и рассказал, где нужно выходить на берег и где делать плоты. Я ему заказал написать для меня геоморфологический очерк долины Казыра. Очерк написать обещал. Пришлет его в Новосибирск. Дал мне несколько практических советов, как плыть, основываясь на своем опыте. Обещал побывать у нас в Новосибирске и в Минусинске. Погода стоит хорошая. В ночь с 8-го на 9-е моросил дождик, но утром перестал. Сегодня днем несколько раз начинала идти крупа, но снег не пошел. Сейчас тепло. К сожалению, нет термометра. Не могу фиксировать температуру воздуха, а главное, температуру воды, что особенно важно для определения начала шуги». Олени шли плохо – они, видно, чуяли, как туго им скоро придется. На земле все реже попадались мшаники. Олени останавливались, тянулись мордами к островкам мха. Костю бесило это, и он выломал добрую палку. – Брось погоняло! – сказал Кошурников. – Он же сдачи дать не может. – Оннахо, верно, – поддержал проводник. – Бьешь его – молчит, кормишь – молчит, режешь – опять молчит. – Давайте ночевать. «10 октября. Суббота Выехали в 11 часов. Задержались утром из-за того, что олени всю ночь простояли голодные. Нет мха, а отпустить их нельзя – пойдут шляться, искать мох. Утром немного пощипали листья на пойме и этим ограничились. Без мха олень может работать не более трех дней, потом худеет и обессиливает. Плохо, что проводник не знает дорогу. Потеряли из-за этого часа три. Шли с ночевки горой, в то время как нужно было идти поймой. 6 км шли 5 часов. Километра два рубил тропу. Брод через Казыр выбрал удачно. Сначала перебрели протоку, а потом основное русло. Дальше тропы нет. Вел по звериной тропе. Сначала по сухим пойменным протокам, а потом по надпойменной террасе. Дорога тяжелая. Густая тайга с завалами, часто приходится рубить. Ниже встречалась тропа, которой пользовались охотники лет 15–20 назад. Здесь редкий лес, но тропа за последнее время не расчищалась и сильно завалена – почти непроходима. Таким образом, прошли за день 13 км и то с большим трудом. На ночлег пришли усталые. Разрешил зарезать оленя. Зарезали комолого. Он жирный, малоезженый и устал, несколько раз в дороге ложился. Получив разрешение на убой, все воспрянули духом в предвкушении шашлыка. Поели, попили чаю, и у всех восстановилось хорошее настроение. Оленя забить было необходимо, так как продуктов у нас мало. Удивительно быстро расходуется крупа, правда, она у нас самая непрактичная. Нужно брать с собой рис и пшено – они гораздо экономнее. Ночевка опять без мха. Срубили два дерева и немного подкормили оленей древесным мхом. На Казыре исключительно много зверя. Сплошь все исхожено изюбром, сохатым и медведем. Местами тропы так хорошо пробиты, что трудно поверить, что это зверь. Нам еще зверь не встречался, да и медведь уже не бродит, на днях он ложится в берлогу и сейчас ведет себя спокойно. Вечером прошелся немного по берегу. Заколол хариуса граммов 700 весом, а другого смазал. Рыбы в Казыре очень много. Река Казыр с того места, как я ее знаю, то есть с устья Малой Кишты, сначала представляет собой бурную речку, быстро падающую по камням. Принимая в себя притоки, Казыр становится многоводнее и уже ниже Прямого Казыра течет довольно мощным потоком по перекатам и порогам. Тихих плесов почти нет». Идти было трудно. Напоенная водой тайга пропитывала одежду на первом же километре пути. Ехали молча, слышался только характерный хруст; как сказал Алеша, у оленей над копытами есть какая-то хрустелка. В таежной тишине этот звук раздавался зловеще, незнакомо. Больше шли пешком, рубили тропу. Только проводник совсем не слезал с оленя, без конца клацал своим кресалом, высекая для трубки огонь. Вечером снова свалили несколько елей, покормили оленей древесным мхом. «Бородач», однако, не пришелся по вкусу – животные сгрудились и всю ночь робко постукивали рогами. Радовало лишь то, что долина Казыра годилась пока для прокладки магистрали. Правда, по левому берегу шла более удобная терраса. А в Новосибирске Кошурников условно наметил трассу по правому берегу, разбил ее от Абакана на стометровки и сейчас начал отмечать пройденный путь. Ночевали против пикета 2655. До Абакана, стало быть, оставалось двести шестьдесят пять с половиной километров… «11 октября. Воскресенье Ночевка на левом берегу Казыра примерно против пикета 2655. Прошли за день километров 9-10, но со сплошной рубкой. Километров 8 рубил я, пока не устал, потом меня сменил Журавлев. На всем протяжении левобережного хода имеется надпойменная терраса, удобная для проведения железнодорожной линии. Встречаются два или три небольших скальных мыска, которые пройти не представляет никакого труда. Терраса сухая, сложена тощими суглинками или суглинками с галечниками. Незаметно перешли в зону изверженных пород. Каледонские интрузии в нескольких местах прорезают кембрийские известняки, основную горную породу Казыра. Где проходит контакт – не проследил. Завтра отправляемся на плоту, а оленей возвращаю обратно. Сухая пихта для плота есть». Почти весь следующий день мастерили плот. Молодые инженеры первый раз занимались этим делом. Костя вообще ни разу не сплавлялся, а Журавлев бывал раньше в партиях, но с рабочими. Правда, Алешка быстро осваивал плотничную работу, а Костя почему-то был рассеян – и молчалив. Иногда тревожно оглядывал лес. Такой же взгляд, такое же напряженное и чужое лицо бывает у таежного либо степного паренька, когда он впервые попадает в большой и шумный город. Тайга не просыхала. Шумела глухо и мощно. Правда, у земли ветер не чувствовался, но вершины огромных елей ходили так сильно, что кружилась голова. Порывы ветра сбрасывали на спины изыскателей холодные крупные капли. «12 октября. Понедельник Завтра утром подниму всех пораньше, сплотим плот (все заготовлено) и, надеюсь, отплывем часов в 10–11 утра. Костя забыл в предыдущем лагере иголки, нитки, дратву, долото и гвозди. Все это находилось в одном мешочке. Особенно жаль долото и гвозди – нечем долбить проушины в гребях. Приспособился делать это топором. У Кости отстают от сапог подошвы, на что он смотрит с философским спокойствием. Придется приказать прибить, а то останется босиком… Проводник с оленями уехал в 12 часов дня. Погода испортилась. Днем был очень сильный ветер, в тайге только треск стоял от падающих деревьев. Днем шел дождь, а сейчас (10 часов вечера) идет какая-то изморозь, над костром тает и падает мелкими капельками на тетрадь…» С проводником изыскатели отправили последние письма. Кошурников писал жене: «Пользуюсь последним случаем написать тебе пару слов. Нахожусь в 15 км ниже слияния Правого и Левого Казыра. Отправляю письмо с проводником, хотя уверен, что придет оно после моего приезда. Хотел проехать насквозь на оленях, но отказался от этой мысли, так как нет корма и дороги. 25 октября рассчитываю быть дома. Едем втроем – Журавлев, Стофато и я. Плохо, что нет геолога. С производственной точки зрения он был бы полезнее, чем сметчик Стофато. На изысканиях перевала получил положительный результат. Очень был бы доволен, если бы на будущий год мне дали эти изыскания как предварительные. Очень тут интересные места, есть над чем поработать. Не скучай, скоро увидимся. Если меня долго не будет, то жди спокойно – не раз я выходил из тайги даже среди зимы. Не могу я погибнуть, у меня слишком большая жажда жизни…» Впереди лежал трудный путь по стынущей горнотаежной реке. И на сотни верст – ни одного приветного огонька. ЧТО ЖЕ БУДЕТ! Что будет, то будет, а мы пойдем далее… Костя Стофато обрадовался больше всех, что ушли олени. Засыпая ночью у костра, он пробормотал: – Все руки отмотали с этой рогатой тварью. На плоту-то сиди да поплевывай. Верно, Михалыч? Только как поплывем? Туман-то – кошмар… Густой туман, что заполнил с вечера долину Казыра, не тревожил Кошурникова – утром ветер разгонит его. Лишь бы тепло продержалось еще недельку-другую! Изыскатели, изучая долину реки, быстро добрались бы до пограничников. А пока было пройдено по основному маршруту около сорока километров. Как же все-таки ляжет дорога? В Новосибирске Кошурников ориентировочно наметил трассу по правому берегу, потому что левобережный хребет Ергак-Таргак-Тайга отпугивал своей крутизной и многочисленными стоками. И было большой неожиданностью, что в верховьях реки левый берег оказался более удобным для прокладки железной дороги. Что будет дальше? Какие сюрпризы еще приготовил Казыр? Интересно, как выпутаться из горного сплетения в районе Щек? Посмотрим… Кошурников спрятал карту, подложил в костер дров и, натянув на голову брезентовый капюшон плаща, забылся в полудреме. Среди ночи проснулся. В воздухе уже не было мятущейся водяной пыли, на догорающий костер медленно опускались едва заметные снежинки. Кошурников взглянул на ребят. Они подрагивали от холода, подвигались к костру, который уже подернулся сизым пеплом. Их телогрейки намокли от тающего снега, потемнели. Какие все-таки разные подобрались у него спутники! Алеша все делал сам, молча и споро, а Костя советовался по мелочам, без конца просил подсобить. Все бы ничего, но тайгу он плохо знал. Несмотря на предупреждение, этот красивый городской парень скинул вчера при рубке рукавицы и мокрым топорищем натер на ладонях кровавые мозоли. А когда Кошурников стал заливать ему руки спиртом – единственным лекарством изыскателей, Костя мучительно сморщился и закряхтел. – Будто медведь сжевал, – неодобрительно буркнул Алеша, но Костя его не понял. – Какой медведь? – Скулишь ты так, будто медведь тебе руку испортил. Костя промолчал. …Светает. Надо скорей просушиться и доделывать плот. – Ты когда-нибудь сплавлялся? – спросил вчера Кошурников Костю. – Нет? И не знаешь, как вяжется плот? Ну, ничего, враз научишься. Изыскатель должен владеть этим древним ремеслом. Еще вечером они свалили несколько сухостойных пихт. Ни крепкая береза, ни тяжелая лиственница не годились для става, только пихта. Бревна они уже подтащили к воде, засветло успели вырубить березовые поперечины – ронжины, которые войдут в клиновые пазы и намертво свяжут став. Потом надо было на подгребках укрепить длинные греби, взять на борт крепкие колья – стяжки. Вчера, когда дошла очередь до гребей, Кошурников сказал Алеше: – Принеси-ка долото! Алеша долго и безрезультатно рылся в мешках. Он точно помнил, что долото лежало в подшефном мешке Стофато. Но там ничего не было. – Костя! Ты не видел наше долото? – Нет, – неуверенно ответил тот, и вдруг у него екнуло сердце: он достал мешочек с долотом на вчерашней ночевке и во время сборов забыл его положить в большой мешок! Так он и лежит сейчас там на пенечке. Что ему будет за это? Сказал: – Нет, не видел… – Ладно, потом найдем, – остановил их поиски Кошурников. – Некогда. Топором приспособился. Костя, подержи гребь. Придерживая гребь, которая крутилась и подрагивала под топором, Костя несколько раз порывался сказать Кошурникову, что это он, Костя, забыл долото на привале. – Что это ты не в себе? – понимающе спросил один раз Кошурников. – Будто потерял что-то. – Да вот, – начал Костя, насупившись. – Понимаете… – Ну? – Ничего. Это я так… Костя лежал сейчас у костра, едва слышно посапывал, ежился во сне от сырости, но не просыпался. В изыскательской жизни Кости это был первый плот, и Кошурников понимал уставшего парня: нелегко таскать с непривычки тяжелые бревна. Начальник экспедиции вспомнил свой первый плот. Это было на Алтае. Отец дал топор, сел у костра и приказал делать такой плот, чтоб нес двоих. Отец только советовал, а сам пальцем не шевельнул. Ну, правда, он тогда связал небольшой салик на вицах, но тоже досталось. Кошурников помнил все до мельчайших подробностей: как парил над костром толстые черемуховые прутья, как гнул из них кольца – вицы, как с помощью этих виц и клиньев – нагелей – скреплял став… Как всегда по утрам, Кошурников завел свою луковицу. Проснулся Костя. Он с усилием выгнул спину и стал внимательно рассматривать ладони. – Болит? – спросил Кошурников. – Болит. – Привыкай! – подал голос Алеша. – Сгодится в тайге. – Да, в городе спокойнее, – сказал Костя. – Это кому как! – возразил Кошурников. – Тоже мне спокойствие – воздух с грязью, милиционеры свистят, балконы падают. Ну, правда, зато есть сапожные мастерские… Костя глянул на свои сапоги, которые «просили каши». – Сейчас прибью. Он пошел к мешкам, но вдруг вспомнил, что гвоздики-то лежали вместе с долотом! Начал рыться в мешке, зная, что ничего не найдет. Оглянулся. Товарищи сидели к нему спиной, не замечая, как ему трудно. Он вернулся к костру. – Бери ложку, – сказал Кошурников. – И снимай свои бахилы. Пока ребята завтракали, Кошурников наковырял ножом гвоздиков из Костиных сапог, прибил кое-как подметки. Потом взял у Алеши ложку – у них было две ложки на троих, – доел суп. Отчалили уже днем. На переднюю гребь встал Кошурников, а на задней ребята менялись. И лишь тут Костя понял, какая это морока – вести по горной реке плот. Чуть зазевался – прижмет тебя к берегу «дёром». Посушил несколько секунд гребь – и плот воткнется в берег торцом. А пока он разворачивается и «оттуривается», вода бежит мимо, время идет… Время сейчас было дороже всего. В долину Казыра уже спустилась с гольцов поздняя осень. Кошурников знал, что такие узкие долины южносибирских рек имеют свой микроклимат. Обычно тут много осадков, больше, чем где бы то ни было в Сибири. Зима наступает вдруг, катастрофически. Плотное высокотравье жухнет. Медвежья дудка и пучки, которые совсем недавно покровительственно раскидывали над разнотравьем свои зонты, усыхают, становятся ломкими. Налитые сладким соком ягоды малины чернеют, будто пораженные гангреной. Под снег уходят живые цветы. Исчезают все запахи – и дурманящий, тяжелый дух в травостоях и медвяный цветочный аромат на лесных еланях. Зверье спешит подкормиться, нагулять жиру, заготовить харчей на долгую зиму. А голосистые гуси, пролетая на недосягаемой высоте южным курсом, будто кричат: «Быстрей, быстрей! Зима!» Надо было спешить и изыскателям. Но что поделаешь? В этом месте Казыр причудливо извивался, вплетаясь голубой лентой в темную тайгу. Лоцманить на плоту было трудно. То и дело над водой слышались протяжные крики Кошурникова: «Креп-ше!», «Лег-ше!», «Шабаш!» До ночевки прошли рекой с десяток километров, продвинувшись по трассе лишь на четыре, – так сильно петлял тут Казыр. И уже начало темнеть, когда чуть не случилась беда. Плот подошел к руслу реки Запевалихи. Быстрая поперечная струя швырнула его к правому берегу, а через десяток метров Казыр начинал крутой поворот. Выскочив из-за каменного мыска, изыскатели оцепенели – плот стремительно мчался на залом. Поваленные ураганом кедры и пихты перегородили всю реку, покорежили друг друга. Бивнями торчали высохшие белые сучья, а под ними бешено бурлила вода, будто хрипело и захлебывалось какое-то свирепое чудовище. – Бей лево! – в ярости закричал Кошурников. – Оба на гребь! Еще лево! Крепше!!! Ребята даже не успели заметить, что слева есть небольшая протока, просто изо всех сил били задней гребью. Только слышали, как, налегая на гребь, скрипит зубами Кошурников, да видели несущуюся на них смерть… В дневнике это было описано предельно коротко и просто. «13 октября. Вторник Ночевка на пикете 2640. Не обошлось без приключения на первый день поездки. Ниже Запевалихи через всю реку залом, и лишь с левого берега мелкий косой перекат. Так вот, пришлось через этот перекат стяжками, по колено в воде, перегонять плот. Конечно, вымокли, но зато прошли без аварии, которая была бы неизбежной, если бы прозевал. Вся река с шумом на повороте идет под залом, и вряд ли кому удалось бы выцарапаться из него благополучно. Плот получился хороший, хотя и много мы положили сил на его постройку: в общей сложности затратили 36 человеко-часов. На этом участке Казыр сильно петляет, что отнимает много времени при поездке по нему. Продвинулись на 4 км, а исколесили километров 10. Жалею, что не захватил пару пикетажных книжек. У нас на плоту один человек свободный и мог бы составить прекрасную глазомерную лоцманскую карту. Сегодня 13.Х, по существу уже 14.Х, так как три часа ночи. Покров, и, как полагается в Сибири, в этот день всегда снег. Вчера провели плохую ночь. Всю ночь шел снег, и нас изрядно вымочило. Виноват, конечно, я. Нужно было сделать балаган, а не полагаться на милость божию. При всем моем опыте просто поленился – в результате вымокли. Поделом вору мyка. Нужно поторапливаться, а то остались считанные дни до шуги, а тогда с плотом амба, придется идти пешком. Сегодня ночуем очень хорошо. Сделали балаган, заготовили много дров, пополам лиственница и пихта. Сухо, тепло. Завтра подниму всех в 6 часов, чтобы не позднее 7.30 или 8 отплыть. Нужно во что бы то ни стало добраться до Саянского порога – это по трассе 32 км. Боюсь, что за день не доедем. Пока едем, на всем протяжении левый берег более удобен для железнодорожной трассы, так что линия, камерально трассированная по правому берегу, намечена неверно. Как и прежде, по обоим берегам тайга. Преимущественно ель, кедр, пихта, лиственница. Сейчас стало больше попадаться березы. По склонам – кедр, ель, пихта. На левом берегу, не доезжая ночевки полкилометра, на мысу, – гарь. На правом, ниже ночевки, тоже начинается гарь. Грунты – легкие суглинки. В реке мощные отложения песчано-галечника, вполне пригодного для балласта». Вечером Кошурников собрался поучить ребят заготавливать дрова для костра. – Подумаешь, премудрость! – сказал Костя. – Сами нарубим, Михалыч. – Нарубите, да не того. Вот гляди – у тебя уже дыра на телогрейке. А отчего? Еловые сучья горели, они отскакивают. Или вот две сухостойные лесинки, видишь? Одна прямая, другая наклонилась. Какую срубишь? – Это я уже по опыту знаю! – обрадовался Костя. – Конечно, наклонную: она в корне подгнила, и взять ее легче. Это я уже по опыту… – По опыту! – Кошурников вывернул из земли деревце и швырнул в кусты. – Она же сырая, волглая. А ты бери, которая свечкой стоит. Гореть будет – ай да ну! Для Кости раскрывался новый мир. Оказывается, и балаган надо делать умеючи. Основные колья лучше всего делать из березы – они долго не гниют. – А пойдет по твоему следу человек, – говорил Кошурников, – застанет его тут ночь – спасибо скажет. Закон тайги. Только бересту надо обязательно снять топором, а то кол моментально сгниет, превратится внутри коры в труху. А один раз Кошурников показал ребятам старое кострище соболятников. Оно давно обросло травой, на плотной, слежавшейся золе лежала полуистлевшая палочка с зарубками. – Вчетвером шли, – заметил начальник экспедиции. – Русские – не тувинцы и не тофы. Лет двадцать назад. Еще живая тайга на Казыре сплошь стояла… И он рассказал, как прочел эту старую страничку лесной книги. Ребята уже беспрекословно слушались Кошурникова – в тайге он был хозяин. Сегодня дрова заготовили – лучше не надо, да и работой Кошурникова они остались довольны: шалаш получился на славу, непродуваемый, уютный. Все спали эту ночь без просыпу и, хорошо отдохнув, встали пораньше. Еще в полутьме вышли на берег, к плоту. От реки тянуло холодом, наискось бил снег – мелкий, сухой и колючий. Алеша зябко поежился: – Форменная скотина. – Кто? – Саянский бог. – Ничего, на гребях согреемся, – сказал Кошурников, спрыгнув на плот. – Лишь бы в залом не врезаться. – Костя еще не опомнился от вчерашнего испуга. Но сегодня плот не мог разогнаться – мешал ветер. На тихих плесах он останавливался совсем, и приходилось толкаться шестами. А у русла Катуна, где стремительная речушка образовала шиверу, плот ударился о камни, накренился и застрял. Вода залила сапоги, мешки с продуктами. Кошурников первым спрыгнул в ледяную воду. Скользя на камнях, нажали плечами стяжки. Столкнули быстро, но Костя никак не мог унять дрожь, которая сотрясала все тело. Руки не держали гребь. – А что скажет Европа? – спросил Кошурников, улыбаясь. У него тоже зуб на зуб не попадал, но передняя гребь ходила широким полукругом – начальник грелся. – Европа-то что скажет? Костя не ответил. Он сел на мешки, втянул голову в плечи и стал похож на воробья зимой. Пришлось приставать к берегу, кипятить чай и сушиться. Пропало два часа драгоценного дневного времени. К вечеру ветер стих, плот пошел лучше. Изыскатели повеселели, хотя берега Казыра в этих местах представляли собой безотрадную, жуткую картину – начался гибник, о котором говорил Громов. Лесные вредители когда-то сожрали всю зелень, и сейчас тайга погибала: темные голые стволы подтачивались червями и падали наземь. Неприятно было смотреть на костлявые деревья: обреченностью, смертью веяло от них. Среди этих лесных скелетов пришлось и ночевать. Когда ребята отошли от костра за дровами, Костя шепнул: – Ты знаешь, Алеша, бок у меня что-то болит… Журавлев расширенными глазами глянул на товарища. Вверху зловеще поскрипывали мертвые сучья. – Дышать тяжело… – Ты не руби, Костя, я сам. Дуй к костру. Михалычу надо сказать. – Если не пройдет, завтра скажу. Кошурников хлопотал с ужином. – Сколько нам еще плыть, Михалыч? – Да половины еще нет. Ты понимаешь, Костя, коренной водой тут за недельку проскочить можно – день подлиннее, да и река опупком, как говорят сибирские плотогоны. А сейчас воды мало, река корытом идет. Но ничего, проскочим! Давай-ка за супец… Кошурников снял с костра ведро, из которого дразняще пахло оленьим мясом. За ужином Костя был необычно молчаливым, ел неохотно и мало. Кошурников внимательно взглянул на него раза два, но ничего не сказал. Скрутили козьи ножки, задымили. Вскоре Костя закашлялся, сплюнул на вишневые угли, полез в полушубок. Кошурников хотел было сказать ему, что в костер плевать нельзя – есть такие добрые законы тайги: в костер не плюй, ручей не погань, хлеб не кидай, зря не убивай, в зимовье не свисти. Но с Костей творилось что-то неладное, и Кошурников промолчал. Подхватил ведро и спустился к реке потереть его песочком. Когда вернулся, ребята уже дремали, и ему не хотелось тревожить их. Но сам он был неспокоен. Снова пошел снег, а главное, вода у берега покрылась тонкой ледяной корочкой. Оттают или нет эти забережки завтра? «14 октября. Среда Ночевка на правом берегу реки Казыр на пикете 2480. Весь день была отвратительная погода, шел снег, и дул сильный встречный ветер, который очень задерживает плот… К вечеру ветер стих, плот пошел лучше. В четырех километрах ниже Катуна долина Казыра сжимается. Начинают показываться скалы, непосредственно падающие в реку то с правого, то с левого берега. Скалы невысокие, метров 10–12, а выше идет спокойный косогор градусов 8-12. Склоны гор покрыты погибшим лесом, начиная чуть не с самой Запевалихи…» Забереги не оттаяли к утру, плот обтянуло тонким льдом, будто стеклом, и Алеша долго скалывал его с бревен, чтобы не было скользко стоять у греби. Только отплыли – пошел снег, редкий и неприятный. Пахнуло зимой. Черные берега на глазах становились пестрыми, а под берегом уже тянулась сплошная белая полоска снега. «Неужели зима? – тревожно думал Кошурников. – Еще бы дней десяток погожих, и проскочили бы». Но непредвиденные задержки подстерегали на каждом шагу. Кто мог знать, что в начале их пути Казыр будет так петлять? Изыскатели ведь плыли целый день, а на самом деле крутились почти на одном месте. Потом встречный ветер. Сколько километров потеряли они, толкаясь шестами? Плот еле двигался вперед, и, чтобы сэкономить силы и обсушить захандрившего Костю, они вынуждены были пристать к берегу. Что же ждет их сегодня? Какой подвох подготовил Казыр? Плот стремительно несся вперед. Сквозь снегопад стали видны впереди белые барашки. «Шивера! – мелькнуло у Кошурникова. – Только бы не сесть!» Удар! Бревна зацепились за камни, вода плеснула поверх, но вот плот развернуло, столкнуло с переката. А день только начался. Вскоре изыскателей подстерегла коварная шивера – плот намертво заклинило посреди реки в камнях. Если бы Косте рассказали раньше, что сможет он во время снегопада спрыгнуть в ледяную воду по пояс и мучительно долго толкать плечом тяжеленные бревна, то он не поверил бы. Главное, эти бревна ни на миллиметр не поддавались, будто примерзли к скользким казырским валунам. Но другого выхода у изыскателей не было. Плот не бросишь посреди реки хотя бы потому, что до берега живым не доберешься. Кроме того, на плоту хлеб, мясо и табак… Кошурников с холодной яростью подавал команду, налегая плечом на толстую стяжку. Они раскачивали плот постепенно. Сначала одну сторону, потом другую. Выворотили впереди два камня, но конца мучениям не видно – нагруженный плот сидел прочно. Так прошел почти час. Ледяная вода парализовала всякую волю. Костя уже не мог стоять в воде – его сбивало струей. Кошурников прыгнул на плот, в который раз переместил груз, положил на плечи Алеше два самых тяжелых мешка и снова взялся за вагу. Плот неожиданно поддался, потом всплыл, будто оторвался от дна реки, и Кошурников с Костей кое-как его протолкали за камни. Силы у них иссякали. Еще полчаса в воде, и едва ли они бы снялись… Изыскатели понимали, что пережили сейчас смертельную опасность, но не хотелось думать об этом, потому что было слишком холодно. Избегая смотреть друг на друга, они подбивали плот к берегу. Дрожащими, скрюченными пальцами Кошурников достал из-под рубашки резиновый мешочек с сухими спичками. А снег все шел и шел, устилая землю. Зима. Но река была чистой – шуга еще на ней не появлялась, а Кошурников знал, что пока нет шуги – паниковать рано. Он уже пришел в себя и мог рассуждать… «15 октября. Четверг Ночевка на левом берегу Казыра на пикете 2385. День не обошелся без приключений. Выехали в 8 часов 30 минут. Прошли две шиверы благополучно, а на третьей сели, да так плотно, что пришлось всем лезть в воду и по пояс в воде сталкивать плот. Ванна не особенно приятная. Протолкали почти два часа, а потом спустили еще через две шиверы и вылезли на берег для капитальной сушки. Просушились 3,5 часа и поплыли дальше. Прошли благополучно еще четыре шиверы. Эти аварии нельзя приписать моему неумению водить плоты. Единственная причина – слишком мало в реке воды. Будь ее сантиметров на 10 больше, и все обошлось бы благополучно. Сегодня во время аварии подмочили сухари и соль, остальные продукты в порядке. Сейчас соль сушим, а сухари положил морозить. По ночам настолько холодно, что застывают в тихих местах большие забереги и днем не оттаивают. Сегодня весь день температура ниже 0°. Выпавший вчера снег в лесу не растаял. Погода улучшилась, весь день светило солнышко, и ветер переменился с западного на восточный – дует нам попутно и помогает плыть. Прошли Прорву. От Катуна до Прорвы Казыр имеет очень большое падение, частые перекаты, чередующиеся с глубокими плесами, глубина которых достигает 6–7 м. Перекаты имеют падение до 1,5–2 м на протяжении 50–70 м. Образуется стремительный поток, очень опасный в малую воду из-за крупных камней, разбросанных по руслу. При впадении Прорвы в Казыр широкая пойма на правом берегу. От устья Прорвы Казыр течет более спокойно, есть небольшие перекаты, но они опасны только тем, что очень мелкие. Казыр течет по узкой долине, чем и объясняется крутое его падение и обилие перекатов. Все-таки на всем протяжении левый берег лучше для трассирования, чем правый». Для ночлега нашли на этот раз островок живой тайги, сделали в кедровнике плотный шалаш. Костя подавленно молчал, тоскливо смотрел запавшими глазами. После ужина ребята влезли в шалаш. – Михалыч, – спросил Алеша, – а вы раньше в таких переплетах бывали? – На Ангаре пропадал в тридцать втором с Козловым. Да и в других местах тоже. Помню, с Володькой шли три дня – саранки копали да кедровый орех грызли. Он еще заболел тогда. Ну, конечно, сразу сказал об этом – приняли меры… – А правда, что вы мостовик? – Что это тебя вдруг заинтересовало? Два отделения я закончил – изыскательское и мостовое. Но я не только учился, – засмеялся Кошурников, – за пять лет получил, можно сказать, пять специальностей – изыскателя, мостовика, грузчика, кочегара и подметалы. Ты сам, говорят, из того же теста. А? Алеша! Слышишь, что ли? Заснул, цыпленок… Кошурников еще долго маячил у костра, писал, пошевеливал сипевшие сучья. А утром поднялась шуга, покрыла почти всю реку. Но только начальник экспедиции ясно представлял себе, чем грозит новая беда. Шуга на сибирских реках возвещает начало зимы. Мороз сразу меняет тайгу. Вдруг покрываются белым пухом, замирают неподвижно, как кучевые облака, закуржавевшие кедры, трава становится хрусткой, земля неподатливой, твердой. И только вода по-прежнему чиста и прозрачна. Но бурлящая на порогах и перекатах река медленно стынет, переохлаждается. На тихих плесах в воде образуются первые кристаллы. Неприметные ледяные иголочки растут, слипаются с другими, всплывают на поверхность, соединяются тут со снежинками, падающими с неба, и вот уже по всей ширине реки плывет сплошная белая масса. – Сало, – говорят рыбаки и вытаскивают свои лодки на берег до весны. – Сало пошло, язви его в душу! – ругаются припоздавшие плотогоны. У них теперь одна забота: скорей заякорить заготовленный лес – и ходу из тайги, пока есть сухари. И даже бродяга сохатый, для которого в тайге нет препятствий, подойдет к зашутованной реке, понюхает плывущее мимо «сало» – и назад, хотя еще с лета присмотрел на той стороне нетронутый аппетитный осинничек, в котором столько горькой коры. По зашугованной реке на плоту нельзя – став и греби обрастут белым льдом, который потянет плот ко дну, и люди будут бессильны что-либо сделать… – Костя, – сказал утром Кошурников, – жар у тебя? – Нет. – Скажи сразу, если будет. Это очень важно. Днем потеплело, и шуга исчезла. Плот пошел хорошо, ровно – ни шиверы, ни залома, ни уловы. Но река набухала – видно, впереди был порог. Кошурников бросил гребь, развернул карту. – К Саянскому порогу идем. – Он посмотрел вперед. – Да вон он! К берегу, Алеша, право бей. Не надо спешить, подойдем поближе. Это не порог – семечки… Камни загромождали русло Казыра в пяти местах. Вода шла не шибко, сливалась плавно. – Попробуем спустить, – сказал Кошурников. – Барахло-то все равно обносить… Они разгрузились на берегу, запустили порожний плот в порог. Однако он намертво сел на втором сливе. Теперь за два с лишним километра надо было таскать берегом нехитрое изыскательское хозяйство, которого набралось все же пудов двенадцать. Алеша с первым мешком ушел вперед, мягко ставя сильные ноги в кукушкин лен. Этот мох густо затянул гарь, которая обступала порог, и не давал прижиться семенам. Обгоревшие деревья стояли черные, в глубоких продольных трещинах. Костя Стофато не мог ничего нести, едва побрел пустой. Кошурников вскоре догнал его, сбросил груз на землю. – Цепляйся за шею! – Да бросьте вы, – слабо отстранился Костя, однако подчинился. Железная рука властно обняла его. И легко стало на душе, и к горлу подкатил комок… «16 октября. Пятница Пикет 2316. Прошли Саянский порог. Выехали в 8 часов 30 минут. Один раз сели на мелкой шивере по моей вине. Можно было легко пройти, а я зазевался и посадил плот. Слезал в воду один и легко его столкнул. Ночь была очень холодная. Вероятно, температура падала ниже 10°. К утру на реке поднялась шуга и покрыла почти всю поверхность, правда, шуга тонкая, мелкая, но и это уже плохо. Часов с двух шуги стало меньше, а потом и совсем прекратилась. Свое имущество, а его у нас около 200 килограммов, перетаскали на себе по правому берегу. Таскать далеко – километра два с половиной, но можно идти берегом, не пробираясь на горы. В окрестностях Саянского порога гарь. Наверно, какой-то предприимчивый охотник умышленно поджег тайгу – „чтобы зверь лучше водился“. От последней ночевки до Саяна, как и раньше, по берегам много погибшего леса. Местами – гари. Живого леса примерно процентов 30 от всей площади. Правый берег опять-таки хуже левого для трассы… Саянский порог в такую воду, как сейчас, для плотов, безусловно, легко проходим, и, будь бы со мной Козлов, мы, конечно, не бросили бы плот, а спустили бы его, возможно, без имущества, но зато не пришлось бы строить новый. Пытался поймать плот. Сделал ниже 5-го слива салик и приготовился ловить, но на втором сливе плот сел и дальше не пошел. Будем делать новый. Сухая пихта есть ниже порога недалеко от берега. Надеюсь, 18-го будем ниже Петровского порога. Очередная и большая неприятность. „Расписался“ Костя Стофато. Еще вчера жаловался, что у него болит бок. Говорит, что он упал с оленя на камень, и с тех пор бок болит. По-моему, здесь дело хуже. Он простудился, и у него плеврит. Пока он сам двигается – не беда, потащим за собой, ну, а если сляжет – тогда придется его оставить, вместе с ним оставить для ухода Журавлева, а мне пешком отправляться до погранзаставы, добиваться получения гидросамолета и вывозить их до наступления зимы. Обстановка очень незавидная. Единственно, о чем сейчас мечтаю, – как можно скорее добраться до порога Щеки, а там 100 км уж как-нибудь дойду пешком». Он приготовился, как ему казалось, к худшему, не зная границ худшего. ТЫ ХОРОШО РОЕШЬ, СТАРЫЙ КРОТ! Да, таких трудных дней, как теперь и вообще в нынешнюю зиму, еще не было во всей моей жизни. Плот застрял в Саянском пороге, и надо было вязать новый. Утром Кошурников с Алешей побродили по берегу. Было много хорошей, просушенной до звона пихты. Они свалили несколько лесин, запилили по концам бревен клиновые пазы, прогнали насквозь добрые березовые кряжи. Долбить проушины в гребях снова пришлось топором. Досадно все-таки, что Костя забыл долото! – Баба-растрясуха, – ворчал Алеша, отесывая подгребки. – Тоже мне изыскатель… – Не вздумай сказать ему об этом. – Кошурников развел могучие плечи. – Понимать надо. Да и не вернешь. – К слову пришлось… «18 октября. Воскресенье Сделали новый плот из сухостойной пихты в 8 бревен длиной около 6 м. Получился легкий крепкий плот большой подъемной силы. Делали вдвоем с Журавлевым. Стофато едва шевелится. Помогает нам по хозяйству – готовит обед и понемногу ковыряется на лагере. Отплыли в 15 часов 30 минут. В 17 часов 15 минут пристали к берегу на ночлег, потому что начало сильно темнеть, а впереди шумит большой перекат – побоялся идти на него в потемках. Вообще этот участок реки неспокойный, от Саянского порога до ночлега за сегодняшний день прошли 13 перекатов, из которых 4 довольно серьезных. Видели на берегу медведя. Костя стрелял в него, но промазал с каких-нибудь 50–60 м. Медведь очень большой, черный, вероятно, не менее 15–18 пудов чистого мяса было бы. Обидно, что такой лакомый кусок ушел. В Казыре очень много рыбы. Плывем на плоту, и все время видно рыбу. Видели одного большого тайменя – килограммов на 30, одного поменьше – килограммов 10, несколько ленков и много хариусов. Жалею, что нет лодки. Ели бы все время рыбу. Ходил по берегу с берестом и то заколол одного хариуса и маленького таймешонка. Обидно иметь под боком столько рыбы и только смотреть на нее. В двух километрах ниже Саянского порога гибник кончился, началась живая тайга. Породы те же, что и раньше, – кедр, ель, пихта, немного лиственных – береза, осина, ольха, рябина. Лиственницы почти нет. Грунты, как и прежде, – легкие суглинки, песок с галькой и чистый галечник. Мысы, подходящие близко к Казыру, скальные, изверженных пород. С поверхности скалы разрушены выветриванием». Разбили лагерь под густым кедром. Немало ночей в своей жизни Кошурников провел вот так – над головой плотный хвойный шатер, который не пропустит ливня и словно бы держит тепло от костра. Кедровые сучья горят жарко, не искрят, не сипят, не раскидывают угольков. Хорошее дерево! И молния – от стариков слыхал – почему-то не бьет в этого царя сибирской тайги, и кормится им все лесное население, и ветер в кедре шумит по-особому – успокаивает и баюкает… Кошурников оглядел товарищей. Здоровяк Алешка неплохо переносил тяготы похода. Каждый день он просил Кошурникова сфотографировать его – то на камне, то на плоту и обязательно так, чтобы видно было его темную и жесткую бороду. А Костя был никуда. Осунулся, еще больше похудел, надрывно кашлял, молчал часами. Пока плыли, он сидел среди мешков в теплых сухих валенках, закрывшись брезентом от водяных брызг. К ночлегу с реки его притащил на себе Алеша. А сейчас Кошурников распалил для него еще один костер. Когда дрова прогорели, отгреб головешки, устелил кострище пихтовыми веточками и опавшей кедровой хвоей. – Ложись. К нижнему суку кедра с наветренной стороны Алеша привалил мохнатые пихтовые лапы, отдал больному товарищу свою телогрейку. Костя глотнул спирта из фляги Кошурникова, поел дымящейся оленины, молча улегся на горячую землю. Кошурников решил еще соорудить для Кости «надью». – Не надо больше ничего, Михалыч! – попросил Костя. – Забот еще вам со мной. Не надо… – Погоди, погоди, паря! – торопился Кошурников, насекая топором лесину. – Ты же не знаешь, какая это великая вещь! Он положил одно бревно на другое, укрепил их колышками. Бревна касались друг друга продольными пазами, в которых были взрыхленные, рассеченные топором древесные волокна. – А вот теперь угольков сюда, бересты, – приговаривал Кошурников и, когда лесины занялись огнем, удовлетворенно откинулся в сторону… – Вот и порядок! Как у радиатора будешь всю ночь… «Надья» горела жарко, ровно. Спустя полчаса Костя неожиданно заговорил невнятным, бредовым голосом: – Михалыч! Слышите, Михалыч? Вы любите море? – Люблю, Костя, – отозвался тот. – Только, понимаешь, я его ни разу не видел. Говорят, впечатление производит почти такое же, как тайга… «Захмелел малость наш Костя, – думал Кошурников. – Это хорошо. Сейчас пропотеет на кострище, как в бане. А в Сочи действительно надо будет съездить. Ведь ни одного отпуска так и не использовал за всю жизнь. Но это уже после победы. Как там сейчас, под Сталинградом? Вот ведь просился на фронт – не пустили. А Журавлева отдел кадров вернул уже из эшелона сибирских стрелков. Его тогда только в кандидаты партии приняли, а он с собрания – в военкомат. Эх, Алешка, Алешка, что бы я без тебя сейчас тут делал?» На перекате едва слышно шумела вода. – Как вы думаете, Михалыч? – подал вдруг голос с другой стороны костра Алеша, и Кошурников вздрогнул. – Как, по-вашему, сдадут, наши Сталинград? Вы знаете, мне почему-то кажется, что будь я там – все было бы в порядке. Ну, просто чувство такое. Интересно, правда? – Интересно, – отозвался Кошурников и подумал о том, что Алеша был бы добрым солдатом – пилот, парашютист, пловец, ворошиловский стрелок… – А верно говорят, Михалыч, будто вы в гражданскую воевали? – Да ну, наговорят тоже. Мальчишкой я был у партизан. Больше вот этим делом занимался. – Кошурников громыхнул сапогом по ведру. – Кашеварил. И еще писал под диктовку командира. Санькой-грамотеем меня в отряде звали. Правда, в одной операции участвовал, за дружком своим увязался, одним алтайским парнишкой. Через Яломанский белок зимой перелезли и зашли в тыл бандиту Кайгородову, который долину запер. Много офицеров вместе с ним ликвидировали в Катанде. Нас человек триста ходило. Где они сейчас все?.. – У меня отец тоже красный партизан был, – сказал Алеша. – Забайкальский казак. – Михалыч! – снова окликнул Стофато. – А я ведь на море родился. Сейчас во сне его видел, и так не хотелось просыпаться! – Спи, Костя, спи… Вскоре заснул и Алеша, пригревшись с другой стороны «надьи». Кошурников ушел в воспоминания. Потом мысли незаметно перескочили на будущую дорогу, трассу которой экспедиция так удачно в общем-то разведывала. Только вот что будет в Щеках? Чем ближе подплывали инженеры к этому совершенно непреодолимому по воде порогу, тем больше Кошурников волновался за исход всех изысканий. «Вдруг нельзя там взять скалы ни взрывчаткой, ни экскаваторами? Скорей бы уж добраться! Только бы Костя не подвел, трудно будет с ним, если сляжет окончательно. Но ничего, где наша не пропадала… А на море сейчас здорово, должно быть! Обязательно съезжу посмотрю, а то в Сибири все время. Но мне, правда, тут всегда было хорошо. А в Приморье или на Урале тосковал не хуже Дианки…» Дианка была больной совестью Кошурникова. Эту чистопородную сибирскую лайку он вывез с Ангары – не мог расстаться с таким умным псом. Черная, с белой шалью и белыми стоячими ушами, она не бегала по пятам за хозяином. «В поле» Дианка неслышно, как зверь, следовала кустами, не спуская с Кошурникова диковатых медвежьих глаз. В палатку ее нельзя было заманить никакими средствами. В самый лютый мороз лежала в снегу, укрывшись, как одеялом, пушистым хвостом. На людей она никогда не лаяла, и никто из партии Кошурникова не видел, как она ест, – кроме Михалыча, ни один человек не рисковал подходить к кустам, где она разгрызала кости. Кошурников увез ее в Челябинск. Во дворе дома, где жили Кошурниковы, она покалечила несколько собак и до смерти перепугала какого-то мальчишку, который кинулся на Женьку с кулаками. Пришлось держать ее в коридоре. Дианка молчала, но в глазах у нее застыла вечная мука. Она стала сохнуть, худеть. Кошурников возил ее за город, чтобы пристрелить, но рука не поднялась – так выразительно и скорбно смотрела Дианка в глаза хозяину. Потом Дианка сдохла. Женька тогда плакал навзрыд, да и у самого Кошурникова было тяжело на душе. Вскоре ему стало невмоготу в городе, и он начал хлопотать о переводе в Сибирь… «Надья» тихо тлела до утра и до самого утра грела, поистине как батарея парового отопления. Костя поднялся раньше всех. Белое, снежное утро было необыкновенно свежим и чистым. Подложил в костер дров, побрел с ведром к реке. – Эй вы, сони! Светает! – крикнул он, вернувшись с водой, и неожиданно запел слабым еще голосом: На заре ты ее не буди — На заре она сладко так спит. Это был любимый романс Кошурникова, и он много лет утрами будил так товарищей по партии. Начальник экспедиции раскрыл глаза, вскочил, радостно растолкал Журавлева. – Поет наш Костя! Алексей, хватит дрыхнуть! Костя воды принес! Поет! – захохотал раскатисто и неудержимо, осторожно ощупал Костю своими сильным и короткопалыми руками. – Ну, что теперь Европа скажет, а? Европа поднимется и скажет: ты хорошо р-ро-ешь, старый крот! Хорошо р-р-роешь! Кошурников был явно довольнее и веселее самого выздоравливающего. Счастливо посмеиваясь, он ушел осматривать перекат, из-за которого остановились ночевать. На карте была ошибка – это шумел не перекат, а очередной, Петровский порог. Река с разгона ударялась в рыжую скалу на том берегу и делилась надвое. Слева от скалы вода попадала в пенную улову. Из водяного месива этой воронки плот не выцарапать бы никакими силами. Но основную часть реки скала бросала вправо, на крутой слив. Этот слив не был страшен. Главное – скала. Судя по тому, как проплыли палки, брошенные сейчас Кошурниковым, каменный лоб мог разнести плот в щепки. А на постройку нового уйдет еще один драгоценный день. И Кошурников решил сам спуститься в порог. Плот разгрузили, привязали к нему сорокаметровый манильский канат. В горле порога сильная струя подхватила Кошурникова, развернула плот, понесла на скалу. Трос натянулся, и ребят потащило к воде. – За дерево! – крикнул с плота Кошурников. Алеша захлестнул канат за березку. Она нагнулась, но устояла. Плот запрыгал на отбойных волнах, почти у самой скалы, и медленно пошел вправо, к сливу. – Бросай! Зальет! – донеслось с реки. Они отпустили канат. Плот нырнул в бучило. Кошурникова накрыло серой водой. Но вот он показался, сидя верхом на греби, крепко вцепившись в подгребки руками. – Замерзли, Михалыч? – Костя лихорадочно разжигал костер на берегу, ломал красный, высохший, должно быть этим летом, пихтарник. – Трудно вам, Михалыч? Кошурников разжал трясущиеся губы. – Это зависит от пороха. – Не приставай! – сказал Алеша Косте. – Давайте, Михалыч, я сапоги вам стяну. Воду выльем. Кошурников обсох немного у костра, и экспедиция тронулась дальше. Радость от того, что поднялся Костя, что сберегли плот, омрачалась погодой – дул сильный встречный ветер со снегом, который на широких плесах совсем останавливал плот. Пришлось потерять четыре дневных часа. Сидели на берегу, грелись. Снег так и не перестал до темноты. Зима догоняла изыскателей. Кошурников чувствовал, что не сегодня-завтра реку забьет шугой. Как тогда быть? Об этом не хотелось даже думать. Но во время томительной стоянки так было трудно отогнать эти неприятные мысли! Чайку, что ли, вскипятить?.. – Медведь-то, – сказал Алеша. – Медведь-то еще не лег, бродит. Может, задержится зима? – Наверняка. Первый признак, – сказал Кошурников. «Вот дьявол Алешка! – восхитился он про себя. – Понимает, о чем я думаю. Да, медведь не лег, но скоро ляжет. А может быть, это шатун был? Только с чего бы тут шатуну взяться? Кто в этих местах мишку потревожит? Жалко, что Костя упустил первого медведя – поели бы сейчас медвежатинки! Алешка бы его срезал. Он и сохатого сегодня зацепил, хоть и далеко было». – Михалыч! А какие вы еще приметы знаете? – Вокруг солнца круги или дым столбом – к морозу. Собаки в снегу катаются – к метели. Но я больше летние приметы знаю… – Ну, какие, например? – не отставал Алеша. – А вот если птицы заливаются, как оркестр, или муравьи от муравейника далеко расползаются – к вёдру. – Кошурников обрадовался, что нашел тему. – Но для изыскателя важнее знать, когда непогоду можно ожидать. Тут много примет. Тайга шумит глухо, эхо не откликается, туман тянет по горам вверх, дым стелется. А лучше всего за живностью наблюдать. Жди ненастья, если мухи на землю садятся, птицы поют вяло, бурундук тревожно квохчет – старики говорят, нору ищет, чтобы от дождя спрятаться. – Вот это, я понимаю, бюро прогнозов! – восхитился Костя. – Всего и не запомнишь. Я запишу. – А если лагерем стоишь, – продолжал Кошурников, – то сделай себе еловый барометр. – Что за барометр? – Сруби нижний сук у сырой елки. Да подлиннее, метра этак в три. Комельком укрепи на лесине, а за тонким концом следи. К дождю сук будет распрямляться, а к хорошей погоде – наоборот. Надежный инструмент!.. «19 октября. Понедельник 12 часов. Устье речки Татарки, пикет 2191. Остановка из-за ветра, никак не дает плыть, дует с запада и на плесах останавливает плот. На карте указано ошибочно: тот перекат, из-за которого остановились вчера ночевать, был Петровским порогом. Утром я его просмотрел и решил вещи перенести, а плот спустить. Так и сделали. Петровский порог проплыли на плоту, чем сэкономили себе постройку целого плота. От Петровского порога до реки Татарки 11 перекатов. Перекаты проходимые, правда, три из них мелкие, плот задевает за камни, но проходит. В карте нашей не полностью отражена ситуация, однако можно сказать, что с 1909 года до настоящего времени река не изменила своего русла. Заливаемая нижняя пойменная терраса заросла многовековой тайгой, что дает возможность трассировать по ней линию без особого укрепления берегов и регуляционных сооружений. Затруднения будут представлять мостовые переходы боковых притоков, так как они несут с собой много валунов и галечника, который будет загромождать отверстия. В одном километре выше Татарки на берегу увидел сохатого. Журавлев стрелял, ранил, но, очевидно, легко – зверь ушел. Почти у самой Татарки через реку перебегал медведь, хорошо было видно, как он прыгал, а потом поплыл. Было далеко, стрелять нельзя. Погода стоит плохая, С 16-го по 17-е всю ночь шел снег, с 17-го на 18-е тоже. Сегодня ночью снега не было, зато идет сейчас крупными хлопьями, со встречным ветром. Плыть нельзя. Просидели до 16 часов. Ветер полностью так и не стих. Поплыли искать себе ночлег. От реки Татарки прошли еще два переката, из которых второй очень мелкий, так что плот пройти не смог, пришлось опять лезть в воду, толкать стяжками. Это по счету четвертая ванна». Когда застряли последний раз, спрыгнул в воду и Костя, уверяя, что чувствует себя великолепно. Однако его прогнали на плот, и там он сразу же зашелся в мучительном кашле. Обсушились только к полуночи, а Костю снова лечили таежным способом. Перед сном закурили тоненькие цигарки – табаку оставалось мало. – Что день грядущий нам готовит? – спросил шутливо Кошурников, стараясь скрыть от Алеши тревогу за исход изысканий в районе главного Казырского порога. – Грядущий день нам готовит Щеки, – сказал Журавлев. – Опасаетесь, Михалыч? – На карте этот порог Стеной называется. Громов говорит: казырское пугало. – Посмотрим. – Любопытное, должно быть, это место! – Кошурников наклонился с картой к костру. – Но подсечь нашу работу может под корень. Костя проснулся на рассвете, долго не мог просморкаться. – Уже встали? – спросил он Кошурникова, который сидел у костра, повесив голову. – А? Что? – очнулся начальник экспедиции. – Да я так, вздремнул малость. Как чувствуешь себя? – И не ложились совсем? – Костер палил, писал, пикеты считал по карте. Ты знаешь, сколько нам до жилья? Всего километров сто! Отчалили на рассвете. Костя хватался за гребь, но Кошурников приказал ему стоять и считать шиверы. Здесь был очень шиверистый участок – двадцать четыре переката засек Костя до обеда. Потом изыскатели заметили, что река начала выпрямляться, воды в ней будто прибавилось. – Набирает! – крикнул Кошурников, хлюпая гребью. – Гляди, как набирает! Казыр действительно набирал силу. Загустел, напрягся, потащил плот быстрее. На поверхность воды стали выскакивать «глаза», упругие выпучины, на которых подкидывало плот. Вскоре увидели впереди темную каменную стену с рваными зазубринами наверху. Это были Щеки… Подбили к берегу, в нетерпении двинулись к порогу. Река с шумом прорывалась в узкую кривую щель, высоко закидывая пену. – Ну, дает! – уважительно проговорил Алеша. – Хана плоту. – А давайте попробуем, – предложил Кошурников. – Где наша не пропадала! Засветло бы успеть… Как и два дня назад, они разгрузили плот, протащили свободный конец троса на скалы. Все произошло в несколько секунд. Кошурникова с плотом швырнуло в одну сторону, потом в другую, сбило с ног плотным валом, вынесло за гранитную стену. Он подбился к берегу, выцарапался на берег, опрокинувшись на спину, вылил из сапог воду. Греться и сушиться не захотел. Как бы это не выдать ребятам своего волнения? Сейчас должно было все решиться. А что, если все их муки зря? – Полезли на террасу, – сказал. – Тут должна быть интересная горная ситуация. Они стали карабкаться вверх, к небу. В гольцы высокие, В края далекие, По тропам тем, Где дохнут ишаки… Это запел Алеша. Голос у него был неважный, но Кошурникову от этой залихватской песенки сразу стало легче. Алешка определенно чувствовал, что творится на душе у начальника экспедиции. Кошурников очень устал, продрог, и ему было бы слишком тяжело узнать, что прокладка дороги в районе Щек невозможна. Наконец они вылезли на террасу. Вот это да! Все здесь напоминало много раз виденное – округлые, поросшие лесом «шеломы» вдалеке, под ногами обычный курумник – сыпучий камень, ровные, будто оструганные гигантским рубанком площадки у скал. Это было замечательно! Правда, скалы подавляли все вокруг, пугали своим диким видом и массивностью, но дорога-то пойдет у их подножия, по хорошей террасе! Все это казалось чудом. Будто мрачные скалы смилостивились и перед самым приходом изыскателей подвинулись в глубь тайги. – Нам везет, – повеселев, заметил Кошурников: ему словно теплее стало. – Так что мы можем с трассой с левого берега и не уходить. – И довольно дешево обойдется это место, – прикинул Костя, – просто здорово! – Халтурщики, – сказал вдруг Алеша, и товарищи удивленно взглянули на него – они никак не могли привыкнуть к Алешиной манере выражать свои мысли. – Я говорю: почему на карте другое? – пояснил Алеша, заметив недоумение друзей. – Что это за халтурщики тут работали? – Не скажи, – возразил Кошурников. – Герои! Учти, это же было в 1909 году. Инструменты не те, да и надо было тогда каким-то безвестным прапорщикам первым забраться в эту дичь… Темнело. Черные горы будто снова подвинулись к горе. Казыр бесновался внизу. Метров через пятьсот ниже по течению река снова исчезла в расщелине. Оттуда доносился гневный бычий рев Казыра. Изыскатели спустились к берегу. С темнотой Казыр стало слышней, скалы стонали и гудели, отражая бешеный натиск воды. Расположились лагерем у этого чудовища, которое словно пришло сюда из древнего мифа. Кошурникова трясло. Холодная липкая одежда забирала остатки тепла. Начальник экспедиции стискивал зубы, напрягал мускулы груди и шеи, противная унизительная дрожь не унималась. Он стыдился этой слабости, но никто сейчас не смотрел на него – Алеша ушел в лесок драть бересту, а Костя не спеша рылся в мешках, разыскивая топор. Кошурников больше не мог терпеть – прыгнул за густой пихтарник, пошел вприсядку, замахал руками, шумно дыша, стал выворачивать из земли молодую осинку. Отломил у корня, взялся за вторую. Потом он кланялся в землю, расшвыривал камни, прыгал на месте, хлопая по бедрам деревенеющими руками. Он украдкой поглядывал в сторону лагеря – ему не хотелось, чтобы ребята видели его в этот момент. Сердце постепенно согревалось, грудь теплела, но уже давал себя знать ночной морозец – телогрейка совсем задубенела, охватив тело тяжелым панцирем. Прибежал к лагерю, схватил топор и кинулся в горельник, где долго крушил черные деревья, стоящие строго и немо. – Хватит, Михалыч, – сказал Алеша, появившийся рядом. – Идите к костру, я стаскаю. Обсушиться вам надо. Костя возился у костра с ужином. Запыхавшийся Кошурников стал разуваться – ноги у него зашлись совсем. – Михалыч, а что вы в пихтарнике-то бушевали? – спросил Стофато. – Танцевал, Костя. Есть такой танец один полезный – танец живота своего. Модный танец в зимней тайге, кровь разгоняет. Ты его еще не постиг… – Постигну, Михалыч. Еще не все потеряно. – Да, я думаю… После ужина Костя целый час перетряхивал в мешках скарб, разыскивая вьючку из сыромятины. Нашел, разрезал вдоль и терпеливо стал обматывать ремешками свои разваливающиеся сапоги. Потом и он улегся рядом с Алешей. У огня остался один Кошурников. Лишь к полуночи Михалыч согрелся настолько, что мог держать в руках карандаш. «20 октября. Вторник Ночь. Порог Щеки, или, как значится на карте, Стена. Доехали до порога к 16 часам. Прошли еще после дневного чая 6 перекатов. Итого, за день провел через 24 переката, из которых не все уж такие простые. В порог запустили плот на веревке. Двое вели по берегу, а я шел на плоту. Думаю завтра провести плот таким образом, сколько только можно, а потом отпустить. Надеюсь, что плот пройдет целым и мне удастся его поймать ниже порога. Место в окрестностях порога исключительно интересное. Правда, горы не такие мощные, как в Центральных Саянах, но все-таки представляют достаточно внушительное зрелище. Река прорывается в узкую щель, зажата с боков в сильно извилистом ущелье. Повороты есть более чем под прямым углом при ширине реки метров 7-10. Спад очень большой. К сожалению, у меня нет никакого инструмента, которым я мог бы определить высоту падения. Исключительно интересен порог в большую воду, когда река заполняет все ущелье. Глубина ущелья метров 15–20, а выше – по обоим берегам – террасы, которые не отражены на карте. Рельеф и ситуация в этом месте изображены неверно. Для трассирования линии место не представляет никакого труда. Ход по террасе по своей сложности ничем не будет отличаться от других участков трассы, а я при камеральном трассировании представлял себе это место исключительно сложным. Можно легко трассировать линию и левым и правым берегами, в зависимости от того, как это потребуется на других участках линии. На Щеках завтра возьму образец № 6 порфира, который здесь преимущественно распространен. Вообще рассчитываю на Громова, который обещал дать геоморфологическое описание долины Казыра, так как по моим данным вряд ли удастся составить хоть бы приближенное понятие о геологии района. До жилья остается 99 км, то есть такое расстояние, которое можно пройти при любых условиях – зимой, летом, в распутицу, без продовольствия и т. д., так что надеюсь на благополучное завершение своей поездки. Главное, что меня беспокоит, – это то, что я обещал 20 октября приехать. Сегодня уже 20-е, а я еще далек до конца. Будут волноваться, но я ничем не могу дать о себе знать. С продовольствием дело обстоит благополучно. Нет только крупы – нечем заправлять суп и не из чего варить кашу. Хлеба и сухарей имею 30–35 кг, мяса килограммов 50, масла килограмма 2, есть соль, чай; табаку мало. Других продуктов нет, но и с тем, что есть, можно еще свободно жить дней двадцать. Исключительно плохо с обувью у товарищей. У Кости сапоги почти развалились. Он ходит, подвязывая их веревочками (я их принял за 75 процентов годности), есть у него валенки, но у них пятки дырявые, так что можно обувать только на лагере. У Алеши сапоги тоже никуда не годятся, зато есть крепкие ботинки, которые могут его выручить. У меня с обувью благополучно. У нас ни одного рабочего. Все приходится делать самим, а это сильно утомляет. Взять хотя бы ежедневную заготовку дров на ночь. Нужно напилить и стаскать к лагерю кубометра 2–2,5. Самим приходится готовить пищу, а из-за этого один должен вставать в 5 часов утра. Самим приходится делать плоты и перетаскивать имущество через пороги, а это тоже тяжелая работа – без дороги, по камням, бурелому километра 2–3 тащить на себе килограммов 200–250 груза. В таких поездках необходимо иметь двух рабочих, которые могли бы и плот сплотить и вести его по реке. Лоцманские обязанности лежат на мне, а это исключает возможность в пути на плоту делать записи. Многие детали забываются, и вечером их не зафиксируешь. Здоровье Кости лучше». Кошурников стал укладываться у костра. Алеша услышал, спросил: – Еще не спали? – Ложусь. – Писали? – Да. Они помолчали. – Интересно, как там дела, – сказал Алеша, – под Сталинградом? – Думаю, порядок. Сибиряки туда поехали. – А Япония не начнет? – Что ты! Завязла. А хотя и начнет – ни черта они не сделают с нами! – А знаете, Михалыч, мы с женой получили дипломы, и на следующий день – война. Знаете, я другим человеком сразу сделался… Кошурников вспомнил, что и он за один день переменился так, что его перестали узнавать самые близкие друзья. Исчезла безмятежная улыбка, отчаянная бесшабашность, с которой не было сладу. Как все началось для него? Кошурников приехал на недельку в Новосибирск, чтобы утвердить в институте очередной вариант. В субботу они с сыном Женькой подались на Обь порыбачить. Успели еще к вечернему клеву. После ухи Женька заснул у костра, разметав, как дома, короткопалые ручонки. Кошурникову было хорошо – радовала ночь, дымящаяся сонная река, звездная россыпь на небе, а главное – его вариант одобрили, и сын, которого он не видел несколько месяцев, был рядом. Лобастый, кудрявый, похожий на отца, Женька рос заядлым собачником и рыболовом. Кошурников улыбался, разглядывая его крепко сбитую фигурку, думал о будущем сына, мечтал о том, чтобы Женька повторил его жизнь, как сам Кошурников повторял жизнь своего отца. Незаметно сошлись заря с зарей, наступило прозрачное утро. К полудню отец с сыном надергали из реки полное ведро окунишек и щурят, забрались в кусты отдыхать. Но неподалеку появились люди с гармошками и гитарами, завели песни, полезли в Обь купаться. Отец с сыном отошли подальше от них, но вскоре и сюда приехала на массовку какая-то фабрика – женщины заливисто смеялись и пронзительно визжали, редкие мужские голоса звучали восторженно и дико. Кошурников забылся под эти крики, под писк патефона. «В поле» он не замечал воскресений – все дни там походили друг на друга. А здесь неумолчный гомон отдыхающих людей напоминал, что есть такой день на неделе, когда можно петь, плясать и дурачиться, и никто за это не осудит. Вдруг он резко поднял голову – за кустами наступила неожиданная, пугающая тишина. Женька недоуменно смотрел на него. Серые, чистые, как небо в тот день, глаза сына запомнились навсегда. Кошурников вскочил, побежал вдоль берега к людям. Он быстро вернулся, выплеснул в реку улов, заторопил сына. Женька стал деловито собираться. Он ни о чем не спрашивал: если отец что-то делает, значит, так надо. Вагоны пригородного поезда были набиты битком. Встревоженные женщины, враз посуровевшие мужчины перебрасывались короткими фразами. Женька слышал: «война», «Гитлер», «фашисты». На вокзальной площади Новосибирска шел митинг. Кошурников с сыном постояли в толпе, но до трибуны было слишком далеко, и они ничего не услышали. Дома их встретили огромные черные глаза матери, которые не отрывались от Кошурникова, пока он переодевался. Отец уже был у двери, когда она спросила: – Пошел? Кошурников кивнул, хлопнул дверью и загромыхал сапогами по лестнице. Вокруг военкомата стояла густая толпа. Женщин здесь не было. Кошурников пробился к столам, стоявшим прямо на улице. Но ему сказали, чтобы он пока занимался своим делом. Он побежал в институт. Начальник огорошил: – Собирайся в Кулунду, Михалыч. Срочно, к осени, нужен проект участка Кулунда – Барнаул. Людей у тебя, чувствую, будет вдвое меньше обычного. В Кулунде он получил первое боевое крещение. Не легче было Кошурникову и в горах Кузнецкого Алатау. Потом это задание, самое важное и трудное за всю его изыскательскую жизнь. Однако надо было выдержать это, как должны были устоять люди там, на западе, где не выдерживало – гнулось и горело – железо… На рассвете они полезли дальше по скалам. Что еще им готовит этот мрачный бесконечный порог? Не преждевременно ли они радовались вчера? Может, щербатые, нависающие скалы образуют ниже ненавистный изыскателям и строителям «прижим»? Нет, не видно, чтобы горы вплотную подступали к реке. Только в самом конце порога выдается будто бы скалистый мысок. Это уже не страшно. Но Казыр гневался здесь справедливо. Каменные щеки сжимали реку, в десять раз уменьшая ее ширину. Тесный километровый коридор в иных местах поворачивал под острым углом, и брызги тут вылетали даже вверх. Ничем это будущей дороге не грозило, она по-прежнему хорошо укладывалась по террасе. Однако Щеки, вначале порадовав инженеров, нанесли им все-таки коварный удар. В расширениях коридора вода крутилась на месте, перемешивалась, кидалась на отвесные скалы, но в двух узких местах взбитая пена застыла, как мороженое молоко, и вода стремительно проскакивала под крепкими ледяными перемычками. Значит, на Казыре начался ледостав. Зима, необычно рано наступившая, все-таки догнала изыскателей… «Почему так рано? – думалось Кошурникову. – Ведь, по сводкам, здешние реки встают примерно через две недели. Может, будут еще оттепели? Берега чистые – ни одной примерзиночки нет, а тут перехватило. Место здесь узкое, и пену взбило – вот в чем загвоздка. А вдруг в этом году ранняя зима? Чем черт не шутит? Что тогда делать? Выйдем мы или…» Один Кошурников понимал всю опасность их положения. Стоять и смотреть сейчас на лед было нельзя – начнутся ненужные разговоры, и кто-нибудь из ребят выскажет то, что он сам от себя скрывал. Сказал: – Километра три будет от лагеря? Что ж, начнем вещички таскать. Они вернулись к месту ночевки, подхватили на плечи по мешку и пошли назад, обходя камни, поваленные деревья, кусты. Вскоре Кошурников с самым тяжелым мешком обогнал их. Ребята остановились отдыхать. – Ты так делай, как я, – говорил Алеша. – Наметил впереди колдобину либо камень и дуй, пока не дойдешь. Не обращай внимания, что плечи больно. Дошел до места – следующий ориентир намечай. И шаги считай. Все полегче… Костя носил вещи наравне с Алешей. Он совсем оправился от болезни, даже сморкаться перестал. Но как все-таки тяжел этот мешок! Поднимешь – ничего, все начинается потом. На отдыхе ноги бессильно подгибались и дрожали. Казалось, их уже никакими силами не распрямить. Но Костя ни за что на свете не бросил бы сейчас работу! Особенно тяжелым был конец пути. К этому моменту деревенела спина и глаза совсем заливал соленый пот. Но главное, к реке в этом месте спускалась крутая скала. Мелкие, покрытые инеем камни скользили под ногами, и Косте казалось, что здесь куда разумнее катить мешок. Но этого было делать нельзя – порвется, посыплется все. К концу второго рейса он уже шел, почти ничего не видя, слизывая с губ соленую влагу, которая натекала и натекала со лба… – Ты хорошо роешь, старый крот! – услышал он голос Кошурникова. – Давай-ка сюда свой мешок. Последний? Костя мотнул головой, пошел дальше, а Кошурников шуршал камнем сзади и просил: – Ну, брось дурака валять. Костя! Давай подсоблю. Я же отдохнул уже. Вот упрямец! Ну, ладно, разжигайте там костер, а я схожу греби и подгребки заберу, чтобы не вырубать завтра – только одни проушины топором долбить целый час надо. Ведь мы посеяли где-то долото… «21 октября. Среда Изумительно красивое место этот порог! Вчера мы видели только его начало. Дальше, через небольшой промежуток, всего метров 600–700, река снова входит в узкие щели и течет почти на протяжении целого километра по извилистому узкому коридору. Ширина коридора местами достигает вряд ли более 10 метров. Очень интересно здесь во время паводка, когда вода заполняет этот коридор до самого верха, а он в некоторых местах достигает глубины 20 и более метров. В таком высоком подъеме воды я убедился по наносам, которые лежат на верху скал, ограждающих коридор. По левому берегу есть разрубленная дорога, которой пользовались для перетаскивания лодок волоком, в обход порога. Сюда заходили минусинские охотники-соболятники лет 20 назад. Сейчас тропой никто не пользуется, и она местами завалена и заросла. Тянется эта дорога только в пределах самого порога, а дальше нет, и вот здесь с вещами идти очень плохо. В конце порога с левого берега вплотную к реке спускается скала – единственное препятствие для трассирования линии левым берегом. Здесь на протяжении метров 70 нужно или рубить полку, или идти в тоннель той же длины, или выше в пазухе класть линию на подпорную стенку длиной тоже 70 м при высоте 8 м. В этом отношении правый берег здесь лучше. В пределах порога на всем протяжении имеется терраса, по которой можно легко уложить трассу. В полной гармонии с красотой природы и геологическое строение образующих порог скал. Я здесь собрал очень интересные образцы горных пород. Имеются граниты, серые крупно – и мелкозернистые, исключительно красивые розовые граниты и гранит-порфиры, зеленые серпентины и змеевики. Ночуем ниже порога Щеки. За целый день только и сделали, что перетащили свои монатки на 3 км. С плотом пришлось проститься. Как будто получается то, чего я больше всего боялся. В пороге в двух узких тихих коридорах река стала. Забило шугой, и вряд ли до весны растает. Если так будет дальше, то перспектива у нас не особенно завидная…» Неужели они не убегут от зимы, наступающей так необычно рано? Кошурников долго сидел и думал. Планируя работу на завтра, вспомнил Громова и его советы насчет того, где за Щеками лучше всего делать плот. Громов почему-то говорил, что плот надо вязать ниже Мастки, притока Казыра. Что за непонятный совет? Ведь если так, то нужно будет тащить на себе вещи еще километра полтора! И так устали все до изнеможения. Костя спит у костра, даже не пошевельнется. А морозит! Надо будет накрыть парня, а то опять простынет. Начальник снял с себя полушубок, надел телогрейку и плащ, набросил теплую овчину на Костю. – Старый крот, – сказал он шепотом, – хорошо роешь… Костя не проснулся. До утра не проснулся. А на реке всю ночь потрескивало. В ЛЕДЯНОМ МЕШКЕ Пьем до дна горькую чашу испытаний. Утром стало ясно, почему трещал Казыр. За ночь замерзла вода, которая оставалась в котелке. Такого еще не было. Да, догнала их зима-злодейка… И когда Кошурников с Алешей осмотрели реку, то обнаружилась главная беда: под порогом, на глубоком и тихом плесе, Казыр был скован сплошным неровным льдом. Пройти бы ниже, но путь перерезала Мастка – левобережный приток Казыра. С правого берега в омут вливалась Малая Мастка. Наверное, за ночь эти-то речонки и притащили с гор «сало», которое смерзлось на плесе, отрезало путь к низовьям Казыра. «Сало» и сейчас еще плыло по Мастке сплошной массой. – Главное, зашуговано – дна не видно, – сказал Алеша. – А то бы я попробовал перебрести ее с шестом. – Еще чего! – возразил Кошурников. – Пропадешь как пить дать. Лесину надо валить на ту сторону… Они прошли вверх по Мастке – подходящего дерева не было, здесь рос только ольшаник. Так вот почему Громов указал место постройки плота ниже Мастки! Но как же быть? Как прорваться к чистой казырской воде, чтобы срубить там новый плот? – Ледяной мешок, – обронил Журавлев. – Михалыч, нет ли с собой махорочки? – Кури. Еще денька на три у нас табаку, а до жилья дней пять. – Он отсыпал товарищу щепотку коричневых крошек. – Действительно, мешок. Но дырочка есть в этом мешке. И он изложил свой план: перенести вещи по льду на правый берег Казыра, если лед, конечно, выдержит, перекинуть через Малую Мастку дерево – речка течет по кедровнику – и там выйти к воде. Сощурясь, Кошурников вглядывался в противоположный берег. – Только что-то не видно там ни пихты, ни ели. Этого нам еще не хватало! – Так я пойду туда, пожалуй, погляжу, – сказал Алеша. – Я полегче вас. Он подобрал длинную палку, ступил на лед. Отошел метров двадцать, поплясал. – Крепкий, Михалыч! Ступайте за барахлом – я мигом! Кошурников следил за ним, пока тот не выбрался на противоположный берег. До ночлега было километра два. Костя сразу помрачнел, когда Кошурников объяснил ему обстановку. Он с тоской подумал о том, что снова придется гнуться целый день под мешками, слизывать грязный пот, скользить на округлых, подернутых изморозью камнях. Однако теперь он был уверен, что выдержит эту каторгу. Они собирались долго, тщательно перекладывали сухари, мясо, посуду, инструмент – хотелось сделать мешки более компактными. Ведь теперь надо было таскать груз не только по камням, но и по льду и по дереву, которое они думали свалить на правом берегу через Малую Мастку. Наконец взвалив на плечи по мешку, полезли по камням наверх, потому что к воде здесь скалы падали отвесно. – Что-то Алеши долго нет, – сказал на отдыхе Костя. – Ничего! Парень на добром тесте замешен, – отозвался Кошурников, однако и ему в сердце закралась тревога. – Сейчас подойдем к перемычке. Пошли скорей. Из-за мыска показался лед. Солнце, которое только что взошло, серебрило его мелкими блестками. Вдруг Кошурников заметил, что вдалеке из-под берега выползает темная фигурка. – Алеша-а! – закричал Кошурников, бросил мешок, кинулся к берегу. Но Алексей уже поднялся и затрусил мелкой рысцой ему навстречу. Он был мокрый с ног до головы, руки поцарапаны до крови, и скрюченные пальцы не разгибались. – Как это ты провалился? Хорошо, что живой еще! Что случилось? Трясясь от холода и приплясывая, Алеша едва проговорил: – Щеки. – Что Щеки? – Пропали Щеки. Пленку замочил. Запалите мне костерок – руки судорогой свело. У меня в холодной воде всегда судороги… Алеша согрелся немного, дождался, когда Костя уйдет за новым мешком, и сказал: – Беда, Михалыч, еще одна… – Что такое? – Вы правы – пихты там нет. Один кедр. – Ничего, Алеша, кедровый сделаем. Главное, ты цел. «22 октября. Четверг Неудачный день. Утром с Алешей пошли смотреть реку. Оказалось, что выше Мастки река замерзла на протяжении свыше 200 м. Мастку перейти не могли. Речка большая, вся зашугована, перейти можно только по пояс в воде, на что мы, разумеется, не рискнули. Нужно делать мост, но у нас с собой не было топора, да и поблизости нет подходящего дерева, чтобы перебросить сразу с берега на берег. Решили перейти на правый берег и там делать плот, что чуть не стоило жизни Журавлеву, который провалился под лед и едва выцарапался на берег. Главное, плохо то, что был он один, и если бы не вылез сам, то мы со Стофато хватились бы его не раньше чем часа через два. Однако все обошлось благополучно, если не считать того, что он подмочил пленку и, вероятно, пропала пленка со съемкой порога Щеки. На правом берегу опять неудача. Нет сухостойной пихты. Придется плот делать кедровый, а он гораздо хуже пихтового. Ходил вниз по реке ниже Малой Мастки. В одном месте река почти насквозь промерзла, остался узенький проливчик. Если будет мерзнуть таким темпом дальше, то не может быть и речи о дальнейшем путешествии на плоту. Делаю последнюю попытку с плотом». Кошурников не мог больше писать – так устал за день. Не всякий грузчик согласится на эту работу – таскать мешки по камням, шершавому, но все равно очень скользкому льду, балансировать с грузом на зыбкой молодой кедрушке, перекинутой через глубокую быструю речку. Опасное это было дело. Ведь стоило сорваться с мешком вниз – и все, крышка! Накроет с головой ледяная вода, остудит моментально, завертит, забьет стремительными струями. По льду было тоже не сладко идти. Весь день грело солнце, и с каждым часом ледяное поле подтаивало. Лед становился скользким посредине реки и ненадежным у берегов. Изыскатели спешили – могла повториться вчерашняя история, только с более печальным концом. Они теперь ходили втроем на некотором расстоянии друг от друга, а у берегов Казыра накидали на лед длинных осиновых жердей. Алеша таскал груз наравне со всеми, но иногда сбрасывал мешок и натужно кашлял – он все-таки здорово простыл вчера. Между прочим, по собственной вине. Оказывается, чтобы убедиться в прочности льда, он прыгнул на него с крутого берега и ухнул по шею. Спасла палка, что была в руках, да сравнительно мелкое место. Сейчас он храпел у самого огня, подвигался к костру и отодвигался от него с закрытыми глазами, не просыпаясь. А лесу на дрова они натаскали какого попало, в основном это был гибник. «23 октября. Пятница Весь день делали плот. Леса под руками нет, приходится рубить далеко от берега и на себе таскать бревна, а кедровые бревна очень тяжелые. Не знаю, как будет плот держаться на воде. Если будет сидеть глубоко, вероятно, придется сделать новый там, где есть пихта. Погода сегодня исключительно хорошая. Тепло, как летом. Работали в одних рубашках. Лед на реке немного подтаивает. Шуги утром не было. Если такая погода простоит дней 5–6, то поспеем проплыть на плотах, если же опять заморозит, то плоты придется оставить и идти пешком. Всего по Казыру на сегодняшний день пройдено 100 км, из которых 64 на плоту и 36 на оленях. Эти расстояния, конечно, по трассе. В натуре нужно считать с коэффициентом 1,5. Очень короткий день. Всего светлого времени 10 часов, а за это время много не сделаешь. Сегодня вечером починка одежды. У всех что-нибудь да надо починить – у кого обувь, у кого одежду. Рвется очень сильно да вдобавок у костра горит ночью. Почти каждую ночь погорельцы. В частности, вчера ночью прогорели у Алеши ватные брюки, а у меня стеганка. Чувствуется общее утомление у ребят, да и у меня тоже. Правда, никто об этом не говорит, однако заметно. Я тоже что-то начал сдавать, нет уже той неутомимой энергии, которая была раньше. Очевидно, сказываются годы». Плечи ныли – наверно, он набил бревнами синяки. Нет, такая нагрузка, как в эти несколько дней, была явно чрезмерной. Это почувствовал даже он. Что же говорить о Косте? Вечером, шатаясь от усталости Костя пришел к костру с последней порцией дров. Кошурников думал, что он свалится сейчас, не дожидаясь ужина. Однако Стофато терпеливо сидел у костра вместе со всеми, потом поел супу из оленьего мяса и стоически уселся чинить сапоги. – Однако, и я свои дыры позашиваю, – сказал Кошурников, – за компанию… – И я тоже штаны прожег, – подал голос Алеша. Костя связывал и рвал ремешки и снова связывал. Время от времени грел руки в костре, сплевывал в темноту, поглядывал на товарищей, которые бережно, будто бесценный алмаз, передавали друг другу единственную иголку экспедиции. Вскоре после того, как Стофато забыл мешочек с долотом, гвоздями, нитками, иголками и дратвой, Кошурников обнаружил иголку в своей шапке, а в мешке у Кости нашел завалящий моток белых ниток. Костя некоторое время следил, как осторожно, чтобы не сломать, Кошурников втыкает иглу в телогрейку, и вдруг сказал: – Это меня проклинать надо. Я иголки и дратву посеял. Растяпа я, свинья… Алеша медленно поднял голову, хотел что-то сказать, но Кошурников опередил его: – Никто из нас тебе этих слов не говорил, Костя. – Вместе с долотом, – упрямо продолжал Стофато. – Это я. – Н-но? – притворно удивился Алеша, будто только что узнал об этом. – А ты не тужи, Костя, – сказал Кошурников, – не убивайся – не вернешь же теперь. …Кошурников спрятал дневник, глянул на ребят. Они лежали рядом, прижавшись друг к другу. Но Стофато все вздыхал почему-то, кашлял, поднимал иногда голову и снова кидал ее на мешок. – Михалыч! – вдруг окликнул он. Голос его был свежий и крепкий. – Что я вам скажу, Михалыч! Алексей! Жене не сказал бы, а вам скажу. Вот ты, Алеша, ты бы пошел сейчас под Сталинград? Ну, вообще на фронт? Журавлев рывком приподнялся. Спросонья он ошалело моргал глазами, дышал коротко, отрывисто, и при каждом выдохе грудь его тяжело опадала. – На фронт? А че? Было б курево… – Но это ты, Алешка, это вы! Вы не знали, а я ведь был другой. Но теперь… товарищи! Михалыч! У меня вот на днях, я сейчас высчитал, должен ребенок родиться. А я пойду! Мне не страшно. Я узнал, какие бывают люди. Михалыч! Дайте вашу руку… От неожиданности Кошурников не мог сказать ни слова, только ощутил большие и твердые мозоли на тонкой ладони товарища. – Да ложись ты, чумовой, – заворчал Алеша низким, охрипшим голосом. – Тоже мне философ… Назавтра они миновали такие же, как перед Щеками, водяные грибы, очень удачно проскочили безымянный порог, хорошо провели плот через четыре шиверы, хотя зацепляли за камни не раз. И тут увидели, что на мягком повороте реку от берега до берега стянуло льдом. Снова бросать плот? Плот, который достался таким нечеловеческим напряжением сил! В молчании прошло несколько тягостных минут. У кромки предательской перемычки звонко хлюпала сизая волна. Вода была и за этим ледяным перехватом. Три обросших, усталых человека жадно смотрели на нее, желанную, но недосягаемую. Плот глубоко осел под берегом. Он был для них самой большой драгоценностью. Неужели придется за перехватом опять валить смоляные лесины, таскать по колоднику тяжелые, будто свинцовые, бревна? Силы-то уж не те, и покрытые синяками плечи болят от вчерашней каторжной работы. А главное, уйдет время. Им дорог был теперь каждый час. Если морозы не скуют реку, через несколько дней изыскатели будут на погранзаставе. – Недолго же он нам послужил, – сказал наконец Костя Стофато, закуривая. Едва слышно пискнула спичка, брошенная в воду. – А пихты и здесь нет, – оглядев берега, проговорил Кошурников. Он глубоко затянулся табачным дымом. – Хотя гибник и кончился. Снова таскать за перехватом кедровые комли… – Надоело, по правде говоря, – сказал Алеша. – Плечи болят. Кошурников в задумчивости пошел к берегу, а Журавлев скинул мокрый плащ, спрыгнул на лед и в ярости начал бить стяжком по ледяной кромке. Отломился большой кусок. Бездействие сейчас было хуже всего, и Алеша кинулся на лед, наверно, для того, чтобы отогнать тяжелые мысли. – Попробуем прорубиться, ребята, – сказал Кошурников, возвратившись. – Где наша не пропадала! Тем более что лед подтаял… Алеша стал насекать топором глянцевитую белую поверхность, а двое обламывали кромку. Богатырски размахиваясь, Кошурников крушил лед тяжелой вагой. Ознобили неловкими ударами руки, вымокли, а за два часа работы прошли лишь половину перемычки. Во время чая Кошурников внимательно оглядел небо. – Тучи идут, снова теплеет, – повеселев, сказал он. – Нам бы пробиться к Базыбаю. От этого порога до жилья рукой подать. Скоро, правда, Китатский будет – крепкий орешек. Но Громов говорил, что его можно пройти боковой протокой. А от Базыбайского три дня, дольше не протянемся. Там километров пятьдесят всего до погранзаставы… Он достал мешочек с табаком, отсыпал всем по маленькой щепотке. Алеша отрицательно мотнул жесткой свалявшейся бородой: – Все! – Что «все»? Ты это что, паря? – Бросил, – просипел Алеша. У него после «купания» совсем пропал голос. – Давно собирался, а сейчас – все! И не растравляйте меня, Михалыч. Слово дал… Кошурников начал курить еще мальчишкой, в партизанском отряде, и дымил напропалую всю жизнь, заменяя в случае нужды ужин доброй затяжкой. Он вечно посмеивался над бросающими курить, однако в душе завидовал им. Правда, здоровье у него было железное, и он продолжал дымить почем зря. Но неужели Алеша так силен, что в такой момент решился? Снова ступили на лед. Дело пошло хуже – давала себя знать нагрузка последних дней. Стало темнеть. Кошурников сказал: – Идите, ребята, на берег. Дрова собирайте. Придется и ночевать здесь. А я подолблю еще, пока видно. Через полчаса он пришел к костру мокрый, ссутулившийся. Ребята лежали у жаркого огня на кедровых ветках. – Метров десять осталось. Завтра утром продолбим, – сказал Кошурников виновато. – К костру, знаете, тянет, сил нет… Но молодые инженеры не слышали его, спали. На огне стояла большая кастрюля, и вода в ней уже наполовину выкипела. Кошурников сходил на плот, принес мешок с продуктами, отрубил мяса. Еще вчера у них кончилось масло. Кончились вообще все продукты, кроме сухарей, оленины и соли. Оставалась, правда, одна буханка хлеба, но трогать ее не хотелось. Каждый ужин Кошурников говорил: – У нас, ребята, еще целая буханка хлеба. Жить можно… Хотел и сейчас он это сказать, но товарищи спали. И хорошо, пусть спят! Молодцы, что под кедром лагерь разбили, а то начал накрапывать дождь. Вскоре дождь усилился, сплошной водяной стеной обгородил могучий кедр, плотная хвоя которого до утра будет держать воду, не пустит к нижним сучкам. Какое это все-таки золотое дерево! Правда, смоляное очень оно и поэтому тяжелое, однако в остальном к нему претензий быть не может. Главное, ночевать под ним сухо. Дождевые капельки мягко падают на длинные кедровые иглы, расплываются по сучьям, пропитывают кору ствола, зеленый мох. Дерево стоит, налитое водой, но под ним сухо, мягко, покойно. А вокруг все шумит, трепещет под дождем. Каждая капелька падает неслышно. Десять капель издают мышиный шорох, а миллиард – такой шум, что надо действительно устать, чтобы спать под этот глухой таежный гул… Как всегда по вечерам, Кошурников достал блокнот. «24 октября. Суббота Ночевка на правом берегу Казыра, на устье ручья, что впадает в Казыр на 1918-м пикете. Опять не повезло сегодня. Отплыли хорошо. Хорошо, даже очень хорошо прошли порог ниже устья Малой Мастки. Благополучно прошли еще 4 шиверы, и на поворе реки нас постигла неудача. Река замерзла на протяжении около 200 м. Сначала думали бросить плот, но потом осмотрел место, посмотрел лед и решил прорубаться. Прошли сквозь лед метров 150–170. Выручили два теплых дня – вчера и сегодня. Лед подтаял и довольно легко долбился. Очень хотелось сегодня пройти Китатский порог, но ничего не поделаешь, против природы не попрешь. Сейчас идет дождь – это хорошо. Поднимется температура воды, и растают перехваты, которые, вероятно, ожидают нас еще впереди. Плохо только то, что вместе с этим растает и наше мясо, которое за последнее время так хорошо замерзло. Ниже впадения Малой Мастки опять пошла живая тайга по обоим берегам. Ехать приятнее. Уж очень безотрадное впечатление производит этот погибший лес. Против впадения Большой Мастки на правом берегу взял образцы гранит-порфира и жилы, которая прорезает его. Ребятки намаялись на льду и спят. Я готовлю ужин. Завтра при благоприятных условиях пройдем километров 20». Мясо сварилось. Кошурников растолкал товарищей. – К столу прошу! К столу! Когда поели и откинулись на ветки, Кошурников сказал сквозь сон: – У нас еще целая буханка хлеба есть. Жить можно, ребята. Дождь среди ночи перестал. Однако вода не успела уйти в землю. Мороз остановил ее и превратил на поверхности в широкие ледяные окна. Мох, из которого вчера, как из губки, отжималась под ногами вода, стал твердым, будто камень. Мороз показал, кто сейчас в тайге настоящий хозяин. Он хватал и останавливал воду на лету. На деревьях и кустах висели прозрачные гирлянды. Они едва слышно позванивали под ветерком. Изыскатели поели холодной оленины, погрелись чайком и, спустившись к реке, быстро прорубили остаток ледяной перемычки. – Ну, ребята, Китат скоро! – сказал Кошурников, берясь за переднюю гребь. – Если протащим плот протокой, о которой говорил Громов, то денька через три-четыре в бане будем мыться. С заставы в Абакан двинем, а оттуда – домой… – Деньги есть у нас, Михалыч? – Туго с этим делом. Шестьдесят два рубля всего осталось. – Не беда, – сказал Алеша. – До людей бы добраться… Кошурников оттолкнул плот от берега и подумал о том, что людей хорошо бы и сейчас встретить. Он внимательно оглядывал берега: нет ли где костра? Но мимо проплывали безлюдные скалы и лес, лес и скалы, а в синей дымке впереди виднелись все те же округлые, поросшие лесом горы. И все так же тянулась над берегом удобная и ровная терраса. Прошли три шиверы и даже не царапнули плотом о камни, хотя под грузом кедровый плот давал глубокую осадку. – Скоро Братья будут, а там и Китат, – сказал Кошурников. – Вот они, Братья! Из воды торчали два очень похожих друг на друга камня. Громов велел идти между ними. – Бей лево! Крепше! Камни стремительно побежали навстречу. Они стояли как раз посредине реки и имели, наверно, солидную подводную часть, потому что вода тут была черной, а река сжималась между ними, «набирала». Если держаться с помощью гребей точно посредине, то ничего страшного собой эти камни не представляли. Но лоб каждого из Братьев дробил и разбрызгивал воду, и на отбойных волнах зыбилась и металась пена. Братья расступились, пропустив плот, который тут же нырнул неглубоко на сливе. – Громов говорил, что Братьями эти камни не зря зовутся, – обернулся Кошурников с передней греби. – Ему кержаки рассказывали, будто с первыми соболятниками – лет пятьдесят назад – пришли в верховья два брата. Они ограбили лабаз с пушниной товарищей, но их перехватили у Щек и пустили по Казыру на салике без гребей. Где эти камни стоят, они и погибли… Ребята посмотрели назад, но Братья уже скрылись за поворотом. Кошурников сказал: – А сейчас Китат будет. Красота, говорят, неописуемая. Все были уверены, что Китатский порог, который показался впереди, удастся пройти. Если нельзя будет спустить плот на канате, то его перегонят по протоке. Ведь у Кошурникова в блокноте был нарисован план порога. И Громов советовал сразу бить вправо, к протоке. Подбили к берегу. Ребята начали разгружать плот, а Кошурников пошел осматривать порог. Нет, спустить плот не удастся – порог был совершенно непроходим. Скалистый остров из черного и белого камня сбивал Казыр влево. Если направить плот этой матерой, то он погибнет на огромном камне с водяной подушкой. Но даже если он чудом минует это препятствие, его раскатают потом по бревнышку причудливые скалы, где пенистая вода металась и не находила выхода. За тысячелетия камни-вертуны выточили в этих скалах фантастические бутоны, гроты и купола. Сейчас, в малую воду, эта удивительная сказка Саян была видна во всей своей красе… Но Кошурникова больше интересовала протока. Однако где же она? Никакой протоки не было. Было каменное русло, по всей ширине которого торчали острые гранитные глыбы. Может, в большую воду, когда шел здесь Громов, плот и протаскивался, но сейчас это было невозможно. Кошурников вернулся к плоту. – Ну? – нетерпеливо спросил Костя. – Михалыч, как? Пройдем? Начальник экспедиции отрицательно покачал головой, молча стал сбрасывать мешки на берег. Ему не хотелось ничего объяснять – ребята сейчас все увидят сами. Втроем пошли с мешками к порогу. У протоки остановились, сбросили груз с плеч. Алеша долго смотрел на серые камни, сплюнул и прохрипел: – Целуйте. – Что такое? Кого целовать? – Меня. Они глянули на черную и жесткую, похожую на грязное помело бороду Алеши, засмеялись. Это была хорошая разрядка. – Целуйте, – серьезно повторил Алеша, не спуская глаз с реки. – За что тебя целовать-то, Лешенька? – все еще смеясь, спросил Кошурников. – Можно спасти плот. Кошурников внимательно посмотрел на товарища. Уж не спятил ли Алешка? Да нет, не заметно будто бы. Дурачится, может быть? – Шутишь, Алеша. – Не до шуток, Михалыч. – Да брось, на самом-то деле! – Смотрите, – протянул руку Алеша к реке, – мы загоняем плот в эти камни, расшиваем его и переносим по бревнышку. Тут недалеко нести, совсем рядом – это же не Щеки. Как это Кошурников сам не додумался? Мороки, конечно, тоже много, но ведь не валить новые кедровые лесины, не таскать их из лесу, не запиливать пазы! И ронжины можно сохранить и подгребки! Кошурников ринулся к Алеше. – Ну-ка, наклонись!.. Алеша сопротивлялся, но Кошурников сгреб его своими руками-рычагами, звонко поцеловал в губы. Алеша вытерся рукавицей, сказал: – Не то. – Мало тебе? А ну, Костя, добавь! – Да я не про это, Михалыч! Я про другое. – Алеша понизил голос. – Сила не та у вас в руках стала, Михалыч. – С этой силой еще жить можно! – сразу помрачнев, сказал Кошурников. Они пошли дальше, в обход порога. Кошурников шел впереди, бодро покрикивал на отставших. Но вот он побежал, потом сбросил с плеч мешок, в котором громыхнула посуда, и сел бессильно на землю. За его спиной застыли товарищи, не отрывая взгляда от реки, – широкий плес под порогом был затянут льдом. Проклятый Китат, наверно, давно уже наморозил шуги, которая туго забила реку, намертво схватив серые берега – монолитный мелкозернистый гранит. Алеша, у которого скорбно сжались губы, сказал: – Напиться бы сейчас, чтоб на бровях ходить. – Да нет, нам еще надо плот построить да доплыть на нем до заставы, – Кошурников был серьезен, как никогда. Он знал, что нервы у всех напряжены до крайности, но ничего не мог придумать, чтобы смягчить удар, возродить надежду, которую развеял Китат. А зачем жалеть наш плот? Кедровый был, тяжелый. За перехватом пихта сухая под самым берегом, видите? Несколько дней нам до пограничников осталось… Он говорил и говорил, не давая ребятам сосредоточиться на мыслях, которые он, говоря, гнал и от себя. – Мы сейчас классный плот соорудим. Гарь у перехвата, а пихта очень легкая, если пройдет верховой пал и она еще постоит пару лет, посохнет. Обед сварим – буханку нашу употребим. А то она весит порядочно… – Не надо, Михалыч, – попросил Алеша, – все понятно. – Может быть, это одно такое гиблое место? – сказал Костя. – Плес здесь очень широкий и спокойный. Вот она и замерзла… – Конечно, здесь гиблое место, – подхватил Кошурников. – Порог выбил яму, вода в ней успокаивается и на плесе застывает. Но главное – шуга. Китат воду месит и сало бьет, как в маслобойке… Он говорил это, хотя точно знал, что ниже их ждут другие перехваты. Все объяснялось просто: после Щек, где был очень большой перепад, Казыр стал посмирнее, и ледостав тут идет быстрее, чем в верховьях. Да и зима уже, видно, прочно вступила в свои права, хотя по времени еще рано. Но как и чем придать ребятам сил? Но ребята уже сами понимали, что до жилья придется пробиваться с муками, перед которыми, может быть, побледнеет все предыдущее. Костя и Алеша мужественно боролись с бедой. Безостановочно таскали вещи, потом быстро повалили две пихты, напилили бревна для става, разделали пазы. Кошурников один таскал бревна к берегу, готовил дрова для ночлега, принес греби с брошенного плота. Во время обеда он достал заветную буханку и разрезал ее, а под вечер долго ходил по берегу один, осматривая террасу и что-то записывая в блокнот. «25 октября. Воскресенье Опять неудача. Ночуем ниже Китатского порога, примерно на пикете 1895. До порога дошли очень скоро и благополучно. Примерно в 800 м выше порога имеется крутой слив, однако к нему хороший заход и посредине только два камня, которых легко избежать. Этот слив прошли хорошо, хотя вал довольно значительный, на плот плещет почти по колено. Кроме этого слива, от пикета 1918 до Китатского порога имеются еще три переката, которые легко проходимы. Выше порога пристали к берегу, и я пошел посмотреть порог. Посредине реки скалистый остров, основное русло идет слева, где и находится, собственно, Китатский порог, а справа небольшая протока, загроможденная камнями. В большую воду протокой можно спустить плот, а при теперешнем уровне это почти немыслимо. Кроме того, ниже порога река замерзла шугой, так что пройти с плотом совершенно невозможно. Сам порог непроходим при любой воде. Вещи пронесли по правому берегу и на правом же берегу в рекордно короткий срок – за 5 часов – срубили новый пихтовый плот. На утро работы осталось максимум на 1–1,5 часа, и поплывем дальше. На берегу около порога выступают скалы серого мелкозернистого гранита. Обращает на себя внимание его монолитность. Имеются массивы, совершенно не расчлененные трещинами, объемом в несколько сот кубометров. В 50 м ниже нашей ночевки, в гранитной скале у ее подошвы, есть пещера глубиной 5 м, шириной 2,5 м, при высоте около 1,5 м. В пещере остатки костра, очевидно, кто-то в ней ночевал. Интересно, ниже пещеры метрах в 10–15 (по течению реки) из-под скалы бьет родник. Кругом много пней срубленных деревьев. В пределах самого порога, на протяжении метров 400–500, гарь по обоим берегам реки. Ниже порога живая тайга. Как по тому, так и по другому берегу легко можно трассировать линию при небольшом количестве скальных работ на разработке отдельных выдающихся скал. В том и другом случае трасса ляжет по надпойменной террасе. Есть камень, песок, лес. Завтра дальше в путь. Мало продуктов. Сегодня доели хлеб, сухарей осталось дня на четыре, табаку на два дня. Имеем килограммов 30 мяса и соль. С этим еще, можно жить. До жилья остается 90 км, если раньше не встретим рыбаков артемовского Золотопродснаба. Нужно торопиться. Если река со своими ледяными перехватами не подведет, то все кончится вполне благополучно, в противном случае придется немного поголодать, вернее, посидеть без хлеба. Неприятно, что опаздываю. Вероятно, обо мне уже по-настоящему беспокоятся». «…Уже пять дней лишних в тайге. Наверное, друзья в Новосибирске шум подняли – я всегда был точен в своих расчетах. Но кто же мог знать, что эта река такая работная? Кто же предполагал, что зима нас застанет здесь? Рацию вот не дали нам с собой, а то бы все упростилось. Хотя какая тут рация! Мы бы давно ее угробили на плоту. А как теперь? Если река встала выше заставы, то рыбаки уже не пройдут сюда и пограничный катер не пробьется. А охотники будут ждать крепкого снега – без лыж сюда не суйся. Самое противное время в году. Только самолет, конечно. Друзья могут учудить – нанять „кукурузника“. Но это будет слишком дорого, и я всыплю им за расходование денег экспедиции, когда отсюда выйду. Ведь все равно нас будет трудно найти – пикета своего я же не могу им сообщить. Впрочем, пролетит один раз – костер будем палить. Хотя бы хлеба буханок пять сбросили да сапоги…» Он дописал дневник уже ночью, когда ребята спали. А вдруг на самом деле нет больше льда на реке? Ведь впереди Базыбай – почти водопад, да и здесь Казыр бежит хорошо. Может, это под Китатом только такое гиблое место, а ледостав на Казыре еще не начался?.. От реки, как всегда по утрам, поднимался пар. Три измученных изыскателя спустили на воду новый плот. На него сейчас был весь расчет. Быстрый Казыр, который вымотал из друзей столько сил, мог стать и единственным их спасителем. Река охотно подхватила утлый плотишко, понесла, понесла… – Шивера, Михалыч! – крикнул глазастый Алеша. – Вижу. Ерунда. Проскочим. Бей лево! Крепше! – кричал Кошурников в такт ритмичному покачиванию греби. – Дайте сменю, – попросил у него гребь Костя. Миновали еще один перекат. Река на нем сильно бурлила и тут же разворачивалась на плавной косе. Казыр понес плот неохотно, лениво. – Ну, друзья, – сказал Кошурников, – если чисто за этой излучиной, то дальше… Он не успел договорить. Плот выскочил на прямую. Изыскатели бросили греби и безучастно смотрели, как холодная зеленая струя несет их к ледяному полю. Плот ударился о кромку, нырнул было под лед, но застопорился на подгребках. – Метров триста, не меньше. – Не пробиться. Лед толстый. – Может, под перехватом новый свяжем? Смотрите, какой тут пихтач… – День потратим, а через два-три километра такой же сюрприз. – Что ж делать? Эх, Казыр, Казыр! Ну, скажи, как быть-то? Назад ходу нет. Справа и слева – заснеженная тайга, неприступные хребты, гольцы в облаках. Впереди – лед. Мешок, ледяной мешок… НЕ БЫВАЛ ДЖЕК ЛОНДОН В СИБИРИ Жаль только, что быстро идти нельзя: устали мы сильно… Но все-таки пойдем вперед до последней возможности. Кошурников ушел на ледяной перехват. Ребятам казалось, что он движется слишком медленно. Вот добрался до конца ледяного поля, постоял у кромки, направился к берегу. – Переживает, – сказал Костя. – Есть от чего… – Бывал он в переплетах, видел всякое. – Да нет, все равно переживает. – Если переживает, – сказал Алеша, – то только за тебя. – Почему за меня? – повысил голос Стофато. Подошел Кошурников. – Нет, ребята, крепко сковало реку. Закурим? – Я не буду. – Алеша глубоко втянул носом воздух, прохрипел: – Сказал – все! – Пропадем мы тут, Михалыч, – сказал Костя и сразу осекся, поджал губы: промашку дал. – Вот что, Костя, – Кошурников нахмурился и выразительно посмотрел на товарища, – будем считать, что ты этого не говорил. – Хорошо, Михалыч, будем так считать, – тоже насупясь, сказал Стофато. – Но что делать? – Сейчас, ребята, остается одно. – Кошурников курил частыми затяжками. – Захватить еды и дуть пешком. На погранзаставе будем дней через пять. Как считаете? – Пошли, – сказал Журавлев. – Где наша не пропадала! Только вот в ботинках моих по снегу не особенно приятно идти будет. – Какое там приятно! Они же у тебя совсем сгнили, – уточнил Костя. – У меня хоть валенки есть… Имущество сортировали молча. Только Алеша вступил с Кошурниковым в перебранку. – Не возьму я ваши пимы! – Возьмешь. Твои ботинки совсем пропали. – Это вы называете пропали? В них до Москвы топать можно. Посмотрите лучше на свои сапоги. – Алеша говорил с усилием, лицо его напряглось. 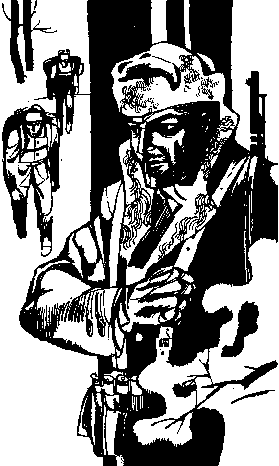
– А я приказываю! – оборвал разговор Кошурников. И уже тронулись с места и полезли в черные скалы, преградившие путь, а Журавлев, вышагивая впереди в новых валенках Кошурникова, все хрипел под нос: – Тоже мне! Пропали! Шпагатом замотать, и порядок. Тоже мне… – Замолчи! – крикнул сзади Костя. – Надоел. Кошурников шел замыкающим и все оглядывался назад, где на корневище упавшего от бури кедра остались их вещи. Он вспоминал всю историю экспедиции, мысленно представляя карту. Начиная от Новосибирска их путь лежал по замкнутому четырехугольнику. Одна его сторона была преодолена в поезде, другая – на самом современном виде транспорта – самолете. И только главный маршрут экспедиции: Покровский прииск – Тофалария – погранзастава – Абакан, потребовал древнейших средств передвижения. Сначала ехали в пароконной повозке, потом верхом на оленях, долго плыли на плотах, а сейчас вынуждены были перемещаться «на своих двоих». Кошурников ясно увидел на карте Сибири тоненькую жилку, что тянулась из Саян к западу, – Казыр, и три крохотные точки, которые совершенно незаметно для глаза двигаются по направлению к Абакану. Что их ждет впереди? Когда они дойдут? Неизвестно. Идти было тяжело. Изыскатели, скорее, не шли, а карабкались по крутому косогору, покрытому горелым лесом. – Зря мы, наверно, левым берегом, – обернулся Костя. – Тут и шею свернуть недолго. – На правом берегу делать нечего, – возразил Кошурников. – Трасса здесь ляжет. Да и хочется посмотреть левую террасу возле Базыбая. А на той стороне, Костя, то же самое… Алеша не оборачивался, осыпал и осыпал впереди мелкие камни. Молчал он и на отдыхе, когда товарищи курили. Пошел снег, но Алеша не поддержал и разговора о погоде. Наверно, ему было очень трудно говорить. Снег то начинался, то переставал. Но под белым пухом камни уже не различались, и ноги ступали неуверенно. – Бить меня надо, – сказал Костя вечером, когда они расположились у костра. – Пятки-то у моих пимов того. А будь бы дратва сейчас… – Да брось ты, Костя, – тихо отозвался Алеша. – Не понимаю этой манеры, – поддержал его Кошурников. – Ну забыл и забыл! Не воротишь… – Это правильно. Но стоит только вспомнить пенек, на котором я оставил тот мешочек, и все переворачивается во мне. – В твоих валенках еще можно жить, лишь бы не раскисло. «26 октября. Понедельник Изменили способ передвижения, бросили плот и пошли пешком. Утром доделали плот, спустили его на воду. Отплыли в 13 часов. Прошли две шиверы, и после второй река оказалась опять замерзшей на протяжении примерно 300 м при толстом льде. Сходил посмотреть, вернулся и решил дальше не плыть. Если, делать новый плот, то это займет целый день, и нет гарантии, что через 2–3 км его снова не придется оставить. Пересортировали свое имущество, взяли на человека килограммов по 15 груза, а остальной сложили в три мешка и подвесили на видном месте над рекой – на утесе, на корне выворота. Рассчитываю зимой послать охотника с нартами и имущество привезти. Остались наши личные вещи, собранные образцы камней, мяса килограммов 20, соль, охотничьи принадлежности, острога, веревка и пр. и пр. Взяли с собой одну заднюю ногу оленя, килограммов 15, оставшиеся сухари 4–4,5 килограмма, соли килограмма 3 – вот и все наше продовольствие. Надеюсь через 5–6 дней дойти до погранзаставы, а оттуда уж доберемся домой. Из одежды взял каждый по полушубку и плащу. Телогрейки оставили. Я иду в сапогах. Журавлеву дал свои валенки. Кроме того, у него есть ботинки, которые требуют ремонта. Стофато идет в валенках, сапоги у него совершенно развалились, валенки требуют ремонта – протерты пятки. На первых же шагах досталось идти по очень трудному месту – гарь по скалам. Продвигаться исключительно тяжело, особенно с грузом. Пошли левым берегом, почти наугад, так как судить о преимуществах и недостатках по нашей карте нельзя. Руководствовался тем, что Базыбай нужно обходить по левому берегу, с левого берега меньше притоков и как будто короче путь. Возможно, если будут благоприятные условия, ниже Базыбая поплывем снова. Для этого взяли с собой пилу и топор. Погода исправилась. Вчера всю ночь шел снег, днем было переменно, а сейчас прояснилось, очень холодно, и светит луна». Короток предзимний сибирский день. После сумеречного рассвета появляется из-за Саян солнце без лучей. Оно не успевает даже разогнать туман в речной долине. Быстро бледнеет и опускается, спеша, наверное, в те края, что не так суровы и требуют больше ласки. Изыскатели шли, шурша опавшими листьями, спотыкаясь о валежины. Забрели в большой завал. Обомшелые гниющие древесные стволы, волглые упругие сучья и трухлявые пни выматывали силы. Идти по такому завалу было не только трудно, но и опасно – того и гляди, острая поторчина выткнет глаз либо предательская колодина вывихнет ногу. А Кошурников все лез и лез вдоль берега – до ночлега надо было пройти как можно больше. После полудня дорогу пересекла быстрая речушка. Даже не верилось, что мороз сможет остановить ее бег. Спилили дерево на берегу и перекинули вершиной на другую сторону. А потом увидели вдалеке избушку. Кошурников втайне надеялся, что, может быть, это охотничья артель заготовила себе жилье, рассчитывая среди зимы прийти сюда на лыжах. Тогда поблизости должен быть лабаз с продуктами и, возможно, зимней обувью. Ведь чтобы белковать в сорокаградусные морозы, надо одеваться и обуваться как следует. Изыскатели были бы спасены. Конечно, они возьмут в лабазе все необходимое, а потом найдут хозяев и вернут все – с доплатой за нарушение таежного закона, с благодарностями и извинениями. Низенькая дверь зимовья была завалена камнями. Изыскатели расшвыряли их, нагнувшись, пролезли в избушку. В ней было сухо. Когда глаза привыкли к темноте, Кошурников сказал: – Тут много лет никто не был. Однако смотрите… Он достал заклиненный в потолочной щели свиток бересты. – Спички. Соль. Бережно свернул бересту и укрепил на старое место. – Пойдем, ребята. И они снова шли по колоднику и мордохлесту. На открытых участках тоже было не сладко – берега здесь поросли упругим и колючим кустарником. Кошурников называл его «гачедером». – Почему гачедер? – спросил Алеша. – Раздерут эти прутики твои валенки совсем – поймешь… – А при чем тут все же «гачи»? – Это крепления сыромятные на камысных лыжах… Алеша начал что-то говорить о точных и сильных словах, которые употребляют сибирские охотники, но голова Кошурникова была сейчас занята другим – его все больше тревожил исход экспедиции. Идти становилось невмоготу. Сегодня утром он урезал порцию сухарей и мяса. Надо было, наверно, взять побольше оленины, хотя ему очень трудно сейчас нести этот быстро убывающий кусок. Основной груз они распределили по настоянию Кошурникова так: начальник экспедиции нес мясо и сухари, Алеша – ружье, соль и посуду, Костя – пилу, топор, спички, табак. Тяжело было Кошурникову, за день пудовый груз оттягивал плечи. Но мяса можно бы добавить. – А зачем камысные лыжи обивают лосем? Это спросил опять Алеша, который к чему-то затевал совсем посторонние разговоры. – На гору в них хорошо. Кроме того, по сырому снегу скользят и не скрипит под ними в мороз – зверя не спугнешь. Ну, вы идите, я догоню… От тяжелых мыслей Кошурников всю жизнь лечился работой. Сейчас он полез в сторону, загребая сапогами рыхлый сухой снег. Как здесь ляжет трасса? Ведь независимо ни от чего дело надо делать… Он возвращался на след и снова поднимался на террасу. Постепенно мысли принимали другой оборот. Догнал ребят. Они шли медленно, экономя силы. – Михалыч, сколько там накачало? – спросил Костя Стофато, который часто спотыкался и падал. – На моих отцовских-то? – Кошурников достал из кармана увесистые часы фирмы «Павел Буре» – давнишний подарок отца. Скоро семнадцать. Устали? – Да нет, ничего. Они снова пошли, уже почти в потемках. И когда Кошурникову показалось, что он не сможет сделать больше и десятка шагов, его окликнул Алеша: – Сколько на отцовских накачало, Михалыч? Расположились на ночлег. Разожгли костер, сварили в ведре жидкую болтанку на оленьем мясе, взяли по паре сухарей. Потом Кошурников насыпал себе и Косте аптекарскую порцию табаку – его оставалось совсем мало. Алеша отворачивался, сцепив зубы. Кошурников видел, что парню зверски хочется курить, и поражался его выдержке. Кошурников курил, не отрывая взгляда от костра. Начальник экспедиции всегда любил хороший костер. С ним спокойнее. Темнота и таинственный мертвый лес отступают куда-то, перед глазами – движение и свет. Костер шуршит, легко потрескивает, будто говорит: «Брось, друг, тосковать! Пока мы с тобой – ничего не случится. Тепла тебе еще? Пожалуйста! Жизнь никогда не кончается, однако…» Начальник экспедиции думал о товарищах. Изменились они сильно во время похода. Возмужали. Хотя и малоприспособленная это была публика для такой жизни. Особенно Стофато. Но сейчас даже будто бы раздались его кости. Он теперь больше помалкивал. И замечательно, что это молчание мужавшего парня не было отчужденным и тревожным, как в дни болезни. Зато Алеша почему-то разговорился, хотя у него болело горло. Если раньше он с грубоватой категоричностью отметал всякие, как он выражался, «философские» разговоры, то сегодня все чаще сам их заводил. Чем это объяснить? Он глянул на Журавлева. Тот вскипятил воды, подвинул к себе кастрюлю и дышал над паром, двигая свалявшейся черной бородой. Вот он откашлялся. Сейчас что-нибудь спросит… – Читал я Джека Лондона, – сказал натужным голосом Алеша, ни к кому не обращаясь. – Запоем читал. – Сильный мужик был, – откликнулся Кошурников. – Читал я его, Михалыч, безотрывно, а вот сейчас думаю: ну что было расписывать этого Беллью? Тоже мне герой – таскает по ровной дороге мешки. И не так уж тяжелые. Я переводил фунты на килограммы. В общем не так много таскал. А расписано-то!.. – За золотом лезли, – Кошурников сплюнул в сторону. – Как будто счастье в нем… – И нигде я не встречал у Лондона, – продолжал Алеша, – чтоб его героев жрали комары, гнус, мухи-глазобойки либо мурыжила река вроде Казыра. И леса в Америке будто другие – колодника в них нету… Начальник экспедиции долго смотрел в огонь. Костер слабо шуршал, потрескивал и, казалось, задыхался от недостатка воздуха. – Не бывал Джек Лондон в Сибири, – наконец сказал Кошурников. Журавлев повернулся к костру. – Михалыч! А счастье – что это такое, по-вашему? А, Михалыч? – У каждого на этот вопрос свои слова, Алеша, – задумчиво произнес он. – Вот мой отец по-латыни отвечал: «Per aspera ad astra». – А что это за выражение? – Давай завтра об этом, поспать же тебе надо, – сказал Кошурников и полез в карман за блокнотом. Подложив дров, нагнулся к костру. – Опять пишете? – приподнял голову Алеша. – Отдыхали бы, Михалыч! Что пишете-то? Как мы вкалываем тут? – Да нет! Помнишь, днем я отклонился и догонял вас? Террасу смотрел. Строителей здесь все будет интересовать. Могут сказать – халтурщики прошли. А записать надо сейчас… Завтра некогда, и детали забудутся. Спи, Алексей… «27 октября. Вторник Осматривал первую надпойменную террасу левого берега. Она местами достигает ширины более одного километра. Под тонким замшелым дерновым слоем залегают легкие суглинки, безусловно пригодные для распашки и засева любыми культурами. Лес по-прежнему частью погиб, частью стоит зеленый. Больше пошло лиственных. Из хвойных – пихта, ель, кедр. Лиственница с Петровского порога исчезла совершенно. Дошли до пикета 1762. Утром перешли речку Воскресенку. Речка маленькая. Положили одну тонкую пихту и по ней перешли. С правого берега встретили Верхний Китат и на правом его берегу при устье избушку. Верхний Китат в противоположность остальным притокам впадает в Казыр в одном уровне. Подобно Верхнему Китату, имеем еще притоки: Малую Кишту, Верхнюю Кишту, Прямой Казыр, Левый Казыр и Прорву. Все эти притоки первого порядка, жизнь которых идет параллельно реке Казыру». …Но мостов потребуется меньше, думал Кошурников, только через левобережные притоки. Мелкие речушки надо будет в трубы взять. Лишь бы каменные наносы не забивали отверстий. Хотя с Тазарамы речки быстрые, в Казыр потащат галечник… «Левый берег для трассирования лучше правого». …Весной тут с техническими изысканиями пойдут. Записка моя поэтому будет представлять особый интерес. Люди тоже пойдут на плотах да пешком. Правда, в тайге тогда зверья полно будет, ягод. Но Казыр их тоже покрутит, крепкие тут есть орешки… «…Бачуринская шивера – легкий порог, проходимый в любую воду на плотах и на лодках. Идти нужно под правым берегом, там прямой слив без камней». …Геология этих мест, конечно, очень интересна. Молодые горы, сильные! Жалко все-таки, что нет с нами геолога. Но Громов как будто надежный человек – пришлет что надо… «От речки Воскресенки до Верхнего Китата выходят обнажения коренных пород – граниты, гнейсограниты, серпентины, порфириты и базальты. Осадочных нет». …Не буду писать о наших бедах. Строителям разве это интересно? А добра тут в горах, наверно! Громов намекал. В Щеках можно гидростанцию соорудить, сколько тут энергии пропадает дешевой! Потом электровозы пустить… – Кидь, – сказал Кошурников утром. – С шести часов валит. Медленно падали крупные и мокрые снежные хлопья. За белой пеленой не было видно даже ближайших пихт. Но все равно надо было идти. И чем быстрее, тем лучше. Нога уже вязла в снегу. Пошли не торопясь, медленно переставляя ноги. Часа через два Кошурников приотстал, устало присел на колоду, критически осмотрел свои сапоги. У одного совсем развалился передок, и портянка вылезла наружу. Подошва другого сапога отстала, мокрый снег набивался под ступню. Кошурников отрезал ножом полу плаща, навил из брезента веревочек, обмотал сапоги. Потом встал, с усилием поднял ружье, пошел. Утром они перераспределили груз. Кошурников взял себе ружье, посуду, пилу и соль. Мясо разрубили на две части. – Тоже мне! – возмутился Алеша. – Это вы называете «поровну»? Этот кусочек мяса ребенок может тащить! Давайте хоть кастрюлю… – Нет. – А я не понесу такой легкий груз. – Понесешь! – Костя, давай тогда твой топор сюда. Особенно был доволен Кошурников, что избавил Костю Стофато от пилы. Костя часто падал, и начальник экспедиции боялся, что парень порвет себя зубьями пилы. Днем Кошурников обнаружил еще одну серьезную ошибку на карте 1909 года. По карте значился очень крутой косогор над Казыром. Здесь строителям пришлось бы рубить в скалах большую полку для полотна. Сейчас он стоял примерно в середине этого косогора, но никакого косогора не было, шла ровная широкая терраса. – Ребята, смотрите-ка! – окликнул он молодых инженеров, доставая карту. – Видите, как на карте идут горизонтали? – Ошибка, – сказал Алеша. – Халтурщики. – Кто знает? Может, их тоже тут зима захватила, – возразил Кошурников, хотя и его злила небрежная работа безвестных топографов. – На царя работали, – сказал Костя. – Зачем было стараться? – Это спорное положение. – Кошурников свернул карту. – Как бы то ни было, а нам надо работать не так. Все-таки насколько необходимой была наша экспедиция, ребята! Чуете? Тут же надо отойти от Казыра, срезать по ровной площадке излучину. Больше двух километров трассы выгадаем. – Жалко только, что и мы не можем отойти от берега, сэкономить два километра. – Это сказал Алеша, который весь промок. Он кашлял беспрерывно, не убирая с ресниц выступающих крупных слез. – Да, ветровал там жуткий, – поддержал Кошурников. – А кидь-то не кончается, ребята. Двинулись? Плохой это был день. На пути сплошь лежал бурелом. Иногда передвигались на высоте двух метров от земли, перелезая с одного поваленного ствола на другой. Все это обледенело и покрылось снегом. Преодоление таких завалов требовало огромного напряжения сил. Однако особенно много неприятностей доставила кухта. Снежные шапки повисли на ветках и осыпались при малейшем прикосновении. Кухта сыпалась и с «ворот», образованных поваленными стволами. К вечеру изыскатели промокли до нитки. По трассе продвинулись всего на десять километров, хотя на самом деле прошли около пятнадцати. Когда разгорелся костер и Кошурников ушел за водой, Алеша вдруг схватил топор и начал сечь на мелкие кусочки свои запасные ботинки. Костя с испугом вцепился в него: – Что ты! Что делаешь? Что с тобой? – Чудак ты, Костя, – остановился Алеша и кивнул на реку. – У него же сапоги совсем развалились, вот мы сейчас гвоздики и достанем… Пришел Кошурников, увидел гвоздики на разостланном плаще. Молча поставил кастрюлю в огонь. Закурил. – Ребята, – голос Кошурникова дрогнул. – Ребята, вы знаете, какая самая сильная сила? Алеша невозмутимо поворачивал перед костром полушубок, распялив его на рогатом сушиле – большом осиновом суку. – Какая? – спросил Костя. – Какая сила, Михалыч? Кошурников молча кивнул на гвоздики. Костя понял. За время похода он понял многое. Кошурников с удовлетворением отмечал, что уже может тяжесть экспедиции разделить на три равные части. Тяжело вот только топить одному. Ребята как-то привыкли к этому, да и Кошурников тоже. Оставалось до конца их трудов несколько дней, и начальнику экспедиции не хотелось ломать установленного порядка. Но каким бы это было облегчением, если б кто-нибудь из молодых инженеров подменял его ночью у костра! Кошурников усилием воли гнал от себя эти мысли. Ему казалось, что, даже думая об этом, он проявляет слабость. Впрочем, ребята ведь никогда не узнают, что он думает. И в дневник Кошурников старался не пустить ни одного «жалкого» слова, и в разговоры. Определенно это приносило свои плоды. Сдержаннее, проще стал Костя. Хотя до сих пор Кошурников до конца не был уверен в нем. Характер Стофато еще не устоялся, и от парня можно было ждать и внезапной вспышки, и резкого упадка духа, и – Кошурников был в этом уверен – безрассудно смелого поступка… Что это он порывается сказать? – Михалыч, – начал неуверенно Костя. – Я не хотел говорить вам – думал, что мне показалось… – Что? – насторожился Кошурников. – Когда вы ушли террасу смотреть, я слышал гул в небе… – Н-но? – Вы, наверно, увлеклись, а Журавлев впереди кустами трещал. Гул прошел в стороне. – Это почудилось тебе, Костя, – решительно сказал Кошурников. – В такую кидь ни один летчик не рискнет подняться. – Слышал, – упрямо повторил Костя. – Алеша, ты не слышал? – Ерунда это! – просипел Алеша. – С какой стати нас спасать? – Не может этого быть! – еще решительнее сказал Кошурников, и вдруг ему припомнилось, что будто бы действительно слышал на террасе глухой шум. Он тогда не обратил на него внимания, думая, что это гудит на ветру стоящая на косогоре куртинка кедров. Но неужели их уже ищут? Бесполезно: долину Казыра забили мощные снежные тучи, и сейчас ему и ребятам вредно думать обо всем этом. – Не может быть! – еще раз повторил Кошурников. – Послышалось… Весь вечер шел снег, однако под кедром было сухо – мокрые хлопья сюда не долетали, оседая вверху на густых разлапистых ветках. От костра веяло живительным теплом, но Кошурникова не брал сон. Неужели они не выйдут? Ведь осталось совсем немного. Свою задачу экспедиция, можно сказать, выполнила. Изыскатели установили, что через Салаирский хребет можно бить тоннель, он не будет слишком длинным. Нетрудно будет строителям построить дорогу и в районе Щек. Главное же, трасса хорошо укладывалась по долине Казыра, левым берегом. Правый берег, как выяснила экспедиция, был выбран в Новосибирске ошибочно. Группа изучила реку, ее надпойменные террасы, установила наличие местных строительных материалов, определила условия работы транспорта, снабжения и связи, уточнила карту. Казырский вариант, таким образом, был изучен на год раньше, как того требовало военное время. Еще бы спуститься по Кизиру, что тек за хребтом Крыжина, да сделать северный обход Саян. Но для этого надо отсюда выйти во что бы то ни стало! Как это сделать? Силы уходят, продуктов почти нет, табаку пол-осьмушки. Днем оттягивают плечи раскисшие от сырости полушубки, морозными ночами они становятся заскорузлыми, каляными и почти не греют… Он долго еще лежал с открытыми глазами, подрагивая от холода. – О чем думаете, Михалыч? – спросил сиплым голосом Алеша, которому, видно, тоже не спалось. – Да ни о чем. – Кошурников постарался придать спокойствие своему голосу. – А когда мне не о чем думать, Алеша, я решаю одну задачку шахматную. Заковыристая трехходовка Самуэля Лойда. Вот уже пять лет не решается, все варианты попробовал. Чувствую, какой-то бешеный ход нужен. У него все задачки такие. Ты играешь в шахматы? – Нет, – почему-то рассмеялся в темноте Алеша и шумно вздохнул: – Эх, Михалыч… – Жаль, что ты не шахматист, порешали бы вместе. Ну, спокойной ночи. И он сделал вид, что засыпает. СЮДА, СЧАСТЬЕ, СЮДА! Но, видно, судьба хотела, чтобы мы вконец испытали все невзгоды, которые могут грянуть в здешних странах над головой путника. Когда ребята заснули, Кошурников разулся. Он долго грел у костра босые ноги и сушил прокисшие грязные портянки. Потом собрал остатки Алешиных ботинок, взял с плаща гвоздики. Обувь была сейчас для изыскателей проблемой номер один. Ведь тайга есть тайга. Будь у тебя даже сколько угодно еды, одежды и сил – пропадешь ни за грош в зимней тайге без хорошей обувки. Сейчас бы изыскателей выручила любая обувь: пусть ботинки на деревянном ходу, пусть стеганые бурки с шахтерскими галошами или даже лапти – ведь носили их деды и не жаловались. Кошурников отхватил от полушубка продолговатый кусок овчины, сделал из него стельки. Потом порезал на тонкие ремешки пояс от патронташа, обмотал ими передки сапог, стал обуваться. Вдруг он заметил, что ноги у него будто потяжелели. Потянул штанину, надавил пальцем на лодыжку. Осталась ямка. Почти спокойно пришел к выводу, что ноги стали пухнуть. Что же тогда с ногами у Кости? Стофато уже не сушил свои пропитанные водой валенки. Сегодня вечером он попросил Кошурникова вынести пимы на ветерок, чтобы они замерзли. Пимы были тяжеленными, из них пахло падалью… Вечер все тянулся и тянулся. Кошурников достал часы. Не было еще и полуночи. Какими долгими стали вечера! Зато день уменьшался на глазах. Странная получалась ситуация: изыскатели спешили, торопились, чтоб уйти от зимы, но вынуждены были большую часть суток сидеть, не продвигаясь ни на один метр. Ведь в темноте не пойдешь – пара пустяков сломать ногу, К тому же вечером резко понижалась температура, и промокшие плащи и полушубки вставали колом… Кошурников нащупал в кармане кителя блокнот и карандаш. «28 октября. Среда Левый берег Казыра, пикет 1666. Исключительно тяжелый в смысле ходьбы день. С 6 часов утра пошел снег и шел хлопьями весь день и сейчас идет (23 часа). Навалило сантиметров 15, а главное – все это повисло на деревьях и падает при малейшем прикосновении. В результате к вечеру все были мокрые до нитки. Журавлев шел без плаща и промок насквозь. Меня несколько спас плащ. За день прошли всего 10 км по трассе. В натуре это километров 12–15. Завтра пройдем Базыбай, а там, если река не имеет тенденции замерзнуть, сделаем плот и поплывем. У меня сегодня за день пропали сапоги. Или я их сжег во время сушки, или на подошвах была гнилая кожа, но в результате подошвы на обоих сапогах пропали. Утром перешли речку Бачуринку по льду на устье, днем прошли мимо реки Соболинки, впадающей с правого берега. Около устья Соболинки на правом берегу зимовье. Соболинка впадает в Казыр на одном уровне. По левому берегу все время тянется широкая терраса. От пикета 1660 до пикета 1690 горизонтали изображены неверно, здесь ровная терраса шириной 1–1,5 км, а на карте указан довольно крутой подъем от реки. При трассировании не следует идти берегом, а излучину Казыра нужно срезать, что даст сокращение длины километра на 2,5 при минимальных работах. Продовольствия осталось мало, хлеба на два дня при экономном расходовании. Табаку на один день. Полагаемся на мясо». …С продуктами худо. Хлеба, главное, нет совсем. Придется, наверно, теперь есть по одному сухарю в день. Утром – бульон на оленьем мясе, в обед – мясо от завтрака и чай. Вечером горячее мясо, бульон и сухарь. Надо меньше тратить времени на обед, а то и так день короткий… Кошурников заснул незаметно и увидел во сне, будто варит он в кастрюле картошку-рассыпку, а потом ест ее, бархатистую, горячую и невыразимо вкусную. Ночью он просыпался от холода, поправлял костер, грелся и снова укладывался на пихтовые ветки. Утром сказал: – Какой я сон видел! – Он хотел было рассказать про картошку, но вовремя спохватился. – Сына видел, Женьку. Дерется будто бы с Ниночкой, а я их разнимаю. Он насупился и спрятал глаза. Ну зачем ребят расстраивать, когда с продуктами такая беда? А если б им сейчас картошки! Вот было бы радости! Однако чудо не могло произойти… Днем Кошурников снова отстал от своих товарищей. – Идите потихоньку, ребята. Догоню. Они побрели дальше, а он полез на приверху, где из-под снега торчали густые метлы малинника. Но черные, гнилые ягоды есть не будешь – отрава. Засохший шиповник под берегом тоже был безвкусным и жестким, как опилки. Если б лето! В низинках растет сочная и острая черемша, или, как ее называют под Томском, калба. А рядом кислица, черная смородина, костяника, малина, черемуха – да разве перечислишь все таежные дикоросы! А по весне можно есть корешки кандыка, вкусные пучки, мучнистые и сладкие луковицы саранок… Сейчас все это пропало, скрылось под снегом. Правда, луковица саранки и зимой живет, но как ее найдешь? Один раз ему показалось, что он увидел стебель саранки. Сдвинул вокруг снег, копнул топором мерзлую землю, однако это оказался стебелек не то горицвета, не то сон-травы. Разорить бы дупло белки либо бурундука – там полно крупных ядреных орехов. Да разве эти шустрые зверушки поселятся у реки, на бойком месте, куда все население тайги сбегается на водопой? Может, поискать шишку-падунец? Кошурников выбрал кедр поразвесистее, порылся палкой в жухлой траве, но ничего не нашел. Под другим кедром тоже. Обрадовала стоящая подле молодая кедрушка – выкатил из-под корня пару шишек. Однако орешки в них были склеваны кедровкой – пестрой хлопотливой пичугой. Нет, если нельзя добыть зверя, не пропитаешься в зимней тайге! Сейчас что-то ни птицы не видно, ни зверя. Хоть бы дятла снять либо белку. Нет ничего… У елки осторожно чиркнул спичкой, поджег янтарную смолу, натопил вязкой серки. Ребят догонял долго, взмок даже весь. Они шли молча, тяжело волоча ноги. – Пожуйте серки. Алеша попробовал. – Еловая, – сказал он. – С лиственницы-то помягче будет. – Нету лиственницы здесь. Пошли, что ли? Базыбай скоро… Загребая ногами свежий снег, они двинулись дальше по гачедеру и колоднику. Во время дневного чая Кошурников сказал: – Видел я сегодня зубы лося на осине. Но, правда, несвежие. А если б убить сейчас сохатого… Потом Алеша шел рядом с Кошурниковым и расспрашивал его об изысканиях разных дорог. А Кошурникову хотелось мечтать о том, как бы хорошо на самом деле сейчас свалить сохатого. Они бы тогда никуда не пошли. Заготовили бы дров, сделали плотный шалаш и жгли бы добрый костер. Ведь их все равно скоро начнут искать. А то дождаться, когда забережки прочные образуются, и по ним, как по асфальту, можно пройти эти оставшиеся несколько десятков километров. Но все это зависело от лося. А следов его нет. Наверно, весь зверь ушел в гольцы. Там нет глубоких снегов – ветры все в долину сдувают, и волки не доберутся туда… …Скоро ли Базыбай? Громов велел бросать перед ним плот – это, говорил, не порог, а чертова мельница. Но неужели после Щек и Китата их можно чем-то удивить? Интересно… К вечеру дошли до Базыбайского порога. Казыр собирался здесь в узком гранитном горле, падал почти с трехметровой высоты. По камням бился в судорогах и глухо ревел. В рыбацком домике под порогом, куда вошли изыскатели, лежали старые, сгнившие сети, берестяные поплавки, в углу стояло запыленное полведерко дегтя. Пищи никакой, одежды и обуви тоже. Изнутри стены домика, будто бархатом, были покрыты толстым слоем сажи. Но у них была хоть крыша над головой. Дом отапливался по-черному. Сложенная из камней грубая печка стояла посреди избушки. Ее затопили, но пришлось бежать наружу – дым невыносимо ел глаза. – Под кедром лучше, – сказал Кошурников, – хотя и стосковались мы по жилищу – спасу нет. – Кто хочет, пусть идет под кедр. – Костя был явно не в духе. – В избушке не дует и снега нет, – поспешил все загладить Алеша. – Хотя можно и под кедром. Где, как говорит Михалыч, наша не пропадала!.. Кошурников обнял Журавлева. Они вдвоем сейчас очень были нужны Косте, характер которого подвергался главному испытанию. В домике Кошурников долго перебирал брошенные сети, разыскивая более или менее крепкие бечевки. Потом взялся за дневник. Писать было лучше лежа – не так щипало глаза. «29 октября. Четверг Пикет 1585. Порог Базыбай. Дом рыбака. За день пройдено по трассе 8 км, что составляет километров 12 в натуре. Порог проходили уже в потемках, так что видел его плохо. Обратило на себя внимание, что вся река здесь собирается в сливе шириной не более 7-10 м. Шуму много. Собственно, порог состоит из одного главного слива, совершенно непроходимого ни на плотах, ни на лодках. Выше этого слива имеются несколько шивер и перекатов, которые при малой воде легко проходимы. Перешли реку Сиетку. Речка маленькая, и в самое половодье, вероятно, ее можно перейти бродом. Начиная со Спиридоновской шиверы по левому берегу большие заросли малины. В нынешнем году было очень много ягод, и все они посохли и висят почерневшие и никуда не годные. Начал попадаться крупный березняк и осинник. Встречаются экземпляры диаметром до 70 см. Из хвойных преимущественно пихта и кедр, меньше ель, лиственницы совсем нет. Зверя мало. Медведь лег, его следов давно уже не видно, сохатый и изюбр, вероятно, подались на зиму на северные склоны Саян, так как здесь очень много снегу. Кстати, снег продолжает валить. Выпало уже очень много, что очень мешает идти. Мы буквально за собой с Саян тянем зиму. Снег нас просто преследует и не дает убежать. Однако надеюсь, что в районе Курагино – Минусинск снега еще нет и я застану осень, очень позднюю, но все-таки без снега». Вечер этот казался длинным-длинным. Разделили на три равные части последний сухарь. Поделали из бересты треугольные стаканчики – чуманы, зачерпывали из кастрюли и медленно пили соленую воду с едва уловимым запахом оленины. Кошурников знал, что с потом у них выходит много соли, и щедро солил суп. Он и чай стал пить соленым. Хотелось курить. Как о несбыточном счастье, Кошурников грезил о щепотке самосада. Легкие, сердце, мозг, кровь, жилы, кости требовали хотя бы одной затяжки, после которой по телу разливается горькая сладостная истома… Дневник отвлек его немного. Неужели ребята не мучаются, особенно Алешка, который не курит уже с неделю? Кошурников взглянул на товарищей. Костя весь вечер методично и неторопливо жевал серку, но сейчас с отвращением выплюнул ее: – Еще больше есть хочется от этой штуки. И курить… К горлу Кошурникова мгновенно подступила тошнота. Было бы счастьем встретить сейчас пограничников, у которых рюкзаки набиты консервами, а кисеты – томской либо канской махорочкой! Счастьем было бы встретить медведя. Кошурников, не задумываясь, пошел бы на него с топором. А еще лучше, если бы лето сейчас! В крайнем случае пошли бы босиком по отмелям Казыра и ели бы всю дорогу малину. Кошурников долго смотрел на темный снег и вдруг отчетливо увидел лесную поляну, покрытую синими колокольцами водосбора и розовыми горлянками… «Стоп! Уж не галлюцинация ли? Не хватало еще спятить мне. А ребятам надо сейчас силу показать, Костя особенно нуждается в этом». Кошурников открыл глаза, встряхнул головой, и сразу все стало на свои места: заснеженная чужая тайга, тяжелые черные холмы, дымная изба, утомленные голодные товарищи… – Может быть, о другом поговорим? – спросил Алеша, не отрывая взгляда от вишневых углей в печке. – Михалыч, помните, мы начали разговор о счастье? Что это ваш отец по-латыни говорил насчет счастья? Кошурникова вдруг пронзила мысль: «Ведь Алешка все понимает! А разговоры, которые он затевает, не жалея своего простуженного горла, – это же для всех нас! Чтоб не было тягостного молчания – страшной болезни одиночества. И курить он бросил, чтобы нам с Костей досталась лишняя крошка махорки! Умница ты, Алеша, но что же отвечать тебе?» – Костя, – сказал Кошурников. – Костя, что ты считаешь счастьем? – Увидеть сына либо дочку. В общем, что там родилось. – Костя мечтательно посмотрел в темноту, с опаской оглянулся на Алешу. – И поесть бы, как до войны… – Ну и что, Михалыч? – снова подал голос Алеша. – Как вы-то смотрите на счастье? Я ведь о другом счастье спрашиваю, понимаете? – Понимаю. Кошурникову думалось с трудом. Он слишком устал. Начало сказываться, что он всю дорогу лоцманил на передней греби, плотничал, палил ночами костер, вел записки экспедиции. Но отец бы одобрил его работу. Кошурников вспомнил, как отец первый раз показал ему теодолит. Мальчишка нашел Полярную звезду и заявил, что хочет все время смотреть в эту волшебную трубу. «Per aspera ad astra!» – смешно вскричал тогда отец, подняв руки к небу. Спустя годы сын тоже стал прокладывать железные дороги. Свертывая изыскательскую партию где-нибудь в Кузбассе или Хакасии, на Урале или Алтае, он в последнюю ночь выносил из палатки теодолит, и рабочие, техники, кухарки смотрели через него на звезды. Невыразимо прекрасными были эти минуты. Они возвышали мысли, помогали людям осознавать свое место на земле. Ведь идеал изыскателя – кратчайшее расстояние и минимальные уклоны – давался тяжким и бесконечно честным трудом, результаты которого скажутся не скоро, и только будущие поколения соотечественников рассудят, любил ли этот инженер свою Родину и свой народ… Но как все это объяснить ребятам? Кошурников чувствовал на себе вопросительный взгляд Журавлева и понимал, что должен отвечать. – Счастье! Я никогда на эту тему не говорил, Алеша – начал он, подняв тяжелую голову. – Понимаешь, счастье, о котором ты спрашиваешь, – это осуществление мечты, достижение цели, идеала, что ли. До войны я на каждый год планировал себе счастье. Сейчас надо хорошо делать все, что заставят. А после победы мечтаю проложить невиданную трассу. Непонятное объяснение счастья, Алеша? – Вы настоящий человек, Михалыч! – Прикрыв широкой ладонью глаза, Алеша придвинулся вплотную к горячим камням. В избушке было тихо, а на дворе разгулялась непогода. С неба падал и падал густой снег. Оседал на елках и пихтах, вил воронки вокруг осиновых комлей, собирался в кустах рыхлыми сувоями. А в логу, что тянулся у самого домика, уже намело по пояс, и вряд ли этот забой теперь растает до лета… …Рыбаки не придут сюда. Хариуса, омуля и тайменя полно и ниже Базыбая. А белковать еще рано, так что охотники тоже не встретятся. Пограничники могли бы выручить, но ведь катер не пройдет сюда – ледяные перехваты не пустят. На лыжах только… «До жилья осталось 58 км, а может быть, и меньше, если встретим рыбаков, охотников или пограничников. И то, и другое, и третье очень желательно, так как с продуктами дело обстоит очень плохо. Сухарей собственно сухарных крошек, осталось на один день. Мяса в той норме, как мы его потребляем, – на четыре дня. Табак сегодня кончился. Это портит настроение. Идти очень тяжело, несмотря на небольшой груз, который несет каждый из нас. Хуже всех чувствует себя Стофато, он идет очень плохо, все время падает и сильно устает. Стал раздражительным, а это уже плохой признак. Лучше всех чувствует себя Журавлев, а я средний. Правда, мне идти значительно тяжелее, так как я в сапогах, а Алеша в пимах». Кошурников, подкладывая дрова, обжег руку, помотал ею в воздухе. – Михалыч! – сказал вдруг Алеша. – Вам ведь невмоготу огонь всю ночь поддерживать. – Да ничего. – Нет, давайте уж так: половину ночи я топлю, половину вы. – Ну давай. Только трудно это тебе будет. – Вы что? – раздался высокий голос Кости. – Вы что, меня за человека не считаете? Я тоже дежурить буду. – Тогда совсем хорошо, – обрадовался Кошурников, и глаза его заблестели. – Знаешь, что сейчас скажет Европа? А? – Знаю, – коротко отозвался Костя и будто переменился сразу, повеселел. «С сегодняшнего дня установили трехсменное ночное дежурство: с 21 до 24, 0–3, 3–6; это в отношении присмотра за костром и приготовления завтрака, а то до сего времени я был штатным кочегаром – топил всю ночь, а ребята спали, как суслики. Завтра день еще пойдем пешком – хочу посмотреть, как ведет себя река. Во всяком случае, пока ничего радостного не предвидится, так как выше порога есть перехват и ниже порога река тоже замерзла, на большом протяжении или нет – не знаю. Ниже порога долина Казыра расширяется, горы отступают, и вообще такое впечатление, что горная часть кончилась и началось предгорье. Как-то мы его одолеем, почти без продовольствия и без дороги?» Назавтра прошли километра два по сплошным заснеженным завалам. Больше всего хотелось перелезть через последнюю колодину и посидеть, отдохнуть, минутку поспать. «Колодник, валежник, заваль, – вяло думал Кошурников. – А в других местах Сибири эти завалы называют не так. Ветровал, чертолом, каторга… Нет, надо делать плот… Дурнина, гибельник…» – Нет, надо делать плот, – сказал он товарищам. – Пока здесь чистая река… Сделали небольшой салик – груза-то у них не было никакого. Решили, что один пойдет по берегу, чуть впереди, чтобы сигналить о шиверах и ледяных перехватах. Ведь если они сядут на перекате, у них уже не хватит сил сняться и они останутся навсегда посреди реки… Первым пошел Алеша – у него были еще довольно крепкие валенки Кошурникова. Когда отплыли, Алеша уже был далеко впереди. Салик пошел хорошо, хотя гребь плохо слушалась ослабевших рук. Плыли около часа. Далеко от берега салик не пускали – вдруг перекат? Кошурников зорко смотрел вперед. Там, в синей влекущей дали, все так же наплывали друг на друга знакомые «шеломы», только стали они плавней и ниже. Начальник экспедиции – он остался им, хотя судьба сейчас равняла всех троих, – внимательно оглядывал и берега. Но нет, никаких признаков жизни не было на этих лесистых, застывших в морозном воздухе кручах. Фигурка Алеши еле двигалась по террасе, и Кошурников старался держаться поближе к берегу, где течение было послабее. Не раз останавливался, поджидая, пока Алеша снова опередит их. В их положении это был, конечно, самый лучший способ передвижения. Уж больно надоел бурелом! Выматывая последние силы, он тянулся бесконечно и однообразно. Сейчас, правда, бурелом кончился, и Алеша идет мелким кустарником, но на плоту все же лучше – работает, отмеривает пикеты Казыр, двое на гребях фактически отдыхают и, что сейчас стало очень важным, не треплют обувь, если можно было назвать обувью остатки сапог Кошурникова и расползающиеся на глазах валенки Стофато. Алеше вот только не сладко достается, но надо будет сейчас его сменить. Что это, однако, его там беспокоит? – Алеша руками машет, – всмотревшись, сказал Кошурников. – Неужели Поворотную яму перехватило? Бей лево, Костя! Изыскателей несло на перехват. К берегу все равно не успели – уткнулись в лед. Это был даже не лед, а снег. Кошурников, изучая вчера карту, опасался за это место – Казыр здесь уширялся, вода текла медленнее, и ее могло остановить. Да, опасения оправдались. Наверно, несколько дней назад в этой излучине был широкий спокойный плес, а сейчас от берега до берега Поворотную яму зашуговало, заморозило, а сверху насыпало толстый слой снега. Проклятье! Кое-как выбрались на берег, молча надрали бересты, собрали сухих сучьев, развели костер. Темнело. Сверху спустился промокший насквозь Алеша, без сил лег у костра. – Тоже мне! – презрительно сказал он. – В Сибири не был, а берется судить… – Кто? – Да Джек Лондон. – Алеша сунул руки прямо в огонь. – Все равно это был хороший писатель, – обронил Кошурников. Молча сварили небольшой кусочек мяса, разделили его, выпили бульон. – Михалыч, – сказал Алеша, – а каких вы еще писателей любите? – Пржевальского. Только это не писатель. Однако пишет хорошо: «Сибирь совсем меня поразила: дикость, ширь, свобода бесконечно мне понравились». – Кошурников прикрыл глаза тяжелыми веками. – Ильфа и Петрова часто перечитывал. И еще Пушкина любил… Костер вздыхал и тонко попискивал, будто жаловался на свое одиночество. ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВЕЗДАМ Товарищи! Дело, которое мы теперь начинаем, – великое дело. Не пощадим же ни сил, ни здоровья, ни самой жизни, если то потребуется, чтобы выполнить нашу громкую задачу и сослужить тем службу как для науки, так и для славы дорогого Отечества. Кошурникову никогда в жизни так сильно не хотелось спать, как сейчас. Он разулся. Ноги за день распухли еще больше. Потер снегом лодыжку. Кожа была какого-то лилового оттенка. Изыскатели стали лагерем под тощей елкой: у них не было сил подняться на приверху, к кедрам. Снег вокруг костра обтаял. Порывы ветра заносили сюда острые мелкие снежинки. Балагана изыскатели в этот раз не ставили, дров заготовили мало. Костер гас. Сырые сучья горели плохо. Желтое дымное пламя с каждой минутой укорачивалось и уже перестало греть. Кошурников пересилил себя, обулся без портянок, полез по снегу к валежнику. Он мог нести две-три палки, не больше. Пока таскал дрова, костер совсем погас. Кошурников добрался до молодой березки, раскрыл зубами нож, надрал бересты. Превозмогая легкое головокружение, огляделся. В тайге царила ночь. Елки стояли чинно и строго – их рисунок угадывался по белым шапкам кухты. Иногда ветер сбрасывал с высоты слежавшийся ком снега. Он не рассыпался в воздухе, а долетал до земли и падал с мягким хлопком. С ледяного перехвата доносились всплески Казыра. А в глубине леса стояла враждебная тишина. Оттуда, как из могилы, несло холодом. Костер разгорался медленно. У Кошурникова совсем зашлись руки. Он сунул пальцы в огонь. Костер сейчас был у изыскателей единственной защитой. Если раньше они грелись работой и ели мясо, то сейчас у них не было ни того, ни другого. Только костер. Кошурников попробовал закрыть нож. Лезвие в форме финки было на тугой защелке. И он не мог сейчас вдавить в ручку сильную пластинчатую пружину. Попросить бы Алешку, но тот спал, подрагивая от озноба. Кошурников еще подложил дров. Костер зашелестел, запыхал. Закрыв глаза, Кошурников грелся. Он думал о том, что точно так будут шуршать и полоскаться под ветром его рубахи-косоворотки, когда он возвратится из тайги и жена перестирает все и вывесит на дворе – от телеграфного столба до сарайчика… …Однако скоро Алешке дежурить. А какое сегодня число? Совсем память отшибло, что ли? Ах да!.. «31 октября. Суббота Ночуем на пикете 1516. Дело плохо, очень плохо, даже скверно, можно сказать. Продовольствие кончилось, осталось мяса каких-то два жалких кусочка – сварить два раза, и все. Идти нельзя. По бурелому, по колоднику, без дороги и при наличии слоя снега в 70–80 см, да вдобавок еще мокрого, идти – безумие. Единственный выход – плыть по реке от перехвата, пока она еще не замерзла совсем. Так вчера и сделали. Прошли пешком от Базыбая три километра, потом сделали плот и проплыли сегодня на нем до пикета 1520. Здесь, на перехвате, по колено забило снегом, и… плот пришлось бросить. Это уже пятый наш плот! Завтра будем делать новый. Какая-то просто насмешка – осталось до жилья всего 52 км, и настолько они непреодолимы, что не исключена возможность, что совсем не выйдем. Заметно слабеем. Это выражается в чрезмерной сонливости. Стоит только остановиться и сесть, как сейчас же начинаешь засыпать. От небольшого усилия кружится голова. К тому же все совершенно мокрые уже трое суток. Просушиться нет никакой возможности. Сейчас пишу, руку, жжет от костра до волдырей, а на листе вода. Но самое страшное наступит тогда, когда мы не в состоянии будем заготовить себе дров». Утром Кошурников долго не мог прийти в себя. Он слышал, что ребята уже встали, сложили в костер остатки дров, сходили на речку за водой, о чем-то заговорили. Их голоса были смутными, будто все это происходило во сне. Костя говорил что-то о бане, которая их ждет через два-три дня на погранзаставе, о «любительском» табаке, что появился в Новосибирске перед их отъездом, о жене и ребенке. Потом Журавлев завел речь о каких-то рельсах. – Михалыч! – Алеша пробовал повысить голос, но сорвался на шепот. – Оказывается, Костя не видел, как стыкуют серебряные рельсы… Кошурников окончательно очнулся. Говорил Костя: – А вы, Михалыч, когда-нибудь серебряные рельсы пришивали? Интересно, где их проложат на этой дороге? Посмотреть бы, Михалыч! Слышите? Почему вы не встаете? – Идите, ребята, за перехват, начинайте плот делать. Я попозже пойду. В голове какая-то карусель… Ребята ушли, захватив топор и пилу. Было тепло. Шел снег. Но не такой, как вечером. Крупный и мягкий, он погасил костер и неторопливо застилал пихтовые лежаки, с которых поднялись ребята. Кошурников откинулся назад, долго лежал с закрытыми глазами. Потом с усилием открыл их. Вершины елей едва различались. Зыбкая снежная кисея создавала иллюзию, будто деревья падают, падают и не могут упасть. Невесомые снежинки опускались на ресницы. Они были лохматыми, огромными. «Снова кидь, – подумал Кошурников и закрыл глаза. – Сейчас начну вставать, понесу ребятам кастрюлю». Однако пролежал он до полудня, прислушиваясь к своему сердцу и к отдаленному потюкиванию топора. – Михалы-ы-ыч! – услышал он тонкий голос Кости. Алеша, наверно, не мог кричать. Он поднялся, долго-долго всовывал ноги в голенища сапог, которые стали очень узкими. Пошел к ребятам, присаживаясь на кастрюлю через каждые десять шагов. «Нет, эту ночь надо выспаться, отдохнуть как следует – завтра плыть. Балаган надо делать. А кидь все идет…» «1 ноября. Воскресенье Перенесли лагерь к месту постройки плота на пикет 1512, против впадения реки Базыбай. Все ослабели настолько, что за день не смогли сделать плот. Я совсем не работал. Утром не мог встать, тошнило и кружилась голова. Встал в 12 часов и к двум дошел до товарищей. Заготовили лес на плот и таскали его к реке. Заготовили на ночь дров – вот и вся работа двух человек за день. Я расчистил в снегу место под лагерь площадью 18 квадратных метров и поставил балаган – тоже все, что сделал за день. Все погорели. Буквально нет ни одной несожженной одежды, и все равно все мокрые до нитки. Снег не перестает, идет все время, однако тепло, летит мокрый, садится, на него падает новый, и таким образом поддерживается ровный слой сантиметров 80 мокрого, тяжелого снега. У всех опухли лица, руки и, главное, ноги. Я с громадным трудом утром надел сапоги и решил их больше не снимать, так как еще раз мне их уже не надеть». Над тайгой снова сгущалась тьма. Каким все-таки стал коротким день! Изыскатели давно уже не видели солнышка. Низкие белые тучи, сеявшие сырой снег, плотно закрывали его с рассвета до сумерек. В балагане было относительно сухо – снег не падал сверху. Костер горел хорошо. Изыскатели окружили его сушилами и развесили на них одежду, от которой шел пар. Черная кастрюля валялась в снегу – друзья сварили сейчас кусочек оленины величиной со спичечный коробок, разрезали его на три равные части, выпили соленую воду. «Продовольствие кончилось, остался маленький кусочек мяса, от которого понемногу отрезаем и варим два раза в день. Табаку нет, курим древесный мох». Бесчувственные обожженные пальцы не держали карандаша. Кошурников достал брезентовую сумочку с документами. Там были паспорт, пропуск, охотничье удостоверение, деньги, письма. Он перечитал последние письма жены, хотя помнил каждое слово. Потом зачем-то внимательно стал разглядывать деньги – две тридцатки. Он прочел надпись с обозначением купюры по-украински и по-белорусски. На других языках он читать не умел и, перевернув бумажку, увидел портрет Ленина. Долго рассматривал его. Подкладывал дрова, подвинулся совсем близко к костру. Закрыл глаза, но красный портрет в красном овале не исчезал, а стал даже четче, объемнее. …В конце концов кому будет интересно, как мы тут шли? Важны ведь сведения, которые мы принесем из тайги… Он стиснул зубы, низко наклонился над блокнотом. «Базыбай – большая река, впадает в Казыр справа в одном уровне. Воды несет много». Всю ночь шла кидь. Большие мокрые снежные хлопья совсем закидали плот. Его очистили, кое-как столкнули в воду. Плот был короче прежних, и став его состоял всего из четырех бревен. Но этого было вполне достаточно – груза на салике не было, да и плыли на нем только двое. Берегом снова пошел Алеша, с трудом передвигая тяжелые валенки. Главным препятствием на берегу был в этом месте не ветровал, а снег. На первой террасе, ровной и низкой, росли осины и березы. А эти деревья, имея жидкую крону, пропускают ветер и обычно сгнивают еще на корню. Хоть ненавистная древесная падаль не преграждала уже путь, однако в разбухших валенках идти было очень трудно по мокрому и глубокому снегу. Кошурников с Костей дважды подбивали плот к берегу, чтобы Алеша ушел вперед. Начальника мучили дьявольские противоречия. Ослабевшие донельзя люди сильнее, когда они вместе, а изыскатели вынуждены разделиться, уменьшить тем самым силу каждого. Они могли бы сейчас спокойно ждать помощи на берегу, однако у них не было продуктов. Им оставалось лишь несколько десятков километров, но они не могли полностью использовать быстроту Казыра, потому что отставал Алеша. Посадить на салик Алешу – можно застрять на камнях, и тогда они ни за что уже не столкнут плот, так и застынут на нем. Самая большая скорость в середине реки, а они вынуждены плыть под берегом. Но здесь грозит другая беда – шивера наиболее опасна у берегов, где громоздятся крупные камни, а течение слабее…. Но вот салик благополучно миновал одну шиверу, потом небольшой перекатик. Днем собрались все вместе, сварили чай, прокипятив в нем малиновые прутики да чагу – коричневый окаменевший нарост на березе. – Устал, Алеша? – спросил Кошурников. – Может, сменимся? Ты на гребь встанешь, а я – берегом. Отдохнешь на плоту немного. Алеша! О чем это ты думаешь? Алеша рассеянно кивнул и просипел: – Все! Начхал я на нее. – На кого? На кого ты начхал, Алексей? – На бронь вашу. – Алеша громко высморкался. – Выйдем отсюда – я сразу на фронт. И не уговаривайте меня, Михалыч. Если я решил – бесполезно… Кошурников погрузился в глубокую задумчивость. Он думал о ребятах, о том, что полюбил их всей душой за это время. И неизвестно сейчас было, он им нужнее или они ему. Костя сказал: – Скорей бы закончить эти изыскания. – Да? – спросил Кошурников, думая о своем. – Закончить, говорю, скорей бы их, Михалыч! – Да? О чем ты? – Изыскания. Закончить бы побыстрее. – А они на этом не кончаются. Это только начало, Костя. Там пойдут технические, предпостроечные… – А я, Михалыч, мечтаю! – с надеждой в голосе сказал Костя и отвернулся. – Мечтаю на этой дороге проект организации строительства сделать. Только вы мне не поручите – вы же меня узнали… – Узнал, – качнул головой Кошурников. – Поручу. Костя встал, молча пошел к плоту, занял место на передней греби. А когда Кошурников помог им оттолкнуться, Алеша спросил с воды: – Михалыч, а что это по-латыни ваш отец говорил? Как перевести? – О чем это ты? – Начальник экспедиции не сразу понял, сощурил воспаленные глаза. – А! Per aspera ad astra? Это значит: через тернии – к звездам… Он выбрался на террасу и побрел вперед, не сводя глаз с реки. Ведь стоило сейчас посадить плот на ерундовской шивере, и конец. Замерзнут на плоту ребята, погибнет на берегу он без ружья и неоценимой поддержки Алеши… «…Алешка, Алешка! Спасибо тебе, что про отца напомнил. Отец помогал мне весь этот трудный поход, и сейчас он будто бы со мной рядом шагает. Он учил меня не распускать нюни, когда я был мальчишкой, и рано выпустил из гнезда. Через тернии… Отец – человек дела и знает цену словам. Как он еще говорил? „Мысль – драгоценное цветение материи. Нет мысли – и человек становится скотом“. Через тернии… Без обуви и без хлеба. Выдюжу! Война идет, многим еще тяжелее. Сколько сейчас людей без хлеба и без крова! И как жалки те, что позалезали в щели, в теплые комнаты. Я счастлив, что не задерживался никогда в щелях, что всю жизнь топтал сапогами земной шар… Через тернии…» Кошурников шел, увязая в снегу. Лоскуты сопревшей кожи, которые были у него на ногах, уже не защищали от снега. Полушубок, прокопченный у костра, был весь в дырах и желтых подпалинах. Но все это ерунда. Лишь бы сердце билось нормально, а то появились какие-то задержки и торопливые толчки. С террасы было видно, как медленно ребята бьют гребями. Но и этого хватало, чтобы держать плот поближе к берегу. Кошурников видел, что Алеша все время наблюдает за ним с задней греби. «Все в порядке, Алеша, ничего такого не предвидится». Но вот показался впереди остров, покрытый высокими и мощными кедрами. Он резал реку на две части: протока – справа, матера – слева. Плот шел вблизи левого берега. За кедрами не было видно, как ведет себя матера, однако Кошурников заметил, что река тут берет легкий разгон. 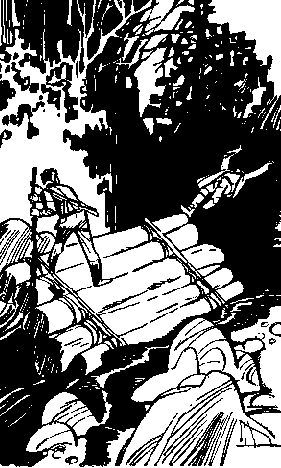
– К берегу! – крикнул он, махнув рукой. – Быстрина! Ребята захлюпали гребями. Однако река подхватила легкий салик, потянула к острову, понесла вниз. – Бей лево! – закричал он. – Перехват! Этот тихий плес под островом, наверно, давно уже забило шугой, затянуло льдом, засыпало снегом. Туда, к рыхлой кромке, мягко подпрыгивая на быстрине, мчался плот. Ничего нельзя было сделать. Реку стянуло прямо под островом, и она с разгона, плескаясь и бурля, уходила под белое поле. – Прыгай! Он с ужасом увидел, что плот вдруг нырнул под лед, а с ним – Костя. Журавлев, который стоял на задней греби, метнулся за товарищем, провалился по шею, но стремительный Казыр уже поглотил Костю, жадно тащил под лед и Алешу. Еще секунда, и откажут его немеющие руки, еще мгновение, и ледяная вода остановит сердце. – Держись, Алеша-а-а! Кошурников ухнул в реку, пополз навстречу товарищу, разгребая эту дьявольскую кашу из снега, воды и льда. Потянул Алешу за воротник полушубка, а тот почему-то едва передвигался, неестественно скрючив сведенные судорогой руки. Кошурников лихорадочно, рывками подвигал друга к берегу, не замечая, что Алеша – наверное, он ударился о плот – уже перестал бороться, обмяк, завел стекленеющие глаза. До берега было не больше метра. Начальник экспедиции не мог поверить, что остался один. Силы его были на исходе. Под самым берегом он долго и безрезультатно дергал Алешу, который уже не подавал никаких признаков жизни. Казыр намертво схватил тяжелые валенки товарища, всасывал все глубже. Кошурников медленно пополз вверх, к кедрам. Кое-как достал из нагрудного кармана кителя спички, но головки их превратились в коричневую кашицу. С него текла вода. Едва передвигаясь, побрел вдоль берега на запад, туда, куда бежал Казыр. Часто останавливался отдыхать. Голова кружилась. Что-то шумело вокруг: он не мог понять, уши ли ему залило водой, или кедры ходят под ветром. Кошурников добыл бы огонь, будь с ним ружье. Но оно вместе с патронами осталось на плоту. И Костя там же, под этой ледяной перемычкой. А еще вчера Кошурников передал ему непромокаемый резиновый мешочек со спичками, чтоб Костя чувствовал себя более нужным товарищам. Как разжечь костер? Погреться, хоть немного обсохнуть. Мозжили кости, мокрая одежда прилипла к спине, тяжким грузом давила на плечи. Если б знал все это Володька Козлов! Он бы уже давно пробивался сюда на лыжах… …Нашел! У него сейчас будет огонь! Ведь с ним нож! Друг один подарил. Говорил, что лезвие отковано из наружной обоймы роликоподшипника и закалено в масле… Кошурников собрал под снегом с десяток разных камней, снес их под кедр. Еще разгреб снег и снова набрал камешков. Неужели ни один из них не даст искры? Ударил по камню вскользь тупой стороной лезвия. Неудачно. Трясущиеся руки не держали ножа. Еще раз. Брызнули искры. Он подумал: «Ты хорошо роешь, старый крот! – вот что скажет Европа». Кресало и огниво у него были. Теперь трут. Он вспорол ватные брюки в том месте, где, как ему казалось, было посуше. Но нет, вата была влажной даже на ощупь. Он положил кусочек ваты под меховую шапку, в густые волосы. Нет, едва ли высохнет – там потно и сыро. Быстро темнело. Кошурников отломил от березы чагу, думая сделать трут. Но чага была насквозь пропитана водой. Он остановился под кедром, отложил два сухих сучка и тер их до рассвета обожженными, грязными, опухшими руками. Утром кинул в снег почерневшие теплые палочки. Попробовал вату – она была влажной. Выбросил ненужный нож. Сверху падали все те же огромные, будто из ваты, снежинки. Ни на что уже не надеясь, пошел дальше. На ноги он избегал смотреть, он их давно уже не чувствовал. Каждый шаг требовал чудовищного напряжения воли. Сердце тяжелело, росло, подступало к горлу и ни капельки не грело. Хотелось сесть и заснуть. Однако он шел вперед – Кошурников знал, что не должен садиться. Снег тут же заметал его след… За островом река снова соединилась, сузилась. Льда на ней не было. Серая вода тут снова ускоряла свой бег. Даже на глаз было заметно, что река идет под гору. Впереди на воде пузырились белые барашки. Кошурников все же присел на плотный, забитый снегом куст ольшаника. Нет, спать он не будет. Он затем присел, чтобы обдумать свое положение. Кошурников достал карандаш и блокнот. Развернул влажные страницы. Опять долго не мог вспомнить, какое число. Пролистал блокнот назад. …Последняя запись первого числа, в воскресенье. Про речку Базыбай записал – для строителей. Это лишний аргумент за левобережную трассу. А то мост пришлось бы строить через Базыбай. Это, значит, я писал позавчера. Катастрофа произошла вчера. Сегодня, стало быть, вторник… Подступающий к сердцу холод путал мысли. …Совсем не слушаются меня руки, будто не мои, а ног словно и нету. А надо идти. Тут быстрина. Длинная. Меня же весной снесет в нее, записки пропадут. Пойду назад. Вон на той приверхе отдохну… Что еще не доделал? Многое. Эта дорога и другие. В море теплом не покупался. Надо было перед войной бросить курить, сейчас бы не так страдал. Любовь матери и жены принимал как должное, и некогда было отблагодарить – в тайге все время. Детям унты не привезу тофаларские. Хотя ведь на эти деньги мы наши гнилые мешки купили… …Золотые ребята были, хорошо в общем шли. Какими бы изыскателями стали, мужиками! А трасса все время левым берегом, все левым. Дятел, что ли? Или часы отцовские? Алешка, чудак такой, говорил: «Не часы у вас, Михалыч, а трактор». Вот чудак! Нет, это не часы, а дятел долбит. Всю жизнь долбит. Вот работяга! И лезет только вверх. Все вверх и вверх… …Ветер подул – хиус. Тучи гонит. Значит, кидь кончится. С ветром холод, а мне тепло… …Стемнеет скоро. Вызвездит. Большие звезды, близкие. Если присяду сейчас в снег, то легко и сладостно станет. Но так нельзя. Пойду, пока не разорвется сердце… Эх. Казыр, Казыр – злая, непутевая река! ОДИН …Заходит солнце, и сумерки быстро ложатся. «3 ноября. Вторник Пишу, вероятно, последний раз. Замерзаю. Вчера, 2. XI, произошла катастрофа. Погибли Костя и Алеша. Плот задернуло под лед, и Костя сразу ушел вместе с плотом. Алеша выскочил на лед и полз метров 25 по льду с водой. К берегу добиться помог я ему, но на берег вытащить не мог, так он и закоченел наполовину в воде. Я иду пешком. Очень тяжело. Голодный, мокрый, без огня и без пищи. Вероятно, сегодня замерзну». ЖИЗНЬ НЕ КОНЧАЕТСЯ, ОДНАКО! …Перед глазами являются одни и те же образы. Много лет под стеклом моего письменного стола лежит фотокопия последней страницы дневника Александра Кошурникова. Эта запись, сделанная коченеющей рукой, исполнена эпической простоты и силы. «…Я иду пешком. Очень тяжело. Голодный, мокрый, без огня и без пищи. Вероятно, сегодня замерзну». Он написал – «иду». Иду!.. Хранятся у меня и копии других документов. По телеграммам, письмам, докладным запискам, протоколам заседаний видно, какие усилия прилагали тогда сотни людей, чтоб найти, спасти, выручить из беды трех инженеров. Первым забеспокоился ученик Михалыча и лучший его друг Володя Козлов. В радиограмме из Тофаларии он просит: «Запросите погранзаставу, проезжал или нет отряд Кошурникова, и сообщите мне». Через несколько дней: «Кроме поисков со стороны Минусинска считаю целесообразным организовать поиск со стороны Гутар». А вскоре: «Мой отряд четыре человека готов к выезду на поиски. Оленями ехать по Казыру невозможно, нет корма. Выходим на лыжах. Немедленно телеграфируйте согласие». И наконец: «Вышли поиски. Доехал Левого Казыра. Дорога тяжелая. Двигаемся 15 километров день. Иду следом Кошурникова». А вот руководители Сибтранспроекта обращаются к секретарю Артемовского райкома ВКП(б) с просьбой срочно оповестить о несчастье всех охотников, пограничников, рыбаков и работников связи. Главный инженер института Хвостик телеграфирует на заставу: «Для вторичного обследования долины Казыра отправьте проводников Козлова обратным ходом». Он же даст указание Козлову и Несмелову обследовать перевал через хребет Крыжина: вдруг экспедиция отклонилась от маршрута? Помощник Кошурникова по хозяйственной части Соловейчик пишет Михалычу записку, вкладывает ее в вымпел и вручает пилоту: «Козлов и три опытных проводника вышли на лыжах из Гутар вашим следом. Полеты будут продолжаться ежедневно. Установите место для сбрасывания продуктов, площадку и костры по углам. Дайте о себе знать – три костра. Козлову установлено два костра. Оба отряда вместе – один». С таежной поисковой базы доносит пилот: «Вчера пролетел до Прорвы. За все время на протяжении всего полета – никаких признаков жизни. Посадочных площадок нигде нет. В верховьях место „скучное“, горы теснят, и на душе не особенно весело – при случае совсем некуда сесть. Устроились жить в зимовье. Надо чай, ложки, вазелину, меховые чулки, антенну и тару под продукты для лыжников». Многие люди рвались в тайгу. Но все было напрасно. Приведу выписки из протокола совещания, которое собралось на погранзаставе в декабре 1942 года: Начальник поискового отряда Козлов. Кошурников выехал 9 октября на девяти оленях, надеясь добраться до устья реки Запевалихи. Туда он прибыл 11 октября 1942 года. Делал плот 12 октября и поплыл на нем по реке Казыр, о чем говорит его надпись на зимовье у Запевалихи. На Саянском пороге я нашел плот Кошурникова и лагерь. Ниже порога Щеки тоже нашел лагерь. Потом на плоту отряд плыл до Китатского порога. На левой стороне Казыра мы нашли вещи группы Кошурникова. Затем на камне «Барка» встретил отряд Мазуренко. Вместе с ним ниже реки Бачуринки также находили лагеря. На Базыбайском пороге тоже увидели следы пребывания изыскателей. В трех километрах ниже по бревнам в полынье нашли лагерь Кошурникова и место, где он делал плот. А еще через три километра перед Поворотной ямой плот был брошен. Осмотром установил, что плот бросили потому, что Поворотная яма замерзла. Потом отряд, пройдя немного берегом, снова поплыл по Казыру на плоту с места, расположенного примерно за километр до устья реки Поперечная. Осмотр берегов ниже Поперечной ничего не дал. Потом на пороге Нижний Китат найден шест, судя по зарубкам, принадлежащий Кошурникову, а также следы рубки сухого дерева для костра. Ниже этого места до заставы километров 30 ничего не обнаружено. Вывод: отряд Кошурникова, видимо, погиб в реке Казыр. Начальник поискового отряда Мазуренко. На своем пути, за исключением реки Запевалихи, отряд Кошурникова никаких следов не оставил. Мой вывод: отряд Кошурникова был зашугован и погиб в реке примерно в конце октября, на 16-17-й день своего пути. Авария произошла приблизительно в 35 километрах от заставы. Начальник погранзаставы Переверзев. Рыбаки вернулись с Казыра 20 октября. Они прекратили рыбную ловлю из-за шуги и похолодания, вследствие которого на спокойных местах Казыр покрылся льдом. На обратном пути рыбаки вынуждены были прорубать через лед проходы для лодки. Решили в зимнее время поиски прекратить и возобновить их в апреле – мае 1943 года. И когда осенью были найдены и погребены останки Кошурникова, к его друзьям и родным стали приходить с Казыра простые и трогательные письма. «Мой папа и его товарищи, – писала Надежде Андреевне Лиза Степанова, – выбрали светлое и сухое место для Александра Михайловича. Я никогда в жизни не забуду того дня. Нести было очень тяжело, потому что рыбаки свалили самые крепкие кедры и обтесали их топорами. Дорогая Надежда Андреевна! Читали ли вы дневник? Когда мы его просушили, то приехавшие изыскатели говорили, что Кошурников выполнил свой долг. Мы все на Казыре гордимся подвигом вашего мужа, который он совершил для Родины. Вам должны были передать часы „Павел Буре“, которые мой отец нашел в воде. Он их завел, и они пошли. А стояли они на без десяти минут одиннадцать. Идут ли они сейчас?» Письма от Лизы Степановой шли всю зиму, весну и лето. Вот строки из этих писем: «Казыр еще стоит, но скоро тронется, и я побываю на могилке Александра Михайловича». «Снег на могилке стаял. А кругом из-под снега пробиваются кандыки и подснежники. Я украсила холмик зеленой пихтой, а звездочку нарядила свежей вербой. Я делала все это, и все время текли у меня слезы, а я не могла с ними ничего сделать. Пока я здесь, буду навещать Александра Михайловича». «Я часто бываю на могиле Александра Михайловича. Приходили геологи, спрашивали про него. Я показала им, и они долго стояли возле него…» Папки с архивными материалами, с письмами родственников погибших, блокноты с записями о моих поездках в Саяны… Листая их, я вспоминаю встречи с друзьями Александра Кошурникова, долгие разговоры с сибирскими изыскателями, которым я посвятил эту, повесть. Немало дней и ночей я провел в их палатках, полюбил этот скромный народ глубокой и стеснительной любовью, которая не требует слов. Да, изыскательскую планшетку не носят ровными и гладкими дорогами. Изыскатель должен шагать по острым каменюкам, гнилым и зыбучим топям, по едва заметным кабарожьим тропкам, а иногда и по первой пороше, под которой прячутся все тропы… Однако «полевая» работа – лишь начало. Прежде чем наметить окончательную трассу, изыскатель учтет тысячу обстоятельств, рассмотрит множество вариантов, проведет над листом ватмана немало бесконечно тяжких и сладостных ночей. Но и на этом не заканчивается его добровольный подвижнический труд. Позднее, когда уже надо выдавать рабочий проект, изыскатель предлагает новые и новые улучшенные варианты, вызывая проклятия строителей, нервируя заказчика, отравляя жизнь себе и своим ближним… Нелегка изыскательская планшетка, но есть в ней неодолимая притягательная сила! И никогда изыскатель не бросит ни «полевую», ни «камеральную» работу. Он сам до мельчайших деталей изучит лицо земли, а потом, забыв обо всем на свете, погрузится в стихию инженерного поиска. И недаром найденная в муках железная дорога предстанет перед его глазами как сказочная красавица. «Я разыскал мою красавицу в этой бездне скал и утесов, вырвал ее у природы, как Руслан вырвал у Черномора свою Людмилу». Так говорит молодой инженер, отстоявший свой вариант железной дороги. Изыскатель сибирских железных дорог Н. Гарин-Михайловский не пожалел этого прекрасного сравнения, чтобы возвеличить труд разведчика новых магистралей. Известный русский писатель хорошо понимал смысл этого труда, знал и любил нелегкие будни инженера-первопроходца, глубоко чувствовал их романтику… Изыскатели железных дорог венчают труд путешественников – открывателей новых земель, ученых, топографов, геологов, экономистов. Это они намечают стальные пути к природным богатствам отдаленных районов нашей Родины. Это с их помощью становится сейчас землей-сказкой родимая сибирская сторонушка. Почти четыре века назад пришли сюда наши предки. Это были простые, сильные, нетребовательные люди, и их подвиг еще по-настоящему не воспет. Стремительно пройдя неизведанными путями величайший из материков, они начали обживать «угожие, крепкие и рыбные» сибирские «землицы». Но, как оказалось, Сибирь – это не только «мягкая рухлядь», кондовые леса, икряная рыба да жирные земли. На восток стали сбывать сибирскую мамонтовую кость, на запад повезли «мусковит» – так по имени Москвы называли тогда слюду. То там, то здесь русские рудознатцы находили соль, золото, железо, медь, каменный уголь. А когда позднее пришли в Сибирь ученые и геологи, они открыли в ее недрах несметные, почти фантастические сокровища, и сейчас наш народ стал единственным в мире народом, который располагает всеми элементами периодической системы Менделеева, нужными для современной промышленности… И наконец, третий эшелон – изыскатели и строители железных дорог, блестящим представителем которых был Александр Кошурников. Этот на редкость одаренный человек прожил на свете всего тридцать семь лет, но успел изыскать, спроектировать или построить около двадцати крупных железнодорожных объектов. В их числе дороги Томск – Асино, Рубцовск – Риддер, Новосибирск – Полысаево, Темир-Тау – Таштагол, ветки к Абазинским и Сучанским рудникам, к порту Находка. Кроме того, он наметил дорогу Синарская – Челябинск и третий железнодорожный переход через Урал. С именем замечательного инженера связано строительство сортировочной горки в Свердловске, моста в Забайкалье и самое главное – изыскания всей восточной части Южсиба, от Кулунды до Лены. Многие ли люди оставляют после себя столь заметный след на земле?.. Построена и дорога Абакан – Тайшет, на изысканиях которой погибли Александр Кошурников и его друзья. Молодые строители окрасили последние, венчающие дело рельсы суриком, торжественно состыковали их и пришили такими же белыми, «серебряными», костылями. Вдоль трассы во многих палатках и домах висел портрет первого ее изыскателя. И еще до начала строительства было решено назвать самую большую станцию магистрали именем Кошурникова, а два соседних разъезда именами молодых инженеров, погибших с ним, – Журавлева и Стофато… Погибли герои, однако жизнь не кончается. Их нет, но они помогают нам идти своими дорогами, намечать свои трассы. Память их товарищей сохранила от тлена светлый и совсем не иконописный образ Александра Кошурникова. Прошло много лет, но сотни людей находятся под обаянием этого цельного, своеобычного, истинно русского характера. «Первые мои изыскания прошли в 1940 году на линии Янаул – Шадринск под руководством А. М. Кошурникова, – пишет из Алма-Аты В. И. Сербенко. – Я хорошо знал Михалыча, Алешу Журавлева и Костю Стофато. Это были скромные труженики, простые и славные люди, однако всем нам следовало бы поучиться у них, как надо стоять до конца во имя долга. Даже тогда, в самый трудный период войны, когда не было числа подвигам простых советских людей, сила духа А. М. Кошурникова поразила всех нас. Ведь за скупыми, сдержанными строчками дневника А. М. Кошурникова изыскатели видят много такого, что ускользает от внимания других людей. Помните предпоследнюю запись? Две строки, в которых он пишет накануне смерти о реке Базыбай, – это же целая поэма! А немного выше он пишет, что „встал в 12 часов и к двум дошел до товарищей“. По пикетам я подсчитал, что до нового лагеря было всего 400 метров! А последние его строки? Помните отмеченные с неизменной инженерной точностью 25 метров, которые прополз Алеша?.. Сейчас, когда прошло время, подвиг Кошурникова приобрел еще большее величие. Так, спускаясь с гор, яснее видишь главный пик. Подвиг его, перед которым каждый человек должен склонить голову, заключался в великом труде. А ведь самые великие люди на земле – это самые великие труженики. И молодежи надо учиться жить на таких примерах. Конечно, сейчас времена изменились. Для предварительных изысканий теперь есть у нашего брата и точные карты и доброе снаряжение, а в случае нужды и вертолет можно достать. Но изыскатели остаются изыскателями. И сейчас эти люди тянут лямки нарт по перевалам, „поднимают“ на шестах лодки по бурным рекам, „плавят“ салики через пороги, спасаются дымокурами от гнуса в тайге, вместо подушки подкладывают на ночлеге под голову футляр от нивелира и радуются, когда над головой есть крыша. Жаль только, что не вспоминают их, когда пришивают серебряные рельсы…» Семнадцать комсомольцев отдела изысканий и инженерной геологии Уралгипротранса пишут из Свердловска: «Вся карта нашей страны покрыта тонкими нитями железных дорог. И по каждому километру любой дороги первым прошел изыскатель. Работа его трудна, но благородна и очень нужна Родине. Какие бы препятствия ни встретились на пути изыскателя, он наметит трассу, на которую уложат рельсы, в том числе и несколько „серебряных“. А. М. Кошурников, А. Д. Журавлев и К. А. Стофато живут среди нас». «Строитель – почетная профессия, – говорит в своем письме Г. В. Королев из Тамбова. – Строитель создает конкретные вещи, его работа на виду, и трудится он всегда в большом коллективе, чувствуя локоть товарища. А изыскателей мало, и они первые. Правда, они всегда придут на помощь друг другу, рискуя собственной жизнью, но ведь каждый из них знает, что эта помощь не всегда может быть сильной и достаточной. Изыскатели – люди профессии незаметной, но полной глубоких переживаний, своеобразных радостей. Какое, оказывается, это счастье – после 8-10-месячных скитаний в тайге или степи сесть за стол и получить уже кем-то приготовленный обед! Между прочим, это трудно понять тому, кто не испытал такого. И зря мы не помним тех, кто торил нам дороги, – людей с горячей кровью. Многие ли жители ныне цветущей Вахшской долины знают, как трудно было работать там изыскателям, когда каждый человек получал в сутки один литр воды? Едва ли уже помнят там Луковникова, зверски убитого басмачами. Погиб в Каракумах и изыскатель М. Бекаревич, не успев прожить на свете и 21 года. Письмо мое путаное, рука скачет, как джейран, я очень волнуюсь, когда вспоминаю о скромных и честных тружениках, которые о себе ничего уже не расскажут…» Из Якутии прислала интересное письмо геолог Л. Куханова: «Александр Кошурников – герой нашего времени, и его образ бесконечно близок мне. Этот человек дорог мне потому, что это не выдуманный литературный герой, а живой, земной, реальный человек. Вокруг меня постоянно меняются люди, я вижу, какая бездна добросердечия, воли, таланта и трудолюбия скрыта в безвестных геологах, рабочих, охотниках, но Кошурников будто вобрал в себя все лучшее, что есть у них. Его жизнь типична для нашего поколения. И не только жизнь. Родился он в палатке, вдали от городов, жил в десятках различных мест, никогда, правда, не выезжая из-под родного сибирского неба, и умер тоже в походе, на берегу далекой саянской реки. Через тернии – к звездам! Эти слова приобрели сейчас изумительный по своей конкретности смысл. Наш народ уже наметил к звездам первую тропку, и А. Кошурников, как и каждый из нас, помог торить ее. Этот богатырский характер запал мне в душу, и я обязательно побываю у его памятника». «Замечательно, что Советское правительство решило назвать три станции новой дороги именами изыскателей, – пишет учитель А. Плетнев из Горького. – Не нужно скупиться на такую дань памяти рядовым строителям коммунизма. У нас часто дрожат над каждой строкой среднего поэта, но очень редко отдают должное тем, кто оставил после себя материальные памятники нашей эпохи. Ведь для того чтобы спроектировать железную дорогу, большой мост или завод, нужно не меньше таланта и труда, чем написать книгу. А железная дорога, например, по моему глубокому убеждению, – более весомый кирпич в здании коммунизма, чем посредственная книга. Когда люди построят коммунизм на земле и у них будет время оглянуться назад, они крепко ругнут нас, если мы не донесем до них имен подвижников великой стройки, не вспомним тех, кто клал кирпичи…» Нет, донесем! Вспомним. Все и всех вспомним, хотя понимание героического, должно быть, к тем временам изменится. Уже сейчас отходит в прошлое романтика палаток и тяжелых пеших переходов, не за горами время, когда выбирать оптимальные варианты начнут кибернетические машины, суровый климат и расстояния перестанут быть проблемами Сибири, а цена жизни любого человека неизмеримо возрастет. Всем этим мы будем обязаны не только себе, но и первопроходцам, тем, кто нам торил дорогу, кто погиб в пути. Пал в бою первый сибиряк Ермак Тимофеевич; умер от цинги на Таймыре Василий Прончищев, открывший острова, которые ныне названы именем «Комсомольской правды»; бесследно пропал во льдах неутомимый искатель «Земли Санникова» Эдуард Васильевич Толль; на далекой Колыме похоронен ученый и бунтарь Иван Черский; на берегу Иссык-Куля навек успокоился Николай Пржевальский, который до последнего дня своей ослепительной жизни рвался дальше за Сибирь, в глубины Азии; в заполярной тундре лежит легендарный боцман, цусимский герой и землепроходец нового времени Никифор Бегичев… Немало хаживали по белу свету русские люди – водой и сушей, реками и океанами, горами и пустынями. И когда будет открыт у нас Музей путешествий, когда развесят там карты и поставят глобусы, то, возможно, поместят где-то под стекло портрет и потрясающий человеческий документ – дневник изыскателя сибирских железных дорог Александра Кошурникова, который жил и умер для того, чтобы быстрее на нашей Земле ложились серебряные рельсы. Правда, и сейчас этот дневник в хорошем месте – его взял на хранение Центральный музей революции, где сделан специальный стенд, посвященный последней экспедиции Александра Кошурникова. Мемориальные музеи открыты также в Новосибирске и Кошурникове. А недавно советские географы назвали именем замечательного изыскателя хребет вдоль Левого Казыра. Теперь каждое лето, а иногда и зимами проходят, проверяя себя, путем Кошурникова десятки молодежных групп, и святая могила в конце маршрута стала местом усиленного паломничества. Там сама собой сложилась традиция – давать залп у памятника, а в пустые гильзы вкладывать записки… Этот обычай сделался символом веры и долга, хотя я хорошо понимаю молодого сибирского инженера-изыскателя Юрия Иванова, который писал однажды в газете: «Изыскатели ревниво хранят память о товарищах, нетерпимо относятся к фальши, умаляющей или чересчур возвеличивающей подвиг этих простых советских людей». Да, Александр Кошурников был совершенно обыкновенный, можно сказать, рядовой строитель коммунизма. Но этот скромный рядовой прекрасно знал и делал свое дело. Вспоминаются стихи о рядовом турецкого поэта-коммуниста Назыма Хикмета: Он начал дело. Он кончил дело. Он, начиная, в трубы не трубил. Закончив, не кричал… Он шел всю жизнь теми дорогами, которые больше всего, были нужны людям. Шел и упал. Лежит он на высоком берегу Казыра, торжественно шумят над ним кедры. Написано просто: «Изыскатель А.М.Кошурников. 1905–1942». Ни слез не надо, ни венков, ни прочего… Друзья, ни слова. Не разбудите рядового! Саяны – Москва, 1957–1960 годы НАД УРОВНЕМ МОРЯ 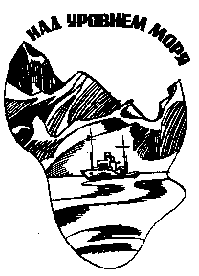
Отлогие старые горы, и ничего кругом, кроме гор. Белые снега лежат на гольцах, издалека холодят лоб. К ним тянет; хочется думать, что где-то над нами, меж тупых вершин, отгадка всего, но мы знаем: большая, истинная жизнь внизу, там, откуда мы идем, и она всегда внутри нас, со всем, что в ней есть, – с вопросами и ответами, горем и радостью, с липкой грязью и чистой водой, смывающей любую грязь… На перевале высится обо – древняя ритуальная пирамида, сложенная из камней. Проводник-алтаец посоветовал взять у подошвы хребта камень и притащить сюда. Мы отдыхаем на виду гор и думаем о том, что первые камни в пирамиду принесены, может, тысячу лет назад, что век от века здесь, в центре материка, безвестные скотоводы и охотники по-своему – просто и мудро – ковали цепь времен и что твой камень тоже лег сюда, приобщив тебя к людям, которые шли, идут и будут идти через этот поднебесный перевал. 1 СИМАГИН, НАЧАЛЬНИК ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЙ ПАРТИИ Из далека, заглазно эти алтайские гольцы виделись утесистыми и неприступными, дикий вершинный камень рвет будто бы с гулом плотные ветра, и ни веточки, ни былинки. А тут довольно спокойные склоны, меж округлых вершин стоит первозданная тишина, по циркам спускаются рыжие и серые мхи, потом карликовая березка заплетает все, а еще ниже, у границы леса, цветут альпийские луга. – Ух и чудик же ты, начальник! – сказал за моей спиной Жамин. – Законный чудик. Может, мы двинем, а ты тут посмотришь?.. Нет, я еще их провожу немного и, пользуясь случаем, пройдусь по лесу вон в том распадке. Снова глянул на горы, обернулся назад, в темную долину, из которой мы вылезли. Вообще надо было спешить – на привале добили последние сухари. Я-то в лагерь вернусь быстро, а им топать да топать… Засветло к озеру ни за что не успеют, придется еще одну ночь трястись у костерка. Легостаев идет последним и смотрит на горы, то и дело поправляя очки. Виктор вечно тащится в хвосте, терпеливо сносит ругань, но голова у него устроена так, что на деле, в главном, ее хозяин оказывается шустрее других. Он никогда не шумит и никуда не торопится, но его кварталы всегда ажурно протаксированы, а легостаевские таблицы раньше всех оказываются в «досье» партии. И в этот раз он управился раньше других, потому я и отправил на озеро именно его. – Порубаешь досыта, выпьешь, – завидовали ему ребята. – Сонцу в рожу плюнешь… Легостаев морщился – он всегда морщится, когда при нем говорят о начальнике объекта, а тут были особые основания. Это по милости Сонца мы поздно забросились в тайгу, остались без связи и проводника, сели на голодный паек. Больше месяца мы топтали нашу лесистую развальную долину. Рабочие рубили просеки, ставили квартальные столбы, валили лес для замеров и проб, а таксаторы считали, сколько из этих мест можно будет взять кубиков. Оставалось еще с недельку в тайге проторчать, а там – на базу экспедиции. Вообще-то я даже не ожидал, что мы так быстро пошабашим в этой долине – просто раньше не знал бийских «бичей». Они работали как черти, ну и ели тоже дай боже. И так вышло, что жиров и сухарей не хватило. Легостаев должен был доставить вьюком харч, а попутно отнести на базу наряды, журналы таксации и месячный отчет. Уж за что другое, а за отчет, если его не представить вовремя, Сонц потом запилит. Одно только тревожило – этот Жамин увязался с Витькой, неожиданно потребовав расчета. Поначалу я отказал ему, но вся артель бросила работу. – Начальник, ты нами недоволен? – Да почему же… – И мы хотим быть довольные. Ты уж рассчитай Жаму. – Работы осталось на неделю, мужики! – В том-то и все. Мы, если тебе надо, за пять ден ее переделаем. Жамин пай на себя примем, только его ты уж отпусти… Пришлось согласиться. Легостаеву было безразлично, с кем идти, но я досадовал на свою слабость. И весной, в Бийске, тоже уступил нажиму. Этих шабашников порекомендовал мне на товарной станции какой-то геолог: – Смело нанимайте, если срочная работа! Конечно, это особый сорт трудящихся, однако за деньгу все сделают как надо. Я им передам с моим завхозом? А рано поутру явился в гостиницу посетитель. Он был небрит, как-то смят весь, будто его побили, дышал в сторону, видно, заложил с утра. – Какая работа? – сразу приступил к делу гость. – А сколько у вас людей? – Сколько надо, столько и будет. – Голос посетителя был независимый, даже недружелюбный и с хрипотцой. – Работа сдельная? – Ну да, по нарядам. – Спецовка есть? – Резиновые сапоги, комбинезоны, спальные мешки, – перечислял я, с грустью думая: «Если все они такие, что делать буду?» – Рукавицы, накомарники… – В накомарниках работать, – перебил он меня, – как все равно… Ладно, к обеду соберу. Через несколько часов он действительно принес десяток потрепанных паспортов. – Мы на дворе… Я полистал документы. Некоторые из них можно было хоть в музей. «Этого не возьму», – твердо решил я, рассматривая странички паспорта, до черноты заляпанные печатями: Колпашево, Канск, Астраханская область, Междуреченск, Тува… С неясной, потертой фотокарточки смотрели угрюмые глаза, и эти морщины у губ я будто бы где-то видел. Жамин Александр Иванович, 1938 года рождения. Нет, не знаю. – Жамина не возьму, – сказал я с крыльца. – Кто Жамин? – А я Жамин и есть, – встал утренний гость. – Почему не возьмешь? – У вас же тут сплошные печати, некуда нашу поставить. – Меж печатей и поставишь. – Без Жамы не согласны, – подал голос один из шабашников и тоже поднялся. – Пошли, робя! Только к тебе, начальник, люди в Бийске не наймутся, если ты нас не взял… Так и знай. Взял. Лесную работу они знали, а водки в партии не было. Жамин с двумя приятелями попал как раз к Легостаеву. Все они больше месяца спали и ели у одного костра, и на мой вопрос относительно их надежности Витек неохотно, отвлекаясь от каких-то своих мыслей, ответил: – А что именно, товарищ Симагин, вас интересует? Нормальные люди… Второй сезон я предлагаю ему перейти на «ты». Неужели десятилетняя разница в возрасте так разобщает людей? Нет, скорее всего тут особая интеллигентская пижонинка. Из-за нее же он и бреется каждый день, хотя все мы на полевых отпускаем бороды и довольны – возни меньше, да и комар не так кусает. Опять он отстает? Понятно, горы смотрит. В долину нас кинули вертолетом, летели мы над рекой, и горы оставались где-то вверху. Сейчас, вблизи, их интересно посмотреть. А воздух-то здесь какой! Сухой, невесомый, будто его нет совсем. Он был тут сам себе хозяин – тек неслышно, свободно омывая пологие хребты. И не надышишься им досыта. А наша сырая темная долина совсем не продувалась. Будто нарочно сгоняло в нее тучи; а когда приостанавливались дожди, то ночные туманы насквозь пропитывали все. Случалось, выпадали ясные дни и ночи, но росы на безветрии держались крепко – почти весь день потом скатывалось по плечам. Вода сочилась по склонам долины, во мхах и лесной подстилке стояло невидимое озеро, и вечно хлюпало под сапогами. Да и сам воздух там будто наполовину состоял из воды. Но почему здесь так сухо? От близости солнца, теплого ветра или оттого, что редок воздух? Да, влага быстро испаряется тут, и все живое бьется за нее. Главная боевая сила, конечно, эти вот густые заросли карликовой березки. Листочки у нее мелкие, жесткие, кожистые, чтоб испарять меньше. И ветров она не боится – черенки упруги, как стальные пружины, ветвятся густо. А полог будто подстрижен. Наверно, это для того, чтобы ветер скользил над зарослями и не выпивал зазря скудный водный паек. Кое-где березки заплели тропу на уровне пояса, и приходилось с усилиями продираться сквозь них. – Дайте ваш ножик, Саша, – догнал нас Легостаев. – Зачем? – Жамин достал из кармана финку. Виктор на ходу стругнул и показал нам тонкий черенок. Годовые кольца не различались на белом, как мел, срезе. – Знаете, сколько этой березке лет? – А зачем? – спросил Жамин. – Сто. – Виктор сунул палочку в карман пиджака. – Сто лет… – Свистишь! – Жамин забрал нож. – Зачем она тебе? – Просто положу на стол и буду на нее иногда смотреть. – Ну и что? – Жамин поглядел на нас с презрительным снисхождением. – И думать, что этой палочке сто лет. – Чудики вы все! – махнул рукой Жамин. Виктор засмеялся, я тоже. Пошли дальше. Березка кончилась, и запахло травами. Я пустил Жамина вперед по прямой, битой тропе, а сам пошел рядом с Виктором, чтоб вместе посмотреть луга. Не знаю, чем уж занимали эти цветы Легостаева, просто мы оба, наверно, стосковались в нашей тенистой долине по воздуху, простору и краскам. Вот купальница, сибирский огонек, его полно не только на Алтае; крупные, под цвет жаркого костра бутончики потеряли весеннюю упругость и начали уже осыпаться. А вот желтый альпийский мак, не такой, как культурный, попроще, но тоже хорош! А это – куропаточья трава? Рубчатые листочки идут прямо от корня и обрамляют светло-желтые чашечки. А тут какие-то свежие, как утренняя заря, цветки с золотым солнышком внутри. Нет, деревья мне больше знакомы! И эту скромную красавицу с пятью узкими ярко-оранжевыми лепестками тоже не знаю. Сорвать? – Ветреница и горечавка, – сказал Виктор, взглянув на мой букетик. – Хороши! Да, это тебе не долинные папоротники и хвощи! Те, как умирающее, выродившееся племя, не живут, а тлеют – ломкие, слабые, без цветов и запаха. А тут, наверху, все цветет, и больше всего желтых, канареечных, оранжевых красок – солнце повторяло себя в бесчисленных золотинках. И пахнут альпийские цветы по-особому – нежно и стойко. Борьба за жизнь. Опыляться-то надо, вот они и стараются, чтоб пьянели в их чашечках редкие по этим местам насекомые. – Но вы не туда смотрите, – тронул меня за плечо Легостаев. – Вот это стоит внимания. Виктор пропускал сквозь пальцы метелку каких-то стеблей, густо унизанных маленькими мягкими листочками. Цветы были тоже мелкие, желтые, как их соседи, и пахли неуловимо тонко. – Говорят, лезет в землю и камни – не выдерешь. Эту штуку долго секретили… – А что это такое? – Rhodiola rosea. Золотой корень. Вроде женьшеня. – А почему секретили? – Думали, от лучевой болезни, а он от всего помогает. В поселке за пятерку уже можно купить корешок и рецепт. А разве вы не говорили с ребятами из ботанической экспедиции? – Надо будет накопать перед отъездом, – сказал я, в который уже раз пасуя перед Легостаевым. Конечно, я слышал весной в поселке, что собирается в горы какая-то экспедиция, но, честное слово, в голову не пришло поговорить с ними. Просто леность ума, хотя я крутился тогда изрядно – сборы, то, се. Рабочие доставляли изрядно хлопот, этот вот Жамин… Жамин шел впереди, не оглядываясь, гремел сапогами по камням. С чего это он вздумал рассчитаться до срока? В лесу претензий к нему не было. Артель его слушалась, да и сам он ворочал что надо. Но тогда, в поселке, Жамин выкидывал номер за номером. Мы застряли на центральной базе экспедиции. Сначала ждали грузов, которые Сонц поздно отправил, потом экипировали партии. Барнаул долго не давал вертолета, хотя рейс был давно оплачен. Аэродром отговаривался, что много машин на профилактике, а когда передали готовность, начались дожди, и пришлось больше недели ждать окна в небе. Тучи ходили над озером и мели воду мокрыми хвостами. Партия сидела на тюках; даже на рыбалку нельзя было сплавать, потому что каждый час синоптики могли дать погоду. Рабочим надоело безделье и безденежье, они потребовали второго аванса. Я составил Сонцу ведомость; и тут у него началось с Жаминым. Накануне пришел на Жамина исполнительный лист. – Ты не вычитай с меня, начальник, – не то по просил, не то потребовал он. – Как это «не вычитай»? Вы что – первый год платите? – Наш Сонц любит вот так беседовать с людьми – ставить вопросы, не ждать на них ответов и снова спрашивать. – Порядков не знаете, товарищи? Как это «не вычитай»? – А так, что не вычитай, – едва смог вставить Жамин. – Как я могу не вычесть? – Сонц окидывал его победоносным взором. – А потом что – из своей зарплаты платить? Нет, вы поняли мою мысль? И разве детей бросать положено? У меня их тоже четверо, почему же я их не бросаю? – Сына я не обижаю… Из расчета все вычтешь, аванс не трожь. – А до расчета ваши дети голодать будут? Вы поняли мою мысль? Жамин сверкнул глазами, ушел. К ночи дождем залило поселок. Мы уже спали в домике, арендованном у леспромхоза под базу экспедиции, когда под окнами появился Жамин. – Эй, выди кто-нибудь – кишки выпущу! – сипло кричал он в темноте. – Я таких давил и давить буду. Выди, выди кто-нибудь! – Завтра не успеем поговорить? – закряхтел Сонц. – И как только такие могут воспитывать детей?! Жамин долго еще трещал забором, шлепал в лужах под окнами, скрипел зубами и бормотал у дверей, мешая спать. Первым потерял терпение Легостаев. Он вышел с фонариком на крыльцо, осветил Жамина. Тот сидел на верхней ступеньке, мокрый весь и босой. Я тоже поднялся на всякий случай и видел из сеней, как Витек сел рядом с Жаминым под дождь. – Не надо только меня давить, – сказал Легостаев. – И резать не надо. Вы что шумите? – Да разве с ними сговоришься? – тоскливо протянул Жамин трезвым голосом. – А сапоги-то пропили? – спросил Виктор. – Сразу выдерут за все. – Обувайте мои да идите спать. Разбираться с этим случаем было некогда – рано утром над поселком зарычал вертолет. Наверно, неожиданно дали погоду, и надо было срочно грузиться. Жамин хватал ящики потяжелей и не смотрел на нас. Перед отлетом вышел к вертолетной площадке Сонц. – И этого берешь, Симагин? Ты его сам нанимал? Документы у него хоть в порядке? Я торопливо кивал, думая об одном – быстрей оторваться от земли, чтоб Сонц вместе со своими разговорами пошел вниз, уменьшаясь, чтоб тайга поскорей с ее вопросами, неотвязными и большими. Сейчас работа в долине была, можно сказать, позади. Остаток лета и осень уйдут на камералку, расшифровку и сведение данных таксации с аэрофотоснимками, а зимой надо выдать итоговую цифирь и схему освоения здешних лесов. Да, как-то незаметно и ловко это вышло, что все стали называть то, что начнется в этих долинах, освоением. Завоют бензопилы, подваливая без разбора старые и молодые, здоровые и больные деревья, взревут трактора, зачадят костры, сжигая вершинки, сучья, окомелки. Особенно страшно падут в долине первые, самые крепкие, останавливающие ветра деревья. Непременно первым, для пробы, будет кедр. Он стоит под пилой недвижимо, как стоял до встречи с ней двести лет. Но вдруг содрогнется весь, качнется и рухнет, со стоном осадив землю. Вершина его ляжет вниз по склону, ее зачокеруют, и трактор поволочет великана к реке, раздирая лесную почву. Полой водой бревна поднимет, понесет вниз, раздевая на перекатах и шиверах. «А как же иначе?» – спросит Сонц, и я промолчу, а Легостаев поморщится. Мы могли бы спокойно объяснить, как можно сделать иначе, да только Сонц не даст закончить, начнет канючить, как запавшая патефонная игла: «Стране нужна древесина или нет? Шахты и стройки останавливать? Нет, ты понял мою мысль? Консерватором заделался, Симагин? Влияние Быкова? И молодежь путаешь? Разве это разумно – консервировать ресурсы народного хозяйства, гноить древесину, если ее в дело можно пустить? Защищать старую, перестойную тайгу? Рубить ее надо, товарищи, рубить!» Но правду сказать – не в Сонце дело. Перед отъездом начальников партий вызвали в Москву. Такого сроду не бывало – лесоустроителям всегда хватало своего начальства, и уж оно имело дело с главком. А тут позвали. Разговор был интересный. Скорее не разговор, просто устная инструкция: «Товарищи! Работа срочная и очень важная. Надлежит выявить все ресурсы древесины, установить максимальный размер пользования. Закладывайте сплошные рубки – леса там перестояли, вываливаются. Мы на вас серьезно рассчитываем. В конце сезона будет премия, если, конечно, уложитесь в смету…» А уже здесь, на Алтае, Сонц толковал с каждым начальником партии конкретнее и просил нас провести соответствующие беседы с таксаторами. Он говорил, что лесоустроитель не может поступиться своей инженерной честью. Сонц это умеет – хватануть словом. «Искусственное завышение запасов древесины – дело скользкое, товарищи, – вещал мне Сонц так, будто ему внимала целая аудитория. – Только обязательно надо принять возраст рубки по количественной спелости. Это мы вправе сделать. Расчетная лесосека сразу намного возрастет. Кроме того, надо учитывать, что склоны тут разной крутизны. На двадцатиградусные могут подниматься трактора, а выше можно применять лебедки. И пусть у нас голова не болит из-за того, как с крутяков брать древесину, не надо, товарищи! Наша задача показать в принципе возможности этих долин…» Мы поняли его мысль. Когда я поговорил с Легостаевым, он поморщился, вышел из моей штабной палатки и углем написал на полотне: «Рубить всегда, рубить везде – вот лозунг мой и Сонца!» Легостаев незаметно возрождал во мне надежду. Я снова стал думать, что бороться за правильное лесопользование еще можно, если есть такие подпорки, хотя мне надо приготовиться к очередным неприятностям. В долине Виктор все считал по-своему. Размер пользования у него получался небольшой, однако научно обоснованный до тонкостей, не подкопаешься. Другого я от него и не ожидал. Это будет горькая пилюля Сонцу; только главные события, как я понимаю, развернутся дома, зимой. Конечно, я поддержу Виктора, но что я могу? И для Быкова идеи Легостаева – бальзам на его старые раны, однако Быков сейчас не у дел… Тайга! Я очнулся, ощутив легкий шум и встречный ток прохладного воздуха, будто всходила впереди дождевая туча. Как и по ту сторону перевала, деревья на границе леса росли кривыми, корявыми, ветры вытянули их кроны флагами. А вот на продуве пихтушечка стоит расчудесная – нижние ветки ее, должно быть, приваливает снегом, они укоренились, пустив вертикально верхушечные почки, и вот целая семья уже окружает веселым хороводом свою родительницу, и никакой ветер им всем вместе не страшен теперь. Перевальное седло незаметно перешло в широкий распадок, и прямо под ногами синела падь. В самой своей глуби она была почти черной. Кыга, что ли? Справа поднимался небольшой перевал, и туда вела тропа. – Не стоит вам, пожалуй, ноги бить. – Легостаев догнал меня и протянул руку. – Этот массивчик я сам посмотрю. Давайте чемодан. – Ну ладно, – согласился я. – За перевалом начнется скат к озеру, а вы берите правей. В Кыгу не спускайтесь, верхом и двигайте – гольцами, тропой. 2 СОНЦ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕКТА Меня первого, когда пойдет разбирательство, притянут, потому что я, как руководитель объекта, персонально отвечаю за безопасность работ. Наплести можно, это смотря как взяться. Нехватка продуктов – на меня, хотя Симагин мог бы поэкономнее обойтись с жирами и консервами. Необеспеченность партии рацией – тоже на меня. Но зачем я буду им давать дорогую аппаратуру, если нет человека, который умел бы с ней обращаться? И еще могут сказать – поскупился, мол, на проводника и вертолет постоянной аренды. А все это дела непростые. Вертолет, например, стоит сто двадцать рубликов в час. И проводника я правильно снял: он Симагину совсем был не нужен в долине. Я же не для себя, для всех старался, потому что перерасход средств лишит премии не только экспедицию, но и тех, кто над ней. А с Жаминым, когда он один вылез из тайги, я правильные меры предосторожности принял. Приходится быть в жизни осторожным. И тоже не из-за себя. У меня на шее четверо детей, это надо понимать. В конце концов человек живет на земле ради своих детей. Сам я выходец из мещан, как раньше называли это сословие. Хлебнул всякого, особенно в молодости, когда понял, что надо учиться. К сожалению, перед войной, на студенческой скамье, женился. Взял ее с пятилетним ребенком и за всю жизнь ни разу не попрекнул, чтоб она это ценила. Я считал, что со временем смогу вырастить из ее сына достойного гражданина страны, однако с детьми не всегда получается так, как хочешь, и это громадный вопрос. Заниматься с сыном-приемышем у меня тогда времени было мало – зимой учеба, общественная работа, а летом в лес, на таксацию. Жена тоже работала, и сын часто бывал у бабушки. Он рос очень капризным, и это поддерживалось родственниками жены. Например, он всегда ел первое без хлеба. Несколько раз я делал замечания, а однажды дал хлеб и сказал, чтобы он его обязательно съел. Сын не послушался, а когда я попытался заставить, то бабушка начала обвинять меня, будто я кормлю ее внука черствым хлебом. Или другое. Если с ним шли гулять, то обязательно неси его на руках, пятилетнего. В противном случае он побежит в другую сторону с истерическим криком. Он всегда самовольно брал сладости, которые очень любит до сих пор, несмотря на свои двадцать девять лет. О военном периоде говорить не буду. С предпоследнего курса я ушел на фронт, а когда вернулся, сын уже ходил в школу. Учился он так: проследишь – хорошо, а нет – плохо. Потом начались пропуски занятий, стали пропадать деньги, облигации, вещи, особенно в трудные послевоенные годы. Видя все это, мы отдали его в ремесленное училище, которое он окончил, получив специальность токаря. Начал работать на судоремонтном заводе, но прогуливал и часто опаздывал на работу, за что его судили товарищеским судом. Во избежание дальнейших неприятностей мы настояли, чтобы сын пошел на флот – как бывший фронтовой офицер я считал, что служба научит его жизни, но вышло наоборот. Перед отъездом сына в армию я предложил ему взять мою фамилию, чтоб она ему напоминала обо мне и моей заботе. Но он не только не сделал, как я хотел, но даже не узнал, через какие организации это делается. Потом уже сказала мне жена, что ему не нравится моя фамилия – Сонц. А чем плохая фамилия? Не такие бывают. Прослужив более пяти лет, сын так и вернулся матросом. Учился по моему настоянию в школе механизации сельского хозяйства, потом в вечерней школе, но все без толку. Сейчас работает на грейдере, часто приходит выпивши, заявляя, что иначе не дают хорошей работы. Приносит зимой до семидесяти рублей, а летом больше сотни. Машина тяжелая, тряская. Это плюс постоянные выпивки привело к заболеванию желудка, но сын не слушает советов – не лечится. Я настаиваю, чтобы он шел учиться в техникум, а сын заявляет, что надо кому-нибудь работать и на тяжелых работах. На мои доводы о том, что после учебы я получал вдвое больше квалифицированного рабочего, злится. Механически выбыл из рядов комсомола, не вступил в профсоюз, нелестно отзывается о передовиках производства и коммунистах. Человек неглупый, он имеет нетвердый характер. Часто обещает выполнить мою подчас совсем пустяковую просьбу, но не выполняет ее, а на мои замечания молчит или морщится, совсем как таксатор Легостаев, с которым сейчас неизвестно что в тайге. Нет, во всем виноват начальник партии Симагин, да и сам Легостаев тоже. Почему Симагин отпустил человека с бандитом, а человек согласился идти с бандитом? Помню, я еще весной говорил: «Товарищ Симагин, зачем ты нанял эту темную личность?» Я-то им, «бывшим», никогда не доверяю. Мало ли что может случиться в тайге! Часто даже приличный человек сам не знает, на какой поступок он способен в связи с обстоятельствами. И вот я спрашиваю Симагина: «Зачем, мол, ты эту личность взял? Разве в Бийске нельзя найти рабочих любого качества?» Он молчит, а Легостаев, который был тут же, говорит: «Знаете…» Мое имя-отчество Генрих Генрихович, но этот таксатор еще ни разу меня так не назвал. «Знаете, – говорит Легостаев, – оставьте это». И морщится. Он всегда морщится, если я его или Симагина припру. С Симагиным я довольно часто ругаюсь, но личного между нами нет ничего. Просто Симагин любит жизнь людям портить, прикрываясь принципиальностью. Один раз даже самому начальнику Леспроекта направил бумагу, хотел пустить насмарку годовой труд всей экспедиции. Он считает, что мы в принципе неправильно обращаемся с лесным фондом. Я его спрашиваю: «Выходит, вся рота идет не в ногу, ты один в ногу?» – «Это демагогия», – отвечает. «Слушай, – говорю я, – в Леспроекте пять тысяч инженеров, которые тоже не первый год по лесам лазят, а ты один такой?» – «Не один, – говорит он. – Быков, Легостаев и другие, которые пока молчат». Это он о нашем Быкове, который изработался, отстал от жизни. За кляузы его поснимали со всех мест и держат на технической работе до пенсии. Симагин тогда оборвал этот разговор, а Легостаеву я потом прямо сказал, что если его друг-приятель лишит весь коллектив прогрессивки, то люди этого не простят. «Сорвется он когда-нибудь, – говорю, – на какой-нибудь мелочи». В прошлом году так и получилось – Симагин подписал материалы, в которых из-за машинистки прошла цифровая ошибка на один порядок. Машинистка-то могла ошибиться, но ты подписываешь – смотри! Дали ему строгий выговор, и он молча снес его, потому что возразить было нечего. А в этом году Симагин заметно присмирел. Весной за одну его небольшую оплошность я сделал замечание Легостаеву, но Симагин понял, что мои слова относятся к нему, однако смолчал. Не тот стал Симагин. И вот он сорвался уже по-крупному. За это ЧП под суд пойдет, если что-нибудь крайнее случилось с Легостаевым. Ведь в нашем деле надо предусматривать всякую мелочь. Взять, например, одежду. Симагин как накинет спецовку в городе, так и не снимает до конца полевых работ. И моду взял не бриться летом. Ладно, если рабочие, студенты-практиканты или даже рядовые таксаторы отпустят бороды, но начальник партии не раз за сезон вынужден обращаться и в райком, и в аймакисполком, и в другие организации. А людей надо уважать и знать. Даже в правлении колхоза на тебя по-другому смотрят, когда ты подтянут и чисто выбрит. Тут нет ничего такого, просто жизнь, практика, опыт. И документы предъявишь, и деньги наличными пообещаешь, но если ты бродягой пришел, не дадут лошадей – и все. Скажут, что все они в табунах или не приспособлены к вьюку, гужевые, и спины у них чересседельниками попорчены. Конечно, мне возраст помогает. Когда люди видят, что пришел человек солидный, в годах, – совсем другое отношение. Кроме того, я все стараюсь предусмотреть, вплоть до внешности. Сапоги нужны, да не кирзовые, а хромовые, и чтоб в любую грязищу блестели, если пошел чего-нибудь доставать. Синие галифе обязательны и суконный китель. И хорошо еще форменную фуражку с глянцевым козырьком, а также планшет на ремешке. Я понимаю – все это мелочи, но помогают они хорошо. Открываешь дверь в правление и уж чувствуешь – ты хозяин положения. Не откажут ни в проводниках, ни в муке, ни в лошадях. Входишь и сразу руку председателю: «Сонц, руководитель объекта!» Он даже приподнимется и не садится, пока сам не сядешь. Хорошо еще канистру спирту иметь в экспедиции. Я, конечно, сам не пью, но эта простая предусмотрительность может выручить из самых тяжелых положений. Даже вертолет можно достать безо всякой очереди. Надо знать людей – эта моя мысль ясна. С чужими, между прочим, всегда проще поладить, чем с близкими. Вот взять даже не экспедицию, а снова моих детей. Как я их знаю, никто не знает, но не всегда у меня ладно с ними. Старшая моя дочь окончила среднюю школу на «хорошо» и «отлично». Я настаивал, чтобы она готовилась к экзаменам в медучилище, а она доказывала, что и так выдержит. В итоге – двойка и слезы. По комсомольской путевке устроилась на промышленную стройку разнорабочей. Я требовал приобретения профессии, но дочь отвечала, что ей нужен только стаж. По моему настоянию она все же получила специальность штукатура, по которой и работала до вступления предприятия в строй, куда потом перешла учеником прессовщика, решив учиться на инженера пластических масс. За два года дочь дважды кончала подготовительные курсы, наконец, подала документы на заочное отделение и первый же экзамен провалила. В результате снова пошла работать. Разговаривая с дочерью, я и жена не раз внушали ей, что ее подруги уже на третьем курсе институтов, в техникумах, а она этого совсем не переживала и отвечала одно: «Что за претензии, я же работаю!» Как она будет жить дальше, не знаю. Ее отношения со мной переходят в полное непонимание, а в чем тут дело, не разберусь. Неужели причина этому мои указания учиться и выполнять несложные обязанности по дому, которые положены дочерям? Помню, раз она ответила мне такой грубостью, что я даже задохнулся, а потом сказала матери, что она не права в выражении, и та посоветовала ей извиниться. Дочь отказалась извиняться, так как я, дескать, буду смеяться, а я и забыл, когда смеялся последний раз. Через день дочь одумалась и подошла. «Папа, извини». Я ответил: «Что же извинять? Раз ты поняла свою ошибку, не повторяй ее» Она резко повернулась и, сказав: «Не извиняешь – не надо», ушла, то есть фактически снова нагрубила мне. Кроме хороших советов, она никогда ничего от меня не слышала, но я так и не разобрался в мотивах ее поведения, а это очень важная вещь – понимать поступки людей. В этом вот случае, например с Жаминым и Легостаевым, могло произойти все и по разным причинам, но есть один очень логичный мотив. Какой? Еще до отъезда в тайгу передавали мне разговор Жамина с кем-то из наших. Он, видите ли, мечтает достать новые «ксивы» – по-ихнему, по-блатному, так называются документы. А почему Жамин мог пойти на преступление ради завладения паспортом Легостаева? Да потому, что они одних лет, а фотокарточку заменить находятся такие специалисты, что ничего не заметят и в институте криминалистики. Жамин-то у меня с первого взгляда вызвал подозрения, еще весной. Глянул ему в глаза и подумал: «Зверь ты, парень, зверь клеточный!» Этих, кто баланду хлебал, я определяю сразу. По глазам. И углы губ у них обозначены морщинами, и плечи висят. В итоге я прав оказался – уголовник, алиментщик, хам, за нож хватается. Грозился меня пырнуть, представляете? А как я могу не вычесть по исполнительному листу? Для детей-то! Я это еще как понимаю, потому что у меня самого их четверо… Перейду к этому ЧП. Кой-какие меры я сразу принял, получив радиограмму из Беле. Послал за милиционером – он тут на все озеро один. «Пожалуйста, – говорит, – только мне нужно указание из района». Какие безобразия у нас все же творятся! Казалось бы, с милиции должен начинаться порядок, но что получилось на деле? Звоню из поселка в район, докладываю – так, мол, и так, звонит руководитель объекта Сонц, нужно арестовать одного человека. «Кого?» – «Рабочего из Бийска Жамина». – «Знакомая птица. Он у вас? А в чем дело?» Объясняю. «А где случилось происшествие?» – «Где-то на Кыге», – говорю и слышу в ответ: «Мы этим делом заниматься не будем». – «Почему?» – «Не наш район». Вот уж никогда не думал, что в милиции тот же бюрократизм! Это верно, что партия Симагина работала на территории Улаганского аймака, но, чтобы пробиться к ней из Улагана, надо несколько суток тащиться по Чулышманской долине на лошадях, потом по озеру и снова в тайгу. Есть другой путь, но им не легче – по Чуйскому тракту через Семинский перевал до Горно-Алтайска и Бийска, и тут машиной триста километров, если не будет вертолета, а его точно не будет в такие дожди. Я все же требую послать радиограмму в Улаган, но из района отвечают: «Посылайте сами, дело от вас исходит». Конечно, если б я сам прибыл в район да зашел куда следует, живо бы зашевелились, но мне надо было сюда ехать, на место. Какие все же формалисты! Как бы там ни было, преступник-то на территории этого района! Кто его должен арестовывать? Позвонил я прокурору, но его не было, вызвали в Барнаул. А тут такая связь, что нервы другой раз не выдерживают. Бросил я это безнадежное дело, послал радиограмму в Беле, чтобы все наличие людей немедленно уходило в тайгу, на поиски. Кроме того, заказал вертолет и попросил обком партии, чтоб помогли его скорей выбить. Сам сел на катер и поплыл. Какого это числа было? Да девятого, в четверг. Шестьдесят километров, далеко ли. Прибыл. Мои все в поисках, а этот Жамин тут. Убежать ему некуда, хотя он поначалу и рвался в тайгу. И зря удерживали – он сразу бы свою вину обнаружил. Смотрю на него и опять думаю: зверь. Глаза едят просто, и рожа вся зачернела под черной щетиной. Брови рассечены, глаз один заплыл, а под ним желтое пятно. Очень может быть, что они там, в тайге-то, из-за пустяка поссорились, а все эти «бывшие» свирепеют моментально и не помнят себя. И тут еще одна подробность – у причала шепнули мне, будто у Жамина отобрали нож, посмотрели под лупой и заметили кровь. Короче говоря, дело темное, даже очень. Что ж, милиции нет, но порядок-то должен быть. Собрал я кой-кого из здешних и сразу снимаю допрос. Он сидит на земле, на меня не смотрит, все на озеро да на горы, только иногда как глянет в глаза – ну, думаю, не хотел бы я с тобой в тайге вдвоем остаться, без свидетелей. – Расскажи, как было дело, – говорю я, покончив с обязательными формальными вопросами, но подозрение закралось сразу, потому что он начал что-то крутить с фамилией – будто он и не Жамин. – Рассказывайте по порядку! – Да что рассказывать-то? – отвечает. – Я думал, он давно здесь. – Вы подрались там? – Вот еще! – А почему же лицо у тебя побито? А? Почему? – Почему, почему!.. – Ну? – не отстаю я. – Ночью лез но круче и ободрался. Чувствую – врет. Царапины были бы, а у него кровоподтеки, и глаз заплыл. Про глаз он сказал, что клещ в тайге впился, но я сразу понял, что он крутит. Нет, надо его щупать разными вопросами. – Вы зачем шли? – Жиры и сухари кончились. Из консервов одна сгущенка осталась, и то не хватит. – А работы там еще много? – Начальник говорил, что на неделю, самое большее – на десять дней. – Так. Но ты не ответил на вопрос. Ты-то лично почему ушел из партии? – Расчет брать. – Раньше срока? – Ну да. И тут я понял, что начинаю ловить его. Какой-нибудь вопрос все равно должен был его раскрыть, а как же иначе? Смотрите – он же не мог брать у меня расчет, если наряды не закрыты, а все они в партии. Без денег этот народ не уходит. И паспорт его был передан Симагину, а куда он без паспорта? Я решил постепенно вести допрос, через мелкие подробности. Спрашиваю: – Как же ты без расчета ушел? – Инженер нес ведомость. – Может, ты даже знаешь, сколько тебе причитается? – Без вычетов двести десять рублей с копейками. – За месяц? – А вкалывали-то мы как? – Это еще надо проверить… Ладно, говори, где Легостаев? – А я знаю? Кричал, кричал – там река шумит… – Какая река? – Кыга, не Кыга… – Почему не Кыга? – А я знаю? – Ну хватит, Жамин, – решил я поближе к делу. – Давай-ка паспорта. – Какие паспорта? – Твой и Легостаева. – У меня их нет. – Где же они? – У него… И журналы таксации у него. Брось, товарищ Сонец, надо искать идти, а вы тут второй день меня держите. Это он меня так назвал: «Сонец». Ишь ты, товарища нашел! – Гражданин Жамин, – сказал тогда я. – Мне одно неясно – зачем ты решил взять досрочный расчет. А? Молчишь? Почему раньше времени от артели ушел? Он смотрел по сторонам, и видно было, что ему все на свете противно. – Вы поняли мою мысль? Он молчит. И тут я решил прямо спросить его насчет ножа. Подошел к нему, руки на плечи положил и гляжу в глаза. А все остальные смотрят на нас. – Про финку, – говорю я, – ты забыл? – А что? – вроде растерялся он. – Ваши ее отобрали. – Знаешь ли ты, что на ней следы крови остались? Тут он вскочил, опять посмотрел на всех своими бешеными глазами, на меня тоже, и сел. – Под срок подводите? – Сознаешься? – в упор спросил я его. И тут он меня матом. Длинно и заковыристо, а сам чуть не плачет. – Тихо, тихо, – говорю я ему. – За все ответишь. Иди гуляй пока… Он пошел через огород к чуму, а я стал думать. Все выходило хуже некуда. Тут еще деловые соображения нельзя было откидывать. Беда с Легостаевым – большая беда, но если пропадут журналы таксации – значит, всю работу в долине придется повторять. В этом году не успеть и, кроме того, грозит огромный перерасход денег на перетаксацию. Вообще-то с Симагиным и так назревала проблема – все партии уже работу закончили, начали выбираться из тайги, а эта, самая дальняя и важная, затянула сроки; и у меня все время болит душа, что они там не так посчитают размер пользования и подрежут под корень экспедицию. И мне грозят серьезные осложнения перед пенсией. Даже боюсь думать о моих детях. Я всю жизнь делал для них все, что мог, и случись сейчас что-нибудь со мной, как это скажется на их судьбах? Дороже детей нет ничего на свете, хотя у меня и есть к ним претензии. Вторая моя дочь закончила девятый класс. Учится она неровно – то пятерки, то двойки. Бывает, что ведет себя плохо на уроках, о чем говорят записи в дневнике. Эта дочь пяти лет заболела костным туберкулезом позвоночника, четыре года пролежала в санатории, а потом ходила в корсете. Дома ей уделяли основное внимание, позволяли делать все, что разрешали врачи, баловали сластями и ничем не загружали по дому. Видимо, это все вошло в ее характер. И хотя она уже взрослая, но продолжает поступать так, как хочет. Заставить ее сделать что-нибудь по хозяйству – целое событие, хотя я предлагаю ей только подмести полы, стереть пыль или помыть посуду. Свой дальнейший путь еще не определила. На мои указания о плохом поведении в школе или дома отвечает вызывающе, а с матерью разговаривает так, что не поймешь, кто кого отчитывает. Окончила курсы кройки и шитья и переделывает свои платья так стильно, что стыдно за нее становится, и хочет на голове сделать хвост. За любой поступок мы дочь никогда не наказывали, а она этим пользуется. И хотя на ее лечение и воспитание мы затратили много средств, энергии, слез, она этого не ценит. Я первый человек в нашем роду, получивший хоть и не законченное, но высшее образование, и хотел, чтобы и дети мои пошли по стопам отца. А я даже в младшем не вижу такого стремления. Шестой класс он окончил с двойкой по русскому и оставлен на второй год. Никто из моих детей не имеет пристрастия ни к какому ручному труду или ремеслу – рисованию, музыке или еще чему-нибудь, читают только шпионскую литературу, от всякой же другой отмахиваются – неинтересная. А младший вообще ничего не читает и ни к чему не стремится, кроме плавания в бассейне, куда он мной был отведен четыре года назад и сейчас получил юношеский разряд. Старшая дочь занималась фехтованием, но забросила. Сын-приемыш – неплохой шахматист, но тоже ничего не делает в смысле спорта. Физически грубым с детьми я никогда не был, но замечания о беспорядке в квартире, как человек, любящий порядок, делаю часто. Я желаю одного – чтоб дети мои учились, имели более широкий кругозор, чем обычный рабочий, больше приносили пользы государству, а не только у станка или на агрегате. Как мне заставить их идти вперед по жизни? Конечно, образование – это еще не все. Нужно всегда иметь в виду перспективу жизни и делать все так, чтоб тебя не мяло. Вот, например, взять эту нашу экспедицию. Есть задание – выявить тут максимальный размер пользования. А ведь его можно считать по-разному. Боюсь, что Симагин в своей долине брал только первую категорию доступности, не учитывал леса на крутых склонах. А Легостаев, как мне передавали, прямо заявил: «Никакой я премии не хочу, буду считать так, чтобы потом не посадить леспромхозы на мель». Но ведь леспромхозы начнут здесь работать через десяток лет, когда техника изменится и с крутяков можно будет дешево брать кубики. Значит, мы обязаны установить размер пользования в перспективе. Иначе никто не получит прогрессивки, это же ясно. Но наши противоречия никак не должны отразиться на теперешней ситуации. За свои ошибки Симагин ответит, когда время подойдет, а пока надо срочно посылать ему вертолет с продуктами. Это раз. И придется, видно, вызывать из поселка еще людей – два. В-третьих, самому возглавить поиски Легостаева. Попрошу у лесничего алтайцев, пусть снимет их с покосов. Уж они-то эту тайгу всю облазили. Надо найти Легостаева живого или мертвого. Уже три дня, как случилось несчастье. Нет, Симагину все это даром не пройдет! 3 АЛЕКСАНДР ЖАМИН, РАБОЧИЙ ЭКСПЕДИЦИИ Сперва я даже не допер, что этот Сонец мне дело клеит. А когда он закинул насчет моей финки, я сдрейфил. Можно запросто сгореть и на такой чистой туфте, если с инженером чего-нибудь. А с ним вполне. Выкатил поди свои зенки под стеклами да подыбал в другую сторону. Петли вить по этим буграм, гори они ясным огнем, только начни! Экспедиционники в Беле мне с самого начала не поверили. А я на первый день крепко надеялся, думал, что вот-вот Легостаев вылезет к озеру. Когда назавтра Сонец появился, я думал с ним потолковать, как искать человека, только он мне сразу форменный допрос. – Твоя фамилия, значит, Жамин? – Это как посмотреть, – меня заело, однако отвечаю правильно. – Жамин и не Жамин. – Как тебя понимать? – Вот так. По паспорту Жамин. – А на самом деле? – Каб я знал! – Крутишь? Тебе лучше всего сейчас говорить правду. – Зачем тут масло наливать? Сонецу, конечно, все это не обязательно, только я не крутил вола. Меня в войну подобрали где-то пацаненком – и в Сибирь. Я ничего и никого не помнил, а когда подрос в детдоме, ребята рассказали, что фамилии нам давали по газете. Какую встретят в заметке, такую и дают. День рождения всем поставили одинаковый: седьмое ноября, а год брали с потолка, как врачу показалось. Место рождения тоже записали по детдому: Камень-на-Оби, хотя в натуре я, может, в Киеве или в Минске родился. Этот бабай тянул из меня жилы почище прокурора или следователя. На допросах-то я бывал, только вкручивать баки никогда не требовалось. Первый раз попал по своей воле – сам застрогал одну штуку, чтобы сесть. А вышло так. После детдома я в МТС учеником слесаря мантулил и все рвался куда-то. Как бога, ждал паспорт, но когда год подошел, МТС ликвиднули, а нас – в колхоз. Потом всех моих детдомовских корешков позабрили, а меня из-за плоскостопия по чистой. Рядом шла стройка, и я думал, хотя бы туда, а оттуда, может, и в город. Мне колхоз набил оскомину, и я бы из него в любой момент, потому что нигде не был и ничего не видел. Сплю и вижу другие края, вроде такие, в каких я родился, а дать винта не могу – безглазый, паспорта нет. Тогда я придумал себе статью, чтоб недолго трубить. Стырил в автоколонне домкрат и ночью поддомкратил ларек. Что ларьковая продавщица была первая воровка, это вся стройка знала, но я-то лишь четыре бутылки водки зацепил, сколько влезло в карманы. Забрался на чердак и надухарился по завязку. Проснулся, никто не приходит. Тогда я покидал бутылки на дорогу, и меня забарабали тепленького. Ну, дело было ясное, и я говорил как по-писаному, потому что все заранее обмараковал. А тут совсем другое. За меня состроили и требуют под свою туфту моих показаний. Получалось интересно: тогда я должен был говорить правду, чтоб сесть, а теперь не мог ни в чем врать, чтоб зря под срок не подвели. Самое поганое, всякая мелочь играла против. – Почему у тебя брови оббиты? – прилип Сонец. – Ободрался в лесу. – А почему глаз заплыл? – Клещ впился, – отвечаю. – Выдрал его, а вокруг пухнет. Тут я ему, конечно, арапа заправил. Клеща-то я вытащил, да только из-под мышки, а глаз раздуло совсем по другой причине. По той же причине челюсть болела и брови запеклись. Ведь мне эти экспедиционники хороших пачек кинули, когда я вышел на Белю. Говорю им, если инженера нет, пойдемте его все искать, а они на буксире меня в кусты, с глаз долой, обшарили всего, финку отобрали и давай валять. Другое дело, если бы моя бражка была тут, а так я только зубами скриплю: «Ладно, бейте, гады, бейте!» Один халявый такой козел, однако мосластый, врезал прямо по глазу. Стало все равно, и я уже не видел, кто это меня сапогами. Долго метелили, потом бросили, чтобы собираться на поиски Легостаева. По голосам я узнал, когда подались они в горы, хотел с ними, да не мог с карачек, голова была дурная. Потом алтаец поднял меня и повел к поливным желобам обмыть мне сопатку. Я молчу, а он кроет по-своему, только иногда бормотнет знакомое слово. Мировой мужик этот Тобогоев, он у нас в партии проводничал первые дни. Алтаец отвел меня к себе в чум и положил на лошадиный потник. Через боль я вспоминал реку, на которой мы разбрелись с инженером, думал, как все получилось и что это была за река. На маленьком перевале я подождал его и спросил, какой тропой двинем, потому что тропы там плелись как попало. Одна стежка шла направо, вроде бы к соседнему гольцу, а другая приметно брала левее, в падь. – На Кыгу? – спросил Легостаев, он тоже не знал этих мест. – Черт их разберет! – сказал я. – Кыга, Камга… Жрать охота! – А эта тропа в гольцы, наверно? – Может, на Абакан? Мы перебродили светлый ручей, напились, снова пошли. Проклятые эти, обманные горы! Куда бы легче, если б тропа, как взяла на низ, так и пошла. А то чуть спустишься, снова на подъем. Нырками скоро не уберешь высоту, и мы чумовые сделались от такой дороги и от солнца. В одном месте нас повело еще правей, и торная тропа, которую мы выбрали в развилках, круто пошла вниз. Впереди зашумело, и не так впереди, как внизу, и я понял, что этот шум от реки. Лес обступил кругом, закрыл небо, а тропа все больше падала, даже за кусты надо было держаться. Река бурчала совсем рядом, и от скал отбивало. У воды мы легли. Потом я отдышался и сказал, что это не та тропа, и куда сейчас идти? – Да пойдем! – ответил инженер, будто ему все до фени. Тропа нырнула в воду. Как ее понять? По пути в эту дырищу она не раз пускала отводки, тут все было исхожено зверем. – Озеро собирает воду, – сказал я. – Больше ей отсюда некуда деваться. Рекой пойдем? Инженер сказал, что вдоль реки не собьешься, и начал философничать, что вода, мол, среди этих камней выбирает самый легкий путь, и вверх-то она уже не побежит, как тропа. Они все замучены своим образованием. Мы попили из реки, перемотали портянки и полезли через кусты, траву и колоды. Без тропы дело хреново пошло. Нога ступала ощупкой, крутяк зря срабатывал силу. И надо было продираться верхом, потому что понизу стены падали в реку. Я чапал поверху, кричал, а инженер откликался. Потом перестал слышать – и назад. Легостаева не было нигде. Позырил, покричал с полчаса, даже охрип. Как выбился к озеру, долго вспоминать. Лез ночью, ссыпался и малость офонарел. Вышел поутрянке к устью Кыги… Ночевал я в чуме Тобогоева. Алтайцы на огородах ставят берестяные балаганы для лета, никак не отвыкнут. Однако в чуме не дует, можно. За ночь я оживел, стал шевелиться. Один глаз не смотрел, все же экспедиционники накидали мне чувствительно. Алтаец картошки сварил прямо в чуме, на костре, мы поели и попили чаю с березовой чагой. Тут скоро приплыл Сонец. На первый допрос он собрал остаток людей, при свидетелях начал мне подкладывать мокрое дело, и я его бортанул по-свойски, хотя и струсил. Получалось, что я первый раз попал в переплет из-за паспорта и сейчас паспорт примешивался. А почему Сонец подумал, что я клюнул на бумаги Легостаева, скажу. Один раз в поселке трепанулся бухарикам с экспедиции, что неплохо бы заиметь чистенькие ксивы, куда хочешь, мол, на работу примут. Но чтоб я пошел на мокрое дело из-за чего-нибудь? Этого не смогу. Сонец долго надо мной куражился. Спрашивал, сколько я заработал, почему не зарегистрирована финка и какая была река, на которой мы разошлись с инженером. Я сказал, что напоследок шел Кыгой, но вверху перелезал ее не раз, и еще какие-то речки попадались, не знаю, потому что голова потеряла направление. Надо бы двигать в те места и шуровать всем народом. Алтайцев пустить, они в тайге след находят по одной согнутой травинке, гад буду. Это я за Тобогоевым замечал, нашим бывшим проводником, который меня тут избитого подобрал. Да и я бы пригодился, только Сонец приказал мне сидеть в Беле и ждать своей судьбы. Я еще ночь пролежал в чуме, грелся костерными угольками, переживал, а к утру пришли спасатели. Голодные и злые, никого не нашли. Они опять меня за жабры. Новый допрос – с повторами про паспорт и мое увольнение. – Все равно тебе крышка, Жамин, если не найдем! Лучше говори. Я молчу, потому что говорить нечего, а на бас меня не возьмешь. – Откуда кровь на финке? – Белок обдирал. – Ха, белок! Зачем? – Мы их варили и ели, – отвечаю. – Что же вы там, совсем оголодали? – вступил тут Сонец. – Как так можно? – Консервы прикончили еще на прошлой неделе, а без мяса пилу не потянешь. Вот бельчатину и рубали… – Ну, тоже нашли мясо! – Все ж таки. – Хватит, Жамин. – Сонец, как вчера, подошел ко мне и зырит так, будто я у него косую зажал. – Хватит! Ответь нам на один только вопрос. Ты, значит, решил уволиться досрочно? – Ну. – Почему? – Вся бражка решила, – говорю. – Нет, я спрашиваю, почему? – Да рази вам объяснишь? – А ты объясни, – не отстает этот живоглот. – У вас работа кончается, так? – Ну, так. – А мы до конца лета хотим еще куда-нибудь наняться. Чтобы простоя не было, кобылка меня заранее послала. – Вон в чем дело! Ясно. Ты ври, да думай. Вот тебе последний вопрос. Как я могу тебя отпустить без разрешения начальника партии? А? Как? – А у меня заявление. – И оно подписано Симагиным? – Все по форме. – Показывай. Я отвернулся, молчу и думаю, что все равно ничего не докажешь, а для законного следствия надо сохранить бумагу, которая была у меня в заначке, за подкладом кепки. – Покажи! – кричит Сонец и опять ко мне близко подходит. Плевать я хотел на этот крик, но задумался. И хоть прошел высшую школу жизни, вдруг решил отдать мой единственный документ. Он меня мог выручить потом, а Легостаеву помочь сейчас. Мне тошно стало от всей этой бузы, от того, что поискали человека день и бросили, а сейчас будто не собираются никуда, в меня вцепились. Думал, скорее поверят мне, если увидят заявление. Сонец долго вертел его перед носом, потом спрятал в бумажник и давай командовать своими. Одного туда, другого сюда, все засовались по палаткам, а сам Сонец побежал на рацию, которая передает отсюда погоду в Новосибирск. Гляжу, снова налаживаются в горы. Разбились на две команды, чтоб насквозь прочесать Кыгу, кто-то поехал на коне звать с покосов алтайцев. Я услышал, как Сонец закричал: «Когда жизнь человека в опасности!..» Тут я подошел к палаткам, говорю: – И я с вами… А они отворачиваются. Решить, что ли, это дело некому? Или им неудобно, что они вчера взяли меня в стае? – Буду припоминать дорогу… Может, они все еще думают, что я Легостаева пришил? Или заведу их куда не надо? А того не дотумкают, что мне всех нужней живой Легостаев. Иначе припухнешь, потому что ничего не докажешь. Потом смотрю, уходят. Рюкзаки консервами набили, ружья у некоторых. Сели на катер, алтайцы собак заманили. До Кыги тут всего километров десять, если берегом, по бомам, как я бежал, а водой еще ближе. Сонец был с ними. И я к берегу тоже спускался чужаком, думал, в последний момент возьмут. Сидел от них недалеко, смотрел на озеро и слышал, как Сонец звонит своим, будто они пацаны: самим, дескать, не пропасть, на скалах надо глядеть особенно, отвечай потом за каждого. И еще сказал, будто затребовал по радио вертолет. Пока стоит погода, забросят в нашу партию продукты и будут держать машину на озере, хотя это и дорого. Один перегон из Барнаула чего стоит, да тут, мол, за час сто двадцать хрустов гони. Тьфу, гадский род!.. На экспедиционников-то я сердца не имел, их тут Сонец зажал, а его я бы от людей отстранил, он не умеет. Ладно там я, меня он считает за плевок, который можно растереть сапогом, но другие-то люди другие. Начальника партии Симагина, что нас нанял, мы приняли еще как. Мужик правильный. А я понял по разговорам в партии, Сонец его за что-то ест. И Легостаев тоже для пользы народа много сделать хочет – это слова Симагина, с которым я один раз о политике и жизни говорил. Да и меня Сонец не понимает, я в душе не такой. Меня знает моя Катеринка да ребята с артели… Спасатели уплыли, и я поднялся наверх, в пустой чум. Где Тобогоев? Потолкался у пустых палаток, с кухаркой балакать было не о чем. Потом увидел алтайца на огородах. Сморщенный, легонький такой мужичок, будто усох на солнце. Решил к нему, потому что идти было некуда. Он пасынковал помидоры и пускал к ним воду. Сюда бежит с гольцов ручей. Его где-то повыше взяли и тут распределяют. Я попил из желоба. Тобогоев дал мне закурить и сказал: – Почто топчешься? Садись. – Может, надо было тебе поговорить с Сонецом? – С ним говорить – воду лить. Он меня прогнал. – Куда прогнал? – Договор был – до конца проводником, а когда я партии развел и тропы указал, Сонс говорит: «До свиданья, не надо». Плохой начальник. – Зараза! – Баба болеет, и лесничий на казенный огород меня поставил. А мой огород – тайга. Этот помидор я не ем… – Какая еда! – сказал я. – Алтайцу тайгу давай. – Это уж кому что. – Ко мне даже не подошел, – с обидой сказал Тобогоев. – Всех наших с покоса снял, а меня не видит. Не нужен. – А почему он меня не взял? – спрашиваю. – Как думаешь? – Плохой разговор слышал? – Нет. – В поселке тебя милиция ждет. – Иди ты! – В тайгу тебе нельзя, потому что уйдешь. – Куда? – К тувинцам или в Монголию, мало ли… – Вот гад! Если дам деру, значит, я в пузыре? И не потому ли они меня с собой не берут, чтоб я тут надумал смыться? Сорвусь – я пропал. До чего же паршиво получалось! Так мне всю дорогу не светило. Когда выскочил и паспорт заимел, в городе на работу нигде не брали, а от деревни меня отшибло еще раньше. Завербовался в Томскую область на лесоповал, но за зиму там кончили хорошие леса, и заработки наши плакали. Народ начал подрывать из леспромхоза, и я не усидел. Сезон у геологов шурфы кайлил, осенью подался в Горную Шорию бить шишку. Помотало-помотало меня по Сибири, потом один мужик сблатовал в Россию, на рыбные промыслы. Думаю, все поближе к родине. Недалеко от Астрахани взяли меня на завод и приставили к зюзьге. Это такой черпак с сеткой. Тысячу раз за смену возьмешь черпак с живой рыбой наперевес, а к вечеру дрожь в коленках, и плечи до сегодня ведет от этой чертовой зюзьги… – А где ты его потерял? – спрашивает алтаец. – Далеко от большого перевала? Взялся я объяснять, а сам чую, что неправильно толкую. Он засек это. – Не так, однако, – говорит. – Может, и не так. Ночь сразу же упала. Тогда Тобогоев спрашивает, почему я не стал искать инженера. Говорю, что искал, кричал долго, но потом кричать стало нечем, осип, и эту речку не переорешь. – Какая речка? – А я знаю? Кыга не Кыга… – Как выходил? Объясняю и опять вроде путаюсь. Я ведь там сорвался ночью, сильно ударился головой, но цел остался. Сонецу, повторяю, про свой глаз и свои синяки насвистел, потому что били меня такие же работяги, которых экспедиция привезла с собой, а на людей я никогда не капал и мог их понять. А тогда от падения одурел, вылупил шары и полез не знаю куда, только лишь бы подальше от этой бешеной речки. Потом смекал, что могу по новой загреметь. Костер запалил, сел отдыхать и все оглядывался – вдруг приблудит к огню Легостаев. Не дождался, подумал, что он давно уже дунул к озеру. Когда зори сошлись, я полез дальше. Поверху лбы огибал, все руки поободрал, ручьев перебродил штук несколько, речку какую-то перепрыгал над пеной, по сыпучему камню спускался. Потом в развилке гор увидел Алтын-Ту – такая приметная обрывная гора стоит на той стороне озера. Это, кажись, девятого было, ну да, девятого… – А сегодня какое? – спрашиваю Тобогоева. – Одиннадцатое вроде, – говорит он и смотрит на меня черными и косыми глазами, в которых ничего не поймешь. – Однако пойдем? – Куда? – спрашиваю, а самого вроде жаром окинуло. – Куда пойдем? – Инженера искать, – он так же непонятно на меня смотрел. – Найдем, однако… Много чего я хотел сказать алтайцу, но ничего не сказал. Просто не мог, потому что от волнения начало душить. Алтаец допетрил, что со мной неладно, ушел, а я остался сидеть на огороде и думать. Что я за слабак? Чуть чего – и уже готов, спекся, как баба. Правда, я никогда не допускал такого, как некоторые психи в лагерях, – начифирятся и давай выть по-собачьи, колотить головами о землю. Но расстроить меня – пара пустяков. По мне, можно год или больше жить без людей, лишь бы потом встретить человека. А как встречу, сразу слабею. На этом меня, между прочим, и Катеринка моя прикупила. Я запил там, на рыбных промыслах, а она раз нашла меня ночью в грязи и затащила к себе в барак. Отмыла, пластырей налепила, постирала с меня рубаху, а я был так нагазован, что даже не видел ее. Утром приходят с ночной вахты рыбачки, гонят меня и говорят, что это Катька-дура со мной отваживалась. «Какая Катька?» – думаю себе. С утра на зюзьгу встал, а в обед рванул к протоке, где у завода была постоянная тоня. Попал как раз к притонению. Бежной конец уже завели, и бригада выбирала невод. Бабы и девки шлепали судаков в прорезь, кричали и смеялись, хотя ничего веселого в их работе не было – в воде целый день, руки голые на холодном ветру, и резиновая спецовка тоже холодит. Кроме того, на красную рыбу уже запрет пришел, осетров за уши выкидывали в реку, а на сорной мелюзге не заработаешь. Рыбачки увидели меня и давай над моими пластырями скалиться, но я не уходил, глядел, чтоб угадать, какая из них Катька… Из-за нее я пить тогда бросил, а ее еще больше звали дурой. Она была не то чтобы красивая, но плотненькая, все на месте, и меня законно понимала. А Катькой-дурой ее звали за честность. Другие девчонки начинают гулять в пятнадцать лет, а Катеринка была чистой. Мы расписались. Ребята говорили, что у них на промыслах многие бабы бесплодные, и не от какой-нибудь там радиации, а от глубокого стояния в холодной воде, но получилось так, что моя Катеринка сразу понесла, и родился сын, ушлый и ядреный, второй я. Куда я мог от них? Комнатенку отдельную нам в бараке дали, и я даже забурел слегка. Но скоро все пошло наперекосяк. Из-за моей непутевости да из-за Катеринкиной честности во всем. Перед Октябрьской распорол я семенную, запретную белугу и замазку, икру то есть, загнал астраханским барыгам. И не для того, чтоб жировать, а хотел рождение сына справить и зараз свой день рождения отметить хоть раз в жизни. Другие с замазкой не такое устраивали, даже бригадиры и рыбнадзор, только им сходило, а я засыпался. Попал под венец, дали год принудиловки по месту работы. Катеринка от позора глаз никуда не казала, донимала меня: «Отработаем», – но я переупрямил ее и твердо решил от этих камышей и от этой рыбы, которую больше черпаешь, чем ешь, смотаться куда-нибудь. Она догнала меня в Астрахани вместе с огольцом. Я подумал, что в Сибири меня не срисуют, а мелочиться не будут, общий розыск не объявят. Приехали в Бийск, сняли частную комнату. И вдруг в самый неподходящий момент Катеринка моя объявляет, что это она продала меня рыбнадзору и местному комитету. Тут я ее первый раз дурой назвал и еще хуже, и даже смазал разок, а она – ни слезинки. Сказала только, будто уже написала на рыбзавод, что мы будем платить за погубленную матку. Я плюнул и уехал в Кош-Агач, где нанялся гнать по Чуйскому тракту стадо монгольских овец на убой. Там я примешался к компании дружков; и скоро так вышло, будто это они образовались возле меня. Свои в доску мужики, только я стал окончательно слабый и легко поддавался-всему. Водка вошла в обязательность, если у кого-нибудь из нас в кармане бренчало. Катеринка моя совсем извелась от этого. Она жила большей частью без меня, приспособилась авоськи вязать да загонять их возле вокзала, хотя это были не монеты, а кошачьи слезы. У меня тоже совесть есть, я ей посылал, и за ту проклятую икру она быстро и сполна рассчиталась. Потом я для надежности уговорил ее подать на алименты. Она долго упиралась, но я потолковал с судьей, который меня с ходу понял и, хотя советовал совсем другое, обтяпал дело в два счета. Постоянная работа, какую навязывал судья, не по мне. Халтурой можно больше зашибить, если повезет. Нас в этих местах зовут и «бичами», и «шабашниками», и «тунеядцами», и всяко, а шумаги платят хорошие, когда подопрет. Выходит, мы нужны? Кто еще в такую дырищу полезет, как не мы? Инженерам-то надо сюда по их науке, хотя работенка у них тоже не мед, и бабок меньше нашего выходит. Легостаева этого мы все зауважали, сжились с ним, потому что он никогда своей образованностью не форсил и ел что ни сваришь. Даже кедровок рубал вместе с нами последние дни да еще похваливал. Спокойный был мужик, без фасона. Постой, что это я его хороню? Бродит, наверно, где-нибудь сейчас, совсем запутался в этих чертовых горах. Четвертый день, что ли? А этот алтаец – законный мужик! Я уж собрался втихаря наладить в тайгу один, чтоб искать, пока не пропаду, потому что здесь мне все равно амба. Если не найдется Легостаев или окажется мертвым, запросто схватишь червонец – и труби… Наверно, я бы еще долго чалился на огороде и думал про все, но показался Тобогоев. Его гавка подбежала раньше, обнюхала меня со всех сторон и поглядела на хозяина, будто чего сказала. У алтайца в руках были сидор и палка. – Пойдем, однако? – К поварихе бы без шухера подсыпаться… Таборщица с одного шепотка поняла, что мне надо. Насовала в руки сгущенки и несколько банок тушенки, пачку вермишели, пачку сахару. В кустах я догнал алтайца. Он сказал, что тоже взял шамовки – две буханки хлеба, домашнего сыру и от вяленого тайменя хвост отрезал. Тропа сразу же взяла круто, давай вилять в густой траве. Камней тут почти не встречалось. Березы стояли редко, солнца перепадало много. За этот месяц мне поднадоело темнолесье, и березняк сейчас красиво раскрывался передо мной. Своим светом и легкостью он помогал идти, хотя было сильно в гору. Мировой лесок! На душе у меня даже очистилось от его чистоты, будто смыло все, что было в Беле. Но куда это мы? Потянули в сторону от Кыги, и я не понял, чего Тобогоев хочет. – Тропа налево да налево! – крикнул я. – Пускай, однако. К Баскону пошли. – Зачем? – Там близко. – Докуда близко? – А ты молчи, однако, береги силу. Я все места знаю, где человек может идти, а твой путаный башка ничего не знает. Так он осадил меня, и я замолчал. Наверно, Тобогоев думает вылезть на гольцы туда, где горы собраны в кулак, сверху разобраться в этих путаных местах и в моей путаной голове, чтоб, может быть, от перевала взять след Легостаева. Не навстречу ему идти, как все спасатели, а следом. Это законно! Лишь бы с инженером ничего такого не случилось… 4 ВИКТОР ЛЕГОСТАЕВ, ТАКСАТОР Пришел в себя ночью. Живой. Холодно, и в ушах стоит рев от реки. Боли сразу не было, что-то не припоминаю боль. Чувствовал только, что щеку холодит камень-ледышка, а сам я скрюченный. Вскочил, но правая нога с хрустом подломилась подо мной, и я рухнул без памяти. Уловил мгновенное ощущение, будто наступил на ногу, а ее нет. Не помню, чтобы успел крикнуть, – просто прожгло насквозь, и опять темнота, словно прихлопнуло гробовой доской. Воспоминание о той адской боли и захрустевших костях тело сохранит, наверно, до своего распада. И не знаю уж, почему не лопнуло сердце. Что было после этого? Какие-то смутные ощущения, лоскуты незаконченных мыслей. Иногда меня словно бы сжимало в ужасной тесноте, иногда растворяло в бесконечном просторе. То вдруг обступала боль со всех сторон, то собирало ее во мне, а временами счастливое, легкое забытье мягко несло меня ввысь и опускало назад, на землю, даже внутрь земли. Я будто бы начинал разгребать черноту и тяжесть руками, чтоб снова подняться и взлететь, но только слышал неясный грохот камней, что сыпались мне на голову и грудь, заваливали ноги, жгли их и почему-то одновременно замораживали… Когда начал вылезать из этого темного гроба, светало, но я боялся совсем открыть глаза, потому что все сильно болело – голова, грудь, руки и особенно правая нога. Так болела, будто ее рубили на куски. Решил все же посмотреть на себя, пошевелился – и тут же застонал от боли в ноге. Еще покричал, надеясь, что Жамин где-нибудь шарит по скалам, потом сообразил, что это бесполезно: за гулом реки я едва слышал себя. Полежал тихо, не двигаясь, медленно вспоминая, как все получилось. Там, наверху, было очень круто, и поперек пути застыл небольшой каменный поток, старая осыпь. Наверно, надо было совсем немного, чтобы нарушить статичность курумника. Чемоданчик, помню, взял в левую руку, правой ухватился за ветку малинника и прыгнул с переступом. Плоский камень под сапогом скользнул, и я упал. Очки соскочили. Я с удивлением почувствовал, как мелкий камень подо мной все быстрей и быстрей ползет вниз, а мне не за что уцепиться. Потом сверху меня догнали камни покрупней, и тут же тупо стукнуло по голове, и я перестал слышать и видеть… Все-таки надо было переменить позу и лечь на спину. Осторожно, стараясь не шевелить ногами, я развернулся корпусом, откинулся и тогда только открыл глаза. Приблизительный, неясный мир окружал меня. Так было всегда по утрам, пока не умоешься и не наденешь очки. Мне теперь хорошо бы осмотреться, понять, что к чему. Мелкий камень сильно колол снизу, я потихоньку стал сгребать его под боком и понял, что руки хорошо работают. В глаза кинулась река. Неширокая, всего в десяток метров, но воды пропускала много. Она совсем рядом ревела. Большие валы сливались уступами по камням, бурлили, всхлебывали, а ниже, у моего берега, вода пузырилась, холодила сильно, и у самого уреза взбивалась белая пена. Это была та самая река, из которой мы с Жаминым последний раз пили. Мне захотелось пить, но к воде вел крутой обрыв чуть ли не в три метра. Площадка моя была небольшой. Скала нависала сверху и с боков опускалась в воду, а я лежал словно в кармане. Скалы на той стороне уходили высоко, там лес начинался, над ним – неровный проем светло-синего неба. Я опустил глаза и сразу же увидел, что дело мое дрянь: сам лежу так, а правая нога так, носком внутрь. Сломана. Ладно, все равно надо узнать, как остальное. Руки были целы, только посинела и немного распухла правая кисть, хотя пальцы работали. Я принялся ощупывать себя. Голова в норме, лишь затылок немного болел, и волосы там схватило засохшей кровью. Правая ключица противно ныла, однако уцелела при падении. На груди, у правого соска, была, должно быть, рана: ковбойка прилипла там, заскорузла, и я не стал это место трогать, когда начал рвать на ленты рубаху. Хотя раньше я костей не ломал, но знал, что прежде всего надо обеспечить неподвижность, зафиксировать место перелома, наложив какую-нибудь шину. Белые, отполированные водой палочки лежали неподалеку. Я потянулся к ним и с радостью увидел свой спортивный чемоданчик. Лежит, даже не раскрылся. Вообще не так уж все было плохо: голова работала, руки тоже, шею не свернул, позвоночник цел, чемодан с бумагами тоже. Вот только нога. Она переломилась под голенищем выше ступни. Совсем переломилась, потому что я лежал так, а носок сапога так. Всего три подходящих палочки нашлось для шины. Еще в сторонке лежали тонкие серые прутики, но я решил плюнуть на них, потому что пришлось бы к ним волочить ногу, а она при каждом малом движении чувствовалась, да еще как. Рубаха была старая, почти перепревшая, и я долго вертел из лент веревочки, не знал еще, смогу ли пересилить боль. Ночью я, конечно, сглупил. Надо было ощупать себя, пошевелиться, а я сразу вскочил. Другой такой боли мне уже не выдержать… Ничего, дело пошло. Палочки затягивал на сапоге постепенно, чтоб еще раз не потерять сознания. Стонал, отваливался назад, чтоб отдохнуть, не раз хотел бросить эту затею, а когда закончил, был весь в липком поту. Шина получилась паршивая, больше для отвода собственных глаз, для самоуспокоения, и все же нога теперь уже спокойней лежала, я мог по-тихому ползти. А куда поползешь? Тут река, тут скала, из этого каменного мешка мне самому не вылезти. Но откуда теперь ждать людей? В партии думают, что мы уже давно вышли к озеру, и я возвращаюсь назад с парой вьючных лошадей – сигареты везу, жиры, хлеб, может быть, мясо в банках. Эх, ребята, если б вы догадались! А на озере вообще ничего не знают. Но все-таки где-то должны меня хватиться! Не может же быть, чтоб совсем кинули, как Жамин. Как, почему Сашка меня оставил? Об этом думать мучительно, но надо о чем-то думать, чтобы легче ждалось. И еще – заглушить жажду. И собрать нервы. Лучше думать об отвлеченном. За эти полтора месяца я видел Жамина и хорошим и плохим, поражался его грубому отношению к другим рабочим артели, его ругани, беспричинному мату и одновременно какому-то особому, не виданному мною доселе товариществу, связывающему всю эту беспутную команду, скрытную, ненавязчивую доброту командора ко всем без исключения шабашникам, трудолюбие и совсем неожиданную для меня чувствительность, которую он обнаруживал, слушая стихи в моем исполнении. Еще я заметил в нем полное безразличие к будущему и снедающую ненависть к тем, кто, как ему казалось, обидел его в прошлом. Нет, чтобы отвлечься, надо думать более абстрактно! Как разрывается нить, связывающая человека с обществом? Нечаянное, ложное движение, подлость соседа, нужда, дурной совет приятеля? А может, связующая нить была скручена плохо? А каждая из этих причин имеет свои начальные исходы. Или они все вместе плюс такое, чего ни учесть, ни предусмотреть, ни избежать? Сколько атомов, столько и причин, говорил, кажется, Лукреций, и причин разрыва, о котором я пытаюсь рассуждать, может быть превеликое множество, но мы привыкли огрублять, упрощать в своем воображении процессы, что происходят в кипучей плазме, называемой жизнью. Мы не распутываем сложнейшую вязь причин, а чаще локализуем ее, искусственно обсекаем вокруг события связующие нити. Зачем? Чтобы облегчить оценку поведения человека и ускорить решение его судьбы, если он пошел на нарушение общественных норм? Но ведь совести-то этим не облегчишь, а только обременишь ее, ухудшив свою собственную судьбу… К счастью, нитей, связывающих всех нас между собой, миллионы, и часто от обрыва одной остальные становятся крепче. Невероятно, чтобы Жамин меня бросил! Или я ничего не понимаю ни в жизни, ни в людях. А может, он сам где-нибудь попал в такую же беду? Тогда, конечно, все осложняется. Но паниковать пока не стоит. Я пополз к чемоданчику. Там было все в порядке. Журналы таксации, наряды, ведомость, паспорт Жамина. А где мои документы? Ага, здесь, в пиджаке. И спички гремят. Сигареты? Ладно, хоть сигареты и спички есть. Хотя что от них толку? Костер бы запалить, погреться, но дров на площадке не было, эти прутики не в счет. Вообще-то теплело. Вершины деревьев на той стороне Кыги – а Кыга ли то? – осветились солнцем. Желтые скалы тоже. Небо над ущельем совсем заголубело, потом этот узкий клин начал бледнеть, и солнце вышло ко мне. Сразу стало жарко. Почему так жарко? Ясно. Вогнутая скала надо мной вбирала тепло и никуда его не девала. Нет, это не годится. Воздух вмиг высушило, и он стоял тут, потому что продува не было никакого. Пить! Вода рядом, а не достанешь. Чистейшая вода! Конечно, можно сползти к ней по крутому и скользкому каменному откосу, но назад уж не выбраться, это у меня не вызывало сомнений. Лучше не думать о воде и не смотреть на нее. А здесь печь настоящая! Так можно совсем высохнуть и превратиться в египетскую мумию. Прикрыться чемоданчиком? С документами ничего не сделается, если я их выложу и придавлю камнями. Под черным чемоданом душно, еще хуже. Он быстро нагрелся, и железки по уголкам жгли руки. Не годится! Надо перетерпеть солнце, оно скоро уйдет от меня. И непременно думать о чем-нибудь другом! Думать помедленней, чтобы не думать про воду. Какое, например, сегодня число? Вышли мы седьмого. Весь день выбирались из долины. Ночевали в предгольцовой зоне. Большой перевал взяли в полдень и скоро попрощались с Симагиным. Случилось все вечером. Следующий день, а также еще одну ночь я, очевидно, не раз терял сознание, витал между жизнью и смертью, – одним словом, пропадал тут. Значит, идет десятое, пятница. Но что будет, если Жамин сейчас вот так же лежит? Нет, об этом не надо! Поговорить, что ли? – Витька, тебе жарко? – Что ты! Холодина, зуб на зуб не попадает. – Болит нога? – Нисколечко… – Пить хочешь? – Да не сказал бы… – А есть? – Сыт по горло. Есть почему-то и вправду не хотелось. Пить, пить, пить!.. Холодный бы камешек найти, пососать, да только кругом все накалилось. Может, все же легче будет, если на речку смотреть? Над самым большим басовым сливом стояла радуга. Сроду не видал таких маленьких и зыбких радуг! Если прищурить глаза, она очень красива, но какой-то временной красотой. Над озером радуги другие. Там везде темные горы. Радуга перекинется с одной горы на другую и долго стоит на фоне черной тайги, яркая и контрастная. А эта миниатюрная дуга то пропадет, то снова покажется. Сощуришься, приглядишься – есть, а вот снова растворилась. Совсем исчезла? Ага, солнце ушло за хребет. Сейчас и у меня климат резко изменится. Спустится с гор холод, и река через камни быстро остудит все. Полежу еще с полчаса и поползу к тому вон большому камню – греться, как у печки. И какое счастье, что у меня есть курево! А что за странные камни на той стороне реки? Большие, неоглаженные и почему-то красные. Что за необычный цвет? Ни разу тут не видел такого. Солнце еще освещало ту сторону и по камням словно разбрызнуло арбузную мякоть. Или мне это кажется? Запрыгали мальчики кровавые в глазах? Пальцами я потянул к вискам уголки глаз и ясно увидел красные камни. Нет, не знаю, что это такое. Может, выход какой-нибудь руды? Тут я пасую, мне всегда легче думать и говорить о лесах, особом нашем живом сырье, принципиально отличном от минерального. Все руды, а также топливные ресурсы постепенно вырабатываются, истощаются с каждым десятилетием все быстрей, и ни природа, ни человек не могут их восстановить. Человечество распылило уже, к примеру, два миллиарда тонн железа. Но лес в принципе восстанавливается, он может стать вечным источником химического и пищевого сырья. Но почему я говорю «может»? Нет ли здесь плодотворной мысли? Есть! Мы все стали свидетелями того, как на лице родной земли образовалось полтораста миллионов гектаров пустырей, занятых раньше лесами, и не прилагаем достаточно средств и усердия, чтоб снова облесить эти гиблые земли. Значит, на теперешнем этапе взаимоотношений общества с природой мы должны отнести леса к сырью невосстанавливающемуся? И следовательно, надо точно знать, на сколько лет нам хватит этого сырья! А дальше что, за этим рубежом? Нет, об этом даже как-то страшновато думать, не буду пока, поползу. Ух ты, дьявольщина! Ногу надо тянуть потихоньку, скользом. Ну, еще попробуем! Солнце побыло часа два у меня, не больше, а камни теплые. Но холодает быстро. Из-за высоты, что ли? Интересно, какая тут высота? Тысячи полторы будет? Наверняка. Пить все же хочется. Но к реке не рискну – назад выбраться шансов нет. Поползу все же на тот конец площадки, откуда солнце ушло попозже. Вот так. Еще метр. Там, конечно, камень потеплей. Лягу спиной, и будем мы с ним греть друг друга, пока из глубины горы не подступит к сердцу холод. А потом? А что? Одну ночь пережил, вторую переживу. Камень гладкий, ровный, отшлифованный полыми водами, и осыпной крошки на нем нет. Веснами в этом горле, должно быть, весело. Карман весь заливает, и вода в нем кипит. Валуны тут гоняет вовсю, и они окатали, залоснили камень. Да, здесь теплее, на этом синем голыше. До вечера еще успею набрать горючего. Его не густо тут, но сколько есть. Вон те прутики, старая хвоя в уголке, древесная труха под самой скалой. Ее, наверно, весной прибило к стене и подсушило. На маленький костерок наберется, неправда! Постой, а почему это я думаю, что только весной здесь все заливает? Сильный дождь тоже поднимает здешние реки, и если сейчас хлынет дождь, я захлебнусь тут или меня просто смоет. Нет, надо все же думать о чем-то постороннем – например, о Сонце. Интересную газету мы в конце прошлого сезона выпустили. В ней напечатали и мою сугубо теоретическую заметку о моральном кодексе, но все отнесли ее на счет Сонца. Я писал, что один хороший поэт призывал солнце сжечь настоящее во имя грядущего. Но драгоценное настоящее – мостик в будущее – нельзя сжигать, его надо все время надстраивать. А строить можно по-разному. В сущности, все противоречия жизни – это противоречия между тем, что есть, и тем, что должно быть. Но что делать, если у человека есть вполне законное желание жить лучше и никакого стремления быть лучше? Как упредить человека в том, что, если его методы строительства моста, его способы достижения целей совсем не такие, какими они должны быть, он может преуспеть в малом, но потерять в большом, что за всякое отступление от принципов должного жизнь все равно воздаст отмщение?.. О Сонце больше вспоминать не хотелось. Стоял еще, можно сказать, день. Над гольцами солнце сияло, а ко мне уже подступал настоящий холод. Я собрался с духом и пополз вдоль стены, собирая в карманы пиджака древесные крошки, жухлые прошлогодние листочки и какие-то травинки – все, что могло если не гореть, то хотя бы тлеть. Нет, если даже правду расскажешь – не поверят, что в тайге дров нет. Засмеют. И еще – самая середина лета, белый день, а тут жуткая холодина. Если же солнце появляется в этой глубокой норе – поджариваешься, как на сковородке. И самое главное – вода рядом, в трех метрах, хрустальной чистоты вода, а напиться нельзя. Стоп! Говорю тебе, не надо о воде!.. Постепенно темнело. Ночи еще не было, а уже показались звезды. Когда я сощуривал глаза, чтобы проверить, не тучи ли заволакивают небо, звезды сразу яснели, начинали лучиться. Очков я не нашел на площадке – наверно, их откинуло в реку, но без очков можно было жить, они не греют. Костерка зажигать не стану, потерплю, пока хватит терпенья. Симагин бы одобрил меня сейчас. Об этом человеке стоило думать. Мы с ним на брудершафт не пили, и особой дружбы у нас нет, только мы признаем друг в друге самостоятельность и взаимно доверяем во всем: это, по-моему, непременное условие настоящей дружбы. Кажется, Симагин говорил, что могут быть в жизни положения, когда не светит никакой надежды, кроме надежды на старого друга. Такое время как будто наступило для меня, и я, не решаясь назвать Симагина другом, уверен, что, узнай он сейчас о моем критическом положении, ночью бы пошел, все горы бы истоптал своими длинными ногами, на горбу бы меня вытащил. – Если бы не бы, то росли б во рту грибы! Стемнело. Чернота сплошная. И черней всего река. Кыга это или не Кыга? Да какая разница для меня-то теперь? Это для тех, кто ищет, нет ничего важней. Алтайцы хорошо разбирают эти горные узлы, вслепую куда хочешь пролезут. И лошади у них такие же. Только повод ослабь – уж к поселку-то вывезут… Зажгу, пожалуй, костерок. Или потерпеть еще? Нет, дрожь проняла уже окончательно. Попрыгать, поприседать бы! Мигом бы согрелся. Я испробовал старый способ лыжников – напружинил мускулы груди, плечи шеи, но сейчас это нисколько не согрело. Хорошо, если б кто-нибудь подышал сейчас меж лопаток! – Если бы не бы! Костер затеплился, и сразу стало веселей. Скала обозначилась, а река оставалась такой же черной, и неостановимый рев ее будто усилился на свету. Какое же это наслаждение – костер, и как сладок его горький дым! Только вот прутики прогорали моментально. Сначала я решил их жечь по одному, как спички, но это было пустое дело, пусть уж лучше костерком горят. Прутики сгорали очень быстро, становились черно-серыми, под цвет смерти. Теперь спиной лечь на кострище и, закрыв глаза, думать о том, будто бы ты у костра и тебе тепло. В долине, бывало, уходишься за день, приляжешь у огня, пока суп греется в котле, и поплыл, поплыл… Один раз Жамин сыграл со мной дикую и глупую тюремную шутку. Вставил меж пальцев обрывок газеты и поджег. Это называлось «балалайкой». Пришлось помотать рукой под смех остальных, но обижаться не стоило – каждый развлекается как умеет. Назавтра в отместку за меня артель устроила Жамину «велосипед»; все смеялись, и потерпевший тоже. Симагин запретил так шутить, но сейчас хоть на обе руки «балалайку», хоть «велосипед» в придачу, лишь бы у костра, лишь бы с людьми… Звезды тут крупные, какие-то совсем белые и своими длинными острыми лучами достают прямо до глаз. Жарища там, конечно, на звездах на этих, но лучи ничего не доносят, даже будто холодят. Да нет, такой холод здесь из-за высоты, но оттого, что это понимаешь, не становится теплее. – Вить, а ну как за тобой не придут? – Как это не придут? Не может быть! – Все может быть, Витек! – Жамин давно уже хватился. – А вдруг он, повторяю, вот так же лежит сейчас где-нибудь? Или кружит по распадкам? – Да нет, вода выведет к озеру. Не болтай, придут скоро, чаю сварят, кусков семь сахару в кружку кинут… Очнулся, когда было совсем светло и поверху сиял голубой проем. Обычное по утрам чувство беспомощности – удел всех близоруких – сразу сменилось тревогой, потому что нога за ночь сделалась тяжелой, как бревно, и расперла сапог. Холода она совсем не ощущала, а сам я весь дрожал, и зубы стучали. Надо было сесть, собрать все мускулы и унять дрожь, а то так и зайдешься в трясучке. Неужто поспать удалось? Или снова сознание терял? Не поймешь. Сколько времени сейчас? Уже день, должно быть, потому и небо не утреннее. Закурил. Река шумела, будто издалека. Временами только словно бы камнепад слышался или телега по тряской дороге, какие-то гудки, но тут же уши снова закладывало. А вот вплелся в голос реки какой-то треск, и я понял, что это… Что я понял? Тогда я ничего не понял. Просто подумал, что так и должно быть. Вертолет! Но где же он? На том кусочке неба, что был выделен мне, – ничего. Где-то валит над ущельем, а может, и с гольцов так доносит. Что-то надо делать! Скорей! Чемоданчик лежал рядом, раскрытый и пустой. Я трахнул углом о камни, потом створом, и чемодан развалился. Разодрал его на досочки, быстро поджег. Может, заметит пилот? Дым ни с чем в тайге не спутаешь – тумана нет. Скорей! Дерматин истлевал на углях с хорошим дымом, и я нарочно гасил огонь, чтоб чадило. Про ногу забылось, и согрелся я сразу – может, от огня, может, и от зыбкой надежды. Ищут!.. Прислушался. Снова приглушенно и монотонно гудела река в камнях. Постой, а может, это совсем не меня искали, а просто арендованный геологами вертолет вез образцы или перекидывал людей на новое место? Пожарный патруль тоже мог пролетать, и это бы очень хорошо, потому что он всякий дым в тайге возьмет на заметку и перепроверит. Только откуда известно, что в таком колодце можно разглядеть мой жиденький дымок? Стоп! В низком зыке реки будто бы снова послышался мотор. Да, воет, звенит, будто бы высоту набирает машина. Нет, ничего. Река. Мне это кажется, что мотор. Надо затушить остатки чемоданчика, сгодятся. Скорее всего, вообще никакой вертолет не пролетал. Показалось. – Тебе что, Витек, уже стало казаться? Брось думать, займись каким-нибудь делом. – Ох и болтун же ты! Каким делом можно заняться тут? – Узнай, что у тебя с ногой. – Раздуло ее. Как я сапог сниму? – Разрежь. – Где же я нож возьму? Момент! Вот же он, в костре! Уголки от чемоданчика отгорели – какой-никакой, а металл. Может получиться инструмент. Уголок был горячим еще. Я выкатил его щепкой, и он быстро остыл. Распрямить будущий нож ничего не стоило – мягкое железо после костра легко гнулось в пальцах. Начал точить пластинку на камне, и она хорошо подавалась. Не знаю, как сейчас сяду, но сесть надо, лежа сапог не разрежешь. С утра нога тяжелела и тяжелела, боль в ней стала неотступной. Сапог заполнился весь, и даже швы на голенище немного развело. Подступила еще боль в тазу – вернее, в правом бедре, и лежать стало можно только на сердце, прямо на сердце. Как же я сяду? Отползти к стене и там уже попробовать? Нет, надо сначала покурить. Ползти-то всего два шага, но это было тоже расстояние. Ногу держало, будто капканом, но я все же стронулся с места. Отдохнул и еще придвинулся. Ничего, только взмок весь. Мне надо было успеть до солнца. А оно еще катилось где-то там, над гольцами, но было уже недалеко – клин неба над ущельем бледнел от его близости. Жажда подступала, но о воде нельзя было думать, это я себе еще вчера запретил. Нет воды – и точка! «Нет – и не надо!» – вспомнился старинный девиз туристов. Выносливость вообще-то у меня была со школьных лет. В походах мне почему-то всегда доставался самый неудобный рюкзак, и, бывало, какой-нибудь здоровяк из старшеклассников вышагивает с гитарой впереди, а я вечно плетусь последним, обливаюсь потом и даже очки не могу протереть, потому что плечи болят от лямок и надо подкладывать ладони, чтоб не резало. «Жилистый ты парень!» – снисходительно говорили мне на привале, а я отворачивался, чтоб не было видно, как мне тошно, как тяжело тащить эти консервы. «А неплохо бы сейчас баночку тушеночки!» – поймал я себя на запретной мысли. Помню, девчонки манерничали, печенье ели, а батоны бросали в кусты, идиотки… Воспоминания отогнал – они ничему не помогали. Начнем? Я привалился спиной к скале, отдохнул и принялся разматывать тряпицы на сапоге. Это, конечно, была не шина, это были слезы. И сапог резался трудно, особенно крепким был рубец на конце голенища. И вообще эта, так сказать, общесоюзного стандарта кирза делается от души – надрез не разорвать. Еще поточил свое орудие, разделил кое-как передок. Откинулся на спину, чтобы передохнуть, и ноге будто бы легче стало – ее теперь не давило. Разматывать портянку было как-то боязно. Она пропиталась кровью, заскорузла поверху, а ближе к ноге совсем закисла, и от нее шел тяжелый запах. Но смотреть все равно надо, если уж начал. Мухи, откуда ни возьмись, закружились надо мной и какие-то особые – нахальные и злые. Я попробовал не обращать на них внимания, однако они лезли в рану, противно липли к рукам. Быстрее надо все делать! Я увидел белую кость. Нога сломалась между стопой и коленом как раз посередине, а там, оказывается, две кости. Они разорвали кожу, сместились, и нога стала короче и много толще. Кожа была синяя вся, даже лиловая. И блестела, растянутая опухолью. Края раны безобразно вздулись, но кровь почти не текла, только немного сочилась в одном месте, от которого я портянку не стал отрывать – побоялся, что польет. Решил засыпать это место пеплом. Эх, от костра-то отполз! Но это ничего, сейчас лягу и протяну руку. Достану. Да прихватить рейки от чемоданчика, что не успел спалить. Эта шина будет покрепче. Посыпал пеплом кровь, и она остановилась. Все остальное тоже засыпал. Не знаю, почему я поверил, что не внесу в рану столбнячный или какой-нибудь другой микроб? Просто сделал, как решил, и все. Оторвал подкладку пиджака, наложил внутренней стороной – она была почище. Снова замотал портянку. Подклад выдрал почти весь и поделил на ленты. Наложил шину как следует. Рейки были куда прямей и крепче, да и подклад не расползался. Сразу-то боль взяла сильная, но я уже знал, что потихоньку нога успокоится, если, конечно, не перебьет боль, которая все заметней распространялась от бедра. Никакой раны там я не чувствовал – просто, наверно, сильный ушиб. Ладно. Лечь получше и не шевелиться, чтоб все утихло. Что такое? От реки я будто оглох немного, и шум ее иногда казался тишиной. Вдруг сверху донеслись резкие тревожные крики кедровок, и я почувствовал, что на площадку что-то скатилось. Я открыл глаза и увидел чудо – синюю кедровую шишку. Пища! Я потянулся к ней. Тяжелая и плотная шишка была немного поклевана, однако и мне осталось. Я съел ее всю – со смоляной кожурой, молочными орешками, мягкой и сочной сердцевиной. Пить! Кольнуло в желудке, затошнило, но я пересилил позывы. Долго смотрел вверх, надеясь на новый такой же щедрый подарок, но кедровок не было слышно. Они завопили, когда уже улетали. Невыносимо хотелось пить. Но лучше было думать о кедровках, чем о воде. Не медведь ли их спугнул? Постой, а если медведь, то он может сейчас и меня спугнуть. Я растянул пальцами уголки глаз, чтоб видеть получше, однако вверху было все привычно. И едва ли медведь ко мне полезет. Еды ему сейчас в тайге хватает, а зверь этот осторожный, даже, можно сказать, трусливый. Здесь я первый раз в жизни напоролся на него. Шел по кабарожьей тропе, увидел его впереди и задеревенел весь. Ветер мне тек в лицо, и мишка не чуял человека, шел и шел навстречу, поматывая башкой. Шерсть у него на загривке переливалась, под ней катались тяжелые мускулы. Остановился метрах в двадцати, подняв, как собака на стойке, переднюю лапу, и принялся внимательно рассматривать меня. Я видел его карие собачьи глаза; в них ничего не было, кроме любопытства. «Очки, наверно, сроду не видал», – мелькнула нелепая мысль. Потом медведь медленно поднялся на задние лапы, чтоб лучше видеть, даже голову наклонил, будто прислушиваясь, и тут я завизжал от страха, закричал, поднял руки. Медведь прыгнул с тропы и понесся в гору с поразительной быстротой… Солнце вошло в колодец. Оно было сейчас совсем ни к чему. Начнет поджаривать, хотя я и так весь горю без воды. А вода, маняще близкая, чистая и холодная, засасывала глаз и уже не отпускала. Наклониться бы к ней, в тугую струю, и есть эту реку прямо от всего каравая. Горло было совсем сухое, губы тоже, а язык даже распух. Я знал, что лучше закрыть глаза и не думать о воде, но неотрывно смотрел на изменчивые валы, на переливы светлого, в которых жила душа этой влаги. Этот самый распространенный, самый обыкновенный и самый загадочный минерал заполнил собой природу, являя единого и единственного земного бога в трех лицах – в состоянии газообразном, жидком, твердом, и каждое такое состояние полнится тайнами, непостоянством, многообразием. Вода в ее естественном обличье кажется одинаковой всюду, но академик Ферсман включил в начальную, далеко не полную классификацию сотни ее видов. И главная тайна воды – тайна ее рождения. Люди не знают первичного родника, ответа на вопрос – откуда взялась на земле влага, но если б сейчас великая тайна сия далась мне, я бы обменял ее на глоток холодной речной воды. Или если бы за любую боль предложили кружечку этой воды, я согласился бы! Она пресновата, словно снеговая, и стерильно чиста… Вдруг я с ужасом заметил, что подвигаюсь к воде потихоньку, чтобы подышать над ней, там, где воздух, может быть, немного влажней, чем у скалы. Вот я уже явственно услышал запах речного дна… Стой! Стой, тебе говорят! Этак незаметно сползешь в воду – и конец. Нет, лучше отодвинуться и не думать, не думать о воде. – А заражения у тебя не будет? А, Вить? Слышишь, что ли? – Да, слышу, слышу! – Гангрены, говорю, не будет? – А кто ее знает. – Может, уже началась? – Нет, проступили бы красные вены. – Да у тебя же там грязь и синь сплошная, разве увидишь? – И температура бы началась, а я пока не чувствую. – Как почувствуешь в таком пекле? Ты же горишь весь. И что у тебя с бедром? Вообще займись делом, делом… – Пить охота. И правда, что у меня с бедром? Взглянуть? Я расстегнул ремень. Правое бедро сильно распухло, и дотронуться до него было нельзя. А цветом – сине-желтое. Ушиб, конечно, сильный. Еще бы! По камням било. Как еще череп не треснул. Ладно, с бедром ничего страшного. Я хотел затянуть ремень потуже, чтоб не так хотелось есть и пить, но дырочек не хватило… Черт возьми! Ремень, ремень, ремень. Я же напиться могу! Очень даже просто добыть воду. Вот дурья башка, о чем раньше-то думал? У меня даже руки затряслись, и я никак не мог унять эту счастливую дрожь. Лихорадочно снял ремень и, снова поточив о камень кусочек жести, начал резать кожаную полоску на шнурки. Сейчас! Вот распорю нитки у пряжки, все подлинней выйдет. Еще раз примерил глазами расстояние до воды. На три длины ремня – не больше. Скоро эта река будет моя! Скоро не вышло. В тайге без ножа никуда. Это мне наука. Железка плохо резала, ее все время надо было точить. Пальцы у меня закостенели и плохо держали орудие. Но я резал и резал ремень, все время думал о воде – теперь уже не обязательно было это запрещать себе. Все! Затянул узлы, получился длинный и крепкий ремешок. Оторвал полу от пиджака, привязал ее к одному концу, переполз на край площадки. Камень круто шел в воду. Струя подхватила тряпицу, рванула, и я быстро дернул ее, даже не подождал, когда она как следует намокнет. Мне срочно надо было хотя бы каплю воды, а то, пожалуй, не выдержу больше и потянусь к ней, покачусь по камню вниз. Схватил сырую тряпку, набил ею рот и сосал, сосал, отжимая зубами влагу, никак не мог оторваться. Еще раз кинул и так же быстро вытащил. Выжал тряпку надо ртом и даже ремешок облизал. В третий раз она хорошо намокла, и этой вкусной, как в сказке, живой воды набралось на глоток. Хорошо бы весь пиджак спустить на ремешке, но я сдержался. Солнце уйдет через час, тут быстро начнет холодать, а сырой пиджак не наденешь, и я совсем закоченею в майке. Много влаги пропадало на пальцах, скапывало мимо, и я решил отжимать тряпку над лункой. У меня даже хватило терпения подождать, пока не наполнится ямка и вода не отстоится. Я теперь знал, что такое высшее счастье на земле, – это три глотка воды. Пока не ушло солнце, я доставал воду. Пил ее уже не торопясь, пить хотелось еще больше, однако я начал привыкать к тому, что воды теперь у меня в неограниченном количестве. Но если б не догадался, как добыть воду, уже бы не мог, наверное, жить. Закурим? Осталось всего три сигареты. Мало… На теплых камнях было хорошо. Я устроил ногу поудобней и лег. Солнце ушло, но холодать пока не начало. Почему не летит вертолет? Ведь погода сейчас стоит прекрасная. Конечно, вертолетчику трудно будет сверху что-либо разглядеть, да и взять отсюда меня невозможно: ни сесть, ни зависнуть. И лошади сюда не пройдут, не говоря уже о машине или тракторе. Только люди. Но где они? Где? Стоп! Лучше снова думать о чем-нибудь отвлеченном. Мне надо выбраться отсюда во что бы то ни стало. Иначе пройдет, наверное, еще немало времени, пока кто-нибудь сформулирует эту идею, научно докажет всю нелепость современных принципов эксплуатации наших лесов. Как получилось, что технический термин «перестойные леса», определяющий старшую возрастную группу наших древостоев, начали прилагать ко всей тайге, использовать это подсобное понятие для хозяйственной спекуляции? Взялись доказывать, будто все стихийные русские леса застарели, вываливаются, а в тайге пропадает, сгнивает на корню народное добро, и надо, дескать, его скорей собирать сплошным сбором. Но нет в дикой природе старых лесов, как нет молодых! Тайга всегда была такой, как сейчас, она вечно старая и вечно юная, потому что в ней идет постоянная и бесконечная смена поколений. Если таежные массивы целиком гниют и вываливаются сейчас, то почему они не выгнили столетия назад? Работа моя будет ударом по старым методам рубок, но как добиться введения новых? Ищут меня или нет – вот бы что узнать, и тогда я выдержу все. Может, в лысую дубовую башку Сонца наконец-то просочилось желание узнать, что у нас в партии делается? Ведь если мы с Жаминым из партии ушли, но на озеро не вышли, то где мы? Наверно, ребята уже лазят по горам, орут и стреляют. Только ничего у этой реки не услышишь. День еще долгий, и, может, мне на всякий случай знак подать – дожечь остатки всего? Вот добраться бы до этого гнилого кедра! Но как из расщелины потом выдраться? Если б не это, дыму бы тут напустил – только держись, и грелся бы неделю. Постой, а при чем тут неделя? Через неделю меня уж наверняка не будет, окончусь. От заражения или от голода. Вон там, у мертвого кедра, березка тоненькая свисает со скалы. Доберусь? Добрался. Оторвал несколько листочков, пожевал, но проглотить не смог – шершавое горло не пропускало. Сейчас, пожалуй, вырву эту березку, все будет лишняя дровинка. Бересту на растопку обдеру, а остальное в костер. Предварительно я дочиста обгложу ее – ведь березовой корой когда-то подкармливали себя голодающие русские крестьяне, а почему не попробовать мне? Я вспомнил последний свой лозунг, написанный углем на симагинской палатке. За месяц штабная палатка партии покрылась надписями и рисунками, превратилась в своеобразное дочернее издание экспедиционной «Лесной газеты». В ней с успехом прошло несколько моих аншлагов, в том числе последний – иронический и горький отклик на нехватку продуктов. Я написал: «Лес рубят – щепки едят». Рабочие и таксаторы смеялись, а Симагин пообещал по возвращении развернуть эту палатку перед начальником экспедиции. Со всей остротой я ощутил сейчас свое одиночество. Где вы, ребята? Мне ничего не надо от вас, помогли бы хороший костер наладить, и то я бы вам был благодарен до конца дней. Момент! У меня же есть сапог. Это дрова, да еще какие! Спалю последние щепки от чемоданчика, остаток трухи, обрывки рубахи кину для дыма. Вот сейчас еще маленько покачаю воды, выпью луночек пять – и тогда уж… Костер загорелся хорошо, и дым от сапога пошел густой и вонючий. Надо, пожалуй, снять сапог со здоровой ноги, будет запас горючего, только без другой ноги не разуешься, тоже придется разрезать по шву, перепиливать железкой прочные нитки. Ах, до чего черен дым! Настоящая дымовая завеса потянулась по ущелью. Если кто гольцами пробирается, непременно увидит этот нехороший дым. А вертолетчики и подавно. Эх, летчики-вертолетчики! Вам-то, чертям, хорошо – эти горы нипочем. Вертитесь, плаваете над ними… Не знаю, сколько времени я спал. Пригрелся и заснул. Ничего не видел во сне, а замечательно было бы что-нибудь хорошее увидеть. Проснулся и долго не хотел открывать глаза, чтоб еще заснуть, но не вышло – в голову полезли плохие мысли. Кроме того, было очень холодно, и я невзначай шевельнулся. Нога заговорила, занудила. Сквозь сон я ее все время чувствовал, но сейчас она заболела по-другому, изнутри, будто высасывали из меня костный мозг. Мне как-то очень плохо стало, все безразлично. Захотелось помочиться. Я почуял, как теплая струйка стекает по ноге к перелому и все там пропитывает. Когда я открыл глаза, темнело. Небо утратило всякий цвет, просто на его месте серело грязное пятно. Звезды не кололись своими остриями, как я ни щурил глаза. Их вообще не было, и я понял, что надвинулись тучи. Костер прогорел, но камни под ним были еще теплыми. Не сметая золы и углей, я надвинулся на кострище плечом, левым боком, спиной и закрыл глаза. На сердце что-то давило. Нет, не камень. Ба, да это же черенок карликовой березки! Ну, повезло этому столетнему алтайскому сувениру, а то бы он давно превратился в щепотку пепла. Забыл про него. А теперь уж пусть лежит. С трудом перевернулся на спину. Какой тебе вертолет? Нет уж. Тучи! Даже если немного заветрит на границах этого района, и то все полеты запрещают, потому что легонькую машинку может где-нибудь на продуве скособочить и перекувырнуть, а тут плотные тучи появились. К тому же вертолет никак меня отсюда не заберет, я уже думал об этом. Ему площадку надо, а здесь отвесные стены да лес на крутизне. Зависнуть и то не зависнет – узко. Нет уж! Очнулся, когда ледяной камень захолодил снизу все внутренности. И еще что-то другое было кругом. Ага, дождь сейчас пойдет! В черной мгле проскакивали невидимые редкие капли, они стукали меня, но на лицо почему-то не попадали, все же я раскрыл рот, надеясь, что хоть одна-то угодит. Потом пошел мелкий дождь. С каким-то безразличием думал о том, что постепенно я весь промокну и застыну. Ногу тоже пробьет холодной водой до костей, и мне уже завтра не очнуться, это как пить дать. Пить дать? Я нащупал рукой лунку, но там еще не набралось. Нет, мне нельзя под дождем. Мне? Бумаги-то ведь тоже мокнут! Я задвигался, потащил ногу, ощупывая впереди сырые камни. Нашел. Разобрал камни, лег на пакет. Раньше бы догадаться – через бумагу не так холодит. Если бы скала козырьком нависала, этот дождичек можно было спокойно переждать, а то по стенке еще хуже течет и, наверно, уже портит бумаги. Нет, так не годится. Надо залезать в ту расщелину, под лесиной. Хотя это и безумное решение, но тут я тоже пропаду. А там от дождя какая-никакая защита, и дров полно. Эта кедровая чурка будет гореть неделю. А мне зачем еще неделю? Об этом я тоже, кажется, думал. Поползу. Только бумаги под майку затолкаю. Наряды тут, ведомость, журналы таксации – считай, денежные документы, итог работы. Паспорт Жамина. Это можно даже выкинуть или сжечь, Сашка спасибо скажет. Я попил из лунки – там уже была вода. Выкурил последнюю сигарету, пополз к расщелине. Нога тянулась бревном за мной, ее прожигало при всяком шевелении, но мне надо было – кровь из носу! – добраться до края каменной канавы. В темноте не очень-то все можно, однако я за эти два дня исползал свою площадку, запомнил ее руками и всем телом. Вот он, край. Нащупав камни в расщелине, начал сползать головой вниз. Там было еще холодней и уже совсем сыро. Бедром неловко двинул о камень и застонал, заругался сашкиными словами, как в жизни сроду не ругался. Отдохнуть? Заползу сейчас совсем и подожгу труху, она там должна быть совсем сухая. Все повеселей. Огонь на корни перейдет, и станет тепло. Постой, а спички-то, наверно, промокли?! Их не высушить теперь никакими хитростями. Ну и не страшно. Есть особый резерв – кусочек терочки и несколько спичек, которые ни при каких обстоятельствах не промокнут. Симагин всегда держит в брючном кармашке такой резерв и нас приучил. Известные изделия ширпотреба продаются во всех аптеках совсем для другой надобности, но лесные солдаты, народ дошлый, придумали им свое применение. Так что сухие спички у меня есть. В канаве было сыро, но дождь не попадал напрямую, толстый ствол не пускал. В темноте я наковырял сухих щепочек со ствола, добыл из резерва спички. Загорелось, и надо было подкармливать огонь. Труха шла в дело неплохо. Сейчас вот подвину под корень весь жар, и пусть себе горит, а я попробую отдохнуть, ни о чем не думая. – Вить, а почему этот кедр лег? – Сгнил, наверно. – Конечно, сгнил… Но ты знаешь, о чем я подумал? – О чем? – Может, его подмыло водой? – Может, и так. Ну и что? – Даже страшно говорить… – Говори-говори. – Понимаешь, ты попал в могилу. – Ну уж! – Ты же думал о том, что все это место заливается водой в сильные дожди. Почему тогда площадки и стены так облизаны? А канава еще ниже. Водосбор в ущелье огромный, со всех гольцов сюда течет. Сейчас воды прибудет, и тебя потопит… – Слушай, брось паниковать. Дождик-то еле-еле… Корень занялся и горел все жарче. Огонь ушел далеко, метра за два от меня, и мне уже не достать его, чтобы в случае чего затушить. Из темноты высвечивало кусок темной скалы и мелкие дождевые капли, что сеялись на площадку. Реку отсюда видно не было, но гудела она совсем рядом и, судя по ее загустевшему голосу, вправду будто бы собиралась залить меня. А огонь-то, огонь! Кедр шипел поверху, не хотел гореть, но зато снизу пластало как следует. Пересушенные смоляные корни взялись, и мне стало тепло. Уже почти равнодушно я подумал, что перегорят эти корни, которыми кедр еще цеплялся за скалу, лесина рухнет на меня и ничего не оставит во мне живого. Тут я забылся и не знаю, сколько в таком состоянии лежал. Вроде спал, но сверху чувствовал тепло, сырость снизу, только реки не слышал, от ее рева уши совсем огрубели. Долго думал, какое после этой ночи пойдет число, но так и не мог сосчитать. Вообще-то мне было уже все равно, какое пойдет число. Покурить бы еще раз в жизни! Потом голову заняли какие-то нетвердые мысли. То будто бы я вспомнил вдруг, как очень похожее было уже со мной в неясную пору самого раннего детства, то начал уверять себя, что все это чистая неправда и такого вообще ни с кем не может быть. Натуральная реникса, чепуха. 5 САНАШ ТОБОГОЕВ, ОХОТНИК Глаза есть у них, голова на месте, а вроде ничего нет. Идут по тайге и не видят ее, простое дело. Гляди лучше, голова работай, иди куда хочешь, не пропадешь. Водил я прошлым летом геологов в долину Башкауса, где бывал до войны. Троп туда нет, однако прошли верхом и низом. А эти в тайге, как слепые щенята. Симагин-то, бородатый начальник партии, ходил, видать, раньше, места ладно глазом берет, даже со мной спорил, а про остальных говорить не надо. Как их учили, если тайгу не понимают? Того, кто потерялся, я плохо узнал. Когда привел их на место, он сразу ушел с рабочими деревья метить. Запомнил, однако, что жилистый, худой и у костра ест хорошо. Помню потные очки над котелком и потому глаз его не рассмотрел сначала. А когда я уходил из партии, он встретил меня у палаток, заграничную сигарету с желтым концом дал, и я спросил у него: «Конец, однако, нашей тайге?» Про это я узнавал у всех. Один инженер сказал, что давно сюда дороги и трактора надо, чтоб человеком запахло. Другой все повернул на Сонса да начальника экспедиции – они, мол, знают, и ощерился, в злобе заругался. Мы, алтайцы, так не ругаемся. И у Симагина я сразу про это главное спросил, когда нанимался. Он ничего не ответил. Глядел да глядел за озеро, на наши леса, бороду чесал. Теперь этот, кто потерялся. Он по-другому себя держал. Прикуривал от моей спички, а сам смотрел на меня, и глаза его под толстыми стеклами были круглые и блестящие, как у лягушки, только больше в сто раз. Глаза показались мне хорошими. – Конец тайге? – еще раз спросил я. – Нет, – засмеялся. – Век ей тут стоять! Я уходил, а он подошел к Симагину, что-то говорил; они смотрели, как я уходил, и смеялись. Пускай смеются, ничего – у них своя дорога, у меня своя. Только я не знал, что Сонс меня рассчитает в поселке. Так начальники не делают, чтоб раньше срока договор по своей воле менять. И на этого молодого тоже плохо милицию напускать, ничего не известно. Я думаю, он сильно ни при чем. Знает, что тайга не город, в тайге следов не потеряешь. Как его называть? Ночевал у меня, я не спросил, на огороде опять не спросил. – Как тебя звать? – крикнул я вниз, где трава шевелилась. – Сашка. – Он догнал меня, часто дышал. – А что? – Вместе идем, знать надо. А меня Тобогоев Санаш. – Слыхал. Далеко еще до твоего Баскона? – Три раза спотеть, – сказал я. – Это сколько километров-то? – Кто считал? На лошади, однако, десять, пешком – двадцать. – Пойдем тогда, нечего стоять. Ночевали в вершине Баскона. Еще не было темно, когда мы туда пришли, и Сашка давай меня ругать, зачем становимся. Дурная башка, глупый. Тут вода и дрова. Дальше дров нету. Ночами в гольцах холодно, хотя и лето. На камнях спать тоже плохое дело. Они к утру мокрые, а тут мы хорошо под кедром ляжем, мягко, тепло, и дождь не страшен, если надумает. У меня спина заболела, там, где была военная рана. После ужина я сидел с трубкой у костра и спину грел. Черная тайга была внизу, светлые близкие гольцы вверху. Еще не страшный Баскон шумел в камнях. Через него тут можно прыгать, и светлый он, как воздух. Тайгой не пахло и травой тоже – ветер бежал с гольцов, и кедр над нами гудел. В этих просторных пустых местах дышать легко, тут больше неба, чем земли. – Хорошее место, – сказал я. – Есть получше, – возразил Сашка. – Однако нету. – Что хорошего-то? Он не понимает, молодой. Поймет, придет время. А может, никогда не поймет? У меня-то к тому месту такое отношение, вроде я тут не раз родился. Пожалуй, оно так и было, что я тут родился много раз. Когда пришел с фронта, была осень и на Беле горько плакали без мужиков. Голодные дети сильно болели. А в тайге без нас много соболя и белки стало, однако брать пушнину было некому. Женился, а какой я был муж? Старые бинты снял с меня в поселке Савикентич, но контузия сильно мешала. То ничего, ничего, а то свет сразу потемнеет, вроде вся земля поднимается и закрывает небо. Я падаю и не скоро начинаю чего-нибудь чувствовать. Все равно сюда пошел. С женой, с собакой – бабкой теперешней моей собаки Урчила. Снег тогда лег хороший, следы в тайге открыл. Мы балаган тут, в вершине Баскона, поставили, давай белку бить, капкан ставить. И было со мной то же. Без причины белый снег станет черным, я падаю и лежу. Собака – к балагану. Жена меня найдет, на лыжах притянет и отогревает у костра, пока не начну видеть и слышать. Почему никак не замерз?.. А все тут, как двадцать лет назад. Кедры, Баскон, гольцы, ветер. Вот звезды. Их много, и они вроде светят на горы, только с запада туча их закрыла – придет дождь. Как в сырой тайге человека искать? Ладно, завтра к перевалу, а сейчас сниму сапоги, спиной к костру лягу и собаку к ногам для тепла положу. Сашка спит давно и дышит, вроде плачет… Совсем мало пришлось спать. Сашка ткнул в спину и сказал, что утро, и я решил его не ругать, спина все равно болела. Мы поели хлеба с сыром, чаю выпили, пошли. Росы не было – ее ночью местный ветер высушил. Он бежал с гольцов до озера, потому что туча на западе не продвинулась, там и стояла. Сразу хорошую тропу взяли, она была нам и нужна. Сашка впереди раздвигал березки, собирал на себя росу – тут она была, потому что березка густо срослась и ветер к земле не пускала. Сашка головы не поднимал и даже собаку обгонял, а я все время смотрел на горы, на черный камень, на серый мох, в развалы смотрел, видел, как светлеет все, лучше обозначается, и мне было хорошо. Солнце оторвалось от гор, и стало рядом с ним ладно. Затеплел у лица воздух, и спина моя прошла. Показалось Чиринское озеро, совсем небольшое. От него холод пошел. С детства не понимаю, откуда оно столько воды берет. Много прожил, много видел, а этого не пойму. Если б оно протекало, другое дело, а то само родилось. Льет да льет из себя, сразу же реветь в камнях начинает, на истоке, потом кидается отвесно, вроде в яму, и к большому озеру прибегает шибко сердитой речкой… Я маленько уставал, когда открылась глубокая долина. За ней поднимались гольцы, такие, как эти, только наши, однако, были выше и чище. Долина уходила вниз, к Алтын-Колю, по пути кидала отросток к дальним горам, а наше урочище поднималось к Абаканскому хребту, под небо. – Вертолет! – крикнул Сашка. – Где? Правда, вертолет. Маленький, вроде комара. Ползет по зеленому, и его даже не слышно, потому что звук относило ветром с гольцов. Вот дополз до развилка долины, скрылся за хребтом. – В Кыгу, – сказал я. – А это разве не Кыга? – спросил Сашка и вроде чего-то испугался. – Это Тушкем. – Какой еще Тушкем? – Он в Кыгу справа падает. Шибко падает. Алтайцы туда не лазят, считается плохое место… Сашка опять посмотрел на меня пугаными глазами и еще сильней побежал тропой. Я не успевал за ним и боялся, что спина скоро болеть начнет. Мы совсем перевалили в долину, в луга спустились и больше тропа не сходила вниз, по боку хребта к самой вершине Тушкема тянулась. Я знал ее хорошо, она чистая, кругом обходит это плохое урочище, ведет к главному перевалу и мимо горячих ключей – в Абакан. На перевале надо решить, куда мы. Оттуда два хода – в Кыгу и в Тушкем. Из этого развилка деться некуда. Инженер где-то там, внизу. По гольцам и малый ребенок выйдет, не то что лесной ученый. Сашку я нескоро догнал. Он стоял на тропе, смотрел то в долину, то на меня, ждал, когда я приду. Я сел спиной к теплому камню, а Сашка сказал, надо идти, он вроде вспоминает. – Что вспоминаешь? – спросил я, хотя в его память совсем не верил. – Это вон что? Он показал на другую сторону долины. Там резал гору приметный ручей. Воды не было видно, только тайга в том месте густела, к воде сбегалась. – Это Кынташ, – сказал я. – Будто бы помню я его, – нетвердо сказал он, но пусть бы вспоминал. – Вон тот изгиб в середине помню. – А с какого места ты его видал? – С осыпи. Когда вылезал, пересек какую-то большую осыпь, в лесу там просвет, и я увидел. Точно! Этот ручей, Тобогоев. Гад буду, этот ручей! Он меня сильно обрадовал, но я виду не показал, мало верил ему, знал, что у них голова в тайге пустая делается. – Может, от перевала начнем разбирать? – Сколько до него еще километров? – опять поглупому спросил он. – Кто считал? Мой отец отсюда четыре трубки курил. К ночи можно успеть на перевал. 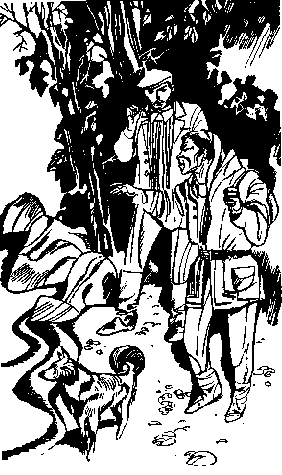
– Нет уж, давай вниз! Где-то тут я вылазил, гад буду! Вон ту загогулину помню. – А вы по целой траве долго шли? – Ну. Тропу бросили и поперли прямо над речкой. – Знаешь, Сашка, трава сейчас в тайге жирная, – объяснил я ему. – Думаешь, найдем след? Прошли еще, увидели воду, поели у нее и покурили. – Думай, Сашка, – сказал я. – Если залезем в это урочище, тяжело назад. Тут проход искать надо. Ниже стены стоят… – Знаю! Я тоже долго в них тыкался. Вылез окатом. – По курумнику я не полезу, Сашка. Глупый человек курумником ходит. Мы вдоль ручья пошли, чтоб всегда было пить, стало круто, и у меня спина заболела. Потемнело, хотя до вечера еще далеко. Кедры тут густо росли, и вчерашняя туча надвигалась на эти гольцы. Дождь будет, плохо будет. И стены сейчас остановят. Высокие тут, старики говорили, стены. Камень кинешь, не слышно. Один способ спуститься – найти тропу марала. А она тут должна быть, зверь хребты всегда прямой тропой соединяет. Сашка ломает кусты внизу, плохие слова говорит. Стена? Пусть хоть что будет, в тайге так ругаться нельзя. Пустая башка! Тут тихо надо говорить. В духов я не верю, просто обычай такой. Стена. На самом краю стоял Урчил, водил носом над глубиной и визжал. Сашка держался за куст и хотел глядеть вниз. Там был Тушкем, а наш ручей пропал. Я лазил туда и сюда. Стена была везде, без разломов. Да нет, бесполезно. Надо звериный проход искать. Сказал Сашке об этом, а он заругался и говорит, что делай как знаешь. Все, что с ним происходит, очень понятно. Пусть, лишь бы не ошибся про Кынташ! Тогда инженер внизу, и люди зря в Кыге ищут. Часа два мы лазили над стеной. В завалах и камнях много крапивы было, руки у меня горели. Я рвал бадан и прикладывал, а Сашка свои руки царапал до крови. Когда я ему сказал, что бадан всегда холодный и хорошо облегчает, он заругался, вспомнил нехорошо бога. Так нельзя, совсем из дикого мяса парень. Хотел пить, но воды уже не было. Стало совсем темнеть. И Урчил мой пропал. Наверно, белку погнал. Молодой, глупый. Вот голова еще одна! Нет, его отец и бабка были не такие, по-пустому не обдирались. Урчил мне уже одну охоту испортил, женился в тайге. Как будет новый сезон держать себя? Однако ночевать? Только хотел о ночевке думать, тут же шибко обрадовался. Урчил подал слабый голос снизу, из-под стены, и я крикнул Сашке, что сейчас будем спускаться. Он опять заругался – или от радости, или подумал, пустая голова, что я обманул. Мы стали на крутую тропу марала уже темно. Сашка сказал, корни кедров открыты, по ним можно слезать, как по лестнице. Вроде я этого не знал. Только я остановил его. И зверь, бывает, убивается в таких местах. Про спину свою ничего не сказал. Она болела, как давно не болела. Сделали костер. Воды не было, и мы поели плохо. Урчил вылез из темноты, ко мне прижался. Он был горячий, и сердце у него дрожало и стукало, как у птицы. Ничего, хороший собака. – Сашка, ты верно Кынташ узнал? – спросил я про главное, когда мы закурили. – Он! Верно говорю. С поворотинкой. – Как ваши головы придумали залезть вниз? – Тропа вела. В сторону никуда не ступить – камень, потом завалы, а все тропы шли по пути. – Постой-ка! Выходит, вы в Тушкем попали с того хребта, откуда бежит Кынташ? – А черт его знает! – Сашка шибко плохо соображал. – От перевала в цирки. Знаем, что Кыга откуда-то оттуда пойдет к озеру, и давай напрямик. Кругом горы, не разберешь. Скоро тропа пересекла траву, повела вниз… – Вы думали, в Кыгу лезете? – Да вроде так. – Однако, – сказал я. – Что? – В Кыге спасатели зря обдираются. И вертолет зря летает. – А где, ты думаешь, Легостаев? Сашка спросил про главное, а что я ему мог ответить? Внизу он где-то, ему отсюда никуда не деться. – Утром будем смотреть, – говорю я. – Завтра число какое? – Двенадцатое или тринадцатое… Ничего хорошего нет. Инженер уже четвертый день один. Залез, видать, под эти стены и не вылезет. Или что случилось, и он пропал совсем. Может, сорвался в воду, а Тушкем все кости на камнях поломает. Они, однако, вот этой тропой с того хребта вниз. Надо бы наверх, но эти дурные головы вдоль воды полезли, где одну смерть найдешь. Шаманы давно запрет клали на урочище. У нас по гольцам надо, куда хочешь придешь… Дождь? Совсем плохо. Спина болит, вроде печенки от нее отдирают. Худо. Я надеялся, к утру спина заживет, мы спустимся, и будет видно, пустая голова у Сашки или в ней что есть. А спину Савикентичу надо показать, пусть погреет своей синей лампой. Но где три дня пропадает инженер?.. Свежим утром пришли к Тушкему, ничего, хоть в других местах было круто, почти на отвес, и я не знаю, как тут марал ходит. Под ногами от дождя скользко, однако спустились. Тушкем громко в камнях работал, даже Урчила не слыхать. Долго пили, руками черпали. Потом вдоль воды полезли и скоро на след попали. Сашка крикнул, что тут Легостаева последний раз видел, и опять заругался. Стало плохо лезть. Мы на ту сторону по камням ушли, но там тоже к воде прижимало. Решили взять выше правой стороной и там держать след. Последний раз перешли на левый берег. Урчила снесло, однако не ударило. Когда Урчил упал в воду с камня, я подумал, что своего собаку не увижу – шибко его вода схватила, и он сразу пропал. Потом он ниже нас появился, где было шире и Кынташ падал. Вижу, мой Урчил ногами камень топчет, на нас смотрит, и зубы скалит, вроде смеется. У меня тут сердце в стуке перебилось. На том берегу кто-то черный лежал под косой колодиной, а от нее дым шел. Сашка крикнул: – Человек, только не он! Как не он, когда тут никого другого не должно быть? Хотел вверх по течению кинуться, чтобы скорей на ту сторону, а дурак Сашка какое-то бревно схватил, через главную струю перекинул и прыгнул. Эх, башка! Бревно повело водой. Сашка там упал, но как-то камень схватил, в одном сапоге вылез и весь мокрый. К инженеру он попал раньше меня. Когда я к ним перебрался, Сашка голову просунул под лесину к инженеру и плакал, плечами тряс. Инженер живой был. Он открыл на меня глаза без очков и начал ими двигать, как слепой, головой потянулся, спросил хорошим голосом: – Пришли? – Витек! Ты живой? Ты живой?.. – Сашку трясло. – Виктор! Скажи ему, что я ничего не делал с тобой. Скажи, что я не виноват! – Скажу. – Инженер узкими глазами смотрел на меня. – Тобогоев, это вы? – Я. – А я ногу сломал. Тащите меня. Тащите меня отсюда скорей. Мы тихо достали его из канавы, он даже не крикнул. И скоро солнце вышло, маленькое сырое кострище осветило. Какая-то тряпка на веревочке и рассыпанный камень. Инженера я тоже хорошо тут рассмотрел. Он был весь грязный, и мухи на лицо ему садились, не боялись совсем. На лбу и на руках были рваные раны, а одна, глубокая, черным следом шла по груди. Майка там прилипла. Толстая правая нога чуркой лежала, обмотанная тряпками, а носок ее был внутрь повернут. Конец ноге. Я взглянул вверх и понял, как получилось. Он ступил на сыпучий камень, свалился и хорошо еще ногами упал, а не спиной, не головой. Его по скале катило, как росомаху, только той ничего не делается, у нее железные кости и жесткое мясо. От инженера шибко пахло, дышать рядом было плохо. Так и медведь в петле не воняет, когда гниет. Урчил откуда-то сверху скатился, язык подобрал, понюхал инженера, отскочил к дальнему краю площадки и там остался. Инженер спросил закурить. Я сказал, что сейчас нельзя, и стал костер делать. Дам ему котелок горячего чаю, банку сгущенки туда и сахару еще добавлю, сахар сильно помогает. Только он просил курить. Сашка не выдержал, дал ему сырую сигарету. Инженер спасибо сказал, быстро кончил курить, потом закрыл глаза и откинул руки – видно, пьянел. Мокрый Сашка сидел рядом и смотрел на него. Вода быстро сварилась, тут было высоко. Я остудил котелок в Тушкеме, дал инженеру. Руки у него тряслись и работали плохо. Тогда Сашка поднял его за плечи и держал голову, а я поил. Тут же инженер опять попросил курить, и Сашка дал ему. – Жамин, паспорт твой у меня, – сказал инженер. – Возьми, я его со своим положил… – На хрена он мне, пускай лежит. – Вы двое пришли? Сашка начал говорить. Я испугался, чтоб он пустого не понес, и сказал ему, что надо высушить одежду на теплых камнях и у костра. Сашка снял все, и я увидел, что он белый как снег, с большой грудью и толстыми руками. Мы, алтайцы, другие. – Вы вдвоем? – опять спросил инженер. – Человек двадцать ищут, – говорю я. – И вертолет вызвали. – Вертолет не годится, – сказал инженер и закрыл глаза. – Я уже думал. Он тут не сядет и не зависнет. Выходило плохое дело. Я обед готовил и все думал, что делать? Мы нашли инженера, а дальше? Людей надо, продуктов, лекарств. Может, у него уже огонь в теле? Я совсем испугался и все бросил. Говорю, надо ногу глядеть, но инженер сказал, что он досыта насмотрелся и пусть так остается, а то больно трогать перелом и терять память. Я подумал, Савикентича из поселка хорошо, только старик от такой высоты и дороги помрет, у него сердце слабое. Да и мы с Сашкой помрем, если сами инженера тащить будем. Еды мало, носилок нет. Зачем зря думать, мы его даже из этого кармана не достанем. Все плохо. Мы смотрели, как инженер ел. Он обливался, глотал сразу и поправлял черными пальцами хлеб у рта. А после еды Сашка сказал, ему за народом надо. Однако голова у него не совсем пустая. Я начал объяснять, как подняться сразу на гольцы, а от Чиринского озера спуститься к Алтын-Колю. Там круто, и тропа шибко петлями вьет, но брать надо прямей – трава густая, мягкая, камней нет, и березы редко стоят, как над Белей, даже ночью можно идти. И тут я снова испугался, сердце застучало. Ведь Сашкину обутку Тушкем забрал. Босиком в горах нельзя, пропадешь. Мне идти, дойду ли? Дойду нескоро. Вот тебе дело! Моя обутка Сашке не подойдет – мала. Может, сапог выбросило на берег? – Пойдем вниз, Сашка, – сказал я. – Посмотрим… – Куда вы? – крикнул инженер. – Зачем? – не понял Сашка. 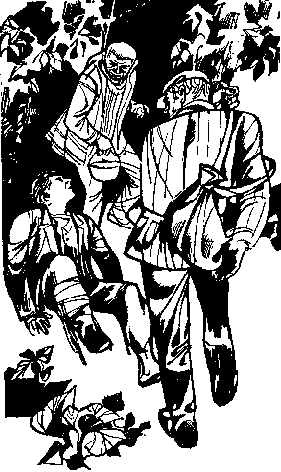
– Может, сапог твой Тушкем выкинул? Сашка на свою босую ногу глянул и заругался, крест назвал поганым словом. – Стойте! – крикнул инженер и даже задвигался. – Саша, какую тебе ногу разуло? Левую? Сорок второй носишь? Тяни мой сапог. Только тихо, не дергай! Инженер не смотрел глазами, однако понял дело сразу. И хорошо получилось. Сашка обут, а то бы не знаю, что было. Инженер звука не подал, когда Сашка с его ноги сапог тянул, крепко руками камни взял. Сашка хлеба отломил и сказал, что сырая куртка ему не нужна, а тут пригодится. Он попрощался и ушел. Урчил проводил его немного и вернулся. – Тобогоев, только вы не уходите, – сказал инженер. – Куда мне, – сказал я и подумал, с чего начать дела. – Скоро холодно станет, дров надо, – услышал я. – Как здесь без дров? – говорю я, а сам все по бокам скалы смотрю, ладную палку ищу, чтоб длинная была, прямая и сухая. – Не дадите мне хлеба, Тобогоев? – Почему не дам? Дал хлеба и подумал, что хватит, а то плохо ему станет. И еды мало, а когда помощь будет, неизвестно, все теперь зависит от Сашки и его головы. Палку я нашел, обчистил ножом и сказал, буду сейчас привязывать ее к больной ноге, чтоб не двигалась кость. Он сказал, что это я, пожалуй, ничего себе придумал. Палка ладная, под самую его подмышку. Я резал лямки от рюкзака и делал что хотел. Как лежала нога, так и привязал ее к палке. Инженер терпел, и я опять удивился, вроде он все же человек, а не росомаха. Дров тут мало, а солнце зашло уж за хребет, и стало холодно. Перекатил через камень кедровую лесину с корнем, березовых сучьев набрал, только больше сырых и гнилых, береза быстро пропадает на земле, если с нее кору не снять. А бересты натряс много и сухой красной пихты набрал, чтоб костер ночью кормить. В запасе еще колодина, под ней утром лежал инженер. Спать я ему наладил хорошо. Наломал мягких веток, распорол и подстелил рюкзак, Сашкину энцефалитку тоже, а своей курткой прикрыл. Костер загорелся, инженеру было тепло. Я ждал, когда он заснет, однако не дождался. – Тобогоев, нельзя ли мне еще хлеба? Хлеба я дал мало и сказал, что у нас одна банка сгущенки, одна тушенки, лапши горсть и сахар. А хлеба меньше буханки. – Не густо, – сказал он. – Правду говоришь. – Тушенку на ужин, – распорядился он. – Чтоб ночью было теплей. Но до ужина еще не скоро. Давайте поговорим о чем-нибудь. – Почему не говорить? Давай начинай. Инженер закрыл глаза, а я глядел на огонь, на речку и красные камни Кынташа. Они начали помирать без солнца и совсем были темные, когда я глядел на них после огня. А Тушкем сильно работал, в голову шум пришел и не уходил. – Тобогоев, почему вас только двое? – Другие в Кыге ищут, – решил я сказать правду. – Постой, а это разве не Кыга? – Нет. Тушкем. Он сощурился на меня, хотел что-то сказать, но вроде передумал. – Ладно… А что значит Тушкем? – Как это по-русски будет? «Тот, кто падает». – Сильно! А есть у вас места хуже, чем это? – Почему нет? Есть. Башкаус место плохое. Над озером тоже есть. Урочище Аю-Кечпес. – А это как перевести? – «Медведь не пройдет». – Ух ты! А тут медведь есть? – Куда девался? Однако мало. – Почему? – Ореха в том году не было… Сейчас медведя плохо встретить. – Почему? – Женятся. Свадьбы гуляют. – А какие это свадьбы? – Медведиха смотрит, а они борются. – Каким образом? – Считай, как люди. Поднимутся на задние лапы, а передними борются. – Насмерть? – Случаем бывает. Инженер говорил о пустом. Ладно, пусть! Ущелье стало темным. Сверху звезд не видно, тучи обратно пришли. Урчил рядом лежал, на костер глядел, не мигал, а инженер никуда не глядел, все спрашивал да спрашивал. – Расскажите, Тобогоев, что-нибудь про жизнь. – Как это? – Ну, про свою жизнь. – Живем, однако. Только жена болеет, и коня отобрали. – Как отобрали? – Закон пришел. А без коня алтаец куда? – Идиоты! – закричал инженер. – Пни! – Ты не кричи. Закрывай глаза, лежи. – Тогда и у меня надо «Москвича» отнять! – снова закричал он. – У тебя есть машина? – спросил я, а то он был злой. – Своя? – Своя. – Это шибко хорошо! – сказал я. – Куда захотел, туда и поехал. – Идиоты! – У него голос стал, как у парнишки. – Ну, можно ли тут коня отбирать? Это неправильно! Реку не перебродишь. Этот закон все равно отменят, Тобогоев! – На машине хорошо, – говорю я. – Куда захотел, туда поехал. – Надо было есть и спать. Я плохо думал, и говорить по-русски стало тяжело. – Еще что-нибудь про жизнь расскажите! – снова попросил инженер. – Вы сейчас в партии? – А как же? – говорю. – Всегда. На фронте вступали. – Вон оно что, – медленно сказал инженер. – А с кем сейчас из наших таксаторов? В какой партии работаете? – Не работаю. Сонс прогнал. Давай, знаешь, еду делать начну… Еда вышла жирная. Я снова держал инженеру голову и кормил. Когда осталась в котелке половина, он лег, однако я взял три ложки и сказал, что не хочу. Тогда он доел все. Урчилу мы ничего не дали. Собака завтра сеноставку или бурундука поймает. Не помрет. Чай заварил я листом смородины и сахару много насыпал. Было густо пить, хорошо. Костер я перенес на другую сторону от инженера, под гнилую колоду, и привалил мою лесину. Это дало жар, стало как под солнцем, потому что камни держали тепло. Инженера я повернул, чтоб ногу не грело, а он все время просил положить ее удобно. Я скоро понял, это зря. Трогаю тряпки, а он говорит, вот теперь лучше, спокойнее ноге. И пить просил много. Я стал говорить, столько воды нельзя. Мы спали плохо. Утром я собрал палки сварить чаю. Урчила не было с нами, ушел. Я открыл последнюю банку сгущенки и подумал, надо было привязать собаку, мало ли что получится. Сашка совсем просто может не выйти к озеру. Все они ходят по тайге – глаза не смотри. Скалы на другой стороне Тушкема закрыл туман. Он не двигался. Не туман, а вроде белые облака сели на камни. У нас было сыро. Инженер дрожал, согревался у костра, начал двигать руками, однако глаз не раскрывал. – Пожалуйста, переложите мне ногу, Тобогоев! – попросил он. – Вот так. Спасибо. А я, как вчера, совсем ее не перекладывал, только потрогал палку. Мы доели почти весь хлеб, остался сахар да табак. – А если они сегодня не придут? – Куда денутся? – сказал я. – Придут. Давай о другом говорить. – Пожалуй, будет вернее. За жизнь? – Давай, – сказал я. – Чем вы живете? – спросил он. – Ну, вот зиму? – Белку бьем, соболя добываем. А осенью я марала на дудку беру… – Как на дудку? – Дудки у нас деревянные, надо в себя воздух тянуть. Красивая охота! Осени еще нет, а я лягу спать, закрою глаза и слышу, как марал ревет. Он хорошо ревет, ни на что не похоже, вроде поет… Я тоже хорошо реву. – А марала много в вашей тайге? – Медведя мало – марала много. – Он его задирает? – Не так его, как маралят. Маралуха убежит, а мараленок в траве вроде мертвый, хотя медведь тут нюхает. Глазами встретятся, мараленок прыгает от земли, и ему смерть. Медведь и мать бы догнал, но глупый. Маралуха скроется, и медведь за ней не бежит. Глупый. – Ну да, глупый! В цирке их учат на велосипеде, на коньках и даже в хоккей. – Нет, глупый, – повторил я. – У него ума половину от человека, а может, и двадцать пять процентов. – Что? – спросил инженер и засмеялся. Я удивился, что он в таком положении смеется. Какой смех? Еды нет. Солнце придет, и станет жарко, а когда люди придут? Урчил убежал и не показывается. Он не дурак. Сейчас я пойду. – Не уходите, Тобогоев! – закричал инженер. Он смотрел на меня, щурился, глаза сильней раскрывал и снова щурился, хотел лучше увидеть. – Кислицы соберу, – сказал я. – Ты отдыхай маленько. Смородина была зеленая, твердая, сильно кислая. Я сварил полный котелок, растолок камнями сахар в тряпочке и засыпал еду. – В войну плохо ели, – сказал я инженеру. – Домой пришел – голод. Шкуру теленка нашел под крышей, варил два дня, и все ели полдня. – А эта кислица ничего! Мне радость, что он много съел. Стоял полный день, только солнце не появилось, и небо было серое. Потом пылью пошел дождь. Плохо. Я вытащил из-под инженера рюкзак, накрыл больного, ногу ладно накрыл. Инженер молчал, а я думал про его терпенье. Так не все могут. Я бы пропал. – Нет, надо о чем-нибудь говорить, Тобогоев! – сказал он. – Иначе нельзя. Надо говорить, говорить!.. Вы видели речку, которая напротив падает? – Видал. – А камни там правда красные или это мне кажется? – Красные. – Почему? – Видать, руда. – А что значит Кынташ? – Таш – камень. – А кын? – Кровь, – сказал я. – Инженер замолчал, а я подумал, зря такой разговор пошел. – А как будет по-алтайски водка? – спросил он, не знаю зачем. – Кабак аракы. – Вот если б вы взяли с собой кабак аракы, хоть четвертинку! – Нет. Ладно, не взяли. – Почему? – Уже бы выпили, – сказал я. Он снова засмеялся, а мне стало плохо, потому что он может головой заболеть. Когда они придут? Ночь я останусь, а утром надо за народом. Другого не придумаешь, пропадем двое. Правда, надо о чем-нибудь говорить. О простом. Если человеку плохо, надо с ним говорить о простом. – Главное, – сказал что попало я, – куда захотел, туда поехал… Я пожалел, что так сказал. Он снова растянул губы в светлой бороде. Это вчера борода была черная, а утром я помыл ее. – Тобогоев, как будет по-алтайски «Я хочу пить»? – Мен суузак турум. Ты пить хочешь? Принес котелок с водой, он выпил много. Голова у него была горячая и тяжелая, а глаза не смотрели. День кончался. Неизвестно, где сейчас солнце, только стало холодно, и я пошел за дровами. Сварил чай с березовой чагой и положил в котелок весь сахар, У нас был еще маленький кусочек хлеба. – Мен суузак турум, – к месту сказал инженер, и я дял ему чаю. Мне осталась половинка, и я с большой радостью тоже выпил. Хлеб отдам ему перед ночью. Где Урчил? Знаю, что близко, однако не показывается. Умный собака. – Тобогоев, а как по-алтайски «друг»? – Тебе трудно выговорить. Надьы. – Что тут трудного? Нады? – Верно, однако, – не стал поправлять его я. – Можно еще спросить, Тобогоев? Пусть спрашивает про наш язык. Мы будем говорить, а думать не надо. – Как по-вашему «брат»? – Это просто: карындаш. – Карандаш? – Не так. Карындаш! Темнота в ущелье, и надо за дровами, пока видно. От горячих углей уходить плохо. Спина сильно болит, я промочил ее под дождем и не просушил. – Карындаш! – хорошо повторил инженер. Дождь не идет, но и звезд нету. Вертолета не будет. 6 КОТЯ, ТУРИСТ Умора, как я-то попал в эту историю, просто подохнуть можно со смеху. Иными словами, плачу и рыдаю… Еще зимой мы с Бобом решили куда-нибудь дикарями. А куда, расскажите вы мне, можно в наше время податься? – Дед, махнем в Рио! – с тоской собачьей говорил всю весну Боб. – А? Днем Копакабана, креолочки в песочке, вечером кабаре. Звучит, дед? – Мысль, – соглашался я. – Ничего, Боб! Придет наше время. А перед самым летом Боба осенило. – Дед! – толкует он мне по телефону. – У нас тут звон идет насчет Горного Алтая. А? Тайга, горы, медведи, туда-сюда. Звучит, а? Боб, иными словами Борька, работает в каком-то номерном институте. Что эта контора пишет, никто не знает, даже Боб, по-моему. Вокруг всего заведения китайская стена, за которой давятся от злости и грызут с голодухи свои цепи мощные волкодавы. Боб там программистом, какие-то кривые рисует, что ли. Мы с детства вместе. Потом Бобкин папа попробовал его изолировать в суворовском училище, да не вышло. Маман ощетинилась, и Боб снова стал цивильным мальчиком. Пошел, как все люди, в школу и попал в наш класс. Маман у него ничего, душа-женщина, а папа сугубый. Вояка, орденов целый погребок, на Бобкину куртку не помещаются. А в общем все это лажа… – Боба, ты гений! – крикнул я в трубку. – Мы же давно мечтали сбежать от цивилизации. Понимаешь, голый человек на голой земле… – Постой-ка, затормози! – перебил он меня. – А девочек мы там найдем? – Мы? Не найдем? – неуверенно спросил я, хотя знал, как скоро и чисто умеет Боб эти дела обтяпывать, был бы объект-субъект. – Сибирячки, сообража? – Да знаю я эту толстопятую породу! – заныл Боб. – Ну, лады. Выходи на плац, покалякаем. Мы с Бобом живем в одном доме, и он до моего балкона может запросто доплюнуть, если хорошо рассчитает траекторию. После школы я тоже не попал в институт, поступил на курсы иностранных языков. Иными словами, мы с Бобом не только соседи, но и кореши до гробовой доски, как говорят «дурные мальчики» на нашей Можайке. Правда, здесь, в Горном Алтае, я его и себя увидел в другом аспекте, меж нами пролегла трещина громадной величины – иными словами, пропасть, как пишут в романах. Французы вечно ловчат – шерше, мол, ля фам. В нашем случае женщина, конечно, была, но не только в ней дело, будь я проклят! Приехали мы сюда не дикарями, а как честные члены профсоюза – в Бобкином институте горели ясным огнем две турпутевки, и мы на это дело купились. «Сибирь – это хорошо!» – изрек мой папа и снабдил. У Боба тоже было прилично рупий, и потому все начиналось ажурно. Адье, Москва, бонжур, Сибирь! На вокзале маман даже слезу пустила, настолько далеко мы уезжали. Иными словами, в неизвестность… Деревянненькая турбаза стояла на высоком берегу озера. Из него черпали воду и таскали в столовку. По озеру плавали щепки, а рядом, в деревне, весь берег был потоптан копытными животными. – Коровы тоже пить хотят, – успокоил я Боба. Во время обеда этот сноб подозвал официантку. Она была здоровенная, в заляпанном переднике и дышала, как лошадь после заезда с гандикапом. – Богиня, скажите, тарелка немытая? – спросил Боб. – Сами вы немытые! – «Богиня» с ходу взяла в галоп. Боб скис. Да и скиснешь на столовском блюдаже и, кроме того, на безлюдье. Полторы калеки каких-то пенсионеров не в счет. Мне тоже тут было что-то не в дугу. На этой занюханной турбазе надо было загорать еще несколько дней, пока не наберется кодло для поездки по озеру. Вечером мы фланировали вокруг турбазы, и Боб ныл: – Где горы? Это же не горы, а пупыри! Незаметно добрели до поселка лесорубов и у магазина употребили бутылку кислого. – Отличный кальвадос! – приободрился Боб. – Мартини! – подтвердил я. А наутро он сбегал в поселок и еще принес бургундского под железной пробкой. Во время завтрака опять подозвал «богиню» и, понюхивая подгорелую пшенную кашу, спросил: – Что это такое? – А че? – Пахнет! – простонал Боб. – Сами вы пахнете. – Пардон? – спросил я, но «богиня» уже диспарючнулась, как сказали бы французы, иными словами – исчезла. В тот день приехали дикарями какие-то иностранцы с гитарой. У них были мощные рюкзаки и две палатки. Вели они себя буйно, как дома. Орали «Очи черные» на своем языке, твистовали под гитару, читали стихи; парни ржали, как лошади на ипподроме, но все заглушал свинячий визг, потому что были среди них девчонки, прямо скажу, нормальненькие. – Кто такие? – сразу ожил мой Боб, и глаза у него зарыскали. Инструктор базы сказал, что он и сам толком не поймет, откуда эта банда. Будто бы из какого-то малявочного государства – не то из Монако, не то из Андорры. – Кот, – говорит мне Боб. – Ты ведь по-французски мекаешь! – Да ну! – покраснел я. – Ты же знаешь, как я на эти курсы хожу… – А много ли надо? Иными словами, он уговорил меня подсыпаться к одной моначке. – Парле ву франсе? – отчаянно спросил я, ожидая, что она сейчас начнет грассировать и прононсировать, как парижанка, и я утрусь. На мое счастье, моначка что-то радостно запарляла тонким голосом на родном, нефранцузском языке. Боб, который стоял за мной, выступил вперед, приказав мне помолчать в тряпочку. – Совиет! – ткнул он себя пальцем в грудь. Потом изящно и непосредственно прикоснулся к ее свитеру. Она засмеялась, убрала его руку, приложила ладошку к сердцу и завизжала: – Лихтенштейн! – Москва! – Боб опять ткнул себя пальцем в грудь. – Вадуц! – сказала моначка, иными словами, лихтенштейночка, и снова ни с того ни с сего взвизгнула. Боб ни фига не понял, начал что-то показывать ей на пальцах, трогать ее свитер там, где у нее было сердце, но тут подошел какой-то здоровяга в тельняшке из их компании, загородил соотечественницу спиной, что-то залопотал ей по-своему. Я улавливал какие-то полузнакомые слова, но ничего не понял. – Подумаешь! – сказал Боб спине. – Тоже мне, морской волк! Полосатый обернулся, глянул на Боба, как на козявку, и сказал сквозь зубы, но внятно: – Гриль! Лихтенштейночка заикала от смеха, а Боб сделал вид, что берет себя в руки. – Дипломатические осложнения, туда-сюда, – вполголоса сказал он мне. – Не стоит связываться. А что значит «гриль», а? У Боба опять стало такое лицо, будто ему жутко надоело жить. Эти кретины из республики – или как его там? – великого княжества Лихтенштейн так и не пустили нас в свой круг. Переночевали, а утром уплыли на небольшом теплоходишке «Алмаз» по озеру. Но к обеду прибыли томичи. Тоже горластые и тоже с гитарой. У них было пестро от девчат, но мы засекли одну Майку, а когда засекли, нам снова захотелось жить. На ней были спортивные брючки-эластик и тенниска, тоже облегающая места. Да и все остальное звучало нормально, туда-сюда, как выразился Боб. Помада где надо, бровки подщипаны, обратно же прическа «я у мамы дурочка», иными словами – отличный арбатский кадр. Только вот годков ей было далеко не двадцать, как нам, но Боба это вполне устраивало, и у него даже шерсть на загривке поднялась. Мы и поплыли с этими томичами. Полторы калеки пенсионеров инструктор тоже пригласил в наш ковчег в качестве балласта. Подробно описывать сие плавание – скучная материя, хотя от озера этого я немного тронулся. Даже шея болела в первые дни, так усердно я вертел головой по сторонам, все не верил, что в нашей Расеюшке могут быть такие шикарные места. Горы поднялись со средины пути – я извиняюсь! По ним белые облака туда-сюда. Лепота! А если сядешь с утра за весла, то в обед наш самодельный суп – не суп, а натуральное амбре! У Боба с Майкой дело пошло, как на шариках-подшипниках, даже быстрей. Во время привалов они в кусты все шмыгали, словно последние подонки. Я истекал слюной, а томским ребятам все это было до лампочки. Вообще кодло собралось еще то! Ребята рыбешкой нас не обижали, каждое утро с ревом лезли в воду, хотя водичка в этом озере – бр-р-р! Майка тоже ныряла, из-за нее и Боб озверел, стал кунаться. А раз я совершенно случайно увидел эту паскудную парочку наедине. Они ушли от нас за скалы и плюхались себе в тихой бухточке безо всего, и будто бы никого не было на всей земле, кроме этого прыщавого Адама и этой трясогузки Евы. Понятно, я зверски завидовал Бобу. В лодке и на привалах даже старался не смотреть на него, чтоб он не заметил, как у меня из глаз сочится черная зависть. Но скоро вся их гнусная идиллия полетела к чертовой бабушке и еще дальше. На реке Чулышмане, в алтайской деревне Балыкче Боб почему-то нализался. Под шафе избил свою кису, а когда томские ребята кинулись его месить, Майка стала плакать, хватать их за волосы, кричать, что Борис пошутил и она с ним отлично разберется сама. Они плюнули, пошли к нашей пироге. Боб, который был еще под хорошим киром, смазал Майку по ее помаде, по ресничкам, а она закрывается, хлюпает носиком – и только. Полторы калеки пенсионеров не хотели Боба пускать в бригантину, но инструктор сказал, что надо все же человека доставить куда-нибудь к причальному месту, чтоб он на «Алмазе» мог попасть в поселок, а потом о его поведении сообщат по путевке на место работы. Иными словами, Боба списали на берег в Беле, и мне пришлось, потому что я не какой-нибудь там гриль. На прощанье Боб пообещал Майке задавить ее при первой возможности. Но вся эта паршивая достоевщина, эти непонятные штучки-дрючки, иными словами – приключения, только начинались. Беле – нормальная алтайская дыра; мы тут побывали, когда плыли на Чулышман. Напротив – потрясная гора Алтын-Ту, а на длинной террасе высоко над озером стоят три халупы да метеопост с мачтами и ведром на длинном шесте. Крохотные алтайчата бегают, подбирая изумрудные сопли, взрослых не видно, если не считать каменной бабы, которая тут стоит, наверно, с времен Чингисхана и пялит слепые глаза на горы. В тот раз я сфотографировал эту туземную экзотику – бабу и маленьких азиатов, а больше в Беле делать нечего. Мы сидели на рюкзаках у озера и ждали «Алмаза». Алтын-Ту куталась в тучи, с озера дуло, а на душе было гадко. Боб отворачивался от меня и сопел. – Может, ты мне объяснишь, дед, – спросил я. – Ну, скажи, что произошло? Боб молчал. – Слушай, Боб, бледнолицый брат мой! Почему ты не отвечаешь? Ни звука. И глаз его не было видно – черные, а ля Гарри Трумэн, зеркалки этого пижона отражали беспокойную воду озера и Алтын-Ту за ней. Я посидел еще, пошуровал кедами по гальке и решил сбродить наверх: там слышалось какое-то движение, кто-то орал. Через несколько шагов я обернулся – мне показалось, что Боб плачет. – Что ты, Боба! Брось! Что с тобой? Он молчал, как мертвец. – Черт с тобой! – сказал я. На террасу вела крутая и длинная тропа, я даже задохся, потому что от злости почти бежал на гору. И тут, наверху, все получилось очень даже неожиданно. Я увидел вертолет и возле него каких-то типов. Они подбежали, окружили меня. – Здравствуйте! – с ходу сказал длинный дядя, поросший волосом, только нос да губы торчали. – Вы кто такой? – Котя, – растерялся я. – Что за чушь! Какой Котя? Вообще вы как здесь? Будто я ему должен говорить, как я тут оказался! Все это мне было не в жилу. – Вы кто такой, спрашиваю! Если б я сам знал, кто я такой! Эта дылда с паклей на роже, эта шарагуля даже не подозревала, какой она мне вопрос подкинула. – Турист, – сказал я. – А что? – Собирайтесь! Пойдете с нами. – Куда? – Человека спасать. – Какого человека? – спросил я, разглядывая этого Волосатика и белого, кудрявого, как ангел небесный, парня и еще какую-то жуткую черную рожу с подбитыми глазами. – В чем дело? – Погибает наш товарищ. Тут недалеко, за день-два обернемся. Подошел на полусогнутых седой старец в изящном костюме и при галстуке, взял меня мягкими руками за плечи и оглядел всего своими бесцветными моргалками. Что вообще за чертовщина? Что за маскарад? – Молодой человек! – сказал старец. – Я здешний врач. А вы молодой человек! Я вас прошу, как сына. Пойдите с ними. Это очень, очень надо! Неотложно надо. В опасности жизнь другого молодого человека… – У меня там кореш, – кивнул я вниз, все сразу поняв. – Что вы говорите? – обрадовался волосатый. – Бежим! И он потянул меня на тропу. Я торопился за ним и лихорадочно думал о том, что у меня ничего и никогда не было в жизни, что я изнутри съем себя, если упущу сейчас случай проверить, кто я такой, что все на свете – мутота, кроме этого, и что теперь у меня будет… Мы добежали до Боба. Он все так же сидел на рюкзаке и держал лицо в ладонях. – Идем в горы, Боб! – закричал я. – Там несчастный случай. Боб, слышь? Боб молчал и не смотрел на нас. – Извините, – сказал Волосатик. – Вы не могли бы нам помочь? – Бобка! – рассвирепел я. – Мужчина ты или нет? – Нам очень некогда, – заторопил его Волосатик. – Решайте скорей. А этот пижон будто не слышал. – Ты подонок, Боб! – Голос у меня получился тон кий, противный. – Ублюдок ты! Гриль! Конечно, я не знал, что такое гриль, но лихтенштейнец в тельняшке с таким презрением произнес тогда это слово, что даже Боб обиделся, и сейчас я про это вдруг вспомнил, хотя все было бесполезно: мы пошли наверх, а Боб остался на берегу с двумя рюкзаками, да еще я камеру ему кинул. Когда мы выцарапались на площадку, пошел мелкий дождь. Вокруг вертолета ходил, задрав кверху острый нос, некто в кожаной куртке с молниями. На дождь ноль внимания, только на небо смотрел. Так же, не замечая дождя, шаркал нам навстречу тот изящный дед. – А где же ваш друг? – спросил он у меня. – Это не друг, а дерьмо. – Волосатик плюнул под ноги. – Давайте собираться. И вот мы дуем в горы. С места-то я похилял спортивной ходьбой, и сзади смотрели, как я выворачиваю суставы, но скоро тропа пошла в крутом склоне высоко над озером, и запросто можно было загреметь вниз. Я уже добрал, что нам надо вытащить на руках молодой и талантливый полутруп из какого-то ущелья, но нас мало, мы сгорим на этом деле, и поэтому не сразу рванули в горы, а подались кружным путем, чтоб перехватить спасателей-придурков, которые шныряют там уже не один день, хотя парень загулял со скалы совсем в другом месте. Нас трое. Впереди, как машина, шагает Волосатик на своих ходулях. У него за спиной приличный рюкзак. Я знаю, что в нем продукты, и облизываюсь – что-то рубать захотелось, от переживаний, кубыть? Волосатик, как я усек, – начальник того хмыря, который отдает концы в горах. Он сегодня вылез вертолетом из тайги, но народ тут весь разбрелся на поиски, и экспедиция и туземцы. Красиво топает Волосатик, слегка махая. Мустанг! Ему хорошо в сапогах, а мои кеды старые и уже с отверстиями. Тропа грязная, сырая, и кеды фонтанируют. У меня из рюкзака торчит ручка топора, мы реквизировали у кухарки ее орудие. А изящный старикан положил мне стандартную аптечку, обернув ее какой-то желтой медицинской клеенкой, чтоб не промокло. Еще в моем рюкзаке конская попона. Из этого куска толстого брезента мы будем делать носилки. Когда окончательно собрались, кудрявый парень сбегал куда-то и притащил моток тонкой веревки. Сказал, что с этой штукой не пропадешь, козерога можно достать из совсем тухлого места. Нет, ты можешь гулять в песочек, Боба, а я это место засек железно и на будущий год махну сюда, чтоб сходить на козерогов… За мной шлепает Страшила – жгучий брюнет по виду и типичный тупица по сути. Светит из-под грязной щетины синими фонарями. Кто это его разукрасил? У Страшилы нет груза, но и так ему идти тяжело, поэтому он облегчается всю дорогу – мешками вываливает нехорошие слова, а они – трах-тарарах! – с грохотом осыпаются вниз, к озеру. Мы с ним не разговариваем. Только в самом начале пути он догнал меня, потер в пальцах полу моей куртки и спросил: – Заграничная? – Ширпотреб, – ответил я и заспешил, чтоб поговорить с Волосатиком. Я догонял его всю дорогу, а он шагал, как робот, и расстояние между нами не сократилось, пока я не побежал. Волосатик обернулся: – Бежать тут нельзя, Котя. Давайте-ка Жамина подождем… – Скажите, – заторопился я, – а почему другие мужчины не пошли с нами? – Вы имеете в виду своего приятеля? – Да нет. Других. – Доктор? Из него же на ходу песок сыплется. – А кучерявый? – Радист? Нужен нам для связи. Можно вас на «ты»? Я кивнул. – А еще один – вертолетчик, он от машины не может отойти. Вот и все наши с тобой кадры, Котя. Между прочим, что такое «Котя»? От слова «кот»? – Нет. От слова «Константин», – сказал я. – Ощетинились? – Да, потопали. Волосатик сказал «наши с тобой». Это отлично сказано! И главное – впереди неизвестность, все нормально, а ты, Боб, гуляй в песочек и ешь свою какаву. Ни фига! Дождик иссяк, тропа пошла вниз, и надо было притормаживать. Под ногами текла вода. Еще сильнее фонтанировали мои кеды, а еще ажурнее ругался сзади Страшила – иными словами, Жамин. Тропа совсем сбежала с горы, когда я поскользнулся и упал. Вывозил свои техасы, сзади у меня все промокло. Где ты, моя маман? Но ни фига, назло ощетинимся. Здесь был большой залив. У берега, в лесочке, стоял домишко, а перед ним огородишко. Лесник, что ли? Встретилась толстая тетка пейзанского вида; она несла в ведре молоко. Мы поздоровались с ней, она осмотрела нас всех и спросила: – Далеко волокетесь? – Человек пропадает в тайге, – сказал Волосатик. – Да погодите, погодите. – Пейзанка снова обследовала нас глазами. – Молочка бы попили. – Дело, – не стал отказываться Волосатик и затормозил. – Спасибо. – А мой-то, мой! – закудахтала пейзанка. – Люди добрые человека спасают, а он соль потащил в тайгу. Места-то он тут все знает, провел бы вас ладом, а соль эта, может, и без толку пролежит либо дождями ее размоет. Добра сколько унес, этой соли мне бы хватило до смерти капусту солить! – Какую соль? – спросил Волосатик. – Что вы такое говорите? – Да для маралов. Он же у меня чумной. Задумал маралов подкармливать. Три пуда соли привез из поселка и полез с ней на гольцы… Волосатик понял, что все это какая-то мура, и перестал слушать. Достал кружку из кармана моего рюкзака, зачерпнул молока, выпил, еще зачерпнул и еще выпил, а потом, пока я пробовал угощенье, он разузнал у бабы, что на заливе никого сейчас нет, только вот за баней остановился на днях какой-то отпускник. – Один? – ожил Волосатик. – Совсем нелюдим. Приплыл на «Алмазе». Позычил литовку, настебал травы на балаган и самодурит себе хариуса с берега. Хороший человек, однако, никому не мешает… Волосатик сказал пейзанке, чтоб послала людей, которые вылезут из тайги, совсем в другое место, а в какое, я не понял, потому что он говорил всякие уродские туземные слова – Тушташ, Тобогай, Кынкем. Но пейзанка оказалась с мозгой, закивала, заквохтала, взялась шлепать себя по мощным бедрам, но нам некогда было любоваться на эту потрясную картину. Волосатик, как я понял, умеет проворачивать дела. Нас уже четверо. Теперь караван замыкает этот самый отпускник-отшельник. Парень медленный какой-то, вещь в себе, и смеется по-особенному, молча обнажая длинные зубы и десны, будто делает скучную работу. Волосатик ему даже одуматься не дал, стал сматывать снасти, сказал, что так надо. Парень забрал у меня рюкзак, заложил в него кирпич хлеба, две банки с курячьей тушенкой, кулек с конфетами. – Вы понесете? – спросил. – Несите, хрен с ним, – сказал я, подделываясь под здешний стиль. – Чем тяжелее рюкзак, тем более хрен с ним, да? – Он обнажил свои бивни и начал влезать в лямки. – Да нет, вы меня не так поняли, – возразил я и на правах спасателя со стажем решил взять в разговоре инициативу. – Вы кто? – Вообще? – Он засмеялся опять по-своему. – Конструктор. – Конструктор чего? – А что? – Понятно, – догадался я, потому что знаю их, этих. Сидит рядом в метро, «Вечерку» мусолит, и никто даже не рюхнется, что этот тип нажимает главную кнопку. – Ясно. – Что вам ясно? – спросил Конструктор. – Фьють? – Пальцем я завил в воздухе спираль. – Что значит «фьють»? – Ракетчик? – Не совсем. Он опять показал зубы, и тут Волосатик нас заторопил. Сказал, что надо побыстрей к какому-то Стану, там должны быть люди, а меня и Конструктора он оттуда отправит назад – догуливать наши отпуска. Ну уж дудки! Меня-то он не отправит, потому что живешь, живешь – и вдруг иногда покажется, что сейчас кто-то неизвестный припечатает по роже. А тут – «отправлю»! Я ему отправлю!.. Тропа вдоль реки была мокрой и холодной. Мы окончательно пропитались водой. Мои техасы потяжелели, перестали держаться, сползали, я на ходу подтягивал их все время, и Конструктор сзади щерился. Ему-то хорошо в новеньких сапогах, а тут кеды хлябают и хлюпают. – Сель, – повернулся к нам Волосатик. – Черт возьми! – столбом встал Конструктор. Началась дорога, какую я, наверно, никогда больше не увижу, а расскажу в Москве – назовут трепачом, и правильно сделают, потому что таких дорог не бывает. Она вся из дерева, шириной метров тридцать да толщиной метра два. Ну, было тут шороху! Лес приперло сюда, как объяснил Волосатик, месяц назад, и эта работенка закончилась в полчаса. По склонам речки Баяс мощный ливень смыл камень и землю, выдрал лес и приволок сюда. Вот поглядеть бы! А когда вода пошла на убыль, грязь унесло, и здоровенные эти деревяги уложило ровненько, будто спички в коробке. Нет, Алтай забавнее, чем я думал! С деревянной дороги мы начали корячиться в гору, и все круче, круче, так что Жамин – иными словами, Страшила, – вдруг сел на траву и заныл: – Идите, идите, я посижу. Ноги, чтоб их – трах – тарарах! – не тащат. Я догоню… Волосатик вернулся к нему, поднял за подмышки. – Нет уж, топай, милый, топай! На тебе висит. Дождь кончился, мы около часу шли под солнцем и медленно просыхали. Пора бы к столу! Я хотел уже заскулить, но наша бригада выбралась к Стану – каменному козырьку над рекой Кыгой, под который местные таежники залезают от дождя. Увидели следы большой ночевки – угли, обгорелые палки, сухое сено, пустые консервные банки. Но людей не было. Поорали со скалы во все стороны и услышали только свои далекие голоса. Все пропало – бобик сдох. Иными словами, прокол. Волосатик был не в духе. Он заставил всех разуться, чтоб ноги отдохнули, потом быстро сварил котелок густого супу, нарезал сухой колбасы. Все это в момент, одной левой. Страшила жрал жадно, как животное, давился. Волосатик дал ему кусок ливерной колбасы, и она в секунду оказалась тама. Даже конфеты Жамин ел безо всякого выражения на лице. Сидел и жевал, сидел и жевал. Оголодал, видно, парень. Вообще-то я тоже еще чего-нибудь бы употребил, но мне Волосатик ни фига не отвалил. Ноги у меня ныли. Хорошо, хоть посидеть мы решили на Стане. – Ты первый раз в тайге, Константин? – спросил Волосатик, и я обрадовался, что меня так назвали. – Белку еще не пробовал? – А что, это здесь входит в мои обязанности? – Да нет, просто так. Ты не злись. – Он почему-то задумался. – Белка вообще-то съедобная вещь. Вроде курятины. – Не, я жаб обожяю, – сказал я. – Тьфу! – плюнул Страшила. – Жяреных, – уточнил я. – Пижон ты, Константин! – засмеялся Волосатик и посмотрел из своих волос на Конструктора. – А как вас, товарищ, зовут? – Андрей Крыленко. Андрей Петрович. – А я Симагин, начальник лесоустроительной партии. Попали вы в переплет… – Немного странно. Но ничего, иду. – Спасибо. Но как же вы непроверенные сапоги обули на такое дело? – А вы что? – Конструктор показал свои зубы. – Заметили? – Новый сапог – хуже нет. А до Кынташа еще далеко… Волосатик забыл, конечно, что хотел нас отсюда вернуть. Он достал из кармана карту, прочертил спичкой загогулину, показал нам, только я даже не захотел смотреть – все равно придется идти дальше. – Ясно, – сказал Конструктор. – Ближе к месту по хорде, а мы идем по дуге. Но где же ваши люди? – Где-то лазят. Ждать их нельзя, потеряем время. Сейчас мы прямо вверх, на гольцы. – А что это за тип? – подал я голос. – Ну, который там лежит? – Мой таксатор. Парень что надо! Он там уже почти неделю… – Тогда пошли! – Конструктор поднялся. – В темпе. Волосатик написал какую-то записку, оставил в камнях у костра, потом дал Страшиле новые носки, а в сапог Конструктора залез с ножом и что-то там резанул. Только на меня не обратил внимания, будто у меня все в порядке с кедами. Хоть бы посочувствовал, капитан! Но скоро я понял, что Волосатик прав – у меня была лучшая обувь. Полезли в скалы, и мне прыгалось легко, а резина хорошо держала ногу на камнях. Нет, этот Волосатик соображает! И шагает, как верблюд одногорбый. Полезли в щели – там росли кусты и было не так круто, как на уступах. Сначала я робко брался за эти жалкие веточки, но они, оказывается, железно сидели в камнях, и на них можно было надеяться. Стало жарко, пить жутко хотелось, но Волосатик еще внизу сказал, что о воде надо пока забыть, а лучше думать о том, как бы скорей до Кыги. До какой Кыги? Мы ведь от Кыги поднимаемся? Но я ничего не стал спрашивать, не хотел выглядеть городской соплей. В разломы лезли поодиночке, чтоб не поймать на кумпол случайного камня. Пот ел глаза, я просто обливался весь, как никогда в жизни не обливался, и неинтересно было смотреть никуда – ни на ту сторону долины, ни вниз, где осталась прохладная Кыга, ни вверх, куда уходила гора. Интересно было мечтать о том, чтоб все это кончилось поскорей, думать о полметре колбасы или куске свинокопченостей. И еще приятно было беседовать с Бобом о какой-нибудь бодяге, вроде этой: «Нет, милый Боб, это не пупыри, а горы, они даже тебя сделали бы сейчас похожим на меня и всех нас, и это бы надо тебе, Боба». Когда я настигал Жамина, он оглядывался, жрал меня своими черными буркалами, говорил слова, из которых можно привести какие-то невнятные пробормоты: «Куда бегут? Куда бегут? Сами не знают, куда бегут». Очумел он, что ли? Но вообще Страшила лез отлично, на втором или даже на третьем дыхании, и я тянул за ним, потому что он сам тянул за Волосатиком, который выбирал щели. На хребет мы вылезли хорошие. Я увидел, что Жамин лежит у ног Волосатика, а тот стряхивает с себя рюкзак и достает из него – милая ты моя маман! – флягу. Мы уселись рядышком, выпили по глотку, Страшила, конечно, два; и сразу стало скучно, потому что вода была вся. – Жаб, говоришь? – подмигнул мне Волосатик и прикурил от спички. – Жареных? – Ага! – Я опять обрадовался, что он обратился ко мне: – Это еще что! Мой кореш Боб шинель съел. – Как это шинель? – отодвинулся от меня Волосатик. – В суворовском. Они там какую-то тайную клятву дали, под это дело разрезали шинель на восемьсот кусочков и всем училищем употребили. – Врешь! – восхитился Волосатик. – Чтоб мне никогда в жизни не видать родной Можяйки! – поклялся я. – Спорим на «американку»! Волосатик захохотал, и Конструктор тоже показал свои клыки – больше, наверно, оттого, что разобрало Волосатика. А тот запрокинулся назад, выставил бороду и, шевеля мохнатым кадыком, ржал, как сто жеребцов, стонал: – Ох, пижоны! Ну и пижоны!.. А Страшила смотрел на нас глазами шизика и ничего не понимал. Ясно, что он медленно, но верно балдел. Не глядя на нас, он вдруг встал и пошел, пошел так, что нам пришлось его догонять. Мне эта скорость была совсем ни к чему, потому что я зачем-то отобрал рюкзак у Конструктора. Пока мы сюда корячились, рюкзак потяжелел, и я сдуру сыграл в благородство. Твиствовать могу часа два без перерыва, а вот пешком долго не выдерживаю. Пить еще сильнее захотелось – от того несчастного глотка, и от этого проклятого рюкзака, и от солнца, которое тут хоть и пряталось иногда на отдых в жидкие тучки, все же было помощнее крымского, где мы с Бобом пляжничали в прошлом году. Волосатик с Конструктором долго шли сзади и о чем-то говорили. А мне уже все на свете обрыдло. Но когда Волосатик обогнал меня, то даже не оглянулся, потянул коренником. Мы шли напрямик – по камням, траве и цапучим зарослям. Не понимаю, как я дожил до вечера. И еще меньше понимаю, на чем держался Страшила. Это сгоряча он понес по хребту, а потом всю дорогу садился, говорил, что ноги не тащат, но Волосатик поднимал его и подталкивал в спину. Конструктор, которому я всучил на последнем привале рюкзак, брел сзади, и я заметил, что он хромает, не стесняясь. Тухлые наши дела. Темнело, когда мы решили заночевать у маленького болотца среди гор. Легли в сырую траву и пили, пока не забулькало в животах. Посидели на сухом, а Страшила даже лег и сразу уснул. Волосатик тоже лежал и был сумной, я его таким еще не видел. Кому-то надо было первому подняться за дровами, только не мне – у меня отнялись руки-ноги и от всего отключилась голова. Один Конструктор шевелился – осматривал и мыл свои белые ступни в болоте, кряхтел, стирал портянку. – Значит, шинель съели? – спросил он, заметив, что я за ним наблюдаю одним глазом. – И ни один не подавился? – Клянусь Юпитером, – тоскливо сказал я. – Так прямо и съели? – поднял голову Волосатик, хотя было видно, что ему плевать на эту трепотню. – Без гарнира? Мое лицо загорелось, и хорошо, что уже стемнело. Ну что я за человек, если вечно делаю не то? Зачем я про это рассказал? Неужели я тоже этот, как его?.. Гриль? 7 АНДРЕЙ КРЫЛЕНКО, КОНСТРУКТОР Так и не смог я здесь избавиться от своего душевного недомогания; завод вошел в меня, как тяжелая неизлечимая болезнь, и совет секретаря горкома: отбросить все, забыть на время – невыполним. Секретарь этот – полная неожиданность для меня. Раньше я был уверен, что партийные руководители, по крайней мере его ранга, уже не могут так – многочисленные обязанности, очень далекие от задач исследования внутреннего мира обыкновенных людей, уже не позволяют им заниматься тем, что в принципе должно составлять суть их работы. Я вошел в его просторный кабинет, испытывая возмущение и бессилие, горечь и обиду. К концу нашего долгого разговора Смирнов узнал, что я уже три года не отдыхал, начал хвалить это озеро, куда он сам ездит почти каждый год. Он даже сказал, что лучшего места в Сибири нет. Озеро и на самом деле великолепное. Тут я впервые в жизни увидел корону из трех радуг и поразился тому, что на нашей прокопченной земле еще есть такие райские краски. Однажды утром в прозрачной светлой воде заколыхалось отраженное облако, за ним, вроде бы в озерной глубине, едва угадывалось солнце, и, не знаю уж по какой причине, этот белый отсвет вдруг взялся цвести, словно слили со скалы бензин. А здешний воздух наделен особыми оптическими свойствами – иногда кажется, что до изумрудных лесов на том берегу можно добросить блесну. Лесной инженер Симагин, с которым мы сейчас идем в горы, сказал, что надо поберечь эту благодать для людей, ее ничего не стоит за несколько лет переварить на целлюлозу. Я с ходу принял этого человека, и он меня тоже, что чрезвычайно удивительно – я не умею легко сходиться с людьми. Но в наши дни инженер, мне кажется, прекрасно поймет инженера, независимо от того, в каких отраслях они работают, и между нами такое понимание установилось, хотя формально мы познакомились несколько позже, в горах. На озере Симагин ошарашил меня своей бесцеремонностью. Забрал и начал сматывать мою снасть, коротко бросив, что где-то на гольцах погибает человек. Я понял, что тут нельзя рассусоливать. Молча отнес свое барахлишко в дом лесника, переобулся и пошел с ними. Только потом уж, в долине Кыги, Симагин поблагодарил меня, а я снова промолчал, шел, всем существом ощущая новизну и тревожность обстановки. Симагин добавил, что человек уже не первый день без медицинской помощи и надо срочно тащить его из ущелья наверх, куда может приземлиться вертолет. Компания мы не совсем надежная. Один из нас едва держится на ногах, почти исчерпал запас прочности, другой вообще жидковат для такого дела. Я оказался тоже с брачком, через несколько километров начал прихрамывать, но заверил Симагина, что со мной пустяки и его опасения напрасны – идти могу, только вот сапог немного жмет. Симагин заставил меня сесть и маячил надо мной, пока я перематывал портянку. – Хуже, когда тут жмет. – Он ткнул пальцем в лоб. Так мы установили первый контакт и долго шли вдоль реки по сырой узкой тропе. Лил дождь, и было не до разговоров. Как случилось это несчастье? Наверняка не одна причина, так всегда бывает. Осенью у нас на заводе тоже произошел случай, который как-то пронзил меня и заставил мучительно думать обо всем, что было вокруг. В цехе трансмиссий работал интересный парень Володя Берсенев. Мы познакомились в заводской библиотеке. Он закончил десятилетку, отслужил в армии и полтора года назад поступил к нам. Мне понравилось, что этот рабочий с обычной для ребят нашего завода биографией много, куда больше меня, читает и его суждения о книгах очень самостоятельны. Несмотря на молодость, Володя успел выработать свою концепцию жизни, которая привлекла меня завидной чистотой и оптимизмом. Иногда я без причины подходил к его станку, заговаривал без повода, а Володя улыбался и, кажется, понимал, что я, сам не зная почему, нуждаюсь в нем. И вот Володе Берсеневу оторвало руку. Левую, вместе с часами. Когда я прибежал в цех, Володи уже там не было, его увели в медпункт. Окровавленная рука лежала на полу, и ее фотографировали со вспышкой. Мне почему-то запомнилось, что часы показывали правильное время. У станка собралось много рабочих. Там же был директор завода Сидоров, председатель завкома, инженер по технике безопасности. Мастер держал в руках заготовку и что-то объяснял директору, жалобно восклицая: «Николай Михайлович! Николай Михайлович!» Хмурый директор перекладывал из одной руки в другую желтые перчатки, потом засунул их в карман пальто и, как бы вспомнив что-то, закричал: – Разойдитесь, разойдитесь! Идите по местам и работайте. Я кинулся в медпункт, но Володю уже увезла «Скорая помощь». Остаток того дня я прожил в какой-то прострации. Кто был виноват в несчастье? Теми днями, в конце октября, выпал снег, а в цехах и отделах завода было холоднее, чем на улице. Наши девчата-чертежницы сидели в пальто. Несколько дней мы почти ничего не делали, так как закоченевшие руки не держали карандашей и рейсфедеров. Но в цехах-то не будешь жаться к электрической печке, даже в такой холод надо было работать – в конце месяца каждый час дорог. Если хоть один токарь не выполнит задания, сорвется следующая операция, встанут зуборезчики, сборщики, и машину без коробки придется стаскивать с конвейера краном. Да и рабочий заинтересован – в третьей декаде самая высокая выработка, а тут праздник на носу. И Володя надел рукавицы. Это у нас категорически запрещено. Налицо было грубое нарушение элементарного правила, и эти рваные, замасленные рукавицы вообще-то правильно фигурировали в акте о несчастном случае. Но один ли Володя был виноват? И без рукавиц это могло произойти, как потом объяснил мне инженер по технике безопасности. Володя после выверки детали хотел получше зажать ее в патроне, но ключ вырвался из гнезда, и парень поскользнулся на обледенелой деревянной подставке. Падая, он задел рукоятку включения шпинделя, а левая рука попала в «окно» детали… И разве не были виноваты в случившемся этот самый инженер по технике безопасности, начальник отдела капитального строительства, сам директор? Вместо того чтобы устранить недоделки в цехах, где было установлено оборудование и уже работали люди, директор хотел до конца года побольше «освоить средств». Дополнительные деньги легче выбить, если есть крыша над головой, и не полностью застекленный, без отопления цех трансмиссий отошел на задний план, потому что везде числился сданным в эксплуатацию. И с доделками никто не спешил – три мальчишки-сантехника потихоньку ковырялись у труб, а стекла не было на складе. Правда, через три дня после несчастья не только в отделах, но и в самом холодном заготовительном цехе было как в бане. Вот так. Я же, думая в те дни о Володе Берсеневе, пришел к выводу, что его вина – лишь следствие безобразного отношения к своим прямым обязанностям всех остальных виновников несчастья. А план октября завод все же выполнил. Пришла телеграмма от министра. Наш коллектив завоевал второе место во Всесоюзном соревновании и получил денежную премию. Это событие обставлялось торжественно. Вручались знамена, играл оркестр, произносились речи. Правильно, люди здорово работали, «несмотря на тяжелые условия материального обеспечения», как у нас повелось говорить с трибуны. Народ заслужил премию, это ясно. Только после собрания меня еще мучительнее стали донимать «вопросы». До конца года на заводе произошло два других несчастья. Первый случай был в конце ноября, второй – перед Новым годом. К тому времени я уже убедился, что наши «штурмовые дни» измеряются не только реальными трудовыми успехами, но и человеческими драмами, общим снижением качества работы, уменьшением «ходимости» узлов машины, в том числе моих, в которых был материализован мой труд и труд моего соседа по чертежной доске – Игоря Никифорова. В январе на заводском партийном собрании обсуждались общие итоги работы и планы на следующий, 1964 год. Опять перечислялись премии и грамоты, а я сидел, думая, может быть, чересчур категорично о том, что эти поощрения, эта поддержка энтузиазма людей как бы затушевывают более важное, служат прикрытием бездеятельности некоторых. Когда наступила заминка и никто не брал слова, я вдруг вскочил с места и пошел на сцену. Волновался, путался, но сказал, что хотел. Не помню, как ушел с трибуны. Помню одно – сильно хлопали. Потом выступил рабочий с главного конвейера. Он говорил о липовых обязательствах, о том, что никакого соревнования у нас нет – за последние десять дней каждого месяца выполняется шестьдесят процентов задания, что план доделываем даже второго числа следующего месяца, что в эти дни к ним на конвейер посылают слесарей и испытателей из экспериментального цеха. Потом кто-то из мастеров сказал о причинах штурмовщины, о пьянках и пьяницах. В зале еще тянулись руки, но слово взял директор. Сидоров констатировал, что на собрании, дескать, шел серьезный и деловой разговор и ему очень приятны заботы коммунистов о положении на заводе, что партком и дирекция примут все меры… – Особо я хочу остановиться на выступлении коммуниста э-э-э… (тут ему шепнули из президиума) э-э… коммуниста Крыленко. Конечно, он человек молодой, горячий и несколько поспешил, с кондачка называя причины и виновников несчастных случаев. Но в его выступлении было много толкового. Да! Стыд и позор нам, коммунистам, не обеспечившим подготовку завода к серийному выпуску машины! Мы плохо поворачивались летом, не использовали также теплых осенних месяцев. В результате нам несколько дней пришлось работать в неотапливаемых помещениях. Да, потери от брака у нас возросли, и, вероятно, рекламаций на последние партии машин будет много. И как могли мы, коммунисты нашего, правильно тут кто-то говорил, славного предприятия… И так далее и тому подобное… Выходило, что мы виноваты, все виноваты. Мы виноватые том, что строители были переброшены на другой блок зданий и работа началась в недостроенных цехах; мы виноваты в том, что на заводе нет элементарной дисциплины и даже шоферы садятся за баранку пьяными, а один из них умудрился платформой своей машины разбить полвагона оконного стекла; мы виноваты в том, что в день получки вторая смена проходит в полупустых цехах; мы виноваты в том, что в последнюю декаду главный конвейер и все сборочные участки работают круглосуточно, в три смены, хотя завод давно перешел на пятидневную рабочую неделю. Да, и мы виноваты, все виноваты, но ведь в очень разной степени! И в чем конкретно виноват лично я? Или мой товарищ Игорь Никифоров? Когда конструировали эту машину, Игорь, как и другие, до позднего вечера сидел у доски, потом не вылазил из экспериментального цеха, собирая со слесарями опытные образцы. И почему мы все виноваты в том, что начальник ОТК под давлением директора дал указание ставить на машину гидротрансмиссии с бракованными дисками фрикционов и эти коробки вышли из строя уже во время заводских испытаний? Ведь если допустить, что все мы виноваты, само собой напрашивается другое логическое допущение – мы все должны отвечать и расплачиваться за ошибки и провалы завода. В отделе меня никто не осудил за выступление на партийном собрании, даже одобрили, хотя некоторые начали смотреть в мою сторону с каким-то удивлением, как на чудака. Что, интересно, скажет Игорь? – Слушай, – сказал Игорь. – Это давно всем известно. У директора одна цель и одна возможность удержаться на том служебном уровне, которого он достиг, – дать любой ценой план. Здоровье или тем более самочувствие людей, не говоря уже о долговечности оборудования или о качестве машин, – все это для него второстепенное. И ты тут ни-че-го не сделаешь! Поднимать такие вопросы на уровне конструктора – бессмыслица, напрасный перевод нервов. Для нас с тобой тут проблем нет, пойми… – Вон ты как! – Да. Садись-ка ты за доску. Наш узел можно сделать лучше, сам говорил. И тебе будет удовлетворение, и государству выгодно. Учти: быть на своем месте не так просто, но очень нужно… Он умненький, наш Игорь, рассудительный, только я не думал, что до такой степени. Нет, это не Виль Степанов! С Вилем мы после института попали на один завод в Энск. Он был такой же рассудительный, но, кроме того, имел еще запал. Мы с ним поднялись там против Главного, неврастеника и карьериста, но противника нашего перевели на повышение в совнархоз, а мне пришлось уезжать сюда, где все оказалось еще хуже. Итак, простая, даже банальная истина – «идейно» и с умом делать свое дело. В этом, выходит, смысл философии всей? Минутку! Я ведь делаю свое дело, но почему для меня проблемы там, где Игорю и другим все ясно? От нехватки у меня жизненного опыта? Или от их равнодушия? Конечно, они трезвее меня смотрят на все, и мне тут не хватает Виля Степанова, близкого друга-единомышленника, с которым можно говорить и дела делать. Только он с неба не свалится… – Это ваш друг попал в беду? – спросил я Симагина, как мне показалось, в удобный момент – мы остановились, чтобы подождать Котю, который незаметно отстал, плелся сзади с напряженным и жалким лицом. Симагин надулся и как-то неохотно ответил: – Не то чтобы друг, но… Было непонятно, что значит это «но», и разговор на том кончился, потому что Симагин пошел дальше, а я потянул за ним, думая все о том же. …С утра у нас в отделе начинается полулегальная «десятиминутка» – информация о событиях во Вьетнаме, просмотр заводской многотиражки. Потом ребята немного поговорят о заводских, футбольно-хоккейных, литературных новостях – и за работу. Во время этого традиционного вступления в рабочий день я молчу – современному спорту пока не предан, живу другим, ничего модного не читаю. Между теперешними писателями и мной есть какой-то непреодолимый психологический барьер. Они пишут не о том, что волнует меня, изображают сегодняшнего человека, особенно «мужичка», не так и не таким, каким я его вижу, а из молодых многие озабочены, мне кажется, прежде всего тем, как к ним отнесется критика. Зато целый мир открылся мне в документальной литературе и мемуарах. Объективность этой литературы для меня пока проблематична, но из нее я беру факты, они дают простор мыслям. Началось это с Джона Рида. Раньше он как-то прошел мимо меня, и только тут, на заводе, я взял его в библиотеке по рекомендации того самого Володи Берсенева, с которым случилась беда. Книга, описывающая десять дней, декаду, когда-то потрясшую мир, спустя почти полстолетия будто открыла мне глаза на историю. Я окончил школу, институт, проработал четыре года, но только из этой книги и умом и сердцем понял, что совершил тогда русский рабочий и русский народ, как он это сделал и почему. Эти десять дней я словно жил там… Вспоминаю, как мы засели за чертежи новой машины. Это было время! Работали с удовольствием, с полной отдачей, даже с вдохновением, можно сказать, если не бояться этого старомодного слова. Один вариант, другой, третий… Вот, кажется, неплохо, как хотел. Но приходит товарищ из соседнего сектора: «Здесь у меня изменение. Будет вот так». Берешь новый лист, начинаешь трещать арифмометром. Ничего, сделаем и по-новому, даже лучше будет! Несколько групп конструкторов работали над нашей новой машиной уже давно, а мы с Игорем Никифоровым проектировали отдельные узлы, привязывали унифицированные. Замечательная у нас машина получалась! Конечно, на бумаге пока. А когда чертежи пошли в экспериментальный цех, началось!.. Не хватало поковок, отливок, узлов, комплектующих деталей, специального металла. Мы с Игорем Никифоровым уговаривали и выколачивали, ругались и просили, бичевали бюрократизм и волокиту, страдали и нервничали из-за своих и чужих ошибок. С кем я только не поцапался за эти месяцы, чего только не выслушал! Технологи: – Ты думал, что рисуешь? Чем я изготовлю эту деталь? Пальцем, что ли? – Нет, где ты видел такой класс чистоты? Ах, в справочнике! Тогда сними станок со страниц проспекта и дай его мне! – Эти популярные лекции неинтересны даже студентам, а ты их читаешь мне. Мне! Я тоже за долговечность и надежность, но узлы и детали нужно конструировать под то оборудование, какое у меня есть, или в крайнем случае под серийное, какое можно заказать!.. Снабженцы: – Милый мой! Где я тебе возьму этот материал? Ты хоть иногда газеты читай. В них печаталось постановление об экономии легированных сталей. Настаиваешь? Чтоб ты так жил! – Со мной вы все смелые! А ты вот сам поезжай в совнархоз и поговори там. Правда, у меня есть один человек в самолетостроении, но твоя-то машина будет не летать, а катиться по земле. Пойми! – У тебя тут опять хаэнтэ?! Ты соображаешь – хром, никель, титан! Ой, чтоб я так жил! Надо же, милый, хоть иногда думать, извини, пожалуйста, головой… Однажды я не выдержал и ворвался к главному конструктору Славкину. Он у нас джентльмен, всегда одет, как на прием. Усадил, достал из сейфа красивую бутылку с какой-то жидкостью, налил себе рюмочку, медленно выпил. Я не знал, лекарство это было или коньяк, меня занимало другое – то, что он говорил. – Не могут – не надо! Перестаньте с ними спорить. Производство – не диспут о физиках и лириках. И наш завод не должен быть для вас эталоном возможностей. У меня, а следовательно, и у вас есть принципы, и мы с вами не думаем от них отступать. Машина, которую мы сегодня выпускаем, – это позавчерашний день автомобилестроения, это, приближенно говоря, большая телега, запряженная тремястами лошадей. Стране нужен современный грузовой автомобиль! И наша детка им является! Это принципиально новое существо. Конечно, она значительно сложнее в изготовлении – этого я не только не скрываю, но всегда подчеркиваю. И если чего-то нет – значит, не надо. Им не надо, понимаете? (Он посмотрел в потолок.) Нет, не мы должны конструировать машину применительно к имеющемуся оборудованию, а технологическая служба обязана обеспечить производство всем необходимым для ее изготовления. У нас с вами есть над чем ломать голову и без этого. Бесспорно, в наших чертежах встречаются места, над которыми нам надо подумать вместе с технологами и кое с чем согласиться, но это ни в коем случае не должно снижать качество и работоспособность узла. Даже наоборот – повышать! Ну-с, за работу, в добрый час! Так. Прочел урок. Это я уже слышал. В том числе и от него не однажды. Но я по-прежнему не видел путей практического воплощения этих оригинальных идей. Почему на глазах у меня и моих товарищей-конструкторов «наша детка» рождается с «родимыми пятнышками» прошлого? От нехватки дефицитных материалов или от безразличия, в конце концов, каждого из нас, от незаинтересованности в судьбе своего узла? Должен сознаться, что некоторые наши ребята, да и старики тоже, любят посачковать и побазарить. Эти их склонности хорошо проявляются в скептическом, насмешливом отношении к той или иной свежей конструкторской мысли. Но правильно ли будет только их обвинять в этом? Конструктор и рад бы что-то интересное разработать, но он знает, что пробить это будет очень трудно или вообще невозможно. Да и что общего с работой конструктора имеет эта бесконечная перебранка с технологами и снабженцами, с мастерами и контролерами, эта пустая суета и беготня? Случалось, я сам носил детали, копировал чертежи на кальку, ездил на другие заводы получать комплектующие узлы, был просто курьером и толкачом. Да разве только я? У всех нас три четверти рабочего времени уходит впустую. И никто – ни инженер, ни плановик, ни мастер – не устает от работы. Все мы устаем от безделья, беготни, бестолковой нервотрепки. А конструктор на нашем заводе, как я окончательно понял, – жалкий и неприятный для всех человек. Технологи и снабженцы его встречают в штыки, а директор и Главный всегда на их стороне. С ужасом я думал о том времени, когда «наша детка» пойдет в производство. Особенно мучительно для меня бывать в цехах к концу месяца. Если детали изготовляют все же с открытыми глазами, то принимают их и собирают в это время уже с закрытыми – какие получились. Некогда обращать внимание на фаски, были бы выдержаны основные размеры. На твоих глазах ставят явный брак, колотят по чистой поверхности кувалдой. Упадет шариковый подшипник на бетонный пол – его, не задумываясь, суют в узел. А кольцо-то уже, может быть, треснуло; и попробуй потом на дне котлована установить в грязище и обломках истинную причину аварии! Помню случай, когда на сборку пошло десять ступиц, выточенных во вторую смену, должно быть спьяну, с отклонениями по посадочному диаметру и соосности отверстий. И ничего, поставили! Иногда бывает, что контрольная служба заупрямится. Тогда по цепочке дело доходит до Сидорова. – Твои люди срывают мне план! – кричит он по телефону начальнику ОТК. – Сам знаешь, чем это пахнет! Нет, я научил своих людей заворачивать гайки. Ты своих научи! Чтобы детали были на сборке. А я по том объяснюсь, где надо, это не твоя забота… Могут ли наши машины при таком «принципиальном» контроле быть лучшими в мире? И как бы мы выглядели на международном рынке, когда бы не особая требовательность к качеству экспортной продукции? И если б мы не умели делать! Умеем, да еще как! Вспоминаю «Быль о зеленом козлике», рассказанную в «Литературке». Наш скромный «козлик» оказался выносливее автомашин всех фирм мира, а «мистер Козлов», рядовой наш водитель, покорил экспертов и публику даже больше, чем его машина. Жаль, что репортаж тот прочла только интеллигенция и уже, кстати, наверное, забыла, а в других газетах ничегошеньки не было, и большинство не знает о том потрясающем соревновании на выносливость автомашин и человечность людей… Мне стало трудно жить наедине со своими мыслями. Отправил большое письмо Вилю Степанову, но что он мне мог написать, кроме общих слов? Поругал меня за мой выбрык на собрании, посоветовал превращать душевный заряд не в один или даже серию взрывов, но в свечение. И не кипятиться, особенно по пустякам, помнить, как Горький воспринимал крещение жизнью. И все, мол, нужно пробовать копьем юмора, это непременно. Вилька, старый друг, призвал жить в должности оптимистов и драться с темнилами до победы… Письмо все же было ободряющим, я узнал прежнего Вильку. Но еще большую радость доставил мне его подарок – брошюра об опыте организации и управления в США. Мы ее читали с Игорем Никифоровым и только ахали. Я долго думал над этой брошюркой. Почему мы в организации труда так отстали от Америки, социально опередив эту страну на целую эпоху?.. А здесь, на привале у речки Баяс, был другой мир. Простая и нетронутая природа отвлекала меня, и я, отдыхая у воды, наблюдал, как быстрый поток пилит гору, а она нисколько не подается, стоит незыблемо. – Вы очень огорчены, что я подпортил ваш отпуск? – спросил за моей спиной Симагин. – Да нет, ничего, – обернулся я. – От Стана я вас и Константина верну. Где-то там наши лазят. – Не в этом дело, – сказал я. – А в чем? – Он сел рядом и еще раз, как утром в долине, пристально посмотрел на меня. – У вас неприятности? – У кого их нет… …А новая наша машина все же получилась! Она мощнее и быстроходнее старой, легче, маневренней и удобней в управлении, снабжена гидромеханической передачей и гидродинамическим тормозом-замедлителем, пневмогидравлической подвеской. Кабина изолирована от шумов мотора, отапливается и вентилируется. Днище кузова обогревается выхлопными газами, чтобы зимой не примерзал грунт. А сколько в ней других мелких удобств! И противотуманные фары, и гидроусилитель рулевого управления, и регулируемое сиденье, и многое, многое другое. На шоссе этот огромный самосвал держится легко, свободно, в нем угадывается сила и грация хорошего спортсмена. Мы ликовали, когда «наша детка» вышла из экспериментального цеха. Помню, стояла толпа народу, были фоторепортеры. Один из них потом прислал нам снимок – наш главный конструктор Славкин разбивает в воротах цеха бутылку шампанского о бампер машины. А через день мы читали в газете репортаж, глазам своим не верили и заливались краской. Оказывается, наша машина – единственная в мире такого класса и чуть ли не чудо двадцатого века! И мы обогнали всех! Какой стыд! Мы не только не обогнали, но и не скоро догоним, не завтра достигнем того, что в зарубежном автомобилестроении уже есть. Ах, как любим поболтать, хлебом не корми! Тут надо было учитывать еще одно обстоятельство. Наши отступления уже ухудшили «детку», а что с ней станет, когда она пройдет через чистилище – испытание опытных образцов и доводку? Но все же главное испытание – не машины, а всех нас – это запуск ее в серию. Шапка многотиражки «Даешь новую машину!» сменится новой – «Даешь план!». В этом «даешь» – не романтика двадцатых годов, а штурмовщина шестидесятых. «Дадим Родине больше могучих машин!» – повиснет над главным конвейером лозунг. Что значит «больше», если есть государственный план? Я пытался сузить проблемы, рассматривать их лишь в аспекте своего дела и, подходя по утрам к заводу, заряжал себя этим настроением. Но уже на подступах к проходной спотыкалась нога, спотыкалась мысль. Мы вечно жалуемся на «тяжелые условия материального обеспечения», а вокруг предприятия и меж заводских зданий разбросаны несметные богатства – моторы, сортовой металл, запасные части, новые двигатели. Народный труд и народные деньги, втоптанные в грязь и снег! Когда-то Киров учил ленинградских рабочих поднимать каждый кирпич – овеществленный гривенник, а у нас пропадают миллионы гривенников. Почему никто не отвечает за это? И все же мне надо было обернуть «вопросы» на себя и свое дело. Чтобы хоть чем-нибудь помочь «нашей детке» и себе, я решил жить «без отступлений». Приближалась контрольная проверка серийного производства, от сектора назначили меня, и я решил устроить контрольную проверку себе. Без этого я жить дальше не мог, все равно с кого-нибудь это должно было начаться Заканчивался март. Шел месячный и квартальный штурм. Мастера вечерами выдавали рабочим по три рубля в счет будущих премий, и люди оставались на ночь. К проверке я подкопил следствия – тревожные сигналы с карьеров. Надо было найти причину. Это оказалось делом несложным. В первых же пяти цилиндрах, поданных на сборку, класс чистоты поверхности был занижен. Я сказал технологу и контролеру: – Эти цилиндры ставить нельзя. Вокруг столпились рабочие, зашумели. Я заметил, что один из них был явно под мухой. Подошел мастер: – Собирайте. Пусть проверкой занимаются десятого числа, а не тридцатого. – Что с ними сделаешь? – промямлил контрольный мастер. – План! Но я твердо решил не отступать. Начальник ОТК сходил за эталоном и вынужден был подтвердить: брак. Сборка узлов встала. Начальник цеха тем временем позвонил диспетчеру завода, тот – директору, а директор – нашему главному конструктору Славкину. Я не слышал их разговора, но примерно знаю, что пророкотал в трубку наш джентльмен: «Николай Михайлович! Забракованные детали должны быть немедленно изолированы. Это знает и начальник цеха, и каждый рабочий. Но я, к сожалению, не обладаю правом „вето“…» Начальник цеха прибежал на участок, что-то шепнул мастеру, и тот махнул рукой слесарям: – Собирать! – Нет, не собирать! – крикнул я. – Будем оформлять карточку отступления от чертежа. – Слушай, инженер, – вполголоса сказал мне один из рабочих. – Ты же нам в карман лезешь. А у меня трое детей. Мне стало трудно дышать, но тут его оттеснил другой сборщик, помоложе. Он серьезными и умными глазами в упор смотрел на меня. – Инженер, это не вы тогда выступали на партсобрании? – Я. А что? – Так. Молодец! Он ступил в сторону и сел к батарее спиной, но его поддержка была мне очень нужна. – Вы понимаете, что делаете? – зашептал мне начальник цеха. – Сборка сорвана, во вторую смену станет конвейер. Практически вы останавливаете завод! – Директор вас, молодой человек, съест, – вторил ему контрольный мастер. – Запросто. – Подавится. Я костистый. – Сумасшедший! Сидоров и не таких выкушивал… Карточку отступлений надо было завизировать у начальника сектора и ведущего конструктора – без этого Славкин и рассматривать ее не станет. Я знал, что начальник сектора откажется – он крепкий человек, а ведущий, если ему позвонит Славкин, подпишет. Знал и другое – Славкин, как всегда, успеет зарезервировать ход или даже два. И я даже рассмеялся, переступив порог соседнего отдела, – ведущий чудесным образом исчез! Только что был и никуда не собирался, а тут вдруг выехал в карьер с рекламацией! Славкин чист-чистехонек, случись потом что-нибудь с машинами, в которые пошел явный и грубый брак… Он ведь все-таки пошел. А назавтра заместитель главного диспетчера завода принес мне проект приказа: «Конструктору ОГК Крыленко А. П. за превышение служебных прав, выразившееся в остановке сборки узлов машины на четыре часа и внесении дезорганизации в производство, объявить выговор». Всякий такой приказ автоматически лишает человека премии, хотя я, зная уже Славкина, не думал, что он, обладая редчайшими способностями изящно заметать следы, завизирует его. Но через день я с удивлением узнал, что Славкин подписал! Значит, я плохо еще изучил нашего главного конструктора! Ладно. А вообще говоря, все это меня уже мало волновало. Я не боялся показаться ни чудаком, ни сумасшедшим, лишь бы в своей правоте была уверенность… …В этом неожиданном и странном походе неотвязно думалось о заводе и о себе. Поговорить с Симагиным? Он, как человек несколько иных сфер, может рассудить со стороны. Мы долго лезли в гору, и я устал. А на хребте пошли рядом, заговорили, но как-то получилось, что я рассказал больше о своих переживаниях, чем о главном. – Понял вас, – перебил он меня. – Так не годится. Знаете, наши времена такие, что надо как можно меньше самопоедания. Оно забирает много времени и сил, если распуститься. Это он верно заметил. Конфликт на сборке узлов, хотя я пошел на него сознательно, выбил тогда меня из колеи. Я перестал спать, снова, после многолетнего перерыва, начал курить и накуривался ночами так, что к утру словно бы пропитывался весь черной вязкой отравой. Симагин продолжал: – И какой толк из мятежа, если он внутри вас? Побольше здорового стремления жить и работать! Прежде всего надо поверить в себя, преодолеть комплекс собственной неполноценности. И действие, действие! Наши страсти надо изнутри выводить наружу, в практику… Потом он сказал, что другим оком, например, посмотрел на своего таксатора Легостаева, который сейчас в беде. Все они, лесоустроители, сгорают в своих проблемах, однако, называя себя лесными солдатами, больше любят болтать о трудностях бродячей жизни, о том, что, дескать, материалов много, но думать некогда. А Легостаев нашел время и нашел способ. Диссертация на мази! И в его светлой голове зреет одна блестящая идея, даже, как выразился Симагин, слишком блестящая для современного состояния лесных дел. – А в чем ее суть? – поинтересовался я. – Как бы это попроще?.. Вы слышали, конечно, что лесов у нас в Сибири тьма? Что в них громадный годовой прирост и мы якобы не вырубаем даже десяти процентов этого прироста? А Легостаев утверждает, что в девственных лесах никакого прироста нет вообще. – Смело! Но это надо, наверно, доказать? – Вот-вот! Виктор много лет составляет таблицы, и по ним видно, что прирост в лесах Сибири примерно равен отпаду. – Так… – В этом зерно идеи. Если нет прироста – значит, нет целиком перестойных лесов, которые надо сводить сплошь, улавливаете? – Немного, – протянул я. – Значит, подход огромной отрасли хозяйства к исходному сырью, наши принципы эксплуатации леса, методы рубок в корне порочны! – Нет, это здорово! – А еще тут эти реорганизации. Леса стали ничьими, одного хозяина нет. Разодрали их по себе ведомства, области, колхозы, а еще Ленин говорил, что леса – неделимый национальный фонд. – У нас вот тоже… – начал было я, но Симагин перебил меня: – И принципиальному всегда значительно труднее, чем беспринципному. Даже материально. Правда, это не моя мысль – нашего Быкова. – Друга? – спросил я. – Не то чтобы друга… Это золотой старикан! Наша лесоводческая совесть… – Он в экспедиции? – Нет. – Симагин говорил об этом неизвестном мне Быкове с каким-то особым почтением. – Трудно ему сейчас, и нам вместе с ним. Но жить надо! – Пережить надо, – уточнил я. – Да, да! – Он глянул мне в глаза. – И практика, дело! К сожалению, Симагин не знал, что получилось на практике у меня, когда я вывел свои «страсти» наружу. Помню, как ведущий конструктор узла, вернувшись с карьера, сказал: – Старик, ты, кажется, задымился… А я засмеялся ему в лицо, потому что ждал каких-то похожих слов, знал, кто и как будет вести себя со мной и что говорить. В цехе меня обегали. Иногда казалось, что я смотрю знакомый спектакль, но, хоть и был автором и режиссером этого спектакля, не знал его финала, последней картины. Ожидал перевода на другую работу, увольнения «по собственному желанию», как было в Энске. И совсем не предполагал того, что произошло… …Симагин на хребте не дослушал меня до конца, а его мнение интересно было бы знать – в нем чувствовалась сила, какой я еще не обрел. Кроме того, я попал в ситуацию, должно быть, интересную для других – не с каждым такое бывает. С другой стороны, я, конечно же, не исключение; и если есть какие-то мысли и переживания у меня – значит, они есть у других, тем более что я давно осознал свою ординарность и еще студентом трезво понял, что бог меня не одарил особой милостью. Опять самокопание? Ну его к черту! Наверно, сейчас надо отвлечься от всего. Вот Симагин строго смотрит, как я переобуваюсь и ощупываю свою пятку. – Сильно? – До кости еще далеко. – Бинты у Коти в рюкзаке возьмите, йоду. Мы поели немного у какого-то ручья, покурили всласть и пошли тем же горбом, забирая левей и ниже. На привале я взял рюкзак и увидел, как у Коти зажглись радостью глаза. Груз был не особенно тяжелым, но пухлым, неудобным, в спину давило что-то твердое, не топор ли? Но это все ничего. Пятка у меня снова была туго забинтована, и я смело ступал на нее. Симагин шагал вперед, смотрел только перед собой, не оглядывался, и мы тоже нажимали. Котя, этот московский пижончик, который первое время призывал нас «ощетиниться», сейчас заметно поскучнел. А на Жамина мне было даже трудно смотреть. Он еле передвигал ноги, запинался, падал. Рубаха вылезла, он ее не заправлял и даже ругаться перестал. Значит, Жамин этот маршрут делает четвертый раз? Я бы не выдержал, особенно в этих коварных сапогах. У Жамина хорошая обувь, но странная, один сапог вконец разношенный, другой еще крепкий. Симагин объяснил, что свой сапог Жамин утопил там, у места, и ему пришлось разуть больного, которому обувь теперь не скоро потребуется. По мрачному виду Симагина я понял, что не надо приставать к нему ни с такими пустяками, ни со своими проблемами. Меньше всего я ожидал, что меня тут закрутит такое событие. Когда ехал, мечтал только о рыбалке, удачливой и спокойной. А тут была еще замечательная баня по-черному, феерические закаты и какие-то особые, словно заколдованные, горы и леса. Вот сейчас за хребет опускается огромное солнце. Оно пригашено далекими туманами и потому не яркое, только по краям сияет белое пламя. Идеально круглое солнце будто твердо очерчено циркулем. Я здесь заметил, что с удовольствием фиксирую все эти подробности, хотя там, в городе, проходили дни за днями, и я даже не мог вспомнить, солнечными были они или нет… Мы долго еще шли, продираясь сквозь упругие заросли, а за нашей спиной погасала заря. Скоро ночевать? Но Симагин шагал и шагал впереди, даже не оглядывался. Перешли несколько ручейков и легли у какого-то болотца. Значит, к верховьям Кыги мы до ночи не успели?.. Спал я плохо. Было холодно, сыро, костер не грел, и Симагин всю ночь шарил по кустам, собирая редкие палки. А утром услышали глубоко внизу выстрелы. Спасатели? Симагин отбежал в сторону и, приставив ладони к ушам, долго слушал раскатное эхо. Вернулся к нам таким же мрачным, каким был вчера вечером. – Они не знают, что мы здесь? – осторожно спросил я. – Даже если б знали, сюда подняться нельзя – стены внизу, – отозвался он. – Побежали, мужики?.. – Они теперь оттуда не скоро вылезут, – сказал Жамин. Симагин быстро собрал посуду, и мы пошли. Мне хотелось поговорить о своем, но не получилось – он не дослушал первой фразы, ступил в кустарник, и все пошли за ним. Несколько часов молча и медленно продвигались гольцами – через сыпучий камень, лишайники, заросли березки. Потом Кыга; чуть спустившись с хребта, напились вволю и снова в просторные цирки, без тропы и без воды. Хорошо еще, что солнце пряталось за тучки. Я отупел от этой однообразной и тяжелой дороги, переставлял ноги, ни о чем не думая, и лишь иногда вспоминал завод и то свое состояние, когда так же перестал нормально ощущать мир. Неожиданные и острые события начались с профсоюзного собрания. После подведения на заводе квартальных итогов до нас начали доходить слухи о том, что директор где-то сильно разнес конструкторов. Называл нас бумаго-мараками, не сумевшими вовремя испытать и довести узлы новой машины. Верно, мы не испытали ряд узлов, но ведь для этих испытаний не было оборудования! А потом стало известно мнение секретаря парткома: в конструкторском отделе ослаблена идеологическая работа, нет творческого соревнования, из ста пятидесяти человек только семь ударников коммунистического труда. И вот на профсоюзном собрании председатель месткома предложил развернуть соревнование за звание ударников и отдела коммунистического труда. Кто примет на себя обязательства? Мы все опустили глаза и старались не смотреть на него. Встретишься взглядом – будешь брать обязательства первым. Я сидел и думал о том, что все это почти что комедия. Мне стало стыдно. Встал и сказал, что лично я отказываюсь брать обязательства. – Как то есть отказываетесь? – испугался предместкома. – Товарищи, что это такое? – Каждый месяц мы их подписываем, – добавил я и сел. – Значит, вы отрицаете необходимость соревнования за звание ударников коммунистического труда? – спросил меня через паузу предместкома, в голосе его слышалась угроза. – Встаньте, пожалуйста, вас плохо видно! – Да, – я поднялся. – Отрицаю. – С этим товарищем, товарищи, мы поговорим отдельно, а сейчас перейдем к следующему… Кое-как я досидел до конца, на душе было муторно. После собрания ребята осудили меня, называли карасем-идеалистом, упрекали в том, что я подвел начальника нашего сектора, которого мы все уважаем за порядочность и скромность. И только Игорь Никифоров поддержал меня: – Андрюшка, я с тобой согласен. От принятия этих обязательств ничего не изменится. Но ты понимаешь – цифра нужна. По цифре мы выглядим хуже других цехов… – Вот ты и стал цифрой, – буркнул я. А через несколько дней меня пригласили в партком, к самому Дзюбе. Когда я вошел, секретарь разгреб в обе стороны лежащие перед ним бумаги. – Бунтуете? – улыбнулся он. – Вот тут еще один борец объявился… Он порылся в бумагах, нашел какую-то запись. Я обратил внимание, что руки у него большие, как у слесаря. – Ага, вот! Крыленко. Погодите-ка! – Дзюба удивленно посмотрел на другую бумажку. – Так это вы и есть? – Крыленко – это я. – Ну, рассказывайте. – Секретарь строго взглянул на меня. – Как все это произошло на собрании. Что у вас за особое мнение? Безо всякого разгона я начал говорить о том, что мы принимаем стандартные обязательства много раз в год и всегда к каким-то датам или событиям. А если б не было этих событий, как бы мы работали? И несмотря на всеобщие обязательства по новой машине, допущено немало отступлений от проекта. – Это мелочи, – сказал секретарь. – Машина в основе получилась хорошая. И дело ведь не в том, чтобы в точности выполнить все записанное, а в том, что бы стремиться к этому! – Не согласен, – возразил я. – Кроме того, я не считаю правильным подходить с шаблоном к разным категориям людей. По-моему, нельзя устраивать соревнование за звание ударников среди инженеров. В цехе, у станков – другое дело, а у нас это чистой воды формализм. – А почему вы противопоставляете инженеров рабочим? Я замолчал, не зная, что сказать в ответ на эту ерунду. – Вы же коммунист! – повысил тон Дзюба. – Да, и этим все сказано! – крикнул и я. – И я прошу вас не преувеличивать, будто я кого-то кому-то противопоставляю. Давайте посмотрим реально, практически, как говорится, в масштабе один к одному. Вот я видел над кассой в кино красивую табличку под стеклом: «Ударник коммунистического труда». Объясните мне, что это значит? Если девушка в окошке быстро и вежливо продает билеты, при чем тут звание ударника коммунистического труда? Машина эти билеты может продавать быстрее и вежливее, но никто не вздумает ей присваивать какие-то звания. – Вы опошляете… – Нет, все мы совместно опошляем высокие слова и понятия! – В окошке пока сидит человек, и вы забываете о моральном кодексе, – протянул Дзюба. – Но я не могу быть порядочным человеком по регламенту или обязательству! Понимаете, я коммунист. Как вам это объяснить? Это самое для меня святое и высокое звание… – Нет, я вас очень хорошо понимаю, – сказал секретарь. – И, на мой взгляд, в ваших рассуждениях есть что-то верное. Я и сам иногда думал. Опошляем! Ленина, например, начали показывать по телевидению и в праздник и в будни. Чуть ли не каждый кружок самодеятельности считает своим долгом изобразить. Не тактично, понимаете, небережно… Хотя, конечно, это другой вопрос… – Да нет, примерно один и тот же, – не согласился я. – Ладно, вернемся к нашей теме, – встряхнулся Дзюба. – Повторяю, я сам тоже думал. С другой стороны, вот пособие для партийных работников. Тут ясно рекомендуется развертывать соревнование за звание ударников коммунистического труда. И вы это зря вот так на собрании. Не стоило! – Есть еще одно пособие для партийных работников, – сказал я. – Там тоже ясно сказано, что коммунист считает презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Или это пособие устарело? – Нет, не устарело, – засмеялся секретарь. – Так каковы же ваши главные взгляды и намерения? – Я работать хочу. С максимальной отдачей. И чтоб мне не мешали. – А кто же вам мешает? – В данный момент? У меня там работы уйма, а я сижу и разговариваю… И тут я разошелся, стал рассказывать обо всем, что мучило меня в последние месяцы. Он терпеливо слушал, не перебивал, а когда я замолк, сказал, что у меня есть мысли и есть завихрения. Молодых, к сожалению, всегда заносит на поворотах. Во всяком случае, нельзя противопоставлять звание коммуниста званию ударника коммунистического труда, вредно отмежевываться от рабочих, считая себя окончательно сознательным, и совсем уже ошибочно думать, будто у нас есть штурмовщина в идеологической работе. Я не стал продолжать спор, и разговор на том закончился, только Дзюба сказал, что еще раз встретится со мной. А вскоре произошло одно событие, которое до сих пор не могу пережить. Стоит вспомнить, как меня начинает трясти. Это не удивительно – случай и вправду чрезвычайный. Интересно, как бы повел себя в подобной ситуации Симагин?.. …Перед обедом, у истоков Кынташа он извинился за то, что не дослушал вчера мою исповедь – надо было, мол, нажимать, не отвлекаться, но у нас еще найдется время потолковать. Мы уже спускались по ручью высокогорным лесом, когда стало ясно, что сегодня нам не добраться до места. Здорово болели плечи от лямок, и бинт на ноге опять свалялся. Вода шумела в каких-то больших красных камнях меж кустов и криволесья. Железняк, что ли? Симагин поджидал нас у небольшого водопада. Сказал: – Они внизу. – Не успеем. – Я глянул в ущелье, где было уже почти темно. – Надо. – Не полезу дальше, – простонал Жамин. – Полезешь, – возразил Симагин. – Через час будем на месте. – Не могу. Не знаю, как выглядел я, но Жамин совсем сдал – тяжело лег на камень, опустил голову и плечи, руки его бессильно повисли. А у Коти лицо сделалось каким-то потерянным, совсем безвольным, и он ничего не говорил, со страхом вглядывался в ущелье. Мы все же пошли. Конечно, ходьбой это нельзя было назвать. Вот если б заснять на пленку наш подъем от Стана да прокрутить наоборот – это дало бы примерную картину спуска. Искали щели поуже, чтоб можно было спускаться в распор, подолгу нащупывали ногами опору. Иногда снизу доносился голос Симагина: – Камни! Камни не пускайте! Потом его стало плохо слышно – Кынташ шумел все громче. Уже наступили сумерки, когда мы оказались на краю обрыва. Внизу была чернота, бездна, край земли. Кынташ сбрасывал себя в узкую расщелину и пропадал. Зато мощно и гулко, как реактивный двигатель, что-то рокотало внизу. – Тушкем! – оживился Жамин. – Надо спускаться! – крикнул Симагин. – Они близко, только почему-то костра не жгут. Симагин полез куда-то в сторону, вернулся и достал из моего рюкзака моток веревки. – Не полезу, – сказал Жамин. – Порвется. – Троих выдержит, – возразил Симагин. – Я эту веревку знаю. – Заграничная? – с надеждой спросил Жамин. – Простая советская веревка, – возразил Симагин. – Не полезу! – окончательно решил Жамин. – Расшибусь. У меня ноги крючит и голова кружится. Действительно, не стоило рисковать – темнота и крутой, неизвестный обрыв. Альпинисты и те, наверное, ночами не лазят. Я пополз к обрыву. – Бывают случаи, когда надо, – услышал я Симагина. – Смотрите! – крикнул Котя. – Костер! – Абсолютно точно. Вон огонек! – подтвердил я. Симагин задышал мне в ухо, вцепился в плечо. – Они! Совсем рядом! На той стороне Тушкема. И тут хоть ты лопни от крика, не услышат. Надо бы то же запалить костер. Я подался назад, достал топор, взялся рубить тонкие прутики. Симагин вскоре притащил флягу с водой. Я протянул к ней руку. – Сначала ему, – показал он на Жамина. – Голова дурная, – невпопад сказал тот слабым голосом. – Пей досыта, Сашка. – Симагин дал ему фляжку. – Мы сейчас этой воды накачаем будь здоров! Он привязал к фляжке камень и начал «качать» воду из Кынташа. Мы напились, даже на суп уже было. Ночуем? Сухие палочки хорошо занялись, и стало светло у нас, а темнота вокруг совсем сгустилась. Вдруг я вздрогнул: отчаянно закричал с обрыва Симагин – звал меня. Я пополз к нему, совсем ослепший после костра, нащупал его сапоги. – Глядите, Андрей Петрович! Глядите! – Он боль но стукнул меня кулаком по спине. – Два костра! Понимаете? Два! И правда, в глубине ущелья светили рядом два огонька. Вот разгорелись посильней, и там задвигалась неясная тень. – Умница Тобогоев! Какая умница! – кричал Симагин, забыв про меня и, наверное, про то, что в трех шагах от него ничего уже не слышно. – Жамин! Константин! Будьте вы прокляты! Сюда! Витька, держись! Живой! Витька, мы еще собьем кой-кому рога! Подползли остальные. – Кричали женщины «ура» и в воздух лифчики бросали, – выдал Котя. – Заткнись! – оборвал его Жамин. – Правда, Константин, помолчи сейчас. – Живой, – голос Жамина заметно дрожал. – У них шамовки совсем нет. – Сейчас я туда, – проговорил Симагин. – А вы тут заночуете. Саша, скала эта в воду обрывается? – У меня голова не работает. – Вспомни, вспомни, пожалуйста! – Да где как. Однако через реку в темноте и не думайте, пропадете… – Полезу! – Симагин поднялся. – Перекусили бы вы, – сказал я. – Нет, ослабну. Вы, Андрей Петрович, тут за главного остаетесь – повышение, так сказать, по службе. Отдыхайте. Не забывайте, что это балкон без решетки. Утром – к нам… – Может, не стоит вам рисковать? – Надо, пока силенка остается. Конец веревки мы привязали к кусту и стравили с тяжелым камнем почти весь моток. Симагин напихал за пазуху и в карманы консервов, хлеба, колбасы, взял пакет с аптечкой. А когда мы уже поели, я увидел с нашего «балкона» третий огонек. Неужели Симагин форсировал Тушкем? Да нет. Наверно, просто перебросил им еды, а неизвестный мне Тобогоев снова сообразил и зажег еще один костер для нашего успокоения. После ужина я долго лежал на редкой траве, смотрел в огонь. Рядом тихонько постанывал во сне Жамин, а мне никак не спалось. Болела нога, было холодно. Я думал о последнем случае со мной там, в городе, после которого я пришел к выводу, что ничего не могу понять в жизни. …Вечером того дня я решил сходить в кино. Этот документальный фильм об Отечественной войне обязан посмотреть каждый. И не по затее «культсектора», а по зову сердца и памяти. Между прочим, я начал собирать военную мемуарную литературу – ощущение истории помогает жить. И любопытные вещи попадаются! Только по воспоминаниям одного немца, например, я понял, чем был для них Сталинград, и уже какими-то сложными обратными связями по-новому осознал величие своего народа. Правда, этот немец только в двух местах оговаривается, зачем они пришли к нам, а в целом пытается создать впечатление, будто мы их били просто так, ни за что… Так вот, о том киносеансе. Перед началом его я заметил, что рядом села какая-то пара. Ничем особенным не выделялись, и я просто мельком взглянул на них. Начался фильм. Многое потом уходит из памяти, расслаивается, дробится и одновременно собирается в целое – великую священную войну, но одна сцена, должно быть, никогда не забудется. Немецкий солдат уводит женщину, чтоб втолкнуть в машину, а ее маленькая дочурка удивленными и чистыми глазами смотрит ей вслед, топает ножонками за матерью, не понимая, что же это такое происходит, и мать оборачивается, пытается прорваться к девочке, но солдат грубо толкает ее. И эту потрясающую человеческую драму с холодным любопытством изувера снимал когда-то оператор-фашист! Зал онемел. А супруги, сидевшие рядом со мной, спокойно о чем-то разговаривали! Я тут же очень вежливо попросил соседей сидеть молча. Они согласились, но через некоторое время я снова услышал их голоса. Это было невыносимо. Я огляделся и заметил, что другие как будто не обращают на них внимания. Вдруг женщина зашептала: «Черчилль, Черчилль-то какой! Смотри!» И я уже не видел фильма, видел только соседей. Они без стеснения обменивались впечатлениями, показывали руками на экран, даже заспорили между собой – короче, вели себя, как дома у телевизора. – Да перестаньте вы наконец! – не выдержал я. – Вы же не у себя в квартире! Они смолкли, словно оглушенные, но женщина тут же набросилась на меня: – А вы не слушайте чужих разговоров! Развесили уши! Ему мешают!.. Садитесь на первый ряд, если плохо слышите!.. И так далее и тому подобное. Замолчать таких не заставишь, возражать – дело пустое, а слушать противно и стыдно. К счастью, она быстро выдохлась, но радоваться было рано. – Ты был там? – задышал вдруг мужчина мне прямо в ухо, и я услышал запах винного перегара. На экране в это время наши танки входили в Вену. – Ты там был? Нет? Ну вот, а еще кричишь. А я эту Вену брал! Понял? А ты кто такой? Где ты был? Где? Молчишь? – Мой отец погиб в Вене, – тихо сказал я, чувствуя, что больше уже ни слова не смогу произнести – разрыдаюсь. – Если сын такой хам, то и отец, наверно, был свинья! – сказал он, будто подвел окончательный итог, и заскрипел креслом. Я размахнулся и наотмашь ударил его по лицу. Люди впереди обернулись и, видимо ничего не поняв, продолжали смотреть на экран. А я уже не видел экрана, не слышал голоса диктора, трясся, как на вибростенде. – Ну что ж, – услышал я срывающийся голос соседа. – Ты, я вижу, смелый. Но я тебя проучу. Ты меня запомнишь. Выйдем сейчас, поговорим. Экран погас, и я встал. – Я покажу тебе, как распускать руки! – сказал он, но в голосе его я почувствовал не силу, а власть. – Идем! И он попытался схватить меня за рукав. – Не трогайте! Я отведу тебя, куда следует! – Почему «я» и почему «отведу»? Пойдем вместе. У выхода рядом с нами оказался какой-то хорошо одетый человек, он вполголоса заговорил с моими соседями. – Кто он такой? – услышал я. – В милицию, в милицию его! – закричала женщина. В милиции нас встретили удивленно – было около двенадцати часов ночи. И вежливо. У вошедших за мной деликатно осведомились, что случилось. Странно, почему об этом не спросили меня? – Заберите хулигана! – тоном приказа сказал мужчина. – Пусть до утра посидит. – А что он сделал? – У лейтенанта изменилось выражение лица, и он засуетился, усаживая супругов. – Ударил человека в кинотеатре. Вы спросите у него, за что я его ударил! – Ваши документы! – Дежурный нетерпеливо протянул руку. Я развернул и хотел показать удостоверение, но лейтенант вдруг вырвал корочки у меня из рук. – Не надо, товарищ, – устало сказал я и тоже сел на скамью. – Вы же на работе. – Сами распускаете руки, – он снизил тон. – А нас пытаетесь воспитывать! – Я не воспитываю вас, но все же сначала надо выяснить, кто виноват. – Разберемся завтра, – решил лейтенант, рассматривая мое удостоверение. – Гражданин Крыленко! К девяти часам утра быть здесь с письменным объяснением. Удостоверение останется, завтра на работу опоздаете. Все. – Зачем хулигана отпускаете? – воскликнул муж чина. – Никуда не денется, – сказал лейтенант. – Извините, а вы будете писать заявление? – Да, сейчас же. Я пошел в общежитие, думая о том, почему у этого типа не потребовали документы. Что сей сон значит? Ребята уже спали. Я выпил бутылку кефира и сел писать объяснение. Разволновался, накатал девять страниц и лег. Утром я коротко рассказал ребятам и дал почитать объяснение. – Ну, ты даешь!.. – сказал Игорь Никифоров. – Тебя бы замполитом в армию… Когда я сдал объяснение, меня попросили подождать минутку, но я просидел часа два. Потом провели в кабинет начальника отдела. Пожилой майор со шрамом через всю щеку глянул на меня равнодушно, как на вещь. – Я внимательно прочел и это заявление, и ваше объяснение. Вы ничего тут не придумали? Что-то не верится. Он ведь тоже воевал. Как мог фронтовик, солдат оскорбить память солдата? – Об этом надо у него спросить, а не у меня! – Скажите, а как вы докажете, что не были пьяны? – Это уж слишком, товарищ майор! Я был трезв, как пучок редиски. Он улыбнулся одной стороной лица. – Вы не встречались с ним раньше? – Нет. – И не знаете, кто это? – Знаю, – сказал я. – Негодяй. – Это наш новый товарищ из аппарата райисполкома. Вон оно что! Уж этого-то я не предполагал. Это мне совсем не понравилось. Чувствовалось, что и майору не по себе. Он начал расспрашивать меня как-то неформально, вроде бы беседуя. Давно ли я в этом городе? Три года. Нет, семьей пока не обзавелся. Кто-нибудь из руководителей завода меня знает? Едва ли, сказал я, не желая говорить, что меня знает Славкин. Членом партии состоите? Да. В парткоме должны помнить. Майор подвинул к себе телефонный аппарат. Я следил за его пальцем. Три… два… один… четыре. Партком. – Товарищ Дзюба! Самохин беспокоит… Вы знаете коммуниста Крыленко? Да, конструктора. Нет, не как дружинника, а вообще… По его лицу я пытался угадать, что ему говорит секретарь. Самохин долго слушал, лицо его почему-то менялось, но я не мог понять, в лучшую или в худшую сторону, только раза два он внимательно посмотрел на меня. – Некрасиво получилось. – Он положил трубку и начал говорить совсем неожиданные слова, глядя не на меня, а на мое объяснение. – Я понимаю, вы поддались порыву и сразу в драку… – Пощечина – это не драка! – вспыхнул я. – Это чисто символический удар. Пощечину получают подлецы! – Вы и сейчас напрасно горячитесь, а тогда вообще все вышло по-хулигански. Надо было сдержаться и объясниться после сеанса. Он воевал и понял бы вас. А сейчас я даже не знаю, что делать. Суд? Смешно… В заключение майор сказал, что посоветуется «тут кое с кем», и возвратил удостоверение. Я ушел на завод, и с того дня началась в моей жизни черная полоса. На работе все вроде делал – чертил, считал, бегал, следил за испытаниями узла, обмерял детали, но как-то механически, бездумно, а про себя запальчиво спорил то с тем, то с другим, то вообще с неким бесплотным и увертливым оппонентом: он скажет так, я ему этак, он так, я этак. В уме складывалась очень важная бумага о себе, о заводе, о жизни. Ребята заметили, что я не в себе, спрашивали, отчего это у меня глаза будто с перепоя, советовали плюнуть на все и беречь здоровье. Чтоб в общежитии мне не мешали, я оставался в отделе и писал, писал, писал… Потом обернул ватманом тетрадь, в которую волей-неволей скалькировал свое состояние, и отправил ее почтой первому секретарю горкома партии Смирнову, сделав на конверте пометку: «Лично». О нем говорили, что это бывший директор нашего завода, человек дела и, кроме того, не дуб. А дня через три меня срочно вызвали в партком. Дзюба неузнавающими, чужими глазами следил, как я подхожу и сажусь. Вдруг он с какой-то детской непосредственностью спросил: – Скажите, а вы не демагог? – Нам не о чем говорить. – Я поднялся, но решил все же оставить последнее слово за собой. – Хорошо, я демагог! Но прошу вас, объясните мне, в чем состоит моя демагогия? – Вы же сами сейчас назвали себя демагогом! – Вот с вашей стороны это действительно демагогия! – закричал я, и у меня появилось неудержимое желание схватить со стола письменный прибор со спутником и стукнуть Дзюбу по голове – будь что будет! Или себя – по воспаленным мозгам, чтобы затмить все. Усилием воли я взял себя в руки, подумал, не схожу ли я действительно с ума? Дзюба, вероятно, заметил, что со мной что-то необычное, мгновенно переменился, стал предупредителен и вежлив. Он подвинул сигареты и сказал, что на следующее заседание парткома придет сам Смирнов и со мной, как с некоторыми другими инженерами, он хочет поговорить предварительно. – Странно, откуда он тебя знает? Я ничего не докладывал… Ты уж там смотри, не ерепенься, – предупредил он, почему-то переходя на «ты». – Кстати, что у тебя там за история в милиции? – Дал пощечину одному мерзавцу, – неохотно сказал я, отметив про себя, что секретарь, оказывается, не знает подробностей. – Что-о-о? Драка в общежитии? – приподнялся он. – Этого еще нам не хватало! – Да нет, в кино дело было. – Тогда другой коленкор. С кем же ты поцапался, с хулиганами? – Нет, с какой-то номенклатурной личностью. Дзюба испуганно отшатнулся, а когда я коротко объяснил, что произошло, сказал: – Да он мужик вроде ничего. Выдержанный, спокойный. Раньше райисполком вечно придирался к заводу по мелочам – то за гудки, то за ямы, а этот не беспокоит попусту. «Не беспокоит»! Лучше не скажешь. То-то весь поселок машиностроителей в грязи, в канавах, всюду завалы из разбитых железобетонных балок и труб. Сквер, посаженный при старом директоре, погублен, и даже у бюста Ленина клумба вытоптана. А мы все это безобразие даже перестали замечать! Я поднялся. – Да! – остановил меня секретарь. – К Владимиру Ивановичу сегодня вечером, в двадцать ноль-ноль. Чтоб точно был, без опозданий… И вот я у высшего начальства. Человек не старый и не молодой. Обыкновенные – не «волевые», не «вдумчивые», самые что ни на есть обыкновенные глаза в глубоких глазницах. Встретил он меня нестандартно, неказенно и не то чтобы «сразу расположил», а просто побудил меня посмотреть на себя, как на человека вполне нормального, не взвинченного до предела «вопросами» и неприятностями. – Ваш трактат я прочел с интересом, – приступил Смирнов к делу. – Переживаний многовато, позитивная часть не продумана, а суть правильная… И он заговорил о том, чтобы я не понял его так, будто он осуждает меня за переживания, от них в наше время никуда не денешься, но посоветовал – точно, как Симагин! – переплавлять их в нечто полезное. И я ему, оказывается, даже нравлюсь, потому что, мол, искренне болею за дело, а то развелось равнодушных – пруд пруди, это хуже всего. Однако мое предложение – все поломать – не годится, и так много наломано дров. Мне совершенно необходимо, как он сказал, «тонизироваться», «войти в спектр серьезной реальности». Никакой ломкой или командой сверху не изменишь психологии людей и «микропорядки», надо «тянуть лямку», начав, наверно, в данном случае с дисциплины и научной организации труда. – У нас все об этом думают, – поднял голову я. – Есть предложения? – оживился он. – Никаких конкретных предложений у меня не было, и я почувствовал себя мальчишкой. – Ну что? – Смирнов смотрел на меня и смеялся глазами. – Ваше предложение – снять директора? А кого поставить? Вы знаете, мы вот тут сидим, а Сидоров все еще толчется на заводе, потому что план горит… – Толку-то что! – не выдержал я. – Вот видите, мы и поняли друг друга! Знаете, я вот думаю иногда: сяду-ка снова на завод, это мне ближе, я инженер. Но будет ли толк, я не уверен! – Он устало посмотрел на меня. – Да что там я? Сядет какой-нибудь новый Тевосян, и то не будет толку! За эти годы у многих из нас почему-то притупилось чувство ответственности, планирование и снабжение запутали так, что сам черт ногу сломает. Кое-что, я согласен, менять все же надо… Я был ему благодарен за то, что он так говорит со мной, рядовым инженером, но у меня-то, у меня не было предложений! Хорошо еще, что Смирнов сказал, чтоб к заседанию парткома они были. Я вам верю, хотя первый раз вижу, – перешел он к инциденту в кино. – А его знаю давно, и для меня большая неожиданность, что он не соблюдает элементарных правил поведения. И тут такая закавыка! Конечно, депутат народа, Советская власть, он должен пользоваться всеобщим уважением… Вы-то что думаете делать? – Не знаю. Может, в газету напишу. – Неужели придется отзывать? – Секретарь был искренне огорчен. – Как его накажешь? За что? За то, что разговаривал в кинотеатре, оскорбил вас и память вашего отца?.. Получил пощечину. А может, он заберет назад свое заявление? – Это не имеет значения, – сказал я. – Вот еще проблема! – Смирнов сжал виски. – Но подождите! Вы ведь тоже тут выглядите, мягко выражаясь, не очень: ударили человека. Так прямо по лицу и ударили? – Да. Первый раз в жизни. До сих пор, как вспомню, рука потеет. Смирнов неожиданно захохотал, и я тоже засмеялся. Потом он сразу посерьезнел. – Вот что. Не могу я сейчас ничего ни решать, ни советовать. Устал, не думается. Да и вы, наверно, издергались. Что? Три года не отдыхали? Так не годится, дорогой. После парткома немедленно в отпуск. А мы тут посоветуемся, с ним поговорим. Поселок наш не большой – все всё узнают. Тоже мне проблема! – Он беспомощно развел руками. – Кстати, вы рыбалкой не увлекаетесь? Тогда поезжайте в одно место… Здесь я ни разу не пожалел, что послушался доброго совета. Огорчало только одно: партком по каким-то причинам перенесли, у меня пропадал отпуск, и я улетел. …А тут все оказалось даже лучше, чем описывал Смирнов. Вот только сегодняшний поход сбил мне весь отдых. Но почему это я снова все перевожу на себя? Главное сейчас – спасти жизнь человека. Что у них там, внизу? Чем закончится эта наша экспедиция? Надо поспать хоть немного, завтра возможна любая неожиданность при наших слабых силенках. Что будет завтра?.. Не знаю отчего – от этих ли скал, парящих надо мной, или от звездной пыли в проеме ущелья, от костра, холодного ложа, оттого ли, что было сегодня или будет завтра, от людей ли, каких я тут узнал или узнаю, от всей этой необыкновенной реальности влилось в меня нежданное успокоение; я полно и ясно ощутил, как далек отсюда мой завод, мои заботы, и даже последний случай вспомнился без волнений. Меня разбудил Жамин. Утро. Кусты и трава на «полке» были в росе, и камни вокруг сочились сыростью. Дрожа от озноба, я пополз к карнизу. Прямо передо мной на той стороне ущелья вздымалась зеленая стена, отсюда она казалась отвесной. Потом я увидел гремящую пенистую речку внизу, площадку на той стороне, хороший костер, троих людей вокруг него и пеструю собаку. Как там? Жамин решился первым. За ним Котя опустился с козырька, испуганно взглянув на меня. Что он трусит? Парнишка почти невесомый, воздушный, ему хорошо. Я тоже чувствовал в теле какую-то неожиданную легкость – может, здешний воздух так бодрит? Втянул наверх веревку, отправил вниз рюкзаки и пошел сам. Внизу я долго растирал синие полосы на руках – их сильно перехватило веревкой, когда я последний раз отдыхал на скале. Нашу спасительницу-веревку спасти не удалось – подергали втроем, но куст, к которому она была привязана вверху, держался цепко. Жамин сказал: «Хрен с ней!», но я на всякий случай отрубил конец метров в двадцать – может, где-нибудь выручит еще? Я не представлял себе, что будет дальше. Через Тушкем перебрались быстро, благополучно. Друг Симагина лежал у костра. Грязный, оброс какой-то серой бородой, и глаза блестят. Правая, распухшая нога обмотана тряпьем. От ступни под мышку шла ровная палка, примотанная к ноге и туловищу ремешками. Я поразился, как он смотрел на меня. Изучающе и спокойно, слегка сощурив светлые глаза. Неужели он не понимает, что мы, может быть, окажемся не в силах вытащить его на гольцы? И что у него с ногой? Совсем рассвело, но было еще прохладно. Жамин грелся у костра, о чем-то тихо говорил с пожилым сухоньким алтайцем, который щурился от дыма и помешивал палочкой в кастрюле. Котя неотрывно смотрел на больного, и в глазах у него был застарелый испуг. Симагин хлопотал возле друга, разрезал ножом ремешки и тряпки. – Ничего, Витя, ничего! Мы еще с тобой потопаем! – приговаривал он. – Мы еще пободаемся! А прежде всего перевязочку сообразим, потерпишь? Надо, Витек, надо держаться – нас с тобой мало осталось. Сейчас мы тебя антибиотиками начнем пичкать. С ребятами знакомить не надо? – Ты же рассказывал, – отозвался Виктор, кинув на меня узнающий взгляд. – Ну, вот и прекрасно. Пожуем – и тронем. Тихо! – Потерпишь маленько? Помогите, Андрей Петрович! Так. Да ты лежи, лежи, Витек. Ничего страшного тут у тебя, пустяки… – Только не надо трепаться, – сказал больной. – Я видел. Котя жался к костру, сидел там, отвернувшись от нас, а мне нельзя было шевельнуться – я осторожно придерживал эту чудовищно распухшую и тяжелую ногу. От запаха и вида грязной, с синим отливом кожи у меня к горлу подступила тошнота, но я заставил себя смотреть, как Симагин густо посыпает белым порошком рваное вздутие, как начал бинтовать его все туже и туже, а Виктор, закрыв глаза, катает голову по какой-то подстилке. У Симагина со лба стекали струйки пота и пропадали в бороде. Потом мы поели, и Виктор тоже. Алтаец между делом соорудил носилки. Срубил над скалой две тонкие пихты, снял с них кору. Палки обжег на костре, они стали сухими, легкими и крепкими. А в моем рюкзаке, оказывается, лежала плотная конская попона. Алтаец приладил ее к палкам, тут сгодился конец «простой советской веревки». Мы поели и засобирались. Тобогоев остался у костра мыть посуду и приводить в порядок хозяйство нашей чрезвычайной экспедиции. Все теперь должно было уместиться в один мешок. За носилки мы взялись вдвоем с Симагиным, но, сделав несколько шагов, опустили их – Виктор был все-таки тяжелым, а тут сразу загромоздили путь валуны, и нельзя было, выбираясь из этого каменного мешка, их миновать. Подняли носилки вчетвером. Это было совсем другое дело. Полезли на камни… – Больно, Витек? – спросил Симагин. – Потерплю… На влажных крупных камнях мох плохо держался и осклизал под ногой. Мы были одного роста с Жаминым, шли впереди, а Симагину с Котей приходилось поднимать носилки до плеч, чтоб Виктор не сползал. Это не везде получалось, и больной сам старался помочь нам – хватался за палки повыше. Кое-как мы втащили его наверх, где начинался лес. Симагин не смотрел на меня, отворачивался, поглядывал вверх. За вершинами деревьев голубело небо и белели редкие облака. – Там проход есть, Александр? Пролезем? Жамин кивнул, но я начал сомневаться в успехе нашего предприятия. Одному и то тяжело в расщелинах, а мы поднимаем на уступы неудобные носилки с лежачим больным. Безнадежное дело! И не было никаких признаков, что этот склон ущелья полегче, чем тот, с какого мы вчера спустились. О каком проходе они говорят? Носилки имели конструктивный недостаток. В них не было поперечной жесткости, Виктор провисал, на бедро и ногу ему постоянно давило. Кроме того, несмотря на его усилия удержаться на носилках, он все время сползал и зря только тратил силы. Надо было что-то придумывать. Я снял свой брючный ремень. – Это дело, – сразу понял Симагин. – Теперь не сползет – мы перехватили грудь Виктора ремнем, пропустили концы под руки и закрепили на палках. – Мозг! – высказался Котя по моему адресу. – Кардинальное решение… – Помолчи, – одернул его Симагин. – Бу-сделано, – с готовностью отозвался тот. – Ты только не обижайся, Константин, – пояснил Симагин. – Но я тебе еще вчера сказал, что иногда лучше обойтись без слов, понял? – Да бросьте вы! – попросил Виктор. – Не ругайтесь. Двинулись дальше. Стало поровней, но эта поросшая лесом и высокой травой терраса тянулась вдоль реки, а нам надо было вверх, на голый хребет. Камней и тут было много, они таились в траве и корягах, но мы двигались осторожно и медленно, чтоб не запнуться, не перекосить ношу. Едва ли это все могло закончиться хорошо. Посоветоваться с Симагиным? Но о чем? Предложений-то у меня нет! Сейчас от меня требуется единственное – «тянуть лямку». И я потянул, не обращая внимания на боль в пятке, на усталость. И постепенно даже приспособился думать и вспоминать. …К концу той памятной встречи секретарь горкома дал мне пищу для новых размышлений. Разговор с ним закончился посреди кабинета. Смирнов, провожая меня, вдруг дотронулся до моего рукава. – Скажите, Андрей Петрович, вы в каком настроении уходите? Только откровенно! – Неважное у меня настроение, Владимир Иванович. – Почему? – Отдушины не вижу. – Знаете, я тоже буду откровенным, – сказал Смирнов, внимательно всматриваясь в меня. – Я бы не стал тратить на вас столько времени, если б сразу не поверил, что вы сами откроете эту отдушину… Он заметил мое недоумение, медленно прошелся по кабинету, думая о чем-то своем, остановился напротив меня. – Партия! Понимаете… В партии, конечно, как везде, есть разные люди, даже очень, но в ней вечно зреют свежие силы. И за партией всегда последнее слово… А ваша беда, Андрей Петрович, в том, что вы одиночка, самодеятельный бунтарь. – Я уже не один. – Кто еще? – быстро спросил Смирнов. – Вы. Он хитро засмеялся. Я чувствовал, что давно пора уходить, а мы все говорили и говорили – о будущем заседании парткома, о нашем толковом начальнике сектора, об Игоре Никифорове и других конструкторах, вообще о кадрах и принципах их выдвижения, о брошюре Терещенко, – и то, что мы разговаривали стоя, лишь подчеркивало этот уместный в данном случае стиль. – И все же очень уж сложна жизнь, – сделал я еще одну попытку поплакаться. – А что вы имеете в виду? – Вообще… – Уверен, что тут у вас позиции зыбкие. – То есть? – встрепенулся я, подумав: «Не станет же он доказывать, будто жизнь – простая штука!» А Смирнов почти закричал: – Встречаясь с бюрократизмом, криводушием и беспринципностью, утешаем себя: «Сложная всё-таки эта штука – жизнь!» А ее просто надо называть – плохая жизнь! Вы заметили, что у нас повелось плохого человека называть «сложным»? Такие же комплименты мы, случается, жизни выдаем, фактически упрощая ее!.. – Это для меня очень интересная мысль, Владимир Иванович, честно скажу. Но это же действительность! И что делать? – Прежде всего не стонать: «Ах, какая сложная жизнь!» Неужели я зря потратил время? – шутливо спросил он, и мне стало не по себе. А Смирнов уже серьезно продолжал: – Есть, конечно, усложнения жизни, основанные не на субъективных моментах, а на объективных исторических процессах, происходящих и в нашем обществе, и во всех обществах, существующих сейчас на земле. Понимаете?.. А впрочем, все в нашем мире связано, и тут тоже могут играть роль субъективные моменты, рождая самые неожиданные сложности, понимаете?.. Я почувствовал себя школьником. Что он имеет в виду? Атомных маньяков? Китайские загибоны? Поспешные реорганизации нашего дорогого?.. – И это тоже действительность! Да еще какая реальная! И как она, злодейка, великолепно не укладывается в нашу готовальню! Одним словом, неизящная действительность. Но паниковать не будем! Погодите – ка! – Смирнов прошел к шкафу и достал из него томик Ленина. «Как в плохом кинофильме, – мелькнуло у меня. – Сейчас вытащит какую-нибудь общеизвестную цитату, которая относится к другому периоду, другой хозяйственной и политической обстановке». Смирнов открыл книгу на закладке. – Слушайте!.. «В тот переходный период, который мы переживаем, мы из этой мозаичной действительности не выскочим. Эту составленную из разнородных частей действительность отбросить нельзя, как бы она неизящна ни была, ни грана отсюда выбросить нельзя». А! Чувствуете? В этой мысли заложен великий оптимизм! Мужество, убежденность борца в исторической неизбежности победы! И реалистический, единственно правильный подход к сложностям большой действительности. А вы заметили, он говорит: «мы». Мы – значит партия, мы – коммунисты! И мы продолжаем переживать переходный период, и действительность пока не удается, так сказать, запрограммировать. Знаете, я не политик, я инженер, но над этим местом стоит подумать и политику и инженеру… Он пожал мне руку, а я засек тогда том и страницу. Назавтра в библиотеке я выписал себе эту просторную бойцовскую мысль Ленина, которой мне, как я понял, все время не хватало, и крепко-накрепко запомнил ее. Она не только помогала лечить суетливость души. Она заставляла думать об эффективности наших усилий в переделке этой «неизящной» действительности, об оптимальных методах использования общественных сил… …Мои размышления прервал догнавший нас алтаец. Мы приостановились, радуясь про себя лишней возможности отдохнуть. Тобогоев тяжело дышал, его собака бегала вокруг, и было слышно, как она шуршит в траве. Ага, значит, мы все-таки поднялись немного – шум Тушкема стих, здесь его смягчали деревья, кусты и эта высокая трава. Тяжелые широкие листы ее были холодными с лица, а изнанка подбита мелким белым войлоком, теплым и мягким. Местная мать-и-мачеха? Алтаец рвал эти листы и прикладывал к лицу гладкой стороной. Я тоже попробовал – хорошо! С лица снимало жар, и не так хотелось пить. – С километр прошли? Все молчали, и я почувствовал, что зря, пожалуй, спросил об этом. – Поднялись, однако, мало, – через минуту отозвался алтаец. – До тропы много. Тут есть тропа? Тот самый проход? Это же прекрасно! Я встал, и остальные тоже. Алтаец пошел впереди, выбирая места поровней, неприметно направляя нас в гору. Начался бурелом, и камней будто прибавилось, только они были тут посуше. Сюда, на южный склон ущелья, солнце посылало свои самые горячие, отвесные лучи, и в просветах меж деревьев было даже чересчур жарко, как у нас в литейке возле вагранок. Мы делали почти сто метров в час, и это было немало. Начал сдавать Костя. Он раньше всех садился, брезгливо рассматривал свои разорванные кеды. – Ну, ощетинились? – спрашивал у него Симагин. – А, Константин? Поднимали носилки и шли метров десять – пятнадцать. Почти на каждом привале я переобувался – бинт стерся, его остатки сбивались, и пятку все же сильно терло задником сапога. И еще начали болеть руки. Подушечки у оснований пальцев сначала стали белыми, потом синими, а когда мы вышли, наконец, к тропе, они налились кровью, и было настолько мучительно браться за палку, что я теперь всякий раз начинал считать в уме до трех, чтоб уж последний отсчет был командным, стартовым. 
На тропе мы съели по кусочку колбасы с хлебом, и сразу же нестерпимо захотелось пить. Симагин из своей фляги ничего нам не дал, время от времени прикладывал ее к губам Виктора, а общественную воду, которую захватил снизу Тобогоев, мы сразу же выпили. Тропа круто взяла вверх. Алтаец сказал, что это марал нашел тут единственный проход в стенах и пробил тропу. По ней зверь спускается к водопою и переходит на водораздел, по которому мы шли к Тушкему. Это было здорово – тропа. Можно сказать, единственный шанс. Но крутизна-то какая! Симагин с Котей поднимали иногда носилки на вытянутых руках, однако все равно Виктор свисал на ремне. Нам, передним, было не легче, хотя алтаец стал иногда подменять Жамина. Они оба очень быстро слабели, а Тобогоев на привалах, морщась, потирал спину. Тогда Жамин отгонял его от носилок. – Без привычки по горам как? – бормотал Тобогоев, не глядя на него. – Алтайцы так не ходят. Лошадь зачем? Давно уже потухло над вершинами деревьев солнце – ушло за тучу, и стало полегче. Однако настоящей прохлады не пришло. Меня жгло изнутри. Свободной рукой я цепко хватал кусты. Прутики эти были тонкими, крепкими – надежным продолжением наших жил. Мы с Жаминым все время менялись местами, но моя правая кисть, видно, переработала – пальцы на руке сводило, и я с трудом их разгибал. Стало темнеть, и я равнодушно отметил, что с запада пришла темная туча. А откуда столько сил у Жамина? Наверно, сказывается привычка работяги. И кто только выдумал это мерзкое слово «работяга»? Что-то вроде «коняги»… Зато Котя ослабел окончательно. Уже в сумерках он лег ничком и прижался лицом к большому камню. Даже курить не стал. – Ощетинились? – бодрым голосом спросил его Симагин. – Ну? Я начал считать про себя: «Раз… два… два с половиной… два три четверти…» – А? Ощетинились? – Где ты, моя маман? – заныл Котя не то в шутку, не то всерьез. – Это тебе не на студента учиться, – сказал Жамин, злорадно засмеявшись. Странно было слышать этот смех тут, но все же хорошо, что кто-то из нас еще мог смеяться. – Нищие смеялись, – сказал Котя. – Это кто, гадский род, нищие? – взъелся Жамин. – А? Кто нищие? Теленок ты еще, парень, притом необлизанный! – А ты деревня, – простонал Котя. – Притом не радиофицированная! – Ах ты, так-перетак! Поднимайся, доходяга, так твою разэтак! – Перестаньте, пожалуйста, – попросил Виктор. – Давайте ночевать… Тобогоев начал разводить костер, но я не понимал, зачем он это затеял: воды-то все равно нет. Я лежал на мягких камнях, закрыв глаза, ждал, когда успокоится сердце. Другие тоже лежали, даже Симагин. Пить! Больше ничего, только пить! Тонкий звон в ушах незаметно сменился густым глубинным шумом, будто я открыл дверь огромного цеха и остановился на пороге. Река шумит внизу или налетел ветер? Нет, не то. Пошел дождь, и Тобогоев поднял нас. Мы раскидали камни между корнями кедра, настелили веток, переложили на них Виктора и накрыли его пустыми рюкзаками. Симагин нашел просвет среди деревьев, туда хорошо падал дождь. Подставили носилки. Сейчас у нас будет вода! Медленный этот дождь вымотал нам все нервы – то усиливался, то замирал, но мы все же набрали котелок и полчайника. Правда, Симагин не дал никому ни глотка, только отлил немного для Виктора. Вообще-то правильно, а то дождь совсем затих. Мы несколько раз процедили воду через мою рубаху. Симагин поставил котелок на огонь, натряс лапши, вывалил две банки консервов. Сцепив зубы, мы сидели вокруг костра, смотрели, как кипит варево. Но вскоре на нас обрушилось несчастье. Суп оказался несъедобным – горьким, кислым, чудовищно пересоленным, противно пахнущим. Жамин взорвался, закричал, что сейчас же уйдет к такой матери от нас, дуроломов и необлизанных телят, что попона и так вся пропитана конским потом, и суп не надо было солить, а мы хуже баб. Насчет соли это он зря. Просто с попоны натек невообразимый раствор, в котором конский пот был не самым худшим компонентом. К этому удару мы не были подготовлены. Зацепили по ложке консервов, съели с хлебом, колбасу всю прикончили, проткнули банку сгущенки и сосали ее по очереди. Еще больше захотелось пить. Тобогоев слазил куда-то в темноту, надрал бересты и наладил желоб над котелком на тот случай, если опять пойдет дождь, но вверху, меж черных деревьев, замерцали уже ясные звезды. Я быстро перенесся в какое-то полубытие, но все же слышал, что разводят еще один костер – под деревом, и оттуда доносится голос Виктора. Просит снять бинты, которые очень уж сильно давят, а Симагин уговаривает потерпеть: надо, мол, жить, Витя, потому что нас с тобой мало осталось, а Виктор возражает: «Брось, так нельзя думать, и это неправда – нас много, очень много…» Эй вы, там, в больших городах, черт бы вас побрал! 8 ИВАН ШЕВКУНОВ, ЛЕСНИК – Явился? Гонял тебя леший! Люди делом занимаются, а мой? Это в конторе у нас думают, что лесник живет себе на курорте, прохлаждается. А тут крутишься-крутишься целое лето, и, когда присядешь к зиме, оно вспоминается одним крученым днем. Да и присядешь-то как на точило – жинка берется за свое, выговаривать-приговаривать. Сидишь и думаешь: «Скорей бы снега легли, чтобы с глаз долой в тайгу, белковать». Так-то она у меня баба отходчивая, и надо сдюжить только поначалу. Наговорится, а завтра уже другая, будто подменная. Но первый день и всегда хорошо отсидеться в норе, перемолчать… – Я этой солью сколько бы капусты переквасила! Когда теперь еще завезут, жди, да и поселковые всю разберут про запас. И кабы кто проверять ходил твои проклятые солонцы! Положил ты горсть или десять – все одно никто не узнает… Горсть. Скажет тоже! Марал должен утоптать место, запомнить его, хоть уйдет на ту сторону, в Туву или в Абакан. И первое дело – прилизаться важенкам, чтоб они молодых наводили на солонцовую тропу. Это я прошлой осенью в засидке три ночи просидел, все быка ждал, и насмотрелся, как маралухи телят обучают у соли. Потуманней час выберет, умница! Подходит неслышно, крадучись, замирает через каждый шаг, будто каменная делается, только уши работают да сопатка без звука нюхтит. За ней мараленок на цыпочках – весь струна! Тонконогий, подбористый, аккуратненький, придумать такой красоты невозможно. Тоже подходит за матерью. Тебе дух перерывает, а сердце мрет, мрет, вот-вот остановится… – До этого ты на три дня с лопатой уходил. Зачем? Кто видит твою работу? Люди добрые на Беле уже по стогу сена поставили, а ты возьмешься за покос, когда трава состареет, не продернешь? Люди с литовками в тайгу, а мой с лопатой. Молчишь? Сказать нечего?.. Ну что она может понимать? Галечники-то нужны глухарям, да еще как! Весна сильно задержалась в этом году, копалухи поздно вывели, и птенцы заранее должны к гальке привыкнуть, а то перемрут зимой от грубого корма. Это ж надо приспособление такое! Птица ест хвойные иголки, а камушками в желудке мельницу устраивает. Но в этом году я, правда что, зря занимался – геологи бродят по тайге, расковыривают землю шурфами, и глухари, конечно, им скажут большое спасибо. А насчет сена это она мне хорошо напомнила. Сейчас другой сенокос идет вовсю. Пищухи траву подгрызают и тащат повыше, на сухие места, большие корни обкладывают, но вот ведь тоже приспособление – съедает-то их запасы марал! И правильно. Марал тут главное добро, для него ничего не жалко. Зимой ему тяжело, корма нет, все под снегом. И если б не пищухи, едва ли он тут ужил бы. Места эти будто для марала придуманы. Багульник тоже ему здорово помогает перезимовать. И опять чудо – багульник не теряет лист на зиму… – Ах! Горе-то какое! Опять чашку разбила. И это все ты, ты! Суешь свой мотор куда попадя! Нет чтобы положить, как люди, в сторонку, а то прямо под полку с посудой… …Багульник не теряет лист на зиму, а сворачивает его опять же для марала. Кормушек бы успеть наделать – пищухи сообразительные, сразу же начнут таскать сено под карнизы, где дожди его не погноят… – Отдыхающий взялся было косить на косогоре, только почто это чужой человек станет на нас горб гнуть? …Какой отдыхающий? Что это она мне сразу не сказала? Ты в тайге дело делаешь, а тут какой-то отдыхающий присоседился?! Это не его там балаган за баней поставлен? И спиннинг в сенях. А я думаю, откуда у нас фабричный хлестун? Туристов этих я бы на цепь сажал. Наверно, они люди неплохие, когда сидят по своим городам, но сюда приезжают – это уже не люди. В прошлом году Алтын-Ту подожгли. И ее не затушить, потому что обрывы – шапка падает, на смерть туда не полезешь. Полмесяца горела, пока не пошли дожди. А на озере закидывают консервными банками харусные тони, шкодничают. Этой весной в Больших Чилях поставил столб и написал на доске, чтоб туристы вели себя по-людски, однако они этот столб подрубили и сожгли в костре. Нет, оседлый турист, он лучше… – Человек хороший, смирный. Не то что подплывал тут один отряд с гитарой. Заграничные, говорят не понашему. Водки на «Алмазе» купили, гуляли долго, на мохе заночевали да и спихнули всю твою заготовку в озеро. …Нет, этаких на цепь! Зачем они мох-то? Попросил меня Туймишев, бригадир из колхоза, моху ему надрать для конопатки избы. Туймишев мужик работящий и справедливый, всем бы нам такими быть, и я ему уважил. Мох уже высох было под берестой, а они его в озеро! Паразиты, больше ничего. А еще иностранцы называются. Пожалуй, надо бы их поймать на озере, если они еще тут, да заставить денек поелозить по сырым бочажинам – они бы поняли цену того мха. – На Кынташ с ними ушел. Я их из подойника парным молоком попоила, они и побегли ходом. Там человек погибает с экспедиции, они его на гольцы будут тянуть оттуда. Пока с ним Тобогоев там… Иван, а Иван! Пошел бы ты помог, а? Ведь человек, может, помирает, а? Ваня!.. …Как помирает? Заболел, что ли? Надо собираться, мало ли что там. Она зря сразу про это не сказала. Вот вечно так – ходит вокруг да ходит, говорит да говорит. Пока все слова не скажет, дела от нее не жди. – Ты же такой у меня, я тебя знаю – чего захочешь, то и сделаешь! Я уж тебе собрала тут кой-чего. Прямиком пойдешь? А на Беле вертолет сидит с понедельника; может, им там надо чего сообщить?.. Постой-ка, сегодня какое? Пятнадцатое, что ли? Середа. Может, они его уже вытянули? Видно, придется в Белю сгонять. Ничего, на моторке мигом обернусь. Правда что, надо узнать, какое положение. И чего его это в Тушкем занесло, экспедиционщика-то? Значит, Тобогоев там, с ним? Это хорошо. И хорошо, что мотор у меня сразу завелся. Другой раз дергаешь, дергаешь, всю руку отмотаешь. А тут, видно, отдохнул за неделю и схватил с первой же прокрутки. Сейчас развернусь по заливу – и на Белю. Пошел! Вода впереди масляная, утренняя. Да, насчет мха-то! Надо будет все равно пред Туймишевым слово сдержать. Алтайцы любят, если кто своему слову хозяин, уважают. И сами не сорят словами зазря. Я бы их за это превознес, будь моя воля, потому что словам надо верить, иначе вся жизнь рассыпается. Только зря этих алтайцев у нас собрали в колхоз. Ну, на Чулышмане – другое дело. Там козы, овцы, лошади, это алтайцы все умеют, и колхоз так разбогател на шерсти, что председатель стал только два пальца подавать. А в нашем озерном колхозе все стадо – тридцать коров. Не коровы, а собаки. Мослы торчат во все стороны, по тайге лазят, правда что, как собаки. Им кормов надо на зиму, однако алтайцы сроду сена не ставили. Земли там пахотной десять гектаров, на ячмень для толкана, только-то. И, сказать по чести, они землю не любят и никогда не полюбят. Или вон Тобогоева лесничий приставил за помидорами ходить – это же для алтайца смех и горе. Алтаец – вечный таежник, он тут тыщу лет тайгой жил, и его в земледелие не повернуть. Да и зачем, разобраться, поворачивать-то? Наша тайга больше государству может дать. Белка уходит в Туву да Монголию и там отмирает по природе, соболиные места еще не все знаемы. С наших гор пушнины еще брать да брать. И орех, когда урожай, мы не выбираем даже в лучших урочищах. Эти алтайцы на орехе – молодцы! Не хуже белок лазят по таким кедрам, что наш брат только ахает. И есть молодые ребята, которые даже прыгают с кедры на кедру. Алька-радист увидел это прошлой осенью, сна лишился. Он парень спортивный, его заело, и, может, из-за этого начал по озеру плавать на волне, а вовсе не из-за девахи. Нет, алтайцы, если их вернуть к извечному своему промыслу, много из этой тайги могут добывать добра… На Беле пусто, одна ребятня. Значит, не нашли еще человека. И правда, вертолет! Алька-радист бежит, а за ним кто? Да это ж Савикентич трусится, ясно. Где ж ему теперь быть, как не тут? – Иван Иванович! – Он нас всех по батюшке знает. – Иван Иванович… Задохнулся, ничего сказать не может. Слабеет наш доктор, давно пора ему на отдых. Всех на озере пережил, почти никто уж и не помнит, когда он сюда приехал. Сейчас тут его крестников полным-полно. Меня и всех моих погибших братьев принимал, моего друга Туймишева и детей Тобогоева. Коренной старик. – Ты из дому? – догадался Алька-радист. – Там с Кыги никто не появлялся? Это хорошо. Наверно, Симагин их захватил с собой. Эх, если б не связь, я бы!.. – Иван Иванович! – перебил его Савикентич. – Вы знаете Тушкем? – Как не знать. – Надо бы туда, Иван Иванович! Там инженер погибает. – Да я уж собрался, только заехал узнать дела. – Погодите, – сказал Алька, – сейчас я вертолетчика позову. Пришел парень в кожанке, крепко пожал мне руку. – Курочкин. Ракеты возьмите, а то Симагин торопился и забыл. Буду крутиться над тем районом, а вам инструкция такая – как на гольцы вылезете, жгите костры, сигнальте ракетами. Ладно тогда, поплыл. Какой это Симагин? Начальник партии, что ли? С бородой? Помню. Спрашивал про кыгинские кедрачи, которые будто бы в книгах описаны. Я объяснил, и он сказал, что найдет сам. – Зачем? – спросил я. – Не рубить ли? – Штук двадцать Легостаев срубит. А что? – Да жалко, – сказал я. – Какой Легостаев? – Мой таксатор. Для науки не жалко. Вы знаете, сколько им лет? – Поди много? – По Сибири больше нет таких. Пятьсот лет, – сказал Симагин. – На всей земле последние, понимаете? – Пятьсот! – не поверил я. Вся тут жизнь от кедра. Марал, скажем, не может обойтись без маральего корня. Быки перед гоном едят его, чтоб прибавить себе сил, а корень этот растет в кедровых местах. Егерь говорил, что соболь в наших краях самой большой по Сибири плотности, и это опять же от кедры, потому что белка у нас кормится досыта орехом и соболя кормит собой. А старики лечатся кедрой, ноги парят в ветках, пьют настой из орешков, и кости перестает ломить. А как, почему – никто не знает. И подумать только, пятьсот лет! Что за Легостаев? Савикентич тоже назвал Легостаева или мне показалось? Не тот таксатор в очках, которого я водил на Колдор еще весной, как только экспедиция прибыла? Вроде он… Ну-к дам еще оборотов, а то и так жинка вечно меня пилит насчет моей медлительности. Верховка? По чулышманской трубе разгоняет ветер, и он рвет озером, поднимает встречную волну, а она колотит в днище, того и гляди, развернет бортом. До Альки-радиста у нас никто и не плавал по такой волне, это все он. Выписал «Москву» и начал выходить на ней почти в любую погоду. Диви бы нужда, а то болтают, будто это из-за любови к поселковой радистке-латышке. Видал я ее, девка видная, только с судьбой ни по какой дурости играть нельзя. Озеро-то наше холодное, пяти минут не продержишься: сведет руки-ноги, остановит сердце. И берега у него приглубые, без отмелей, и скалы прямо в воду падают. А еще в этой воде есть какая-то тайна. Что озеро глубокое и черно в той глубине – мы знаем, но почему оно всякий сор, деревья, опавший лист выкидывает на берега, а вот утонувшего не отдает? В прошлом году пьяный балыкчинский алтаец упал ночью в воду с лодки, так и не всплыл. От одного этого сознания было трудно пускаться в верховку по озеру. Но Алька после того случая и ночью взялся плавать, и по весенним пропаринам. Правда, непьющий он, и лодка у него ходкая, на волне вроде поплавка. Ничего, Алька ни разу даже не перевернулся. До поры до времени. Мы тут родились-выросли, знаем… За теми вон скалами – наш залив. Там потише. Лодку я втащил на гальку один, как всегда. Мало кто на озере так может, а я пока на себя не обижаюсь. И тут она, жинка. – Неужто не мог побыстрей обернуться? Полдень скоро, до Кынташа когда теперь доволокешься? Да ты не гляди на меня так-то, не боюся! Иди-ка поешь, все готово… Хочешь знать, Ваня, я тебя ругаю, потому что подумала, кабы ты верховки не испугался… От этого ее рассуждения у меня даже аппетит пропал, и скорей бы за стол, чтобы захотелось есть. Но прохлаждаться долго нельзя, побегу, однако. Я сейчас этой стороной Кыги вскочу на хребтину, пройду по горбу и спущусь в Тушкем, к ручью. Тобогоев, значит, там, и начальник партии Симагин, и этот неизвестный отдыхающий. Кто еще-то? А экспедиция, значит, все дни бесполезно лазила по Кыге? Нет, они, эти экспедиции, не приспособлены. Геологов тоже, к примеру, взять. Закупят лошадей, деньги большие отвалят, а обращаться с конем не умеют. Копыта им поразобьют на камнях, спины посотрут до костей или по бомам погонят с вьюком. Надо бы снять грузы да перетаскать на себе, чтоб коней сохранить, а прошлым летом вышло так. Передняя лошадь задела ящиком за скалу, и нога у нее повисла над пропастью. Ничего, бедная, сказать не может, только – я уж это знаю, видал – глядит на человека человечьими глазами. Поддержать бы ее за повод чуток, не понукать, она бы сама как-нибудь передрожала этот момент, приспособилась, вылезла… А ее, рассказывают, взялись бить прутом. Она рухнула и заднюю лошадь стронула. А там глубина метров сто. Нет, даже представить себе это все невозможно – так тяжело переживать всякий раз… В этой экспедиции тоже не идет ладом дело. В таком положении человека оставить да потом еще искать его неделю. А не к добру, видать, столько партий по горам раскидано! Шныряют по тайге, топоры, знать, на нее вострят, а такие леса не то что трогать – славить надо. Если б еще тайгу рубили по-человечески, другое дело, в ней есть и старые дерева и больные – убирай все это за ради господа! От такого осветленья тайге только польза. А то все подряд крушат, больше ломают и портят, молодняк пропадает, земля нутром раскрывается, и после этого идет такая дурная травища, что под ней помирает любое залетное семя, если его сразу же мыши не съедят. И что чудом прорастает, дурнина свое все равно возьмет. Сейчас новый способ пошел: саженцами-двухлетками, однако наш леспромхоз по-старому семена раскидывает да раскидывает по вырубкам. А самое противное – это вранье насчет восстановления леса. Посылали как-то нас на обследование – леспромхозовскую работу учитывать. Вот где химия! Нет ничего на делянке, кроме дурнины да кустов, шаром покати, кое-где лишь тычки торчат, а мы в акте пишем: «лесокультурная площадь». И я подписывал тоже, как самый последний поллитровочник. Спрашиваю: – Почему мы, мужики, эту липу подписываем? – А мы-то что? Спроси у лесничего. Лесничий наш академию кончал, лес знает, все порядки знает, и не знаю, чего он только не знает. Лишь одно за ним числится – пьет по-страшному. – Леса тут не будет, – говорю. – Что вылезло, заглохнет все одно. Зачем же мы врем? Лесничий печально поглядел на меня, как моя баба иногда глядит, сказал: – Правильно, Шевкунов, ставишь вопрос. И ты бы, Шевкунов, собрал лесников да к директору леспромхоза. Так, мол, и так, почему врем? Я послушался, хотя и малограмотный; у меня отца и братьев в войну поубивало, одни документы остались, учить, меня было некому, и я работать пошел парнишкой. Ладно. Приходим с лесниками к директору, приносим наши липовые акты. – Почему это мы врем? – Насчет чего? – спокойно спрашивает он, сам елозит на стуле. – Леса-то не будет на ваших вырубках, а мы пишем: есть лес. – За это, между прочим, лесничий отвечает, а не лесники. Вы же исполнители! – Да это-то мы согласны, только охота узнать, почему все мы врем? – Кому? – Друг дружке, государству. – Насчет государства – это вы поосторожней! А вот эта бумага разве не государственная? Смотрите: «Инструкция по устройству государственного лесного фонда СССР». Государственного! Поняли? – Как не понять. Только где там сказано, чтобы врать? – Я сдаю лесные культуры по инструкции. Привет! Ушли мы разгребать траву да считать всходы, а сами все думали про наши подсчеты, это уж куда тебе верней, нечестные. Снова приходим к директору, чтобы посмотреть инструкцию еще раз. Опять сидит неспокойно, как на кривом пеньке. Говорим: – Вот тут сказано: «При обследовании культур». Но все в том, что через три года эти проценты, что принялись, зачахнут под травой и кустами. – А какое ваше дело? Нет, какое тебе-то дело до этого? – встал передо мной директор. – Тебе больше всех надо? Государственную инструкцию он будет критиковать! И только потом, когда закончили обследование, я понял главный обман. Выходило, что и саженцы тут не помогут. На гектар можно посадить сто или тысячу саженцев, и это, согласно инструкции, все равно! Лишь бы прижились эти проценты к моменту обследования, который назначит леспромхоз! Вот где обман, вот это обман! Нет, государство не могло такого придумать, чтоб самого себя объегоривать. Лесничий сказал мне: – Ты, Шевкунов, все понял правильно. Это не государство придумало, а ведомственные чинуши легкую жизнь себе сооружают. Я-то уже весь порох истратил – бесполезно… И до сего дня я думаю, что не один такой параграф в той инструкции, потому что уже дорубились до наших мест и теперь послали экспедицию искать леса в самые дальние урочища. А тут, над заливом, совсем нечего брать. Покосы, редкие лиственницы, порослевые березки по две да по три на одном кореню. Алтайцы вечно выжигали этот склон для выпасов, вот береза и взялась… Скоро хребтина? На ней хорошо ветрит, сейчас обдует пот, снимет усталость, а дальше прохладными кедрачами можно прибавить ходу. Хороши там леса! Сколько раз бывал, а всегда будто снова, – хороши! Как это они думают отсюда брать древесину? Задешево не возьмешь, дороги выйдут золотыми. И техника не поможет. Тот таксатор на Колдоре говорил, будто был такой лесной министр Орлов, который попробовал с Кавказа тягать дерева вертолетами и прогорел. А с нашими долинными лесами можно было обойтись совсем по-другому, на этот счет у меня есть свое рассуждение. Молодняк не трогать – пусть бы набирал. Из кубатуристого крупномера выбрать старое и клеймить на рубку. Только по нашему клеймению рубить – и никаких тебе других инструкций не надо… Пока я бежал по гольцам, стемнело. Видно, придется ночевать. Я чуток спустился в Тушкем. Кынташ криво резал гору на другой стороне долины, чернел едва приметно сквозь жидкий туман и совсем сгинул в темноте, когда я запалил костер. Значит, Симагин вел людей по Кыге, забрал там экспедиционщиков, потом влез на ту хребтину и спустился по Кынташу? Сейчас все они, видно, тоже ночуют, с больным не полезешь потемну. А сюда подняться можно только маральим следом, Тобогоев его должен найти. Где-то тут, посреди склона, есть полянка, Ямой называется, тропа эта место уж не обойдет, потому что в ней стоит чистое болотце, а маралы таким добром дорожат. Я почти не заснул – все ждал, когда засветит над абаканским хребтом заря, чтоб вниз поскорей да узнать дела. Очень уж долго человек без врача, вот что главное. Неужели это тот самый очкастый Легостаев? Сначала-то он мне не понравился, но, видно, с человеком надо побыть в тайге, чтоб судить. Завел я его тогда на Колдор. Он шагал передом, меня не замечал, все время протирал очки рубахой, смотрел по сторонам и вверх – наверно, думал про свою научность. А в том урочище тайга ровная, обновленная и только-только набрала силу. Когда вошли в кондовый древостой, он засуетился, начал обнимать то один ствол, то другой, совсем забыл про меня, закричал: – И эту тайгу рубить?! Отсюда масло надо качать! – Я, конечно, извиняюсь, – сказал я. – Но наука видит, что все эти деревья неодинаковые? – В каком смысле? – В таком смысле, что одни полезные, другие вредные. – Не понимаю, – он смотрит, а я по глазам вижу, что голова у него работает на другую тему. – Вот это, – показываю, – вредная кедра стоит. – Почему? – спрашивает он и сам все не на меня, вверх смотрит. – Она метелкой растет, бесплодная, шишки почти не дает, только другим застит свет. А эта вот – матка! И эта кедра тоже матка, семенистая. Шапкой у нее вершина. Видите? Тут он меня заметил. – Надо, – говорю, – аккуратно разредить тайгу, она получит вволю солнца и даст больше добра. Убрать эти метелки, а маткам дать свет… Инженер совсем меня заметил и закричал: – Это же мысль! Мысль! Приеду – сразу займусь. Опубликую под вашим именем эту идею? И как просто, как просто! Он говорил и другие слова – про смешанные женские и мужские деревья, про выгоды в рублях и горы в кедровых садах, но этого всего я не запомнил, только твердо понял, что наука мало знает кедр – и как отдельное дерево, и когда он поселяется компанией. Дождь, что ли? Дождь. Промочит меня тут или нет? Дождь в тайге всегда плохо. Спать?.. Утром нашел их быстро. В тайге я никогда не кричу, так нашел. Навстречу залаяла собака Тобогоева, узнала меня, и я скоро услышал голоса внизу. Рассветный час там еще не кончился, из тумана выглядывали острые вершины пихт, и в этом молоке кричали люди. Тобогоев встретил меня на крутой, мало не отвесной тропе, обнял и сказал: – Хорошо, однако, Иван, – ты пришел. – А как тут? – Плохо. Пойдем глядеть. У костра было трое. Я узнал покалеченного. Это был он, тот самый, таксатор, которого я водил по Колдору. Лежал без очков, подслеповатый. Спросил меня: – Вы один? – Один, – виновато сказал я, разглядывая больное лицо, ногу колодой, все его слабое тело. Губы у него пересмякли, были сухие и серые. – Никого нет на озере, все ищут. – Ясно. – Он закрыл глаза. – А вас всего-то народу? – испугался я. – Симагин разве не тут? – Двое пошли за водой, – сказал Тобогоев. – Все равно дело никуда. Значит, главные спасители все еще на Кыге блукают, и тут надо управляться малой силой. Еще двое лежали на ветках. Один свернулся калачиком, выпятил круглую спину к огню и не шевелился. Другой – длинный и белый, как макаронина, парнишка смотрел на консервную банку, которая стояла рядом с больным. Я заметил, что в ней было немного воды. Да, тут без воды пропадешь, что и говорить. Носилки Тобогоев, видно, делал? Рюкзаки. Ворох грязных бинтов. Этого-то добра я еще принес. Собака вниз кинулась и завизжала. Там зашевелились кусты. Тобогоев крикнул: – Несете? – Несем! – Несут, однако, – сказал Тобогоев больному, и тот сразу схватил консервную банку. Он даже на локте не мог приподняться из-за палки, привязанной к телу. Вытянул шею и губы, перелил воду в рот. Ее и было-то два глотка, не больше. – Вчера целый день, – услыхал я голос Симагина. – А теперь за час туда-обратно. Он узнал меня и сильно обрадовался, хотя виду не подал, только руку тиснул. Занялся тут же Легостаевым, поит его досыта. Ага, а вот этот, видно, тот самый отдыхающий. Нахохлился в сторонке, часто дышит от подъема, курит. Значит, нас шестеро, Тобогоев не в счет, слаб. Пятеро. Это ничего еще. А они совсем немного его подняли от реки! Да это-то понятно: слабосильная команда, видать, подобралась. Парнишка в городской куртке пьет из кастрюли, как Легостаев, едва голову поднимает. Заболел или раскис? И другой проснулся. Он, конечно, покрепче в плечах, но страшный, оброс весь, глаза мутные, и кашляет со свистом, хватается за грудь. Может, простудился? Завтрак готовить не стали, вскипятили чайник. Это правильно, потому что время-то идет. Я вывалил из своего рюкзака все, что было. Она мне, оказывается, моя-то, насовала туда между делом добра, вчера вечером я и не докопался. Шаньги, шматок сала, сыр, яйца вкрутую, свежий лук, кусок маралятины с чесноком, копченые чебаки, масло в банке и даже обжаренный куренок. А я-то перед ночью еще подумал, почему это рюкзак прижимается к спине. – Цыпленка – Виктору, – сказал Симагин. Он отложил в сторону ракеты, и мы взялись. Черного парня даже трясло, когда он брал еду. А городской таращил на него круглые, будто пуговицы, глаза, и видно, ему было противно. Никто не говорил за едой. Эти двое бирючили, молчали с тех пор, как я пришел. И отдыхающий тоже ни слова, только один Симагин спросил про вертолет, и я сказал, что никуда он не делся, дежурит на Беле и сегодня будет летать, если погода. Поначалу я спереди взялся сам, пусть, думаю, двое отдыхают пока, на пересменку оно пойдет лучше, но сразу же от ночлега такой крутяк вздыбил, что надо было лезть боком, хвататься за кусты, и одному тут никак не выходило. Подскочил отдыхающий, я ему уступил одну ручку носилок, сразу стало легче. Крутяк этот мы с ходу одолели и порядочно запыхались. Я тут понял, почему они поднялись за день всего на пятьсот метров. Больной был не так тяжелым, как неудобным. Его нельзя трясти, резко вскидывать, но самое страшное – уронить таксатора на камни. И руки сильно оттягивало, но не от тяжести, а оттого, что носилки мы все время держали на жилах. На небольшом уступчике затеял я связать наплечные лямки из рюкзачных ремней и подпояски. Кусок веревки к месту подошел. Другие тоже наладили себе такую сбрую, и Симагин даже ругнул меня – где, мол, раньше-то ты был, золотая голова! Это у меня-то этакая голова? Скажет тоже! С детства я пень пнем, ученье от этого еще у меня не пошло, а книги читать так и не привык. Возьму другой раз зимой численник со стены, перелистну два раза и засыпаю. С лямками куда легче пошло. Где поровней, я лез передом один, а сзади менялись все время. Парнишка, которого называли каким-то кошачьим именем, совсем почти не мог нести, только поддерживал. – Что? – спрашивал его Симагин на привале. – Ощетинились, а? – Не могу. – Вверх всегда приходится через «не могу». Пошли? Я медленно поднимался, а отдыхающий не давал мне первому встать, вскакивал. Нарочно он это, что ли? Или силы у него больше, чем у меня? А черный тот парень, видно, вконец ослабел. Вначале еще хватался за ручку, а потом отстал. Кому я удивлялся, это таксатору. Он пока ни разу не пикнул, хотя мы его сдавливали носилками с боков, иногда потряхивали. На остановках я заглядывал ему в лицо: живой или нет? Симагин не давал много отдыхать, поднимал, мы кое-как продвигались по тропе на десяток саженей и снова садились отдышаться. Тропа пошла кривулинами. Когда спускался, я заметил это место. Неужели мы так невысоко поднялись? Отсюда еще, наверно, с версту до поляны будет, не меньше. Это по прямой, а повороты удлиняют тропу вдвое, если не втрое. Одно утешало, что ближе к Яме подъем станет, помнится, поотложе. День давно уже разлился, на гольцах, должно быть, ясный и жаркий, а у нас еще не сошла сырость, не высох на траве и кустах вчерашний дождь. И тропа была сырая. Чтобы не оскользнуться в глинистых местах, приходилось ставить сапог ребром, вдавливать каблуки, приседать с носилками и просить Симагина, чтобы они снизу, ради бога, не подталкивали их, пока нога не станет потверже. Потом Тобогоев заметил, как я танцую, пошел с рюкзаком передом, начал бить в глине ступеньки, и совсем стало идти не тяжело. Еще и потому, знать, что глина лепилась в отложинах, где ливневую и полую воду замедляло, закручивало, и она очищалась. Если бы тут большой спад – вымыло бы все до блеска и по крутяку не взять бы так быстро… Мы миновали глинистое место, пошли сухой щебенкой, и тропа снова полезла на отвес, закрутилась в больших камнях. В прогалину ударило солнце, сразу сделалось жарко, пить захотелось. Я знал, что воды у нас нет – кастрюлю выпили сразу, а чайник вскипятили. Была, правда, фляжка у Симагина, однако про эту запретную воду и думать не стоило – мы по глотку спаивали ее таксатору, а он просил пить все чаще. И просил не жалобно, что в его положении было бы понятно и простительно, он просто говорил своим голосом: – Ребята, попить дайте. От этого голоса у меня становилось покойнее на душе, и у других, наверно, тоже – ведь инженер верил в нас, хотя мы сами, кажется, не верили. Таким макаром мы протянем его до гольцов еще три дня, не меньше, а он уже сколько дней без поддержки уколами или чем там еще, уж не знаю. Что у него сейчас под бинтами делается, жутко подумать. Заражение уже есть, наверно, потому что горит весь. Губы обметало, лицо и шея в каком-то жирном поту. И пахнет от него сильно. А шум Тушкема приметно слабел. Снизу уже почти ничего не доносило, лишь камень на той стороне урочища давал слабый отбой. Мы все же продвигались! Вертолет? Он! Положить носилки нельзя – тропа тут была узкой, и мы держали таксатора на весу. Вертолет зашел с гольцов, прогремел над нами, потянул вниз по Тушкему, потом сделал еще один заход, слил вниз свой рев с отбойным шумом реки и затих. Увидеть нас под густым пологом леса было нельзя. Ладно хоть мы его услышали. И еще я заметил, как таксатор потерял себя в тот момент, когда вертолет загрохотал вверху. Инженер широко раскрыл глаза и ровно забыл, что мы тут: замитусил руками, пытаясь оторвать ремень, который стягивал ему грудь. Потом сразу уронил голову и обмяк. Я глаза его запомнил. Они в тот момент были как у соболя в капкане, когда он понял все и на тебя уж не смотрит, а последний раз обшаривает зрачками вершки дерев. – Ничего, Витек! – сказал сзади Симагин. – Сейчас из этих камней вылезем и покурим. Взяли? У нас кончились папиросы и сигареты, остался табак у Тобогоева, но и его было мало. Я давно вывернул все карманы, выкурил последнюю цигарку. Теперь только инженеру курить табак, а мы будем пробавляться мхом. Хорошо, у меня сохранилась в кармане жинкина выкройка. Во время отдыха одолевала какая-то вязкость во всем теле, даже противно за себя становилось. Мне надо было поспать побольше, вот что, тогда ничего такого на привалах я бы не чувствовал. Конечно, я пересиливал себя, поднимался – на свою натуру мне никогда не приходилось жаловаться, но было бы плохо, если б мужики заметили, что я себя пересиливаю. Воды бы сейчас – совсем другое дело! А так она вся вышла потом, и я чувствовал, что усыхаю и почему-то тяжелею. Эта слабость мучила меня с час, а может, и побольше. Потом без причины все тело охватила утренняя легкость, в руки и ноги пришла, откуда ни возьмись, прежняя сила, и я потянул хорошо, даже Симагин со своим сменщиком не поспевали сзади и просили отдыха. А отдыхали мы все чаще, больной тут сам командовал, я и не знаю, нас ли он жалел или ему тоже было тяжело, когда мы его ворочали. Он стал неспокойный какой-то. На остановках не давал нам молчать, заставлял говорить, все время звал к себе Тобогоева. – Еще мало надо терпеть, – говорил Тобогоев и усаживался у головы инженера. – Вертолетом тебя с гольцов сразу в больницу. И нога – это ничего! Если б медведь руки сжевал, а руки целы, хорошо! – Да вы не об этом, – инженер морщился. – Вы о другом. Про тайгу, что ли. – Можно, – соглашался Тобогоев. – Вы так и не сказали, почему это ущелье – заклятое место. – Да брось ты, Витек, ерунду-то собирать! – встрял Симагин. – Почто ерунда? – сказал Тобогоев. – Шаманы не всегда ерунду делали. Вот эту траву, однако, шаманы знали. Вся в волосках, видишь? – Вижу, – покосился в сторону таксатор. – Кошачья лапка. Ну и что? – Кровь останавливает. Шаманы знали. – А почему они все же заклинали это урочище? – гнул свое Легостаев. – Ладно делали, однако! Сюда никто не ходил, и зверь тут жил и плодился спокойно. – Вроде заповедника, что ли? – Считай так… На обед не стали тратить светлого времени, решили идти, пока можем. У меня-то силенка еще была, но остальные сдохли, кроме Симагина, пожалуй. Вот удивительно! Кнут кнутом. Хотя этих тощих экспедиционщиков я знал. Попадаются среди них такие, что любого ходока из наших уморят на тропе. Держался пока и отдыхающий. Он, правда, менялся с малым, которого называли Сашкой, но тянул и подталкивал носилки все же лучше его. Тобогоев шел впереди, разыскивая коренную тропу, потому что в иных местах дорожки разбегались вдоль камней, и можно было пойти по самой работной. А городской паренек совсем обессилел. Он первое время тянулся сзади, потом начал отставать. Мы уходили с привала, оставляли его на виду отдыхать, и он кое-как догонял нас. Я заметил, он почти что полз на локтях и коленках, а в глазах у него все время стояли слезы. Но чем мы могли ему помочь? Парнишка, должно быть, так и остался бы лежать-отдыхать на каком-нибудь уступе, если бы не побоялся один. Что же делать? Страхи-то он переживет, это на пользу, лишь бы не оступился, не покалечился в камнях, а то еще одного придется тащить. Когда он отстал совсем, я затревожился: – Надо бы сходить к нему. Мало ли что… – Да, сдал наш герой, – сказал Симагин. – Это ему не на студента учиться! – Сашка плюнул в кусты и заругался. – Пойду, – решил я. Спустился метров на сорок, досадуя, что потерял высоту, которая с такими муками была взята. Он лежал белый, как береста, разбросал руки и плакал. Оказывается, резиновые фабричные чувяки его вконец разорвались и он до крови посбивал уже пальцы. – Что же ты не крикнул, дурило! – Вы меня только не оставляйте, – захныкал он наподобие ребенка. – Пожалуйста! Я отдохну и полезу… – Ты соображаешь, что всех нас можешь подкосить? Что же ты не сказался? – Чтоб вас не задержать. – Правда что герой! Я распорол свой рюкзак. Когда лошадь в горах потеряет подкову, первое дело обмотать ей чем-нибудь копыто, а то потом не залечишь! А человеку без обуви в таких местах никак нельзя. Выпускают эти тапочки тоже, о людях не думают – резина да брезент на соплях, какая обувь? Я откинул в кусты лохмотья обутки, обмотал парнишке ноги рюкзачным полотном и прикрутил шнурком. Ничего, как-нибудь поползет. – Спасибо, – сказал он. – За рюкзак я вам деньги вышлю. – Дурачок ты! – сказал я. – Пошли. Перед вечером еще раз пролетел вертолет. Он долго урчал где-то вверху, может, примерялся к площадке. Мы чутко слушали его, и не знаю, как другие, а я представлял себе весь оставшийся путь, бурелом да крутяки, что ждали нас впереди, и возможностей не видел. Какие тут, к черту, возможности, когда мы подвигаемся не быстрее мурашей, а таксатор становится все беспокойнее – то просит прикрыть ногу, потому что ему кажется, будто ее едят комары, то порывается разбинтовать себя, то требует курить, то пить, а табак почти весь, и вода во фляге тоже кончилась. В вечернем холодке мы затянули отдых надолго и потом решили ночевать под уступом, потому что никто не мог первым подняться. Я думал, что встанет Симагин и чего-нибудь скажет, а он, оказывается, мертво заснул, откинул большую голову, и только нечесаная бородища торчала. У нас не было воды, вот что крушило. И никак не выходило спускаться за ней к Тушкему. Я пошел бы на это, если б можно было остаться там ночевать. Поутру я быстро бы поднялся без груза, но как остальные? Есть вода в Яме, но до нее надо подниматься, наверно, еще саженей триста по прямой, если не больше, а тут темнота скоро совсем забьет лес и скалы. А впереди – самый главный проход в стенах, изломистый и крутой. В темноте не пройти к воде, и думать даже нечего. – Есть вода! – Тобогоев вылез из кустов. – Однако будет сейчас вода. Мы вскочили. У алтайцев нюх, что ли? Тобогоев повел меня и Симагина подошвой скалы и саженях в двадцати от лагеря раздвинул кусты жимолости. В глубь горы косо уходила черная щель, откуда несло холодом. – Там снег, – сказал Тобогоев. Симагин поспешил за посудой и веревкой, а я потихоньку начал спускаться. Вот это погреб! Я задержался, чтоб подождать Симагина. Надо было посоветоваться – тут можно загреметь черт-те куда, косой этот срез легко спустит меня в пропасть, ни за что не зацепишься. Скользнешь рыбкой – и там. Ага, вот она, веревка! На дне щели вправду лежал снег, прикрытый хвоей, семенами и другим лесным сором. Хорошо, что он заледенеть не успел, а то бы пришлось рубить топором. Я разгреб сор и набил этим зернистым и тяжелым снегом рот. Заломило зубы. – Стоишь, Иван? – услышал я Симагина. – Что молчишь? Есть снег? – Я его ем. – Голос у меня сразу охрип. – Спускайте кастрюлю… Мы заняли снегом посуду и рюкзак. У костра долго и жадно пили дорогую воду и никак не могли насытиться, потому что талая эта вода была пресной и шелковистой, как озерная. Для ужина процедили ее через чистые бинты, сварили суп. Поел я без аппетита, хотелось поскорей лечь… Проснулся от холода, сырости и негромких голосов. Костер пыхал в тумане, одежда на мне была мокрой. В свету маячили черные фигуры. Хотел подняться, чтоб развесить у огня свои кислые портянки, но меня будто магнитом притянуло к земле. Давно уже я так не уставал. Даже на зимней охоте. Другой раз до упаду загоняет тебя соболишка по липким снегам, и то как-то легче сходит. Котелок крепкого чаю или, еще лучше, алтайского толкана – и снова тебя наполняет сила. – Медведь – шкура дешевый, волк – дорогой, – услышал я Тобогоева. – Однако волки тут от веку не жили. У нас глубокий снег и мягкий, вроде русской перины. Волки его не любят. Да ты лежи, лежи, не шевелись… – А ты говори, говори. – Почему не говорить? Мы говорим. Если не снег, мы говорим, волки бы нашего марала давно ликвидировали… – Постой, а почему волк летом не пройдет сюда? – Вот прошел. Два года, как прошел из степей. Марала режет, плохой зверь. – Неужели нельзя вывести его окончательно? – Есть по степям охотник, который волков разводит. – Как разводит? – Берет выводок, стариков не трогает. На другой год опять ему выводок, потому что полсотни за слепого волчонка и полсотни за матерого платят. – Что за идиотизм? Какой дурак эту расценку установил? – Ты думаешь – глупый, а я думаю – хуже, по тому что заставляет охотника жить обманом… Тень Тобогоева качнулась в темноту, потом от костра пошли искры, и стало посветлее. Погреться, что ли? А то можно застудиться. Вон кто-то у костра зашелся в затяжном кашле, не Сашка ли? Он и днем кашлял так же, с воем. – Скажите, Тобогоев, а вы своей судьбой довольны? – обыкновенным своим голосом спросил инженер, но алтаец молчал, и я не знал, что он ответит. Может, скажет про детей – на ребятишек он не наглядится, и я был бы доволен всем на свете, если б у меня были ребятишки, хоть один. – А? Что же вы не отвечаете? Большой вопрос? – Однако вопрос маленький, – сказал Тобогоев. – Ответ большой. – Ну, а если коротко: вы довольны, что так про жили свою жизнь? Тобогоев пустил из костра искры и сказал: – А я ее еще не прожил. Долго я собирался встать, но незаметно заснул и очнулся уже на рассвете. Симагин перематывал возле таксатора бинты, отдыхающий кипятил котелок. Не знаю уж, чего это он затеял. После вчерашнего ужина остались консервы, вермишель и хлеба на раз, и сахару на одного только инженера. И воды у нас полчайника оставалось, а снег в щели весь. Сегодня нам нипочем не добраться до гольцов. Как ты ни крути – полгоры еще впереди, и вертолет снова будет зря палить над нами бензин. Да и вертолетная ли сегодня погода? Туман вроде сгоняет быстро, и светлеет хорошо, и звук от реки далекий, но ясный. Будет погода. С утра зло начали сосать комары, будто рядом болото. Покурить бы хорошо, но алтайца с собакой не было в лагере. Вверху заметил на молодых пихтушках свежие затески. Тобогоева работа. Он пошел к Яме. Туда сходятся все тропы. Там вода. 9 АЛЬБЕРТ СБОЕВ, РАДИСТ МЕТЕОСТАНЦИИ Иногда почти физически ощущаешь, как радиоволны текут, пульсируют, ткутся вокруг тебя и держат, держат в невидимой липкой паутине. Раньше на рабочие сеансы меня мог подменить начальник метеостанции, а недавно его перевели на Аральское море, и я остался один и ничем не могу помочь тем, кто ушел на Кынташ. Если Симагин захватил своих с Кыги, все в порядке, но вдруг они не встретились? Тогда у них сейчас каждый человек на счету. Тобогоев с Жаминым никакие не спасатели, выдохлись уже, наверно, и только хлеб переводят. Хорошо еще, что Шевкунов ушел туда, этот может. Прошлой осенью мы с ним взяли марала на дудку и за день спустили тушу к воде. Срубили кривую березину, перевалили быка на сучья, поволокли вниз. Иван тащил за кривулину, как трактор, а я мелким бесом прыгал сбоку. В отлогих местах брались оба, и тогда я полной мерой чувствовал, как Шевкунов может тянуть. Мне нравятся эти места. С нетерпением жду из Риги отца – он хочет провести тут отпуск, посмотреть, как я устроился. Уж бате-то я уважу! Покатаю по озеру, на рябков сходим в горы, хариуса в Чульче подергаем. И ждет его здесь одно главное знакомство, которое не могло состояться в Риге… Отец у меня человек. Он довольно известный ученый, но не в этом дело. Я его ставлю выше всех людей на земле за то, что он человек. Отец никогда не занимался моим воспитанием. Просто всю жизнь понимал меня, и это было великим счастьем. Помню, накануне распределения состоялся у нас с ним разговор. – Уедешь? – спросил он. – Подальше, конечно? – Так мы все решили. Куда пошлют. – Молодцы! Но почему ты такой скучный? – Папа, у меня тут девушка остается, – решился я. – Оля! – Отец весело посмотрел на меня и пошел на кухню. – Оля, у нас сын вырос. Они пошептались там, и мама, выйдя в комнату, спросила так ласково, как только она одна это умеет: – Ты не покажешь нам ее, Алик? – Нет. Она еще ничего не знает. – Альберт, – сказал отец. – Ты вырос, и я не буду тебе говорить никаких слов, вроде «не спеши, подожди», которые никогда и ничего не меняют. Ты сам все решишь. И я был благодарен отцу, что он не стал расспрашивать и советовать, а незаметно перевел разговор на радиотехнику, о которой мы с ним можем говорить без конца. Свою специальность я полюбил с детства. Сейчас-то я понимаю, что многие годы отец поддерживал во мне интерес к радиотехнике, со временем добившись, чтоб уже не надо было его поддерживать. А ее я встретил на вечере. Она все время танцевала с ребятами из своей группы, и я не смог ее пригласить. Скрывал свое чувство до самого конца, все боялся, не зная, как к этому отнесется она, друзья и, главное, Карлуша, который никогда не поощрял разговоров насчет девчат. Он был парнем серьезным, даже сухим и черствым с виду, но я-то знал, какая у него нежная и беззащитная душа. С отцом мы однажды говорили об отношениях между парнями и девушками. Я попросил его прочесть в юношеском журнале повесть, и он сказал, что не понимает, зачем это начали так много печатать о скотском между молодыми людьми, объяснять и даже оправдывать это очень общими причинами, пытаясь уверить нас, что иначе уже и не может быть, – время, дескать, наступило такое. Отец сделал длинную выжидательную паузу. – Знаешь, – я посмотрел ему в глаза. – Если б все так обстояло в жизни, было бы худо. Но я знаю, что это не так… На вокзале я попросил Карла передать Лайме подарок – вмонтированный в дамскую сумочку транзистор, который я собирал больше года. Поток, на котором учились Лайма и Карлуша, выпускался на полгода позже, и я думал, что заберусь-ка подальше, а ее тем временем ушлют куда-нибудь в другую сторону – она мечтала на Дальний Восток, – и все забудется. Не вышло… В Ашхабадском управлении гидрометеослужбы я сказал, что мне все равно, откуда засорять эфир, но лучше бы залезть в самую глубину пустыни. Молодой инженер, с которым я разговаривал, ухмыльнулся как-то скептически и сказал: – Понял вас, коллега. Найдется такое местечко. Послали меня на станцию Колодец Шах-Сенем. Метеоплощадка, финский домик, в двух километрах древняя крепость и сыпучие пески во все стороны – до горизонта и за горизонтом. На небе ничего, кроме солнца. Ближайшие соседи жили на сто километров южнее; я побывал у них, когда добирался сюда. Там стоял точно такой же домик, пересыпались такие же пески, и палило то же солнце. Только станция называлась Екедже. Когда я привел в порядок аппаратуру, перемонтировал кое-что и облазил окрестности, оказалось, что делать больше нечего. И я за праздник считал день, если после рабочего сеанса можно было посидеть у ключа, чтобы передать приказ на отдаленную станцию, которая не смогла принять Ашхабад, или сообщить еще какую-нибудь пустяковину. Течение времени будто замедлилось для меня, и я взвыл. Правда, какое-то утешение приносила музыка. Как и все ребята, дома я делал вид, что меня увлекает модная, «горячая» музыка, хотя, честно говоря, она всегда меня раздражала тем, что ею были забиты все волны. Может, это шло от моей детской неприязни к музыке вообще, от тех смутных лет, когда родители пытались занять меня нотами и приходящей учительницей? А тут, в пустыне, я почему-то совсем не мог слышать истерических выкриков саксофонов и бесился, если сквозь писк и треск вдруг прорывался хриплый женский бас, может быть, терпимый где-нибудь, только не здесь, в ночной пустыне. Я написал в Ригу, чтобы мне прислали пластинки с музыкой, какую они считают стоящей. Так отец открыл мне Цезаря Франка. Все забыв, я слушал и слушал «Джинов», знал из них каждый такт и, начав с любого места, мог до конца проследить внутренним слухом эту ослепительную поэму. Ночами я искал в темном и чутком мире старую, благородную музыку, вызывающую не искусственный психоз, не ощущение никчемности всего, а драгоценное чувство полноты жизни. И все время я думал о Лайме. Закрывал глаза, и она являлась в тонком белом платье, потом исчезала и снова появлялась, только я не мог никак рассмотреть ее глаз… Мне писали ребята из Риги, но письма эти были без подробностей и какие-то чужие. Наверно, из-за телефона мы не научились писать писем. Они получаются у нас короткими и сухими, а чаще всего шутовскими. Я был недоволен и короткими записками Карлухи, почти официальными, хотя в жизни он был тонким и чутким парнем. Я просил его рассказать подробно, как Лайма приняла мой подарок, и он сообщил, что с радостью. Все. А мне надо было знать, как она обрадовалась. Еще написал ему. Он ответил, что она сказала: «Ах!» Но меня мало интересовали слова, которые Лайма произнесла, мне хотелось увидеть все остальное – ее лицо, руки, глаза. Может, она засмеялась, растерялась, покраснела или погрустнела? Только я не стал больше писать, потому что понял: ни один человек на свете, кроме меня, не увидел бы всех этих подробностей, и я напрасно изнуряю Карлуху, который, как я заметил в Риге, кое о чем догадывался и даже будто бы тяготился моим отношением к Лайме, хотя из-за своей стеснительности и тактичности ничего не говорил. А тут мне с каждым днем становилось тошнее. Тянуло домой, к соснам и пескам на берегу моря, к яхте, которую отец решил поставить на консервацию, к сказочной летней Риге, к ее осенним дождям, к Лайме, шлепающей в босоножках по лужам. Я ждал любых перемен. С первых дней работы меня раздражала Екедже. Я не знал, кто на ней живет, но передатчик там невыносимо барахлил, и я, скрипя зубами, вынужден был слушать время от времени его противное кваканье. Написал туда письмо и отправил с первой же оказией. От скуки и безделья подробнейшим образом перечислил возможные дефекты и даже вычертил схему передатчика с моими улучшениями. Вскоре Екедже зазвучала почище, по крайней мере можно было слушать ее без злости. Еще послал туда одно письмо-инструкцию, и станция заработала хорошо, без единого хрипа или хлопка, и я иногда стал даже путать ее с главной нашей радиостанцией. И вот однажды я принял приказ из Ашхабада: «Опись неисправностей и схему радиста Альберта Сбоева размножить и разослать по всем станциям управления». А через месяц меня послали открывать новую точку. На Кошобе я все сделал чисто, даже захотелось остаться и поработать немного, но меня, оказывается, ожидало еще одно поручение. – Вы в двигателях разбираетесь? – спросил в управлении тот самый инженер. – А что? – сказал я. – Новый движок на Леккере два месяца не работает. Дули ветра – ничего еще, а эту неделю тихо, и ветряк стоит. Не сделаете? На Леккере я с удовольствием разобрал и собрал двигатель, хотя в том не было нужды – неисправность была пустяковой. Потом долго проверял аппаратуру, научил тамошнюю радистку-туркменку делать из маленьких анодных аккумуляторов накальные, объяснил их соединение – короче, всячески оттягивал свой отъезд и все время ловил себя на том, что думаю о Лайме. Будто стоит она рядом и смотрит на мои руки. – Вы довольны, значит, что мы вас гоняли? – спросил в Ашхабаде инженер. – Да! – Я знал, коллега, что так будет, – понимающе улыбнулся он. – Но придется полюбить пустыню, другого выхода нет. Он полагал, что видит меня насквозь, но дело-то было совсем не в пустыне. И когда я снова оказался в Колодце Шах-Сенем, то попытался пусть не полюбить пустыню, а хотя бы привыкнуть к ней. Ночами по-прежнему ловил музыку. Через пики и хребты, чистые, без единой соринки, радиоволны несли индийские песни на два голоса. Их бездонная грусть и целомудренная интимность покоряли и обезоруживали меня. Уходили часы, только я не чувствовал их – время не то чтобы уплотнялось, а попросту исчезало, и с ним исчезало все остальное в мире, кроме меня, Лаймы, наших голосов, звучащих на этой прозрачной волне… Полгода, как я в Туркмении. Письма от ребят стали приходить реже, и я не особенно от этого страдал. Мне начало казаться, что я был уже взрослее их, во мне появилось то, что их еще ожидало. И я чутко прислушивался к себе, к безмолвной пустыне, ждал ответных сигналов. Иногда мне казалось, что я улавливаю их, зримо представляя, как Лайма сидит где-нибудь в парке, включает мой приемник и тоже слушает Дели. Лайма – имя древнего божества, олицетворяющего счастье… И вот однажды произошло чрезвычайное событие, изменившее все. В урочный час и день появился над крепостью наш арендованный вертолет, пошел на посадку. Я побежал к нему, и сердце бешено заколотилось от какого-то неясного предчувствия. Летчик выкатил бочку с горючим и, заложив руки за спину, стоял у машины, снисходительно смотрел, как я подбегаю. Не дожидаясь, когда он скажет обычное свое: «Пляши!», я начал притопывать по черной, в мелких трещинах такырной земле. – В присядку! – приказал летчик, и я сделал, как он хотел. – Маши платочком! – смеялся он, наблюдая за мной. Наконец он выдал мне конверт. Ничего не понимая, рассматривал я обратный адрес: «Горно-Алтайская автономная область… Виндзола Лайма». …Очнулся я в тени вертолета. Летчик обматывал мне голову мокрой тряпкой и поучал: – Наше солнце шутить не любит. Чуть чего, кувалдой тебе по голове бац! Что же мне с тобой делать? – А что? – открыл я глаза. – Ты в порядке? – обрадовался летчик. – А то у меня маршрут только начался. Он напоил меня теплой водой и улетел, а я пошел на станцию. Сейчас я вспоминаю, что думал тогда не о письме, а почему-то о летчике. Мне он не нравился. Вечно вел себя так, будто он главный человек на земле. И напарник его был такой же. Между прочим, я заметил, что все они похожи. Вот и сейчас стоит на моей Беле спасательный вертолет, и Виталий Курочкин, пилот этой машины, хотя сроду не видал своего туркменского коллегу, но держит себя так же по-индюшиному. С вечера сеет мелкий дождь, и я переживаю за спасателей, за инженера, который погибает в тайге, подступаю к пилоту: – Неужели даже для такой тихой погоды ваша машина не годится? – Это вам не пылесос, – отвечает он и смотрит свысока. – А что может произойти, если полететь? – Вы обломки когда-нибудь видали? Нет? А я видал, – произносит он с видом все пережившего человека и даже отворачивается – так ему противно смотреть на меня. – Погода тут – все! Высота, разрежение, понимаете! Винт не держит… Но я вернусь к письму Лаймы. Оно было неожиданным, как землетрясение, и я шел к себе, не веря очевидному факту. Только уже в доме вполне осознал простые истины: да, у меня в руках ее письмо, она разыскала меня, написала сама. «Esi sveicinats, Albert! Добрый день, Альберт! Извини, что пишу тебе как бывшему нашему комсоргу. Ты уже давно работаешь и все знаешь, как надо поступать в жизни, а я только неделю тут и вот решила посоветоваться с тобой. Ты терпеливый человек? Можешь дочитать мое письмо до конца?» В письме было много страниц, и я решил, что буду его читать весь день, постепенно. Но почему она пишет «как бывшему комсоргу»? «Я живу сейчас в самой-самой тайге, но вокруг поселка лес вырублен. На улицах остались огромные пни и гнилые зеленые лужи. Тут большое озеро и горы. До железной дороги триста километров, до Барнаула – пятьсот. Областной центр поближе, но он за горами, дороги к нему не проведены, и я летела сюда сорок минут вертолетом, а не самолетом, потому что аэродрома тут нет из-за гор. И все время идет дождь; можно неделю просидеть, пока вертолету дадут погоду». Дождь – это замечательно! Прохладно. Совсем все другое, хорошее. Озеро, леса. Рыбалка, наверно, есть? А главное – там Лайма. «Сейчас вечер, почти ночь. На улице ревут в грязи последние лесовозы и трактора. Но я не об этом. Хочу, чтоб ты все понял, и подробно опишу обстановку, в какой я оказалась. В моем ведении радиоузел. Штат – двое: я, так сказать, техник, и линейный надсмотрщик. Двухквартирный сборный дом, чуть покосившийся, – мое жилье и место работы. Внутри все грязно. В сильный дождь течет, штукатурка отваливается. На столе среди всякого барахла стоит серый от пыли и без футляра приемник. Когда-то он был „Родиной“. У стены усилительная стойка ТУБ-100. Она состояла раньше из двух блоков, по 50 ватт, а теперь бог его знает как держится один блочок. Все сожжено. Коммуникация и панель измерений работать давно отказались. Удивляюсь еще, как прибор показывает напряжение накала. Остальное все мертвое. Аккумуляторы бывший техник давно перепортил. Его никто и никогда не видел трезвым, он тут спивается вместе с лесничим. Я не расплакалась только потому, что был тут начальник конторы связи. Он сказал, что узел хорошо работал и выход в радиотрансляционную сеть был нормальный, потом толкнул речь, что мне, как молодому специалисту, надо все наладить, и, пообещав сто поддержек, уехал в район. Я еще раз огляделась. Рядом со стойкой два ящика пустых бутылок, заплесневевший хлеб, какие-то раздавленные конфеты. Динамо-машина неисправная, стоит вверх ногами и вся покрыта ржавчиной. Зарядка идет от сети, через выпрямитель, но надсмотрщик сказал, что выпрямитель леспромхозовский и его скоро заберут. Проработала до вечера. Выметала, чистила, терла, перепаяла с надсмотрщиком все предохранители. А утром пришел бывший техник-совместитель забирать свои, как он сказал, шмутки. Они долго спорили с надсмотрщиком из-за бутылок, и мне стало противно. Он забрал „Родину“, паяльник, контрольный динамик, один накальный аккумулятор и весь инструмент. Остался у нас молоток и громадные тиски. Поставила приемник ПТБ, который уже два года не работает – нет ламп. Надсмотрщик отдал технику все совместные бутылки, и тот пожертвовал мне какие-то старые лампы. По поселку несется хрип, шум, треск и все такое, а выход очень слабый: я бегала на конец линии – громкоговоритель там чуть шепчет. Надсмотрщик сказал, что контора не посылала ни запчастей, ни приборов, ни инструмента, а если посылала, то все ломалось и списывалось. Начальство считало, что все есть, а тут ничего не было, и все доставалось в райцентре через пол-литры». Нет, это уж слишком! Я вскочил и забегал по комнате в бессильной ярости. «Прошло два дня, и этот техник затеял еще одну диверсию – утащил антенную мачту. Когда я прибежала к нему, он был пьяный и сказал, что мачта его. Ты понимаешь мое состояние? Я кинулась звонить начальнику конторы связи. Здесь все телефоны на первой линии, я полдня звонила, начальника не было, а больше мои дела никого там не касаются. Передача стала совсем невозможной. Пришлось ночью лезть на крышу и ставить изоляторы, а на сарай надсмотрщик вырубил в лесу маленькую пятиметровую мачту. Немножко стало лучше, когда изолировали от земли, но остаток ночи я проплакала. Утром пошла к начальнику леспромхоза. Там долго было какое-то совещание, а потом он меня не стал слушать – у него план по древесине горит, и радио ему не надо. Секретарь парторганизации оказался получше. Он тут же позвонил в район, и мне через день привезли другой приемник, но он точно такой. Его в районе выбросили, поставили новую сетевую аппаратуру, а мне, значит, негодность». Надо ехать туда! Я должен быть там! В частности, для того, чтобы набить морду этому забулдыге-технику и сказать пару ласковых слов директору леспромхоза. Ему, видите ли, радио не надо! А у населения там наверняка это единственный источник оперативной информации. «Альберт, тебя звали у нас „королем эфира“ за победу в соревнованиях, и ты здорово знаешь радиотехнику. Карл мне говорил, что буквы у тебя поют. Как мне совсем устранить шумы? Посоветоваться тут не с кем. А люди уже целую неделю ругают меня за хрипы, говорят между собою, что во всем виновата „эта девчонка“, а при старом технике было все хорошо и пусть бы он пил, лишь бы знал дело. Письмо пишу всю ночь, иногда перерываюсь и плачу. Тебе я могу сознаться в этом. Вспоминаю нашу Ригу, улицу Меркеля, где мы всегда гуляли, родной поток и думаю о том, что нас мало чему научили. Например, я не знала, как правильно эксплуатировать аккумуляторы, и хорошо, что взяла с собой книги. Надо учить по-новому и динамо-машину, и двигатели, и линию знать. Помнишь, чем только производственным нам не забивали голову, и мы думали, что это нужно! А нужно совсем другое. Карл меня провожал, он мне и адрес твой дал. Его оставили на заводе в Риге. Я тут часто вас всех вспоминаю. Привезла сюда приемник, который мне Карл подарил когда-то, – чудесный транзистор, запрятанный в сумочку, только здесь нет батареек. Карлуша – большой чудак. По своей скромности сказал, будто приемник не он делал, а ты. Узнаешь Карлушу? Как будто было тебе время с твоими общественными нагрузками заниматься такой работой. Ar labu nakti, Альберт! Спокойной ночи!» Я решил ехать на Алтай. Инженер, с которым я был уже запросто, сказал мне в Ашхабаде: – Это нереально, коллега. – Уеду! Пешком уйду! Расчет, документы – все это пустяки. Я должен быть там. Я без нее жить не могу. – А она без тебя? – засмеялся он. – Она пока не в курсе. Инженер свистнул, назвал меня вахлаком и сказал, что почти решено перевести меня на главную станцию и дать инженерскую ставку. – Нет, не могу, – решительно отказался я. – Ладно, коллега, – неожиданно сдался он. – Я сделаю все, что от меня зависит. И знаешь почему? Дело наше ты любишь больше, чем я. И девушку свою тоже. А у меня так не выходит, понял? У него был какой-то грустный вид. Инженер помог мне оформить перевод в Западно-Сибирское управление, а там уже было проще. Так я оказался на Алтае. Лайма сильно испугалась, увидев меня, и я тоже совершенно потерялся. На Беле я прожил остаток осени, зиму, весну, и вот уже середина лета. Радиоузел в поселке работает хорошо, и вообще все тут идет нормально. Только вот это несчастье в тайге. Мне даже страшно, если Лайма узнает, что все эти дни я был рядом, но ничего не сделал, чтобы помочь в спасении человека. Приходится все время дежурить на станции, принимая бестолковые и противоречивые распоряжения этого Сонца, который, очевидно, совершенно не знает местных условий. А с Легостаевым я познакомился ранней весной. Лесоустроители организовали в Беле перекидной пункт на пути в тайгу – у нас есть причал, огороды, рация. Людей тут побывало много, и я запомнил не всех. С инженером, который сейчас попал в переплет на Тушкеме, мы встретились у каменной бабы. Изваяние бесстрастно пялило слепые глаза на юг, в глубь Азии, и Легостаев смотрел туда же. – Сильная штука, – сказал он, поправляя очки. – То есть? – не понял я. – Точка зрения, – пояснил он. – Выбор места захоронения. Смотрите! Середина террасы, и тут же естественный холм. И вокруг трава, потому что сюда просачивается влага от ручья. А вы заметили, что над озером заселены только те полки, по которым сбегает вода? Улавливаете мысль: где вода – там люди, где люди – там память. Но главное – направление взгляда! Смотрите – дорога к небу! Нет, в древности люди были не глупее нас… Словно впервые я взглянул на панораму, открывающуюся с холма. Горы на юге, перекрывая друг друга, громоздились все выше и выше; вот на вершинах появились ермолки ослепительной белизны, а на горизонте, в самой короне, снега светили каким-то особенным сиянием. Инженер вынес из того, к чему я успел присмотреться, свежее впечатление, мысль, и для меня это было очень ново и важно. Я просил Легостаева выкроить время, чтоб вместе поплавать по озеру, надеялся, что он по-своему увидит здешнюю красоту, которую я пока принимал безотчетно. Однако не дождался – Легостаев все время шутил, что со мной плавать не рекомендуют и он будто бы даже записал это положение специальным пунктом в правила безопасности для таксаторов симагинской партии. Кто ему наболтал – не знаю. Тут вообще насчет меня и моей лодки много преувеличений. А я не нарочно рискую – мне надо хоть иногда видеть Лайму, вот и все. Осенью я сразу же сообщил в Ригу о переезде, и отец это воспринял хорошо. Написал ему, что до поселка шестьдесят километров и, чтобы почаще бывать там, нужна лодка. Он срочной скоростью занарядил из Риги дюралевую посудину с мотором «Москва». Не яхта, конечно, но все же можно и на ней гонять, если без перегруза. Когда я освоился на здешней волне, то начал выходить почти в любую погоду. С ветром-то и водой я познакомился еще в детстве, на Балтике, и за это всю жизнь буду благодарен отцу. Тут одно только плохо – везде отвесные берега, и в случае чего пристать совершенно некуда. А озерные ветры не так уж страшны, нужно только узнать их и для начала переломить себя. Когда построю яхту, эти ветры мне помогут: верховной – к Лайме, низовкой – домой… И тогда уж мы походим под парусом, хотя Лайма невозможная трусиха. Помню, как этой весной впервые после долгой зимы я подплыл к поселку, нетерпеливо просигналив: «Идут радисты!» Для этого я специально поставил на лодку аккумулятор и клаксон. Она выбежала на берег в легком платье. А у них там есть одно любопытное место, в истоке Бии. Из леспромхоза в колхоз и турбазу переброшен деревянный мост, и метров за двести до него недвижимая озерная гладь обрывается, вода начинает шуметь, вертеться, под мостом она проносится на хорошей скорости, а за ним уже в полный голос ревет на камнях. Из этого рева, брызг, воронок и бурунов рождается Бия, отсюда она берет изначальную силу. Лайма прыгнула в лодку; и пока она усаживалась, я смотрел на горы. День стоял ясный, а на душе у меня была какая-то неопределенность. Мы не виделись четыре месяца. Зимой северная половина озера замерзает, а по южной гоняет ветрами большие льдины. Чтоб ни о чем не думать, начал строить яхту; и Тобогоев, вернувшись с промысла, мне помогал. Но я все равно думал… – С тобой что-то происходит? – спросила Лайма, когда я взялся за стартовый шнур. – Что?.. Я дернул стартер, и лодка, оставив у берега синее облако, рванулась к мосту, проскочила между понтонами. Лайма вцепилась в борта, смотрела на меня расширенными, светлыми своими латышскими глазами. На бурунах я прибавил оборотов, пошел кругами и восьмерками. Брызги бросало в лицо, сеялась водяная пыль. Потом на мосту забегали какие-то люди. Они махали руками, кричали, но за шумом воды и мотора их не было слышно. Когда я пристал к берегу, подбежал интеллигентный старичок, местный врач. – Этого я не позволю, молодые люди! – закричал он слабеньким голосом. – Категорически запрещаю! А вы, молодой человек, приплыли сюда моих пациентов топить? – Я его сама попросила, Савикентич. – Лайма отжала мокрые волосы. – Утонете, – сказал старик. – Как я вас тогда вылечу? Он смотрел на нас, чуть заметно улыбался в седые усы и, казалось, видел меня насквозь. Когда Лайма поднялась на берег, доктор сказал: – Если вы пообещаете больше так не шалить, я организую вам несколько свиданий. – Каким образом? – Противоэнцефалитные прививки делали? – Нет. – Три свидания есть! Потом на зобное исследование приедете. А там еще что-нибудь придумаем… Савикентича, этого расчудесного старика, все тут знают. Один раз я подвез его на радоновый источник, и он мне признался в своих увлечениях, порассказал таких штук, что я только ахал. Савикентич уже в очень преклонных годах, слабый, и в дождь или туман ему давит сердце. А вообще это замечательный дед! Старые алтайки считают его чуть ли не святым, а на могилу его жены, тоже врача, даже носят цветные тряпочки. Эти дни доктор дежурит на нашей Беле. Как прилетел вертолетом, так и остался. Чувствовал себя все дни неплохо, только его беспокойство заметно нарастало. Действительно, с ума сойдешь оттого, что совсем рядом, а не помочь. И если б еще этот начальник-дубина не увел всех людей на Кыгу! Я сообщил в леспромхоз, что инженер Легостаев находится в тяжелейшем состоянии на Тушкеме, попросил еще прислать людей, но с директором леспромхоза любое дело трудно проходит – он рассудил, наверное, что здесь больше двадцати человек из экспедиции, местные алтайцы, врач, и не стал обременять себя лишними заботами. Если Сонц еще на Кыге, то вся надежда на тех, кто с Симагиным, да на Шевкунова. И, как назло, безлюдно сейчас на озере, иногда, правда, забредают случайные туристы. Этот московский парень, что сейчас на Тушкеме, без слов бросил фотоаппарат, рюкзак и – наверх. А приятель его – дрянь. Перед приходом «Алмаза» он поднял ко мне барахлишко товарища. – Хорошо, передам, – сказал я, едва сдерживаясь. – Но почему вы не пошли с ним? – Это мое дело. – За такое дело по физиономии бьют! – Попробуй!.. – с угрозой сказал он. – Да я-то не буду руки марать. Сообщить бы куда следует. – Сексоты, – он оглянулся. – Плевать. – Но почему вы отказались помочь? Просто психологически интересно. – Катитесь вы со своей психологией знаете куда!.. Он уплыл. К вечеру того дня я принял очередную радиограмму из Горно-Алтайска. У меня их уже накопилось порядочно: «организовать», «принять все меры», «не допустить», «доложить». А что тут можно сделать? С тех пор как спасатели ушли на Тушкем, погода стояла неустойчивая. Из-за Алтын-Ту без конца тянулись тучи. Они проливались в озеро, громыхали над нами, иногда ходили на Кыгу и дальше, за хребет. Вертолет без пользы стоял тут, и пилот целыми днями слонялся по террасе. Ночевал он у меня. В первый же вечер он рассказал о себе: с тридцать седьмого года, отслужил, в армии летал и тут летает. Вот и все. По-моему, Курочкин просто воображал – на вертолетчика в этих местах смотрят почти как на бога, и он привык. Утрами он уходил изучать небо. Возвращался злой и не смотрел на меня, будто я был виноват в этих дождях. – Какая-то чепуха! – шептал он себе под нос. – Человек рядом, а вытащить не могут. И еще эти синоптики, чтоб им… – Если тучи с разрывами, скоро погода сменится, – говорил я. – Третий день меняется! Не погода, а как ее… А сегодня еще один человек появился у нас на Беле. Катер «Лесоруб» притащил баржу с трактором и трактористом. Я помог срубить помости, чтоб спустить машину на берег. Тракторист – чумазый спокойный малый, родом из Белоруссии и говорит по-своему: «трапка», «бруха», «дерабнуть». Зовут его Геннадий Ясюченя. Он сюда с целины приехал и гор никогда не видал. Будет на тракторе возить сено, а потом разрабатывать нашу террасу под сад – это затея лесничего. Мы с вертолетчиком помогли парню скатить на берег здоровое «бервяно», и Геннадий его мигом раздвоил топором и клиньями. Потом подкатили вдвоем чураки, настлали толстых плах, что были на барже, и скоро трактор фыркал на берегу. Всласть поработали, вымокли немного под мелким дождиком, и я заслужил от Геннадия «щырае дякуй». Славный он какой-то! Хотел по-своему отблагодарить нас, достал из мешка бутылку водки и предложил «дерабнуть за сустрэчу». Но я водку не пью, а Курочкину нельзя. Теперь будет повеселее здесь, и я обязательно освою трактор: не такая уж, думаю, это хитрая штука. А Геннадий все же очень забавный парень! Наверху он робко приблизился к вертолету, поковырял ногтем зеленую краску на брюхе машины, отошел в сторонку с раскрытым ртом и восхищенно сказал: – Жалеза лятае! А? Каб тебя черти у балоте ажанили! Жалеза лятае! Мы засмеялись, но Геннадий был невозмутимо серьезен, хотя по его глазам я понял, что он придуривается, чтобы нас потешить, на самом же деле это дошлый мужик. Когда, например, тучи развело и Курочкин собрался на Тушкем, Геннадий даже не оглянулся на рев двигателя, продолжал ковыряться в своем тракторишке. Вертолет скоро вернулся, и Савикентич, который с самого утра бродил вокруг каменной бабы, кинулся к площадке. Я тоже прибежал туда. Виталий вылез из машины, безнадежно махнул рукой. – Ни прогалинки, ни дымка… – Они там уже давно. Пора бы вытащить, – сказал я. Мы разбрелись в разные стороны. Нет, это уже никуда не годилось! Пожалуй, я после рабочего сеанса махну туда, иначе потом душу себе выгрызу. Если взять попрямее, тут километров пятнадцать, не больше. За лето, пока был начальник станции, я облазил все верха. Самое тяжелое – вскочить на хребет, а по гольцам уж как-нибудь. Захвачу с собой тракториста, он парень здоровый. Но что могло произойти? Неужели так долго не могут поднять? Конечно, там крутизна. Одно неверное движение спасателей может стать для Легостаева роковым. Савикентич говорит, что больному сейчас грозят две опасности – заражение крови и шок, из которого он не выйдет. И надо смотреть правде в глаза – обе эти штуки не только возможны, но просто неизбежны. Сегодня какое? Шестнадцатое? Он ведь уже больше недели без врача, и чудес не бывает. Но идти все равно надо. Пойдем вдвоем с Геннадием, он сам это предложил, когда узнал, в чем дело. Наступал вечер, солнце повисло над щербинами Алтын-Ту, а облака, словно отрезанные этой пилой, ушли на восток, очистив небо. Сырость с террасы сдуло чулышманским феном, и воздух стал полегче. Теперь погода постоит не меньше суток, это уж я точно знал. Сказал вертолетчику, что собрался с трактористом на Тушкем. Пусть выговор схвачу, но мне больше нельзя тут сидеть ни минуты. – Не суетитесь, – сказал Курочкин и долго сморкался в платок – наверно, простудился. – Когда вы туда притопаете? – Неизвестно. Сейчас полезем по тропе с фонарем. Вы же не летите. – Погода сопливая, братуха… – Погоду я гарантирую, по крайней мере, на сутки. – Тогда я буду там раньше вас, – встрепенулся он. – Утречком. Уговорил. Я завел будильник на четыре утра, но спал вполглаза и вскочил за минуту до звонка. Курочкин уже облегчал свой нос, скрипел кожанкой, смотрел на меня независимо и незнакомо. Мы быстро попили чаю, пошли к вертолету. Совсем рассвело, и небо приняло в себя невидимое пока солнце, заголубело. Над головой загрохотало, затрясло легкую нашу кабину, и когда рев двигателей достиг такой силы, что, казалось, должен был вот-вот оборваться от перенапряжения, мы мягко поднялись, качнулись, скользнули над огородами и потянули вверх, к гребню приозерного хребта. Я еще не видел гор с такой высоты. Прошлой осенью вертолетом пользоваться не пришлось – из Бийска добирался в поселок попутной машиной. А горы отсюда любопытны. Конца им нет, это верно, и однообразны они только на первый взгляд. Склоны их заметно отложе и зеленей на западе. Там выделяется хребет Иолго своими неправильными вершинами и выточками цирков. На восток, к Туве и Хакасии, – сплошные гольцы, и в распадках больше камня, чем леса и трав. Озеро уменьшалось, яснее очерчивались его берега. Вот Кыгинский залив раздвинул горы, и от него уродливой рогатиной нацелились в водораздельный хребет ущелья Кыги и Тушкема. Над хребтом выкатило большое ясное солнце, хотя в теснинах было сумрачно – там еще стояли туманы. Тушкем прятался в тени отвесных стен, под густыми лесами, река лишь иногда проблескивала из глубины светлым зеркальцем. Курочкин поправил наушники левой рукой, осторожно перетолкнул правой какую-то рукоятку вперед, и мы пошли на снижение. Сплошная тайга по склону. Изредка промелькивают желтые камни, узкие серые осыпи, но их тут же перекрывает кронами кедров и пихт. Никого! Где же они? Скоро верховье реки. Туман или дым? Дым. Он синее тумана, легче, и его заметней заволакивает по склону вверх. А вот и костер, прямо под нами. Даже несколько. Они! Неужели добрались только до середины горы? Гольцы начинаются за километр от костров, не меньше. Внизу вспыхнула красная искра. Я думал, она достигнет нашего уровня, однако ракета рассыпалась над вершинами. Мы пролетели в лучах солнца немного, развернулись и снова прошли над кострами. Стрельнули одна за другой еще две ракеты. Курочкин дал Шевкунову три. Если они сразу использовали весь запас – значит, у них крайний случай. Опять повернули на костры. Курочкин начал гонять вертолет кругами, то и дело заглядывая вниз. Что он хочет понять? Ветерок от реки вычесал из лесу дым, развеял его на пути к гольцам, и вдруг я прямо под собой увидел крохотную проплешину, глубокий колодец меж деревьев, черные фигурки людей на зеленом пятачке. Это они! Я закричал, но не услышал своего голоса. Курочкин повернул голову ко мне, и я уловил презренье в его взгляде. Что он делает? Улетает? Да, мы лишь порхнули над этой ямой, повернули к гольцам, набирая высоту, и вот уже редколесье внизу, вот скальный камень пошел и черные россыпи. Неужели этот «братуха» не соображает, что он для людей внизу, может быть, последняя надежда? Тут все ясней ясного: они по какой-то причине не могут поднять Легостаева на гольцы. Возможно, что он уже сгорает в гангрене. Люди, как могут, сигналят нам, а мы улетаем? Неужели на эту площадку нельзя сесть? Я тронул рукой пилота, и он дернул плечом. Тогда я снова закричал. 10 ВИТАЛИЙ КУРОЧКИН, ПИЛОТ ВЕРТОЛЕТА Спокойно! Все обдумать сейчас, над гольцами. Эти штатские считают вертолет чем-то вроде пылесоса, даже неинтересно с ними. Моей нежной машинке нужен добрый воздух, а в этих высоких неровных местах он всегда разный по температуре и плотности, переменчивый по направлению и скорости, любит подкрадываться и обманывать – короче, с ним тут надо на «вы». И мой МИ-1 не примус и тем более не ковер-самолет. Когда подлетал сюда, мечтал, чтоб человека они вынесли повыше. На гольцах воздух жиже, но прохладен и хорошо держит. И еще надеялся на площадку, а то в начале сезона чуть не гробанулся с топографами. Они упросили сбросить их у геодезической вышки – в таком месте, где иначе нельзя как одним колесом на камне, другим на весу; поскидали свои приборы и мешки, сами попрыгали, а меня при взлете поддуло справа, и хвост едва не завело на скалу… Горочка тут слава богу! Упадешь – неделю будешь катиться. А эти, с больным-то, лишь до половины поднялись, вылезли на уступчик и надеются, что я к ним сяду. Какой наив! На уступе яма провальная, в ней должна быть вода, и для них это счастливая случайность. А мне тут скорее всего могила. По технике безопасности я даже не имею права туда соваться. Разобьешь себя и машину, а делу не поможешь. Высота чуть ли не два километра, и воздух, конечно, сильно разрежен. Свалиться-то я как-нибудь свалюсь в эту дырищу; и даже если не покалечусь при посадке, то ни за что оттуда не выскочу. Надо еще разок посмотреть. У них там, конечно, последний шанс – недаром все ракеты выпустили сразу и раздувают костры. А у меня есть только одно – редкая для этих мест погода, как на заказ. Ни облачка, ни ветерка. Вообще-то тут осадков больше тысячи миллиметров, тучи гоняет табунами, а для нашего брата самое паршивое дело по-заячьи удирать от грозы или в спешке подбирать площадку. Опять закричал этот кучерявенький братуха, радист с метеостанции. Вот уж не думал, что он такой слабонервный! Я наблюдал за ним на Беле, ночевал у него, и он мне показался. Сдержанный парень. А тут суетится. Тоже, видно, понимает – у них там крайний предел. Надо покрутиться. Это мое право, и тут все решаю я один. Здорово, что мы так рано вылетели: пока воздух не успело нагреть, он подложит мне тугую подушечку при посадке и взлете. И еще одно есть! Дым сносит к гольцам – значит, из ущелья немного тянет. Мне и не надо много, чуть-чуть бы поддержало, мизинчиком. Кроме того, машина с профилактики недавно – тоже дай сюда! Прибытков я все же насчитал немало, но все это, конечно, для собственного утешения. И еще для того, чтобы оправдать незаконную посадку. Но по существу если, трезво – это чистой воды авантюра. Нет, решать надо быстро, а то скоро потеплеет. Неужели нет ни у них, ни у меня другого выхода? Радист мешается, торопит, что-то хочет сказать. Что он мне может сказать? Сейчас еще сделаю круг, попробую связаться с аэродромом. Так и знал: «Закваска» не отвечает. Горы обступают ущелье, и сигналы УКВ тут бесполезны. Может, это и лучше? По радио все равно ничего не объяснишь, а я сяду, если даже аэродром запретит. Сбросил бесполезные наушники, потянул на гольцы, чтоб зайти оттуда, сверху. Да, самая настоящая дыра! Люди машут руками. Но куда именно садиться? Грунт там наверняка вязкий, в мочажинах. И трава сырая. Это в принципе неплохо, уж не будешь озираться, как ранними веснами; огнем из патрубков эту травищу не подпалишь. Надо, пожалуй, еще попримеряться. Самое бы лучшее – сесть с низким подходом, но это исключено. Площадка мала, а деревья вокруг слишком высоки. Пихты немного, больше кедра – это я точно вижу, потому что полетал в пожарном патруле и хорошо научился различать с воздуха любые породы. И еще одно знаю – в таких ямах вечный застой воздуха, на зависе я могу не удержаться, посыплюсь. И будет, как скажет наш командир, «в руках ручка и дерьма кучка»… Еще раз подползу сверху и пройду над ямой с минимальной безопасной скоростью. Потом попробую до нулевки довести, зависнуть над уступом и, если начну падать, скользну в простор урочища, а там уж наберу скоростенки, вылезу. Но что это с головой? Заболела внезапно. Мозги тяжелило и туманило еще вчера, чох тоже некстати одолел перед ночью. Пустяки, конечно, элементарный грипп, однако в рейсе эта штука нежелательна. Да что там нежелательна! Если по строгости, я вообще не мог идти на такой риск. Однако что мне было делать? В принципе-то на здоровьишко пока не жалуюсь. Попробуй, пожалуйся! Перед квартальным осмотром иногда почувствуешь, что желудок немного жмет, но молчишь, потому как мигом отстранят. Врачи на этот счет к нашему брату придираются будь здоров! Иначе, наверно, нельзя – такая уж у нас профессия. Но эта простуда мне сейчас совсем ни к чему. Вот сяду, и надо будет поглотать таблеток… А хорошо, что у меня с бензином в порядке! Сколько? Почти сто восемьдесят литров? Правильно, что я на Беле перелил горючее из подвесного бака, можно еще поприцеливаться. Оглянулся на радиста. Он понял все и засмеялся мне. Ничего парень, мне с ним как-то даже спокойнее. Но зависит здесь все от меня, одного меня. На самолетах уже ничего такого нет. Взлетел, взял курс и пошел под контролем земли, как лошадь в оглоблях. И сажают с вожжами – градус вправо, слышь, градус влево! Нет, если в гражданской авиации что-нибудь и осталось, то лишь у нас, у вертолетчиков… Внизу сообразили – треугольником костры зажгли, поняли, что я ищу, где посуше. Еще я заметил, как блеснула вода, но болотце это стояло поодаль от огней, ближе к высоким кедрам, что густо одели край обрыва и поодиночке шагнули в мочажины. Видно, кострами они отметили лучшее место для посадки. И пора гасить огонь, братухи, а то хвост подпалю. Решено, сажусь. Сейчас зайду сверху, присяду, пощупаю для полной гарантии колесами землю и сразу же сюда. Поняли они меня или нет? Поняли. Погасили. Вот вершины кедров приблизились, их мотает воздушная струя от винтов, даже обламывает некоторые ветки. Ну! Я снял поступательную скорость, сунул в яму вертолетное брюхо, еще приспустился, норовя угодить меж черных кострищ, и рухнул вниз. Земля. Удар! Так и знал. Слаб воздух. Удар не очень сильный, но я почувствовал, что стою криво и крен машины увеличивается. Колеса! Лишь бы они сейчас не погрузились в мягкую, пропитанную водой землю. Надо подержать на моторе вес вертолета. Главный винт дико выл надо мной, я видел людей под деревьями, они таращили на меня глаза. Газ нельзя сбрасывать ни в коем случае – засосет. И как я взлечу? Попробую все же обеспечить тылы. Газ! Руками, спиной, ногами я чувствовал машину и все ее бессилие подняться хотя бы на сантиметр – винт вращался будто в пустоте и не тянул ни грамма, только чуть придерживал меня у земли. Я взглянул на высотометр-барометр и ясно понял, что попал. Больше тысячи шестисот метров, и непродуваемая ветром яма. Влип… – Вылезай! – закричал я в ухо радисту. – Ползком! Сразу палок под колеса, палок! И гони всех от хвоста, порублю! Подальше от хвоста, понял? Он вывалился наружу. Я был весь горячий, однако соображал хорошо, ясно. По траве подползли двое с большими сучьями и тут же назад. Наступившая тишина совсем отрезвила меня. Когда винт остановился и я открыл дверцу, крики людей показались не громче комариного писка. Начальник партии Симагин, которого я четыре дня назад привез на Белю из лесу, обнял меня, перехватил дыхание, неприятно тиранул по лицу своей бородищей, спросил: – Грузить начнем, орел? – Как больной? – Очень плох. – Грузить не будем, – сказал я. – Как это так? – остолбенел он. Я ничего не стал объяснять. Мне надо было покурить, успокоиться и взглянуть на человека, который тут пропадает. Десятый день в его состоянии! Кроме железного здоровья и характера, надо иметь еще что-то. Мы поднялись на сырой, мшистый, заросший кустарником пригорок. Симагин шел рядом, со свирепым видом ждал объяснений, но я еще сам должен был подумать. Он лежал под ворохом одежды у небольшого костра, переводил взгляд из стороны в сторону и будто бы не видел ничего. Потом глянул на меня, и в глазах его я заметил какой-то нехороший блеск. – Прилетели? – спросил он таким обыкновенным голосом, что я вздрогнул. – Курить есть? Моя пачка «Памира» пошла по кругу, и тут я увидал остальных. Руки у них дрожали, когда они тянулись с сигаретами к моей зажигалке. Самих спасателей надо было спасать. Смотрели на меня с надеждой, а что я мог им сообщить? Симагин отвел меня в сторонку. Выдержал паузу, необходимую перед серьезным разговором. – Моя фамилия Симагин. – Знаю. Я же вас из партии вывозил на днях. – Разве? Извините, не узнал. С кем, извините еще раз, имею честь? – Курочкин. – Как вас понять, товарищ Курочкин? – Дела наши паршивые. Просто хуже некуда. – Вертолет не в порядке? – В порядке, а что толку-то? – Говорите сразу, – попросил Симагин. Мы сидели на корне большого кедра. Я курил и оглядывал площадку сквозь низкие косматые ветви. Ну, влип! Вытаскивал из Ирбутинских цирков охотника без сознания, снимал вконец оголодавших диких туристов со скал, один раз даже заставил двух геологов выпрыгнуть у берега в озеро, чтобы не утопить перегруженную машину, однако в такую бяку не приходилось еще попадать. Камни на краю обрыва и довольно крутой склон, падающий сразу от моего вертолета, образовали тут что-то вроде огромной продолговатой чаши. Половину этого гнилого корыта занимало болото, поросшее кедром. В яме было сыро, выемка эта собирала воду из предгольцовой зоны, а может, и родники где-нибудь тут били из-под камней. Комары жалили шею, руки, прожигали брюки на коленях… Я сел сюда незаконно, и мне нагорит за нарушение руководства по летной эксплуатации. Главное – я могу не вылезти из этой ямы. Высоко, воздух разрежен… – Слушайте! – Симагин даже стукнул кулаком по корню. – Зачем же вы садились? – Ну, знаете… – сказал я. – Ладно, извините. Не хватало еще нам поссориться. Понимаете, больной на пределе. Мы пошли драть траву, чтоб вам можно было сесть, а он распорол ножом бинты и даже ногу задел в одном месте… – Да я-то его понимаю. – И мы сдали порядочно. А до гольцов еще километра полтора по чертолому. Не донесем. – Идемте-ка на площадку, – поднялся я. Мне надо было отчетливо все тут понять. Самому, никто не посоветует. Значит, так: площадка минимальная – двадцать на сорок. Единственное более или менее сухое место – здесь, и я счастливо угодил на этот пятачок. А прямо из-под колес идет склон в густую траву и бочаги. Значит, так. Над кронами струйка тянула, тот самый мизинчик, о котором я догадывался. У земли я хватал винтами воздух сверху, подминал его под себя и этой подушкой жил, пока совали под колеса полешки. Однако поднять нас с радистом вертолет не смог. Но это было не самое страшное. Я не удержался в горле ямы, где вершины деревьев обрубали струйку воздуха, и тяга резко снижалась. Как теперь поднимусь? Если у самолетчиков посадка главное, то у нас взлет. От вертолета до ближайшего дерева на болоте метров сорок, и мне этот кусочек пространства дороже золота. Попытаться еще раз одному? Вертикально все равно не вырвать, это ясно. А я уголок покруче возьму, дотяну до вершины кедра, а там уж подхватит ветерок снизу, я свободно перейду в горизонтальный полет, наберу скоростенки, какой мне надо будет. Я бы, конечно, слил немного бензина, однако нам категорически запрещают это делать. Неизвестно, что еще может произойти, а при любой посадке мы должны иметь столько горючего в баке, чтоб хватило до родного аэродрома. Нет, нельзя. Единственная надежда – минимальный разгончик… – Еще раз попробую, – сказал я обступившим меня людям. – Один. Вы только не высовывайтесь и от хвоста подальше! Когда я сел в кабину, меня охватило смутное предчувствие беды. И лучше бы они не смотрели так из-под веток! Настороженные и какие-то подозрительные глаза этих людей не придавали уверенности, скорее наоборот: на экзамене все делаешь хуже, чем на тренировках. Симагин стоял ближе всех, и его цыганские глаза будто говорили: «Ты же улетишь сейчас, орел, и все будет законно, по твоей инструкции… Ладно, лети, орел, только запомни!..» Как тут ревет мотор! Звукам некуда деваться, они все остаются в яме, смешиваются, сливаются в сплошной гром. Может, надеть наушники, чтоб не бомбило барабанные перепонки? Нет, не стоит, а то подумают, что я хочу действительно вильнуть хвостом. Мысленно я наметил в пространстве траекторию своего подъема. Вот она, вроде плавной кривой лыжного трамплина, только я пойду обратным ходом, взмою вверх от этой точки отрыва – и к стартовой площадке над вершиной кедра. Лишь бы добиться туда, а там-то уж… Для разгона у меня было всего несколько метров. Ну! Не успел я качнуться, как надо было брать под острым углом на подъем. Последующие секунды ясно отпечатались в памяти. Отрываюсь. Беру на себя ручку циклического шага, даю шаг-газ, хвостовым винтом удерживаю машину от разворота, взмываю – и вдруг чувствую, что главный винт начал перезатяжеляться. Газ был предельным. Стоп! Через секунду я рубану винтом по кроне и рухну. Мгновенно сбросил все, попятился назад, вниз, на прежнее место. Я был весь в пару. Держал на весу машину, наблюдал, как радист ползет по траве на четвереньках, тянет за собой жерди. Подложил? Да, все в порядке. Тишина. Только чуть повизгивает винт, гася с каждым витком инерцию. Голова сильней заболела. Нет, с меня хватит цирковых номеров! И так не знаю, что буду говорить инспектору ГВФ, который непременно прицепится ко мне, – от этих проныр ничего не скроешь, сами попадали в переплеты, знают. – Будем грузить? – спросил радист, открыв дверцу кабины. – А вы разве не видели? – Я хотел добавить еще что-нибудь, но только посмотрел на него. – В чем дело? – спросил, подбегая, Симагин. Другие тоже подошли. Смотрят. Они ведь ни черта не понимают! И как им это все объяснишь? Еще подумают, что я трушу или плохо летаю. Сказал: – Братухи, я ведь чуть не шлепнулся. – А «чуть» не считается! – крикнул кто-то. – Дела наши ни к черту, – честно признался я и сел на сырую землю. Курить хотелось смертельно, и ноги что-то меня не держали. – Ни к черту! – Видно, так, – пожилой алтаец участливо смотрел на меня. – Однако что делать будем? Солью бензин, другого выхода нет. Лишь бы дотянуть до врача. И еще одно, непременное и главное, – надо валить лес. Тогда обойдусь без вертикального подъема. Вылезу. – Топоры у вас есть? – Один. Я сказал, что надо срочно рубить деревья на болоте. Радист убежал, и скоро послышался стук топора. Этот радист, видно, и вправду ничего, моторный парнишка, только уж больно зелен. Остальные тоже потянулись на болото, чтоб рубить по очереди, а мы с Симагиным прошли к тому же корню. Он жевал какую-то травинку. – У меня есть хлеб и яйца, – сказал я. – Ладно, потом разделим. – Он не смотрел на меня. – Вы лучше скажите, есть ли шансы? – Я уже сказал. Надо валить эти кедры. – Их много. – Единственный выход – все убрать. – А вы, значит, даже один не можете взлететь? – Если б мог, я бы уже был там, – ткнул я пальцем в небо. – И что? С приветом? – Нет, товарищ, вы меня не знаете. Через полчаса я прилетел бы с бензопилой. – Спасибо… – Да не за что… Знаете, я даже зря пытался. Когда не чувствуешь уверенности – лучше не браться. – Мне хотелось с кем-то поделиться пережитым, чтобы окончательно прийти в себя. – Я чудом уцелел. А ведь чувствовал!.. – Как это можно чувствовать? – рассеянно спросил он. – Загремел на посадке – раз, с радистом не мог оторваться – два. Знаете, шофер тоже чует, в какой колдобине засядет. Так и тут. Или вот когда берешь мешок, то его надо поднять до пояса, и тогда уже знаешь, быть ему на плечах или нет. И тут, пока я держался на подушке, все понял, но не поверил… – Ладно, не переживайте, – сказал Симагин. – И у меня что-то с прибором. – С каким прибором? – встревожился он. – Указатель шага перепоказывает. В общем это долго объяснять… На болоте упало первое дерево. Начало есть. Только вот жарко становилось. Солнце уже повисло над кронами, било сюда, в яму, грело парной воздух. Да, какая-то доля секунды, и было бы тут в самом лучшем случае два инвалида. Прибор подвел, и воздух уже стал потеплей, совсем не держал. Но в принципе наш воздух еще ничего. Вот зимой армейский друг из Средней Азии прилетал, рассказывал, как там братве достается. Масло перегревается, винт плавает, как в вакууме, а десять минут постоишь на земле, хоть рукавицы надевай – ни до чего не дотронешься в кабине, обжигает. Друг рвется в Арктику: прохладно, мол, гладкие места, и работенки там много, и «северные» платят. Но дело, конечно, не в деньгах и не в летных условиях. В Арктике тоже слава богу! Просто у друга еще остался норов чистопородного истребителя. Всем нам трудно первое время на гражданке, я тоже не сразу успокоился. Долго стартером ошивался, знаки выкладывал, и меня не брали в дело, отговаривались, что раньше летал на других самолетах. На самом же деле тут требуют новых качеств, и наша резкость не котируется. Принимали в партию, спросили: «Почему стартерничаете?» – «Хочу летать», – сказал я, и вопросов больше не было, лишь командир рубанул, как рекомендатель: «Бросьте, товарищи! Есть куры, и есть летчики. Этот летчик…» Симагин ушел рубить, а я решил еще раз посмотреть больного. На пригорке, в тени пихтарника, было дымно. Чадили старые гнилушки в костре, и комаров тут вроде зудело поменьше. Инженер был закрыт с головой – тоже, наверно, от комаров. Подле сидел алтаец и что-то ему рассказывал. Увидев меня, замолчал. – Говорите, говорите, – попросил больной из-под тряпок. – Сейчас будем говорить, – сказал алтаец. – Пилот пришел. – Слушай, приятель, – наклонился я к больному. – Ты держись, скоро я тебя выдерну отсюда. – Ладно, – отозвался он. – Пол-литра за мной. – Я тебе сам поставлю, – возразил я. – Ладно. На болоте затрещало. Кто-то хорошо там рассчитал – огромный кедр рухнул на соседнее дерево, вывернул его с корнем и подмял. Хорошо, меньше рубить. – Много там еще? – спросил больной. – Да не сказал бы. Пойду помогу… Рубил парнишка в двухцветной куртке с капюшоном. Замахивался он робко, топор отскакивал, и щепа почти не сыпалась. Это не работа – перевод времени. Парень охотно отдал мне топор и сел рядом с другими на поваленную лесину. Они все так же недоверчиво смотрели на меня. – Перевод времени, – сказал я. – Этак ночевать, братухи, придется. Начал рубить, чувствуя в руках какую-то непривычную слабость. Топорище было длинным, давало хороший замах. По весу топор тоже был вполне годным, однако в целом он не понравился мне. Слишком большим оказался угол насадки, и замах пропадал, потому что сила удара уходила из-под центра тяжести. Я скинул кожанку. И надо бы поточить топор, а то, видно, весь сезон никто за это дело не брался. Как мы умеем всякое пустячное дело испортить! На семь человек один топор, и тот с изъянами. Не годится. В тайге без топора – что в море без весла. Этот кедр я все же добил. Скосил ему на зарубе направление и положил дерево на жиденькую, но высокую пихту. Она слабо хрустнула и покорно легла в болото. А работа тут только начиналась. Крупных деревьев стояло десятка два, да мелочи не меньше. – Не топор, – сказал я, – а этот, как его… – Кухаркино добро, – подтвердил Симагин, сменив меня. – Она им с весны дровишки колет, но больше, видно, по камням норовит… – Паршивые наши дела… – Да… уж… куда… хуже, – между взмахами сказал Симагин. Вокруг него вились пауты. Он засек пониже, у пояса. Это правильно. Толщина немного прибавит работы, зато лезвие будет вонзаться как надо и компенсирует неверную насадку. Рубил он здорово, с подергом. Я подошел к бревну, чтоб немного посидеть. Парнишка в куртке и с замотанной в брезент ногой лениво разгребал перед собой гнус. – Как оно, «ничего»? – Просто какой-то ужас! – жалостливо сказал он. – Именно? – Кусаются. – Это еще не пауты, – утешил я его. – А то есть такие, что уши начисто обкусывают. Это да! Сидящий рядом человек не то чтобы улыбнулся, а просто показал белые зубы и спросил: – У вас что-то с каким-то прибором? – Перепоказывает. – Можно взглянуть на вашу погремешку? Я ведь, знаете, тоже рублю по-городскому… Мы пошли к вертолету. Я по косогору, а он, чуть прихрамывая, прямо, болотом, потому что был в сапогах. – Какой прибор? – спросил он, когда мы приблизились к машине. – А вы что-нибудь соображаете? – Да нет, – он опять по-своему засмеялся. – Хотя и конструктор. Вы в общих чертах… Мне это понравилось, и я охотно стал ему объяснять. Ручкой шаг-газа регулируется угол атаки. Когда я круто и почти без разгончика взял, вся надежда была на то, что лопасти захватят вволю воздуха и вытащат меня, но вдруг почувствовал перегруз – мощности двигателя не хватало для этого угла атаки. Полного перезатяжеления не произошло – я успел среагировать. Если б через секунду вес вертолета превысил подъемную силу, я загулял бы вниз. Конструктор все это понял, и я ему пожаловался на прибор, который, видно, после профилактики начал врать градуса на полтора-два. Ошибка прибора создает опасность неожиданного перезатяжеления винта. Конструктор, слушая меня, с интересом рассматривал кабину, приборную доску, что-то соображал. Потом он предложил очень простую вещь – сверить прибор с механическим указателем шага, учесть ошибку и не добирать пару градусов ни при каких обстоятельствах. Шарики работали у этого конструктора, только я решил, что обязательно для пробы еще раз взлечу один, чтоб с больным не перезатяжелиться. Вот только прорубим просеку. Там еще одно дерево упало. Я достал из ведра с инструментом новенький личной напильник. Надо немного пошаркать топор, а то он больше руки оббивает, чем рубит. И выгоню-ка я паутов из кабины, мы с конструктором напустили сюда их порядочно – эта серая тварь почему-то обожает запах бензина. Другой раз в воздухе прилипнет к ноге и сосет, а руки у тебя заняты. Или еще полосатые такие оводы есть, мы их «матросиками» зовем. Не насекомые – пули. На взлете спикирует в глаз – запоешь… Гнус, наверно, так и держится в болоте, потому что на водопой сюда все зверье сбегается с гольцов, недаром вокруг зеркала трава подчистую выбита и земля утоптана. Давно здешние комарики такой вкуснятины не пробовали! Может, вообще первый раз за все века человечина попалась. Ладно, жрите, черт с вами, лишь бы вытащить отсюда больного! Да, не забыть еще таблетку проглотить, голова тяжелая… А радист совсем неплохо рубит! Он не опускает топор, вертит им над головой, и удары частые, точные, осыпающие мелкую древесную крошку. Ему перестойный кедр попался, с дуплом. Старик пожил свое. Сердцевина его сопрела, уничтожилась, и радист довольно быстро перегрызает остальное – толстую деревянную трубу. Ухватка есть у парня, ничего не скажешь, только он сильно торопится и скоро, наверно, выдохнется при таком темпе. Нет, ничего. Машет себе и машет, и даже не оглядывается на нас, хотя чувствует, что мы смотрим. Живой малый, а с виду тонкокостный интеллигент, вроде этого, в куртке. Вот кедр утробно заскрипел, шевельнул кроной, вертанулся на пне и пошел: он ничего не подломил собой, рухнул наперекрест с другим деревом и распался надвое; из слома брызнула желтая труха – сердцевина выгнила высоко. Радист повернулся к нам, засмеялся совсем по-детски и вытер лицо рукавом рубахи. Ничего малый! Я поточил топор и хотел приступить к очередному дереву, однако большой дядька-лесник, которому я давал в Беле ракеты, уже похаживал вокруг мощного корневища, обминая сапогами траву и кусты, приглядывался к стволу, охлопывая его широкими ладонями, сморкался в стороны. У этого с топором были совсем другие отношения. Сначала я даже не понял, как можно рубить в такой неудобной стойке, но потом увидел, что лесник левша. Однако это нисколько не мешало ему, а, может быть, даже помогало. У него был замечательный круговой мах! Руки свободно держали конец топорища, ноги были широко расставлены, а корпус ритмично раскачивался, примеряясь к маху и усиливая удар. Лесник сделал большой кривой заруб. С умом. Щепа летела крупная, и ее легко было снимать немного наискось, избегая упругого сопротивления поперечных волокон. Кедр стоял здоровый, молодой. Он разросся на мочажинах – этой породе воды только подавай, все высосет. Но недолго ему оставалось жить. Удары топора следовали через равные промежутки, глухим эхом звук отбивало от леса и камней, заруб с каждой минутой все шире раскрывал зев. Я мог оценить эту работу, потому что до армии приходилось с топором иметь дело. Знатно рубил лесник! Мы ушли на сухое место, развели костерок, сунули в него старый гнилой пень – от комарья. Симагин сходил к больному и вернулся. – Как он там? – спросил я. – Тяжело ему. Боюсь, не выдержит. – Знаете, когда есть надежда… – А она есть? – Есть. Вы как ему сказали? – Говорю, еще десяток надо свалить. – Врать не надо, он же считает. – Ничего. Там прибавим… Смотри-ка, Иван уже добил! Кедр отсюда был виден весь, от комля до макушки, и лесник будто уменьшился под ним. Не дерево – песня! Было в этом кедре какое-то особое соответствие размера, формы и цвета: ствол греческой колонной и плавно закругленная вершина, грузное корневище и разлапистые сучья, фиолетовые шишки в густой хвое, а темно-зеленая плотная хвоя на голубом небе даже отдавала в своей глубине синим цветом; короче, я не могу передать словами, чем был так хорош этот кедр. Люблю я все же родной Алтай, какая там Арктика!.. Лесник перестал махать топором, осторожно подсекал края заруба. И вдруг неподвижное дерево дрогнуло все до вершины, чуть развернулось, словно бы желая перед смертью показать себя солнцу, и начало падать; сначала медленно, едва заметно, потом ускоряясь, крона загудела на лету, и земля охнула, присела, как от далекого взрыва, твердые, недозревшие шишки раскатились по камням, забулькали в воде… Голову мне заволакивало и давило. Грипп, это ясно. Посижу, а то будет хуже. Под частый перестук топора я немного вздремнул у костерка, пожалуй, с полчасика. Айн момент, кто это так лихо рубит? Вон оно в чем дело! Оказывается, они решили втроем. Иван, Симагин и радист не давали топору отдыхать ни секунды и на пересменку перегрызли уже до половины еще один здоровенный кедр. Этот, однако, тут король – не меньше метра в диаметре. Надо еще посидеть. Или уж, наоборот, не распускаться? Пожалуй, сейчас встану и пойду рубить. Пусть только они свалят эту толстую кедрину, которая, на свою беду, захапала здесь слишком много места и запечатала мне выход из ямы. Затрещало, ухнуло и далеко в горах отозвалось. Хорошо. Сейчас пойду. Но кто это так паршиво рубит? Это не работа, а как ее… Ясно, Сашка Жамин. Радист говорил, в какой переплет попал этот мужик, и я узнал его по диковатому виду и разным сапогам. Я вообще стал различать этих спасателей, хотя вначале они показались одинаковыми. В принципе случайная эта бригада сделала великое дело, тут ничего не скажешь. Вымотались они до предела и держались сейчас в зависимости от того, у кого какая была закваска. Вот Сашка бросил свой кедр, затюкал по синему стволу дрянненькой пихтушки. Древесина у нее совсем мягкая, и Сашка начал рубить споро, с какой-то даже злостью посылая топор в заруб, но быстро сдал. Когда я брал у него топор, он не смотрел на меня, отворачивался, и я его понимал, потому что парень, видать, собрал все, что у него было, и отдал этой пихтушке. И все же у нас дело подвигалось! Надо бы сюда того тракториста. Он, кажется, немножко с придурью, но топор у него в руках играет… – Постой, друг! – окликнул я Сашку, когда он по шел к костру. – Получай награду! У меня оставалась еще пачка сигарет, и я выдавал по одной за каждую поваленную лесину. Сашка долго не мог ухватить сигарету – пальцы у него дрожали, и он смотрел на меня виноватыми глазами. – Теперь так, – сказал я. – Некурящий свалит дерево – буду выдавать сигарету тебе. – Давай ее на всю курящую гоп-компанию, – возразил Сашка. – Оно верней будет. – Это не мое дело, я тебе буду выдавать. Потом уж я увидел, как Жамин делит общую сигарету, как все примешивают к щепотке табаку мох, а бумагу на закрутку берут у лесника. Меня тоже угощали этой вонючей дрянью. Я кашлял, и алтаец говорил, что это ничего, с непривычки, а ему похожий табак по названию «самсун» приходилось курить на фронте. Мне почему-то запомнилась бумага. Белая, мягкая, вся в пунктирных линиях – выкройка, что ли? А просека получалась! Я собрался с силой, еще свалил небольшой кедр и пихту, но работа была не в удовольствие. Дело не в усталости. Подушечки на ладонях за вертолетную службу стали нежными, и я сбил их топорищем. Кроме того, грипп, видно, брал меня в оборот – лоб горел, выжимало слезу, рубить я больше не мог. Это было не страшно, в принципе. Главное – просека продвигалась к обрыву! Немного узковата, и я не имею права лететь в такой коридор, но из-за этих редких обстоятельств полезу, ничего другого не остается. Надо теперь хорошо промерить площадку, вышагать яму, все рассчитать наверняка: полетный вес, длину разгона, угол подъема. Если уберем еще десятка полтора деревьев, угол взлета получится хороший, пологий. Меня тревожило другое, о чем даже думать было страшновато. Подошел, ссутулясь, алтаец. – Давай, однако, сюда топор. – Еще охота. – Нет, давай. Иди, там я сварил. Сигареты еще есть? Попыхивая дымком, он потихоньку начал рубить толстую пихту, а я направился к вертолету. Желудок привычно потянуло к сердцу, будто сократилась какая-то внутренняя мышца. Все-таки я наголодался тут – почти полсуток без крошки во рту. Принес к костру свой чемоданчик с хлебом, яйцами и куском окаменевшей колбасы. На счастье, Клара ее не заметила, когда я был последний раз дома, не выкинула, и сейчас я был этому бесконечно рад. Яйца отдал больному. Он взял одно, а остальные мы покрошили в суп. Туда же пошла колбаса. Мне зачерпнули этой бурды из черной кастрюли, я быстро все схлебал. Потом налили в ту же крышку от солдатского котелка чаю на бадане, подвинули кулек с сахаром. – Сыпь, сыпь еще, пилот! – сказал больной. – Это же тростниковый. Сыпь! Он лежал прямо передо мной, щурил глаза и был страшен своими ввалившимися щеками и висками. И губы у него какие-то серые, вроде белых. Надо торопиться. Тем более что… – Пилот! – снова окликнул меня больной напряженным голосом. – Вы почему такой? – Нормальный, – соврал я. – Вполне. С болота доносились удары топора. Они были вязкие и быстро глохли. Явно к перемене погоды. Вот почему я не был вполне нормальным. Взлететь и угодить в грозовой фронт – этого еще не хватало! И что за лето? Двух дней не проходит без гроз. Ладно, пойду на площадку. Туда убежал Симагин, и уже другие удары слышались, покрепче, только и они глохли. – Сколько еще рубить? – спросил больной. – А вам разве не говорили? – Они меня охмуряют. – Штук семь-восемь надо убрать. – Ну тогда ладно. Пожалуйста, позовите Тобогоева… После обеда работа пошла хуже, хотя время нас уже поджимало. Солнце ушло за гору, яму задернуло тенью. В принципе, это было неплохо – сейчас тут должен остыть и уплотниться воздух. Но еще четыре дерева стояли в конце коридора! Не знаю, где мы возьмем пороху их свалить. Я уже не смотрел, кто и как рубит. Плохо рубили, едва отковыривали мелкую щепу. Никуда наше дело. Мужики подтощали, у них второй день хлеба нет. Однако что толку рассусоливать? Надо рубить. Я поборол в себе слабину, пристроился в конец цепочки, и мы сообща свалили еще один комлястый кедр. Последний был тут такой. Больше я не мог – меня знобило, и руки крючило. Чтоб не ослабнуть у костра, снова пошел мерить площадку шагами. Ладони болели, голову ломило. И совсем осатанел гнус. Шея и лицо горели от укусов, я никак не мог выкашлять из гортани мошку – она попала туда, когда я рубил. Еще эти три дерева у самых камней свалят братухи, можно будет пробовать. Только братухи сдали, теперь лишь двое рубят – лесник да радист. Остальные у костра дым глотают, некоторые даже легли на сырой мох, окончательно расписались. Сашка, лежа спиной к огню, сильно кашлял, и спина у него вздувалась. Но когда я сказал, что у меня есть таблетки, он почему-то заковыристо обругал их и на том оборвал разговор. А Симагин ушел к больному, занялся его ногой. Нет, я не пойду туда, боюсь. Не забуду прошлогоднего сан-задания, когда вывозил с высокогорья тело чабана. Оно сильно распухло и не помещалось в кабину. У меня кружилась голова от этой близости, от запаха, и я тогда первый раз в жизни пожалел, что связался с вертолетами. Но прав, наверно, командир, который говорит, что настоящий летчик по собственному желанию не уходит… Сколько времени? Восемнадцать ноль-ноль. Меня уже давно должны искать. Затрещало еще одно дерево. У нас уже было больше ста метров, и угол выходил сносный. Должен взлететь! С больным получалось тютелька в тютельку… Только надо хорошо пройти трясучий режим, набрать сороковку, а уж эта-то скорость не подведет, вылезу. Кроме того, просекой потянет сейчас ветерок из ущелья и сразу улучшит обдув винта. Кончать надо эту каторгу. Ребята совсем отмотали руки. – Хватит! – крикнул я. – Этот не убирайте. Последний кедр был толщенным коротышкой и жался к лесу. Он мне, пожалуй, не помешает. Меня охватило такое волнение, будто я поднимался первый раз в жизни. – Все под деревья! И не вздумайте сюда с огнем – я бензин сливаю… – Грузить? – выскочил на поляну Симагин. – Нет. Один попробую. Запах бензина заполнил яму, а в кабине было свежо. Ни одного паутишки – тоже большая радость. Сейчас я разом прорублю винтами это комариное царство, завихрю кровопийц и раздую по лесу. Так, спокойно! Яма загремела, ветки деревьев заходили по сторонам. Чуток прогрею двигатель, а то он, бедняга, застыл тут. Ну, братуха, выручай! Отрываемся? Хорошо держит! Из-под деревьев на меня смотрели, только теперь эти взгляды будто бы помогали мне и машине. Пошел! Белые торцы пней промелькнули внизу, я удачно угодил в просеку. Руки и ноги сами все сделали, а глаза увидели округлые вершины кедров, склон, уходящий круто вниз. Тушкем прятался в глубине ущелья, лишь иногда тускло поблескивал. Стены желтыми языками обрывали тайгу, становились все выше и отвеснее. Выскочил на солнце, только оно было задернуто мутной занавеской – должно быть, подошли с запада высокие туманы, первые предвестники дождей. До смерти захотелось повернуть туда, к аэродрому… Горючее. У меня же совсем мало горючего! Я вошел в полукруг, и гора подо мной тяжело повернулась. Надо опять сверху подкрадываться к этой чертовой яме, только сверху. Вот она. Дымок тянет к гольцам – значит, мизинчик маломальский опять есть. Есть! Я неторопливо и аккуратно сел, а братухи уже навострились – быстро подползли под винт с палками, и через минуту я твердо стал над склоном. – Давай! – крикнул я из кабины, когда стих гулкий шорох винтов. Больного уже несли на куске брезента. Он стонал, скрипел зубами и выкрикивал: «Давай, давай, давай!» – Погодите! Я выбросил на траву ведро с инструментом и чехлы, пошарил глазами по кабине, но больше выкидывать было нечего. Решил слить еще десяток литров бензина – все равно мне дальше Беле не дотянуть. Айн момент! Я же могу снять подвесной бачок! Снял, пихнул ногой в болото. – Давай! – сказал больной, когда его стали засовывать за мое сиденье. – Не больно. Вить? А, Виктор? – спрашивал Симагин. – Витек, больно? – Давай, – простонал больной. – От вертолета! – крикнул я, и они разбежались. Только спокойно! Я в последний раз приоткрыл дверцу кабины, кинул на траву мятую пачку «Памира» с остатками сигарет, включил двигатель, завис. Плохо. Один я легко держался на шаге десять, а тут было уже почти одиннадцать, предел. Коррекция! Сейчас беру максимальный шаг-газ. Хвостовой винт! Удержать машину от разворота, не врубиться в лес. Пошел. Больше одиннадцати не возьму, а то перетяжелюсь. Пониже, чтоб скорость набрать, пониже! Что же это мы сучья не подрубили?.. Я почувствовал, как у меня вспотели глаза. Сорок километров? Трясучий режим прошли над пнями, и я понял, что братуха-двигатель меня не подвел. Выскочили! Обрывное место ущелья, стены. Я скользнул вниз, к Тушкему. Надо набрать скорости и напрямую, через хребет – с высоты о себе дам знать по радио, и бензин сэкономлю на снижении. Выше, выше! Командир хорошо говорит: «Кто к земле жмется, тот раньше срока ею рот набьет». Черт возьми, как ломит голову!.. А уж вечер. Сейчас перевалю гольцы и увижу озеро. Надо срочно объявиться. «Закваска», наш аэродром, за горами и, конечно, не услышит меня, хотя они уже давно там посходили с ума. Руководитель полетов каждые полчаса просит вызвать мой борт, да только без толку. Нагорит мне сразу за все. С командиров звена снимут, это уж наверняка, но главное – инспектор привяжется. Буду говорить все, как было, его не проведешь. И хорошо еще, что Клара моя не знает подробностей, а то бы извелась совсем. Хорошая она у меня, проверенная на всех режимах… Услышит ли меня родная «Закваска»? В прошлом году ее звали «Забиякой», а еще раньше «Занозой» и «Залеткой», но все знают об этих изменениях – и в Кемерове, и в Новокузнецке, и в Томске. Может, какой-нибудь далекий братуха с воздуха меня случайно засечет? Начал передавать для всех и «Закваски»: «Я борт 17807, вылетел с площадки на реке Тушкем, направляюсь в Беле. На борту тяжелобольной. Посадка в Беле». А зря я, пожалуй, слил столько бензина. Мог бы вернуться и сбросить братухам хлебушка… Озеро? Оно. Над Алтын-Ту темнеет, и клубится уже там. Гроза. «„Закваска“, я борт 17807. На борту в тяжелом состоянии больной. Посадка в Беле. Посадка в Беле». 11 ГЕННАДИЙ ЯСЮЧЕНЯ, ТРАКТОРИСТ На целине мы бедовали из-за воды, нам конями ее возили, а это место совсем рядом, но льет серед лета, как в осень на Полесье. Огороды заболотило, бульба вымокнет, и помидоров николи не дождешься. Первый день без великого дождя, это когда я прибыл с трактором на Белю. Тут сразу были знакомства. Одно хорошее, а другое так не сказал бы. Ладно, ты по ветру летаешь, я по земле ползаю, но зачем фанабериться, гонор вперед себя пускать? Вертолетный пилот хоть и допомог по-простому нам бервяно скатить, но за километр видно, что воздушный механизатор не может знаться с земляным. Ну, я его купил. Сделал так, чтобы он принял меня, за кого хотел. Он и не заметил, что я его купляю, но радист ситуацию сразу раскусил, все смотрел на меня да моргал. С этим радистом я на добром сустрелся. «Лесоруб» причалил, и тут он. Я и сам бы трактор спустил, тольки радист не позволил. Скатили с горы бервяно, мосток смастерили, и я был рад, что в первый час сустрелся с человеком, который сам допомог мне да поговорил по-хорошему со мною, хоть он и молодейши. Думал я на такое приятельство ответить, тольки не вышло. В поселке запас пол-литру, но летчику нельзя, а радист пьет одно какое-то сухое вино, и если его нема, то ничего пить не может. Такого алкоголика, чтоб таблеточное вино пил, я еще не бачил. А мне треба с кем-нибудь тут познакомиться, а то я сильно переживаю все свое и этот переезд. И если кто скажет, что я дал деру с целины, то брехня это будет. Я кинул там беду и сюда ее привез. Та беда, что я в зерносовхозе сам себя малым дитем перед людьми показал, – половина беды, а вся беда, что людям перестал верить. Почалося это от моего характера и от норову моей бывшей жонки Валентины Ясючени, в девках Коваленковой. Но и люди, я думаю, за такие ситуации должны отвечать, иметь на тяжелые эти случаи один общий характер и одинаковые действа. Много известно, когда молодые сходятся и расходятся, а потом каждый доказывает свое. Он себя оправдывает и ее виноватит, или, наоборот, она его. Клянут тот час, когда сустретились, хотят сделать больше шкоды один одному, и что ни делают или ни говорят, все на плохое, и каждый у каждого как костка в горле. Он потом топит свое горе в водцы, а она – в слезах, и все еще оттого, что есть люди, которые другим ради своего удовольствия семейную жизнь разбивают, рады посмеяться и навести смуток, но все им сходит, как бы так и потребно. А горш всего, что осирочиваются дети, у каких нема еще понятия и какие ни в чем пакуль не виноватые. Оженился я на своей Вале, когда приехал в отпуск. Село наше полесское стоит на меже с Украиной, в нем все перемешалися, потому что наши хлопцы век брали ихних дивчин, а ихние наших. И вот меня и моих братов с жонками запросила до себя Валина тетка сустречать Новый год. Тут нас и сосватали. Я подумал, мне пора, и девка хорошая на вид, как все Коваленки. Мы расписалися в сельсовете, и пять суток шла свадьба, притом без случаев, какие бывают на свадьбах. И я мечтал, заживем с Валей без сварки, как люди, а она будет говорится моим авторитетом на целине, потому что меня уважали ребята и администрация за мою работу и опыт. Валя сказала, что согласна, если будут на Алтае трудности, и я ехал веселый, но все мои мечты вышли наоборот, и я понял, что теща дочку хвалила, пакуль с рук не сбыла. Мы приехали как раз перед весной. Жить нас позвал к себе мой друг Сергей Лапшин. В зерносовхоз мы с ним приехали разом. До службы он рубал уголь и получал больше, чем поверхностный инженер, но поехал за компанию со мной на целину и сел на трактор. Я его учил, и жили мы с ним, как с братом. Где там! С другим братом так не живешь. Пришлют ему с Донбасса посылку, он без меня не съест, и я таксама без него. Работали мы – даже гимнастерки хрустели от поту, и часто рассуждали, когда оженимся и наши жонки будут свариться из-за чего-нибудь, на нас с ним это не должно сказываться. Он справился раней меня, взял Марту Крейсместер с нашего зерносовхоза, дом поставил. Жили они вельми дружно, хотя из-за дома ничего еще не нажили. Наша бригада работала за двадцать километров от центральной усадьбы. Мы с Сергеем ездили туда очищать жилевые помещения да выкапывать технику из-под снега. Работа не тяжкая, но все равно уморишься за день. А вернемся, моя Валя ходит губы надувши. Посварилась с Мартой за какую-нибудь кружку, а на мне зло спогоняе. Голос у нее был звонкий, аж уши режет, и невольно выходишь, чтоб она тем часом замолкла, только Валя, наоборот, с новой злостью давала мне прикурить, зачем вышел. А на посевную мы переехали в бригаду и жили в вагончике тремя семьями. Опять моя Валя не ладит ни с кем, и это сказывается на мне – я злую. Хлопцы меня пытают: «Гена, где ты выкопал такую темную невежу?» А я молчу как за язык повешенный. Раз в субботу приезжает директор Андрей Семенович Богушко и подходит к моему сеялочному агрегату: «Ясюченя, я дочувся, як ты тут сиешь. Теперь награду проси. Квартиру я тебе даю, это положено, а ты за работу награду требуй». – «Ниякой, отвечаю, мне награды не треба». – «Тогда я тебя снимаю с агрегата, – говорит директор, – поедешь на усадьбу, сходишь в баню». О бане мы все давно размовляли. Но тут была моя Валя, и как кинется она на него, что он у меня рабочий день отнимает, а я стою вкопанный и молчу, по опыту ведаю, как она может на мое одно слово тысячу и с такой громкостью, вроде перед ней сто глухих. Малатарня, а не баба. Радовался я, когда мы получили казенную квартиру, думал, Валя переменится, но она не забыла свое. И я все чаще задумывался: из-за чего это все? Почему я теперь стал другим? Не туда сел, не так ступил, не там чего-нибудь поклал, не то сказал. У нас в зерносовхозе всегда на праздник ребята ходили один к одному в гости, а теперь перестали меня запрашать в компании. Раз на Майскую, когда Вали не было дома, позвал я к себе Сергея Лапшина, с каким холостяками жили мы, как браты. Налил стаканы, и не успели мы к губам поднести, ворвалася моя Валя и без каких-нибудь претензий или доводов наши стаканы в помойное ведро – шусь! Серега покраснел от сорому, как бы виноватый, а мне таксама хоть сквозь землю провалиться. Так мой хороший друг и пошел без угощения. Стал я ее сороматить. «Хоть бы ты, говорю, ну в крайнем случае мой стакан кинула, а потом грызла б меня, сколько тебе хочется». Но что ей! Она только и хотела, чтоб я что сказал. Это ей было как курцу табак. Пойду к кому радио послухать – в новом доме еще не было ни свету, ни радио, она мне приложит какую-нибудь бабу, об какой грех и подумать. Возьму билеты в кино – не такие, сяду газету почитать – с рук вырве. А сколько она меня лаяла за те газеты, что я еще холостяком выписал, двадцатку отдал! Одним словом, все нутро она мне выняла, и почалося такое житье, что хата страшной стала. Шутки у меня пропали, а раней веселил я всю бригаду, других смешил, и самому было смешно. Теперь почал проклинать тот Новый год, и братов своих, и тетку, и маму ее. Думал: может, теща тут виновата? Она перед дочкой увивалася, с шкуры лезла вон, тольки б выдать ее за меня. А может, она выдала Валю и надеялася, что дочка переменится замужем? Но когда она приехала на целину проверить, как мы живем, и убачила, кто с нас прав, то сказала мне: «Горбатага вы-прастае магила, а упертага – дубина. Лупи ее, Гена, лупи моей рукой!» И другие люди, даже начальство, советовали применить физическую силу, но зачем мне соромиться? Валя и без сварки поднимет такой гвалт, как бы ее режут, и наполохае всех соседей. А может, главная причина поведения Вали та, что у нас не было дружбы до свадьбы, сустреч, от каких млело бы сердце, провожаний, хороших обещаний, и что никто с нас за другим не упадал? Или то, что у нее два класса, и она николи не читала ни газет, ни книжек? Тольки одно я поздно понял: ожениться – не упасти, не поднимешься, не отряхнешься. Ладно, я случайно оженился, на скорую руку, допустил ошибку в жизни, а если б Валя досталася другому?.. Самое тяжкое в моей семейной жизни было после, но от этих переживаний у меня часто такая великая нуда, что я рад все забыть и поговорить с людями о другом, как в день приезда с радистом. Он сказал: «Тут хорошее место: зимой тепло, а летом рыбалка и природа». Я согласился, что горы, лес и вода создают здесь такую красоту, о какой нельзя не говорить, но говорить таксама нельзя, потому что нема таких слов. Он закричал «здорово!» и поглядел на меня, как гусь на блискавицу, будто не я эти слова сказал. Потом договорилися мы, что я буду позволять ему ездить на тракторе и учить его, а радист рассказал, какой несчастный случай в этих горах. Близко уже десять дней человека с поломанными ногами не могут вытягнуть на чистое место. Я говорю: «Пойдем с тобой, вытягнем», – а он сказал, что сам об этом думал, тольки скоро прилетел вертолет, потому что распогодилося. Вертолет слетал в горы, но никого не убачил, а я до темноты ремонтировал старый причеп, который тут соржавел под дождями. Лег в сарай на сено и заснул, как солому продавши… Назавтра вертолет поднялся рано, до солнца, и побудил Белю. Я вскочил, как ужаленный, бачу, вертолет куда-то полетел, и там радист. Думал, они быстро привезут покалеченного, потому что здесь его чекал доктор, и, может, какая моя допомога потребна будет, а вертолета не было и не было, хотя я все очи проглядел. Часов в десять подошел к моему причепу доктор. Он давно тут ходил и смотрел на горы, откуда вылетит вертолет. Доктор назвал меня «юнош» и спросил: «Как вы думаете, почему они не летят?» – «Прилетят». – «Тут всего километров двадцать, а по прямой еще ближе». – «Добра», – сказал я и опять берусь за работу, но через минуту доктор снова до меня причапился: «Добре-то добре, но где они, где? Как вы думаете, юнош?» – «Сам очи деру». – «Может, они прямо в область? Только над нами бы пролетели, тут негде больше». Доктор переживал, не утаивал от меня своего переживания, и я ему за это в душе говорил спасибо. «Может, они сели на гольцах и ждут, когда его вынесут?» А я николи по горам не лазил и не ведал ситуации. Думал себе, почему не вытягнуть человека? Если он туда залез, то и вылезти можно. Они не прилетели до обеда. Меня накормила алтайка в крайней хате. Она была хворая, ее мужик ушел ратовать этого человека, а детей в хате было, как бобу. Я выскочил, когда заграмытало, но то был не вертолет, то под горой причалил катер с людями. Вернулася экспедиция, какая шукала покалеченного в другом месте. Люди были вельми сердитые, потому что думали, инженер загинул, его река забила в каменнях. Доктор сказал, что хворый помирает на горах недалеко от Бели, а ихний начальник выкатил очи, как сова, обдернул френч и давай своих греть, а за что, не ведаю. Его послали куда следует и еще больше раздразнили. «Кто говорил, что надо разделиться? – кричал он. – Я говорил! Сколько дней пропало! А средств? Один вертолет возьмет три тысячи, это самое меньшее! Вы поняли мою мысль?» Он побег до дома радиста, но тут же вернулся и снова стал кричать. А люди с экспедиции перекусили у палаток и поплелися в гору, за березы. На месте остался только этот ихний начальник. Он долго брился, обчищался у палаток, мазал сапоги хромалином и все поглядывал на небо. А я снова занялся причепом. Треба было надрастить борты, чтобы возить сено с прилесков к озеру. Без бортов много не наложишь, да и растрясешь. За работой всегда мало думаешь, но теперь работа не клеилася, думка лезла в голову, да все та же. Вот тут гине человек, этому есть причина, есть виноватые, а у меня прямо на очах тоже человек загинул, моя Валя. И разом с ней и я половиной человека стал. Спочатку думал, что Валя без работы бесится, а оказалося, что она работать не хотела и не умела. Раз пошла на ток, но и там ей спокою не было. Сустрелся со мной заведующий тока Рутковский и говорит: «Гена, если б Валя не твоя жонка, я бы прогнал ее с тока и николи не пустил». Но потом почалося горшае. Валя стала меня допекать, захотела в бригаду помповаром. Я не соглашался, ведал ее язык и хозяйские способности. Ведь люди в поле работают полный световой день, пыли наглотаются, а нервы у каждого свои. Особливо злятся, когда жирные чашки моются холодной водой или к последним агрегатам суп будет уже разболтанный да редкий. И всегда есть еще такие, что от усталости придираются напрасно, а Валя с ее языком еще больше будет их раздражать. С другого боку, думал, ей треба встать в четыре утра, а легчи поздней всех и воды наносить, и дров наколоть, и бульбы почистить, и много чего еще сделать. Я мечтал, что Валя сильно будет уставать от работы, поймет, как тяжко людям зарабатывать хлеб, и прикусит свой долгий язык. И вот я остался на центральной усадьбе ремонтировать свой трактор, а Валя поехала в бригаду. С того дня мы уже с ней не живем разом. Все получилось недобра. Повариха там Ольга Селиванова, известная всему зерносовхозу своим поведением, ее у нас прозвали «безразличная». Ушла от мужа и сошлася с Игнатом Зябовым, который покинул четырех детей. Этот Зябов вызвал демобилизованного с флота двоюродного брата Гошку Котова. Жонка Гошки приехала уже потом, а до нее он мою Валю зазвал в комнату, где жил Игнатий с Ольгой, и скоро она там стала жить вместе с ними тремя. Часто у них была пьянка с гитарой; понятно, как они жили. Мне про Гошку рассказывали в зерносовхозе, что он Вале и другим показывал заграничные парнографические и однографические открытки. Я рассуждал, что это меня разыгрывают, а сам сходил с ума. Еще и потому больше всего, что Валя-то была уже с ребенком, в положении. Когда я приехал в бригаду на своем отремонтированном тракторе, то зашел в кухню убачиться с Валей, но эта Ольга не дала мне поговорить, выгнала меня под видом приготовления обеда и сказала Вале: «Не живи с ним, Гошка не горш его». Это слыхали Мишка Трут, Женька Воротов, Герка Фабрициус, другие механизаторы. А Гошка в мой приезд расхвалился, что он куда скажет, туда и ведет мою Валю, а если Генка хочет, то при нем ее можно послать за чем-нибудь, и она принесет. Я переживал все это, а Валя там и осталася жить. Гошка ночами играл на гитаре, Валя с Ольгой ему подпевали, а мне б в петлю… Люди меня жалели, но были и такие, что говорили, когда проходил этот гитарист: «Гляди, Генка, твой земляк по одной пошел». Как вспомню, так и сейчас сердце колотится. Как я мог пережить такую ситуацию? Тут я еще больше понял, что у нас в простой жизни много паскудного, и не такая она простая, жизнь. Вот когда человека бьют, то за это покараны будут по законам, а как быть, если катуют словами? Как покарать такого ката? И был один случай, когда Гошку побили. У нас было тяжко с водой. Первые разы ее возили в магазинных бочках, из которых два дня как продали селедку. А если лошадь поведут на уколы, воды обратно нет. Автоцистерна таксама ходила, и мы из-за воды завсегда мучилися. Раз Гошка вернулся в бригаду с поля раней всех и умылся водой, какая была для питья. До пояса облился и ноги помыл, а воды в цистерне было тольки на дне. Хлопцы узнали это, дали ему добра, а он кричал, что ему хочут отомстить за меня. А когда приехала Гошкина жонка и разбила его гитару, он стал чапляться ко мне за то, что люди нас зовут свояками. Поговорил я с Валей еще. Она сказала, это я до всего ее довел, а она хоть голая, да веселая, и будет жить, как захочет. И раз Гошка, выпивший да злой, как шалена собака, пришел за койкой в нашу землянку, схапил меня за горло, повалил на пол и стукнул два раза в бок. Я тут все забыл от злости, и мне попался в руку топор. Плачевно бы все скончалося, если б Миша Трут с Геркой Фабрициусом не разбаранили нас. От греха я уехал на центральную усадьбу в свою пустую комнату, почал пить, хотел на себя наложить руки, но недостало характера. А хлопцы прислали до меня Женьку Воротова с гармоникой. Вечером он зовет на улицу, грая на своей гармонике, а у меня сердце на куски рвется. Сергей Лапшин, с каким мы холостяками были, как браты, таксама приезжал и говорил: «Кинь, Гена! Пошли ты ее к лешему!» А я сел да и написал прокурору района всю правду. И еще ходил в администрацию, тольки никто и ничего не сказал мне разумного. Добрые люди, от каких мне николи отказу не было, если я что просил, разделяли мою беду и осуждали тех, кто ради своего удовольствия подтрунивали надо мною. И эти, что были ко мне хорошие, говорили: «Гена, не треба заглядывать в бутылку, к добру это не приведет, уезжай куда-нибудь, легчей будет». И я послухал их. Я не утек с целины, как утекали другие, забоялися ее оттого, что землю выдуло ветром. Нет. На это я думал: «Что ж, Гена, целина всех нас проверяе великой бедой». Моя причина в том, что с меня самого сняло живой слой. Тяжко было покидать целину, я ж там три года прожил, на моих очах будавался зерносовхоз, тольки мне уже там не жить. Все, что со мной было, огнем запеклося в сердце, и я думаю: «Неужели ж у моей бывшей Вали, у Ольги Селивановой, у Гошки Котова так николи и не заговорит совесть? И хиба ж правильно, что никто не захотел допомогчи, хотя мы живем не в капитализме, где никому ни до кого никакой справы нема? И как мне пережить тоску по Вале и моему осироченному дитяти, какое у нее буде?» А тут тягне к людям, поговорить, подумать разом. Доктору этому я бы все рассказал, он вежливый, понимающий и заботливый. Спытал, откуль я прибыл, чем хворал и почему теперь гляжу, как хворый. Сказал: треба взять у радиста медицинской соли для добавки в еду, потому что тут вода такая чистая, что ее доливают в аккумуляторы, в ней мало веществ, и у человека дрянно работают внутренние секреты, починае опухать под горлом. Доктор подходил озабоченный и такой же уходил, шукаючи в небе то, чего там не было и о чем говорить уже было напрасно. Вечерело, и тут я заметил за доктором другое. Он глядел и на небо, и все частей в тот бок озера, где под самым солнцем были страшенные камення. Спочатку я не бачил там такого, на что треба часто глядеть, но потом догадался: с тех гор шел туман и все густейши. За день я сморился, потому что борты для причепа делал из сырого леса, пришлося срубить много березовых жердей и обчесать их с двух боков. Думал дотемна закончить, а завтра с раницы взяться за сено. Было уже часов семь вечера, когда до берега приплыла лодка с туристами. Они запалили костер и заиграли на гитаре, а я тую гитару слухать не могу, сердцу тяжко. Потом они гурьбою поднялися наверх, к каменной бабе, что стоит на горцы, почали петь не по-нашему, играть и танцевать, трясучи задницами, а я был на причепе. Треба было б их побить за это, но я только крикнул: «Не можно на могиле скакать!» Тут начальник экспедиции подошел и сказал, что с ними треба обходительней, это иностранцы, притом капиталистические. Я от ихней гитары хотел в березы, но они сами сбегли вниз, а начальник закричал: «Летит, летит!» Показался из-за горы вертолет. Он тихо махал винтом. Доктор с чемоданчиком уже бег к огородам, и его ноги подламывалися. Я тож кинулся на ровное место, где вчера стоял вертолет, потому что сейчас он шел на посадку. Открылася дверца, начальник с доктором хотели залезть туда, но тут выскочил вертолетчик. «Живой?» – спытал доктор и полез в кабину. «Живой, но у меня горючего нет». – «Что же вы не рассчитали?» – начальник на него, а я убачил покалеченного. Он лежал сзади, был худой, как рак, мурзатый, черный весь, и ноги обмотаны бинтами. Из кабины шло тепло и нехороший запах. Доктор что-то пытал у хворого, и тот отвечал. Начальник приказал на катер, но доктор крикнул, что до ночи не поспеют, тогда хворый сказал: «Давайте, давайте, только скорей». Мы вытягнули покалеченного и поклали на землю. Доктор послухал его, спытал, где больше болит, потом разрезал штаны и сделал укол. Я побег к трактору, завел его, подъехал с причепом к вертолету. С краю помял помидоры, но пропадай они пропадом, тольки б спеть. Бачу, покалеченный кинул градусник, рве руками траву и все кричит: «Давай, давай!» Почали мы поднимать его на причеп. Он скрипел зубами, ворочал закрытыми очами, говорил: «Выпить бы, выпить», – и дрожал, как от холоду. Я сказал: «Выпить у меня есть». – «Глоток водки был бы кстати, – согласился доктор. – И еще теплую одежду». Я сбегал к своему мешку в сарай, принес бутылку и засмальцованную куфайку. Кружка у меня таксама была. Налил полную. Он половину выпил, а доктор накрыл его куфайкой и дал таблетку. Потом залез на причеп. «Едем!» Спуск до берега тягнется полкилометра. Я тронулся потиху, крутил руль, каб не трясти причеп на каменнях, но бачил, что он виляет с боку в бок. Летчик бег по обочине, чапляючися за кусты, кричал мне, где треба тишей ехать, тольки я его не слухал. По берегу озера пошло легчей, а там и катер показался. На нем начальник размахивал руками, он сбежал по крутой стежцы напрямик. А дале, за каменнями и кустами, стлался, как куделя, дым от костра, и туристы-капиталисты ставили палатку, потому что черная хмара на заходе закрыла полнеба и на озере стало темно, как перед великим дождем. Мы несем покалеченного на катер, а он шепчет: «Ничего, ничего, только скорей! Я пока живой, потерплю!» Занесли. Доктор кивнул нам, и катер пошел, но тут вышло такое, чего никто не чекал. На том берегу озера, где над горами еще оставалося чистое небо, появилася, как муха, черная кропка. Потом она сделалася размером с ворону, и я сказал: «Летит!» Летчик с начальником поглядели в тот бок. Это было чудо – еще вертолет! От вершины горы он шмыгнул вниз, к озеру. К Беле подлетел низко, и были видать цифры. «Качин, – сказал летчик. – Умница!» Я с радостью убачил, что катер повернул назад, а новый вертолет спускается на помидорное поле. «Скорей!» – закричал летчик, когда катер остановился. А на заходе совсем почернело, и оттуль тягнуло, как со склепа Мы понесли хворого назад к причепу. Он стонал. Дыхать стало тяжко от хмары. Это б ничего, но дале вышло так, что беда везла беду, а третья догоняла. Начальник с летчиком и катеристом полезли прямо в гору, а мы поехали старой дорогой. Берегом ехать добра, тольки галька шуршит под колесами. А на подъеме я переключил скорость, поехал тишей, но тут стряслася беда, какая догоняла. Мотор зачихал и почал глохнуть. Я остановился. Даю полный газ – все нормально, хочу ехать – не тягне, глохне. Черт его ведае, что с ним сделалося, в такой спешцы и разобраться тяжко. Сгоряча дернул с места, и он совсем заглох. Может, воздух попал в насос или трубку какую порвало, одно другого не лепш, как говорится, что пнем по сове, что совой об пень. Я сказал: «Треба на руках». – «Опасно. – Доктора сдуло с причепа. – Он очень плох. Но другого выхода нет. Может, туристов попросите помочь?» Я побег по берегу назад. Туристы уже сидели в палатке, тольки двое еще закрепляли ее, прикладывали камення, потому что почался ветер и у палатки задирало боки. Я сказал этим двоим: «Допоможите человека занести наверх». А они лопочут об своем, глядят на меня, как мыла проглонувши. «Кали вы люди, так повинны зразуметь – человек гине!» Схапил одного за рукав, потягнул за собой, а он вырвался и почал оглядывать, не запачкал ли я его. «Собаки вы! – сказал я и, чуть не плачучи, побег до трактора. – Паразиты!» А там доктор делал еще один укол хворому. «Паразиты и капиталисты, – сказал я. – Может, я на спине понесу?» – «Нет, мы сильно его потревожим», – не согласился доктор. «Давай! – Покалеченный глядел на меня. – Потерплю». – «Нет, – сказал доктор. – Возможен шок». Что делать? Пакуль наверху догадаются, что мы тут засели, пакуль прибегут, долой дорогие минуты. Тогда я почал свистать и кричать, чтоб почуяли наверху, но ветер с озера шумел в кустах. И тут выскочили из-за поворота летчики в кожанках, начальник и катерист с раскладушкой. Я взял покалеченного за рваный пиджак, с другого боку встал катерист, летчики взялись за плечи и голову, а начальник – за ноги. Хворый сильно закричал: «Тащите, тащите, выдержу!» Положили мы его на раскладушку и потягли. Доктор отстал, и когда мы дошли до верху, я сбежал вниз, забрал у него чемодан и куфайку, потягнул за руку. Доктор был легкий, как дитя, но у него ноги не поспевали, чаплялися за землю. Занести покалеченного в вертолет было тяжко. Там тесно, и его пришлось согнуть, чтобы поместился доктор. Старик одной рукой считал покалеченному пульс, а другой держался за свое сердце, и я думал, что он сейчас упадет без памяти. «Буду рисковать, Виталий, – почул я голос нового летчика. – Проскочу». – «Давай зарабатывай выговор». – «Да и ты с командиров звена загремишь». – «Утешил!» Мы отбегли от вертолета, он завертел винтами, оторвался от земли, как бы упал сверху к озеру, и взял вправо от хмары. А я пошел к себе в сарай, лег и долго думал про ситуацию с покалеченным, вспоминал радиста, и эти туристы-капиталисты путалися в голове, паразиты. Потом подошла хмара с блискавицами, и град забарабанил по крыше. У меня было сухо, тепло, и пахло свежим сеном, а если этот град дойдет до зерносовхоза, то побьет весь хлеб. Потом я вспомнил, что забыл в траве недопитую бутылку, тольки по дождю за ней не пошел. 12 САВВА ВИКЕНТЬЕВИЧ ПИОТТУХ, ВРАЧ Лежу в своей больничной пристройке. Старый тес на крыше разбух от дождя, который все не кончается, шумит в заросшем огороде, булькает под окнами. Иногда через шорох и плеск воды, сквозь неприятное зудение электрической лампочки доносятся крики больного. Пусть покричит, теперь не страшен ни крик его, ни молчание. Я вспоминаю подробности моей последней операции, удивляюсь ему, удивляюсь себе, не утратившему способности удивляться. Когда-то в ранней молодости меня удивила и навек покорила алтайская природа – бурные очистительные весны, разноцветная осенняя тайга, синие горы летом и белые, благородно-нагие зимой, светлый бийский исток, в котором вечно бодрствует дух Жизни. Позднее мы с Дашенькой попригляделись, попривыкли здесь и стали замечать, что наше удивленье переходит на людей, которых мы узнавали. Сквозь слезу смотрю на те далекие горы и благодарю судьбу за то, что она оказалась ко мне благосклонной: я узнал и понял народ, который узнал и понял меня. Трудно объяснить словами это состояние, когда после всего, что ты увидел и сделал за свою жизнь, не страшен конец нити… Казалось, мой многотрудный край уже ничего неожиданного не сулит врачу общего профиля. Случилось. Конечно, он был практически нетранспортабельным, но другого выхода никто не видел. Подступала гроза, и пилот заявил, что если мы через пять минут не поднимемся, то застрянем в Беле. И я даже не имел возможности осмотреть больного подробно. В спешке мы таскали его туда-сюда и несколько раз я вводил ему наркотики, чтоб уменьшить боли и предупредить шок. Одно меня радовало – его удивительное сердце. Оно билось ритмично, ровно и чисто. Когда нас засунули в кабину, я прежде всего схватил его запястье. Это непонятное сердце давало восемьдесят ударов, и пульс был удовлетворительного наполнения и напряжения. Но самое поразительное произошло перед тем, как загремел мотор. Больной открыл глаза и сказал: – Вы не волнуйтесь, доктор. Теперь-то уже ничего. Теперь я вылез. Он говорил что-то еще, шевелил губами – наверно, начал хмелеть от водки, но пилот запустил винты, и я больше ничего не услышал, только вдруг почувствовал свое сердце – маленькое, разболтанное, еле живое. Грудь теснило и прихолаживало. Тяжелый предгрозовой воздух, неудобная поза и запах бензина ухудшили мое состояние. Я давно уже знаю диагноз – стенокардия, грудная жаба, которая, наверно, меня и доконает. Достал таблетку валидола, положил под язык, не рискуя прибегнуть в такой обстановке и таком своем состоянии к нитроглицерину – после него надо лежать… Мы летели над озером, забирая все выше и выше, а слева, от Алтын-Ту, валила на нас черная стена. Ее чрево раздирали сполохи, и смотреть туда было страшно, хотя глаз почему-то тянуло в этот содом. Справа, над хребтом Корбу и дальше на север зиял просвет. Туда вертолетчик и гнал машину. Мы уходили от грозы, только впереди тоже опасно мутнело. Потом я понял, что это с Абаканского хребта надвигается ночь. Стройный Купоросный мыс, под которым я когда-то заблеснил первого своего тайменя, в погоду чисто зеленый, окруженный такой же изумрудной водой, сейчас был темным и бесформенным. Ночные полеты вообще-то категорически запрещены вертолетчикам, и не знаю уж, как будет оправдываться пилот перед своими командирами. Несдобровать ему. К поселку мы подлетели в полной темноте. Можно было сесть на той стороне озера. Ровную поляну у турбазы пилот, конечно, знал хорошо, но я тронул его за плечо и показал глазами на поселок. Нам нельзя было терять ни одной минуты. Ведь от площадки до нас километра четыре берегом и потом через исток Бии по мосту. Нет, надо поближе к больнице! Мы сделали несколько залетов над крышами, чтоб люди поняли, и скоро внизу появились огоньки. Потом там совсем посветлело – кто-то сообразил подогнать к огородам лесовозы, которые хорошо обозначили место своими фарами. И стало почти как днем, когда мы зависли и включили прожекторы, – оказывается, у вертолета такие случаи предусмотрены. Сели прямо на картошку, мягко, хорошо. Наступила тишина, и я увидел людей. Шоферы, второй наш врач Нина Сергеевна, сестра Ириспе и студент-практикант с носилками, знакомые поселковые женщины и ребятня. Самое опасное миновало – больной был почти на операционном столе. Его выгрузили и молча понесли, только сзади я услышал женский голос: – Да будя табе за ту картошку, будя! Заплотют! Купишь на всю зиму этого добра – ни табе тяпать, ни копать… В больнице я почувствовал себя хуже, но выхода не было – приказал кипятить инструменты, готовить гипс и начал мыть руки. Я даже нашел в себе силы порадоваться тому, что в свое время настоял, чтоб мою участковую больничку снабдили палатным рентгеновским аппаратом. В области тогда снизошли к моему стажу и моему странному, на их взгляд, нежеланию переехать к ним. А я просто решил дожить тут до конца, за которым ничего нет; в завещании давно уже написал, чтоб схоронили меня на горе, рядом с моей Дашенькой… Снимки меня ошарашили, правду скажу. Только здесь я понял, что смертельный шок был почти неизбежен. Положение больного оказалось хуже, чем оно представлялось мне по самому неблагоприятному варианту. Кроме тяжелого открытого оскольчатого перелома обеих костей правой голени в нижней трети, очевидного при поверхностном осмотре, у него оказался межвертельный перелом бедра, к счастью, без смещения отломков. Но главное – мы положили его на стол в ночь на семнадцатое июля, а падение произошло седьмого. Почти десять суток искалеченный человек был без медицинской помощи – и жив. Невероятно! Не берусь утверждать, что такого еще не бывало, однако случай этот поистине редчайший, можно без преувеличений сказать – уникальный. Надо будет описать подробности товарищам в Барнауле. Они, конечно, не поверят, но я покажу снимки и документы. Может быть, мне удастся разжалобить кого надо и добиться наконец-то большого хирургического набора, а то приходится на старости лет буквально воровать новые скальпели и ножницы у коллег. Они считают это моей стариковской слабостью, чем-то вроде клептомании, посмеиваются за моей спиной, но что мне делать, если у меня такие малые деньги на медикаменты и на все больничное обзаведенье?.. Во всей этой истории моя роль была последней. Вместе с моим слабосильным персоналом свой долг я выполнил, сделал все возможное, но знаю, что еще раз такого не выдержу. Во время операции я допустил глупость, непростительную для врача с моим стажем, – чтобы отдалить приступ стенокардии, снять невыносимую боль, я попросил сестру Ириспе дать мне таблетку нитроглицерина. И вот слег. Впервые за многие годы слег, наверно, основательно. Я никогда не позволял выписывать себе бюллетень – это было бы смешно, я просто все чаще начал терять работоспособность. И давно мне надо бы замену, только молодежь неохотно едет сейчас в такие места. А работы-то у нас, работы! Облздрав сию минуту оформит сотню медиков, и всем в наших горах найдется дело. Ничем не заменимая здешняя практика при квалифицированном руководстве стариков может на всю жизнь наградить юношу мерилом труда и сознанием своей полноценности. Однако у теперешних молодых людей, кажется, иной символ веры. Вот взять нашу Нину Сергеевну. Эта молчаливая, не сказать раскрасавица, но очень милая девушка, на свою беду, влюбчивая и оттого несчастная, так и не смогла тут за два года выйти замуж, на что я весьма надеялся. Тоскует, хандрит, стала много курить и, видно, не удержится здесь, уедет. А жаль, очень жаль! Мы-то с Дашей приехали сюда сразу после революции на трахому и остались, потому что вернуться в Томск нельзя было – народ этот увидел первых врачей. Вспоминаю трудные поездки по тропам, долгие прививочные кампании, вздутые гнойные веки стариков, несчастных детей с базедовой болезнью, наши молодые разговоры. Мы тогда дали друг другу клятву избавить глаза здешних людей от гноя и слез, все время нужны тут были оба, поэтому так и не решились завести своих ребятишек. Дашеньки моей не стало после войны. Она скончалась тихо и спокойно, как жила, а я все чаще вспоминаю какие-то мелкие подробности прошлого и плачу иногда по-стариковски. Помню, вначале она здесь стеснялась носить пенсне, а у нее была диоптрия минус девять с астигматизмом, и Дашенька ничего не видела в трех шагах. Раз в воскресенье мы вышли «завоевывать авторитет» среди местного населения – как все, гуляли по улице, чтоб люди не думали, будто мы их гнушаемся в праздники. Даша крепко держалась за мою руку, кланялась, здоровалась со встречными. Под окнами одного дома она заметила какие-то неясные фигуры и тоже пожелала им доброго здоровья. Я ей посоветовал не щуриться, а то, мол, люди подумают, что она их презирает. – Хорошо, хорошо, милый, – шепотом согласилась она, как всегда со мной соглашалась. – Ответили? – Нет, – сказал я. – Они на нас не смотрели. – Тогда вернемся. Мы опять прошли мимо завалинки, и Даша с приветливым поклоном громко сказала: – Здравствуйте! И тут же моя Дашенька беззащитно заулыбалась, потому что услышала в ответ самодовольное хрюканье – на теплой весенней завалинке грелись две большие свиньи. Она простила тогда мне эту шутку, как всегда все прощала, а когда настал ее последний час, прошептала, что рада умереть первой. И сейчас, как вспомню все прошлое, туманит глаза, и даже иногда жалеешь, что ты атеист и точное знание не оставляет никакой надежды встретиться с ней в ином мире… А в ту ночь я не раз ловил себя на мысли, что могу последовать за ней. Меня спас больной. Он оказался человеком с могучим сердцем и на диво редким характером. В тайге-то помог ему стерильный наш воздух, в котором не живут микробы. И еще высокогорная прохлада большую часть суток, особенно по ночам. Больной там мерз, конечно, однако именно это его и сохранило. Кроме того, крови он потерял на удивленье мало – очевидно, тут свою роль сыграло голенище сапога, туго намотанная портянка, последующая фиксация ноги и бинтование, пусть даже такое примитивное. И еще было одно, о чем врач, знающий человека во всех его отправлениях, может говорить в силу профессиональной обстоятельности. Моча. Этот своего рода гипертонический соляной раствор утишал боль и даже в какой-то степени лечил травму. Наконец, при обработке ноги я с ужасом увидел в грязных, вонючих тряпках серую пыль и понял, что больной сыпал в рану костерный пепел. Минерализованный, стерилизованный огнем порошок, возможно, приостанавливал кровотечение, изолировал от воздуха страшную рану, разорванные живые ткани. Я не стал бы говорить о таких варварских и очень рискованных способах самолечения, но без учета их невозможно объяснить медицинский феномен, свидетелем которого я стал. Ведь больной мог в первые же дни погибнуть от антонова огня, общего заражения крови!.. Ко мне в пристройку неслышно заходит сестра Ириспе, и я прошу ее специально следить за тем, соблюдаются ли мои указания о введении больному антибиотиков. Но сестру Ириспе можно не проверять, я ей доверяю больше Нины Сергеевны. Она и меня иногда поправляет, ворча на мою забывчивость, которая стала в последние годы прогрессировать. Сестра Ириспе в больнице с самой войны, вот уже больше двадцати лет, и никогда ничего не забывает, несмотря на свои тоже преклонные года. Пациенты любят даже ее ворчанье. Она изумительно управляется со шприцем – неслышно колет в мышцу и значительно лучше меня находит иглой глубокие вены. Это в наших условиях мастерство неоценимое, потому что новые иглы для нас большой праздник и приходится сверх всяких норм пользоваться тем, что есть. Больной очень кричал в первый день. Я положил его на скелетное вытяжение в отдельную дальнюю палату, но деревянная моя больничка сильно резонирует, и его было слышно отовсюду. Сестра Ириспе заходила ко мне и ворчала: – Однако неженка! Откуда такой неженка – из Барнаула или из самого Новосибирска? Помните, Савикентич, в прошлом году мы собирали чокеровщика по частям, и такого крику не было. – Пусть кричит, сестра, сколько ему надо, пусть! Груз вытягивал сократившиеся мышцы, и боль была, это понятно. Только он перенес боли куда сильнее этой. Наверно, наступила у него нервная разрядка после всего, что с ним было. Как он выжил столько времени один у реки? Как выдержал трехдневный подъем по скалам, погрузки с вертолета на трактор, а с него на катер и потом все в обратном порядке? Чем он держался, когда его тащили на руках в гору? Моя медицинская точка зрения этого не объясняет, он должен был погибнуть. К больному я не велел никого пускать, к себе тоже, хотя последний запрет был невыполним. Кто мог бы задержать начальника партии Симагина? Он ворвался ко мне в пристройку, отстранив сестру Ириспе, и я с интересом наблюдал, как он отжимает на пороге воду из бороды. Отжал, но говорить не мог – совсем запыхался. Наверное, только что приплыл и бежал под дождем в гору. У нас тут от берега идет затяжной подъем, который я беру с тремя-четырьмя остановками. Симагин отдышался и спросил: – Как он? – Орет, слышите? – Я наслаждался сдержанной радостью гостя. – Его надо спасти. – Симагин сел на порог. – Понимаете, у этого парня идея. – Идефикс? – Нет, не фикс. Просто идея. – Слушайте, а разве не все равно, есть у человека идея или нет? – Не все равно. – Для медицины все люди одинаковы. – При чем тут медицина? Для дела его надо во что бы то ни стало спасти. – Он сам себя спас. – Спасибо. Но почему он так кричит? – Нравится, наверно! – Когда все было позади, я позволил себе поговорить вот так – иронически, легко перехватывая у него слова. – Пусть кричит, если нравится. Вы слышали, чтоб кто-нибудь умирал от крика? – Оставьте, пожалуйста. Все это очень больно? – Конечно. Почти пуд мы ему повесили на больную ногу. – Зачем? – Для преодоления мышечного натяжения. – Ну ладно, вам виднее. А можно его повидать? – Нет, нельзя. Он ведь будет долго еще лежать, увидитесь. Историю болезни могу показать. – Давайте. – Сам почитаю… – Я раскрыл историю болезни, что лежала у меня на тумбочке, и начал читать, выхватывая отдельные фразы: «Головные боли, головокружение… Терял сознание три раза, может быть, больше, не помнит… Вензаболевания у себя и в семье отрицает…» Ну, и другие подробности, я лучше прочту главное. – Нет, нет, – возразил Симагин. – Вы, пожалуйста, все читайте… – Хорошо… «Сознание ясное. Пульс семьдесят шесть ударов в минуту, ритмичный, наполнение в норме. Сердце: тоны ясные и чистые. Легкие: дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот правильной формы, активно участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный. Курит много, алкоголь употребляет»… Вы почему смеетесь? – Такие подробности! Он же не пьет. – В Беле я его и просить не стал. Почти стакан выдул. И это хорошо помогло организму в тот момент сохранить тепло. А тут спрашиваю: «Бахусу поклоняетесь?» – «Ничего мужик», – отвечает. Я и записал… Симагин вскоре ушел, а я долго лежал без движения, вспоминая подробности операции. Было необычно тихо той ночью в поселке, моторы не рычали под окнами, и больничку не трясло. Все население знало об операции – Лайма ночью объявила по радио. А въезд в нашу улицу перегородил своим прицепом какой-то шофер, и припоздавшие водители бросали машины на краю поселка. Сестра Ириспе сказала, что главный инженер почти всю ночь дежурил у дизелей, чтоб предупредить какую-нибудь непредвиденную помеху со светом. Кроме того, он распорядился подбросить к нашему крылечку два мазовских аккумулятора и лампы. Инженер в нашем леспромхозе очень молодой, однако толковый, и все надеются, что он когда-нибудь заменит директора, с которым я конфликтую много лет. У Нины Сергеевны был с инженером роман, однако потом, ко всеобщему сожалению, у них разладилось… Перед операцией больной все время просил пить, и ему давали понемногу. Водка, которую он выпил в Беле, знать, еще больше сушила ему внутренности, и он горел от жажды. Хмель у него проходил, но глаза блестели и выкатывались, как у зобного больного. Он был переутомлен, перевозбужден, и щитовидка, конечно, тут была ни при чем. Я, однако, не удержусь здесь, чтоб не сказать попутно два слова о базедовой болезни, которой я посвятил всю свою жизнь. Наши места – особые в Сибири. Вода здесь самая чистая в мире. В байкальской, например, около ста миллиграммов примесей на литр, а в нашем озере и семидесяти не набирается. Густые алтайские леса процеживают, дистиллируют воду, забирая из нее почти все минеральные компоненты. И это большая беда – человеческому организму не хватает микроэлементов, что становится причиной зобной болезни. Как всякую болячку, зоб легче предупредить, чем вылечить или прооперировать, и я давно уже на основе йода и гипса составил соль, которую назвали тут «солью Пиоттуха», хотя я этого и не хотел. Мои последние наблюдения над зобными заболеваниями заинтересовали самого академика Верховского, пришли письма даже из Японии и Швейцарии. А группа московских ученых недавно предложила мне защищаться только в их институте. Я поблагодарил и вежливо отказался: они же не знали, сколько лет их предполагаемому диссертанту… Вернусь к той ночной операции. Сердце у меня щемило, я волновался, как приготовишка, и больной тоже был не в себе. Он не знал еще, выкарабкается или нет, и никто этого не мог ему сказать наверняка. Руки мои наконец были готовы. В наших условиях на это уходит много времени. Нина Сергеевна сделала больному местную анестезию, практикант приготовил гипс. Я приступил. Картина была знакомой. При любом насильственном переломе трубчатых костей травмируются и мягкие ткани, окружающие кость, – мышцы, межмышечные соединительные пленки, кровеносные сосуды. У больного образовалась большая гематома – кровяное озеро, удобное для анестезирования. И конечно же, была повреждена часть нервов. Худо. Это могло вызвать осложнения, затруднить питание и возрождение тканей, срастание костей. Много осколков, надкостница и кожа разорваны, сместились отломки. Удар при падении был сильным, а главное то, что мышца после перелома сократилась и развела отломки своим физиологическим натяжением. Счастье, что в момент этой тяжелейшей травмы не произошло жировой эмболии – попадания костного жира в сосудистую сеть. Вены быстро бы доставили его в сердце, легкие, оттуда в мозг, капилляры могли закупориться, и наступила бы неизбежная смерть. Больной ничего, конечно, не знал о такой опасности. Я спросил его: «Как настроение, юноша?» Он ответил, что нормальное. Вначале я не думал, что решусь обрабатывать место перелома. Однако рана была в относительно неплохом состоянии, никто бы не сказал, что ей уже десять дней. Только грязь, очень много грязи. По моей команде Нина Сергеевна еще раз обошла рану йодом, и я начал иссекать ткани, удалять грязные и нежизнеспособные. Подошел к костям, взялся выбирать мелкие осколки, оторванные от надкостницы, фиксировать крупные. – Нашатырчику не нюхнете, молодой человек? – спросил я, чтобы узнать, как он себя чувствует. – Если надо, могу. – Голос у него был слабым, но без паники. – А теперь, юноша, укол. Ничего? – Да, ничего. В операционной было невыносимо жарко. Сестра Ириспе то и дело прикладывала к моему лбу марлевый тампон. Боль и тяжесть в груди стали нестерпимы. Я не выдержал, сел на подставленный стул и попросил таблетку нитроглицерина. – Потерпи, милый, – сказал я, наблюдая, как Нина Сергеевна опрыскивает рану раствором, волнуется и торопится. – Потерпишь? Сейчас я тебя потяну за больную ногу. – Ладно, – едва услышал я. – Костодержатель! И тут я почувствовал, что ничего не смогу сделать. Для сопоставления отломков необходима большая физическая сила, а у меня ее не было. И нужно двоим, непременно двоим! Нина Сергеевна никак не шла за полноценного помощника. Я мог измучить больного, измучиться сам, а ничего бы не вышло. Фактически это было бы грубой ошибкой – гипс не удержит все равно. Единственно правильное решение – положить больного на скелетное вытяжение. Сократившиеся мышцы вытянутся, и отломки сопоставятся. К тому же гипсовая повязка обрекала эту многострадальную конечность на длительную неподвижность, иммобильность, отечность. Может быть, прав был Люка-Шампионьер, разработавший методы лечения переломов по принципу «Le mouvement c'est la vie!» – «Движение – жизнь!». – Спицу, скобу! – потребовал я, и Нина Сергеевна метнулась от стола. Догадается или нет захватить дрель? Догадалась. Сейчас проведу ему спицу сквозь пятку, а остальное доделает Нина Сергеевна с практикантом. Ощущая в груди тяжелый шершавый кирпич, я взял в руки спицу Киршнера. – Держите!.. А вы, больной, не очень-то пугайтесь… Прошел надкостницу, наставил дрель и мельком взглянул на больного. Он со страхом и любопытством наблюдал за каждым моим движением. Ему странно, конечно, видеть, как я загоняю в пятку эту длинную штуковину, провожу ее насквозь. Он, чудак, не знает, что другого способа подвесить груз нет, пластырное натяжение тут бесполезно… Через десяток минут все было закончено. Напоследок я нашел в себе силы спросить: – Как самочувствие нашего больного? – Никак, – поморщился он. – Скоро конец? – Все, – сказал я и отошел в угол мыть руки. Его увезли, а сестра Ириспе проводила меня в мою пристройку и открыла оба окна. Я попросил, чтоб она поставила мне под ключицы горчичники, и тут же забылся, не успев почувствовать облегчения. Смутно слышал, как дождь осыпается на мой запущенный огород и струя воды, падая из желоба, плещет в луже, неясно думал о том, что вертолеты засели теперь на озере и пилотам несдобровать… Сестра Ириспе дежурит возле меня, появляется в комнате без стука, но я ее жестоко прогоняю. Она понимает, что мне ничего не хочется, однако все равно приносит еду. И Нина Сергеевна была уже два раза. Прибежала ночью, через полчаса после операции. Возбужденная, с деловым и энергичным видом взялась мерить давление. Сказала, что прежде всего надо мне снять боли. Когда-нибудь получится из нее врач. – Хорошо бы сейчас закись азота, Нина Сергевна, – очнулся я. – Но вы же знаете наши возможности… – Морфий? – спросила она. – С чем-нибудь расширяющим сосуды сердца… – Вы теперь тут главный медик… На рассвете Нина Сергеевна снова пришла. Она, должно быть, совсем не спала. Я чувствую, как она чересчур осторожно прикладывает стетоскоп к моей коже. От ее пальцев пахнет дрянным табаком, а в глазах усталость и робость. Неужели она все же окончательно собралась в отъезд и боится мне об этом объявить? Или, может быть, по молодости, по глупости думает, что я ее перестал уважать после того случая? Весной, плача и неподдельно страдая, она обратилась ко мне с обыкновенной женской бедой, как обращаются многие поселковые представительницы слабого пола. Я помог ей. Это был мой долг и ее личное дело, а она, видно, до сих пор не преодолела неловкости, никак не может увидеть во мне просто врача. Или это все мои стариковские домыслы, и она расстроена совсем другим? – Милая Нина Сергевна! – сказал я. – Вы не сможете еще раз измерить мне давление? Она обрадовалась, быстро вернулась из больницы с тонометром и закатала мне рукав. – Как наш больной? – Хорошо, Савва Викентьевич, очень хорошо! – заторопилась она. – Иногда зовет меня, просит уменьшить груз. – Уменьшаете? – Он очень славный, – виновато сказала она. – «Посплю, – говорит, – немного, а потом снова тяните, сколько вам надо». Спал крепко… Славный парень. – Настоящий мужчина, – возразил я. – Да? – рассеянно произнесла она. – Он долго у нас пролежит? – Самое малое – до зимы. Функциональный метод лечения переломов очень длительный… А что же вы не сказали, есть у меня перепады давления или нет? Говорите честно. – Вам нужен покой, Савва Викентьевич. – Хорошо, больше не будем мерить, Нина Сергевна… Она ушла, а я, чтобы не думать о перепадах давления, о моих очень даже неважных делах, начал мечтать о том, как бы хорошо было съездить до зимы в Томск, может, в последний свой отпуск. Там никого уж близких не осталось, но мне доставляет неизъяснимое блаженство бродить по деревянным тротуарам моего детства. Наш домишко на окраине города все еще стоит, хотя совсем врос в землю и к нему подступают новые кварталы. Я подолгу стою подле, смотрю на его замшелую крышу, на окна в косых наличниках, вспоминаю мать-великомученицу и могильный запах герани, который почему-то преследует меня всю жизнь, как только вспомню о детстве. И еще тянет меня в Томск одна моя давняя страсть. Сейчас это стали называть ужасным чужеземным словечком «хобби». Мое увлечение обычно, но, должно быть, не столь бесполезно, как многие современные так называемые «хобби», часто совсем не отличимые от мелочного собирательства или полубуржуазного накопительства. Так вот, меня хлебом не корми, только дай хотя бы раз в году порыться в архивах, в старых книгах и картах. Началось с того, что в юности я решил узнать все о декабристе Завалишине, моем дальнем предке. Это по отцу я Пиоттух, а мать была Завалишиной. Удивительный мир подчас открывается в старых бумагах! Помню, я обливался слезами, впервые читая записки княгини Волконской. Да что там я? Есть воспоминания сына Волконской о том, как он с рукописного оригинала переводил эту поразительную исповедь Некрасову, а великий русский поэт не раз вскакивал со словами: «Довольно, не могу!», сжимал голову руками и плакал, как ребенок. А я удивляюсь, почему ни одного из наших великих художников не захватил такой, например, сюжет: Мария Волконская встречается со своим мужем в камере читинской тюрьмы и целует его кандалы. У нее об этом рассказано эпически просто, а что же надо художнику, чтоб загореться? Я иногда, как въяве, вижу эту картину, достойную кисти Сурикова или Репина. И хотя главным в ней выступает благородное мужицкое лицо князя Сергея, это суровое и серьезное полотно видится названным так, как Некрасов назвал свою поэму, – «Княгиня Волконская». В картине могла быть выражена великая глубинная правда о русском человеке, а поколения наших молодых людей вздыхают над сентиментальной и лживой «Княжной Таракановой»… Однажды от досады и ревности я решил узнать все об этой пресловутой княжне. Разыскал исследование П. И. Мельникова (А. Печерского) «Княжна Тараканова и принцесса Владимирская», сделанное с таким же блеском и научной тщательностью, с какими Стефан Цвейг написал свою монографию о Марии Стюарт. Правда, в отличие от Мельникова, который доказывает, что Августа – дочь Елизаветы и Разумовского, умершая в 1810 году под именем монахини Досифеи в Ивановском монастыре, и таинственная авантюристка Алина, схваченная в 1775 году Алексеем Орловым в Ливорно под именем принцессы Елизаветы, есть разные лица, я пришел к выводу, что под всеми этими именами прожило бурную жизнь одно и то же лицо. Об этой взбалмошной внучке Петра Великого есть свидетельства В. Н. Панина и С. С. Уварова в «Чтениях императорского московского общества истории и древностей», статьи Лонгинова в «Русском вестнике» за 1859 год и в «Русском архиве» за 1865 год, есть воспоминания Манштейна, кое-что можно установить по «Словарю достопамятных людей» Бантыш-Каменского, по «Исследованию о монахине Досифее» А. А. Мартынова, по статье Самгина из «Современной летописи» и другим источникам. Конечно, все это к картине Флавицкого не имеет никакого отношения, но я тут просто увлекся… А картина обманывает хотя бы потому, что во время большого петербургского наводнения 1776 года женщины, вошедшей в историю под именем княжны Таракановой, в Петропавловской крепости уже не было. Кроме того, как могла беременная дама после длительного пребывания в грязной подвальной камере страшного каземата сохранить свое прекрасное бальное одеяние? Не понимаю, зачем надо было художнику подслащивать… – Знаете, – Нина Сергеевна принесла какую-то новость. – Знаете, наш больной несколько странный. – А в чем дело? – Я был недоволен, что мне спутали мысли. – Понимаете, Савва Викентьевич, одежду его мы выкинули, она была ужасна… – Так. – А там у него осталась какая-то палочка. – Что за палочка? – Не говорит. Морщится и требует эту березовую палочку. Какой-то странный каприз! – Надо найти. – Но… – Найдите, Нина Сергевна, – попросил я. – Может, это и не каприз? За разговором она незаметно разматывала трубку аппарата Рива-Роччи, и я понял, что дела у нее особого нет ко мне, просто хочет еще раз проверить кровяное давление. Хитрить со мной? Ладно, пусть мерит, а я вернусь к тому, что меня занимало до ее прихода… …О своем увлечении, об успешных и безуспешных поисках больших и малых исторических истин я могу говорить и думать бесконечно. Коллеги знают мою слабость и относятся к ней именно как к слабости, лишь сотрудники библиотеки Томского университета да архивисты считают, что я занимаюсь серьезным делом. И меня влечет не только старина. Скапливаются интересные материалы о знаменитом сибирском партизане Мамонтове. В Томске я разыскал следы революционной деятельности богоподобного юноши Сергея Кострикова, который позднее стал Кировым. В Анжеро-Судженске дожил свою долгую, многотрудную жизнь книголюб и просветитель Андрей Деренков, вблизи которого Максим Горький прошел когда-то казанский курс своих «университетов». В Анжерке рассказывают, что сравнительно недавно, уже глубоким стариком, Деренков поехал в Москву с двумя тюками – в них были редкие книги, письма Горького, Скитальца, Куприна, Шаляпина, но груз пропал в Новосибирске. Старик вернулся домой и через несколько дней умер. А на станции Тайга работал в начале века Г. М. Кржижановский, и на вокзале этой же станции осенью 1937 года умер от разрыва сердца большой и сложный русский поэт Николай Клюев. Его чемодан с рукописями бесследно исчез, и пока никто на свете не знает, что написал Клюев в последние годы своей путаной и таинственной жизни. А замечательный русский писатель Вячеслав Шишков проектировал и строил наш Чуйский тракт. И я собираю эти свидетельства и документы – может, кому-нибудь это все сгодится? Иногда думаю: если б была у меня в запасе еще одна жизнь, я посвятил бы ее большому труду о созидательной истории человечества. В этой работе хорошо бы коротко и точно оценить всяческих ганнибалов и наполеонов, чингисханов и гитлеров, пунические, столетние и прочие войны, сосредоточив главное внимание на истории становления Человека – на путях к вершинам цивилизаций, на развитии гуманистической мысли, наук, на совершенствовании труда человечьего, на борьбе людей с неправдой, угнетением, нуждой, болезнями и войнами, на усложнении взаимоотношений между обществом и природой. Несомненно, что такая всеобщая история появится рано или поздно… А пока я, провинциальный собиратель фактов и фактиков прошлого, глубоко досадую, что самую свою заветную сегодняшнюю мечту, по всему выходит, не успею осуществить. Известно, что во время гражданской войны часть сибирского партийного архива затерялась. И вот несколько лет назад один старый алтайский коммунист, вернувшийся из Магадана, рассказал мне, будто бы его друг, умирая в бараке, поведал, что документы эти лежат на чердаке одного из бийских домов. Мне с тех пор не дает покоя мысль, что, может быть, совсем рядом от меня находятся неизвестные ленинские письма сибирским большевикам и век будут лежать, пока не истлеют. Надо, наверное, поднимать бийскую комсомолию, но я не знаю, возьмется ли кто-нибудь за поиски, если у меня нет ничего, кроме зыбких предположений. И еще думаю, не откладывая, написать в ИМЛ – может, мои сведения сойдутся там с другими, более достоверными?.. Сестра Ириспе принесла большую почту. Я не стал смотреть газеты, потому что в каждом номере была война. Истязуемые женщины и дети, снятые журналистами-извергами, молча молят глазами о пощаде. От бессильного гнева людские сердца черствеют, однако такие фотографии стали почти обязательными для каждого номера, сделались будничным элементом оформления газет… Вечером снова пришла Нина Сергеевна, передала мне записку. «Дорогой Савва Викентьевич! Ваша замечательная помощница сказала, что Вы заболели. Я требую у нее костыли, чтобы сходить к вам, а она смеется. Легостаев». – Передайте ему, что завтра навещу его, – сказал я. – А что он пишет? – Вас хвалит. Нина Сергеевна зарделась, ее усталое лицо сделалось очень милым. Она измерила давление, и я попросил опять ввести мне морфий с кардиомином и атропином. Торопливо выполнила мою просьбу, но скоро я почувствовал себя хуже. Холодный кирпич в груди тяжелел, стыли ноги, не хватало воздуха. Невыносимо сипела на потолке лампочка. И скорей бы кончился этот дождь – воздух сразу станет упоительно легким, теплым и сухим. Поздно вечером я послал за Лаймой – у нее был барометр. Радистка прибежала быстро, будто ждала, что я ее позову. Стройная и красивая – сама юность. – Что обещает твой анероид, Лайма? – Стрелка идет на «ясно», – улыбнулась она. – Как вы себя чувствуете, Савикентич? – Спасибо… Погоди-ка, что я тебе хотел сказать? Да! Твой Альберт – золотой парень. – А я это знаю, – опять засмеялась она. – Ну, тогда ступай… Постой! Один вопрос. – Пожалуйста. – Она с готовностью остановилась на пороге. – Ты разбираешься в электричестве, Лайма? – Очень немножко. А какой вопрос? – Почему это моя лампочка зудит? – Наверно, скоро перегорит. – Да? – А вы не волнуйтесь, Савикентич. Я сейчас принесу новую. Она скоренько вернулась, вспорхнула, как голубка, на стул и сменила мне лампочку. Вот спасибо, девушка, вот спасибо! А ночью на самом деле прояснело, и дождь кончился. Утром вертолетчик зашел. Он спешил и поэтому не садился, смотрел на меня сверху. – Вам нагорит за ночной полет? – спросил я. – Курочкину больше достанется. – А как вас звать-величать? – Качин. А что? – Я напишу в авиаотряд об особых условиях нашего полета. – Про условия Курочкина лучше напишите. У него не было другого выхода. – Хорошо. – Главное – у него выхода не было. – Ладно, ладно. – Я прощально кивнул ему. – Говорите еще спасибо, что какой-то борт под Прокопьевском услышал Курочкина, передал нам, а я был в воздухе, – сказал пилот и ушел. Тут же загремело на огородах. Над крышей звук усилился до предела, и у меня защемило сердце. Потом стрекотанье перенеслось в Бийскую долину, растаяло в горах. Через час мне стало получше от свежего воздуха, плывущего в окно, и хотелось все так оставить, только новая и незнакомая эта слабость ушла бы из сердца, чтоб пришла надежда. Еда стояла нетронутая на тумбочке, я только выпил стакан парного молока. Оно было не слишком жирным, вкусным, в нем будто бы собрались все чистые соки летних таежных трав. Кто из соседей сподобился на такой подарок? Скорее всего это сестра Ириспе позаботилась, чтоб у меня было хорошее молоко. Воздухом сбросило газеты на пол, и вошла Нина Сергеевна в халате. Волосы у нее были аккуратно уложены, а на шее цепочка с кулоном. – Как больной? – взглянул я на нее. – Спит. А перед этим очень смешную телеграмму составил в Ленинград. Сказал, что приятельнице… – Послали? – Лайма отправила. – Температура? – Немного повышена. – На прием много людей? – Не идут. Знают, что вы больны, а ко мне не идут. Один только турист со вчерашнего дня ждет, просит, чтобы вы его приняли. – Почему именно я? – Говорит, что ему нужен врач-мужчина. – Давайте его ко мне. – Савва Викентич! Да пусть в район едет или в Бийск. – Пришлите, пришлите, ничего. Она привела какого-то жалкого мальчишку в клетчатой куртке. Он смотрел на меня со смятением и отчаянной решимостью в глазах. Я догадался, в чем дело. Сопляк! Нина Сергеевна вышла. – Давно? – спросил я, следя за его суетливыми движениями. – Семь дней. – Он смотрел в окно и готов был распустить нюни. – Первый раз в жизни, честное слово, доктор… Чистый городской выговор и перепуганный вид. Ничего серьезного у него нет. Скорее всего, обычная инфекция. Надо его все же успокоить, он свое уже пережил. – Одевайтесь. Вам сколько лет? – Девятнадцать. – Надо быть серьезнее в ваши годы, юноша. – Буду теперь, доктор. Потом он заговорил о том, что ждет друга, который где-то в тайге спасает больного геолога. А то б он сразу в Москву, и уже началась бы новая жизнь, без глупостей. Я слушал и не слушал этот лепет, думая о том, как наш брат, врач общего профиля, иногда крутится-вертится под напором всего. Ты тут и швец, и жнец, и в дуду игрец… – Можно еще один вопрос, доктор? – Парнишка успокоился и не знал, наверно, что половчее сказать перед уходом. – Мне говорили, что вы знаете иностранные языки. – Немного. – Что такое «гриль»? – Это на каком языке? – Не знаю. – И я не знаю. Странный мальчишка! И очень уж смешно перепугался. Ничего, повзрослеет. Он ушел, неловко поклонившись. С чем только, действительно, не встретишься! Даже Нина Сергеевна, несмотря на ее мизерный стаж, успела у меня познакомиться с болезнями, весьма далекими от ее педиатрии. К сожалению, газеты и журналы, увлекаясь популярничеством, создают о наших медицинских делах довольно превратное впечатление. Пишут без конца об операциях на сердце, об опытах по пересадке органов, о применении кибернетических машин в диагностике, а что, например, выпускник вуза не способен удалить аппендикс, никого ровно не касается. Меня все это всегда раздражает. Зачем говорить о способах завязывания галстука с тем, у кого нет брюк? И хорошо бы еще одну мысль высказать с какой-нибудь высокой трибуны. Не потому ли мы, медики, так бедны, что числимся как бы в сфере обслуживания? А ведь мы фактически, ремонтируя самую большую ценность общества – людей, активно участвуем в производстве! И, наверное, не за горами время, когда те же кибернетические методы и машины позволят с точностью определить наш реальный вклад в общее дело… Посещения не кончились. Сквозь дрему я услышал с улицы молодые громкие голоса. Иностранцы, что ли? Да, это они, те, что по-свински поступили на Беле. Минуточку, что такое? – Gis hodiaua tago ni ne plenumis tion… – La stranga nomo – Piottuh! Gi signifas ruse preskau «koko». – Finu babilegi! – Oni parolas, ke li estas tre bona homo…[1] Вот оно в чем дело! Эсперантисты. И наши, кажется. А я думал, действительно иностранцы, туристы из княжества Лихтенштейн, как об этом кто-то сказал на Беле. Я не говорил на эсперанто с тех пор, как не стало моей Дашеньки. И хотя после ее смерти не встретил ни одного эсперантиста, эту публику, что сейчас болталась у больницы, не хотелось видеть – они подло вели себя на Беле. Для безъязыких иностранцев, возможно, такое поведение еще простительно, но эти-то все понимали! Тракторист, славный и глубокий парень, даже заплакал, когда те двое отказались подтащить больного к вертолету. Испугались дождя и горы «иностранцы из княжества Лихтенштейн»! Птичьи мозги и пустые души, вздумали замаскироваться с помощью этого искусственного языка… Быстро вошла Нина Сергеевна. В глазах у нее стояли любопытство и недоумение. – К вам просятся туристы, Савва Викентьевич. Они занимаются эсперанто… – Знаю. Что они? – Хотят за что-то извиниться перед вами, а в чем дело, не могу понять. – Пусть извиняются перед больным. – Они уже ходили к нему. – И что? – Он их встретил нехорошими словами. – Скажите пожалуйста! А вроде культурный человек… – Я вот тоже думаю, Савва Викентьевич… Так впустить их? – Ни в коем случае! Дайте-ка мне перо. Нина Сергеевна подала со стола авторучку и чистый рецептурный листок. Я написал: «Krom de la vero vi ekscias nenion de la mi. Adiau, gesinjoroj… Via Koko».[2] – Передайте им, пожалуйста. И пришлите ко мне сестру Ириспе. Подряд два неприятных посещения. Это много. В груди давило все сильней, и голова стала тяжелой. Часы на стене громко тикают, надо бы их остановить. Да, вспомнилось! «Гриль» на эсперанто значит «сверчок». А почему это так тихо в поселке?.. Вечером Лайма пустила по трансляции негромкую музыку. У меня репродуктор был выключен, но клубный громкоговоритель доносил звуки сюда. Манерный женский голос пел что-то легкое, пустое, и оркестр заполнял паузы банальными ритмами. Потом неожиданно музыка оборвалась, снова стало необычайно тихо. Только ходики тикали. – Почему так тихо в поселке? – спросил я вошедшую Нину Сергеевну. – Сегодня воскресенье. Кроме того, улица перекрыта. Леспромхоз распорядился. Уже два дня на нижний склад машины идут в объезд. А радио наш больной попросил выключить. – Почему? – Он странный. Долго морщился, а потом говорит, что видит, как эта певица выламывается перед микрофоном, строит глазки на заграничный манер, но выходит по-деревенски. А ему, видите ли, тошно. Странный парень! – Ничего не странный, – возразил я, и Нина Сергеевна торопливо закивала головой. Сказать ей про главное? – Нина Сергевна! – Да? – рассеянно отозвалась она. – Видите на книжной полке зеленые папки? – Вижу. – Там мои материалы по базедовой болезни. Сорок лет работы. Это я на всякий случай. – Успокойтесь, Савва Викентьевич! Все обойдется. Я еще вчера послала машину в район. – Дороги распустило… А зачем послали? – Вам надо снять электрокардиограмму и вообще… – Вы думаете, у меня инфаркт миокарда? – Да нет, что вы! – испугалась она, и мне стало ее жалко. – Что вы! – Идите отдыхать, Нина Сергевна. Спасибо вам… Она ушла, и я попробовал забыться, преодолеть страх перед неизбежным. Почему я не попросил остановить часы? Они слишком громко стучат. ПЕСТРЫЙ КАМЕНЬ 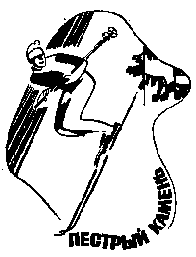 На Ваш запрос сообщаем, что В. Н. Белугин работал в нашей системе недолго, порядка 1 Мы с Валеркой побратались в тянь-шаньских горах, я его там понял. Он был старше меня, всю дорогу «воспитывал», ругал, а один раз даже надавал подзатыльников, но мог также сделать за меня работу и постирать мои майки, трусы и носки, когда я уходил в маршрут, а он оставался у рации. Нет, мне как-то не верится, что Валерия уже нет. Прислать его письма? У Натальи их еще больше… Долго не могла ответить на письмо. И сейчас не могу. Валерия я знала почти три года. Высылаю бандеролью его последние письма, старые я, однажды поддавшись минутному настроению, уничтожила. И еще посылаю магнитофонную пленку, он там поет свои песни. Мне все это теперь ни к чему, я в последнее время теряю контроль над собой. Это я одна во всем виновата! Наша спасательная экспедиция вчера вернулась. Сейчас, среди зимы, в горах очень тяжело, а Чаар-Таш вообще редкое по трудности место. Обстоятельства смерти Белугина (если он действительно погиб) по-прежнему неясны, и я тут не могу отступать от истины. Приведу выдержки из отчета экспедиции. «…Обследованный участок протяженностью 12 километров расположен в высокогорной зоне и в силу сложных орографических условий является исключительно лавиноопасным, о чем свидетельствует большое количество конусов, перекрывающих дорогу. Мощность отдельных лавин до 20 тысяч кубометров. Отряд был доставлен вертолетом в район метеостанции Чаар-Таш для осмотра высокогорных участков. На станции выяснилось, что В. Белугин, чтобы ускорить спуск, собрался тогда двинуться по руслу безымянного ручья (правая составляющая р. Тугонец). Шел он на лыжах, с ним было ружье. К моменту нашего выхода началась метель, прирост свежего снега составлял около 30 сантиметров. Метель с сильным ветром снизила видимость до 150 метров. Отряд двигался в юго-восточном направлении по руслу ручья. До самого ущелья прослеживались слабые следы лыж, частично занесенные сильной метелью. В месте крутого обрыва следы теряются. И хотя обследовать ущелье вследствие большой крутизны склонов и чрезвычайной лавиноопасности не удалось, предполагаем, что данный сай – наиболее вероятное место гибели В. Белугина. Затем были обследованы серпентины основной дороги до р. Тугоксу. Эта дорога очень опасна вследствие исключительно активной лавинной деятельности и крутизны склонов, представленных скальными обнажениями. По пути были прозондированы все лавинные конусы, однако никаких свидетельств гибели Белугина не обнаружено. Следует отметить, что работа экспедиции проходила в сложных метеорологических условиях, затруднивших детальное обследование отдельных крайне опасных участков. Зима в бассейне р. Яссы характерна значительными заносами снега, метелевыми переносами, частыми лавинами…» Сообщаю также, что есть протоколы опроса радистов-наблюдателей станции Чаар-Таш. Да вы и сами можете к ним обратиться, чтобы узнать, как все получилось. Думаю, что дело это прояснится, когда сойдут снега. 1 Наташа! Решил тебе написать, потому что снимаемся мы рано. Все спят. Я обошел кругом кострище, вашу палатку, потоптался на том месте, где, помнишь, я сказал очень важное. Меня, наверно, с утра начнут в лагере крыть почем зря за то, что я уехал и оставил неисправную рацию, но ты не обращай внимания, это не так. Я эту ночь совсем не спал, все прощупал и нашел замыкание в анодной цепи. Раза три шарахнуло по 300 вольт, однако обошлось. Кое-как я наладил свою заскрипевшую радиотелегу и вот только что закончил передавать все, что накопилось. А зачем ты вчера предупреждала меня, чтоб я получше ходил за твоим конем? Это уж ты зря. Все ваши знают мое отношение к лошадям – я их даже целую в верхнюю губу, так что за Буяна будь спокойна. А ты уж взамен побереги мою гитару. Может, и хорошо, что именно ты придумала послать меня в маршрут рабочим. Мне только не понравилось, как отреагировал на это Сафьян – он аж весь задергался от радости. И еще одно впечатление не совсем приятное увожу, оно тоже касается наших отношений. Когда я уходил вечером из вашей палатки, ты даже не посмотрела на меня. Понимаешь, мне совсем не надо было слов, ты хотя бы посмотрела на меня. Я напишу для тебя песню, которая так и начнется: Мне совсем не надо было слов, Ты хотя бы посмотрела на меня… Помню, ты меня просила переписывать тебе песни, которые я пел. Может, я начну потихоньку? Но ведь я их знаю штук пятьсот, очень разных, веселых и печальных, простых и непростых. Эти песни хорошо поются у костров в тайге и горах, на редких сабантуях в избушках и палатках таких бродяг, как я. Про глаза есть песня, помнишь? Я понимаю, что смешно Искать в глазах ответ. В глазах, которым все равно, Я рядом или нет. Глаза то лукаво блестят, То смотрят сердито, То как будто грустят О чем-то позабытом. Пускай остались мы одни И рядом нет ребят, Во взгляде ласковом твоем Я вижу не себя. Но я дождусь такого дня — И вера в то крепка, — Ты жить не сможешь без меня. Не сможешь! А пока… Глаза то лукаво блестят, То смотрят сердито, То как будто грустят О чем-то позабытом. Пишу тебе после третьего дня работы. Хорошо ты все же придумала! Своей лопатой я хоть на часок сокращу наше пребывание здесь и, значит, на час раньше увижу тебя. Не холодно вам в палатке? Знаешь, ты все же зря не позволила нам со Славкой переделать у вас печку. Спали бы сейчас с Зиной, не ломая костей в этих проклятущих мешках. Мы-то тут из них не вылазим – высоко, холод подходит с вершин. Целый день ставил со Славкой турики и брал бороздовые пробы. Твой Буян был с нами. Я навалил на него мешки, веревочками приладил кувалду и лопату. Сначала он косился, потом привык. Работали весело, хотя и ругали узкие канавы. Я всю дорогу грыз Славку, потому что он не надел фуфайку: с хребтов тянет неприятный ветерок, и можно запросто схватить простуду. После этих канав и шурфов мы думаем остаться в лагере и поработать шлиховщиками – для того, чтоб побыстрей… Сегодня лазил по канавам и все время искал красивую «кирпичинку» для твоей дочурки. Попадались приличные камни с флюоритами, только очень рыхлые – и я их не брал. Но это ничего, хороших камушков уже полрюкзака насобиралось, и Маринка будет очень рада. Ну а как там ты? Наверно, не дождешься меня, спустишься вниз? Неужели ты не могла передать мне с оказией записочку? Вместо нее мне передают грязные слова, будто бы сказанные Сафьяном о нас с тобой. Этот тип, выходит, еще тот тип! И что это за люди такие, обязательно им надо сделать кому-то зло! Просто не способны пройти мимо, чтоб не запачкать хорошего! Одного только не пойму – что тебя-то с ним связывает? И главное – тебя не пойму. Ты способна вдруг заявить, что в лагере надо отключиться от всего – работа, и тут же можешь преспокойно взять в руки книгу или затеять разговор о музыке со своим высокопоставленным собеседником, мнение которого обо всем тебе шибко дорого. Или ты подолгу толчешь с Сафьяном умные слова о Сальвадоре Дали, забыв и про работу, и про меня, и про Маринку. Да я-то не в претензии: куда уж мне, ослу, тягаться с вами, интеллектуалами! Ладно, отдохни от меня, от моих забот! Это единственное, что я могу тебе предложить в моем положении. Отдохни от моих «мелочных» желаний и «примитивных» разговоров. Наверно, тебе неинтересно с человеком, у которого на уме не Равель, не Клаудиа Кардинале и не президент какой-то там Ганы, а хлеб насущный. Отдохни от моей простоты, за которой, по словам Сафьяна, ничего не кроется. Только знаешь, так тоже нельзя. – надкусывать яблоко и бросать! Я вспоминаю наше знакомство в Саянах и мой отрыв оттуда за тобой. Ты ведь этого тоже хотела! Может быть, потому, что ты тогда осталась одна и возле тебя не было близкого человека? Сейчас мне очень тяжело, хотя я и «бесчувственный пень». Но все это день ото дня начнет отходить, а потом станет легче. И я, наверно, решусь – махну куда-нибудь в Якутию или на Камчатку. Наташенька! Ты уж, пожалуйста, прости меня. Я не хотел сделать тебе больно. Привезли письмо от тебя, и вот я понял, что вчера сглупил, не выдержал. Ты все время просишь подождать, не спешить, а меня мучила и мучит неопределенность. Скажу откровенно – ясность в наших отношениях подняла бы во мне силы, о которых ты едва ли можешь составить представление. Иногда думаю: неужели главные препятствия на нашем пути – разница в образовании? Как заставить тебя поверить в то, что разница эта устранима? Если б ты могла учесть некоторые обстоятельства моей жизни, понять, как нелегко мне было сделаться даже таким, какой я сейчас есть! И не знаю, к месту ли, но я решил нарисовать тебе некоторые картинки из моего детства, чтоб ты сравнила его со своим. Что такое оккупация, ты знаешь из книг да газет, а они бессильны отобразить весь ужас, впитанный детской душой. Я видел, как немцы сожгли наших соседей, спрятавших в подполе трехмесячного кабанчика, до сих пор помню сладкий запах горелого человеческого мяса. А в ушах – крик моей матери, которую полицай бил на базаре резиновой трубой от вагонных тормозов. Я этот шланг с железиной на конце срезал у станции для подметок, а мать решила его продать, чтобы купить еды. И еще помню, как мы с матерью вдвоем хоронили мою младшую сестренку Галочку, умершую от истощения и простуды. Мама не плакала почему-то, лишь брови у нее поднимались и опускались, поднимались и опускались. Мне и сейчас порой снятся собачьи голоса врагов, стрельба и бомбежка. Вчера ночью проснулся с криком и Славку напугал – почудилось, будто бомбят наш Ейск и некуда спрятаться, а на самом деле это в ущелье над нами посыпался камень. Отец не вернулся с фронта, и я помню, как мы с мамой ели немолотый поджаренный кофе, как отравились патокой и меня чудом спасли. У нас с матерью были одни чувяки на двоих, а когда мать наскребла денег и хотела купить стеганые бурки, то не могла на базаре снять эти чувяки, они примерзли к ногам. Весной я как-то насобирал на берегу гнилой рыбы, мы снова отравились и три дня лежали дома, а соседи думали, что мы куда-то ушли. Однажды мы совсем не ели два дня, потом я принес полную сумку вареных рыбьих головок: насобирал их в мусорном ящике за столовой авиаучилища, но не сказал об этом матери, и мы сразу их съели. Мама очень не хотела, чтоб я работал на море, однако я самовольно ушел однажды на баркасе. Помню, мы остались без куска хлеба, и не у кого было его позычить, и тут я втащил в дом целый мешок рыбы – долю своего первого улова. Мама ощупывала мою зюйдвестку, рыбацкие сапоги и плакала. Она хотела, чтобы я стал музыкантом или певцом, но умерла, не дождавшись этого, а я стал бродягой-метеорологом, монтером, проводником у диких туристов, радистом и «кротом» в вашей экспедиции, абстрактным романтиком, шаромыгой и сам еще не пойму кем. Помнишь песню, которую я пел тут, у речки? Мы тогда со Славкой услышали ее в каком-то самодеятельном концерте и списали в две руки. Понимаешь, это странно, очень странно, Но такой уж я законченный чудак! Я гоняюсь за туманом, за туманом, И с собою мне не справиться никак. Люди заняты делами, люди едут за деньгами, Убегают от обид и от тоски, А я еду, а я еду за мечтами, За туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто Для того, кто хоть однажды уходил, Ты представь, что это остро, очень остро: Горы, солнце, песни, кедры и дожди! Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, Память, грусть, невозвращенные долги… А я еду, а я еду за туманом, За мечтами и за запахом тайги… Наташа! Я ударился в воспоминания совсем не для того, чтобы пробудить сочувствие и жалость, – я в этом не нуждаюсь. Просто хочу, чтобы ты немного лучше узнала меня и попробовала понять, чтобы не слышала наветов и ходила по лагерю, не оглядываясь на сафьяновскую палатку. Я несу в жизни свой груз, не хныча и не кланяясь никому, и меня никто не упрекнет в том, что я захребетник, скупердяй и трус. Помню, после Кропоткинского училища я работал на сейнере, мечтал о парусах своей жизни, о золотом ключике. И в армии мечтал, в Забайкалье, и на Саяне, и тут, в Киргизии. Отчего все в жизни так бывает? Я везде искал свою мечту, А она зовет и уплывает Папиросным дымом в высоту. А сейчас, спустя много лет, я нашел тебя и Маринку, тянусь к вам изо всех сил, а ты иногда будто и не замечаешь этого. Или только делаешь вид? Почему редко пишешь? Было много камералки? Тогда другое дело! И пусть у тебя на последней съемке будет не четыреста точек, а тысяча, чтоб ты их ставила и описывала не три дня, а неделю. Тогда я, может, еще застану тебя в лагере. Завтра рано утром отправлю тебе с вьюком это письмо. Ты пойми меня – туман и зыбкость в наших отношениях вышибают меня из колеи, я живу, как перетянутая струна: чуть дотронешься – и она лопнет. Иногда я не знаю, чему верить, когда ты высказываешь прямо противоположные мнения и совершаешь какие-то странные поступки. Помнишь, как я зашел в вашу палатку? Ты посмотрела на меня, потыкала карандашом в печную трубу и показала десять пальцев. Конечно, я выпучил глаза, не понял, что эта пантомима выражает высшую степень восторга. И ты ведь знаешь, что я порядочный тупица, что мне нужны ребусы по зубам, а то другой раз ты ткнешь пальцем в кастрюлю с картошкой, выразительно обведешь глазами палатку, а я мучайся. Помнишь, я писал тебе стихи: Я хочу, чтоб была ты разной Каждый день, каждый час, каждый миг, Чтоб не мог я сказать однажды, Что к любви я твоей привык. Да, я всегда хотел открывать в тебе новое и бывал счастлив, чувствуя, что твоя душа отзывается на это желание. Но такая прекрасная изменчивость ничего общего не имеет с твоими странностями, с твоим непостоянством. Вот я перечитал еще раз записку и вспомнил наш разговор в Оше. Когда я сказал, что закончу вечернюю школу и поступлю в геологический, ты возразила: в полевой сезон мы, дескать, будем скорее всего в разных партиях. А теперь ты пишешь, чтоб я шел только в геологию. Можно ли это понять? В Оше тебе нравилось, как я дурачился, твоя комната ходила ходуном, мы хохотали, а в лагере обычная моя шутка вызвала твой упрек: будто бы я говорю с тобой в фривольном тоне. Неужели ты не знаешь, что я никогда не был расположен к легкому флирту или к дешевенькому романчику? Между прочим, я очень хорошо знаю, что не всегда мне с тобой будет легко, но я ничего не могу поделать с собой и стою на тех словах, что сказал тогда. Это для меня необыкновенно важные слова. И прошу тебя об одном – пореже сообщай мне о том, кто и как за тобой ухаживает. Я не думаю, конечно, что ты кому-нибудь разрешишь относиться к себе, как, извини, к веселой вдове. Помни, пожалуйста, что твоя женская гордость позволяет и мне держаться с достоинством. Скорей бы уж заканчивался этот сезон! Нам следует поговорить серьезно, как взрослым людям, без проявления с твоей стороны «специфических черт женского характера». Помнишь, как ты сказала, что жизнь слишком коротка, чтобы долго ждать? А теперь опять пишешь: «Надо ждать». Кому надо? Уж не Сафьяну ли? Ох, не нравится мне, что он встревает в наши отношения! И ведь знает, интеллектуал, в какую точку бить – всю дорогу подчеркивает разницу между нами. Да, Наташа, есть между нами разница, и немалая, но подумай – много ли она значит, если в нас зародилось неповторимое, самое ценное, быть может, из всего, чем одаряет людей жизнь! Нет, не верится мне, что Сафьян «смирился». Не сочти сие за домысел пошлого ревнивца: просто я его хорошо узнал, это тебе не Крапивин! Такие люди, когда убеждаются, что не могут ничего изменить, не совершив подлости, идут на подлость. Если б он был порядочным человеком и хорошим товарищем, то не стал бы тебе нашептывать, будто мы не пара, не описывал бы тебе, да еще с такими подробностями, мое состояние, когда я «перебрал» на прощальном сабантуе у топографов. Мне кажется, что его длинноухость и длинноязыкость – своего рода психическая аномалия, довольно, впрочем, странная для человека его возраста, его служебного и семейного положения. Как-то слишком по-бабски он себя ведет, по-старушечьи даже, и мне противно о нем вспоминать и думать. Если б не его подлые цели, он был бы просто смешон!.. А впрочем, поговорим о другом. Ты по-прежнему форсишь в кедах? Брось, ноги надо держать в тепле, пусть лучше голова мерзнет. Перед отъездом я на совесть смазал твои сапоги – вся баночка гуталина ушла, та, что лежала под крылом вашей палатки. Обувай сапоги с шерстяным носком и портянкой, а иначе застудишься и пойдут болячки. А твое здоровье прежде всего нужно Маринке. Как ей там, у тетки? Помнишь, мы с ней танцевали чарльстон, а ты смеялась? Мне было до головокружения хорошо. Отправляю письмо с последним вьюком. Больше от нас ничего не будет, мы заканчиваем тут дела. Да и у вас, наверно, горячка. Застану я тебя в лагере или нет? Как жаль, что вы уже спустились! Лагерь осиротел без тебя. Нас тут осталось восемь человек, а работы еще, как выясняется, прорва. Вчера взял пятнадцать проб по гранитам и порфирам. Не знаю, много ли это, но соседи вдвоем осилили только восемнадцать. Это я не хвастаюсь, просто хочу, чтоб ты поняла, как я теперь рвусь вниз, к тебе. Вдребезги бы разнес кайлой весь этот Тянь-Шань, только нет у меня подходящей кайлы. Вчера писать не мог, руки не держали карандаша. Весь вечер ходил у светлого пятна, на котором стояла ваша палатка, и вспоминал. А сегодня мы собрали мусор, бумажки, тряпочки, разбитую обувь, в том числе твои несчастные кеды, и предали все это торжественному сожжению на костре. Я сидел у костра, пока совсем не стемнело. Когда над горами начался звездный дождь, я лег на спину, чтобы обзор был побольше. Совсем уж замерзал, но чуда дождался – одна падучая звезда оставила широкий огненный след, вспыхнула шаром и будто бы задымилась. А может, это ступень какой-нибудь ракеты сгорела? Мы заняли большую палатку «голубокровых», в которой жил Сафьян. Я выкинул старую прогоревшую печку и соорудил из железной бочки мощную домну с хорошей тягой. Теплынь, сижу в одной маечке после стирки и купанья. Славка приехал на Буяне поздно вечером, привез хороших дров, нырнул в тепло и заржал не хуже Буяна. Я заставил его искупаться. Вот он сейчас сидит в тазу, стонет от удовольствия, а я гляжу на него и не могу понять, как это он сумел втиснуться в таз и как таз не развалится от такого нахальства. Ночами уже примораживает. Ты видела когда-нибудь по лужам не лед, а длинные кристаллы? Я сегодня нашел это чудо на выброске. Длинные и тонкие копьевидные стрелки покрыты сверху тончайшим слоем мелких нежных кристалликов, напоминающих пушок на маральих пантах. Принес одно такое копье в лагерь, но тебя нет, и показать было некому. Так это чудо природы и растаяло без пользы. В маршруте я нашел подходящий козлиный рог – будущую ручку для твоего будущего ножа. Думаю изобразить что-нибудь оригинальное, давно обещал. Каждый день ожидаем машину, а она не приходит. Кто надеется уехать на ней, а я жду твоего письма. Знаешь, мне было нелегко, когда ты обитала здесь, но, оказывается, еще хуже, если тебя тут нет. Даже Славка стал замечать, что я не в себе. Хороший он парнишка! Зимой его берут в армию, и он мне как-то сказал, что зря мы не одногодки: вместе бы послужили. Такой философ! Пишет длинные письма своей балаболке Раечке в Ош, а она его за человека не считает. Ничего, разберется парнишка! А ты знаешь, какая у меня сейчас специальность? Кайлолог. Славка придумал. Рейку для измерения глубины канавы он называет кайлометром, а мой теперешний почерк – кайлографическим. Еще одна записка от тебя. Значит, ты все же едешь на Кубу? Вот это да! Ты говорила мне, что всю жизнь мечтала – посмотреть хотя бы одним глазком. Но как выйти из положения с деньгами? У тебя же не хватает на путевку. Ну сколько может Зина ссудить? Посылаю тебе доверенность на имя Карима Алиханова и записку ему. Это мой друг. Найди его по адресу, пусть он получит две мои последние зарплаты и передаст тебе. Таким обходным маневром я хочу устранить лишние разговоры среди твоих языкастых сотрудников. Да, еще возьми, сколько можно, в кассе взаимопомощи. Но все равно этого будет мало, а у меня, как ты знаешь, больше денег нет. Если они есть у Карима, то, будь уверена, он отдаст тебе все. У него замечательная жена Поля, я эту пару знаю уже много лет, особенно крепко все мы сдружились во время прошлогодней зимовки. Слушай, есть у меня к тебе один разговор чрезвычайной важности. Однажды, когда мы спускались с Сулейманки, ты сказала, что на Кубу все равно съездишь, чего бы это ни стоило, и в крайнем случае, дескать, сдашь в институт костный мозг. Я заклинаю тебя: не делай этого! Ради Маринки. Если ты потеряешь здоровье, никакая Куба тебе его не вернет. Нет, мне надо скорей вниз, ты только через мой труп перешагнешь порог института. А пока надеюсь на твое благоразумие да на то, что твой мозг не возьмут – у тебя же был туберкулез. И лучше всего дождаться меня, потому что я расшибусь, а достану денег. Нам тут загорать всего несколько дней. Сегодня брали со Славкой пробы на шлихи из шурфов, еле приползли. Понимаешь, все замерзло, особенно на болоте, лупишь кайлой от души, в лицо летят острые камушки, искры, твердые комочки земли, а дело почти не подвигается. Один раз кайла скользнула, и я чуть было со всего маху не всадил ее в коленку. Завтра пошабашим на том участке, где ребята били последние шурфы, и махнем на Базой – там осталась одна недоопробованная канава. Лишь бы только не послали еще на Каинду! Твоего «интеллектуала» ребята костят, называют идиотом замедленного действия. Я-то помалкиваю, как ты понимаешь, но поневоле зло берет: протелился лето, а теперь у него, видите ли, все новые и новые «белые пятна» обнаруживаются! Сам спустился вниз, а нас может еще погнать на вершину Каинды, где вот-вот выпадет снег. Знаешь, я не боюсь трудностей, способен и в снегу рыться без хныканья, но все-таки не до такой степени романтик, чтоб радоваться дурацкой организации полевых. А главное, отодвигается наша встреча с тобой – встреча без свидетелей и длинных ушей. Славка все время ворчит на меня за то, что я до полуночи не сплю и много курю. Когда он захрапит, я перечитываю твои записочки, вглядываюсь в родные и ласковые буковки, воображаю, как постучусь к тебе, войду – и Маринка повиснет на мне, завизжит поросенком. Но иногда меня охватывает волнение и боязнь, что вдруг ты в своей коротковолосой голове соорудишь какую-нибудь новую «стройную» систему наших отношений. Очень устал. Не думай, что я нытик и, как ты выражаешься стонатик. Просто я устал ждать, устал от неопределенности. А все остальное ерунда – и сегодняшнее маханье кайлой, и эта проклятая мерзлая земля, и перловка, и бесколбасье, и порядки в вашей геологии, которую сопливые писатели до приторности подсластили дешевой романтикой. Пробежал я глазами письмо и увидел, что оно получилось деловым и холодноватым, а мне хотелось написать тебе что-то теплое и нежное. Знаешь, Наташа, это большое счастье, что мы встретились! Без тебя и я был бы намного беднее и хуже сейчас. И пусть нам многое мешает, наверно, так уж устроена жизнь – она, должно быть, хочет, чтоб мы потом лучше оценили ее. А здорово, что у тебя уже нет оснований упрекать меня за выпивки! И вспомни, как ты защищала меня в Саяне, оправдывая мои безумные поступки. Все это даром не проходит. В Оше я сразу же сажусь за учебники – ты ведь еще не знаешь, как я могу грызть науки. Покажу. Как, ты уезжаешь уже через три дня? Я, конечно, понимаю, от группы ты отстать не можешь, но это значит, что мы не встретимся в Оше? Нет, такого я уж никак не ожидал! И я бы бросил сейчас все к черту, как умел это делать раньше, махнул бы в кузов машины, но нельзя – лег снег, каждый человек тут на счету, и я не хочу, чтоб меня сочли дезертиром. Если сбегу, ни твоя геология, ни ты, я знаю, не простите такого. Теперь вот что: Маринка. Конечно, тетке надо отдохнуть и полечиться, но как ты смела подумать, будто девочка может обременить меня? И я ведь все умею: готовить, стирать, сопельки подтирать. Так и знай: по приезде в Ош я забираю Маринку у твоих подружек и вселяюсь в твою комнату. Ты только оставь на этот счет необходимые распоряжения. И ради бога, не беспокойся – ей будет со мной не хуже, чем с Зиной и другими твоими товарками. А в Кариме и его замечательной супруге я был уверен. Они пойдут на все, чтобы помочь мне, это настоящие люди. У них только один «недостаток» – они успели нарожать многовато ребятишек. С этой семьей я познакомился еще в Забайкалье, потом, как ты знаешь, работал на Ачисайской гидрометеостанции, и много мы каши съели вместе. Между прочим, я тебе никогда не говорил, почему мы с Каримом ушли оттуда. Вернее, нас ушли. В твоей партии я появился, конечно, из-за тебя, но исходная причина была на Ачисайке. Нас убрали оттуда, потому что вышел тяжелый конфликт с местными, который чуть было не привел к уголовному преступлению. Расскажу тебе всю правду, а то слухи об этом, как я понял, дошли до тебя в совершенно искаженном виде. Наша гидрометеорология довольно странная организация. Люди в ней мелькают – не успеваешь рассмотреть. Может, это зависит от управленческого начальника по кадрам – переменчивого, как погода, и неприятного типа, который тихо ненавидит меня, и я ему плачу той же монетой. Так вот, меняли, меняли у нас на Ачисайке радистов, слали то каких-то недоделков с подоночными душонками, то остервенелых романтиков, которые лишь читали о романтике, но толком не знали, почем она килограмм, а мы донимали начальство, чтоб дали нам постоянных, надежных ребят. И вот присылают одного парня из местных. Радистом он оказался никудышным, а человеком совсем паршивым. Как отдежурит, так к родне. Дело дошло до того, что без разрешения стал спускаться вниз и пропускать дежурства. А станция ранней весной начала разворачиваться. Мы с Каримом совсем зашились – устанавливали в агрегатной новые двигатели, монтировали силовые щиты, тянули электропроводку и т. п. Все это кроме дежурств. А я еще копал погреб, камни из ямы вытаскивал, и у меня от этой работы ворот гимнастерки отопрел. Ну вот. А наш «душа любезный» исчез на две недели. Я ходил к его родным, мне сказали, что он будто бы лег на операцию. Мы забеспокоились, начали звонить во все больницы – в Барскаус, Покровку, Пржевальск. Отвечают, что такого нет. Появился опухший от водки и с ходу послал меня подальше. Никаких больничных справок у него не было. Вышел скандал, и он втянул в это дело родню. Они ему нашептывают, настраивают против меня, и все, понимаешь, с этаким националистически-религиозным уклоном: «Ты мусульманин, и мы мусульмане. Ты больше на русского нажимай». А тут наметилось у соседей событие. Один хороший такой и мудрый старик – он здорово на комузе играл и пел длинные киргизские былины – пригласил меня на праздник, на свежего барана, потому что собрался делать своему правнуку обрезание. Утром я прихожу принимать у нашего героя дежурство. Смотрю – спит на полу, ленты самописцев за целый месяц разбросаны, стекло на столе раздавлено. Надо срочно передавать среднесуточную температуру, выбирать максимальные-минимальные, а у него ничего не зафиксировано. Я разбудил его. Он сказал, что записывал на бумажке, но никак ее не найдет. Я психанул: «Знаешь что, ты пить пей, но дело делай!» Он меня опять послал. «Ух, – говорю, – сопля! Я ведь тебя старше почти на десять лет. Ты автомат только на картинке видел, а я уже успел забыть, как он надевается – через голову или через ноги». (Конечно, ты понимаешь, это я так – при случае сразу вспомню.) Ну вот. Он хлопнул дверью, ушел. А я сделал все, освободился и решил пойти к деду. Меня там ждали и не начинали. Посмотрел я на торжество, выпил стакан и собрался уходить. Дед дал мне здоровый кусок баранины для всех. Выхожу, а на дворе стоят несколько киргизов и наш радист с ними. Он подошел ко мне и хряпнул зажатым в кулаке камнем по брови и глазу. Я понял, что надо сдержаться, и тут впервые в жизни не дал сдачи. Молча повернулся и ушел. Прихожу, смываю кровь, а тут Карим: «В чем дело?» Я сказал, что выпил, упал и ударился. Карим убежал, и я подумал, что домой, а он, оказывается, туда. Те ему скрутили руки и отходили на совесть. Прилетает он на станцию, хватает топор – и назад. Я за ним. Догнать не смог, и нас там взяли в оборот. Мне меньше досталось, потому что я половчей, изворачивался, отбивался как мог, но спину мне сильно исхлестали камчой. А Карима свалили и долго пинали сапогами. Он потом неделю лежал. Карим поклялся, что все равно отомстит, но тут стали ходить толпой родные радиста, упрашивали не поднимать дела, сам он плакал, предлагал Кариму часы, а мне две нейлоновые рубашки. Я сказал: «Уходи, не хочу тебя видеть, ты такой даже родне своей не нужен». Потом приехали из управления, куда уже отправили клеветническую бумагу на нас с Каримом за десятью подписями. И что мы ни говорили, этот начальник кадров пришил нам ошибки в отношениях с местным населением и уволил. Вот как все получилось, и ничему другому ты не верь. Я сейчас разволновался, вспоминая все это, потому так подробно и описал – до сего дня все внутри горит от обиды. Но оставим эту скучную материю. Итак, Наташа, счастливой дороги и, главное, возвращения. Из советов моих помни о двух: не читай за едой и поднимай воротник пальто. Мне кажется, что ты кашляешь только оттого, что не поднимаешь воротника. С Кубы мне ничего не надо. Привези впечатления-рассказы, и уж если очень хочешь сделать мне приятное, то купи там мне настоящую гаванскую сигару, чтоб я ее мог нюхать и представлять себе те бирюзовые моря. Буду рад, если ты увидишь там то, что хочешь – революцию. Теперь я начну писать тебе по адресу: «Москва, Главпочтамт, до востребования», и на обратном пути ты возьмешь мои письма. Ты мне тоже пиши отовсюду. Жду весточки из Праги, из самого Парижа, на который ты надеешься полюбоваться, с Кубы! Черт возьми, как далеко ты все же едешь – на ту сторону шарика! Я тоже, знаешь, имею дикое желание хоть на время удрать куда-нибудь отсюда, только с тобой и Маринкой. Хочется схватить вас в охапку и утащить, например, на Байкал, подальше от больших и маленьких городов. Мы поставим палатку на берегу, под кедрами, будем палить костер, шататься по песку и камушкам, загорать и беситься. А за границу, если честно сказать, меня не слишком тянет, я так люблю свою землю и свой народ, что все не могу никак на мою Родину насмотреться. Любовь моя, Россия, Люблю, пока живу, Дожди твои косые, В лугах твоих траву. Люблю твои дороги, И в небе купола, И давние тревоги, И новые дела. Люблю с тобой свиданья. Простых твоих ребят, И нету оправданья Не любящим тебя! Любовь моя, Россия, Солдаты на войне Тебя в груди носили И передали мне! Шинелью укрывали, Через огонь несли, Как мать, оберегали, Как дочь свою, спасли Любовь моя, Россия, Как часто над тобой Невзгоды моросили Осеннею порой! Ты нас из дальней сини Звездой своей зовешь, Любовь моя, Россия, Спасение мое! И напоследок скажу тебе еще одно, Наташа. Ты уж, пожалуйста, пореже вспоминай там, в заграницах, о моем скрипе в твой адрес. Как ты понимаешь, я скрипел не из-за своей ревнючести, а совсем по другой причине: я не способен мириться с обстоятельствами, из-за которых двое никак не могут разрешить вопроса жизни и смерти по крайней мере одного из них. А пока я молю бога, его врага сатану, молю небо и землю, всю природу молю, чтоб с тобой чего-нибудь не случилось. Какая-нибудь нелепая случайность с самолетом, поездом или пароходом ввергнет тебя в черную бездну, и я за тобой. Но почему-то я уверен, что ничего такого не может произойти, судьбе нас не за что наказывать. Еще раз счастливого пути! Не волнуйся за Маринку. Мы тебя ждем. Пишу на Москву. Не знаю, когда ты будешь читать мою писанину, однако я не стану больше об этом думать, пишу, и все. Вот я и в Оше. Спасибо, что ты оставила мне свой ключ у Зины, а то я бы не знал, где и жить. А без тебя стараюсь никому не попадаться на глаза, но вся геология, видно, уже знает, что я живу в твоей комнате. Извини, что начал письмо не с Маринки. Она в порядке, здоровенькая и веселая. Подружки у тебя железные – не отдают мне Маринку насовсем, разрешают только играть. Правда, сегодня я получил ее на весь вечер, и эта порция более или менее удовлетворяет меня. Прежде всего Маринка прижалась ко мне и сказала, что сильно плакала по маме, а теперь не плачет. Потом мы покрутили хула-хуп, я сел писать, а она таскает по полу диванную накидку. Пусть таскает, потому что вчера ночью я вымыл полы. А сегодня, тоже ночью, буду жарить котлеты на завтра, чтоб поменьше любопытных глаз ощупывало мой полинялый лыжный костюм. Пришлось прервать письмо и заняться с Маринкой. Она выпросила у меня мяч и долго гоняла его с поросячьим визгом по коридору. Потом зашли Зина и другие твои подружки спорить из-за Маринки. Все же я уговорил их оставить девочку ночевать тут, тем более что сам поросенок ни в какую не захотел уходить к ним, заверещал. Я покормил ее и уложил спать. Сначала она попробовала спровоцировать меня на совместное хрюканье, но, увидев, что номер не проходит, уснула. Был на почте, получил твою московскую открытку. Спасибо. Дома мы с Маринкой изобразили вокруг этой бумаженции танец жрецов племени ням-ням. Маринка меня перетанцевала, потому что я от смеха был не в форме. Сегодня она снова будет ночевать со мной. И дело не в том, что подружки плохо выполняют твои наказы. Я не хочу отдавать им поросенка, потому что у них дымит печка. Пробовал сегодня чистить ее, перемазался, но ничего не добился. Зина говорит, что это я саботировал, чтоб оставить Маринку у себя. Завтра меня заставят чистить печку через трубу, и тяга непременно появится. Поверить, что я не справлюсь с такой пустяковой работой, твои проницательные подружки не захотят. Работаю в нашей конторе электриком. За 70 рублей. И в связи с этим хочу еще раз тебе сказать, что твой пресловутый интеллектуал – мерзкая тварь. Знаешь, что он сказал про меня? Будто я на другое не способен. Нет, напишу, пожалуй, правду – он выразился куда гнуснее. Не хочу в точности передавать его слова, но смысл их сводится к следующему: непонятно, что нашла Наталья в человеке, который меняет лампочки в туалетах. Вот так. Мне очень хочется встретиться с ним в темном переулке и посчитать ему зубы. Только ты не бойся – я сдержу себя и не сделаю этого… Сволочь! В конце концов кто-то должен и лампочки в туалетах менять, чтоб ты не вляпался в дерьмо. А еще говорят, что образование делает человека лучше! Кстати, я восстановил свой статус вольнослушателя в вечерней школе, начал заниматься. Пожалуйста, если у тебя на обратном пути будет в Москве минута свободного времени, то купи мне «Четырехзначные математические таблицы», а то я тут обежал весь город – и нету. Осень пришла и в Ош. С утра сильный ветер гонял по асфальту опавший лист, потом пошел холодный дождь, и лист потащило по арыкам. Все время думаю о тебе. В иные моменты просто ерунда получается – что-то делаю, а вроде сплю с открытыми глазами. Вечерами иногда снимаю со стены мою старушку гитару и пою потихоньку, чтоб соседи не слыхали. Достал свои тетради-песенники, в них много, оказывается, хороших вещей, ты их совсем не знаешь. Непогода разгулялась, дождь да ветер, Звезд не видно, тучи рваные бегут. Кто накликал, кто назвал, кто не приметил Надо мной, как ворон, черную беду? На озерах почернело, вздулись реки, Клонит ветки, тонут травы и кусты, И к тебе, моей любви, видать, навеки Смыло броды, переходы и мосты. Солнце пятнышком за хмарью, словно птица, Запоздавшая по осени, летит. Зверю дикому на острове приснится, Как к тебе водой высокой перейти, В край знакомый, в край зеленый, в край долинный, К звону пчел, душистым травам, крику птиц, К свету солнца, в шорох веток тополиных, Где, как счастье, в синих реках дремлет тишь. Что манило, завело в края седые, Следом чьим ушел весеннею тропой? Что нашел, что потерял и что забыл ты, Что хранилось, вслед ходило за тобой? Непогода разгулялась, дождь да ветер, Листья кружат, как вороны над бедой, Как далек, как нескончаем, как заверчен Долгий путь к тебе разлившейся водой!.. А я тут задумал сделать тебе презент. Слава купил портативный японский магнитофон, вбухал в него половину заработанных за лето денег. Мы решили как-нибудь собраться, я напою целый моток своих любимых песен и подарю по приезде. Славка ищет работу, потому что почти все уже ухлопал на мороженое, на кино и на Райку. Ты знаешь, он ведь из очень культурной и состоятельной семьи, но бросил школу, удрал из дому и вот мотается по горам, чего-то ищет, ждет, когда его заберут в армию. От денег отца отказался, попросил не беспокоить. Его можно было бы назвать странным парнишкой, если б он не был таким упорным в работе, наивным и доверчивым. А его Райка – совсем пустая девчонка, даже дрянь, можно сказать, но Славка этого не понимает, и говорить ему об этом бесполезно. Сегодня взял из садика Маринку, и мы ходили с ней в сквер кормить воробьев. У нее шарики все же работают. Когда мы дома крошили черствый хлеб и пальчики у нее устали, она вдруг предложила: «Дядя Валера, а давайте этот хлеб перемясорубим!» Мы разыскали твою мясорубку, и вправду дело пошло посерьезней. Я бы сроду не догадался. Последние дни Маринка живет у Зины – в порядке исполнения твоего наказа. Кроме того, я температурил немного, продуло где-то. Ты же знаешь, я не боюсь купаться в ледяной воде, обтираться снегом, но вот сквозняк для меня погибель. Два дня пришлось проваляться. Зина с Маринкой вчера навестили меня, и поросенок даже заплакал, испугавшись, что я умру. Приходил Славка и рассказывал, что на какой-то буровой недалеко от города есть постоянная работа для двух сменных радистов. Оклад 96 рублей, дают общежитие в городе и каждый день будут возить туда и обратно. Соблазнительно. Я буду полностью независим от некоторых милых сотрудничков, больше получать, стану работать по специальности, иметь свою койку. Конечно, условно свою. Очень жаль, что тебя нет и посоветоваться не с кем насчет работы. Зина сказала, что дополнительные 26 рублей – не фонтан, и я в общем согласен с ней, однако они не помешали бы, правда? Славке я сказал, чтоб он пока один устраивался на буровую. Нигде не бываю. До двенадцати занимаюсь, потом немного повожусь по хозяйству – и спать до пяти. Встаю по твоему дребезжащему будильнику – и снова за учебники. Немного, конечно, странно в двадцать семь лет садиться за школьные тетради, но я твердо решил пройти через это. С нетерпением жду тебя и твоего окончательного ответа. Если ты мне скажешь «нет», то это будет для меня чем-то вроде внезапной остановки Земли: все полетит к чертям собачьим, перемелется в пыль и труху. Из такой переделки я, конечно, выберусь как-нибудь, но стану моральным уродом, по сравнению с которым любой архиурод будет выглядеть ангелочком. Нет, Наташа, надо верить друг другу и верить друг в друга, хотя я учитываю, что в жизни могут быть миллионы причин и причиночек, вызывающих болезненное недоверие в отношениях меж людьми. Если бы не было на свете мелкой подозрительности и отвратительного, часто беспричинного человекоедства, то как бы хорошо жилось всем нам, обыкновенным смертным! Ну, скажем, зачем это на днях рыжая твоя соседушка высказала Зине некое гнусное подозрение насчет нас с тобой? Хорошо, что Зина-то знает, что меж нами не было ничего, что можно было бы осудить даже с точки зрения какой-нибудь злобствующей кикиморы. А вчера ночью, когда я стирал на кухне, другая особь прекрасного пола засекла меня и позвала свою подружку. Они прошмыгнули мимо, мерзко хихикая, а я едва сдержался, чтоб не ошпарить их кипятком, – вот бы размяукались! Снова пишу тебе, потому что настроение у меня неважное. Часто вспоминаю наши с тобой разговоры, когда нам было так хорошо! И только временами – в том числе и по моей вине – возникало непонимание. Помнишь, ты как-то спросила, почему это я иногда внезапно отключаюсь от всего, задумываюсь и сижу, словно бы отсутствуя? Я тогда не сумел объяснить. Со мной это случается и без тебя, но я и вправду затрудняюсь сказать, о чем думаю в такие минуты. Чаще всего в каком-то отвлеченном, туманном и мечтательном стиле рисую разные идиллические картины – тайгу, горы, костры, дальние походы, лайки, нарты, отдых в новом, пахнущем смолой доме, нежные цветы весны и грустную осень, книги, прочитанные вместе с тобой, детей, которых мы родим. Конечно, эти мои мечты можно назвать мелкими, мещанскими, однако я знаю, что наша любовь не будет такой – она найдет выход в большую жизнь, вольется в нее чистым и полезным ручейком. Думаю я также о матери, о том, как мало хорошего она увидела в своей жизни и как много дала мне, а я не успел ее отблагодарить. О тебе и о себе думаю. А так как свое будущее я всегда связываю с тобой, то мысли о себе уводят меня в прошлое… Вот нас болтает на волнах, лепит снег, ни черта не видно, а мы четвертые сутки ищем свои сети в море. Судокоманда поховалась в кубрик, а я стою с кошкой-якорем: якорь в воде, а конец в руке. Немного мандражу – если якорь неожиданно зацепится, то меня может сдернуть в холодную азовскую воду, и тогда уж эти бухарики высыпят из кубрика, начнут искать меня. А вот наша посудина сидит на мели, вокруг бушует пыльная буря, поднявшая чернозем с запорожских полей. Эта буря и выкинула нас на мель, потому что ничего не было видно. Мы все выбились из сил, задыхаемся, жутко хочется пить, пресная вода кончилась, а я, еще не оперившийся радист, пятый час копаюсь в нашей забарахлившей радиостанции. Потом я стою на коленях в конторе нашего рыбцеха, цежу из бачка кружку за кружкой, а вокруг люди стоят и считают, сколько я уже выпил кружек… А то какие-то совсем жуткие картины вспоминаются. Вот сидит на полу пьяный в дым парень из нашей команды и через икоту подробно рассказывает, как в той комнате, где живет Любка из рыбцеха, они гуляли вчетвертом – их трое, а она одна. Потом Любка в коридоре, плачущая и дрожащая; от нее разит водочным перегаром, она что-то кому-то пытается объяснить, а я чувствую, что если не убегу в ту же секунду, то меня начнет рвать… Вот я схоронил мать и еду в Сибирь, куда-нибудь подальше. Какие-то ребята в мичманках поют «Скрылись чайки», а я стою у окна, смотрю в пустую степь и плачу. Мичманы заметили это, что ли, пригласили к себе, но я хотел побыть один. Тогда кто-то из них кинул издевательское словцо, и я бросился на него. Меня взялись месить, а в Петропавловске сдали в милицию. Хорошо еще, что дежурный вокзальной милиции, какой-то пожилой казах, понял меня без долгих слов и устроил на следующий поезд. А то вдруг вижу, как стоит передо мной начальник Алыгджерской станции, недалеко от которой мы с тобой впервые встретились. Я разговариваю с ним тихим голосом, и он знает, что если я так говорю, то способен на все. Он поднимает табурет и швыряет его в мою голову. Я наклоняюсь, и табуретка за моей спиной рассыпается. Снова говорю ему таким же голосом, чтоб он никогда больше не истязал своего девятилетнего сынишку, иначе я не отвечаю за себя. Он тяжело смотрит мне в глаза, поворачивается и уходит. Там же, в Саяне, я заблудился, не найдя самого дальнего снегомера, и двое суток бродил в ослепительных снегах, выбираясь к станции. Вспоминал Нансена, Седова, Скотта, Кошурникова, Джека Лондона и его героев, думал о тебе, хоть и не знал еще в то время тебя. Еще сотни случаев могу вспомнить я в такие моменты, и это, наверно, с каждым бывает, посему ничего плохого нет в моих мыслях, когда на меня «находит», как ты однажды выразилась. И я решил тебе написать об этом, чтоб тут тоже была для тебя полная ясность. Мы с тобою – как желтые листья, Мы не знаем, куда нас несет. Чья-то злоба, болезнь, или выстрел, Или старость нам путь оборвет? Где та дорога, Как мне ее найти? До чего же много Троп на моем пути! Мы с тобою о многом не знаем, Потому называем судьбой, Может, жизнь посмеется над нами, Может, вспыхнет флаг голубой? Но в одном готов я признаться: Жизнь, ты слышишь, спасибо тебе За такое великое счастье — Человеком прожить на земле! Где та дорога, Как мне ее найти? До чего же много Троп на моем пути! Это еще одна чья-то песенка из моей тетрадки. Она банальной мне кажется и примитивной, но под теперешнее мое неопределенно-грустное настроение проходит. Ну а как ты-то там? Как Куба – любовь твоя? Вчера получил от тебя письмо из самого Парижа. Ах, Наташка! Ты настолько интересно описываешь его, что я перечитываю твое письмо уже в который раз и не могу начитаться. И о Праге тоже хорошо, хоть и мимолетом. Я понимаю, что переварить сразу два таких города не просто. Однако самое интересное ты написала в конце, немного нелогично, хотя и понятно: «У нас лучше». И вот за эти слова я тебя еще пуще жду. Должен сознаться в дурном поступке – зашел Славка, и мы крепко выпили за его новую работу на буровой. Он почти не пил, зато я постарался – буду в этом правдивым. Я мог бы не сообщать тебе, и ты бы никогда об этом не узнала, но я давно решил никогда и ничего не скрывать от тебя. Целый вечер сегодня с Маринкой. Она какая-то притихшая и ласковая. Написала тебе письмо, посылаю. И еще посылаю письмо от медвежонка Шуфки. Когда я сказал Маринке, что в этом письме очень много ошибок, она объяснила: «А медвежата в школу не ходят». Приходила Зина и говорила, что я чародей – у нее Маринка все время капризничала и отказывалась есть. А у меня поела и даже попросила добавки, потом – сказку пострашней, с тайной. Сейчас спит-сопит, а я пишу и слушаю по радио концерт-конкурс твоих эмгэушников. Мелодии какие-то нейтральные, а это плохо, когда от перемены мелодии ничего не меняется. Некоторые из этих песен я, оказывается, знаю, только пою их без эмгэушного нытья, а со своим отношением к песне и к жизни. Днем встретил коменданта общежития, поговорил с ним по-хорошему. Он мужичок ничего. Пожаловался, что жена его запилила – он с каким-то своим старым фронтовым другом посидел в ресторане до закрытия, а она ему за это пилит шею уже третий день. Я тоже поделился с ним, сказал, что скоро приедет меня пилить не какая-нибудь там пила, а настоящая паровая лесопилка. Комендант сочувственно посмотрел на меня, вздохнул и поплелся. Да, мне-то достанется, это уж я точно знаю. А я в ответ буду только бормотать, что выпил от радости, получив твое парижское письмо, буду жалобно поскрипывать, как дерево, то есть дубина. Постепенно приобретаю тут опыт обращения с женщинами. Зина пришла в новой шляпке и спросила, что я могу о ней (то есть о шляпке) сказать. Я ответил честно: эта обнова напоминает мне колониальный шлем. «А пожарную каску она тебе не напоминает?» – пронзительно спросила Зина. «Нет, – говорю. – Цвет другой». Зина вздернула свои щуплые плечики и ушла. А до нее по наущению коменданта заявились ко мне какие-то две милые и скромные девушки-киргизки с первого этажа общежития. Я им починил утюг и сказал, чтоб они еще что-нибудь электрическое приносили, потому что я мастер на эти штуки. Они здорово обрадовались. Как видишь, я вовсю вращаюсь в женском обществе и здорово стал разбираться в ихней психологии и даже ихних нарядах. (Пойми, что у меня после твоего письма сильно поднялось настроение.) Ты вот пишешь, что, к твоему удивлению, парижанки одеваются обыкновенно. А ты думала, что все они расфуфыры? Трудовой народ, который ездит в метро, ходит по улицам пешком и гнется над станками и прилавками, должен одеваться обыкновенно. А про русские сапожки в Париже могу тебя проинформировать – ошские щеголихи, особенно узбечки, тоже зацокали такими копытцами. Ты хорошо написала о том самом Наполеоновом столпе на парижской площади, но полностью твоих восторгов не могу разделить – ведь это памятник Наполеону-вору. И пусть твой любимый герой был великим полководцем, у него, извини меня, было и немало, как говорится, существенных недостатков. Слушай: почему тогда мы спасли Дрезденскую галерею и не превратили ее в военный трофей, а вернули народу, которому она принадлежит, хотя, между прочим, немцы сами на нас полезли? Наполеон тоже ворвался в Египет как авантюрист-завоеватель, увез пусть в данном случае Луксорский обелиск, и мы думаем, что так и надо! Времена меняются, и на месте египтян я бы давно потребовал этот обелиск обратно, а французы, если они к нему привыкли и он им что-то напоминает, пускай сделают из камня или пластмассы копию. Это будет по-честному, благородно. Когда-нибудь оно так и произойдет, я верю во французскую великую нацию. И вообще жизнь мира так сложна, что многое хочется предположить. Может, придет пора, когда те же человечные и умные галлы переосмыслят законы приличия и попросят Америку вернуть свой подарок – статую Свободы? Ну скажи, чем не политик твой змей? Нет, никакой я не политик! Сейчас напишу тебе совершенно аполитичную вещь: я начинаю злиться на эту маленькую, теплую, симпатичную страну, которая так надолго отняла тебя у меня. Получил письмо с Кубы и бесконечно благодарен тебе за него – не забыла меня там. И я пишу – это стало для меня потребностью. Маринка у Зины. Был там вчера поздно вечером. Бесились. Потом мы с Маринкой ходили ко мне, и я пел ей самые детские песни, которые знаю: «Мы красна кавалерия», «Там вдали за рекой», «Любо, братцы, любо», учил ее считалкам «Дора, Дора, помидора» и «Шел трамвай девятый номер». Здорово лопочет! Потом я сделал картонный бумеранг, он прилетал назад, и мы выли от восторга. А под конец состоялся у нас с ней серьезный разговор. Она сказала, чтоб я всегда жил с вами, но только вот где я буду спать? И вопросительно обвела глазенками комнату. Я ей растолковал, что «где спать» – дело второстепенное и надо сначала нам всем решить, будем ли мы жить вместе. Отвел ее к Зине, и на прощанье она (Маринка, конечно) вытянула по-телячьи губы и полезла ко мне целоваться, но Зина это дело ревниво пресекла. Занимаюсь много, сплю мало. Втянулся, ничего, и сидеть над книгами даже понравилось. У меня произошел какой-то скачок; если раньше я учил, то теперь стараюсь понять, и тогда учить уроки, оказывается, не надо. Вот только учебников не хватает. Мне еще надо планиметрию со стереометрией, новую историю, обществоведение и самые последние выпуски учебника и задачника по алгебре (там введены элементы высшей математики). В Оше ничего этого нет. А Зина просит тебя привезти журналы мод, хотя бы рижских. От работы на буровой окончательно отказался – понял, что будет неудобно перед вашими профсоюзниками: они мне там хлопочут общежитие по моему заявлению, а я вдруг сбегу. Хотя с общежитием неясно. Зашел как-то комендант, увидел, что я с тряпкой ползаю по полу, сказал печально, как товарищу по судьбе: «И ты моешь?» Потом добавил, что профсоюзные деятели за то, чтоб дать мне законное место в общежитии, но руководству я вроде не нужен. Не Сафьян ли хлопочет? Один парень, который работал когда-то с Сафьяном в партии, рассказал мне об этом «интеллектуале» ужасную вещь, даже не верится. Сафьян, знаешь ли, заставлял рабочих закладывать на козьих тропах взрывчатку с электрическими детонаторами. И раз подорвалось целое стадо. Все камни были в крови и кишках. Такое придумать нельзя. И я тебе вот что скажу: эта умствующая скотина все равно на чем-нибудь погорит. Не может быть долго такой жизни, чтоб подлец преуспевал! Есть тут для меня еще одно интересное предложение, но я до твоего возвращения не позволю себе думать о нем серьезно, потому что оно связано с моим отъездом. Между прочим, твоя фраза о том, что ты разочарована – «никакой революции не увидела», – меня огорчила. И вовсе не потому, что цель твоей поездки оказалась неисполненной и ты себя почувствовала, по твоим словам, «немного обманутой». Ты не подумала о том, что обман-то исходит, может, от тебя самой? Ты по-туристически воображала, будто революция – это митинги, лозунги, речи, шумные толпы и пальба из пистолей. Не знаю, что сейчас там, на Кубе, но я думаю, любая революция со временем должна уйти внутрь народа, внутрь каждого человека, в будничную работу, чтобы не разрушать, а созидать. Может, революцию-то и сделать легче, чем добиться ее плодов? Приезжай вот скорей, расскажешь все подробности, и мы поговорим на эту трудную тему. А ты чувствовала, как я не хотел, чтоб ты ездила туда? Мне жаль было расставаться с тобой на такое долгое время, я боялся (и боюсь!) какой-нибудь нелепой случайности в столь длинной дороге. Но ничего не сказал тебе: знал, что не отступишься, потому что слишком сжилась со своей мечтой о Кубе. Кассета с песнями ждет тебя. Наверное, это будет единственное, что я тебе смогу подарить в тот момент, когда человек должен дарить другому самое дорогое… Уже два часа ночи. Ложусь. Воскресенье – и поэтому целый день вместе с Маринкой. На улице прохладно, зима спустилась с гор в долины. Дул сильный ветер, даже шел реденький снег. Мы не выходили из дому. Утром варил рисовую кашу, и не геологическую, на воде, а настоящую, домашнюю, молочную – пальчики оближешь! Потом мы разбрелись с Маринкой по разным углам. Она не очень мне мешала. Наталья! Как о чем-то несбыточном, мечтаю о том времени, когда мне уже не надо будет в 11 часов вечера мрачно ждать твоих неизменных слов: «Ну, Валерий, тебе пора…» Наташа, все будет чисто и хорошо у нас, как у людей, верящих друг другу и, может быть, созданных друг для друга. Мы одинаково сильно любим жизнь и друг друга, чтобы не дорожить тем, что неотделимо от жизни с ее мгновениями, которые будут соединять тебя, меня и будущих наших детей. Сообщу тебе новость. Меня разыскали товарищи из гидрометеослужбы, знающие меня по работе на Ачисайке. Им очень нужны люди. Предлагают немедленно поехать на работу в горы, на снеголавинную станцию. Приглашают зайти поговорить, а я не могу видеть начальника по кадрам, который нас с Каримом выгнал с работы ни за что. Потихоньку готовлюсь к твоему приезду. Комната у меня в порядке, мне только надо перестирать все, что моется. Думаю даже добраться до твоих «партийных» брюк. Вот только денег нет ни гроша. На днях, правда, у меня получка, но от нее ничего хорошего я не жду – аванс уже съел, а в получку вычтут все, что положено, и если достанется мне рублей пять с копейками, то будет хорошо. А как было бы здорово натащить домой еды, цветов, вина и по-настоящему отметить твой приезд! Меня тут все еще «изучают», хотя пора бы уже присмотреться. Еще раз заходил комендант, потоптался у порога, видимо не решаясь сообщить нечто важное, потом спросил: «За что они там тебя едят?» – и кивнул за окно в сторону вашей конторы. И правда, за что? Может, за то, что непохож на них и живу, с их точки зрения, не так? Или твой «интеллектуал» все же чувствует, как я его презираю? Опять два часа ночи. Тишина, только на соседней стройке что-то громыхает да по стене ползет-шуршит ветер. Сижу, курю, совсем уж закурился. Сейчас ложусь спать в крахмальные простыни. Я их сам стирал и крахмалил, не стал отдавать в прачечную. Наташа! Вот и снова у меня резкий поворот в судьбе. Я, как это ни странно, уезжаю. Мне до боли в сердце хотелось тебя дождаться, это было совершенно необходимо, но ничего уже нельзя поделать. Сейчас объясню, как все вышло, а вначале расскажу о Маринке. Вчера после работы я подъехал к детсаду в такси, посадил ее на колени и долго катал по городу. Мы съездили также в аэропорт, и я показал ей место, где она будет встречать маму. Потом мы завернули в кафе – кутить. Когда подошла официантка, то я заказал себе двести пятьдесят коньяка и спросил Маринку: «Тебе мороженого?» – «Да!» – обрадовалась она. «Сколько тебе, девочка, порций мороженого?» – наклонилась к ней официантка. Поросенок с мольбой и надеждой посмотрел на меня и говорит: «Семь!» Ты спросишь: на какие шиши? А я получил аванс в гидрометеослужбе, потому что нанялся на снеголавинную станцию Сарысу. У них там горит, туда надо в пожарном порядке отправлять людей, хотя я и не знаю, почему такая срочность. Вот как все обернулось, и нельзя было мне поступить иначе. Я просил решить со мной через неделю, но завтра утром они отправляют туда последнюю машину. Решение пришло как-то внезапно. Понимаешь, накапливалось много мелочей, которые опутывали меня, нажимали на психику, и я жаждал любых изменений. Во-первых, я пережил тут немало унизительных минут. Мне все время казалось, что твои соседушки, разглядывая меня как экспонат, думают: «Что за чучело гороховое? Не иначе как беспортошный прохиндей, который позарился на деньги неплохо зарабатывающей, образованной, одинокой, порядочной и т. д. и т. п. женщины. Неужели она не могла найти себе солидного человека с положением?» Во-вторых, у меня была острая нужда в деньгах, не раз я заменял ужин пачкой папирос. В-третьих, я на расстоянии чувствовал беспричинную злобу Сафьяна и никогда, верно, не забуду его слов насчет лампочек в дамских клозетах. Этот «интеллектуал» тихой сапой выживал меня отсюда, и я глубоко страдал от сознания бессилья. В-четвертых, я мог на эту зиму уже не получить хорошо оплачиваемой работы, а теперь, когда я спущусь весной с гор, у меня будет рублей пятьсот-шестьсот. Это немало, и они нам с тобой еще как пригодятся, надо быть реалистами. И наконец, вчерашнее событие. Утром Зина получила от тебя два письма. Я сорвался, побежал на почту. Мне – ничего! Неужели ты вправду думаешь, будто я настолько сильный человек, что легко могу обойтись без внимания, без малейшего знака приязни? А вечером произошел еще один случай. Вернувшись от Зины, к которой я отвел Маринку, застал под дверью записку: «Ваша очередь мыть полы в коридоре». Я уже два раза мыл эти заляпанные грязью и заплеванные полы, точно знаю, что не моя очередь, но не уверен, поймешь ли ты меня – я был слегка под хмельком и ночью, после двенадцати, вымыл эти полы, пусть! Потом взял гитару и долго пел. Спьяну пел не очень тихо и чуял, что соседушки слушают. Можно сказать, что и пел-то я для них, тоже пусть! Подари на прощанье мне билет На поезд, идущий куда-нибудь. А мне все равно, куда и зачем, — Лишь бы отправиться в путь. А мне все равно, куда и зачем, — Лишь бы куда-нибудь. Подари на прощанье мне несколько слов. Несколько теплых фраз. А мне все равно, какие они, Лишь бы услышать их раз. А мне все равно, какие они, Это ж в последний раз! Мне б не видеть ни глаз твоих, ни губ, Не знать твоего лица, А мне все равно, где север, где юг, Ведь этому нет конца. А мне все равно, где север, где юг, Это ведь без конца. Но если услышу: «Ты нужен, вернись!» — Поезд замедлит бег. А мне все равно, что ждет впереди, Лишь бы услышать твой смех. А мне все равно, что ждет впереди, Твой бы услышать смех… Под эту песню я даже всплакнул немножко по пьянке. Не очень скрипи, постарайся понять. 2 Еще раз прошу не осуждать за внезапный отъезд. Эта перемена для меня была просто необходимой. Я не мог больше без привычной тяжелой работы и друзей, занятых вместе со мной этой работой, мечтал освободиться от изнуряющих душу мелких «шабашек» и неуверенности. И еще одно, очень важное, – не мог я основывать семью без копейки в кармане, это было бы как-то не по-мужски. Утешаю себя надеждой, что все это ты воспримешь как надо. Что такое Сарысу? Поднятый высоко в горы крохотный поселочек – знакомая мне метеоплощадка, только что построенные служебные и жилые помещения. Сооружали их по договору наши «хозяева», как мы их называем, – горняки, нанявшие нас, гидрометеослужбу, для борьбы со снежными лавинами. «Хозяев» от нас не видно, но день и ночь снизу доносится приглушенное расстоянием урчанье машин и бульдозеров. Только тут я и понял причины особой срочности, с какой собирали сюда народ. Станция не могла быть официально открыта без полного штата, нельзя было подписать соответствующие документы и начать финансирование. Однако это не все – началась очень снежная зима, лавины угрожают дороге, идущей по склону и к горным разработкам у подножия хребта. У нас, наверху, – большой снегосборный бассейн, переходящий в несколько каменных лотков. Одна лавина уже сошла. На руднике засыпало двух рабочих, одного так и не удалось спасти. Моральная ответственность за эту трагедию лежит в общем-то на нас – лавинщики не успели дать предупреждения. Лавина была могучая. Разнесло на шурупчики-гаечки грузовик, по щепочке склад, а бак бензохранилища закинуло в такую дыру, что его не вытащить никакими силами. Ребята, которые спускались туда, рассказывают, что лавина, будто автогеном, срезала вкопанную в землю якорную рельсу, но мне что-то не верится в такое. Горы очень хороши в эти дни! Ясное небо, и на его фоне вздымаются каменные стены страшенной высоты. Величие этих гор как-то успокаивает и поднимает во мне силы. Наверно, мне эти горы были нужны не меньше, чем ты. Надеюсь, понимаешь меня и ревновать не будешь. Наши хозяева неплохо подготовили помещения, оборудование и инвентарь – видно, им тут без нас никуда. Уйма приборов, потому что станция будет пристально изучать здешние снега, хотя главная цель диктуется горняками: мы должны им обеспечить безопасную работу. Начальник наш – Георгий Георгиевич Климов, или Гоша, как мы его меж собой зовем, – задумал создать тут типовую оперативную снеголавинную станцию. Он чуть постарше меня, но успел куда больше. Уже давно закончил университет и не первый год работает в горах. Мастер спорта, восходил на Хан-Тенгри. Горка еще та – без пяти метров семитысячник! Увидел меня с чемоданчиком и гитарой, обошел вокруг и спросил, что я такого умею делать. Я сказал, что до армии и в армии был радистом, потом работал на двух метеостанциях. «По горам лазил?» – «Не тигр снегов, конечно, – сказал я, – однако лазил в Саяне и тут немного с геологами». – «А в свободное от работы время что будете делать?» – «Не знаю». – «На гитаре играть?» – «Что надо будет, то и буду делать!» – разозлился я. «Вот это разговор! – сказал Гоша и протянул мне руку. – Я за широкую специализацию». Короче, знакомство состоялось. Посмотрим. Я собрался устроить себе здесь особого рода проверку и еще раз утвердить себя в жизни. Два слова о самом главном. Знай и помни: мое отношение к тебе не изменилось, только укрепилось. Как бы я хотел, чтобы ты уловила и почувствовала направленный острый луч, состоящий из моих мыслей, мечтаний, надежд. Почему-то я очень верю, что он пробивается к тебе через хребты и снега. Это как радиоволны: когда их энергия рассеивается, они затухают, а направленный пучок способен прострелить огромные космические пространства. С нетерпением жду твоего письма. Ребята говорят, что почту надо таскать вниз, к горнякам, а там довольно регулярная связь. Здорово все-таки – я оказался в свойской компании хожалых ребят, которых мне так не хватало. Пора спать, хотя вообще-то парней надо постепенно приучать к моим ночным бдениям. Попробую и тут заниматься, не знаю, что получится. 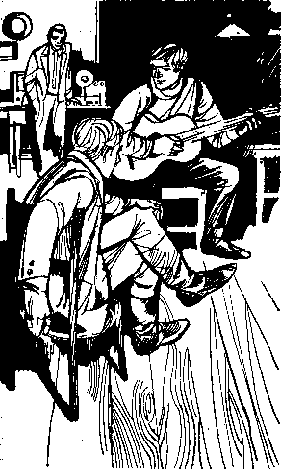
Вчера подписали акт о сдаче нашей станции в эксплуатацию. Гоша разлил на всех флягу спирта, мы промолчали, а он посмотрел на нас, пробормотал: «Не думал, что вы такие алкаши», – и достал еще одну емкость. Ты только не пугайся и не злись – начало всякого большого дела положено спрыснуть, да и досталось нам в переводе на водочный эквивалент всего-то граммов по двести. Сегодня голова немного побаливает – такую боль всегда вызывает спиртное на большой высоте. Сообщу тебе для успокоения, что Гоша объявил на станции сухой закон, и это совсем не плохо. У нас начались будни – инструктажи, изучение техники безопасности, знакомство со снаряжением, аппаратурой, районом. Гоша прочел нам вводную лекцию о лавинах. Для меня интересны даже всякие мелочи нашей работы, подробности, о каких я раньше и не слыхивал. Что ты знаешь, например, о снеге? Я вот всю жизнь бездумно наблюдал, как он падает или тает, катал из него снеговиков, ходил по этой мягкой поверхности на лыжах, превращал снег, если не было воды, в суп или чай, тысячи раз фиксировал показания снегомерных реек и сообщал эти сведения тому, кому они были нужны. А снежинки, оказывается, бесконечно разнообразны по форме – столбики, звездочки, пластинки, крупа, иглы, зерна, градины, пространственные древовидные кристаллы, наподобие той ледяной веточки, о которой я писал тебе с Каинды. Для нашей службы очень важно знать, как ведет себя тот или иной снег: пушистый, игольчатый, метелевый, осевший, фирновый. Вот, например, есть такой вид старого снега – «глубинный иней», состоящий из прозрачных ледяных кристаллов, ажурных пластинок, призмочек и пирамид. Этот снег-плывун очень неприятен для нас, и мы должны зорко следить, когда и где он начнет образовываться, потому что снежная толща может неожиданно соскользнуть по нему, как по маслу. И снег никогда не лежит просто так, в нем все время что-то происходит под влиянием солнца, ветра, собственного веса, влажности и температуры воздуха. Новизна обстановки увлекает, но все время думаю о тебе. Мечтаю о том, чтобы появился в районе станции какой-нибудь местный шайтан или наш русский черт. Наподобие Вакулы, я бы постарался его взнуздать, чтоб слетать на нем к тебе. Глупые мечтания! А пока жду весточки от тебя и Маринки. Взяла ли ты в Москве мои письма? Знаешь, я писал их в разном настроении, и ты уж, пожалуйста, не скрипи на меня, если прочтешь что-нибудь такое, что потянет тебя на скрипенье. И вообще хорошо бы договориться на будущее. Когда мы будем вместе, ты уж давай раз в месяц, а еще лучше раз в квартал, устраивай мне грандиозный скандал, пусть даже с битьем посуды, только не издавай свои скрипы через день или чаще. Понимаешь, для тебя такие слабенькие разрядки будут малоэффективными, а у меня к ним может выработаться иммунитет. Согласна с доводами? Да, за шкафом у тебя лежат проволочные конструкции. Не пугайся, что они сложные, зато они красивые. Это я в последние дни фантазировал – гнул и варил подставки для цветочных горшков. Жаль, не успел покрасить, хотя краску принес, она в нескольких пузырьках за тумбочкой. Если ты сама не покрасишь, пусть лежит все до весны. Вчера вечером после нашего торжества ребята заставили меня взять в руки гитару. Гоша презрительно сказал: «Только не надо туристических песен, р-р-ро-мантических». – «Почему?» – спросил я. «От них тошнит», – сказал Гоша, и все заговорили о туристах, которые летом выберутся куда-нибудь на недельку-две, а потом целый год орут про тяжелые подъемы и опасные переправы. Это, конечно, не романтика, а ее эрзац, и у нас на сей счет двух мнений не было. Пел много, был в ударе, и ребята все время просили что-нибудь «душевное». Пришлось даже достать свои тетради с песнями. И Гоша слушал. Молчал, молчал, потом сказал: «Ну, теперь хорошо, а то у нас был только виолончелист». Я не понял: никакого инструмента, кроме моей гитары, я на станции не заметил. Под конец я спел песню, которую мне переписал Карим, она из какого-то нового кинофильма. Ты, наверно, уже слышала ее. Здесь вам не равнина, здесь климат иной: Идут лавины одна за одной, И здесь за камнепадом ревет камнепад, И можно свернуть, обрыв обогнуть, Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная тропа… И так далее. Этой песней я окончательно купил Гошу, и он попросил ее повторить. Работы здесь невпроворот. Вчера на дорогу спустили большую лавину. Это была картина, доложу я тебе! Раньше я почему-то считал, что горы зимой – царство покоя и неподвижности. Наверно, это шло от саянских впечатлений, где хребты поотложе и густо облесены. Но и там я видел по ущельям, над реками, следы больших снежных окатов. В здешних горах лавины сползают всю зиму и весну, потому что снегов очень много, редкие леса стоят пониже, а склоны сильно проработаны тысячами лавин, которые веками сходили тут стихийно. На ровном дорожном склоне лотков нет, там оползни – осовы. Когда гора перегрузится, снег всей массой плывет вниз, иногда по миллиметру в сутки, но и в таком своем почти незаметном перемещении он сильно уплотняется и способен срезать толстые деревья, сносить постройки. Осов может пойти от легкого, неощутимого землетрясения или сорвавшегося с кручи камня, но для нас эти случайности не в счет – мы должны управлять лавинами! Задача заключается в том, чтобы не допустить самопроизвольного и неожиданного их схода, угадать момент, когда они созреют, и предупредив по телефону «хозяев», спустить снега, так сказать, в принудительном порядке. Внизу целый парк бульдозеров, и после спуска лавины снега там разгребаются. Крутые горы над нашими головами меня поразили в первый день, и я думал, что мы будем иметь дело именно с ними. Оказалось, однако, что на кручах больше 60 градусов снег не накапливается, и наша нива лежит ниже, хотя эти склоны тоже брать нелегко. Ты знаешь, что я вынослив, как ишак, сердце у меня качает нормально, силенка есть – короче, мне никогда не приходилось на себя обижаться. Однако первый же подъем подарил мне настоящий сюрприз. Горные лыжи показались слишком – тяжелыми, какая-то противная слабина в сердце обнаружилась. Я наполнял воздухом грудь до отказа, но его все равно не хватало, и сердце с усилием проталкивало кровь. Не подумай, что я начал сдавать, нет! Тут все дело в высоте, в отсутствии тренировок. Наш Гоша топал впереди «лесенкой» и «елочкой», задавая хороший темп, смотрел, как мы держимся на лыжах. Иногда останавливался и пропускал всех, чтобы проверить наше дыхание. «Ничего, ничего!» – пробормотал он, когда я проходил мимо, не то поддерживая, не то оценивая. Дышал-то он куда ровнее и спокойнее меня – сказывается, конечно, навык и стаж высокогорника. Мы поднимались хребтинкой, огибали большие камни, а когда я вылез на снежную доску, чтоб чуток сократить расстояние, Гоша на меня заорал, как фельдфебель. Он, я понял, воспитывал всех нас: линия отрыва, зона напряжения лавины была много выше, просто Гоша дал нам понять, что мы пока тут без него никто. На отдыхе он нам рассказывал, как люди пропадают в лавинах. Если не задушит по пути вниз и не убьет, то в конусе выноса так забетонирует, что, если будешь даже наверху лежать, руку не сможешь вытащить. У меня глаза уже вылезали из орбит, когда мы добрались до верха, и я был счастлив не потому, что мы, наконец, у цели, а радовался, что за темными очками не видно моих бледных глаз. Покатое, слепящее снежное поле уходило из-под наших дрожащих ног. Мы его должны были привести в движение, обрушить вниз. Не буду описывать, как мы рыли траншею и закладывали взрывчатку, одно скажу: работа эта ох не из легких, не из простых, и я даже не замечал двадцатиградусного мороза. Временами казалось, что сейчас вот под моими лыжами лавина подрежется, поползет вниз, и я с тяжелыми пакетами аммонита полечу в тартарары. Это не трусость была, а просто воображение. «Тебя, Валерий, туда не тянет?» – спросил меня один раз Гоша, когда я потерял равновесие и качнулся с грузом. Я ничего не ответил, а Гоша засмеялся: «Это у всех бывает. Потом привыкаешь и работаешь спокойно». И вот наш Гоша любовно оглядел последний раз склон, достал ракетницу и махнул нам рукой. Мы бросились за камни. Гоша пустил ракету и поджег шнур. У меня замерло сердце, хотя вверху, за камнями, было абсолютно безопасно. Слабая при свете солнца ракета летела очень долго, потому что горный рельеф увеличил траекторию полета. Искра погасла внизу, и я увидел Гошу. Он лихо скользнул вниз и вбок, к серым камням хребтинки, по которой мы поднимались. Там затормозил «утюгом», нырнул за камни. И почти в ту же секунду рвануло. Брызнуло вверх белым, заклубилось, ахнуло тяжко и откликнулось высоко у стен. А когда снежная пыль осела у нас перед глазами, мы увидели уползающую вниз лавину. Она пошла трещинами, снежной бурливой пеной, заскрипела, заговорила грозно, разгоняясь все быстрей, а горы вокруг глубоко и облегченно вздыхали. Зрелище и музыка разбуженной нами стихии были щедрой наградой за труд, и новизна и легкость медленно входили в меня самого. Когда мы все собрались, Гоша снял очки и поздравил нас с крещением. «Этой штукой можно заболеть», – сказал он, посмотрев вниз. Мы пошли, и я вдруг услышал сзади какие-то необычные музыкальные звуки. Оглянулся – это парень-киргиз чисто выводил своим ноздрястым носом торжественную мелодию, улыбаясь, блестя черными глазами. Правда, немного было похоже на виолончель. Мне было хорошо идти с этими ребятами по синему снегу. Горное солнце ласкало лицо, дышалось глубоко, свободно, и я впервые за многие месяцы почувствовал себя счастливым. Но почему от тебя ничего нет? Получил твои письма, родная! И посылочку! Спускался сегодня к «хозяевам», чтоб отправить почту, и мне передали толстый пакет и маленький ящичек. Я увидел знакомый почерк и мгновенно сунул пакет за пазуху. Молодой губастый бульдозерист спросил: «От нее?» Я кивнул, а он засмеялся: «Хорошо, если внизу кто-нибудь ждет!» И правда хорошо! На станции перечитал твое письмо, открытки, записки, последнее большое послание. Очень, очень рад, что ты поняла меня. Только «не слишком легко» я уехал. Нет, глазастая моя, уезжать было трудно, но оставаться еще трудней. Почему это ты «не узнала меня в этом поступке»? Странно. Вспоминаю вот, как иногда «учила» меня жить и приговаривала: «Как люди, как другие»… Конечно, у меня непременно нет чего-нибудь такого, что есть у других, может быть, даже очень многого. Но неужели тебе нравилось бы, если б я пыжился и притворялся, пытаясь выдать себя за того, кем я не являюсь на самом деле? Я всегда говорю то, что думаю, и поступаю согласно своим принципам и возможностям, не подлаживаясь ни под кого. Я оставался самим собой и в то время, которое ты вспоминаешь. Да, я крутился вокруг тебя, совался в мелкие дела советчиком и помощником, но это было не только для того, чтобы ты подарила мне нежный взгляд. Этого мне, конечно, хотелось постоянно, однако я знал, какая ты копуша и как можешь всякое пустое дело затормозить неумением. Кроме того, тебе всегда не хватало времени для отдыха, и я старался выкроить его, подсобляя тебе по мелочам, хотя часто сам отнимал это время. Ну что же делать, если я такой несуразный? И мой внезапный отъезд, конечно, в моем стиле. Страшно рад тому, что ты целехонька вернулась из своей поездки, и твоим письмам рад, и Маринкиному, и этим заграничным запискам, которые я не успел получить в Оше, и учебникам, и кубинским подаркам. Знаешь, цветные шариковые ручки я зажал – не могу эту память о тебе раздаривать, а вот с кокосиной мы расправились всей командой. Ну, не ожидал никто такого экзотического фрукта в наших местах! Ты должна учитывать, что ни один из нас ни разу не видал живого ореха кокосовой пальмы. Ребята передавали его из рук в руки, рассматривали, обнюхивали, потряхивали, прислушиваясь: булькает там или нет? Там булькало, и мы решили согласно твоей инструкции распечатать орех. Каждому досталось по столовой ложке молока и по кусочку мякоти на зубок. От всех тебе наше лавинное спасибо. А письма твои я буду еще перечитывать. Пиши мне почаще и побольше, скрипи поменьше, верь мне и верь жизни. У нас все будет хорошо! В одном ты железно права – мне надо учиться. И ты заметила, что нет ни учебников, ни тетрадей в твоей комнате? Я увез и потихоньку начал заниматься здесь, и присланные тобой учебники сгодятся, да еще как! Летом я все же думаю сдать за десятилетку. И мне ведь только попасть в институт, а там пусть лучше череп лопнет, но я буду учиться не хуже других. Ты спрашиваешь: зачем я мечусь туда-сюда, чего хочу в жизни? Как будто ты не знаешь, как много я хочу! Хочу, чтоб ты стала моей женой, хочу кучу детей, хочу, чтоб меня любили, хочу быть серьезным, когда надо, и веселым, когда есть настроение, хочу ветра в грудь, снега в лицо, правды в глаза, хочу просто жить и ощущать, что от моей жизни есть людям какая-то польза… Вот так. А пока я и вправду заболел лавинами. Они уже снятся. Сошелся тут со славным парнем Арстанбеком Зарлыковым, «виолончелистом». Он этих лавин поспускал вагон и маленькую тележку. Говорит: «Помирать будем – лавины в ушах слышать будем». На днях мы с ним ходили к нашему седьмому лотку «горняцкого» склона. Этот лоток очень интересный, он специально описан гидрографической экспедицией, которая тут работала летом. Над ним средний снегосбор, но сам он имеет большой перепад высоты, на диво сильно изрыт какими-то ямами и приступочками, хорошо аккумулирует снег, и лавина в нем, судя по предположениям, должна прыгать. И вот снег копится, копится в нем, дремлет, а потом вдруг просыпается и бросается вниз. Не смог я вчера дописать письмо. Зашел поздно вечером Гоша и попросил помочь наблюдателям. Там двое молодых ребят, плохо работающих с ключом. Они путают код, а это совершенно недопустимо. Я передал за них последнюю сводку и долго рассказывал им о разных метеоштуках. Лечь спать удалось только в 2 часа ночи, потому что начался снегопад, которого никто не ждал, и мне пришлось снова передавать. Гоша прибегал с метелемером не раз, был сильно озабочен и прогнал меня отдыхать, сказав, что завтра нам потребуются силы. А рано утром мы втроем побежали на наш седьмой лоток: Гоша, Арстанбек и я. Мы с «виолончелистом» уже дважды ходили туда, и для меня это была хорошая практика – добираться до самого дальнего лотка на «горняцком» склоне, копать там шурфы, определять температуру снежной толщи по слоям, замерять высоты слоев, вес и плотность снега, сопротивление его на разрыв и сдвиг. Все это постоянно меняется, и мы должны были предугадать момент, когда в зависимости от множества причин сцепление в толще снега уменьшится. Гоша уже дважды выдавал «хозяевам» гарантийный бюллетень по седьмому лотку, а этот неожиданный ночной снегопад мог быстро перегрузить лавиносбор, лоток, и Гоша, передав вниз штормовое предупреждение, собрался с нами. По пути он рассказал, что осадков вообще-то немного и снег там еще бы подержался, тем более что в вершину лотка бьет ветер, уплотняющий пушистый слой в «доску». Гоша боялся метели – передувания в лоток только что выпавшего снега с круч и хребтинок: «Там такая дьявольская орография!» Из долины сильно ветрило, мела поземка. Когда мы добрались до лотка, то увидели, что глубокие шурфы, вырытые три дня назад, исчезли, снег лихо гоняло по лавиносбору, микросклонам, крутило в лотке и над лотком. Кручи, обступившие лавиносбор, хищно скалились сквозь кипящий снег. Я видел, как заволновался наш начальник: «Скоро перегрузит, надо спускать!» Мы условились о сигнализации, Гоша рванул назад, а Зарлыков сбросил с плеч рюкзак. Ветер доносил снизу ноющие голоса «пчелок» – десятитонных самосвалов, которые бесконечным караваном вывозят с рудника свой хитрый груз. Постой, я ведь не сказал тебе, какое добро этот рудник добывает из-под земли. И не скажу, потому что сам не знаю. Ребята болтают, будто из-за одной тонкой жилки такой руды расковыривают целый хребет, и ни спутники, ни лазеры, ни мазеры не могут работать без этого редкого элемента. Руду отсюда вывозят куда-то далеко, и там будто бы из полного мазовского кузова получают доли миллиграмма продукции. (Гоша, между прочим, зашел к нам однажды ночью и спросил меня: «Что это ты все пишешь?» Пришлось в общих чертах рассказать о наших обстоятельствах. «Лишнего не пиши», – намекнул он. «А я не знаю ничего лишнего», – сказал я. И один раз Арстанбек долго смотрел, как я пишу, потом сказал: «А мы так жениться будем, без писанины». Силен?) Идет первый час ночи, я устал порядком, но ты просишь подробнее писать о моей работе, и придется рассказать о сегодняшней лавине, чтоб ты полной мерой представила, как тут достается твоему недотепе, и поняла, насколько мне все это было необходимо… Я не представлял себе, каким образом мы вдвоем взорвем снегосбор, но оказалось, что Зарлыков и не собирался его взрывать. В его рюкзаке были две капроновые веревки и тонкий трос с какими-то гайками. Не знаю, как он эту тяжелягу пер. У меня, кроме лопаты за спиной, всю дорогу ничего не было, и мне сделалось неудобно. «Что же ты не сказал?» – спросил я Арстанбека, с усилием поднимая рюкзак. «Жалел», – засмеялся мой славный киргиз. «Так и я тебя мог пожалеть!» – возразил я. «Нет, меня не надо!» – «А зачем эти гайки на тросе?» – «Увидим. Давай скорей копать будем». Мы долго и трудно лезли на скалу, и хорошо еще, что ветер дул в спину. На этой скале, над лавиносбором, висел огромный карниз снега, и я сообразил, что Арстанбек задумал обрушить его, чтоб стронуть лавину. Мы хорошо привязались и начали прокапывать траншею с двух сторон. Снег был плотный, твердый, будто утоптанный, приходилось его насекать. Я работал без оглядки, решив во что бы то ни стало прорыть траншею дальше середины карниза. Потом Арстанбек крикнул: «Веревку мотай!» Я подумал, что надо вылазить, а он, оказывается, увидел веревочные кольца на снегу и забоялся несчастья – если сорвусь вниз, то будет метров пятнадцать свободного падения и я переломлю себе позвоночник. Работал около часа. Я копал, а сам все думал: «Чего это такого не хватает, что было недавно?» Потом догадался: в горах стояла полнейшая тишина, внизу прервался шум машин, люди приготовились к лавине. Траншея наша подавалась, но Зарлыков, появившись надо мной, сказал, что надо глубже. А глубже копать было боязно – казалось, лопата вот-вот нырнет в пустоту. Я все же обогнал напарника – чуть ли не две трети карниза прошел и заслужил комплимент: «Бульдозер, не парень!» Потом Зарлыков выстрелил из ракетницы, дождался со станции ответного сигнала, и мы взялись за трос. Распустили его по дну траншеи, начали пилить снег гайками, резать тросом. Зарлыков еще раз прошелся по траншее с лопатой, втыкая ее глубоко, от души. В двух местах пробил насквозь. Знаешь, со стороны было жутковато наблюдать за этим, и я уже не понимал, на чем держится такая огромная и тяжелая гора снега, почему не рухнет. Снова взялись пилить и хлопать тросом. И вот Арстанбек закричал: «Готовьсь!» Как-то неожиданно карниз чуть слышно заскрипел и начал медленно отваливаться. Я кинул повыше лопату, вцепился в веревку, уперся ногами в проступающий из-под снега камень. Многотонная глыбища оторвалась целиком и беззвучно скрылась. Потом под скалой послышался какой-то утробный вздох. И в ту же секунду задвигалось все внизу, смешалось, зашумело, загрохотало. Массы снега ринулись вниз по лотку, стронули камень, и грохот стократ усилился в скальном кармане. «Жакши! – кричал мне Арстанбек. – Эх, хорошо, Валера!» Сквозь метель все же было видно, как лавина разгонялась по крутизне лотка, вспухала иногда, потом проваливалась, скрывалась за скалами и вскоре совсем исчезла, только шум ее, приглушенный расстоянием, докатывался до нас ровной волной. Назад, уже в сумерках, я шел счастливый и гордый, вполне довольный прошедшим днем, чего со мной давненько не бывало. А недалеко от станции нас встретили ребята, искупали в снегу, сообщили, что внизу все в порядке, хотя лавина оказалась неожиданно грозной и объемистой – спрессованный снег запечатал проход к аварийному бензохранилищу. Арстанбек в ответ на эту информацию затрубил носом какую-то киргизскую мелодию. Все! Ручка уже плохо держится в пальцах, глаза слипаются, а мне рано вставать – кухарничаю. Ребята любят, когда я дежурю на кухне – все чего-нибудь придумаю такое. Прошлый раз докопался в складе до ящика с песком, в котором надежно хранилась свежая морковка. Если бы ты знала, какие морковные пирожки получились! Это я говорю без авторского самохвальства, а просто подытоживаю общее впечатление. У Гоши, когда он недоверчиво проглотил первый пирог, даже алчно заблестели глаза. Здесь замечательная русская печь, но до меня она была неиспользованным резервом. Хлеб-то мы таскаем с пекарни рудника, а под горячим сводом чудно упревает гречневая каша, и пирожки получаются такими румяными! Даже щи из консервированной капусты становятся в ней совсем другими, чем на плите: духовито-пламенными, проваристыми, необыкновенно вкусными, особенно когда сядешь за стол с мороза. И знаешь, если мы с тобой будем жить вместе, я бы хотел иметь в доме такую печь, подружил бы тебя с этим изумительным изобретением – русской печью-матушкой. Но все это между прочим. Напишу о главных событиях последних дней. На этот раз мой кухонный подвиг не состоялся. Опять снег пошел, правда, без ветра, но очень обильный, а для этого района Киргизии характерны лавины из свежего снега. Почти полных три дня все мы, кроме дежурного радиста-наблюдателя, лазили по лоткам, изучая снегосборные участки. Ели всухомятку, только я в первый день сбегал на станцию и притащил ребятам большую баклагу с крепчайшим и сладчайшим чаем: он был еще горячим, когда я добрался до склона, и ребята меня качнули за него и опять бросили в сугроб – тут, оказывается, такой обычай. Все эти три дня валил тихий, пушистый снег, как будто где-нибудь в густой тайге. Временами прояснивало, потом видимость снова исчезала, скрывались за летучей, плотной сеткой вершины гор, далекие белые хребты, ущелья. В эти дни спустили две лавины – одну взрывом в карнизе, другую таким же способом в снегосборе. Третья сошла сама, но предупреждение на нее мы успели дать. Самое неприятное произошло этой ночью – прервалась телефонная связь с «хозяевами». Мы до утра не знали, в чем дело, пережили несколько неприятных часов. Меня разбудил Гоша и посадил за рацию. Я кое-как связался с радиостанцией рудника, но там было как будто все в порядке, однако через час сообщили, что ночью без предупреждения мы спустили (мы спустили!) приличную лавину, которая перерезала телефонную линию. Когда забрезжил свет, Гоша с двумя ребятами поспешил на склон. Они вскоре вернулись, с нетерпением ворвались ко мне в рубку. А еще через полчаса постоянная связь была налажена. В 9.00 главный «хозяин», начальник рудника, грохочущим, как лавина, голосом напустился на нашего по телефону. Что мог ответить Гоша? Он просто пригласил «хозяина» к нам: полюбопытствовать, как мы тут бездельничаем и зря жуем народный хлеб. Потом они помирились. Я слышал, как Гоша говорил: «Полночи не спали? Да ну! А я могу кемарить по шестнадцать часов подряд». Шутник. Мы-то знали, что Гоша не спал уже 39 часов и поставил тем самым рекорд станции. Он вообще у нас мало спит. Сегодня все отоспались – снег перестал, мы выдали горнякам гарантию. К сожалению, плохо натопили, так как все валились с ног. Было прохладно, и мне все время снилась лавина, обдающая меня своим мертвым дыханием. Но ребята храпели так, что я иногда просыпался. А потом приснился склон, будто бы мы с тобой идем по нему, железно соблюдая все правила, как настоящие высокогорники, умеющие не рисковать зря, но снег под нами неожиданно пополз, и я очнулся. Получил письмо от Карима Алиханова. Он работает радистом на буровой вместе со Славкой, но рвется ко мне. Люблю я этого парня! Мы впервые встретились на втором году моей службы в армии. Меня поразили его глаза – в них словно стояли вечные слезы. Он был удивительно робок. Я взял его к себе на передвижную рацию, сделал из него неплохого радиста, и он со своим мягким характером хорошо уравновешивал меня. Там же, в Забайкалье, он до смерти влюбился в свою Полю, женился первым из всех ребят нашей части и произвел на свет сразу двух сынов. После армии Карим увез семью на родину, в Узбекистан, наши дороги разошлись, и мы почти два года только переписывались. А когда я встретил в Саянах тебя и потом оказался здесь, то Карим приехал со своей оравой ко мне на Ачисайку. Мы прожили душа в душу, хорошо перезимовали. Карим за это время заделался настоящим метеорологом-наблюдателем, освоил высокогорку. Парнишки у него – загляденье. Умора, когда возьмутся лопотать на своем узбекско-русском диалекте. Полина в Кариме души не чает, безропотно слушается его во всем, будто она забитая узбечка, но это от большой любви, а не от чего-нибудь другого – Карим не строжится никогда, берет ее своей азиатской лаской. Думаю часто: эх, нам бы так! Скоро Новый год. Ребята раздобыли на руднике елку, готовятся ее наряжать, а я представляю, как вы с Маринкой достаете елочные украшения, что лежат в картонной коробке на шкафу, и Маринка будет дотошно выспрашивать, какой ей подарок принесет Дед Мороз. Сейчас буду писать ей письмо большими печатными буквами от Деда Мороза. Тебе тоже напишу отдельно, потому что подарок, тот самый обещанный ножик, не готов. Ручку почти отделал, остальное позже. У нас есть пристройка в одну доску, однако она не отапливается, а тиски там. В рукавицах эту тонкую работу можно только испортить. Мне грустно стало немножко – на Новый год не увижу тебя, и под это мечтательное настроение перепишу тебе песню о белых вьюгах. Белые, тихие вьюги! Вы давно так меня не баюкали, В колокольцы-сосульки звеня, Дед Мороз, невсамделишный, кукольный. Исподлобья глядит на меня. Белые, тихие вьюги! Вы спросите угрюмого карлика, Почему он молчит в эту ночь И ко мне не приводит он за руку Свою нежную, снежную дочь? Белые, тихие вьюги, Вы не бойтесь: ее белоснежности Не грозит раствориться в огне, Просто лишь нерастраченной нежности Слишком много, так много во мне! Белые, тихие вьюги!.. Наташа, пишу левой рукой, поэтому прости эти каракули. Знаешь, я попал в лавину. Только ты не пугайся, теперь уже все позади. Скоро сообщу подробности. С большим запозданием поздравляю тебя и Маринку с Новым годом. А я уже более или менее в порядке, хотя мне крепко не повезло неделю назад. Дело было так. С утра мы передали предупреждение на первый лоток, изящно, красивым и остроумным взрывом спустили по нему снег, и Гоша послал меня с Арстанбеком посмотреть, что происходит на седьмом, нашем подшефном лотке. Я шел сзади вдоль второго лотка. Мы думали пересечь опасную зону, как всегда, выше снегосбора. И тут случилось непредвиденное. В одном месте, торопясь за Арстанбеком, я начал переходить воронку, прилегающую к лотку. Это было грубой ошибкой. Арстанбек-то взял краем, а я сдуру покатился по ее склону, чтоб побыстрей. Навстречу мягко плыл пышный искристый снег, нежно синеющий на противоположном, теневом склоне. Когда лыжи начали притормаживать, я вдруг услышал какое-то змеиное шипение и понял, что попался. Снег начал проседать подо мной. Я закричал, быстро отстегнул крепления, выдернул руки из темляков. «Стой!» – услышал я дикий голос Зарлыкова, и в ту же секунду меня подшибло, вместе с лыжами потянуло из-под ног опору. Соображалось хорошо, и я успел еще натянуть до глаз ворот свитера. Если бы этого не сделал, то меня бы задушило снежной пылью: воронка совсем не продувалась, и снег тут не уплотнялся. Потом уж не знаю, как все получилось. Снег сдвинулся по всей воронке, вскипая внизу, а меня довольно медленно потащило в лоток. Я греб руками и бил ногами, стараясь держаться на поверхности лавины. Не знаю, хорошо это было или плохо. Может, лучше, если б меня тут же засосало, тогда не случилось бы дальнейшего. Вынесло в лоток. Я бессознательно пытался плыть навстречу течению, а меня тянуло вниз все быстрей. Перевернуться вверх лицом не смог и почувствовал полную беспомощность. Попытался держать руку над головой, чтоб Арстанбек лучше видел меня – на него была единственная надежда. Но вот я почуял, как топит ноги, затягивает в глубину, услышал скрип уплотняющегося снега. Левая рука ушла вниз, как в пустоту, но тут же ее мертво запрессовало, а правую резко вывернуло надо мной. От острой боли в плече, нехватки воздуха, а может быть, от страха я потерял сознание. Нащупали меня, рассказывают, часов через семь, уже поздно вечером, почти в темноте. Если б еще полчаса, поиски отложили бы на другой день, и неизвестно, чем все это могло кончиться. Когда откопали мою правую руку, то тут же ввели в вену лекарство для сердца и легких. Это здорово получилось, что ребята смогли добыть снизу, с рудника, врача – молодого и толкового парня. Он тут же обнаружил, что у меня нет правого плеча, оно ушло куда-то под мышку, Еще, говорят, откапывали мои ноги, и лицо было в ледяной корке, а врач уже массировал мне грудь, Когда твоего змея достали из снежной могилы, то его сердце уже слышно работало, он начал дышать, и врач решил сразу же вправить ему плечевой сустав – чем скорей это сделаешь, тем будто бы лучше. Рассказывают, что он как-то очень решительно уперся мне ногой в подмышку и обеими руками потянул мою десницу. В сознание я пришел только на станции, где меня долго оттирали, кололи, вливали в рот спирт. Целую ночь никто не спал. Гоша говорит, что я легко отделался: лавина была повторной, ослабленной, и к тому же я сумел оказаться в ее хвосте, иначе бы кранты! Он еще не ругал меня за нарушение элементарного правила высокогорников – это впереди, но уже не страшно, потому что я, как ты ни крути, а выскочил! Живем! Получил от тебя сразу два письма. Спасибо, родная. Если б я не был уверен, что ты все же любишь меня, пусть даже какой-то очень своей, непростой и нестандартной любовью, то я меньше берег бы себя, потому что весь я – для тебя. И ты очень дорога мне, поверь! Даже отставляя в сторону мои чувства к тебе, которые ты, сдается, считаешь малосущественными, я понимаю, что это вы с Маринкой открыли передо мной более или менее определенное будущее в личной судьбе, только ты увидела во мне такое, чего другие не замечали. Обними за меня Маринку, прошепчи ей на ухо что-нибудь ласковое. Она ведь все понимает, этот умненький и смешной человечек! Сижу вот сейчас, смотрю на ее белоглазого дикаря и вспоминаю, как прекрасно мы прожили с ней почти три недели, как веселились, как вели серьезные разговоры. Помню, я писал, что-то тихо бормотало радио. Маринка сидела задумчивая. Вдруг она спрашивает: «Дядя Валера, ты боишься войны?» – «Бояться не боюсь, но не хочу». – «А я тоже не хочу, – согласилась она. – Но боюсь, потому что придут какие-нибудь враги и так отлупят, что не сможешь сесть». – «Не придут», – успокоил я ее и стал рассказывать про ракеты… Хочу поспорить с тобой немного. Тебя, говоришь, потянуло к простым людям? А до этого тянуло к непростым? И ты не боишься никого обидеть таким разделением? Что такое простой, что такое непростой человек? Неужто ты думаешь, что стоящий ниже тебя по образованию и развитию человек обязательно простой? Или ты имеешь в виду характер помягче, душу понежнее, некую безмятежную личность, не ведающую сложностей жизни? А ты, выходит, другая – непростая, сложная? Тут есть кое-что, подумай-ка сама! Вот не хотелось бы, однако напомню, как ты однажды распространялась о «сложной» натуре Сафьяна, человека, который действительно и словечка-то в простоте не скажет. Я тогда слушал в пол-уха тебя, почему-то думая о Крапивине, ясном и простом в обхождении человеке, всегда просто и точно выражающем свои мысли. А он ли не знал всех сложностей жизни! Наверно, за его стилем поведения, его покоряющей простотой стояли долгие раздумья над непростыми, большими вопросами. Вспомни, что сам Ленин был прост, как правда. Так вот, сложненькая моя, – к какой все же простоте тебя тянет, кого ты называешь простым человеком? У нас Новый год прошел хорошо. Только все жалели, что я не мог играть на гитаре. Наш Гоша, оказывается, знает немало песен, каких я сроду не слыхивал. Заразил всех тут одной песней, которую будто бы всегда поют хором друзья его отца-фронтовика, когда собираются на 9 мая. Господа из этих разных штатов Не дают забыть, что мы солдаты. Шагом, шагом, Шагом, братцы, шагом, По долинам, рощам и оврагам! Всю Европу за три перекура Мы прошли от Волги и до Рура. Шагом, шагом, Шагом, братцы, шагом, По долинам, рощам и оврагам! Окиян нам тоже не препона, Потому что с Волги мы и с Дона. Шагом, шагом, Шагом, братцы, шагом, По долинам, рощам и оврагам! Вот лежу и думаю: почему эта песня вдруг приглянулась всем? То из одной, то из другой комнаты раздается: «Шагом, шагом, шагом, братцы, шагом!» Я лежу и тоже думаю: «Шагом, шагом…» Моя рука еще побаливает, но я уже потихоньку пощипываю гитарные струны. Только поется все время грустное. Это оттого, что лежишь, ничего не делаешь, думаешь, а последние события наталкивают на мысли о жизни и нежизни. Лучше бы уж работал и уставал, чтоб некогда было заниматься самокопанием. Вдруг обнаружилась какая-то дикая тоска по метеорологии, постоянный зуд в пальцах – добраться бы до ключа. У нас стоит ясная, солнечная погода. Тихо, морозно. Гоша говорит, что весь январь будет такой, так как нас начал доставать каким-то своим ответвлением сибирский антициклон, который теперь тут начнет командовать погодой. Опять же спасибо Сибири скажешь! Иногда думаю: может, и тому, что уцелел в этот раз, я тоже обязан Сибири, как знать? А лавины все же будут в этом месяце. Гоша твердо обещает. Я тебе писал о сокращении снежных полей под влиянием мороза? Вот такие лавины и пойдут. Правда, Гоша заявил, что на лотки он меня больше не пустит и на первый случай мне надо заняться наблюдениями. Эта работа мне хорошо знакома, только надо кое-что почитать и освоить некоторые приборы. «Что надо, то и буду делать», – сказал я тогда. И тут вправду второстепенных работ нет. Наша служба – первое звенышко в длинной цепи дел и событий; не сбрасывай мы этих проклятых лавин в порядке профилактики – горняки не смогут дать руду, обогатительное предприятие – свои драгоценные граммы, а там, глядишь, и какой-нибудь почтовый ящик остановится, и где-то все обернется замедлением и отставанием; в общем муравейнике нисколько не лучше меня любой работник, кующий эту цепочку. Тут и твой труд есть, Наташа, хоть капелька, потому что, наверно, ваше управление нашло здесь руду… Наблюдаю вот за Гошей и думаю: когда он отдыхает? Основная работа по описанию лавин лежит на нем, а это – множество данных. И еще он все время что-то строчит: не то книгу о лавинах, не то диссертацию. Без конца чертит какие-то диаграммы, таблицы, пишет трехэтажные формулы. Снега ему хорошо подчиняются: Гоша знает, когда и какую лавину спустить, чтоб она очистила лоток, хорошо сошла и оказалась безвредной, это как раз и нужно нашим «хозяевам». Ох, как мне далеко до нашего «повелителя снегов»! Но ничего, поживем, поработаем! И поучимся! Еще, так сказать, не все потеряно. Только в последние дни почему-то не могу сесть за книги, отшибло все. Тут ведь очень трудно заниматься. Только сядешь, соберутся ребята, начнут травить, анекдотничать и расшевелят, конечно. Мой Арстанбек учудил – на Новый год отпросился в родное село и вернулся только через неделю. Но как! Появился на станции – улыбка до ушей: «Салам!» – «Салют!» – ответили мы. «Как ты, Валера?» – склонился он ко мне. «В норме», – сказал я. «А у меня жена есть!» – шепчет мне в ухо. «Где же она?» – «Баран караулит». – «Какой баран?» – «Живой баран». – «Где?» – «На руднике». Ребята уже навострили уши: «Где живой баран?» Под аккомпанемент «виолончели» они быстро оделись, схватили носилки, на которых вытаскивали меня, и – вниз. Так у нас получился неожиданный пир. Арстанбек в момент разделал барана, и я не мог улежать – взялся консультировать приготовление шашлыка. Алтын – маленькая пугливая жена Арстанбека – затеяла бешбармак и шурпу. Хорошая вышла свадьба на высоте двух тысяч пятисот метров! Ради такого редкого случая был временно отменен сухой закон, снова введенный Гошей после новогоднего сабантуя. К необыкновенной радости Алтын, мы торжественно преподнесли ей комплект высокогорной спецовки, которая, правда, оказалась великоватой. За столом Гоша толкнул такую речугу про всех нас, что мы еще больше зауважали своего начальника, потом обвенчал молодых – под общий смех так связал их альпинистской капроновой веревкой, что они сами не могли выпутаться и долго сидели, беззащитно улыбаясь. Не забыли выпить и за мое здоровье, за мою свадьбу. Потом я пел и все пели, а под конец упросили Алтын спеть киргизскую песню – мы сильно соскучились по живому женскому голосу, ведь радио, понимаешь, передает не голоса, а отголоски. И я вспоминал, как ты летом пела на скале у Каинды. Никаких слов не было, только голос, но я тогда понял, как ты счастлива. Алтын плохо говорит по-русски, зато готовит хорошо. Теперь у нас будет штатный повар и всегда горячее. Мы освободили от барахла комнатенку, и молодожены свили там крохотное гнездышко. Будет у меня когда-нибудь так? Тут уж все зависит от тебя. Когда ты мне дашь окончательный ответ, когда станешь со мной откровенной и простой? Может быть, никогда? Может, неопределенность, а иногда и фальшь в поведении – коренное свойство твоей натуры? Высказывая это предположение, я рискую навлечь на себя твой гнев, но что поделаешь – не хочу и не могу тебе ни в чем врать! Любимый человек – часть самого тебя, а перед самим собой ты всегда такой, какой есть на деле, тут не обманешь и не обманешься. И у тебя и у меня, Наташа, все очень не просто складывалось и складывается в жизни, мы с тобой ясно видим на горизонте горы и ущелья, и, может быть, в этом предначертание судьбы идти нам в одной связке? 
Твое письмо меня растрогало до слез. Конечно же, будут у нас срывы, падения в трещины, тяжелые восхождения в «лоб», но разорвать веревку мы не сможем, потому что связка эта нужна нам обоим. Очень хочется увидеть сейчас тебя! Но, как однажды выразилась Маринка, у меня не такие длинные глаза. Как она там?.. Ребята сегодня ходили спускать лавину на шестой лоток. Пришли злые, измученные, ободрались, поморозились. Там на ближнем складе кончился аммонит, пришлось продираться наверх и пилить тросом карниз. Его кое-как обрушили, но это ничего не дало. Лазили по скалам за взрывчаткой, потом рыли глубокие шурфы в снегосборе и подрывали его. Лавину вечером спустили, но вымотались до последнего. И «хозяева» очень недовольны, потому что из-за нас у них пропал день – они только завтра смогут взяться за расчистку. Чувствуется упадок сил у ребят. Наверно, это от усталости и постоянного напряжения. Пройдет, конечно. Наша работа тяжела и опасна, но платят за нее хорошо. Ставка 75 рублей в месяц, да 100 процентов надбавки, да питание. (Кстати, я посылаю доверенность, и если, у тебя появится острая нужда в деньгах, то оформи эту бумажку в нашей управе и подходи к кассе с паспортом. Ясно?) И вот ребята весь вечер проклинали горняков за то, что те не соорудили противолавинных галерей, лавинорезов и навесов для сбрасывания снегов, как это делается на Кавказе, – мы бы горя не знали. И еще размечтались о разгрузке склонов минометным огнем, не пришлось бы так тянуть жилы да рисковать. Правда, Гоша немного охладил нас. Сказал, что горняки не успели закончить противолавинные сооружения, потому что мы с опозданием дали рекомендации. А насчет мин – это вам, дескать, не Хибины, геоморфология не та. В наших очень глубоких снегах отдельные мины могут не взрываться, будут спускаться с лавинами вниз, а потом попробуй расчистить дорогу. Он прав, наверно. Действительно, как обнаружить невзорвавшуюся мину в массе снега объемом 100–200, а то и все 500 тысяч кубометров? А я работаю уже в новом качестве. Одного из наблюдателей, здорового и довольно тупого парня, Гоша подсунул Арстанбеку, а меня перевел из группы лавинного дозора в снежнометеорологическую службу и сделал что-то вроде своего заместителя, поручив вести все наблюдения в районе станции, в высокогорной лаборатории и на двух ближайших выносных площадках. Дел так много, что сплю урывками, и радуюсь, если ночью удастся подремать часа три-четыре. Погода стоит отменная. Иногда откуда ни возьмись ночью сыплет сухой снежок, и бывают такие дни, что при полном безветрии и ясном солнце из переохлажденных слоев атмосферы опускаются мельчайшие снежинки-льдинки, будто микроскопический ворс осыпается с холодных зимних звезд, которые днем не видны, однако существуют. Воздух наполнен этой пылью, реет, зыблется, блестит на фоне темных скал – мираж, да и только! Снег на склонах сейчас накапливается медленно, и в нем непрерывно происходят какие-то изменения – образуется глубинная изморозь, идет возгонка паров и перекристаллизация. Все это называется очень заковыристо – сублимационным диафторезом, и когда снегосборы достаточно затяжелятся, пойдут лавины, вызванные этим процессом. Я со своей бригадой должен постоянно следить за всеми превращениями снега и, главное, вести основные наблюдения, фиксировать их, зашифровывать и передавать. Ты, мне кажется, об этой работе имеешь довольно поверхностное представление, как и большинство людей, которые никогда близко не соприкасались с гидрометеорологией. Некоторые, я знаю, думают о нас: вот, мол, живут себе счастливые люди вдали от бренного мира, наслаждаются природой, дел и обязанностей у них мало и на душе покойно, и простая эта жизнь – мечта для каждого. Но вот я тебе в двух словах расскажу, что это такое – наша работа. Мы обязаны ежесуточно в определенные климатические сроки фиксировать температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, скорости и направление ветров, количество, форму и высоту облаков, горизонтальную видимость, температуру на поверхности почвы, состояние, высоту и плотность снега, давать полную характеристику осадков. Ты думаешь, это все? Как бы не так! Надо пристально следить за показаниями самописцев, вести метелемерные наблюдения, делать специальные обзоры общего состояния снежного покрова. И если какие-то наблюдения – на самом деле только наблюдения, то много данных приходится добывать нелегким и кропотливым трудом. Расшифрую тебе для примера вот это: «состояние снега». Сначала копаем шурф, проще говоря, яму в снегу. Глубокую, до земли. И не маленькую – в нее надо спускаться и работать. Учти, что мороз часто хватает тут до тридцати градусов, а мы должны знать точную температуру в снежной толще. Электротермометров нет, и чтобы жидкостные приборы не давали при таком морозе искажений, предварительно заливаем их резервуарчики воском. И еще несешь с собой кусок картона, чтобы обернуть прибор при вдавливании его в снег, иначе он вмерзнет – 30 градусов! Термометры ставишь на полчаса через 10–16 сантиметров по стенке, а сам в это время добываешь кубики для определения плотности снега – из корки, из середины каждого слоя, из контактных слоев. Кубики взвешиваются, и данные пересчитываются. Руки становятся как деревяшки, колени, кажется, уж никогда не разогнешь – мороз 30 градусов. А надо еще с помощью динамометров определить сопротивление снега на сдвиг и разрыв. Чтоб вывести среднюю величину, берутся три пробы в каждой точке, и все они требуют аккуратности, осторожности и терпения. А мороз-то – не забывай! – 30 градусов… И даже визуальные наблюдения с основной площадки оборачиваются подчас работой, требующей известной квалификации, навыка и внимания. Вот, предположим, выпал снег. Выхожу я наружу с биноклем и полевой книжкой в руках, разуваю, так сказать, глаза и отмечаю, какие склоны и снегосборы занесены больше всего при определенной высоте снега на площадке, где и при какой скорости ветра у станции происходят метелевые переносы и какие места очищаются этим способом, сопоставляю все данные (я их перечислил не все) с формой облаков, их прохождением над долинами и т. д. и т. п. И все это мне нравится! Прежде всего потому, что я занимаюсь теперь своим делом. Кроме того, каждый день что-то новое узнаешь, лучше делаешь известное, и это засасывает как в лавину. Гоша меня просто покоряет. Моих лет, а какое-то совершенно необыкновенное чувство ответственности, хотя его тут никто не контролирует. Вникает во всякую мелочь, надежно держит станцию в руках, и все это без нажима на людей, а больше своим примером и тактичным подходом к каждому. Недавно мы долго сидели с ним и мечтали о метеорологических автоматах, потом я заговорил о тебе. Знаешь, что он сказал? Неясность в ваших отношениях, говорит, – дело временное: это, мол, как сама жизнь, в которой вдруг не разберешься, но разбираться и налаживать ее надо. Наверно, он прав. Еще раз перечитал твое последнее письмо. Возможно, это правда, что ты совсем не тот человек, которого я люблю в тебе. Что ж, я и не делаю из тебя идеала-идола. Но разве это мало для начала большой любви, если я хоть в какой-то мере понимаю твой склад характера, если я, научившись кое-что прощать, увидел твою душу в лучших ее движениях? Я знаю, что и тот человек есть в тебе. Так ведь и я тоже ох какой неидеальный! На том и порешим: будем любить друг в друге того человека и становиться лучше, чем мы есть. В чистом ночном небе над нами иногда пролетают спутники. Я провожаю их взглядом и мечтаю о том времени, когда можно будет через них каждому человеку послать видеограмму, то есть я не знаю, как это называется, но чтоб я, например, мог увидеть тебя, а ты меня. Вчера ночью в перерывах между наблюдениями выделывал баранью шкуру – этому меня научил в тайге один охотник. Надо засохшую шкуру обмазать жидким перекисшим тестом, подержать сутки, и потом мездра очень хорошо сходит. Я полночи мял в руках шкуру и тер ее наждачной бумагой. Овчина получилась на славу – мягкая, как замша. Получили радиограмму – к нам должна приехать комиссия из управления. Мы драим, стираем, чистим, моем. Все бы это ничего, только слишком уж много писанины с отчетом. Бесконечная цифирь утрачивает в итоговых документах живую связь с природой, отдает сухостью и бюрократизмом, но я-то знаю, что она снова заговорит, когда во Фрунзе, Ленинграде и Москве соберутся сведения отовсюду – с гор и степей, с пустынь и тайги, из океанов и космоса. И это потом даст возможность сделать очень важные выводы и прогнозы, нужные, между прочим, не только для хозяйства и науки, но и для обороны. Нет, Наташа, не такая уж никудышная у меня специальность, она ни капельки не хуже геологии! Позавчера утром Гоша Климов сказал, что надо подняться в лабораторию. «Всегда пожалуйста», – согласился я. «Вместе пойдем». – «Тем более». – «Давно мечтаю об этой разминке», – завершил разговор Гоша. Пошли. По хребту путь был не слишком опасным, но изнурительным и долгим. Сильно дуло, и это было неожиданно, потому что у нас, внизу, куда тише. Раньше, когда я наблюдал в бинокль за флажками на этой хребтине, меня не удивляло, что они всегда растянуты, но такой силы ветра я не ожидал. И без того было холодно, а этот ветер безжалостно выдувал из нас душу живу. Я тащился за Гошей, стараясь не отставать. Ни о чем не думалось, лишь бы скорей добраться. И еще я боялся сбиться с Гошиного следа – самое страшное тут было обрушить карниз и рухнуть вместе с ним. В одном месте Гоша зачем-то перевалил камень на северо-западный склон, и я увидел самую мощную свою лавину. Снега там, наверно, залежались, накопили силушку, с тяжким гудом пошли всей массой мимо меня, и я даже качнулся от холодного их дыхания. Гоша свистел наверху, вздевал руки к небу, как идолопоклонник. Когда я добрался до него, он сияющими глазами смотрел вслед лавине. А лавина долго ревела внизу, и представляю, что было бы, если б там, в страшенных диких ущельях, стояли какие-нибудь постройки, – перетерло бы все в порошок, завалило, и ничего не вытаяло бы вовек. Потом мы оставили в приметных камнях лыжи и полезли по крутому уступу к цели. Досталось. Воздуха не хватало, тут как-никак больше четырех тысяч метров. И еще ветер, и прокаленный морозом камень. В одном месте сильно рискнули, но другого выхода там не было. Меня выручил Гоша, хорошо подстраховал, и я должен при случае поставить в честь его пусть не свечку перед алтарем, а хотя бы бутылку коньяка на стол. Под вечер выбрались к избушке. Сдернули с гвоздей лопаты из-под крыши, откопали дверь, кинулись к печке и дровам. Какое наступило блаженство, когда «буржуйка» распалилась и тепло расплылось по каморке, по нашим жилам и кровям! Перекусили в темпе, успели дотемна выкопать шурфы и провести исследования. 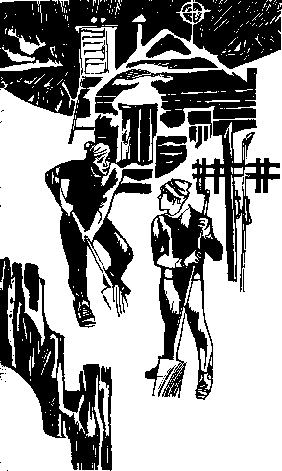
Спалось плохо, потому что ветер быстро выстудил нашу конуру, ватные спальники не грели, да и вставать надо было через три часа для очередных работ. Я поднялся, снова растопил печку, чтоб хоть Гоша поспал, однако он тоже вылез из мешка греться. Мы долго с ним говорили «за жизнь» и сошлись во многом. В Гоше, между прочим, есть много крапивинского. Та же «несгибаемость», которая всех нас восхищала в Крапивине, и то же стремление поглубже понять человека. Но Гоша со странностями, я бы даже сказал, с заскоками. Я вспомнил, как мы рискнули на подъеме, а он вдруг заявил, что не всегда и не все рискуют по необходимости: есть, мол, в природе человека какая-то необъяснимая потребность поставить иногда на карту самое дорогое – собственную жизнь. Я возразил и рассказал ему о том случае в Америке – помнишь, мы с тобой читали? – когда двое решились на смертельный номер: один выпрыгнул из самолета налегке, без ничего, а другой догнал его в воздухе и передал парашют. У Гоши даже заблестели глаза: «Иди ты! Это же крик о бесконечных возможностях человека!» – «И о бесконечной глупости, – возразил я. – О жажде славы и долларов». А Гоша, увлекшись, тут же рассказал не менее поразительный, почти невероятный случай, который произошел в Памире. Может, ты слышала? Высочайшая точка у нас в стране – пик Коммунизма: семь с половиной километров, крепчайший орешек для лучших альпинистов мира, не раз группами отступавших от этой глыбищи из камня и льда. И вот экспедиция 1961 года, взойдя с огромными трудами и лишениями на вершину, обнаружила в туре записку. Автор ее благодарил бога и детей своих, давших ему силы в одиночку покорить этот пик. Подпись – Юрий Кассин. Восходители сначала подумали, что это неуместный розыгрыш, потом вспомнили, что в августе 1959 года некоего Кассина, тридцатилетнего московского инженера, завхоза одной альпинистской группы, оставшегося в лагере, искали потом две недели, но никаких следов не обнаружили. И еще в записке Кассина сообщалось, что он взял из тура полторы плитки шоколада, потому что три дня ничего не ел. Он не сошел, очевидно, с ума – оставил часть шоколадного запаса другим восходителям. И вот этот все равно безумец, приложив нечеловеческие усилия, вошел в историю мирового альпинизма, но погиб при спуске. И Гоша, хоть и не доказал мне героичности такого сорта людей, все же убедил меня в том, что в этаких выбрыках что-то есть присущее жизни. А как ты думаешь обо всем этом при более, так сказать, интеллектуальном подходе?.. Утром я рассмотрел горы с нашей позиции. Они громоздятся вокруг, выше и ниже, заснеженные, обледенелые, спокойные; все отсюда такое далекое, ты вровень с ними, это приобщает тебя к ним, ты вдруг ощущаешь в себе нечто новое, и, может, от тех непознанных сил, что вывернули когда-то их из нутра земли, душа твоя крепнет, светлеет мозг и рокот крови в ушах слышней. Спустились мы с Гошей хорошо и быстро, принесли данные, без которых наши отчеты были бы неполными. Сдружились еще больше, увидели наши горы с новой точки, и теперь я буду мечтать об очередном походе туда. Внизу мы долго грелись у печки, раскрыв дверцу. Почему-то захотелось рассказать Гоше еще немного о тебе и Маринке. Он тактично, молча слушал, а под конец расхохотался, да так, что влез ногой в печь. Причина – Маринка. Я тебе, кажется, не писал, как она однажды отличилась, оберегая меня от твоих соседушек? Как-то вечером сидим с ней, занимаемся своими делами, и вдруг вежливый стук в дверь. Входит эта рыжая дамочка, что пронизывала меня глазами, когда я стирал на кухне. С ужимками начала расспрашивать меня о тебе, заиграла зелеными глазками, но когда заметила, как я реагирую, засюсюкала над Маринкой. Когда она ушла, Маринка с презрением посмотрела на закрывшуюся дверь и ляпнула: «Бездемона кошачья!» Так вот, Гоша от хохота сунул ногу в огонь и потом еще долго подергивался, истекая слезой. Заканчиваю. И так мои письма выходят длинными. Но почему твои столь коротки? Я не думаю по этой мерке делать вывод о неравноправии в наших отношениях, но неужели тебе так трудно поподробнее написать о себе, о Маринке, о событиях внизу? Ты знаешь, как я дорожу каждой твоей строчкой. Иногда пытаюсь представить себе, что ты сейчас делаешь. Вот гляжу на стенные часы – двадцать один ноль-ноль. Представляю, как ты стелешь Маринке, ласково поскрипываешь на нее, идешь к выключателю и щелкаешь им. И я грущу, потому что все это могло быть вокруг меня, но не стало. И опять перелом в моей жизни! Пишу тебе отсюда последнее письмо. Все получилось настолько неожиданно, что я не могу прийти в себя. Вчера прилетела на вертолете комиссия из управления гидрометеослужбы. Несколько начальников, и с ними тот, кто меня сюда нанимал. Они вместе с Гошей спускались вниз, к «хозяевам», для выяснения каких-то спорных вопросов, а вечером взялись за нас. Поговорили с каждым, просмотрели отчеты, ходили на площадки и к первому лотку. Со мной они общались довольно долго, начальники-то, рассматривали внимательно. Впрочем, все прошло хорошо, к тому же я сам теперь – собери-ка нервишки в кулачок! – тоже начальник! Еще вчера, по возвращении с рудника, Гоша как-то грустно смотрел на меня, но ничего не сказал. А сегодня я невольно подслушал через тонкую стенку обрывки крупного разговора. «Белугина не отдам! – кричал Гоша. – Он же мне тут все наблюдения тянет!» Его ворчливо увещевали, но слов нельзя было разобрать. «А вам не надо подонков держать!» – опять закричал Гоша. И под конец: «Нет, мне не надо кого угодно, вы мне Белугина оставьте. Вы же с меня живьем шкуру сдираете!» А перед обедом у меня состоялся с комиссией разговор, который все прояснил и решил. Мне предложили перебраться в Ферганский хребет и принять гидрометеорологическую станцию Чаар-Таш, где вышел какой-то скандал с начальником. Этого, честно говоря, мне делать не хотелось – у лавинщиков я прижился, дело шло, с работой освоился. Возразили: вот и хорошо, что освоился, а там существование станции под угрозой, и меня выдвигают на серьезное и ответственное дело. «Вы срываете нам наблюдения, да еще на такой станции!» – нахраписто напустился на меня один из прибывших, будто я был в чем-то виноват. А я вдруг вспомнил, как они со мной и Каримом на Ачисайке разделались, вспылил было, однако нахрапистого тут же довольно резко осадили и опять заговорили ласково: «Нам нужен специалист такой, как вы. И ведь это важнейшая станция нашей системы, поймите!» Я подумал, что их действительно прижало с людьми, среди зимы туда никого не пошлешь, и… поддался. Правда, тут же, через пять минут, схватился, но было поздно. Схватился я потому, что тут, на лавинах, работа фактически сезонная и в конце весны я был бы рядом с тобой, а с Чаар-Таша не уйдешь. И вот это больше всего меня мучит сейчас. Но ты пойми мое положение, поверь, что не мог я поступить по-другому, понимаешь, не в моем характере. Дело есть дело, и только тот, кто ничего не смыслит в гидрометеослужбе, может подумать, что это пустяк – сорвать работу на важнейшей высокогорной станции Южной Киргизии. Эта станция очень тяжелая – оторванность от жилья, страшно много снегов, лавины, большой объем работы. Члены комиссии не скрывают от меня трудностей. Говорят, в последнее время на ней жили такие пылкие романтики, что и по три месяца не выдерживали. Дожились до того, что моторное и аккумуляторное хозяйство запущено, и этим же вертолетом забрасывается туда много новых приборов и оборудования. Начальником там был тоже штучка, с людьми не мог сладить, и другие, мол, грешки за ним водятся. Так что, понимаешь, у меня сегодня довольно сложное настроение – жалко покидать ребят, встреча с тобой отодвигается, но зато впереди трудности, которых я не боюсь, впереди моя кровная и, главное, самостоятельная работа. А вечером я много пел ребятам, в том числе и р-р-романтические песни. А распахнутые ветра Снова в наши края стучатся. К синеглазым своим горам Не пора ли нам возвращаться? Ну а что нас ждет впереди? Вон висят над чашей долины Непролившиеся дожди, Притаившиеся лавины. Снова ломится в небо день, Колет надвое боль разлуки, И беда, неизвестно где, Потирает спросонья руки. Ты судьбу свою не суди, Много раз на дорогу хлынут Непролившиеся дожди, Притаившиеся лавины. Звезды падают нам к ногам, Покидаем мы наши горы, Унося на щеках нагар Неразбившихся метеоров. Так живем и несем в груди По российским дорогам длинным Непролившиеся дожди, Притаившиеся лавины. Знаешь, я заметил, что такие песни нравятся хорошим, любящим эту жизнь, надежным во всяком деле парням и девчатам. Лавинщики очень жалеют, что я уезжаю, хотя и поняли меня без долгих объяснений. Гоша молчит, как на похоронах. Только Арстанбек спросил: «Ишак, тебе тут было плохо?» – «Да нет, почему же?» – «Скоро мокрые лавины пойдут». – «Лавины везде есть», – засмеялся я. «Не такой красивый», – убежденно сказал он. Завтра утром будет вертолет. Комиссия улетает на юг и высадит меня на Чаар-Таше. Это где-то в районе Узгена. Не знаю, как там будет с почтой, но я использую любую возможность, чтобы держать с тобой связь. Ок? (На нашем радиожаргоне это значит «понял?») А сейчас бегу сдавать дела. Благо, не надо собирать и упаковывать вещи: чемоданчик с бельем и книгами – вот и весь мой багаж. Гитару я ребятам оставляю. 3 Ну вот я и оседлал Ферганскую горную гряду. Пишу уже с Чаар-Таша. Не знаю, когда ты получишь это письмо. С почтой тут худо. Ближайшее селение Араголь в 35 километрах, однако наблюдатели сказали, что они туда бегают. Я по привычке буду писать тебе аккуратно и отправлять, как выйдет оказия. Чаар-Таш – это седловина в горном хребте, домик на высоте почти 3000 метров, заваленный снегом, метеоплощадка, длинный сарай с топливным складом, агрегатной, мастерской и еще какими-то пристройками. Комиссия меня представила вчера, показала ребятишкам подписанный приказ о моем назначении, передала мне станцию в темпе, поговорила о том, о сем и улетела. И уже через два часа я отправил в Ош первую мою радиограмму о погоде. Подчиненных у меня трое – семнадцатилетние зеленые хлопчики. Один твой земляк из Фрунзе, Олегом зовут, радист-наблюдатель, а Вовик да Шурик – мои земляки из-под Краснодара. Они стажеры, окончили радиоклуб и, кажется, ничегошеньки не смыслят в гидрометеорологии. Все впервые зимуют в высокогорье, горя с ними хватишь, это уж как пить дать. Лавинщики меня проводили здорово. Алтын подарила шерстяные носки, которые она только что довязала Арстанбеку. Я расчувствовался, а ее супруг побежал от вертолета и – смотрю – тащит полшкуры. «Рукавицы будут, стельки будут!» Вот действительно ишак – испортил овчину. Гоша крепко обнял на прощанье, сунул мне в карман компас. Я хотел подарить станции гитару, однако они дружно заревели: «Не пойдёть!» Что я им еще мог подарить? Взял топор, разделил скорлупу твоей кокосины надвое и дал половинку Гоше для пепельницы. Перед посадкой ребята меня качнули и бросили в снег. Начальники и вертолетчики смотрели из иллюминатора дикими глазами – они впервые видели такой способ изъявления чувств. Так жалко было покидать все тамошнее! Странная получилась приемка станции, даже акта не составили, а я чувствую, что это надо было сделать обязательно, особенно по аппаратуре и складу с продуктами. Мой предшественник тут все запустил, но это бы еще полбеды – сдается, что его надо судить. Понимаешь, существует о геологах, зимовщиках, изыскателях, высокогорниках довольно распространенное мнение, будто все они люди дружные, простые, малость бесшабашные, но честные и человечные. Однако ты знаешь, что паршивые овцы попадаются и в наших бродячих стадах. Этот тип, сидевший тут три года, заставлял людей носить старье, а новые полушубки, валенки, сапоги – на сторону. Увозил со станции и продавал внизу ящики с говяжьими консервами и сгущенкой, приписывая лишние суммы к пайковым расходам ребят. За их счет он накопил, оказывается, почти 200 банок консервов, по 83 копейки каждая, только не успел реализовать. Мерзавец! И еще я докопался, что он составлял фиктивные документы по оплате за транспортные услуги, а разницу клал себе в карман. Подлец и жалкий кусошник! К тому же он не оставил на станции никаких объяснений по работе. На днях придется идти в горы на поиски осадкомера, потому что никто из ребятишек не знает, где он находится. Дядя ездил на учет осадков только один, и это помогало ему составлять липовые бумаги на оплату транспорта. Конечно, летом и осенью он мог нанимать лошадей у местных жителей, но ребята говорят, что лошадью он сроду не пользовался. Теперь я даже не удивлюсь, если обнаружу, что он передавал в Ош среднепотолочные сведения и по главным гидрометеорологическим данным, а это уже будет граничить с преступлением государственным. Ребята тут опустились: посуда в грязи, перестали умываться, чистить зубы, готовить как следует. На завтрак, обед и ужин одно – консервы да примитивная стряпня. Замешивают тесто с содой и пекут пресные лепешки. От такого питания только язвы да гастриты наживать. И дрожжей, понимаешь, в складе навалом, а у них не хватает терпения ждать, пока тесто подойдет. Купили они в складчину духовое ружье и целыми днями стреляют мух и мышей. Пульки давно кончились, но они нашли выход из положения – заряжают ружье горошинами черного перца. Мышь убивается наповал, а от мухи только брызги летят. Эти хлопки и дурацкий этот гогот в сто раз хуже домино. Ну попал я в переплет! С ребятами у меня конфликты. Так портачат, что просто беда. Чуть отвернулся – глядишь, то снежный покров завысили, то просчитались в температуре, то еще что-нибудь выкинули. Сегодня вот, смотрю, твой землячок Олег Лисицын вместо характеристики барической тенденции кодирует величину. Чувствую, что сделал он ошибку не нарочно, спрашиваю: «Почему наколбасил?» Пожимает плечами, стреляет глазами, напустив на лицо какую-то полупрезрительную мину. И он не глуп, нет, а вот просто выработалось у него этакое наплевательское отношение ко всему, что не касается удовольствий. В башке засели одни гастроли по танцевальным площадкам и «хавирам», то есть квартирам, где можно выпить и потанцевать. Оклеил все стены девушками из журналов. Куда ни глянь – девушки да девушки, заграничные и наши, с плечиками и коленочками, смеются и принимают позы, жуткое дело! А вообще ребятки мои какие-то слишком зеленые, и никто из них пока не сунул носа в свое будущее. Вечерами я пытаюсь их разговорить, пробудить к чему-нибудь интерес, присматриваюсь к ним, прощупываю – зимовать же вместе надо. И знаешь, иногда едва сдерживаюсь, чтоб не взорваться шариковой бомбой или не расхохотаться. Вот, например, рассказываю им о лазерах. Вдруг Олег перебивает меня: «А что такое рубин?» Ты понимаешь, Наташа, ну просто зло берет! Человек уйму времени убил, чтобы освоить «чувачество», а о рубине никогда не слыхал. Я думаю, что, если через год спросить об этом у Маринки, она ответит. А тут стоит этакий красавчик, балбес семнадцати лет от роду и удивленно таращит на меня глаза. Мои кубанцы смотрят на него и хихикают, а я ему говорю, что рубин – это такая электронная корова, которая доится сгущенным молоком. Общий смех, а он стоит, пялит глаза и не может понять, над чем мы смеемся. У нас, кажется, скоро начнется – давление падает, наползают слоистые облака, повалил снег. Боже, поможи! Шурик Замятин отнаблюдал, вернулся и тут же завысил снежный покров на целых 6 см и вдобавок исказил характеристику его залегания – намело сугробы, а он кодирует «равномерный». Буду снова гонять. Радисты из Оша передают: «Гоняй, они разгильдяи». И я не могу с Ошем пускаться в объяснения, не в моем характере. Радистам надо одно – хороший почерк в работе и чистоту. А мне сейчас важнее добиться правильности наблюдений! И не буду же я оправдываться тем, что мальчишки окончили не двухгодичные школы связи, а шестимесячные курсы, что на станции нет даже зуммера, чтоб тренировать их, и сделать его нет времени. И вот как только плохое прохождение и ребятишки бьются, чтобы принять радиограмму, ошские радисты их выгоняют и требуют, чтобы звали оператора первого. Но если я все время буду тащить связь за свою слабосильную команду, то быстро свалюсь, а они так и не научатся работать в трудных условиях. К тому же эти парни с Кубани, мои разлюбезные землячки, сбежавшие из села «в город», оказались с какой-то куркульской стрункой, иногда просто противно смотреть. Шурик Замятин может один сесть за стол, сжевать все, что есть, не подумав о товарищах. Или вот выбиваешься из сил, тужишься, а Вовик Пшеничный способен сидеть рядом и с любопытством на это смотреть, как было вчера в агрегатной. Я выкатывал-бочку из-под смазки, в дверь она проходила только на попа, но Вовик даже пальцем не шевельнул, сидел какой-то малохольный. Я кое-как справился один, потом поинтересовался у него: «Ну как, замаялся?» Он посмотрел на меня, понял все и покраснел. И ребята не виноваты, конечно, виновата среда, в которой они жили до семнадцати лет. Беседовал я с ними по-хорошему. Слушают, будто я им невесть какие истины открываю. С сегодняшнего дня никто один за стол не садится. И еще я твердо оговорил свое право давать указания. Если я что-то поручил сделать, то как ты там ни извивайся, как обо мне ни думай – сделай! Я пошел на эту меру потому, что знаю: в любом другом случае у меня на станции будет анархия. Манны небесной я не ожидал, но мне даже в голову не приходило, что застану на Чаар-Таше столь не подготовленные во всех отношениях кадры. Есть еще одна большая и неизбежная трудность. Четверо очень разных людей, наверно, долго еще будут притираться характерами – на высокогорке это необходимо. И слабости каждого придется нам учесть и найти хорошее друг в друге, иначе зимовки не получится. Вовка Пшеничный, как я успел заметить, мягче и доступнее остальных, огрызаться совсем не умеет, но почему-то все время грустный, будто засела у него в голове некая трудная думка и он не может и не хочет от нее освободиться. Шурик Замятин тоже какой-то неактивный, даже сонный, абсолютно ко всему на свете равнодушный, и глаза у него вечно подернуты светлой пленкой. Спать он способен бесконечно, подчас в самых неожиданных местах и позах. Как-то ночью во время своего дежурства я увидел потрясающую картину: Шурик по надобности идет коридором к выходу, глаза у него закрыты, и дышит он безмятежно и ровно. Это ж надо! Олег Лисицын парень моторный, живой, расшевеливает твистами даже моих землячков, и вечерами ко мне доносится жуткий рев и топот. Олег этот так заходится, что я вчера поинтересовался, может ли он танцевать на потолке. И что бы ты думала? Захожу сегодня к ним и вижу: на потолке следы ботинок. Это они, конечно, для меня устроили – подвинули, наверно, к середине комнаты стол и пошлепали пыльными башмаками вокруг лампочки. Заставлю побелить, не беда. Вот если бы хоть в одном из них я увидел рвение к работе! Жестокая это штука – реальность. К ее особым немилостям я отношу то, что тебя нет со мной. И неизвестно, когда эта пытка кончится. С нами, между прочим, можно связаться по радио. Найди на улице Голубева нашу базу и радиостанцию. На связь мы выходим в 3, 6, 15 и 18 часов Москвы. Мой рабочий номер 1, и ты можешь попросить дежурного радиста, чтоб он после связи оставил Чаар-Таш и пригласил к аппарату оператора первого. Сейчас 12 часов московского. Только что принял дежурство у Вовика. За окном ночь с жуткой метелью, у меня на столе светит крохотная лампочка, вокруг тикают самописцы. Снова пишу тебе, хотя знаю, что ты получишь это письмо, судя по всему, много дней спустя. Я огляделся за эти дни, стал потихоньку привыкать. Место это очень интересное. Мы господствуем над огромным горным районом – все хребты, уходящие в сторону Ферганской долины, ниже нас. По обе стороны нашего перевального седла возвышаются немного сглаженные временем, но довольно внушительные горы. И вот множество ветров, разгоняясь по пустыням, текут сюда. В долине им становится все тесней и тесней, потому что горы сужаются клином и набирают высоту. Ветры мечутся чуть ниже нас, ищут выхода и рвут в наше седло. Так что мы живем на самом продуве. Скорость ветра иногда достигает тут сорока метров в секунду, и на метеоплощадку приходится ходить по веревке. Такого нет во всей Киргизии. Кроме того, хребет заставляет тучи освобождаться от груза, и самое подходящее место для этого – опять же наше седло. Знаешь, какие тут наметает снега? На площадке – до 2,6 метра, а в понижениях – до 3,5! Чтоб тебе яснее стало, что это такое, подними голову к потолку и прибавь еще метр. Это самое метельное место республики, и недаром Чаар-Таш числится в управе на особом счету. И холода у нас на высоте порядочные. Ты знаешь, что Тянь-Шань – самая северная столь высокая горная система, расположенная так далеко от океанов, и климат тут резко континентальный. К тому же пишу вот тебе письма, а когда они попадут в твои руки, аллах ведает! Мы оторваны от людей. Практически на полгода остаемся один на один с метелями, ветрами, морозами, и, знаешь, даже как-то радостно, что мне доверили эту сложную станцию. С ребятами у меня ругня не затухает. Понимаешь, они тут жили по уши в грязи – замусорили коридор, кухню, аккумуляторную, склады, всюду пораскидали спецовки, лыжи, инструмент. В комнате у них тяжелый, застоявшийся воздух, как в последней солдатской каптерке, на койках – черные простыни и серые наволочки на подушках. Они перестали купаться и даже решили не отваливать снег от окон – днем жили при свете, как в пещере. Я им заявил: «Так не пойдёть» – и добавил, что станции присвоили звание коммунистической в 1962 году, но какие же мы будем высокогорники-зимовщики, если весной у нас это звание отберут? Земляки мои заухмылялись, а фрунзенец по своему обыкновению сидел с выражением презрения на лице. Я все же заставил их выползти наружу и отгрести снег от окон Потом мы немного прибрались в доме, хотя до настоящего порядка далеко. Впереди у нас воскресник со стиркой и мытьем полов, ребята еще об этом не знают, и я, чувствую, еще досыта насмотрюсь на их ухмылки. Тут торопиться не надо. Мне для начала хотя б научить их умываться каждый день да мыть посуду! Вечером сделал еще одну подготовочку. Больше всего меня беспокоила их главная слабина – как это ни странно, ребятки не имеют элементарных навыков определения погоды и делают все так, как делал их бывший начальник, а тот, в свою очередь, копировал, очевидно, своего предшественника, работа которого, быть может, и была правильной в свое время, но сейчас появилось много изменений и дополнений. Все последние методические пособия и инструкции я изучил на лавинах, обнаружил точно такие же брошюры здесь, но в них никто не заглядывал. И вот в вечерней беседе с моей инертной командой мне надо было не то чтобы показать, кто тут начальник, а хотелось просто расшевелить их. Перед беседой пришлось их купить: как раз было мое дежурство на кухне, и я сварганил им такой ужин, что они даже не заметили, как уплели по две порции первого, попросили добавки второго, а когда я к чаю достал из печи лист с румяными пампушками, они вообще обалдели. От стола отвалились хмельные, дружно сказали «спасибо». Я дал им отдышаться и покурить, потом собрал на инструктаж. Сказал, что приближается время отчета, мы будем его делать всей бригадой и вообще отныне будем работать так, как надо, а не так, как работал дядя, который был подлец и уголовник, а вы-то, мол, славные ребята, у вас свои мозги, должны сами соображать. После деловой части решил поговорить с ними по душам. Олег никак, можно считать, не отреагировал на мое, попросту сказать, заискивание, сидел с обычной своей миной, смотрел в пол, и я его не стал пока беспокоить. А землячкам, которые тоже молчали, заявил, что я им присваиваю третий разряд, но буду до него еще тянуть, если они захотят тянуться, а не пожелают – могу с ними запросто распрощаться. Только учтите, мол, – работаем мы тут вчетвером, жаловаться в управе друг на друга не будем, справимся со всеми проблемами сами. Вовка Пшеничный раскололся первым. Сказал, что вообще-то тут смертная тоска, убивает однообразие работы, оторванность от всего и не видно никаких результатов. «Даже иногда не верится, что эти проклятые суточные дежурства кому-то нужны», – поддержал его Шурик. Короче, они самого главного про свою работу не знали, не верили в ее необходимость, и, конечно, с таким подходом много не наработаешь. Взялся им рассказывать, как однажды в Саянах благодаря моей сводке был спасен от смерти охотник-тоф. Они заинтересовались. И тут, говорю, ни один самолет или вертолет не поднимается, если мы это дело не благословим. В горах этих все так изменчиво, а наша труба – ключ ко многим изменениям. И вот представьте – мы даем неверную сводку, во Фрунзе или Ташкенте поднимается самолет и по пути в Душанбе попадает в грозовой фронт. Вынужденную посадку в этих местах не совершишь. Кроме того, говорю, мы же фактически держим ключи от огромных богатств. Ведь внизу очень многие люди ждут от нас сообщений – хлопкоробы, рисоводы, энергетики, речники, всякие начальники. Зарегистрируем мы добрые снега и хорошую весну – внизу все будут ждать воды, которая там на вес золота. Дадим неверные данные – люди не так подготовятся, и это может вызвать большие потери денег и труда, привести даже к стихийным бедствиям. А ведь нашими данными пользуются и ученые, и плановики, и еще кое-кто поважней, и на самый крайний случай международных осложнений вот он, братцы мои, ключик от сейфа, где хранится наш опечатанный код… Другими словами, сказал я, мы не то чтобы боги, но вроде их заместителей или, еще точнее, посредники между богами и людьми. «Да бога нет!» – резонно возразил мне Олег, а я был рад, что он хоть так отреагировал. Вообще я, как мальчишка, радовался тому, что затеял этот разговор, потому что они сидели развесив уши. Теперь мне надо занять их работой, разбудить Шурика от зимней спячки, вылечить Вовку от меланхолии и сделать так, чтоб Олег понял, что и в нашем деле можно найти интерес. Кончается декада, и я завтра усаживаю свою «бригаду Ух» за отчет… Вернулся с площадки. Метель, как писал Есенин, – просто черт возьми! Сарысуйские ветры по сравнению со здешними – нежнейшие зефиры. Шел по веревке и – представляешь? – дышать тяжело, воздух загоняет в легкие, а с двадцати метров уже не видно света в моем окошке. Такое ощущение, что снеговая туча остановилась своим центром на нашем перевале и месит, крутит, ярится, рвет на куски себя, но уже, кажется, начала изнемогать. Метель эта какая-то странная – с довольно крепким морозом. Мой чубчик забивает снегом, и он смерзается, как собачий колтун. Вот я отмял его, снял с лица заледеневшую корку снега и снова сажусь за работу. У меня какое-то чутье на погоду вырабатывается, что ли? Утром тучи ушли. Небо очистилось, и я решил подняться к дальнему осадкомеру, чтобы проверить его местонахождение по карте и снять осадки. Олег Лисицын собрался пойти со мной – в дальние маршруты высокогорники поодиночке не ходят. Это было какое-то сумасшедшее восхождение, ты даже представить себе не можешь. Я пошел на горных лыжах, Олег – на простых. Поначалу он взял очень резво. Я предупредил его, что впереди нас ожидает не крутой, но затяжной многокилометровый подъем. Он даже не обернулся – должно быть, решил испытать начальника. Жмет и жмет, а я потиху соплю и соплю у него за спиной, не дальше и не ближе, взял один темп и тяну. Ну, думаю, погоди ты у меня! Спустились в ущелье. Перед подъемом я предложил ему отдохнуть. Он с презрением посмотрел на меня – за кого, мол, ты нас принимаешь, разве это подъем? Конечно, он имел основания задаваться: десять лет разницы в возрасте чего-нибудь да значат! И я решил во что бы то ни стало проучить мальца. Пошли. И знаешь, тут уж я на нем отыгрался! Вышел вперед и потилипал этаким равномерным, емким шагом. Минут через пятнадцать услышал, что мой герой закряхтел. Я делаю вид, что ничего не замечаю, и немножко прибавляю. Стараясь не отстать, он захрипел и даже взялся тихонько и непроизвольно постанывать. Я начал отрыв, не оглядываясь, не снижая скорости, но шумное дыхание Олега в тишине свежего утра было слышно очень далеко. Окончательно оторвался от него, решил сдохнуть, но дотянуть до конца подъема в том темпе, который взял. Не выдержал, однако, стало очень тяжело, сердце западало, и я вынужден был сбавить. Олег, правда, этого не мог заметить, он едва шевелился далеко внизу. Потом я увидел, что он повалился на отдых. А я все же добил склон и уже наверху дождался этого твистуна. У него были какие-то жалкие мокрые глаза, на меня не смотрел, совсем парень запалился. Признаться, мы долго отдыхали наверху, разглядывали горы. «Зачем, ты думаешь, альпинисты в наши места лезут?» – спросил я, когда он пришел в себя. «Тут очень мило», – ответил Олег, озираясь. «Мило!» Ты чувствуешь, насколько парень еще слеп из-за своего пижонского отношения к жизни. Горы были сказочно хороши в тот час! Мраморно-белые громады с розовыми и синими оттенками лежали под голубым небом величаво и просто – идеальное воплощение могущества и мудрого покоя. Я стоял и думал: правда, почему сюда манит людей? В горах снова и снова возрождается человечья душа; люди рвутся к вершинам, часто совершая подвиги и рискуя жизнью, чтобы подняться выше повседневных забот, пустой борьбы меж собой, однообразных развлечений. И только горы наградят тебя счастьем познать в таком чистом виде товарищество – святое, высшее чувство. Притягательность гор объясняется и другими причинами, более важными и сложными. В жизни обыкновенного человека так много переменных и неизвестных, что он хочет встречи лоб в лоб с реальной трудностью, жаждет почувствовать себя победителем, обнаружить в себе способность к подвигу. Однако это было бы иллюзией, своего рода уходом, пусть и временным, от борьбы внизу, ради которой и живет современный человек, если б горы не давали зарядки, не помогали бы потом там, откуда ты пришел, не подсказывали бы тебе ответа на вопрос: кто ты? И к нам, высокогорникам, это тоже относится, хотя у нас тут работа, и, наверно, можно постепенно привыкнуть к этой доступной и каждодневной красоте и высоте. Когда мы с Олегом спустились на грешную землю, пришлось снова накачивать кубанцев – они еще не садились за отчет. Я раскричался, заявил, что больше нянчить их не буду, отчет, мол, ваше дело, и я прошу вас обработанные материалы дать мне завтра на контроль. Олег к ним присоединился, и вот сидят они как миленькие, стучат костяшками, шелестят таблицами и ни разу еще свой твист сегодня не крутили. Но, конечно же, я не выдержал – подошел проверить, что-нибудь посоветовать, ободрить… и тут же взорвался! Вовик подделал некоторые данные, надеясь, что я не замечу. Спрашиваю его тихим голосом: «Зачем ты это сделал?» Молчит, хлопает своими светлыми ресничками. «Тебе же семнадцать лет, взрослый и серьезный парень!» Молчит, только губы задрожали. «Может, тебе сисю дать? Немедленно все переделай, а если еще раз замечу халтуру, то напишу в техконтроле, что отчет подделан, и пусть там начальство разбирается с вами». Ты знаешь, я тут же пожалел об этих словах, потому что на глазах у парня показались слезы. Перегнул. Я заметил, что Вовика Пшеничного тянет к работе и он хочет ее хорошо освоить, но у него, как и у других, нет опыта и, главное, чувства ответственности. Конечно, жаловаться никуда на них не буду, сам добьюсь, чтобы они и в мелочах были аккуратными, потому что наше большое дело складывается из мелочей. Короче, сел с ними делать отчет. В перерыве договорились, что я им каждый день буду что-нибудь рассказывать о метеорологии и радиотехнике, немедленно наладим отдельную работу каждого, чтоб было с кого спрашивать, но все же этот отчет – последний, когда я им помогаю, потом буду только контролировать. Прочтешь ты все это и скажешь, что я заделался уж шибко начальником. Нет, Наташа, я намерен сделать из этих парнишек людей. Постараюсь выбить из них детский эгоизм и слюнтяйство, добиться, чтоб в них заговорила человеческая и рабочая совесть. Почему ты не свяжешься со мной? Если тебе неудобно заходить в нашу контору, то съезди в аэропорт. Я ведь несколько раз в сутки работаю ключом прямо с аэродромом, даю погоду самолетам. Наш позывной – РЬСЦ, мой операторский номер – 1, частота – 3605 кгц. Тебе надо побороть свою природную трусость, прийти к ребятам на аэродром и попросить, чтоб они передали для меня все, что надо, любой текст. На этот случай у всех нас, радистов, есть соглашение, и тебе не откажут. Ночью, в перерыве между наблюдениями, проинвентаризовал склад. Продуктов у нас еще много, но пусть будут прокляты эти завхозы и этот мой предшественник, который, видно, был заодно с завхозами! Киснет вот уже два года центнер хлопкового масла, этот «деликатес» нельзя съесть и за пять зимовок. Вся лапша от прошлого сезона осталась нетронутой – сильно горчит. Сливочное масло тоже прогоркло окончательно. Уйма затхлой манки. За счет Чаар-Таша, видно, разгружались завалы, и весной я буду добиваться акта на списание, хотя знаю, как опасно в нашей системе портить отношения с завхозами. Они тебя не забудут, куда б ты ни забрался, напомнят о себе и на Памире, и на Новой Земле – эта компания друг с другом связана железно. Получил твое письмо, посланное на Сарысу. Лавинщики сразу же переадресовали его на Араголь, и оно как-то очень быстро оказалось у меня: мои земляки спускались вниз с отчетом и принесли почту. Можешь представить мою радость, будто живой водой спрыснули! Хлопцев я провожал до самого спуска. Посоветовал им идти одной там острой хребтинкой, на которой выдувает почти весь снег и обнажаются большие пестрые камни. Ребята объяснили, что по-киргизски Чаар-Таш как раз означает «пестрый камень» и этим путем они всегда ходили. К счастью, установилась изумительная погода – небо чистейшее, солнце жарило немилосердно. Иногда только налетали снизу какие-то бешеные ветры. Рванет, и тяжелая дощечка на дальнем флюгере займет почти что горизонтальное положение. Потом так же внезапно ветер стихает. За ребят я сильно переживал, когда они ушли, – на спуске круто, могли быть лавины из свежего снега. К тому же такое солнце! Лучи его проникают довольно глубоко, оплавляют там лежалые зерна и создают горизонт скольжения для так называемых инсоляционных лавин. Однако все обошлось благополучно – мои кубанцы на станции, а у меня в руках твое письмо. А ты, наверное, уже получила сегодня пакет с моими посланиями, снова удивилась, знаю, тому, насколько я легок на подъем; но поняла ты или нет, что у меня не было другого выхода? Осуждай не осуждай, а я тут, и нелегкую здешнюю обстановку ты полностью представляешь. Пока держусь на уровне, даже начал заниматься, выгадывая каждый получас. Грызу науки, ведь мне никто не мешает – у меня тут отдельная комната. Исхожу из твоего желания, моей стратегической цели, а также из необходимости – ведь управа, назначив меня начальником станции, рассчитывает на мою работу хотя бы в течение нескольких лет и все равно заставит учиться – гидрометеорологии или географии: это две наши основные науки, без знания которых у нас много не наслужишь. Да, кстати, я где-то у тебя оставил книгу «Полупроводники в аппаратуре связи». Пришли, пожалуйста, она мне позарез нужна! Вчера приладил сбоку стола небольшие тисочки и делаю обещанный нож. Ручку затеял в виде змеи, обвивающий дерево, а из пасти – узенькое жало-лезвие. Хорошо получается! Чтоб носила ты этот стилет, как испанка, на всякий пожарный случай за пазухой. В буднях монотонных дежурств было немало всяких событий – хороших и не очень. Начну с последних. Когда ребята ушли в Араголь, а Олег спал после ночной вахты, случилось происшествие. Рвануло снизу, ветродвигатель завизжал, и я выбежал наружу, чтоб остановить его. Остановил и уже спускался по лестнице, но вдруг меня качнуло ветром, а капюшон задело за оттяжку, которую какой-то идиот окрутил колючей проволокой. Я упал и сильно ударился головой. Дома нащупал приличную дыру в шкуре – сантиметра четыре длиной. Бинтов не нашел, вылил на голову ампулу йода, и на том врачевание закончилось. Сейчас там все запеклось и малость болит, так что я сейчас немножко «бедный», можешь меня пожалеть. Снова перечитал твое письмо. Наткнулся на строчку, которой сначала не придал значения. Ты пишешь, что собираешься перейти в Акширякскую партию, где «неплохие ребята», а за одного, «холостого, с 1935 года», ты даже боишься: как бы он не влюбился в тебя! Зачем ты все это мне пишешь? Я понимаю, вы оба геологи, будете вместе, и тебе не придется ждать целую зиму. У него, наверно, к тому же нет замусоленного лыжного костюма и подмоченной репутации, как у меня. И все же я не допускаю мысли, что ты можешь скатиться до практицизма такого сорта, и верю в твою абсолютную неспособность стать предательницей. Приводил в порядок документы станции – ведь все тут на моей шее повисло. Подбивал до копеечки подотчетные суммы, всякие амбарные книги шерстил, акты на списание и приемку. Раскопал кое-что хорошее. Прежде всего у меня есть теперь карта с обозначением снегомерных пунктов. Они разбросаны в 10–15 км от станции по окружности. Потаскаюсь я эту зиму по горам! И еще у нас обнаружилась немаленькая библиотека, но только почему-то в сарае, полностью занесенном. Решили добыть книги любым способом. Попробовали докопаться до дверей, но это очень большая и тяжелая работа – снег слежался. Я принял решение разобрать часть крыши, весной покроем. Книг и правда оказалось много. Не все, конечно, хорошее включается в обязательные комплекты, попадается такое, что нигде не находит сбыта, но для нас и это хлеб. Много журналов за прошлые годы. Чтиво есть! Правда, это лишь для меня событие, а ребятки мои таскали книги, как дрова. Ни один даже не поинтересовался, что мы добыли. Решил постепенно приучать, а то у них какой-то скотоподобный образ жизни: еда, сон, работа. Они еще не знают, что наша зимовка – это та же барокамера на четверых, не понимают, что в нашем положении чем-то надо заниматься с пристрастием, иначе вообще не выдержишь или, что всего вероятнее, превратишься в животное. (Пример тому – мой начальник на Саяне.) И вот уже два вечера подряд я экспериментирую – начал с фантастики. И маленькие рассказики про космос пошли за милую душу, потом стал читать им о том, что, где и когда открыли археологи, нашел в журналах смешные анекдоты о Марке Твене. Кажется, клюнули и стали расспрашивать, листать журналы. И вообще я уже, кажется, кое-чего добился. Они перестали ложиться в верхней одежде на койки, ежедневно умываются. Вовка первые дни к делу и без дела заворачивал трехэтажным матом. Я его один раз попросил, второй раз предупредил, а в третий довольно чувствительно хлопнул по животу и сказал, что напишу о его грязном языке матери. А она у него одна осталась, живет плохо, и Вовка ее очень любит. И вот, знаешь, после моих воспитательных мер, по стилю шутливых, а на деле серьезных, я уже не слышу ничего такого. Победа! Шурка Замятин – из семьи зажиточного колхозника, здоровый бугай, но ленив до невозможности. Ему по-прежнему ничего не стоит свалить на сменщика часть работы или так запустить после кухонного дежурства посуду, что ее потом и за час не отскрести. И у него вечный дефицит с водой. Воду мы берем из ключа, что бьет через трубу метрах в трехстах ниже станции. Родник этот не замерзает даже в самые жестокие морозы, но его надо все время очищать от снега. Это тоже входит в обязанности дежурного, а Шурик все время норовит натаять снега, лишь бы не торить дорогу к роднику, не расчищать его, не таскать тяжелые ведра наверх. А ведь эта необходимая работа даже полезна – вместо гимнастики. Как-то я сказал ему при ребятах, что высокогорниками становятся только настоящие мужчины. Шурка ответил, что именно поэтому и не любит бабскую работу у печки. «А на зимовке бабских работ нет – вот в чем вся штука, – заявил я. – И кто не понимает, что зимовка в горах может превратить обыкновенного потребителя манной каши в мужчину, тот пусть лучше спускается вниз играть в чижика». Шурик задумался. К сожалению, у меня до сих пор нет никакого контакта с Олегом Лисицыным. Он быстрее других усваивает мои нововведения, но никаких разговоров не поддерживает, и у него одно в голове – фрунзенские «чувихи», о которых он часто разглагольствует с землячками. Подолгу сидит у приемника, ловит всех, кто там гнусавит и картавит, трясет ногой под ихние и наши джазы, а больше всего обожает радиохулиганов, которые почему-то развелись в последнее время… В эти дни мечтаю знаешь о чём? Спуститься самому в Араголь, и там до Узгена рукой подать – километров сорок всего, и бывают попутные машины, и вот из Узгена позвонить тебе, услышать твой голос и по одним лишь интонациям и междометиям понять такое, что не написать в самом длинном письме, не сказать в самой долгой беседе. И еще бы услышать в трубке Маринкино: «Здлавствуй, дядя Валела». Как там она? Почему ты ни слова о ней не пишешь? Ты спрашиваешь: «Когда же ты спустишь все свои лавины, чтоб мы могли, наконец, встретиться и, может быть, никогда не расставаться?» Ты же знаешь, как я сам этого хочу, но просто я, наверно, из таких людей, у которых судьба не складывается по расписанию. Итак, «когда»? Ребята вот притащили пакет, и в нем вместе с другими документами договор – управа обязывает меня проработать начальником ГМС не менее года. Это их железный закон, один из способов борьбы с текучестью кадров. И я должен подписать эту бумагу! Хотя бы потому, что мне доверили большое дело. И, кроме того, не хочу, чтоб меня снова считали недостойным чего-то или кого-то, не хочу опять киснуть, психовать, дымиться, не загораясь. Так что раньше года мне отсюда не уйти, и единственный выход у нас, Наташенька, – ждать. Это трудно, и по мне лучше догонять, чем ждать, – все же двигаешься! Ты пишешь, что готова бросить там все и приехать ко мне, что задумала изменить специальность, поступить на химфак. Ну что ж, если это серьезно, а не под влиянием настроения, то кто тебе мешает начать подготовку к этому шагу? Добывай справку с места работы, делай копии с диплома и т. п. Я знаю твою страсть к химии, и ты бы, живя тут, могла учиться. Правда, с Маринкой почти неразрешимо, и надо реально смотреть на вещи; ей же нужна школа, и она может жить здесь только летом. А летом-то в этих местах здорово! Ребята говорят, что всегда свежее мясо, молоко, кумыс. Сюда пригоняют стада со всего района, есть передвижные магазины. А километрах в пяти от нас стоит большой ореховый лес. Осенью вы бы с Маринкой тут разгулялись, я ведь знаю, что вы обе любите грецкие орехи. На наших отлогих холмах пастухи-киргизы часто устраивают «козлодрание». Это динамичное действо надо уметь смотреть, тогда полюбишь. Тут тешатся со всем азартом, присущим этой древней игре. Прошлой осенью орда так расшалилась, что доскакала до станции. Козел упал под мачту антенны, и десятки озверевших коней втиснулись между растяжками. Одна растяжка порвалась, мачта рухнула, и хорошо еще, что никого не задавило. Короче, летом тут весело, не то что сейчас. Между прочим, я договорился с руководителями управы, чтоб они вместе со мной наконец-то реабилитировали Карима Алиханова. Он хороший работник и товарищ, я пишу ему отсюда второе письмо: может, он приедет ко мне, у меня ведь штаты не заполнены. Вообще-то с моим детским садом не соскучишься! Вот Вовка Пшеничный спрашивает, как это получается, что парень с девчонкой встречаются, он боится прикоснуться к ней, а потом они женятся, и у них появляются дети. Приходится, сдерживая улыбку, объяснять различные комбинации создания семьи, говорить, что это зависит от того, кто и как из людей смотрит на жизнь, как по-разному может начаться любовь и т. п., вплоть до интимных вопросов во взаимоотношениях полов. Порой думаю, что после этой зимовки смогу свободно выходить на трибуны клубов и читать популярные лекции для молодежи. А вот Олега надо мне во что бы то ни стало пристрастить к чтению. Парню через год в армию, а у него какая-то невообразимая мешанина в голове. Как начнет рассуждать о коммунизме, то понесет такую ахинею, что хоть святых выноси. Иногда мне кажется, что мои кадры сведут меня с ума. И как только их послали сюда, не знаю! Просто какие-то детишки! Начали, понимаешь ты, подливать друг другу в чашки касторовое масло и целыми днями бегают наружу. Завтра собираются перейти на закрепляющее. Попробовали устроить эту штуку и мне, но я их предупредил, что отлуплю всех скопом, а потом скажу, что пошутил, и попрошу самих разбираться, кто из троих виноват. Кажется, подействовало – диверсии в отношении меня прекратились. Дел невпроворот и без таких шуток, башка до отказа забита. Вот встаешь с утра, и начинают где-то под черепной коробкой ворочаться алгебраические формулы, исторические даты, английские слова, какие-то рифмы и строчки, а тут же точит мысль: заходят с юго-запада облака, будет снег, надо заготовить дров. А некая извилина одновременно работает рядом, планируя замену двигателя и заливку аккумулятора, а все мое, конечно, недостаточно серое вещество прикидывает, как бы выгадать время для занятий с парнями. Но вот я сажусь после завтрака за рабочий стол, а в дверь уже ломятся: «Валера, как закодировать агро?»; «Валера, очень большое расхождение между гигрометром и психрометром!» И наконец: «Валер, в эту стенку гвоздь почему-то не лезет». Я с ревом оборачиваюсь, даю разгон и под конец сообщаю, что какой-нибудь неандерталец больше разбирался в метеорологии и был лучше приспособлен к жизни, чем они. «Кто, кто?» – спрашивает Олег. И все же они потихоньку осваивают дело, но иногда на них словно находит что-то. Позавчера Вовик учудил. У меня в психрометрической будке стоял старенький пленочный гигрометр, и я решил поставить новый. Вовик увязался за мной – он из кожи лезет вон, стараясь вникнуть в дело, но проколов у него уйма, да еще каких! Снимаю я гигрометр, передаю подержать, подвигаюсь в сторонку, чтоб ему было видно, как и что я там делаю. И вот пока я ставил новый прибор, Вовик вырвал из старого пленку и бросил в снег. Когда я у него спросил, зачем он это сделал, парень ответил, что это будто бы я ему приказал выкинуть пленку. Говорит, а у самого губы дрожат. «Зачем врешь?» – взорвался я. «Я не вру». Что я мог сделать? Обозвал его болваном, ослом и сообщил, что у него в голове вместо мозгов. Но ты, Наташа, не думай, что я задергал их или слишком грубо с ними разговариваю. Забитыми их назвать никак нельзя. Вечерами они по-прежнему устраивают такие дикие танцы с нечленораздельными выкриками, что палата для буйных по сравнению с их комнатой показалась бы богадельней. Я им не запрещаю беситься, пусть, лишь бы дело делали! А Шурик сегодня вообще чуть не сорвал работу станции. Лазил, лазил в агрегатной и аккумуляторной, переменил концы полюсов генератора и тронул зарядный выключатель двигателя. Аккумуляторы разрядились на генератор, и у генератора переполюсовались полюса. Вечером нужен свет, а его нету, движок не работает. Когда разобрались, в чем дело, чуть было нашего Шурика не поколотили. Завтра с утра вместо других важных дел придется возиться на холоде с двигателем. Решил теперь три раза в неделю – в определенное время, по железному расписанию – проводить с ними занятия: метеорология, электрорадиотехника, двигатели. Все равно я им, чертенятам, не дам дышать, буду жать из них соки до тех пор, пока они не научатся работать! Как жаль, что нет во мне ничего крапивинского! Не мне бы заниматься обучением, идейным и моральным воспитанием этих семнадцатилетних болванов! Честно говоря, устаю я сильно, плечи режет от такого «рюкзака», но ничего не попишешь – приходится собирать себя, зажимать нервы в кулак и для зарядки напевать припев одной хорошей песни: «Эй, погодите, не нойте, усталые плечи!» Ты, кстати, эту песню не знаешь, я ее только сегодня раскопал в своих записях и перепишу для тебя, но сначала напомню тебе один наш разговор. Ты как-то сказала, что мне надо, мол, «занять достойное место в обществе». По своему обыкновению я тогда не нашелся, а сейчас хочу сказать, что никогда не буду стремиться занять какое-то место. Пусть общество само его определяет, и, мне кажется, теперешняя моя тяжелая работа – это мое место. Я ведь окончательно решил идти (опять шагом!) только в гидрометеорологию, любая другая специальность покажется мне пресной. И я считаю, что первый шаг сделан, хоть и трудно мне, повторяю, и плечи ноют. Стал тяжелей на подъеме рюкзак, Врезался лямками в плечи жестоко — Это ты сделал еще один шаг К цели далекой, к цели далекой! Этих шагов еще тьма впереди, Сам себе выбрал ты путь необычный, Стискивай зубы и дальше иди Шагом привычным, шагом привычным! Судеб твоих неизвестны пути, Знать не узнаешь, где ждут тебя беды, Можешь погибнуть, оставив один Шаг до победы, шаг до победы! на миг, Знай, никогда о тебе не напишут, Песню победы иль бедствия крик Только безмолвные горы услышат! Только тогда, когда всюду пройдешь. Дружбу и верность храня как присягу, Ты настоящую цену поймешь Каждому шагу, каждому шагу! И повернуть, и маршрут изменить Нас не заставят ни беды, ни блага — В сердце у каждого песня звенит Первого шага, первого шага! И для меня очень многое в этих словах! За эти дни обежал с ребятами снегомерные пункты, поменял рейки, промялся, осмотрелся. Седло наше довольно просторное и беспорядочно всхолмленное. Спустишься меж холмов, повернешься, закрыв глаза, вокруг своей оси и сразу теряешь ориентировку, потому что плавные заснеженные вершины холмов и холмиков создают какую-то изменчивую, неверную кривую горизонта. Можно бродить в полукилометре от станции и не выйти к ней. Ребятки мои начинают понемногу тянуть лямочку. И если иногда кто-нибудь из них заартачится, я делаю соответствующее лицо и тишайшим голосом прошу выполнить то, что надо. Делают. Из них могут вообще-то получиться высокогорники, если они еще на одну зимовку попадут в верные руки. Я убедился, что это правильная метода – постепенно втягивать их в дело. Мы дружно навели порядок в аккумуляторном хозяйстве – наши аккумуляторы быстро садились и не тянули. На складе очень кстати обнаружил я четыре новеньких щелочных аккумулятора. Выяснилось, что никто из ребят не умеет их заливать. Мы открыли бочку с едким натром, натаскали из нашего родника воды, которая полностью заменяет дистиллят. Я научил парней, как измерять плотность электролита, как получить зимнюю ее норму, как заливать. Последние два аккумулятора они залили сами, смешно и увлеченно споря, я только смотрел, и все были довольны. Особенно старался Шурик Замятин. Он ведь приехал с мечтой накопить на мотоцикл и завороженно слушал мою вдохновенную речь об аккумуляторах, потому что, как он считает, это все ему пригодится. У Вовки цель другая. Все деньги, которые он тут заработает, пойдут на ремонт дома, на погреб и колодец. Вовка хочет перед уходом в армию сделать этот подарок матери. Хорошее дело, и я Вовика очень даже понимаю, но думаю иногда: эх, кубанцы вы мои, кубанцы! Славные вы все же хлопчики, но неужели из-за одних только денежек забрались сюда? Еще на одном общем деле объединил я их. Мы решили искупаться по-настоящему и раскопали баню, которую завалило доверху. Я работал с удовольствием, предвкушая наслаждение – на чердаке обнаружилась связка дубовых веников. Ребята охлаждали мой пыл – баня, дескать, какая-то неудачная, в ней только простывать. «Пар есть?» – спросил я. «Откуда?» – «Добудем!» – заверил их я. Когда дорылись до двери и открыли баню, я понял, что на Чаар-Таше жить можно. Банька была ничего себе, только надо было провести свет и непременно вмазать каменку. «А где глины взять?» – снова спросили ребята. «Добудем!» Мы протянули кабель, зажгли две лампочки. Потом Вовик встал на лыжи и пошел к хребтине за камнями, а я спустился в подпол, где у нас хранятся овощи, наковырял глины. Олег вырубал окно в старом баке из-под топлива, а Шурик, как самый здоровый, таскал воду. Я быстро разобрал колено у дымохода, вмазал туда бак с камнями. Долго долбили лед в глубоком приямке – летом-то по бетонному полу и желобам вода уходит наружу, а зимой скапливается в бетонной яме, откуда ее надо потом вычерпывать. Ребята осенью помылись последний раз, оставили полный приямок воды, и я не знаю, как еще бетон не разорвало льдом. И вот, знаешь, здорово все получилось! Я счастлив, потому что с самой, считай, Сибири не был в настоящей бане. Нагнали пару, нагрелись, нанежились, нахлестались. Потом я смертельно испугал ребят – распаренный выскочил и давай валяться в снегу с ором на весь Чаар-Таш, а они дикими глазами смотрели на меня из дверей. Потом уже, когда мы пили крепчайший чай, признались, что слышали о таком номере, но всегда думали, что это брехня, а теперь поверили. Объяснил им, что это за удовольствие, и предложил в следующий раз принимать снежные ванны всей командой. Они только поежились. Ух, до чего же славная каменка получилась, я даже сам загордился! Не слишком, правда, она аккуратная, но работает хорошо, а весной я ее переделаю. Все-таки это устройство я первый раз в жизни соображал. После бани я словно омолодился. Давно не пел и сегодня вот впервые на Чаар-Таше взял в руки гитару. Открылась дверь – и, улыбаясь как-то застенчиво, вошел Олег, за ним Шурик (Вовка заступил на дежурство). Ребятишки сидели затаив дыхание. И совсем не потому, что у меня выдающийся голос, просто для них это было очень необычно – их «Скорпион», как они меня тут заглазно прозвали, вдруг запел. Спел им несколько песен, а Олег просит еще – и уж обычного пижонского выражения у него не вижу. Потом он забрал у меня песенник – переписывать, и очень попросил научить его аккомпанировать на гитаре. Я пообещал сделать из него рядового барда в два-три вечера. Хочу сознаться, что в последнее время мне как-то разонравились песни о кострах, тропах, палатках и прочих туристических атрибутах. И даже во многих песнях о горах я научился улавливать фальшь, наигрыш, р-р-романтические, как говорил Гоша Климов, ноты. Я это уже слышу, например, в таких словах, как «можно свернуть, обрыв обогнуть», но мы, мол, «выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа». Знаешь, даже охватывает презрение к такой позе и такому вранью. Ни один высокогорник нарочно не выберет трудный путь, да еще столь же опасный, как военная тропа, если можно его избежать. Он именно свернет и обрыв обогнет, чтобы зря не свернуть шеи. Романтические преувеличения, наверно, допустимы в песнях, но те, кто их поет, должны твердо знать, что глупый риск очень дорогое удовольствие и даже прямая подлость по отношению к своим товарищам. Ведь если какой-то один идиот рискнет без надобности и лишь получит ранение, то вся экспедиция замарана и даже вообще может с позором провалиться, хотя на ее подготовку ушли усилия, время, надежды, средства многих людей. И ведь большинство «бардов» сроду не бывали ни в горах, ни в тайге. Человека раз в год укусит комар, и этого бывает достаточно, чтоб начался бесконечный гитарный зудеж о поворотах, перекатах и дальних дорогах. Мне кажется, что теперешнее массовое нытье под гитару – очередная пошлая мода, и мне стала противна эта мещанская р-р-романтика, потому что я знаю цену романтике подлинной. А еще хуже, что есть среди авторов таких ходячих песен подонки, которые подсовывают грязненькие текстики, спекулируют на политике, сеют в здоровой среде микробы подозрения и неуверенности, отражая, должно быть, суть своих слабых душонок. Один мечтает «рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую»; другой модернизирует блатной жаргон и осмеивает все, даже самое святое; третий с этаким шибко смелым намеком не советует нам идти в ногу – мосты, дескать, разрушаются, а по сути этот советчик, точнее – антисоветчик, хочет видеть в нас стадо баранов… Каждый сеанс я спрашивал нашим жаргонным шифром ошских радистов: «Есть что-нибудь для меня?» Отвечают: «Ничего нет». И вот сегодня я получил длинную РДО с подписью «Белугина». Милая ты моя, славная! Но я боюсь радоваться, зная твой переменчивый характер. Учти, что, когда мы поженимся, я не буду категорически настаивать на том, чтобы ты взяла мою фамилию. Оставайся со своей, если хочешь, но я лично считаю так: если жена прославилась как ученый, общественный деятель или, скажем, даже спортсменка – пусть живет под своей фамилией, ради бога! Но ведь твоя фамилия – не твоя, а бывшего твоего мужа, и, между прочим, если ты пожелаешь таким образом сохранить память о нем – я не стану слишком возражать. А возьмешь двойную фамилию или вернешься к девичьей – тоже пожалуйста! Что же касается наших будущих бэби, тут я не уступлю ни микрона – они должны быть Белугиными, так и знай. Я ничего не имею против твоего отца, но мои дети должны носить фамилию моего отца. Хоп? А насчет Маринки скажу тебе так: никогда ни при каких обстоятельствах не вздумай рассуждать так, как это было однажды на Каинде, – это, мол, не свое, а чужое, и никогда оно не станет своим. Подобных «разъяснений» больше не хочу и не допущу, чтоб моя семья делилась на своих и чужих. Еще раз услышу, ищи меня где-нибудь в Якутском управлении, на Врангеле или в Антарктиде! Я Маринку считаю своей, родной. Иногда вот вспомню тут, как она свирепо таскает меня за губы, добиваясь моего писка, и – не поверишь? – сердце истаивает. Кстати, я тут для нее накопил кучу списанных термометров – максимальных, минимальных, срочных. Будет ей что совать под мышки своим куклам – термометры здоровенные, как раз вдвое больше кукол. Так хочется тебя видеть! Обнять, чтоб косточки захрустели, разлохматить, расцеловать. Но я даже в Узген попасть не могу – к нам с утра шли тучи, и все, знаешь, Cumulonimbus calvus вместе со Stratocumulus praecipitans, то есть «кучево-дождевые вместе со слоисто-кучевыми, дающими осадки». И началось! Сплошная стена сырого снега совсем нас засыпает. Двери агрегатной завалило, дрова добывали чуть не час. Понимаешь, их там под снегом десять кубиков здоровых круглых бревен, а сверху ровно, будто ничего нет. Потом на дворе началась такая крутежь, что запутало антенну. Я только что стоял и держал ее в руках, пока Вовка передавал радиограммы. Кричал ему: «Ты что там телишься?», а он за воем бурана ничего не слышал, знай себе постукивал ключом. Сейчас сижу пишу и вижу, как Вовка «идет» на площадку. Вот хочет встать с четверенек, а сумасшедший ветер валит его в снег. Вовка вползает на площадку, хватается за стойки будки, смотрит, потом зажимает лицо руками и двигается спиной к снегомерной рейке. Отнаблюдал, хочет перевалить через проволочную ограду площадки, но, видно, решил, что это ему не удастся, пополз к выходу навстречу ветру. Все-таки трудно мне приходится с моей командой! Понимаешь, тут есть одно противоречие. Я им все рассказываю, указываю, требую, заставляю, но мне нельзя допустить, чтобы меня в ответ могли упрекнуть: «а сам-то». Поэтому приходится не только все самому уметь, но – главное – все хотеть сделать, что иногда очень трудно. Мне надо за любое дело браться с охотой, с жаром, чуть ли не с песней и в то же время не давать им сесть себе на шею, чтобы они, не дай бог, не подумали: «Все равно дурак сделает, он главный ответчик за станцию, а нам можно немного и пофилонить!» Как хотел бы я, чтобы они увидели во мне неунывающего, надежного и трезвого старшего товарища, способного преодолеть любую трудность и выпутаться из самой сложной ситуации! Так что я вынужден держать себя в узде, не разрешаю себе ни погрустить, ни посетовать на судьбу-злодейку и работаю, по сути, на износ. Но иначе нельзя. Мне надо добиться одной вещи: чтобы они все делали не потому, что им кто-то приказывает, и даже не по долгу службы, не по собственной сознательности, а как бы инстинктивно, по потребности. Один старый мудрый киргиз говорил мне на Ачисайке: если гора видна, она недалека. Ребятки стали лучше все делать, и отношения наши налаживаются потихоньку, только вот детство из них прет по-прежнему – не удержишь. Вчера утром мои земляки неожиданно бросились на меня – поразмяться. Шурик поздоровей, я его сразу подсек и придавил шею коленкой. Пока он хрипел, Вовке я успел снять штанишки и навести румянец на соответствующее место. Затем уложил его на Шурика, удобно уселся на кучу и долго и нудно объяснял, чем им грозит борьба со мной, и понимают ли они, что двум молодым на одного старика нападать нечестно, и убивает ли их совесть. Кубанцы дружно вопили, что они отлично все понимают и совесть их очень даже сильно убивает. Я отпустил их души на покаяние. Шурик уполз к своей койке, потирая отдавленную шею, а Вовик пулей выскочил в коридор приводить свой туалет в порядок. Потом я в знак примирения подержался с земляками за мизинец, на том «разминка» кончилась. Вечерами они пристают ко мне, чтоб я им попел или рассказал чего-нибудь. В принципе мозги у них немного светлеют. Начали читать. Шурик, тот буквально заболел книжками, не спит ночами, хотя я, грешным делом, вначале подумал, что это занятие для него – лишний предлог полежать и еще больше опухнуть. Из-за книг он по утрам стал с большим трудом вставать, и ребята будят его снегом. Олегу я подсовываю чтиво полегче, чтоб не отпугнуть, только он заобожал мою гитару и тренькает на ней как помешанный, а я от этой музыки скриплю зубами. Вовик все больше толчется возле меня, когда я дежурю, или встанет на лыжи и бродит в окрестностях станции. Я запретил ему уходить далеко, потому что он может залезть на лавиноопасный склон, и, кроме того, в эти места, говорят, стал забредать на зиму гималайский медведь в белой шали. Он мелковат по сравнению с бурым, но глуп и свиреп. Томительно тянутся часы дежурства, спать хочется, время от времени включаю приемник. Хорошей музыки мало. И песни какие-то расслабляющие или фальшиво бодряческие, и голоса противные, словно микрофонных этих певцов подбирают среди старых кастратов. Давно тоскую по сильному, свободному мужскому голосу, по мелодии, зовущей не на подрыгивание, а на раздумье и действие. …Снег, снег за окном. Письмо все равно не могу отправить, поэтому продолжаю. Нас засыпает. Помнишь, я пел тебе песню: «Четвертый день пурга кончается над Диксоном»? А в наших Пестрых камнях пурга кончается вот уже пятый день. Кружатся в бесконечном хороводе снежинки, и я смотрю на них до кружения головы. Мои друзья на Сарысу, наверно, уже спускают мокрые лавины, а у нас, на высоте, еще валит сухой снег. Тучи собираются к нам как в мотню трала, а мотня-то с дырой, и мы – прямо напротив дыры. Но пусть бы все это, лишь бы ты была со мной! Ну почему так получается? Есть Наташа – нет работы, есть работа – нет Наташи. Ведь тут работа, моя работа, которую я знаю и люблю. И тут я не жиже человек, чем любой твой интеллектуал! Теперь я и самого Сафьяна мог бы нанять, но доверил бы ему лишь таскать воду да пилить дрова. Курю, стряхиваю пепел в твою кокосину. Она засыхает потихоньку, уменьшается, и сейчас то и дело приходится выбегать с переполненной пепельницей. Занимаюсь усиленно в эти дни. Сделал зачеты тригонометрии, химии, два по физике. Грызу английский, астрономию. В химическом немного нахимичил, да и от тригонометрического попахивает липой. Но надо же как-то сдавать! Отправить бы их поскорей, чтоб совесть не мучила. Когда кончится этот снег? Перебирал твои письма, внимательно перечитывал. Ты зря опасаешься, что я изменюсь после нашей свадьбы, как это вроде бы часто бывает в жизни. Не изменюсь я! До самой своей смерти я буду привязан к морю, тайге и горам, буду пылко и нежно любить ту, что мне всех дороже, останусь верен старым друзьям и постараюсь заиметь новых, все так же я намерен писать длинные письма, плохие стихи и петь хорошие песни, драться за правду до юшки и отстаивать свое мнение с прямолинейностью телеграфного столба. Так что не опасайся – у тебя много со мною забот впереди! Но зачем ты сетуешь, что у меня нет новых слов о любви? Разве тебе слова дороги? Помни, что я попросту и тихо сказал тебе у Каинды, это было главное. В твоих глазах я увидел тогда вопрос, ожидание чего-то, но не мог добавить ни слова. Иные писатели, знаешь, заставляют своих героев талдычить: «Я очень тебя люблю, очень, очень!» Врут эти герои! Можно любить или не любить – степеней сравнения тут нет. А в кино то и дело кто-то кричит с экрана: «Люблю-у-у!» А киношники еще раскатное эхо пустят по горам и лесам, чтоб вышло убедительней. Фальшь все это и дешевка; в данном случае крику не поверит ни одна женщина. Пишу из Узгена. Погода вдруг наладилась, и мы с Шуриком рванули вниз. К сожалению, до тебя дозвониться не удалось, и на переговорный пункт ты почему-то не пришла по моей телеграмме. Я понимаю: был уже вечер, и ты могла пойти в кино… Так подмывало кинуться в Ош – до него тут рукой подать. Но я не должен так рисковать – об этом непременно бы узнали в управе и не помиловали, припомнили б мне мой «анархизм», выговор, увольнение. Кроме того, не мог я оставить моих мальцов. Конечно, Шурик без меня не вернулся бы в горы, а Вовке и Олегу на станции очень тяжело, двоим долго не выдержать – слишком велик объем работ. Так что свидеться не удалось. А за письмо – спасибо! Кроме того, пришло два письма от Карима, по одному от Славки и Гоши Климова. Очередной пакет из управы прибыл. За отчет нам, кстати, 5/5! Сейчас глубокая ночь. Мы остановились на Узгенской метеостанции, и я познакомился со здешними ребятами. На рассвете мы с Шуриком уходим. От Араголя до станции дорога очень тяжелая, на серпентинах снежно, опасно. Боже, поможи! Но это все ладно. Меня огорчило в твоем письме описание хлопот, связанных с получением справки для университета. Да не имеют они права не дать эту несчастную справку, не могут же они запретить тебе учиться, где ты хочешь и чему хочешь! Не буду пилить тебя, но ты тоже хороша: если ругаться со мной, так ты смелая, а настоять на своем законном праве в отделе кадров – тут тебя не хватает. Ну зачем ты с ними затеяла разговор об оплате будущих отпусков? Вместо того чтобы вежливо, но твердо потребовать нужную бумаженцию, взялась божиться, что отпуска будешь брать за свой счет. Ты же грамотный человек и до некоторой степени разбираешься в наших законах, которые учреждены не твоим отделом кадров. В крайнем случае пойди в парторганизацию, к прокурору, в редакцию газеты. И совершенно напрасно ты сетуешь на социализм и его порядки! При чем тут социализм, если встречаются еще – и будут встречаться! – должностные лица с такой толстой лобовой костью, что сквозь нее даже электромагнитные волны не проникают, не то что человеческие нужды. И таких людей при случае все равно приходится брать за глотку, что я сейчас настоятельно рекомендую сделать тебе. А что значат в твоем письме эти почти что стихи или пословица: «Сафьян меня снова довел до рева»? Знаешь, милая, давай договоримся – я ничего не хочу о нем слышать, и надо, чтобы ты поступала так же. А еще говорила, будто «он просто так». Мне не нравятся твои «стычки» с Сафьяном и другими «симпатичными дядьками». Неужели ты не можешь твердо означить границы дозволенного? Пора тебе понабраться обычной житейской мудрости. Можно «не быть сухарем», синим чулком, но надо научиться наконец-то указывать каждому сверчку его шесток. И если он довел тебя до рева, то делал это не в силу товарищеских чувств. Нет, я не ревнивец, но не хочу, чтобы каждый скот смотрел на тебя как на предмет своего, так сказать, внимания. Из твоего письма, кстати, не ясно, выполнил ли Сафьян свою «клятву на полусогнутых» и стал ли «хорошим». Но в случае необходимости ты ему передай, что я могу невзначай сделать его таким хорошим, каким он никогда еще не был за всю свою мотыльковую жизнь. Я все жду, когда ты перестанешь его путать с Крапивиным. Помнишь, как Крапивин мог двумя-тремя словами снять напряжение у людей, как он по-человечески понял нас с тобой в Саянах? Вспомни его мысли о том, что любая вершина – будь то горная, научная, административная или политическая – имеет подножие, что в нашем немного странном и довольно тесном мире нельзя отрываться от своего народа, иначе не будет счастья тебе или твоим детям, и что веру в свое будущее наш народ найдет в величии своего прошлого. Он, правда, был строговат к людям, но и себя не жалел. А как он любил свою жену и детей! Знаешь, может быть, подлинная цена человека измеряется искренностью и чистотой его любви? Крапивин был большой жизнелюб и умница, а этот твой «интеллектуал» с его подленькими поступками, его стандартным набором тривиальных мыслей и постоянной обоймой западных модных имен скорее, извини, «интеллектуевый индивидуй», чем что-либо иное. И ты совершенно зря «мрачно и злостно» размышляешь «о том, что женщине, видно, в геологии не место». Ведь от этих размышлений не меняется ни жизнь, ни ты, не становится порядочнее и благороднее Сафьян и другие «симпатичные дядьки», которых, кстати сказать, хватает и в метеорологии, и в химии, и в прочих отраслях народного хозяйства. Прошу, не сердись на меня! Давай больше никогда не возвращаться к этой теме. Иначе я при первой же встрече испорчу тебе прическу, выдеру горсть волос или даже сниму скальп, это уж смотря по настроению. Глаза слипаются. Ложусь. Письмо опущу утром, через четыре часа, и оно очень скоро будет у тебя. Прошло два дня, как мы вернулись снизу. Отоспались, отдохнули. Сегодня даже смог полюбоваться потрясающим алым закатом, от которого всегда цепенею. Понимаешь, к нам на перевал уже приходит ночь, а далекие вершины долго и тихо светят вишнево-розовым пламенем, потом почти незаметно мутнеют и, словно угли в костре, покрываются пеплом, умирают не дыша. Досталась нам эта дорожка наверх! А мы сдуру слегка перегрузились, и это осложнило путь. Ты геолог и понимаешь, что в тяжелом маршруте каждый килограмм должен иметь какую-то целесообразность. Не надо было нам брать полугодовой запас бланкового материала, присланного управой. И без урюка обошлись бы, и без сала, которое прислали Шурику. Как назло, Шурик не просился отдыхать дорогой, ни разу не отстал и даже не пискнул – как большинство кубанцев, он оказался настырным, вымотал меня порядочно, и мне приходилось самому останавливаться. А когда уже в темноте мы приплелись на станцию, то мне пришлось раздеться и выжимать белье. Спина болела от напряженного наклона вперед, мускулы ног противно тянуло – вот-вот сведет судорога. Неужели стал сказываться возраст? Снова перечитал твое письмо. Высылаю его тебе. Я отчеркнул красным кубинским карандашиком строчки, чтоб ты подумала над ними и, поставив себя на мое место, ощутила в них сквознячок. Тут такое дело. Я всегда был предельно откровенен с тобой и очень верил тебе, всему, что ты говоришь. Но прошу тебя об одном: не надо меня наталкивать на сомнения и подозрения, не стоит намекать, чтоб я не все написанное тобой принимал за чистую монету. И пусть я в твоих глазах стану еще прямолинейнее и грубее, не хочу, чтоб в наши отношения вошла ложь и криводушие, которых и так достаточно в мире. Никогда не смирюсь с трусливым тезисом твоих интеллектуалов, будто люди уже не могут быть чистыми и ясными… Карим сообщает, что мой перевод на сумму, которую ты у него брала, очень пригодился, и просит еще полсотни рублей. Надо помочь – там нелегко, родился очередной сын, и всякие тряпочки-качалочки потребовались. Завидно! У нас тоже мог уже ползать бутуз, которого я потихоньку учил бы ходить на лыжах и давать сдачи соседским мальчишкам. Ты привила бы ему свою страсть к цветам, всему живому, и то хорошее, светлое, что я угадываю, смутно предчувствую в тебе, пусть бы раскрылось в нем. Главной нашей задачей было бы сделать из него человека и гражданина. Это очень важно. Вспомни наш разговор о жизни еще там, в Саянах. Ты отказывалась понять ее смысл, я тебе почему-то малодушно поддакивал, хотя всегда считал, что в принципе люди живут для того, чтоб передать детям и вообще младшему поколению достижения разума и нравственные идеалы Человека. Еще Карим сообщил, что не возражает приехать ко мне на станцию. Только он гордый и сам не пойдет наниматься. Надо будет еще раз подсказать в управе насчет его, нам тут сразу всем станет легче. Славка пишет из Калининградской области, передает тебе привет. Он «устроился» на танке, службой доволен, вспоминает Киргизию, горы и всех нас. Говорит, что это все недаром для него прошло и он обязательно после армии приедет сюда на высокогорку, чтоб непременно перезимовать со мной. Пишет, что услышал на днях в кино писк морзянки и вся душа, мол, перевернулась. Вообще он мечтает о какой-то бродячей, скитальческой специальности на гражданке. А с Райкой у них все. Слава пишет, что теперь ненавидит и презирает ее. Она наконец-то написала ему откровенно, что ей жаль своей молодости и она ищет человека с дипломом. Вот гадина! Я-то ее чуял за версту. Сказал однажды Славке, что я о ней думаю, только он обиделся, а сейчас Славка потрясен. Послал ему песню, которую спишу и тебе. Ее принесли на Саяны морские офицеры из Балтийска, которые решили пройти по Казыру большой водой. Они чуть не погибли в пороге, вернулись голодные и ободранные в Тофаларию. Утопили резиновую лодку и все, что было в ней, больше десяти суток шли назад без пищи. Отлеживались и отъедались у нас на станции. Потом один из них оклемался, засек мою гитару, хорошо запел, и его песню я запомнил. Не путай с итогом причину, Рассветы, как прежде, трубят, Кручина твоя – не кончина, А только ступень для тебя. По этим шершавым ступеням, По злу неудач и слезам Идем, схоронив нетерпенье В промытых ветрами глазах. Спокойно, дружище, спокойно! И пить нам, и весело петь, Еще в предстоящие войны Тебе предстоит уцелеть! Уже изготовлены пули, Что мимо тебя просвистят. Уже и рассветы проснулись, Что к жизни тебя возвратят. И вот письмо Гоши Климова. Он сообщает о новостях на Сарысу. Новостей, правда, особых нет, происшествий тоже, то есть все живы. Там уже вовсю тает, пошли мокрые лавины. Пишет, что слыхал в управе обо мне: Белугин, дескать, вытягивает «мертвую станцию». Он очень рад за меня, но если я захочу на будущий год к нему – всегда пожалуйста! Что-то я начал уставать, Наташа! Ходили на снегомерные втроем, и вроде только ближайшие пункты обежали, но я вернулся разбитым. Ушел к себе, захотелось побыть одному. Перечитал твое письмо, однако против ожидания оно не сняло усталости: в нем много такого, о чем не хочется думать. Приходил Вовка – не то заметил, что я не в себе, не то решил поделиться своим. Начал рассказывать, что получил сразу четыре письма – одно от матери и целых три от девушки из его села, Тони. Смущаясь, спрашивает: «Валерий Николаевич, как узнать, когда есть любовь, когда нет?» Что я мог ему ответить? А Шурик Замятин целыми днями бродит по станции сам не свой – внизу, пока я бегал тебе звонить, он, оказывается, влюбился в одну узгенскую радисточку. Я на правах «умудренного» его предостерегаю: что-то уж очень быстро у тебя, братец, получается! А сам вспоминаю нашу встречу на Саяне: как увидел – сразу по уши. Беда! Но вообще, Наташенька, это ведь чудесно – люди любят друг друга!.. У нас тихо, солнечно, тепло. Сбегать бы к ущелью Тугоксу, посидеть на пестрых, уже обтаявших камнях, помечтать – там такой вид открывается, душа мрет! Но все некогда. Наверно, из-за хорошей погоды лисы откуда-то взялись, шастают вокруг нашей помойки – даже стрелять в них противно. А дамы с гордостью таскают их на плечах, носики суют в эту шерсть: бр-р! О делах написать? На моей фабричке пока ни одной забастовочки. Своим чередом идет работа, так сказать, преподавание и, так сказать, воспитание. Надо поскорей снегомерные съемки закончить да установить в агрегатной новый двигатель, чтоб сесть за очередной отчет. Я, конечно, снова помогу ребятам в качестве считающей, решающей и анализирующей машины, куда ж денешься?! Мальчишки мои вообще-то не так уж плохи. Вот только прожорливые, как утята. Не наготовишься в дежурство, но это ничего. У нас еще полно муки, гречки, специй, не распечатана бочка сельди, бочонок сухого молока, баклага русского масла, есть консервированная капуста, рис, правда, весь переложенный мышиными зернышками, вермишель, большой запас сигарет «Джейбл» и «Ароматных», маловато лишь картошки да мясных консервов. Проживем! На снегомерных сказал ребятишкам, что в армии им цены не будет с их дефицитной специальностью и опытом зимовки. Обрадовались, раньше им это и в голову не приходило. Надеюсь, что все наносное с ребят сотрут горы и обыкновенная, не абстрактная романтика. А для этого их еще надо жучить. Олег сегодня утром проспал время наблюдений. Такое ЧП было впервые, я разорался на него, но эти шкеты уже изучили меня: если я кричу, они и ухом не ведут, зато начинают метаться, как зайцы, если я значительно снижу голос. И вот, когда я разрядился, говорю им, что могу составить наблюдения, не выходя на площадку, и об этом в управе никто не догадается, однако сие будет служебным преступлением. Но если кто из них хоть еще раз проспит срок, сказал я, того с ходу разрублю на куски и разбросаю во все стороны света. Они поняли, конечно, эту шутку, так как количество извилин в их мозгах медленно, но верно увеличивается. Вовка, например, с такой гордостью говорит, что он зимовщик, и с такой жадностью хватается за штормовку перед снегомерными, что я в него поверил и, хотя поругиваю для острастки, в душе доволен: получается человек! Со многих склонов у нас сошли лавины. Из-за обильных осадков они иногда шумят даже ночью. Вчера на снегомерных было очень опасно. Пришлось переходить два спелых лавиносбора. Парнишек оставил на страховке, а сам полез к рейке. Ничего не поделаешь – это моя работа. Их не мог послать. Ведь если они погибнут, меня отдадут под суд, а главное – моя совесть потом не выдержит. Случись что со мной, они отвечать не будут. Ребята начинают понимать, что высокогорник – это не пижонское трико в обтяжку, грубый свитер и зеленая штормовка. Это – трудная профессия; тяжелую и подчас опасную работу высокогорника не сделает за него никто, ее можно не уметь делать, но надо хотеть делать, а тот, кому нужен длинный рубль, пусть поищет его в другом месте. Иногда я думаю: эти парни, возможно, тоже будут когда-нибудь руководить и им придется показывать молодым, что их старший товарищ на высокогорке – это не случайный знакомый по бару и не фамильярный похлопыватель по плечу, – это самый тяжелый груз на его плечи, и неизведанная первая тропа, и никакого писка, и последний ломоть хлеба пополам, и последний рубль: «Бери, обойдусь…» На ближайшую неделю работы у нас уйма, и писать не смогу до окончания работ в агрегатной и завершения отчета. Подержалась бы погода, чтоб мы могли доставить вниз последний за эту зиму отчет! Эти дни в нашем седле спокойно, едва тянет из долины реки Яссы, и ветряк чуть слышно шуршит лопастями. Ночами огромные звезды хлопают своими длинными сияющими ресницами, а днем солнце уже ощутительно начинает припекать. Снег ноздревеет, нас вот-вот отрежет, и писем от меня не будет месяца полтора-два, пока не сойдут весенние лавины и не растает все. В прошлом году дорога сюда открылась пятого июня. Дописываю ночью. Ребята сидят за отчетом, и я с ними. Включили на всю катушку приемник – чтоб нам не казалось, что мы смертельно хотим спать. Сейчас вот, в перерыве, размечтался об отпуске в июне или июле. Спущусь вниз, увижу тебя, поросенка, слазим втроем на Сулейманку. Вот только жить мне негде. Карим наверняка уедет на лето куда-нибудь, а мне придется на вокзал. Но зачем тогда и отпуск брать, если спать на вокзале? Ну вот и отдохнем! Отчет окончен, кубанцы мои вышли с ним и с письмами. Я проводил их до спуска, вернулся, немного поспал и сменил на дежурстве Олега. Бросить станцию в такой момент не мог, поступила по радио новая инструкция: наблюдать и передавать теперь надо через каждые три часа. Сутки буду спать урывками. Работенка и вправду изнурительная, но я привык к ней, как к чему-то неизбежному, и давно перестал сетовать по этому поводу. Я знаю, что моя работа необходима равнинным жителям, которые, в свою очередь, предпринимают усилия, чтобы у меня была тут еда, одежда, топливо, хорошие книги, чтобы приборы мои не барахлили, лыжи не ломались, а те, кто делает книги, приборы или лыжи, хоть в малой степени заинтересованы в моем труде, успехах друг друга. И, наверно, в такой вот всеобщей связи по мелочам – крепость целого, именно на этом основывается прочность жизни. Правда, для полноты ее и, если хочешь, для счастья человеку надо еще очень и очень многое; я должен быть уверен в неизбежности открытия и раскрытия тех возможностей, что определены мне природой, уверен в верности дружбы и чистоте любви, уверен в будущем своих будущих детей, в том, наконец, чтобы народ, которому я принадлежу малой частицей, будет благоденствовать на земле-матушке несчетные века. И еще мне надо, чтобы ты была, понимаешь? Как хочу видеть твои шальные глаза! Только я иногда не понимал, что в них – не то хочешь сказать мне самое главное, не то миру о себе и обо мне поведать, не то сама жизнь смотрит на меня твоими глазами, убеждая в том, что ее не постигнуть никогда… А ребятки мои все-таки молодцы! Я сообщил им это, когда мы закончили перепланировку агрегатной, они и глаза вытаращили. Работали все здорово. Если б ты видела, как мы добывали из-под глубокого снега песок, как замешивали и закладывали раствор, как копали котлован под главный наш движок! Песок смерзся, его отколупывали ломами, а потом крошили кувалдой. Котлован вырубали топорами, в грунте попадались камни, но у нас уже была практика – баня. И парни знают, что все это наблюдатели имеют право не делать, что наемные рабочие содрали бы с управы рублей двести, но мы уже никак не могли без нового движка, и все получилось хорошо, хотя, конечно, надо подумать, как бы эту работу оформить счетом. С нами ведь, знаешь, не очень хорошо поступают. Мы сами готовим, сами топим, сами моем полы, стираем белье, а из заработка высчитывают квартплату за то, что живем в этом поднебесном домике, и полную стоимость угля и дров. И даже доставку топлива сюда за сто километров оплачиваем мы. Тут что-то не так! Почему же тогда с лаборанта или бухгалтера не берут за помещение и теплую батарею? И разве зимовщики в Антарктиде, например, платят за топливо и его подвоз? А угля и дров у нас идет уйма, потому что на ветру помещение очень быстро выстывает: ведь на таких станциях, как наша, печные вьюшки запрещены, чтоб не было опасности угореть, разрешаются лишь сложные дымоходы. Хороший денек сегодня выдался, но перед вечером горы помутнели, давление начало падать. Когда я шел к станции, услышал отдаленный гул. Где-то сошла громадная лавина, и мне показалось, что у нас даже воздух дрогнул. Пошли, очевидно, мокрые снега, потому что днем так печет, что хоть загорай. Лавина прошумела не в том ущелье, которым спустились мои ребятки, но все равно я начал за них беспокоиться. Вообще-то путь вниз у нас проторен, более или менее надежный, и больше всего я опасаюсь бурана, если он застанет их на подъеме к перевалу. Часто ловлю себя на том, что думаю о тебе. Делаешь работу, все идет нормально, и вот незаметно расфантазируешься. Будто бы подошел я к твоей двери, принес свою нежность и тепло, откровенность и доверие. Стучусь, вхожу, а на диване сидит некто, и ты еще не успела погасить улыбку, обращенную к нему. Как бы я поступил? Скорее всего извинился, что не туда попал, и ушел навсегда. Но это все мои пустые фантазии, не придавай значения. Вот уж и ночь кончается. Я разделался с химией, снова берусь за тебя. Вспомнилось вдруг, как ты сказала однажды, будто любая любовь пропадает через пять лет. Я тогда пробормотал что-то, потому что был ошарашен, а сейчас хочу разбить тебя в пух и в прах. Нет, не любая любовь пропадает! Если она по-настоящему настоящая, то расти ей год от года, крепнуть и расцветать. И это не мечта и не предположение; моя уверенность основывается на убеждении, что любовь – самое человеческое в нас, а мы людьми становимся с годами. Ночью звезд не было, и это меня еще больше растревожило. Как будет дальше? Олег проснулся, готовит на кухне завтрак. Прибегал неумытый ко мне, постоял у барометра, сбегал наружу посмотреть облака, вернулся, но ничего не сказал. Облака плохие, барометр падает, и я только что передал «авиа»: самолеты сегодня не пойдут… Ну, кажется, самое неприятное началось! После завтрака Олег великодушно дал мне поспать несколько часиков, потом разбудил, потому что порвало антенну. За окном бушевала метель, и было сумеречно, как на рассвете. Выбрался, долго лазил по пояс в снегу, разыскивал концы. Срастил кое-как, наверно, снова порвет. Снег мокрый, крупный, лепит ошметками, стекла в окнах забило, и площадки не видно. Худо. Интересно, где сейчас мои ребятки? По всем расчетам, они уже должны выйти из Араголя. Пойду встречать. Возьму ружье, чтоб сигналить. Знаю, что они будут придерживаться пестрых камней на хребтине и старого следа, который, надеюсь, не заметет совсем. К тому же перед уходом я им всучил Гошин компас: может, пригодится. А за себя не боюсь – я незамерзаемый, непотопляемый, огнеупорный и прочее, не страшны мне ни гималайские медведи, ни хитрые лисы, ни серые волки. С нетерпением пойду навстречу Вовке и Шурке, потому что знаю: они, наверно, несут мне письмо от тебя, хотя где-то под сердцем затаилось тоскливое предчувствие, что такого письма нет. Третий день плачут метели, Третий день ели да ели, Что стоят здесь века, Подперев облака. Тишина залила уши, Тишину учимся слушать, И следы по белизне, По тишине. Нам идти мимо ночлегов, По любви, словно по снегу, Через ночь и через дым, Оставляя следы. Теплый сон смежит ресницы, Мокрый снег выхлещет лица. Только мы, дети пути, Будем идти, будем идти. А потом кто-то устанет, А потом кто-то отстанет, В вихряной, вьюжной пыли Растворится вдали. И под злой хохот метели Побегут синие ели. По снегам нашей беды Только следы, только следы… Привет с Кубани! Здравствуй, мой родной сыночек Вова, ужас какой, твой начальник потерялся! Он был хороший к тебе, не то что прежний, вор и обманщик. Да как же это получилось, человека не уберегли или он сам не уберегся? Ты писал, он любил вас и работу, учил дело делать и в душе ласковый до тебя был. Так жалко, может, еще где-нибудь живой, потому что не нашли, а человек не иголка в стоге, найдется. Вовочка, сыночек, от тебя долго не было писем, чуяло мое сердце горе, и я делала запрос в досаф. Мне сообщили твой адрес и все, а я этот адрес без них знала. Вовочка, сыночек, ты береги себя там на этой проклятой горе, остерегайся. Птица та бывает цела, которая остерегается. Я плачу по тебе все время, потому что ты малой, вырасти не успел, работаешь без людей в горах, да еще и воздуху не хватает, и снег осыпается. Ну, по тебе эта твоя работа, и я думаю, не плохая, плотют хорошо, только далеко и опасно. Какой ужас – начальник потерялся! Вовочка, сыночек, ты у меня один, и я одна, а родычи совсем не ходят, если б умерла, то б они узнали через людей. Послала тебе посылку с яблоками, пересыпала гарбузяными семечками, яблоки не видные, но дойдут. С товарищами ешь, а с Шуркой будьте как братья, живите дружно, водку не учитесь пить. Пишите, что вам надо. Луку, чесноку, семечек я вышлю. Вовочка, сыночек, как я соскучилась за тобой, улетела б посмотреть, я и не насмотрелась на тебя, а ты уж и улетел от меня. С весной улица началась, играют ребята, поют, мимо проходят, а я у калитки стою и плачу, где мой сыночек родной, единственный. Вовочка, сыночек, новости такие. Была буря, потом дождь. Крышу сарая снесло; камышу нажну, подкрою, счетчик промочило в хате, Гриша-электрик новый подключил. Калядиных зять Федька пьяный побил все в хате, стенные часы с боем, телевизор и буфет, Катьку чуть не убил. Гаранины кумовья продали дом, уезжают на шахты к свекру. В магазине недостача, наверно, будут судить. Школьные девчата приходят ко мне, и Тоня тоже. Вовочка, сыночек, если кто тебе напишет за Тоню, не верь, то брехня. Эти ребята Шевчуковские подросли, теперь Витька Черник, бегают за девчатами, те их обегают, а Тоня совсем никуда не ходит, говорит, я мальчика свойого проводила и никто мне не нужен. Я сказала ей, Тонечка, ходи, играй, танцуй, а она говорит: тетя Маша, я Володю проводила и никого не надо, мне стыдно, что они брешут. Я сказала, много воды пронесет, время укачает, а она заплакала. Вовочка, сыночек, мне ее жалко, она молоденькая, но умненькая и серьезненькая, и еще красивше стала. Сам смотри, до армии, конечно, ничего, а ей советуй учиться, пиши ей, вы же вместе выросли. Вовочка, сыночек, писать устала, пиши мне чаще. Сообщи, как найдется ваш начальник, горе-то какое, просто ужас! Пиши, что передаете, что делаете в свободное время, что за хата у вас и есть ли телевизор, какая у вас одежа, и все, все пиши. Вовочка, сыночек, до свиданья, целую тебя, мой дорогой, родной сыночек ненаглядный. Напиши, как найдется ваш начальник, просто ужас, какое горе. Мы, лавинщики, запомнили Валерия Белугина, хоть он и немного поработал у нас. За такой срок, конечно, не все о человеке узнаешь, но главное в нем мы поняли. Основным принципом его поведения была предельная искренность, что сильно влекло к нему ребят. Этот трудяга и жизнерадостный мечтатель готов был любить весь мир и растворялся в людях без остатка. Он в наших глазах такой навсегда. Его неожиданная, нелепая смерть – наука нам, суровое поучение жизни: мы часто оцениваем людей только тогда, когда их нет. Надежды у меня не осталось, потому что прошел уже месяц. На Чаар-Таш спускался вертолет спасательной партии. Никаких следов. И все это время я была уверена, что последую за Валерием. Подмывало беспощадно разделаться с собой, жалким человеческим экземпляром, который несет груз такой большой вины и сам не знает, чего хочет. О чем думают старики? О том, как тяжела старость и ни одного дня из прошлого не вернешь? О неизбежной и скорой тьме впереди? И ведь каждого рождающегося малыша ждет то же самое – годы горя, и в итоге – сознание своего ничтожества перед вечностью. Какая бессмысленная жестокость – наделить разумом бабочку-однодневку! Как могла природа, так целесообразно оберегающая свои создания, допустить это знание, этот разум? Жалко людей, и жалко себя. И у меня совсем было потемнело в глазах, но, видно, не так просто поставить на себе крест, если есть дорогой для тебя, невинный человечек, родное существо, которому ты причинишь этим неизбывное на всю жизнь горькое горе. Короче, не смогла… Для Вас Валерий Белугин, наверно, интересен сам по себе, и я тут ни при чем. Правда, он воскресил меня в очень трудный момент моей жизни, и сам как-то окрылился, и, наверно, это природа заботилась о себе, возвышая любовь цветением человеческих душ. В отношениях с ним я, может быть, кругом не права, даже и не пытаюсь оправдывать себя, хотя объяснить кое-что могу. Замуж я выскочила девчонкой, мне казалось, по любви, против воли родителей, и они мне этого не простили, тем более что он неожиданно и, кажется, по моей вине бросил нас с Маринкой. Это было страшно. Валерий возродил во мне веру в людей, но могла ли я рисковать еще раз, не подумав и не взвесив всего? Валерий чист передо мной, это я по своей бабьей глупости то и дело вносила смуту в наши отношения, поневоле мучила его. Меня может понять, наверное, только женщина, которая старше и умнее меня, да и то едва ли, все у нас с Валерой было как-то не так, и, должно быть, один, как говорится, бог нас рассудит. И с Сафьяном не все просто. Был такой у нас главный геолог экспедиции Крапивин. Человек. Ну, Вы знаете – из породы комиссаров. Его «съели», несмотря на борьбу вплоть до ЦК. А мы его очень любили, как щенята, тянулись к нему и буквально осиротели, когда он вынужден был уехать. Знаете, очень многим сейчас нужен такой старший товарищ. И мне показалось, что его преемник Сафьян почти такой же. На самом же деле я просто подогнала Сафьяна под «идеал», а он, все поняв превратно, начал преследовать меня. Валерий психовал, он всегда все чувствовал «нутром». Потом я увидела в Сафьяне, кроме ума, и цинизм, и беспринципность, и прямую подлость, но было трудно убить в себе хорошее отношение к человеку. Сафьян, помню, передавал мне грязные слова, якобы сказанные обо мне Валерием, и я долго не отдавала себе отчета в том, что он может просто гнусно врать. Сейчас я на Сафьяна глядеть не могу. Он окончательно разложил нашу экспедицию, которая совсем недавно была так крепка. Я почти сдалась перед мраком вечной разлуки с Валерием. И хотя он говорил мне однажды, что почувствует себя полностью человеком, когда будет не один, а со мной, я знаю, что такого полностью человека уже не встречу, это не повторяется. Думаю о нем беспрерывно, замкнув все на этом. Остался сделанный им кинжал, красивые подставки для цветов, заштопанный стул, прожженный табаком во время его проживания здесь, когда я была на Кубе. Иногда заведу пластинку, под которую он любил танцевать с Маринкой, и почти зримо вижу почему-то не лицо Валерия, даже не фигуру, а небольшие его ноги в серых носках, как-то очень забавно, на свой лад выделывающие смешные коленца. И походка его у меня в глазах. Вот он идет по ошскому асфальту, наклонив голову вперед и чуть ссутулившись, как под рюкзаком, и ноги ставит слишком плотно, будто берет гору. Ребята так и сидят на Чаар-Таше. Судя по их радиограммам в управление, новостей нет. Спускаться им категорически запретили. Через полмесяца туда попытается пробиться Карим Алиханов, друг Валерия. Его назначили начальником станции Чаар-Таш, а жену и детей он пока отправил к своим в село. Собирается на Чаар-Таш большая поисковая партия с милиционером, следователем, врачом-экспертом. Обстоятельства исчезновения Валерия таковы. Он вышел в метель встречать своих кубанцев. Ребята к ночи вернулись на станцию, а его не было. Весь следующий день они лазили по перевалу, потом радировали в Ош и Фрунзе. Все еще не верится, что Валерий оказался побежденным, пусть даже самой природой. Дорогая Наташа! Пишет Вам Поля Алиханова. Я получила письмо от Карима. Он сообщил о том, что Валерия нашли под снегом недалеко от станции. Ружье было переломлено и заряжено, а две пустые гильзы лежали рядом. Значит, он стрелял. На нем был свитер и штормовка. Карим пишет, что Валерий не мог заблудиться, он шел на ветер, к станции, но, наверно, выбился из сил. Он знал, что погибает, успел поставить лыжу, чтоб его легче было найти, и теперь конец ее обтаял. Горе я переживаю вместе с Вами. Вся наша семья очень его любила, и старшие дети говорят сейчас мне: «Мама, как жалко дядю Валеру». Только я очень удивилась, что он находился так близко от станции и замерз. Ведь он же был закаленный, обтирался снегом, никогда не простужался. На Ачисайке ходил зимой по сыртам при 35–40° без шапки и в лыжном костюме, только поддевал свитер. Может, его схватил сердечный приступ, аппендицит или какая другая болезнь? Как он мечтал устроить свою жизнь! У него были золотые руки, не брезгали никакой работой. Сколько он на Ачисайке сделал хорошего! Сейчас люди, поди, живут, пользуются погребом и не знают, что его рыл Валерка Белугин. Бывало, и дров наколет, и воды принесет, и никогда его я не просила, все сам. А соседям проводку делал, приемники чинил, печи замазывал, старым киргизкам воду подносил зимой, их мужья не поворачиваются. Когда я приехала на Ачисайку с детьми, то не Карим, а Валерка прибил на всех дверях рейки, потому что дети не доставали до ручек. Ребят он любил, приносил им всегда подарки снизу, и Ваша дочка вам бы никогда не помешала. Он, правда, иногда выпивал, но пьяный никогда никому не нагрубил, не споткнулся и, главное, не продавал человека за сто грамм. Валерий очень любил крепкий чай первой заварки. Питались мы коллективно, и после чего-нибудь мясного (мяса у нас много было) мы с ним сядем, бывало, и вдвоем трехлитровый чайник выпьем, Валерка называл это «вымывать стронций-90». Карим смеялся над нами, а мы пьем себе да пьем. До полночи сидим, и Валера возьмется смешные анекдоты рассказывать или разные случаи из жизни. Иногда мы с Каримом поссоримся, а Валера нас незаметно мирит, даже не знаю как. Вот такие люди и умирают не вовремя. Вся наша семья разделяет с Вами горе. Когда я приеду в Ош, то найду Вас, и мы еще поговорим о Валерке. …Что тут напоминает Валерия Николаевича Белугина? Все его бумаги и вещи забрала комиссия. Остались только песенники да тетради, аккуратно обернутые газетами, и еще учебники за десятый класс. Гитара то же осталась. Мы все это храним. Под стеклом лежит написанный рукой Белугина «Перечень ежедневных работ дежурного радиста-наблюдателя», а на стене в рамке – «Порядок производственных наблюдений». Он был очень аккуратный и правильно требовал того же с нас. В складе стоят его любимые эстонские лыжи, а на мачте ветродвигателя мы повесили его красную майку. Да и многое другое напоминает о нем: каменка в бане, библиотека, которую он привел в порядок, агрегатная в новой планировке, надпись на стене. У нас тут такой обычай: с 1957 года каждый выжигает на южной стороне станции свою фамилию и время, когда он зимовал. Для выжигания мы используем стеклянный шар из старого прибора для определения солнечной активности. Приложишь его к стене – и под ним сразу задымится. Мы выжгли о Валерии Белугине большую надпись. А недавно под руководством Карима Алиханова мы прикатили на могилу большой пестрый камень, вкопали и забетонировали рельс, к которому примотали ротор от списанного движка. Людмила Иванова Романтика верности Романтика есть в постоянстве. Романтика в верности есть. В Севастополе, городе, овеянном героическими легендами, есть немало памятников морякам, защищавшим отечество свое и в далеком прошлом, и в суровые годы, которые никогда не исчезнут из памяти нашей, – в годы Великой Отечественной войны. На одном из памятников русским флотоводцам высечена надпись: «Потомству в пример». Торжественные слова, не теряющие за своей краткостью большой силы выразительности. И задуматься над ними, вероятно, стоит не только морякам, часто останавливающимся у памятника, но и писателям, чьи герои должны волновать душу, сердце и звать к подвигам, к мечте, становящейся с их помощью явью. Литература и жизнь, писатель и время… Сопряженность этих понятий очевидна, без нее не мыслим себе творчества писателя, не мыслим художнического проникновения в характеры и сердца наших современников, чьи дела прославили землю невиданным размахом созидания нового мира. Словосочетания эти стали привычными, жизненно убедительными. Но такая привычность отнюдь не умаляет обаяния подлинности, присущей каждому талантливому произведению, накрепко связанному с жизнью. Передо мной подшивка «Комсомольской правды» за несколько месяцев 1958 года. На газетных полосах – молодые лица разведчиков будущего, строителей Кедрограда. Это студенты-ленинградцы, будущие лесоводы и охотоведы, вчерашние школьники, которых мечта привела в далекую тайгу встать на защиту богатств Сибири – сибирского кедра, мечта создать город, который потом и получил название Кедроград. Задача была по плечу очень сильным духом, физически закаленным людям, закаленным не в туристских походах, а во встречах с суровой тайгой. А перемежая эти письма, публиковались статьи молодого тогда журналиста Владимира Чивилихина в защиту сибирского кедра и его хранителей, статьи с большим зарядом жизненности, проникнутые той же верой в мечту комсомольцев, как и их письма. Статьи журналиста – это боевая наступательная публицистика, возникающая из активного творческого вмешательства в действительность. Действенность такой публицистики, как говорил Горький, «не в фиксации фактов, а в раскрытии мотивов фактов». Сейчас, когда Владимир Чивилихин уже создал и отличную публицистическую книгу «Любит ли она тебя?», и завоевавшие большую популярность повести «Серебряные рельсы», «Про Клаву Иванову», «Над уровнем моря», «Елки-моталки», «Пестрый камень», «Здравствуйте, мама!», и целый ряд других, можно сказать и об отличительной черте его ранних выступлений. В советскую литературу последних пятнадцати лет он вошел как писатель активного поиска и постижения героев современности, как писатель-борец за гражданское и личное счастье этих героев. Не случайно эпиграфом к повести «Шуми, тайга, шуми!», которая печаталась в феврале 1960 года в «Комсомольской правде», Чивилихин взял стихи Александра Грина: Мечта разыскивает путь — Закрыты все пути; Мечта разыскивает путь — Намечены пути; Мечта разыскивает путь — Открыты все пути. Нелегко пришлось разыскивать свою мечту самому Владимиру Чивилихину, Он родился в 1928 году в городе Мариинске Кемеровской области, но родиной своей считает станцию Тайга, куда семья переехала вскоре после его рождения. В маленьком городке жила большая семья железнодорожника Чивилихина. На детские годы Владимира пало немало забот. В 1937 году трагически, на работе, погиб отец – попал под поезд. Мать, простая неграмотная женщина, осталась с пятью детьми. Поистине надо обладать глубокой, преданной душой и нравственной силой русской женщины, чтобы не растеряться, не оробеть перед жизненными невзгодами, суметь поставить ребят на ноги. Тринадцати лет будущий писатель уже закончил семь классов школы и пошел работать учеником слесаря в депо, где когда-то трудился отец. Затем он поступил в железнодорожный техникум, но работу в депо не оставил: каждое лето, чтобы помочь семье, Чивилихин работал слесарем, кочегаром или токарем (не потому ли так правдивы и ярки страницы его произведений о рабочих?). Закончен техникум – и снова депо, сначала на Урале, потом на Украине. Три года отдано железной дороге, но уже рождалась и грела душу другая мечта. Начало творческого пути писателя критики обычно связывают с появлением в печати его первых рассказов, повестей, выходом книги. Владимир Чивилихин считает началом своей журналистской дороги рабкоровские заметки, статьи. Вероятно, это так и было. Дотошность, одержимость журналиста, которые вели писателя крутыми тропами Алтая, помогали в борьбе за сохранение богатств Сибири и его жемчужины – Байкала, заставившие Чивилихина написать страстную публицистическую книгу «Любит ли она тебя?», начали проявляться уже в скромных заметках рабочего депо и преподавателя техникума. От этих заметок и начался его путь в литературу. Много бессонных ночей пришлось провести ему, человеку с техническим образованием, чтобы подготовиться на журналистский факультет МГУ. А потом В. Чивилихин прошел хорошую школу журналиста, работая в «Комсомольской правде». После написания статей Чивилихин обычно вместе со своими героями продолжал начатое ими дело. Поэтому и родился цикл статей о Кедрограде: «Месяц в Кедрограде» и книга «Шуми, тайга, шуми!». Его книги, подобно поэме А. Прокофьева «Приглашение к путешествию», звали молодых читателей в далекую дорогу, в путь. Вы видели Севера красу? Костянику ели вы в лесу? . . . . Вы стояли под рекой Луговой, достойной песни? Если нет и если, если Вы отправитесь в дорогу, — Пусть стихи мои помогут К вам прийти в родимый край. Можно по-разному судить о первых повестях Чивилихина и по-разному их оценивать. Но уже после появления первых произведений было ясно: в литературу пришел художник, чье творческое упорство внушало веру в его писательское будущее. В мае 1966 года ЦК ВЛКСМ принял постановление о ежегодном присуждении премии комсомола в день рождения комсомольской организации. Первой премии были удостоены: Н. Островский, В. Жалакявичюс, В. Чивилихин, А. Пахмутова, Н. Думбадзе. В. Чивилихину премия была присуждена за повести «Серебряные рельсы», «Про Клаву Иванову» и «Елки-моталки». Книги Чивилихина написаны под влиянием любви писателя к родным сибирским и алтайским краям. Познакомимся с его собственным признанием: «Сибирь… Несметные богатства, сильные характеры, средоточие экономических, научных, моральных проблем, ясно слышные шаги будущего, край, которому суждено, как сказал Радищев, „…сыграть великую роль в летописях мира“. Я знаю, что Сибири, когда она развернется вовсю, хватит, чтобы наделить счастьем каждого; она, моя родимая сторонушка, вплотную приблизит сообщество людей, в котором всем будет хорошо…» Чивилихин дальше пишет, что каждую осень неизменно им овладевает особая болезнь «сибирка», которая тянет его в родные края. Такое пристрастие к родным краям не случайно для творчества многих наших писателей, у которых есть своя «сибирка», неизменно влекущая их к себе. У Г. Маркова, например, это тоже Сибирь, Алтай. Донские места славят М. Шолохов, В. Закруткин и Л. Калинин. Металлурги Донбасса и Таганрога – неизменные герои произведений В. Попова, молодая поэтесса Ольга Фокина, создавая стихи о разнотравье Вологодчины, всегда с любовью пишет о людях этого края. Можно долго продолжать это перечисление, чтобы сделать такой вывод: пристрастие литератора, в лучшем смысле этого слова, заражает и читателя; уверенность писателя, чувствующего себя надежно в родных краях, заставляет и читателя поверить ему. Многочисленные читатели Чивилихина верят ему и любят его за острое чувство современности, за героев, в которых всегда чувствуешь «душу живу» и самого их создателя. Герои-романтики не громкими словами, а громкими делами славят землю, которую они «пересотворяют»: Подчинилась земля мне, и я Одарил ее красотой… Земля сотворила меня, Я же землю пересотворил — Новой, лучшей, прекрасной – такой, Никогда она не была. Это пишет Эдуард Межелайтис в поэме «Человек», удостоенной Ленинской премии. В поэме выражена тенденция, характерная для многих наших писателей. Герой-преобразователь, дерзновенный мечтатель и в то же время простой, скромный человек – в центре их произведений. Таким мы видим его и в произведениях Владимира Чивилихина. Например, в его повести «Серебряные рельсы». После выхода этой повести автор стал получать письма от многочисленных своих читателей. Вот что, например, пишет Ю. Иванов, инженер-геолог, такой же изыскатель, как и герой повести: «Один экземпляр книги я привез из Новосибирска в центр Восточных Саян, где работал наш небольшой изыскательский отряд. И хотя последние пятнадцать километров до лагеря надо было идти пешком и на счету оказывался каждый килограмм груза, я не задумываясь захватил ее с собой. В тайге книгу ждали читатели и продолжатели дела тех, о ком написана повесть. Уже в первый вечер, сгрудившись всем отрядом у керосиновой лампы в палатке, мы читали книгу. Книгу о мужестве. Книгу о нас самих… Как и мы, герои ее были из проектно-изыскательского института Сибгипротранса. Отсюда в суровую зиму 1942 года отправилась экспедиция искать по заданию Родины путь в Саянах для новой магистрали Абакан – Тайшет». У коммуниста Александра Кошурникова в экспедиции помощников было только двое – комсомольцы Алексей Журавлев и Костя Стофато. Изыскатели погибли, но их имена навсегда остались в памяти людей: на стальной магистрали Абакан – Тайшет есть три станции: Кошурниково, Журавлево, Стофато. Их подвиг останется навсегда и в сердцах читателей, взволнованно, мужественно и просто рассказал о нем Владимир Чивилихин. В основу его повести положен дневник Александра Кошурникова. Этот дневник был найден на дне реки Казыр через год после гибели экспедиции. Перемежая страницы дневника своим рассказом, Чивилихин создал талантливую повесть, где главное – героика подвига, выявление его истоков. Во имя чего совершается подвиг? Что движет человеком в его невероятно дерзостном походе, когда силы не только на исходе, их просто уже нет, но борьба продолжается. Сидя у костра, Александр, Костя и Алеша часто беседовали о жизни, о счастье, о книгах. Оставалось несколько дней до катастрофы, когда между геологами произошел такой разговор. – «Читал я Джека Лондона, – сказал натужным голосом Алеша, – запоем читал. Читал я его безотрывно, а вот сейчас думаю, а что было расписывать этого Беллью? Тоже мне герой, таскает по ровной дороге мешки, и не так уж тяжело… а расписано-то!» – За золотом лезли, – Кошурников сплюнул в сторону, – как будто счастье в нем. – Михалыч, а счастье, что это такое? – У каждого на этот вопрос свои слова, Алеша, – задумчиво произнес Кошурников, – Вот мой отец по-латыни отвечал «Per aspera ad astra».[3] Да, не ради своего личного благополучия, обогащения, а ради счастья людей на земле стоит жить и бороться. Так раскрывает источник подвига В. Чивилихин. И права писательница Галина Серебрякова, которая высоко оценила эту повесть: «В „Серебряных рельсах“ скупые отрывочные сведения о казырской трагедии подняты до обобщения образа, до художественного произведения о мужестве духа советского человека. Немало героических дел и поступков совершено нашими людьми за последние десятилетия, но нужен талант писателя, чтобы отдельные случаи или ряд событий превратились в книге в вечно живой памятник героям, в произведения, интересные миллионам читателей». Мысль о непрерывности человеческого деяния, подвига наполняет пафосом повести «Над уровнем моря» и «Пестрый камень». В послесловии к повести «Над уровнем моря» Чивилихин пишет: «История, заставившая меня написать повесть „Над уровнем моря“, произошла в Горном Алтае 7-17 июля 1964 года. Однако тождества ее героев с живыми участниками столь редкой и столь обыденной сибирской эпопеи нет – я воспользовался своим правом на домысел и отбор». Герои повести – люди разных профессий, разного общественного положения, разных возрастов. Но многих из них объединяет умение ощутить чужую беду как свою собственную, душевная щедрость и не всегда осознанное, но тем не менее углубленное понятие о долге. «Пестрый камень» – произведение о юношеской любви, чувстве, таком серьезном и трепетном, что и писать о нем можно только очень серьезно, с подлинной эмоциональной глубиной. Почему-то именно в книгах о молодых и для молодых авторы порой боятся быть щедрыми, боятся высоких слов. Авторская робость порождает ту же болезнь и у героев произведений, иногда осложняясь еще боязнью и высоких поступков в отношениях с любимым человеком. Нередко авторский произвол заставляет таких героев быть намного скуднее в отношениях к любимой или к любимому. Но, думается, не всегда причина только в авторском произволе. Такое бывает и в жизни, что неизмеримо обиднее. Трудная любовь у Валерия, трудно рассказать о ней писателю, знакомящему нас только с письмами. Сюжетная замкнутость и односторонность были бы неизбежны, если бы творческий опыт работы над книгой «Над уровнем моря», где рассказы двенадцати человек составляют двенадцать глав повести, не подготовил Чивилихина. Большая, очень нежная любовь Валерия к Наташе и ее дочери, не заслоняя от него мир, становится частью этого мира, поэтому и нет для него дилеммы: спуститься с гор к любимой женщине или принять трудное назначение – стать начальником метеорологической станции Чаар-Таш. Страницы, посвященные жизни на станции, где Валерий находит плохо работающий молодежный коллектив, – лучшие в повести по насыщенности материалом. Неожиданно он оказывается в совершенно новой роли воспитателя опустившихся вдали от людей ребят. И кто знает, что больше всего повлияло на них? Возможно, как раз полное романтической верности чувство Валерия к Наташе. Ребята могли почувствовать свою духовную обедненность рядом с душевно щедрым человеком. К сожалению, мы ни разу не встретились в повести с Наташей, а письма создают только отрывочное и свидетельствующее далеко не в ее пользу впечатление. Этого ли хотел автор? Неясно. Характер Наташи не «прописан» так ярко, как другие характеры «Пестрого камня». Десятиклассники, студенты, военнослужащие пишут о том что жизнь Валерия – главного героя повести – стала для них примером. Приведу отрывок из письма военнослужащего Вячеслава Марова: «В Валерии я увидел человека, сильного, смелого, готового отстоять свои убеждения везде и всюду. Хочу быть похожим на него и постараюсь сделать это. Целые дни у меня из головы не выходит образ Валерки, может, я заболел им. Несколько раз перечитывал повесть». Анатолий Милованов пишет, что «повесть учит оставаться человеком в самых трудных моментах жизни». Должно быть, секрет такого миропонимания и умения «вооружить» им читателя дается писателю, твердо убежденному в необоримости человеческих стремлений и надежд, в гармонии чувств и долга. Литература наша, верная подобному убеждению, все чаще и смелее вторгается в сложные жизненные конфликты, ведя откровенный и ответственный разговор с читателем. Свидетельство тому и творчество Владимира Чивилихина, от которого читатель ждет новых талантливых книг. ПОВЕСТИ МОСКВА. «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 1972 Художник В. КАРАБУТ Примечания 1 – До сих пор мы не сделали этого… – Странное имя – Пиоттух! Почти – «петух». – Кончай трепаться! – Говорят, что он очень хороший человек… (эсперанто). 2 Кроме правды, вы ничего не услышите от меня. Прощайте, господа… Ваш «Петух» (эсперанто). 3 Через тернии – к звездам (лат). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
|||||||