 |
|
Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Лесков Николай Семёнович :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Лондон Джек :: Сименон Жорж Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Часы без пружины :: Конец материи :: Камероны :: Аквариумист :: Опасная любовь :: Никто не любит Крокодила :: Двадцать лет спустя :: Советский Союз в локальных войнах и конфликтах |
Десять прогулок по ВасильевскомуModernLib.Net / Документальная проза / Бузинов Виктор Михайлович / Десять прогулок по Васильевскому - Чтение (стр. 2)
Свою историю переулок, по-видимому, ведет с начала второго десятилетия XVIII века. Тогда рядом со строящимся каменным Меншиковским дворцом располагалась Французская слобода. Ее улочки пролегали на участке между нынешними Первой и Четверти линиями. Там, на месте Румянцевского сквера, с 1710-го примерно до 1730 года находился Меншиковский рынок, и тогда же появились здесь склады различных, доставляемых в Петербург по Неве, товаров и строительных материалов для нужд островитян.  Этого дома давно не существует. Как не существует и выглядывающего из-за ограды дерева, и плиточного тротуара, и булыжной мостовой, и старинных уличных фонарей… А ведь это — Соловьевский переулок, нынешняя улица Репина перед ее выходом к Большому проспекту, по которому этот дом и числился за №1. Именно здесь, в левом крыле жилого комплекса, принадлежавшего лютеранской церкви Святой Екатерины, размещалась «Евангелистическая школа женского рукоделия», о чем, собственно, и сообщает хорошо различимая на снимке вывеска. Дом был построен в 1859 году по проекту В.Я. Лангвагена, а во время блокады его уничтожила немецкая бомба. Теперь здесь стоит дом, возведенный в 1946 году пленными немцами. Совсем не похожий на своего предшественника, он, тем не менее, перенял от него три полукруглых, доходящих до третьего этажа, входных арки. (Большой пр., д. №1. 1912-1914 гг. Фотограф К. Булла) Со складов, как, впрочем, и с рынка вглубь полуобжитой части острова вела дорога. Может быть, много дорог, но я говорю об одной. Это была поначалу тропа, а потом — дорога. И проходила она до уже прорубленной Большой Першпективы, а затем и до Средней. Но где проходила? Скорей всего по высокому месту — Пескам, как было принято говорить тогда. Болот и топей кругом предостаточно, а вот песчаную гриву отыщешь не сразу. Но отыскали. Набили тропу. И в память об этом, когда дорога уже стала маленькой улочкой, дали ей название «Песчаный переулок». Именно так называлась нынешняя улица Репина в 1792 году. Переулок шел действительно по гриве и потому сохранял с вариантами — «Песошный», «Песочный» — свое название до 5 марта 1871 года, когда в связи с заслугами перед городом золотопромышленника Соловьева был переименован в Соловьевский. Я, конечно, высказываю лишь свою версию о происхождении первого названия и истинном возрасте переулка… Как ее доказать? Ну, прежде всего, почтенный возраст переулка косвенно подтверждает в сказке «Черная курица или подземные жители» писатель Антоний Погорельский. Помните, герой сказки — Алеша — живет в пансионе, который лет за сорок до того, как была написана книга, находился «на Васильевском острову, в Первой линии». «Дому этому, — пишет Погорельский, — принадлежал довольно просторный двор, отделенный от переулка забором… Ворота и калитка, кои вели в переулок, были всегда заперты и поэтому Алеше никогда не удавалось побывать в переулке, который постоянно возбуждал в нем любопытство». Понятно, что речь здесь идет о нынешней улице Репина, а до того еще — Соловьевском, Песочном, Песошном, Песщаном[02] переулке. Если учесть, что книга написана в 1829 году, а сказочные события происходят в ней, как сказано у Погорельского, «лет сорок назад», названия своего переулок еще тогда не имел. Или имел какое-то название, о котором петербургская топонимика сведениями не располагает. Я-то думаю, что он и был Песщаный. Только название это ходило, до поры до времени, в народе… Удивительно, но и по сей день оставила о себе память древняя песчаная грива. На подходе к площади Шевченко в переулке — это при абсолютно плоских Первой и Второй линиях— заметен ощутимый уклон в сторону Невы. Я помню его еще с детства, когда бегал здесь взапуски от Большого к Соловьевскому саду. Ну, а всех сомневающихся в наличии уклона — прошу проверить. Есть и еще одно доказательство, касающееся возраста переулка. Дело в том, что все дома в начале Первой линии — 6,8,10,12 — наиболее почтенные ее старожилы. Они строились первоначально в 20 — 30-х годах XVIII века. Во всяком случае, весь этот участок от Большой Невы до Большой Першпективы был уже тогда занят домами по проекту «для именитых». Они, конечно, достраивались, перестраивались, меняли облик. Но… при этом кое-где сохранили по сей день, кроме парадного входа с линии, некие «поддомья» — узкие тоннели под зданиями, напоминающие о своем возрасте сгорбатившимся плиточным полом и выгнувшимися от тяжести лет стенами. Куда вели эти тоннели? Вели во двор, в который можно было заехать только с переулка. Кстати, он и значится здесь, правда, еще без имени, на топографическом плане города, составленном капитан-поручиком от бомбардир, геодезистом Иоганном фон Зигхеймом в 1737 году. Вообще говоря, таких переулков могло бы быть на Васильевском множество, превратись остров в маленький Амстердам. Это — память о подсобной роли, которую должны были выполнять некоторые из его улиц. Если бы, повторяю, осуществился план прокладки каналов вдоль каждой третьей из улиц-линий. Но план осуществлен не был и надобность в специальных подъездах к задворкам сама по себе отпала. Многое из сказанного мною, конечно, лишь догадки. Но факт остается фактом: Соловьевский (ул. Репина) — одна из старейших улочек Васильевского, рудимент, остаточное излучение великого плана Трезини. Чего только не испытал на своей спине за два с половиной века существования этот переулок. Помнит он и тяжкую поступь коней, запряженных в телеги с дровами, камнем, кирпичом, сеном; грохот карет; и затем, уже в XX веке, — надрывное гудение автомобильных моторов. До сих пор сохраняет эта улочка свой особый колорит. Правда, сегодня ее булыжник, — а он был здесь еще в 50-е годы XX века, — сменила брусчатка. Узкие плиточные ленточки истертых, изъеденных дождями тротуаров уступили место асфальту. Но вглядитесь: вот они могучие въездные арки, и эти приземистые каменные стены, пришедшие на смену дощатым заборам, и простенькие, но не похожие ни на какие другие двухэтажные и даже — здесь, в центре Петербурга, — одноэтажные постройки непонятного назначения, которые смотрят на нас подслеповатыми глазами выходцев из давно минувших времен. У въездных арок сохранились кое-где тумбы различной формы для привязи лошадей: и гранитные, замшелые, почти ушедшие в землю, и — чугунные, по большей части уже расколотые и жалобно напоминающие о своей былой, многотрудной службе. В двух-трех местах сохранились и деревянные ворота. Год рождения не определишь, но век девятнадцатый: дубовая доска, кованые петли, скобы… Теперь, после того как минувшая война, а следом за ней и безнадзорное ветшание истребили часть старых, выходивших на Соловьевский флигелей, глазам прохожих открылись спрятанные за ними дворы, со всеми своими подсобками, каменными конюшнями, каретными сараями. Надо сказать, что самому переулку, своеобразному его обличию во вред это не пошло. На месте порушенного поднялись за эти годы деревья, декоративный кустарник. Возникло ощущение простора. Дома как бы раздвинулись, уступая место зелени, солнцу и небу!.. Правда всему этому, как я недавно прочитал в газете, возможно вскоре придет конец. В лакунах переулка предполагается строительство шестиэтажных домов, которое конечно же полностью изменит облик заповедного Соловьевского. Не хотел бы я дожить до времени, когда это произойдет… Особым украшением вот уже второй век переулку служит обелиск «Румянцова — победам» в Румянцевском сквере или Соловьевском саду, как мы его обычно называли. Когда обелиск переносили с Марсова поля на плац перед Кадетским корпусом, — а было это в 1819 году, — переулок уже давно существовал. И тогда же было особо выделено это более чем скромное существование затемненной узости между домами. Постамент с бронзовым орлом на вершине гранитной стелы установили строго по оси переулка. И оказалось, что у переулка есть еще одна служебная функция. В данном случае — весьма почетная: подобно лучу, высвечивать для всеобщего обозрения чуть ли не за километр, от самого Среднего проспекта, вершину увенчанного орлом постамента… Вас никогда не занимал вопрос: а почему, собственно, переулок прерывается у Среднего? Ведь логичнее было, если бы он пересекал остров параллельно Первой линии до самой Малой Невы. Во всяком случае, так и обозначен его путь — правда, не до самой Малой Невы — на плане Зигхейма, но на более поздних картах, в том числе и на плане Шуберта, Соловьевский уже не переступает Среднего проспекта. Сегодня его былой путь к Малой Неве запирает нарядный шестиэтажный дом начала XX века. Этот дом №9 по Среднему, построенный на месте уже существовавшего дома, находился в собственности, как доходный, у историка архитектуры, человека хорошо известного в художественной среде Петербурга, Ивана Петровича Володихина. Судя по справочнику «Весь Петербург» за 1910 год, он сам жил в этом доме и, смею предположить, что окна его квартиры выходили как раз в створ Соловьевского, с прекрасным видом на парящего в отдалении над садом бронзового орла. Вообще, с крыши и верхних этажей этого дома получаются лучшие фотоснимки переулка. Снятая чуть сверху, длинная, хранящая местами полумрак траншея между зданиями впечатляет своей почти гофмановской таинственностью. Художники тоже любят изображать переулок в ракурсах, при которых на заднем плане — обязательная вершина обелиска с орлом. По-моему, лучший графический образ Соловьевского удался В. Сахенбергу, иллюстрировавшему книгу Вадима Шефнера «Сестра печали». На его гравюре, предваряющей книгу, переулок — сонный, полупустынный, с отчетливыми приметами своей старины, как бы хранит в себе ощущение чего-то трагического, что неизбежно должно произойти. Герои книги Шефнера — юноша и девушка — приходят в этот переулок, который они между собой называют «Кошкиным»: «Мы свернули в безлюдный, тихий и мрачноватый Соловьевский. Панели там были совсем узенькие. Мы шли по мостовой, направляясь к Румянцевскому обелиску, маячившему вдали. Леле неловко было ступать в своих городских туфельках по крупным, выпуклым булыжникам, и она, то теснее прижималась ко мне, то словно отшатывалась…» Над героями «Сестры печали» уже нависла тень близкой войны. Вскоре она жестоко переломит через колено их жизни. А переулку в зиму 1941 — 1942-го суждено было стать моргом под открытым небом. Сюда привозили на санках, фанерах умерших с голоду людей со всех окрестных улиц. Делали это — реже родственники, чаще — просто соседи покойных по коммуналкам.   Соловьевский переулок. Вид в сторону Среднего проспекта (вверху) и в сторону Соловьевского сада. 2002 г. Да простят мертвые живым. Всю зиму трупы, завернутые в простыни, одеяла или безо всяких самодельных саванов лежали здесь вповалку под слоями снега… Мать рассказывала мне, что как-то на исходе ночи, в январе 1942-го, опаздывая на завод (она работала в радиоузле на Балтийском заводе), решила сократить дорогу, выйти из нашего дома на Средний проспект через Соловьевский. Ворота были затворены, и она не могла открыть их, а когда налегла всем телом, чуть приоткрыла, то увидела мертвого старика. Он лежал, упираясь ногами в ворота, и луна освещала его лицо с белыми ледяными глазами… Сюда под луну на Соловьевский попал, наверняка, и кто-то из родственников Тани Савичевой. Савичевы жили в доме №6/13 на углу Второй линии и Большого проспекта. В доме, который своим задним двором выходил в Соловьевский… С этим переулком связаны у меня и воспоминания о Дне Победы. Наверное, я помню этот день буквально по часам, с той утренней минуты, когда соседка, тетя Маруся вдруг заголосила на всю квартиру: «Лика..! Победа!» Потом мы, мальчишки с нескольких окрестных домов, собрались на Соловьевском. Здесь впритык друг к другу выстроились «Студебеккеры». В одних, под накрытыми брезентом кузовах, сидели солдаты, в других, может быть в одном или двух, были снаряды. Видимо, снаряды везли для фейерверка, который вечером должен был осветить город, в том числе и со Стрелки Васильевского. Те, кому положено было наблюдать за их сохранностью, отошли на минутку перекурить, и этой минуты было достаточно, чтобы еще десятью минутами позже мы извлекали из развинченного снаряда, — а такие «специалисты» среди нас были — «макаронный порох» — мечту каждого, кто хоть чуть-чуть в свои 12-13 лет соображал по части использования военного арсенала в увеселительных целях. Подожженные и прижатые затем ногой «макароны», подобно маленьким ракетам, с шипением носились по подворотням. А когда их запас иссяк, мы отправились в «Гвоздильщик», магазин на Первой линии, и ухитрились разжиться там бутылкой «Спотыкача». Мы притащили ее в Соловьевский сад и тогда я сделал первый и — увы, увы! — не последний в своей жизни глоток вина. А потом мы пошли на Дворцовую и слонялись там в ожидании гуляния возле Александровской колонны; и выехавший из улицы Халтурина грузовик сбил моего соседа по дому Вальку «Тытынча». Он даже проехал по нему передними колесами. И Валька умер на наших глазах. Валька умер, а мне по жребию выпало пойти к его матери и сообщить обо всем, что случилось. Я не пошел. Кишка оказалась тонка. Пошел Тимофей Михайлович, которому я, маясь возле Валькиной парадной, рассказал, что произошло. Тимофей Михайлович или, как звали его, Тимоша, был одной из достопримечательностей переулка. Подвыпив, он любил петь и делал это исключительно прилюдно в Соловьевском. Он утверждал, что стены здесь по-особому резонируют на его голос. И что он — акустик по флотской специальности — якобы особо это слышит и чувствует. Мы, следуя его советам, пробовали проверять на резонанс некоторые точки переулка. И он, действительно, звучал в них по-особому, как инструмент, — то низко, бархатисто, стеля звук над булыжником, то высоко задирая его над каменными сараями. Теперь Соловьевский давно утратил эту свою музыкальность. Я уже говорил, что лишившись многих строений и набрав в легкие воздуха, он несколько изменил фактуру. Достопримечательностью переулка был и некто Карнаков, в довоенном прошлом обладавший редкой профессией «чучельных дел мастера». Говорили, что благодаря шкурам чучел, — а точнее бульону, который получался после того, как он их вываривал, — он и выжил в блокаду! Выжил, но… «поехал умом». Он и вообще-то походил лицом и своим страдальчески-безумным взглядом на персонаж, впоследствии ставшей плакатом фотографии: помните, человек с кусочком хлеба в руке. Кроме безумного взгляда, Карнаков имел и язык, который нес черт-те что. Он говорил, что блокадник такой-то, проживающий в таком-то доме, квартире такой-то, съел всех умерших от голода своих соседей. Его сторонились; боялись, как нечистой силы. Но он останавливал людей и говорил, говорил, обставляя свои рассказы множеством чудовищных подробностей. В начале 50-х его насмерть забил «Женя-Строитель», услышав однажды, что его отец якобы был самым, что ни на есть, натуральным каннибалом. Еще одной достопримечательностью переулка являлась вдова настоятеля храма Святой Екатерины по Кадетской линии. Я родился в доме, который принадлежал этому храму. Более того — в комнате, которая была когда-то домашней церковью. Муж попадьи ушел в мир иной по воле безбожников-большевиков. Сын нее предвоенные годы сидел в тюрьме. Но она осталась попадьей. Чудно, но, как я понимаю теперь, с особым смыслом одетая — в черное платье с черной кружевной накидкой. Встретив знакомого ей человека, она говорила всегда одно и то же: «Да минует нас…» А еще, пугая и вызывая недоумение, накладывала кресты на встречных детей. К сожалению, дети эти так никогда и не стали добропорядочными христианами. Но зато странным образом рано воссияло в них нечто похожее на классовое чувство. В 1965 году в журнале «Искорка» я написал об этом обнаруженном мною феномене небольшой очерк «Съемки в Соловьевском переулке». Суть его состояла в том, что во время съемок кинофильма про достопамятный 1905 год — не помню уже, как назывался фильм — по Соловьевскому, разгоняя нагайками революционный народ, должны были промчаться конные казаки. Так вот, эпизод этот, на потеху местной шантрапе, снимался бесчисленное количество раз. Как только казаки влетали в переулок, на их головы из-за заборов, с крыш сараев, из подворотен начинало сыпаться все, что можно было превратить в оружие пролетариата. Лошади шарахались, вставали на дыбы, статисты в казачьей форме нещадно матерились. Все это приводило в бешенство режиссера. Фильм-то был исторический… И эпизод с казаками в нем, видимо, имел особый, трагический смысл. На пяти машинописных страницах я довольно ловко изложил эту историю, придав ей в конце, правда, с помощью редактора, совершенно неожиданный поворот: дескать, это кровь дедов заговорила в пацанах с Соловьевского переулка «яростным всплеском симпатий и неприязни». Ведь так и написал, паршивец, «яростным всплеском». Впрочем, чего только не выходило из-под моего пера за долгую журналистскую жизнь. На самом деле, подрастающие детки Соловьевского, конечно же, ни про какое классовое чувство понятия не имели. А были лишь нацелены, — как и во все времена, — на коллективное безобразие. Хотя, если уж вспоминать времена ушедшие, бывало, вскипали в переулке действительно нешуточные страсти. Я помню постоянные драки с поножовщиной в 50-е годы, грабежи послевоенных лет. Пухлое криминальное досье заведено на Соловьевский еще с 20-х годов. Судя по газетным сообщениям, были здесь даже свои «Джеки-потрошители». После войны на моих глазах подрастал новый преступный мир переулка. В ряды уголовников подталкивали полуголодная жизнь, безотцовщина и то особое равнодушие к смерти и страданиям, которым наделила ленинградских подростков блокада. Из полутора десятков моих ровесников, живших в Соловьевском и на соседних линиях, семилетку со мной закончили 2-3 человека. Кто-то поступил в ремесленное, кто-то болтался без дела, но были и те, кто уже вышел на «кривую дорожку». Они гремели какое-то время у себя во дворах и кварталах, а затем исчезали надолго, оставляя в память о себе лишь свои клички: «Колян», «Бибигон», «Шиманоза»… Большинства из них, конечно же, давно нет в живых. Все-таки полвека с лишним прошло… Но вот еще в начале 90-х мне звонил на радио мой бывший одноклассник, известный в своей среде «вор в законе». Назовем его Андриан. Он сказал, что звонит из тюремной больницы, сказал, что слышит иногда мои передачи, поинтересовался «жива ли мама?», спросил, рисую ли я, не забыл ли, как мы вместе ходили в изостудию на Девятой линии. И стал прощаться. Сказал, что больше уже не позвонит… Так ведь и не звонил всю жизнь. И не виделись мы ни разу с ним за полвека... Зачем я вспоминаю все это? Зачем тревожу мрачноватые тени переулка? Не знаю… Наверное, мне хочется рассказать о Соловьевском то, что не говорил еще никто. Может быть, это моя обязанность, мой должок перед ним! Ну, а славен переулок не только как одна из старейших улочек Васильевского, не только своими сохранившимися неповторимыми приметами XVIII и XIX веков, но и персонами, жившими здесь когда-то. В отличие от несчастных персонажей, упомянутых мною, то были действительно знаменитые персоны. Баснописец Крылов, архитектор Стасов, скульптор Козловский, археолог Шлиман, филолог Шишмарев, картограф Шуберт — все они хаживали не раз этой узкой, затененной дорогой. Прошлись по ней и мы… По Кадетской и Первой линиям Прогулка вторая в которой автор приглашает читателя пройтись с ним по границе бывшей усадьбы Меншикова, заглянуть в «кадетские, сады», узнать, что за дворцом светлейшего князя простирается таинственная «терра инкогнита», и вспомнить тех, кто строил дома на этих двух парадных линиях острова. Мы идем по правому берегу старинного, давным-давно засыпанного канала. Теперь берег этот называется Съездовской, бывшей Кадетской линией. Левый берег — линия Первая. В принципе, не так важно, когда берега эти получили свои названия. Официально Кадетской линией правый берег стал называться лишь в 1737 году, в то время, как левый уже давно значился, как Первая линия, и был застроен до Большой Першпективы каменными домами. Вообще-то, дай правому берегу название раньше, и он мог вполне называться Княжей или Меншиковой линией. Но в 1729 году светлейший князь Меншиков умер в изгнании и дворец его — первая каменная постройка на Васильевском — был отдан указом Анны Иоанновны Кадетскому корпусу. Отсюда и Кадетская линия. Я буду называть ее так — Кадетская. Хотя она пока что сохраняет название Съездовская, данное ей в 1918-м, в первую годовщину Октябрьской революции. Дело в том, что в июне 1917 года в Кадетском корпусе проходил I съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов и это событие с участием В.И. Ленина дало повод лишить улицу ее исторического названия. Хотя судьбы, если не рабочих, то уж во всяком случае, крестьян в одном из зданий, принадлежавших корпусу (это — Съездовская, 3), пытались решать и раньше. Здесь на особых заседаниях в конце 1850 года вырабатывался текст Манифеста, освободившего крестьян от крепостного права. Событие это было запечатлено на мемориальной доске, которая находилась на здании еще в 1920-х годах, о чем и вспоминает поэт Вадим Шефнер. Это к тому, что линию можно было бы назвать и Александровской в память о царе-освободителе… Впрочем, в конце концов, дело не в названии. Видимо, набитая дорожка была здесь еще задолго до прорытия канала. Шла она по границе огромной усадьбы Александра Даниловича, простиравшейся на 12 гектарах от Большой до Малой Невы. Усадьбу эту стали разбивать еще в 1704 году, вместе с началом строительства Меншиковым первого своего, тогда еще деревянного дворца, получившего название Посольский. Я не буду останавливаться на его истории, как и на истории каменных Меншиковых палат. Об этом написано много, даже слишком много. Но вот об истории территорий, которые лежали за княжьими палатами к северу от Невы, хотелось бы сказать чуть подробнее. Известно, что там некогда простирался роскошный сад Меншикова. Своими рощами, лабиринтами, крытыми аллеями, прудами, фонтанами он мог на равных соперничать с царским Летним садом. Сад постоянно расширялся и, что называется, хорошел на глазах, чему способствовал огромный штат садовников. Особой гордостью светлейшего были цветники, разбитые по обе стороны канальца, ведущего к Посольскому дворцу. Но не менее впечатляла и аллея, тянувшаяся вглубь острова мимо ухоженных лужаек, подстриженных на голландско-французский манер деревьев, фонтанов и статуй, которые Александр Данилович приобретал для своего сада за огромные деньги в Италии. За садом был огород с ягодниками, теплицами, оранжереями, в которых, по оставшимся свидетельствам иностранных гостей светлейшего князя, вызревали даже ананасы! Собственно, вдоль этих бывших княжьих садов и огородов, и лежит наш путь по Кадетской. Следует заметить, что судьба бывшего Меншиковского сада в XVIII веке складывалась не очень-то счастливо. После того, как дворец и сад опального светлейшего князя отошли в государственную казну, они стали быстро утрачивать свой былой облик. 32 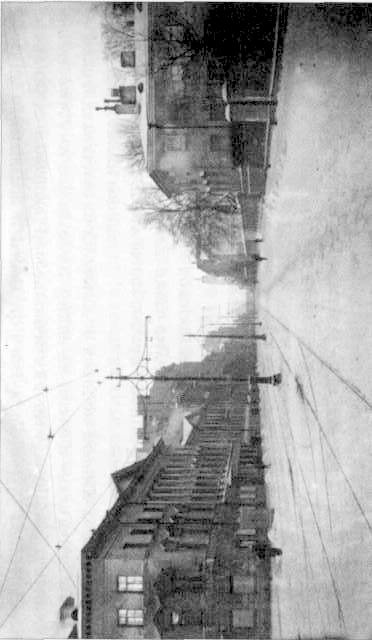 Зима 1926 года… Что, собственно, изменилось на Первой и Съездовской (Кадетской) линиях с той поры? Да в общем-то ничего… Разве что исчезли трамвайные столбы, сняты рельсы, поворачивающие на Большой, снесена железная ограда у сада при доме №3 по Съездовской, да и сам маленький сад этот перестал существовать. Кстати, о деревьях. Старожилы Васильевского помнят добрый десяток гигантских тополей вдоль домов по Первой линии. Они были здесь и до войны, и долгие годы после войны. Тополя растут быстро. Но тогда, в 1926-м они были совсем юными. На снимке их силуэты можно различить через сильную лупу у домов №26, №28 и №32. Потом деревья станут большими, очень большими. И умрут одно за другим уже в 60-70-е годы. Время неумолимо… (Первая линия. Перспектива. 1926 г. Фотограф Андреевский.) Н.В. Калязина в своей книге «Меншиковский дворец-музей» приводит данные о том, что по распоряжению Елизаветы Петровны, для быстрейшего устройства огромного парка возле третьего Летнего дворца, стоявшего на месте Инженерного замка, было велено взять из сада Кадетского корпуса 250 лип высотой более 2,5 метра. Можно предположить, что и созданный в 1736 году тут же неподалеку, в Первой линии, Ботанический сад Академии наук не преминул воспользоваться кое-какими растениями из коллекции «светлейшего». К тому времени Меншиковский сад сохранял свои размеры. На аксонометрическом плане Петербурга, который составил французский архитектор и топограф Сент-Илер в 1767 году, хорошо различимы огромные, рассеченные аллеями на прямоугольники, занимаемые им территории. Видна на плане и «катальная горка» — развлекательное сооружение, о котором почему-то редко упоминают историки города. Но уже по-другому выглядел сад к концу XVIII века. Он утратил половину ранее отведенного ему пространства, «потеснился», освободив место плацу, на котором маршировали кадеты. Кстати, отсюда, с корпусного плаца, в 1804 году стартовал первый в России воздушный шар для проведения научных экспериментов, а в 1897 году здесь был проведен первый футбольный матч, от которого ведет историю российский футбол. Вообще-то футболом в России стали увлекаться раньше. Но этот матч между состоявшей из русских командой «Санкт-Петербургского кружка любителей спорта» и командой англичан, представлявшей «Василеостровский кружок футболистов», был первым из замеченных прессой. Англичане победили 6:0 — о чем и писали газеты в конце октября 1897 года… Кстати, футбольное поле сохранилось. Только было оно в XIX веке гаревым… Однако и в XIX веке «кадетские сады», как их тогда называли, продолжали привлекать островитян. По воскресным дням сюда был разрешен доступ «чистой публике». В глубине сада, в павильоне у прудов, устраивались танцы, играл военный оркестр… А сами пруды эти использовались знаменитым русским физиком Эмилием Ленцем для опытов по изучению распределения температуры воды. Свою жизнь сад завершил в 20-е годы XX века. Тогда были вырублены на дрова его последние деревья. Тополя, которые выглядывают сегодня из-за каменной ограды в самом торце кажущегося монотонно-бесконечным здания Кадетского корпуса, появились здесь после войны. И нет уже ни живых примет, ни свидетелей прошлой жизни корпуса. Разве что вкус настойки «Ерофеич», изобретенной корпусным лекарем В. Е. Вороновым — он жил где-то рядом на Первой линии — еще памятен в народе. Осталась и ограда прежнего сада. Но не самая старая. Первая была установлена здесь еще в 1781 году и имела назначение, отделив сад от улицы, создавать кадетам условия для их утреннего и вечернего моциона. Ограда эта со временем получила у василеостровцев прозвание «говорящая стена». Вот что пишет о ней в своих недавно увидевших свет воспоминаниях живший по соседству знаменитый топограф Федор Шуберт: «Граф Ангальт, прежний директор Кадетского корпуса, самолично распорядился расписать всю стену сплошь картинками, рядом с которыми размещались соответствующие каждой нравоучительные изречения или правила поведения. Так как он сам был автором всех этих надписей, но был не слишком умен, то попадалось среди них многое, что давало поводы для смеха». Но смеялись здесь, под сенью кадетских садов, и по другим поводам. Например, когда читал однокашникам строки своей «Куклиады» кадет Кондратий Рылеев, или, лет за семьдесят до него, практиковался в язвительных сатирах будущий известный драматург, кадет Александр Сумароков. Кстати, сад этот всегда был для кадетов, как, скажем, сады Царского села для лицеистов, «Приютом муз и вдохновенья». Многие из них становились в будущем известными литераторами, поэтами и, о чем следует сказать особо, — актерами. Да, здесь в стенах шляхетского сухопутного кадетского корпуса складывался первый профессиональный русский театр. Конечно, во многом способствовала этому сама личность Александра Сумарокова. Он писал не только оды и сатиры, но и пьесы, которые разыгрывались тут же в холодных спальнях корпуса Сашиными друзьями, поклонниками его таланта. В 1749 году, когда закончивший корпус Сумароков стал уже известным поэтом и драматургом, здесь была поставлена его по тем временам знаменитая трагедия «Хорев». Александра Петровича пригласили в корпус посмотреть спектакль, и автор был изумлен вдохновенной игрой любительской кадетской группы. Слухи о юных дарованиях с помощью того же Сумарокова быстро дошли до Елизаветы Петровны, которая пригласила кадетов сыграть «Хорева» во дворце. Пикантность же этой истории придает то обстоятельство, что все женские роли в спектакле, естественно, исполнялись юношами, и Елизавета, участвуя в подготовке спектакля, сама перед выходом на сцену румянила «дамам» щеки и вдевала в уши серьги с бриллиантами. Здесь же закрутилась интрига вокруг красавца Никиты Бекетова, быстро вошедшего в фавор к Елизавете. Чтобы расправиться с юношей, претендовавшим на место Шуваловых, был пущен слух о причастности Никиты к «садомскому греху…». Для поддержки кадетской самодеятельности из Ярославля в Петербург была вызвана группа актеров во главе с Федором Волковым, которая и сыграла на придворной сцене все написанные Сумароковым трагедии, а затем поселилась в корпусе, чтобы учиться и «учить». От кадет они отличались лишь формой одежды Особой прилежностью к наукам выделялся Федор Волков. Кроме наук, которые преподавали кадетам, а также искусства декламации, Волков самостоятельно упражнялся в рисовании и музыке, и траты имел, — как пишет биограф Волкова А. А. Ярцев, — на покупку «нужных ему театральных книг». При этом закладывал за неимением денег «епанчу на лисьем меху и плащ суконный красный» в самые холодные зимние месяцы. В 1756 году последовал Указ правительствующему сенату об учреждении российского театра: «Актеров набрать из обучающихся в кадетском корпусе певчих и ярославцев, к ним прибавить других не служащих людей и актрис». Вот так неожиданно — и это воинское сооружение Джузеппе Трезини, эта каменная ограда старого сада, эти места, где учился Сумароков и преподавали Херасков и Княжнин, — могут напомнить нам историю создания профессионального российского театра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
|||||||