 |
|
Популярные авторы:: Раззаков Федор :: Чехов Антон Павлович :: Азимов Айзек :: Толстой Лев Николаевич :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Горький Максим :: Сименон Жорж :: Андреев Леонид Николаевич :: Желязны Роджер Популярные книги:: Русь (Часть 2) :: Ожерелье Иомалы :: Истина — страна без дорог (Заявление Дж. Кришнамурти о роспуске Ордена Звезды) :: Огненная река :: Магия луны (Том 1) :: Черный ворон :: Ночной орёл :: Справочник по русскому языку. Пунктуация :: Дарю тебе сердце :: Дюна (Книги 1-3) |
Дорога уходит в даль (№3) - ВеснаModernLib.Net / Детская проза / Бруштейн Александра Яковлевна / Весна - Чтение (стр. 5)
— Ну, и что же ты думаешь обо всем этом? — продолжает Иван Константинович все тем же странно-деревянным голосом. Совершенно неожиданно Тамара плачет. И как плачет! Слезы бегут по ее лицу дождиком. Она всхлипывает, даже попискивает, жалобно, как малый ребенок. — Дедушка, миленький, дорогой! Вы же знаете, дедушка, как я… как я вас люблю! Ну просто очень, очень, очень… Дедушка, вы мой самый дорогой!.. До этой минуты я, признаюсь, сидела в страхе. А вдруг, думала я, Тамара обрадуется предложению тетки? Ведь графский дом. Смольный институт. Блестящее общество. Графиня Уварова. Дача в Павловске. Поедем за границу! Все это — я же знаю — Тамара обожает, считает высшим счастьем жизни… Я боялась, что Тамара кинется, как голодная, на эти приманки и уедет от Ивана Константиновича. Мне самой было бы не так уж грустно расстаться с Тамарой — хоть на всю жизнь! Но просто невыносимо думать, что Тамара может забыть, как Иван Константинович привез к себе ее и Леню, незнакомых детей, как любил их! Но этот страх оказался напрасным: Тамара любит Ивана Константиновича, она его ни на кого не променяет! Тамара все плачет: «Дедушка, дорогой мой!» Она прижимается к нему, словно боится, как бы он не послушался этой тетки и не отправил их — Тамару и Леню — в Питер! А Иван Константинович — ох, и недогадливый! — не понимает этого. Обнимая Тамару, гладя ее растрепавшиеся волосы, он вдруг берет ее за подбородок, поднимает к себе ее лицо и, глядя прямо в красивые плачущие глаза, спрашивает тихо и печально: — Значит, уедешь? Да? Ну какой непонятливый! Разве он не видит, как она плачет, как она обнимает его: «Дедушка, дорогой! Ужас, как я вас люблю!» Ведь совершенно ясно: она любит его, она не променяет его ни на какую тетку! Но тут Тамара начинает бормотать сквозь слезы что-то совсем неожиданное: — Дедушка, ведь она правду пишет. Конечно, в Петербурге и институт другой, и общество другое! И балы, дедушка!.. И потом, ведь я вправду скоро буду совсем большая, а за кого мне здесь выйти замуж? За Андрея-мороженщика? Вы же сами понимаете это, дедушка, правда? — Понимаю, птиченька, понимаю… — кивает Иван Константинович. — И вы не сердитесь на меня, дедушка, правда? — Не сержусь, птуша. — И горевать не будете, когда я уеду? — Постараюсь, птуша, постараюсь… — И Иван Константинович беспомощно озирается на нас. — Нет, вы мне обещайте, что не будете горевать! Иван Константинович, ссутулившись в своем кресле, как-то осунулся, словно постарел на глазах. А Тамара, быстро успокоившись, уже весело щебечет: — Я думаю, дедушка, надо ехать поскорее! Чтоб пожить нам с Леней летнее время на даче в Павловске. Но тут Леня вскакивает так порывисто, как взвивающаяся в воздух ракета. — «Нам с Леней»! Почему это такое «нам с Леней»? И почему никто не спрашивает у меня, чего я хочу? Иван Константинович резко поворачивается к Лене: — А разве ты… разве ты не хочешь уехать в Питер? — А почему мне этого хотеть? — почти кричит Леня. — Тетушка эта… Она к нам два раза приезжала… Она бабушку нашу не любила! Я сам слышал, она говорила, что дедушка бабушку «осчастливил»! Тетка эта за четыре года в первый раз о нас и вспомнила. И знаете отчего? Пусть Тамара вам расскажет. Тетка ей об этом написала. — Леня, — строго одергивает его Тамара, — перестань! — Не перестану! Тетка ей пишет: она там спиритизмом занимается, столы вертит. И вдруг явился дух нашего дедушки Хованского и сказал е, й: «Евдокия! Сестра! Спаси моих внуков!» Леня говорит замогильным голосом, и, как ни взволнованы все, я замечаю, что у папы шевелятся усы и дрожит подбородок: ему смешно. — И мне к этой тетке ехать? — кипятится Леня. — Нужно мне ее «привилегированное дворянское учебное заведение»! И балы мне нужны! "Ах, тетушка, выдайте меня замуж, пожалуйста! За кого мне здесь выйти замуж? За Юзефу? За бубличницу Хану?.." Никогда я Леню таким не видала. У него злые глаза, он зло кривляется. А папа-то мой, папа! Чем сильнее Леня «хамит», тем ласковее смотрит на него папа. Вдруг Леня обрывает сам себя на полуслове: — Конечно, дедушка… Если вы сами не хотите, чтобы я жил с вами. Ну, тогда… Иван Константинович охватил Леню за плечи, притянул к себе, смотрит на него сияющими глазами — Дурак! — говорит он нежно, любовно. — Я не хочу, чтобы ты жил у меня? Дур-р-рак!.. И тут, когда все взволнованы, растроганы, из дома отчетливо доносится голос попугая Сингапура, обрадовавшегося знакомому слову: — Ду-у-ур-рак! Дур-р-рак! Дур-р-рак! Это разряжает общую взволнованность. Сразу становится шумно. Все громко разговаривают. Папа, простившись, уезжает в госпиталь. Мама обсуждает с Тамарой предстоящие перед отъездом хлопоты. — Я думаю, Елена Семеновна, мне уже ничего не надо здесь ни шить, ни заказывать. Здешние вещи вряд ли пригодятся мне в столице… Я не свожу глаз с Ивана Константиновича и Лени. Они стоят, положив друг другу на плечи руки, и молча смотрят друг другу в глаза. Словно разговаривают… без слов. — Дедушка… — бормочет Леня. — Вы понимаете, дедушка?.. — Ш-ш-ш… — шепчет Иван Константинович, будто боится разбудить кого-то спящего. — Все я понимаю, все! А попугай в доме надсадно поет голосом Шарафута: Тирли-тирли-д-солдатирли, Али-брави-компаньон! Возвращаемся мы на дачу под вечер. Пахнет влажной вечерней травой, дымком шишек от дачных самоваров, цветами табака, гордо поднимающими головы во всех палисадниках. Высокий кленок, растущий у нашего балкона, задевает меня веткой-лапой, и лист, коснувшийся моей щеки, кажется таким родным, как прохладная щека друга. Глава пятая. ОТРЕЗАННЫЙ ЛОМОТЬ Сборы Тамары в дорогу, приготовления к отъезду ее в Петербург — «к тетушке Евдокии Дионисиевне!» — идут с молниеносной быстротой. Да и велики ли сборы? Она сразу заявила: не хочет ничего из белья и платья покупать или заказывать в нашем городе… Зачем, как говорится в «Евгении Онегине»: На суд взыскательному свету Представить милые черты Провинциальной простоты, И запоздалые наряды, И запоздалый склад речей?.. Единственное, что Тамара не прочь перевезти с собой в Петербург, — это трельяж красного дерева. «Знаете, тот, бабушкин, мы его сюда еще из дома привезли…» Но едва Taмapa заикнулась об этом, Иван Константинович спросил ее очень сесьезно: — Ты что же, птуша, окончательно порываешь с нами? Даже приезжать к нам сюда — хоть изредка — не намерена? Тамара смешалась, покраснела: — Нет, что вы, дедушка! Конечно, я соберусь юк-нибудь к вам в гости… — Ну, так не разоряй здесь своего гнезда! Пускай все так и стоит, как при тебе стояло. Когда бы ты к нам ни приехала — ты у себя, дома… Так трельяж и остался дожидаться того дня, когда Тамара «как-нибудь соберется» в гости к Ивану Константиновичу. — Не приедет сна! — гудит Варя Забелина своим густым голосом, низким, как жужжаниг майского жука (сколько беды Варе с этим голосищем! Все сиплвки в институте чуть не ежедневно напоминают ей, что «чбас — это не дамский голос»!). — Вот увидите, Тамара уезжает навсегда. — По-моему, тоже, — откликается Маня Фейгель. — Она сюда возвращаться не собирается. — И по-моему так, — повторяет за Маней ее «эхо», Катенька Кандаурова. — Тамара уезжает навовсе! — Ну, и пускай уезжает с богом! Подумаешь, без нее не проживем? Или будет нам без нее, как у Лермонтова: «И ску… и гру… и некому ру…»? (Это Лида изменяет лермонтовский стих: «И скучно, и грустно, и некому руку пожать в минуту душевной невзгоды!») Все мои подруги — Варя, Маня с Катей и Лида Карцева — собрались сегодня в гости ко мне, на дачу. Мы ушли далеко в лес, аукались, хохотали по всякому пустяку. Набрали много земляники, малины. Кузовка у нас с собой не было — забыли захватить из дому, — ну, мы нанизали ягоды на длинные, крепкие травинки. А когда переходили через ручей, осторожно переступая по каменному броду, и Катюша Кандаурова, сорвавшись с мокрых, осклизлых камней, попала обеими ногами в воду — тут уж нашему веселью, казалось, и конца не будет! Сейчас мы сидим на берегу реки, на золотом песочке. На ближней раките сохнут Катины мокрые чулки и туфли. Это Маня аккуратно развесила их, как заботливая «Катькина мама» (так мы поддразниваем Маню). Мы только что выкупались. Плавать никто из нас не умеет — от этого купанье еще веселее. Варина рубашка уплыла по реке, но Маня ловко подцепила рубашку длинной жердью и вытащила из воды. — Медаль за спасение утопающих! — кричит Лида Карцева. — Мане — медаль… — Манечка моя… — любовно тормошит ее Катя. — Спасительница! Избавительница! Покровительница! Ну, это надолго: Катюша обожает рифмы. Она может перебирать их часами — и так складно, что иногда диву даешься. А вот сложить из них стихотворение — этого Катя не может. Даже удивительно! Впрочем, папа не находит в этом ничего удивительного. Рифмы подбирать — это, говорит он, может всякий человек. А для того чтобы сложить стихотворение, надо, во-первых, хотеть что-то сказать людям, иметь, что сказать им, — да еще такое, что может получиться только в стихах. Этого у Катюши еще нет. Мы лежим на теплом прибрежном песке. Обсыхаем. Наслаждаемся еще не исчезнувшим ощущением чудесной свежести. Я смотрю в небо — там всегда есть что-нибудь интересное. Самое удивительное — это, что небо никогда не бывает неподвижным. Даже когда оно словно замерло, как нарисованное, стоит лишь всмотреться — и увидишь в нем непрерывное движение облаков. Порой это движение еле уловимо, его замечаешь только по неподвижным предметам на земле; во-о-он то облако стояло прежде над лесной кромкой, а сейчас оно передвинулось влево или вправо. А иногда облака спешат беспорядочной толпой, налезают друг на друга, как крестьянские телеги на мосту: «Эй, там, впереди! Что стали? Живей, живей!..» До чего хорошо жить! Мы слегка опьянели от лесных и речных запахов, от смеха, от душистых спелых ягод и речной прохлады. Да и приустали мы — далеко ходили. Лежим, лениво перебрасываемся словами. — Мне иногда кажется, — говорю я, — что Тамара уже да-аавно уехала. Она, конечно, еще здесь, но она уже никого из нас не замечает, даже не помнит. Бывает, она вдруг вскинет глаза — вот так! — с удивлением: «Ах, я все еще здесь? Ах, это все еще вы?» — Верно! — подтверждает и Лида. — Она вчера приходила к нам «с прощальным визитом». Сидели мы с ней друг против друга и молчали. Вот просто не о чем было нам разговаривать. Как незнакомые… А ведь четыре года учились вместе, даже вроде как дружили мы с ней. — А почему Тамара не приходила прощаться к нам с Маней? — удивляется Катенька Кандаурова. — И у нас с бабушкой не была! — говорит и Варя. — У нее список составлен, к кому «заехать с визитом». И визитные карточки для этого заказала: «Тамара Леонидовна Хованская», — объясняю я. — А визитные карточки к чему? — «Так принято в высшем свете»! — дурашливым голосом изрекает Лида. — Да, — поддерживаю я, — если Тамара кого не застанет — из тех, к кому приехала с визитом, — она оставляет визитную карточку. С припиской: «с п. в.» — значит «с прощальным визитом». — А к кому Тамара ходит прощаться? — интересуются все. — Ну, прежде всего, конечно, к девочкам из первого отделения нанято ллзсса. К «знатным и богатым»! Они ее когда-то крепко обидели. Помните, с:п, е в первом классе, когда они узнали, что она не княжна? Вот теперь она радуется: она может утереть им нос. Вы, мол, мной пренебрегли, а я вот оно куда взлетела! «Петербург, Смольный институт, моя тетушка графиня Уварова, собственная дача в Павловске. Ах, в августе поедем за границу!..» — кривляюсь я с самыми, как мне кажется, великосветскими интонациями и аристократическими жестами. — Ну хорошо, девочки из первого отделения ее обидели, они ею пренебрегли, — недоумевает Варя. — Так ведь мы-то ее не обижали. За что же она швыряется нами? — А вот за это самое! — спокойно объясняет Маня Фейгель. — За то, что мы, дуры, тогда пожалели ее, поддержали, приняли в свою компанию… Вперед будем умнее! — Знаете что? — выпаливает вдруг Катенька «вдохновенным» голосом (это означает: сейчас она скажет которые-нибудь из своих любимых стихов). — Тамара — «тучка золотая»… Вот та самая, что ночевала «на груди утеса-великана», и «на заре она умчалась рано, по лазури весело играя»!.. — «Тучка золотая»! — ворчит Варя. — Довольно даже противная тучка… Не тучка, а штучка! Опять все прежние барские фанаберии вспомнила… Визитные карточки! «С п.в.» — «с прощальным визитом»! Ну ее, и говорить о ней не хочу: противно! Этот разговор мы ведем уже по дороге домой, шагая по лесу. Идем мрачно — мы сердиты. Вспомнили Тамару — и стало нам в самом деле противно… Варя, конечно, права: Тамара снова — и с каким наслаждением! — вспомнила свои прежние аристократические замашки. Казалось, за четыре года она совершенно позабыла все это, жила среди нас, почти такая же простая, как все мы. Но нескольких писем «тетушки Евдокии Дионисиевны» оказалось достаточно, для того чтобы весь дворянский гонор воскрес в ней с новой силой. Сейчас у нее одна мечта: чтобы на вокзале ее провожало в Петербург «избранное общество»! Не мы — дочки обыкновенных, незнатных мам и пап! — а внучка городского головы Нюта Грудцова, дочки богатого фабриканта Рита и Зоя Шабановы и другие фон-бароны из первого отделения нашего класса. В последние дни она очень старается, готовит себе эти блестящие проводы. То и дело она звонит по телефону: — Квартира Грудцовых?.. Можно попросить Нюту… Ты, Нюта? Это я, Тамара Хованская… Нет, еще не уехала. Я уезжаю в пятницу. Поезд отходит в семь часов пятнадцать минут вечера… А разве ты собираешься провожать меня на вокзале? Ах, как это мило! Я страшно тронута. Так не забудь: в пятницу, в семь часов пятнадцать минут вечера! Нюточка, ты просто дуся, муся, пуся!.. Все муси, дуси, пуси жестоко обманули надежды Тамары на блестящие светские проводы — никто из них на вокзал не пришел! Никого вообще не было: Варя, Маня и Катюша не пришли, — обиделись на Тамарину невежливость, а Лида Карцева не пришла, обидевшись за подруг. Провожали Тамару Иван Константинович с Леней и Шарафутдиновым и мы с мамой. Нам совсем не хотелось оказывать Тамаре внимание, но мы не хотели огорчать Ивана Константиновича. Тамаре было досадно, что «избранное общество» не явилось на вокзал. Чуть не до последнего звонка она все высматривала: не идут ли они, не несут ли ей цветы? Но никто не пришел. В красивых глазах Тамары были досада и грусть. Перед последним звонком Тамара рассеянно чмокнула маму и меня, потом стала прощаться с Иваном Константиновичем и Леней — и вдруг заплакала. — Дедушка, миленький мой, золотой! Я скоро приеду, скоро, непременно… Ленечка, отчего ты не едешь со мной? Я буду так скучать без тебя!.. Поезд уходил. Иван Константинович все стоял, все смотрел, как с площадки вагона маленькая фигурка махала платочком. Так изящно… так грациозно! — Пойдем, дедушка! — И Леня ласково, настойчиво берет Ивана Константиновича под руку. Шарафут идет со мной. Вздыхает печально. Потом говорит, огорченно качая головой: — А с мине Тамарам Линидовнам ни прощался… С вокзала мы все идем к нам. Иван Константинович очень грустный… — Как хорошо прощалась с вами Тамара! — говорит мама. Ей хочется сказать приятное милому старику. — Так искренне плакала… «Скоро, говорит, приеду!» Иван Константинович очень долго не отвечает. Словно раздумывает над мамиными словами. Наконец он говорит со вздохом: — Нет, Елена Семеновна, голубенькая вы моя… Не приедет она больше, отрезано! Первое письмо Тамары приходит очень не скоро. Все мы из-за этого волнуемся. Даже папа, как бы поздно ни приехал на дачу, непременно справляется, получил ли Иван Константинович письмо от Тамары. И, услыхав неизменный ответ: «Нет, не получил», папа сердито бросает: — Ох, чертова девчонка, чертова девчонка! Мы с мамой приехали в город по разным делам. Сидим у нас на городской квартире за чаем. С нами дедушка и дядя Мирон Ефимович. Дядя этот — чудный человек, я его очень люблю, но ох какой он раздражительный! Что ему ни скажи, на все он непременно сердито фыркнет и ответит что-нибудь язвительное. Когда мне случается оказаться вместе с ним на улице, я уж, помня его характер, изо всех сил стараюсь не задавать дяде Мирону никаких «глупых вопросов». Но разве удержишься? — Миронушка, — спрашиваю я, — не знаешь, кто этот человек… Вон там идет — в серой шляпе? — А я что, обязан знать всех дураков в серых шляпах? — следует немедленное вулканическое извержение дяди Мирона. Я прикусываю язык — ведь знаю же я своего дядю! Надо же было дать ему повод взорваться! Вот теперь буду молчать и молчать… Но через минуту опять спрашиваю: — Миронушка, смотри, какая смешная идет. Раскрыла зонтик, а ведь ни дождя, ни солнца нет… Зачем это она? — Сейчас побегу за ней и спрошу! — огрызается дядя Мирон. Я иногда думаю: в чем разница между дядей Мироном и дедушкой? Сходство одно: оба бывают несносными, но по-разному. Дядя Мирон раздражается и желчно огрызается на глупые слова и глупые вопросы. Он — раздражительный добряк. Дедушка — поучающий добряк, не раздражается, но поучает и воспитывает всех, кто его об этом не просит. И делает он это с редким спокойствием и даже доброжелательством! — Ну, послушайте, — говорит он на улице незнакомому человеку, — зачем вы харкаете на тротуар? Ведь тут люди ходят — они о ваш харчок поскользнутся! Ведь маленький ребенок упадет — он прямо ручками попадет в это нахарканное… Надо же быть человеком, а не свиньей! Даже в драку — а дедушка это обожает! — он лезет без злобы и раздражения. Когда его задирает человек, не очень могучий с виду, дедушка добродушно предупреждает его: — Ой, не лезь! Ой, я тебя сильнее, я с тебя сделаю шнельклопс! Вот и сейчас… Папа пришел из госпиталя (через полчаса мы все поедем на дачу) и первым делом спросил, получил ли Иван Константинович письмо от Тамары. Дядя Мирон сразу «выходит из берегов»: — Есть о ком беспокоиться! О Тамаре! — Мы не о Тамаре тревожимся, — вступает в разговор мама, — а об Иване Константиновиче. Совсем извелся старик! Вот уже третья неделя пошла, как уехала Тамара, и даже телеграммы о ее благополучном приезде нет. Бессердечная девочка, бог с ней совсем! И тут дядя Мирон неожиданно спокойно дает совет: — А для чего телеграф изобретен? Пошлите ей телеграмму. Все обрадовались неожиданному выходу. Решают телеграфировать немедленно. Красивым круглым почерком мама начинает выводить: — «Петербург Гагаринская собственный дом графине Уваровой для Тамары Хованской»… Ну, адрес написала. Диктуйте дальше. — А что там раздумывать! — снова взрывается дядя Мирон. — Пиши так: "Дрянная девчонка! Стыдно! Уморишь деда! Телеграфируй немедленно. Напиши подробное письмо!" Вот и все… — Нет, — возражает мама, — «дрянная девчонка» — это слишком грубо и резко. — А я бы, — вступает в спор дедушка, — я бы написал не только «дрянная», но еще и «паршивая»! Человек должен быть человеком, а не свиньей! — Нет, — говорит папа, — надо написать спокойно, без выкриков. Напиши так: «Дедушка очень обеспокоен твоим молчанием»… Спор из-за текста телеграммы все разгорается. Мама хочет мягче. Мирон и дедушка — резче. Папа настаивает: телеграмма должна быть деловая, без истерики. Внезапно раздается телефонный звонок: звонит Леня. — Шашура, вы сегодня в городе?.. У нас новость: письмо от Тамары. — Ну что с ней? Как она? — Да ничего с ней! Никак она! — нетерпеливо отвечает Леня. — Живехонька-здоровехонька!.. Дедушка просит узнать: можно ли нам с ним сейчас прийти? Поговорить… Конечно, все кричат: — Да, да! Ждем! Пусть скорее приходят! Мама достает из буфета любимую Иваном Константиновичем «апекитную» чашку и ставит ее на стол. — Значит, «на вече»… — задумчиво говорит папа. — Что там в этом письме? — гадает мама. Дядя Мирон шумно встает из-за стола: — Ничего в этом письме нет! Сказал же Леня: «живехонька-здоровехонька»! Просто измучился старик за три недели, хочет посидеть с друзьями… Пойдем, папаша, не надо его стеснять. Приходят Иван Константинович с Леней. — Вот что, друзья мои… — начинает Иван Константинович, как всегда, когда он открывает «вече» и собирается произнести речь. Но тут же он замолкает. Растерянно обводит нас беспомощным взглядом своих добрых медвежьих глаз. Мама приходит ему на помощь: — Письмо получили, Иван Константинович? — Получил. Да. От Тамарочки… — отзывается он деревянным голосом. — Вот оно… И он достает из бокового кармана конверт — уже знакомого нам вида, — узкий, изящный, сиреневого цвета. Ох, была бы у меня такая почтовая бумага, я бы каждый день письма писала! Вот только одна беда: не только бумаги такой у меня нет, но и письма мне писать решительно некому. — Сашенька, — просит Иван Константинович, — ты Тамарочкин почерк знаешь? Прочитай вслух… Но тут вмешивается Леня. Он все время не спускал с Ивана Константиновича тревожного взгляда и теперь берет у него из рук сиреневый конверт: — Не Надо вслух, дедушка! Пусть каждый читает про себя… Мы так и делаем. Вот оно, письмо Тамары. К нему нужно еще добавить бесчисленные кляксы, ошибки, помарки, какие-то рисуночки, — тогда все будет во всей красе! "Дорогие дедушка и Леня! Как вы поживаете? Отчего вы мне не пишете, аи, аи, аи, как нехорошо, вы меня забыли, я плачу… (Здесь нарисована рожица, из глаз ее катятся небольшие блинчики и сбоку приписано: «это мои слезы».) Я живу чудненько! Просто сказать, роскошно! У тетушки дом в два этажа, четырнадцать комнат. И весь дом занимает одна тетушка! Вы такой квартиры, наверное, никогда и не видали, даже у Нютки Грудцовой такой нет. В моей комнате обои не бумажные, а стены обиты английской материей, называется "чини, ". Нютка лопнула бы от зависти, наверное, лопнула бы. Мы уже переехали в Павловск на дачу, каждый вечер ездим на музыку, там самое лучшее общество. Только, к сожалению, много всяких Дрейфусов! Но кто в платочке или без шляпки, тех даже не впускают в зал. Простонародье слушает музыку из-за мостика. А вчера днем я была просто счастливая, потому что в парке мимо меня проехали великий князь Константин Константинович с сыновьями, и они привстали в стременах, и они отдали мне честь, потому что Павловск принадлежит им, значит, они здесь хозяева, а я, значит, ихняя гостья, и они меня приветствуют, это у них такой обычай. Правда, красиво? Скоро уезжаем за границу. Я вам оттуда пришлю адрес. Дедушка, миленький, надо все-таки, я думаю, прислать сюда бабушкин трельяж красного дерева. Пусть тетушка видит, что мы у дедушки Хованского жили тоже не как последние какие-нибудь. Целую вас крепко-крепко. Привет Сингапурке, злому попугайке. Ваша забытая Тамара". Все мы прочитали письмо Тамары. Сидим, молчим. «Веча» сегодня не получилось — нечего обсуждать, все ясно. Иван Константинович прощается и идет к двери: — Ты, Леня, здесь оставайся. Я немного пройдусь — пускай меня ветерком ополоснет… После его ухода Леня бежит к окну. Смотрит на улицу и удовлетворенно кивает: — Молодец Шарафут! Ведь он еще ничего не знает, что за письмо, о чем письмо. А вот чувствует, что дедушка огорчился, и — глядите! — идет за ним! Крадком идет, чтобы дедушка не заметил… Глава шестая. НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ Вечернее чаепитие на даче — священнодействие! Оно объединяет не только членов семьи, но и друзей, приехавших или пришедших пешком из города (дачный поселок расположен от города недалеко). В особенности, в такие времена, как сейчас, когда все волнуются из-за всяких неожиданных поворотов в деле Дрейфуса. Крейсер «Сфакс» уже приплыл во Францию, и слушание дела уже началось в суде города Ренна, в Бретани. Все недоумевают, почему дело слушается не в Париже, а в бретонском захолустье. Все гадают: хуже это для Дрейфуса или лучше? Умные люди считают, что хуже. Это врагам было нужно, чтобы новый процесс слушался не в Париже, где сильны социалисты, где много рабочих, учащейся молодежи, много сторонников Дрейфуса. Бретань — это не только глубокая провинция. Спокон веку Бретань — это сердце контрреволюции, монархических заговоров, зловещее гнездо католических священников. Ничего хорошего тут ждать не приходится. И в нашем городе — далеко от Франции — честные люди мечутся, стараются узнать что-нибудь помимо скудных газетных телеграмм, хотят встречаться с единомышленниками и друзьями, разговаривать и спорить до сипоты, засиживаясь иногда до поздней ночи за вечерним самоваром. Мы сидим на балконе: мама, папа, Иван Константинович с Леней, Александр Степанович. У всех, по-видимому, то сдержанно-сосредоточенное настроение, какое обычно нападает на человека в этот час. — О чем вы так упорно думаете, Александр Степанович? — спрашивает папа. — Я? Да как будто ни о чем особенном… — отвечает Александр Степанович, словно стряхивая с себя задумчивость. — У меня почему-то все время вертится в мыслях: «…сообщите капитану Дрейфусу…» Все смотрят на Александра Степановича вопросительно. И он поясняет: — Вы только подумайте: «Сообщите капитану Дрейфусу»! Значит, он снова капитан? Он восстановлен в прежнем чине и звании. Он уже — не шпион! Пять лет он был тягчайший государственный преступник — у него не было ни имени, ни фамилии! Собака и та имеет кличку! А у него был только номер… Понимаете, каково ему было прочитать: «Сообщите капитану Дрейфусу»! Пять лет с ним обращались как с бессловесной скотиной… Пять лет он не смел спросить у кого-либо из тюремщиков… ну хотя бы который час. Даже врач не смел сказать ему ни одного слова! И вот он сразу переходит на крейсер «Сфакс», — и там все, надо полагать, обращаются с ним безусловно вежливо! Ведь хорошо? — Хорошо! — отзываемся мы с мамой и Леней. — Нет, вы вдумайтесь поглубже во все это. В телеграмме сказано: «Сообщите капитану Дрейфусу, что он снова имеет право носить военный мундир»… А он помнит день своей гражданской смерти — своего разжалования, — когда его водили, как преступника, перед войсками, а толпа кричала: "Смерть шпиону! Бросьте его в Сену!" И вот ему снова можно надеть такой же мундир, как тот, который тогда изорвали на нем в клочья. — Хорошо! Хорошо! — снова кричим мы. — Хорошо-то хорошо… Конечно, хорошо. А вот как будет дальше? — Я понимаю Александра Степановича, — вмешивается папа. — Александр Степанович сомневается — и не зря сомневается. Ведь Дрейфус не имеет представления о том, что происходило за эти пять лет, — о том, как лучшие люди боролись за него и буквально вырвали эту победу: новый пересмотр судебного процесса. А Дрейфус, может быть, надеется, что этот пересмотр — одна формальность, что уже установлена его невиновность, что Франция встретит его с распростертыми объятиями. 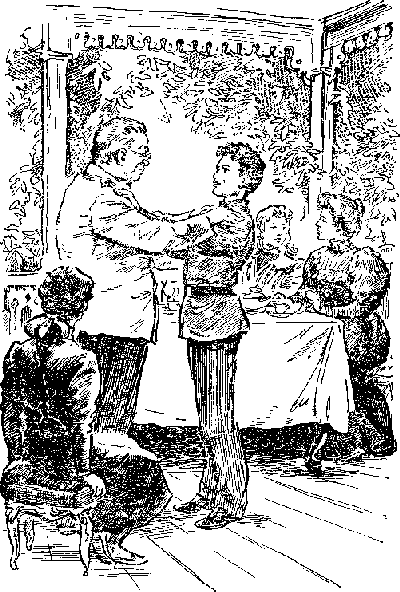 — Между тем, — продолжает Александр Степанович, — враги Дрейфуса во Франции вовсе не разоружились, они не собираются сдаваться. Признать, что они осудили невинного, защищали грудью шпионов Эстергази и Анри, покрывали фальшивки и клевету? Никогда этого не будет! — Да… — вздыхает Иван Константинович. — А Дрейфус-то узнает об этом только тогда, когда они приедут… — Да… Только когда приедут… — Приехали! Привезла я их! — говорит, входя на балкон, Вера Матвеевна, и ее доброе лицо со слепыми глазами светится радостью. — Здесь они! Все замолкают. У всех на секунду мелькает нелепая мысль, будто к нам на дачу приплыл крейсер «Сфакс» с Дрейфусом! — Да кто приехал-то, Вера Матвеевна? — взмаливается папа. — Гости к вам! И какие дорогие гости! Я их у вас на городской квартире застала: только что приехали с вокзала. Стоят и не знают, где вас искать. Я их сюда привезла. Тут на балкон входит высокая белокурая женщина, энергичная в движениях, с веселым вздернутым носом. И с нею — девочка моего возраста, очень на нее похожая, — такая же рослая, курносая и до того загорелая, как не загорают люди в наших широтах. Мама и папа бросаются к гостье с поглупевшими от радости лицами: — Маруся! Марусенька приехала! И начинается веселый кавардак, как всегда при встрече друзей, давно не видавшихся и обрадованных встречей. Все говорят одновременно, не слушая, перебивая. Я узнала гостью сразу. Это «тетя Маруся» Лапченко-Божедаева, врач, подруга папиной студенческой молодости. Они с папой учились на одном курсе Военно-медицинской академии в Петербурге. Тогда — в конце 70-х годов — женщин еще принимали в академию и выпускали с врачебными дипломами. Правда, и тогда их была считанная горсточка, а в 80-х годах, при Александре III, вышел запрет принимать женщин в академию. Мария Ивановна Лапченко успела поступить в академию и закончить курс именно в этот короткий промежуток. Она дружила с тремя студентами, своими однокурсниками, — с Яновским (моим папой), Молдавцевым и Божедаевым. Были они все трое неразлучные друзья, очень способные, знающие, редкостные работяги и… круглые бедняки! Питались колбасой под заманчивым названием «собачья радость», запивали ее нередко одним кипятком без сахару, снимали для экономии одну комнату втроем. Все трое были влюблены в Марусю Лапченко, как она выражается, «чохом». По окончании курса она вышла замуж за Божедаева. Папа и Молдавцев, хотя и отвергнутые воздыхатели, считали, что Маруся — умница и выбрала из них самого стоящего. Теперь судьба разбросала их по всей России. Мария Ивановна живет с мужем в далеком губернском городе и славится там как отличный врач. Был даже такой удивительный случай, что у нее лечился — и был ею вылечен — сам архиерей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
|||||||||