 |
|
Популярные авторы:: Раззаков Федор :: Чехов Антон Павлович :: Азимов Айзек :: Толстой Лев Николаевич :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Сименон Жорж :: Горький Максим :: Андреев Леонид Николаевич :: Желязны Роджер Популярные книги:: Русь (Часть 2) :: Ожерелье Иомалы :: Истина — страна без дорог (Заявление Дж. Кришнамурти о роспуске Ордена Звезды) :: Огненная река :: Магия луны (Том 1) :: Черный ворон :: Ночной орёл :: Справочник по русскому языку. Пунктуация :: Дарю тебе сердце :: Дюна (Книги 1-3) |
Дорога уходит в даль (№3) - ВеснаModernLib.Net / Детская проза / Бруштейн Александра Яковлевна / Весна - Чтение (стр. 17)
Наконец — наконец! — нам объявили, что приглашен новый учитель математики. Он преподает в Химико-техническом училище, но согласился заниматься и с нами, выпускными, в такието дни и часы. Зовут его Серафим Григорьевич Горохов. Пошли разговоры, суды и пересуды, каков он будет, этот новый учитель. Говорили не очень доброжелательно. Почему-то новый учитель — еще до первого с ним знакомства — никаких надежд не внушал. — Се-ра-фим? — с недоумением растягивала его имя одна из самых красивых пансионерок, Леля Семилейская. — Ну, что за имя? «Херувим Иваныч!», «Архангел Трофимыч!». — Он, наверное, из поповского звания! — авторитетно утверждала Лена Цыплунова. — Попович! Наверное, бывший семинарист… Патлатый, ручищи красные, хам хамом! — И преподает у мальчишек! — пискнула, как мышь, маленькая, худенькая немочка-Эммочка фон Таль. — Наверное, привык говорить мальчишкам «ты» и ругаться… — И подзатыльники раздавать! И зуботычины! — подсказывали со всех сторон. Такими невеселыми предсказаниями встретили у нас нового преподавателя математики Серафима Григорьевича Горохова. А он оказался совсем не таким, каким мы его воображали! Молодой — недавно окончил институт в Петербурге, — очень мягкий, застенчивый, а главное — доброжелательный. Этого недостает многим из наших преподавателей. У иных из них есть в душе — и мы это чувствуем! — глубокое, застарелое недоверие к нам. Они считают нас способными если не на все дурное, то уж во всяком случае на очень многое. Может быть, именно изза этого мы с ними и на самом деле дурные: лгуньи, притворщицы, насмешницы. Горохова мы поначалу встречаем неласково. Одни смеются над его очками с темными стеклами, другие говорят: — Да он нас боится! Что же это за учитель? Но вскоре оказывается, что Горохов отличный учитель! Все девочки, которые любят математику, имеют к ней способности, как, например, Маня Фейгель, Стэфа Богушевич, Лариса Горбикова и несколько других, очень довольны его уроками. Но и остальные, не слишком способные к математике, не могут не видеть, что Горохов знает свой предмет, любит его. Объясняет он очень понятно, учиться у него нетрудно. Горохов — справедливый, очень вежливый и приветливый. Конечно, после этих открытий мы сразу ударяемся в другую крайность. Поняв, что Серафима Григорьевича не надо бояться, мы начинаем попросту злоупотреблять его добротой. Уроки готовим когда хотим, а кто же этого когда-нибудь хочет? Когда он вызывает нас к доске отвечать урок, а мы не приготовились, мы врем первую пришедшую в голову глупость: «Вчера хоронили тетю», «Я потеряла учебник и никак не могла его найти»… И еще в том же роде, не лучше. Самое безобразное во всем этом: мы-то врем, не краснея, — мы привыкли врать учителям и синявкам, — а краснеет Серафим Григорьевич: ему стыдно за нас. — Нет, вы только поду-у-умайте! — разводит руками Стэфа Богушевич, повторяя это свое любимое выражение во всех случаях жизни. — Нет, вы только поду-у-умайте! Такой золотой достался нам учитель, а мы такие поросята! Отвратительнее всего то, что в эту злую игру, обидную для учителя Горохова, оказываюсь почему-то втянутой и я. И умом и сердцем я понимаю, что Горохов хороший человек, что такого учителя у нас никогда не было, а вот все-таки участвую во всех глупых выходках против него. Привыкнув к тому, что покойный наш директор не знал никого из нас ни в лицо, ни по фамилии, мы без всяких оснований думаем, что не знает нас и Горохов. Где, мол, ему — огромный класс, около шестидесяти человек, откуда ему так быстро всех узнать. И никто не соображает: не может молодой учитель со свежей памятью проявлять такую старческую беспамятливость, как покойный директор. Мы обманываем Серафима Григорьевича и в этом, а он — из деликатности! — делает вид, будто верит нам. Конечно, долго участвовать в этой недостойной игре с Гороховым ни один порядочный человек не может. Не могу и я. Недаром мои подруги смотрят на меня огорченными глазами, не понимая, какая муха меня укусила. Настает день, когда и я понимаю: довольно! стыдно! надо кончать! Как-то, придя в наш класс на урок, Горохов раскрывает журнал и, водя пальцем по списку учениц, мямлит: — Прошу к доске… м-м-м… м-м-м… госпожу Яновскую. Самое глупое: в этот день я вполне могла бы отвечать, и даже неплохо, потому что накануне приготовилась. Да и вообще я знаю предмет прилично. Но почему-то пойти к доске ответить, получить хорошую отметку — все это кажется мне пресным, «не смешным» (можно подумать, что человек должен обязательно стремиться к тому, чтобы жить «смешно»!). И я, уверенная в том, что Горохов еще не знает меня в лицо, спокойно говорю ему с места: — Яновской сегодня в классе нет. Серафим Григорьевич краснеет, как помидор. Не поднимая на меня глаз, он вызывает другую ученицу. Все смотрят на меня. Многие явно одобряют мою «лихость». Ни Варя, ни Люся, ни Катюша, ни Стэфка Богушевич на меня не смотрят. Маня смотрит, но, встретившись со мной взглядом, отводит глаза в сторону. Очень просто — ей за меня стыдно! Я сижу, продолжая нахально улыбаться, но на душе у меня погано. «Ох, — думаю я, — как же я расскажу об этом папе?» Так я всегда думаю о поступках, которых стыжусь. Мысленно я утешаю себя: «Ладно. Больше не буду». Но папа всегда говорит, что самоутешением успокаивают себя только мелкие души. Я понимаю, что в отношении Горохова я веду себя как мелкая душа. И это меня никак не радует. После звонка случилось так — словно нарочно! — что Горохов и я, выходя из класса последними, сталкиваемся в дверях. Горохов смотрит на меня серьезно и спрашивает: — Значит, вас сегодня в классе нет?.. Со всех ног бегу разыскивать Маню. — Маня… — шепчу я ей. — Маня, ты понимаешь?.. Никто бы не понял, но Маня, конечно, понимает. Она кладет свою добрую, дружескую руку на мою. — Имей в виду, — говорит она, — он отлично знает всех. И в лицо и по фамилии. Это я говорю только тебе. И, пожалуйста, не рассказывай другим. Я ценю Манино доверие. Еще с первых дней после появления у нас Горохова он просил Мопсю рекомендовать ему которуюнибудь из наших лучших учениц, чтобы заниматься с его младшей сестренкой, подготовить ее к поступлению в наш институт. Мопся рекомендовала ему Маню Фейгель. Маня бывает у Гороховых ежедневно, часто встречается и с самим Гороховым, но она поставила себе за правило: о том, что у Гороховых то-то или то-то, о том, что он сказал то или другое, Маня не рассказывает нам — даже лучшим своим подругам — ни одного слова! Так посоветовал ей отец, Илья Абрамович: — Помни, если ты будешь болтать, рассказывать о Гороховых, тебе не дадут покоя. Тебя замучают вопросами, будут требовать все новых подробностей. И непременно выйдут сплетни. Твои слова переиначат по-своему — и пойдут фантастические рассказы «со слов Мани Фейгель…». Что хорошего? Так Маня и поступает. Молчит. Сперва девочки на нее обижались, даже бранили ее. Потом, кто понял, кто привык к Маниной сдержанности, перестали мучить ее вопросами о Гороховых. — Маня, — спрашиваю я шепотом, — почему же он сегодня не изругал меня, не поставил мне дурной отметки? — Он хочет, чтобы девочки сами поняли, — вот так, как ты сегодня поняла! Он говорит: плох тот учитель, который не верит в молодежь… — Маня рассказывает это с таким уважением к Горохову как учителю и человеку, что я понимаю: больше я безобразничать на его уроках не буду — не могу. Симпатичность Горохова, его доброта, уважение к нам, хорошее преподавание скоро изменили отношение к нему класса. Глупые институтские выходки прекратились, а главное — мы стали учиться всерьез. С таким учителем, как Серафим Григорьевич, класс, наверное, через некоторое время нагнал бы все пропущенное и не боялся бы оскандалиться на выпускных экзаменах. Но тут вдруг случилась новая беда: Горохов заболел очень серьезно. У него сперпа была инфлюэнца, потом сделалось осложнение: он почти оглох. Вот уже больше двух месяцев как он не приходит к нам на уроки. За это время класс успел растерять почти все то, чему научился у Горохова. В головах опять математическая каша. Время идет, выпускные экзамены приближаются, а Горохов все еще хворает. Весь класс — несколько отдельных учениц, особенно интересующихся математикой и способных к ней, ведь не идут в счет! — знает по геометрии и алгебре очень мало. Даже арифметику многие успели забыть. Экзамены начнутся недель через шесть. Учитель болен и на уроки не приходит. В общем, мы брошены на произвол судьбы, и никто почему-то не думает о нас. А ведь мы не виноваты в том, что уже два года с нами никто математикой не занимался. — Нет, вы только поду-у-умайте! — беспомощно вздыхает Стэфа Богушевич. — Как же мы пойдем на экзамен? Лара Горбикова пожимает плечами: — Что нам думать? Пусть начальство думает об этом! — Спасибо, утешила! — сердится Люся. — Начальство! Что ему? Ну, провалимся мы по всем трем экзаменам математики, ну, не выдадут никому диплома, а только дадут «свидетельство», что мы здесь учились. «Ах, ах, ах, какой ужасный класс!» — и все. — Неужели дипломов не дадут? — всплескивает руками Варя. — А на что мне ихний диплом? — искренне удивляется Меля Норейко. — Без диплома нельзя учиться дальше! Не примут ни на какие курсы! — объясняет ей Катюша Кандаурова. — Ах, убила! — кривляется Меля. — Да не желаю я «учиться дальше»! Семь лет было здесь ученья-мученья, — да еще и опять учиться? Нет, довольно! Я буду помогать папе и тете в ресторане. Буду стоять за стойкой — одета картинкой, хорошенькая, как шоколадная бутылочка с ликером! А потом замуж выйду… Нужен мне этот диплом, как собаке пятая нога! А захочу, так папа мне учителя наймет. За хороший обед — пожалуйста! — можно хоть профессора нанять. — Да? А у кого нет денег, тем как быть? — А как хотят, так и будут! Что мне о них волноваться? — Нет, вы только подумайте! — И Стэфка отмахивается от Мели, как от мухи. — Ну хорошо: директору все равно, он у нас человек новый, он за прошлое не отвечает. Колоде тоже все равно: она просто по глупости ничего не понимает. А Горохов? Что он думает обо всем этом? Конечно, он не виноват — он всю зиму болел. Но ведь нам-то от этого не легче... Маня, ты у Гороховых каждый день бываешь? Что он говорит об этом? Маня, как всегда, отвечает очень сдержанно: — Он со мной об этом не говорит. — А если ты спросишь его? — Як нему с разговорами не набиваюсь. Прихожу на урок — Серафима Григорьевича даже не всегда и вижу: он лежит у себя в комнате. Что же, мне его за горло брать? — Ну ладно! — заключает разговор Варя. — Давайте думать, что нам делать, как поступить… Думать будем до завтра. Неужели так ничего и не придумаем? — А я и думать об этом не стану! — бросает Меля. — От тебя никто никакой думы и не ждет! Скажите, какой думный дьяк выискался! — сердится Люся. Меля окидывает нас всех презрительно-величественным взглядом и уходит не прощаясь. Мы все тоже расходимся в разные стороны. Невеселые, озабоченные. К моему удивлению, Маня идет со мной, хотя живет она в другой части города. Маня объясняет мне: — Я к сапожнику. За мамиными ботинками. И я понимаю: неправда это. Не за ботинками. Во всяком случае, не за одними только ботинками. Удивительная вещь: как легко мы врем синявкам и как трудно, как неохотно и бездарно врем друг другу! Некоторое время мы с Маней шагаем молча. Дойдя до Екатерининского сквера — около костела Святой Екатерины, — мы, не сговариваясь, садимся на скамеечку в боковой аллейке. Я понимаю: Маня хочет что-то сказать мне. — Шура! — начинает она не сразу. — Я тебе сейчас скажу одну вещь. Даже Катюша этого не знает!.. Ты слушаешь меня, Шура? Ну конечно, я слушаю. И волнуюсь. Я знаю: не такой человек Маня, чтобы по пустякам разводить таинственность! Наверное, у нее что-нибудь серьезное. — Шура, я придумала один… ну, словом, одну штучку. С экзаменами все будет благополучно. Все выдержат, понимаешь, все!.. Тут Маня вдруг останавливается. Словно она раздумала говорить то, о чем собиралась сказать мне. Она гладит мою руку и почти шепчет извиняющимся голосом: — Не сердись, Шурочка. Я скажу тебе это в другой раз. Не сегодня. В первый раз за всю нашу семилетнюю дружбу я сержусь на Маню. — Если ты считаешь, что я не достойна твоей откровенности, что я разболтаю, как балаболка… Тогда, конечно, не говори мне ничего! Ни сегодня, ни в другой раз!.. И перестань гладить мои варежки, как будто я злая собака и ты хочешь меня задобрить, чтобы я на тебя не гавкала! — Шура, как тебе не стыдно! Я говорю об этом только с тобой… — «Говоришь» ты! — фыркаю я. — Ты же вот именно ничего не говоришь, не хочешь говорить! — Нет, хочу. — Так почему ты говоришь: «Ах, я придумала одну штучку», а потом: «Нет, нет, я раздумала…»? — Не раздумала я. Просто у меня еще не все готово. Я тебе все скажу, все до капельки! Как только будет можно, так сейчас и скажу… Ты мне не веришь? — Я — тебе? Ох, какая глупая!.. На этом мы и расстаемся в этот день. Глава двадцать первая. ВОРОТА ПОД РАДУГОЙ Очень давно — когда я была совсем маленькая — мы с папой ехали за город. Только что перед тем прошел дождик, такой веселый и светлый, что солнце не испугалось его и не спряталось за облака. Солнце смотрело сквозь дождь — оно смеялось — и от этого на небе заиграла радуга. Ее многоцветные полукруглые ворота перекинулись через все небо, встали одной ногой на склоны холмов, спускающихся к шоссе, а другой уперлись в берег реки. Мы с папой ехали в бричке прямо к этим воротам. Приветливо и широко распахнутые, ворота радуги гостеприимно звали нас: «Пожалуйте! Пожалуйте! Ждем!» Но, сколько мы ни ехали все вперед и вперед, нам не удавалось ни проникнуть под радужные ворота, ни даже подъехать к ним вплотную. — Ну-у-у… — протянула я недовольно. — Когда же мы въедем в эти ворота? — А ты умей смотреть! — посмеивался папа. Я так сильно таращила глаза, чтобы не пропустить минуты въезда под радужные ворота, что не заметила, как заснула, привалившись головой к папиному плечу. А когда я проснулась, радуги уже не было. — А где же они, ворота? — спросила я. — Вспомнила! Проехали мы их давно. Несколько лет я верила, что под радугу можно въехать или вбежать. Потом узнала: нет, нельзя. А теперь — в этом последнем году ученья в институте — меня все время не покидает веселое предвкушение близкой радости. Вот, кажется мне, еще день, еще неделя — ну, может быть, еще месяц, — и я нырну под радужные ворота! Конечно, не буквально: на дворе стоит еще только март — какая радуга в марте? Откуда это ощущение близкой радости, почему я вдруг вообразила, будто радугу можно догнать или даже войти под нее, не знаю. Как-то, когда стало известно, что Матвея вместе с остальными 183 киевскими студентами, сданными в солдаты, скоро освободят, и все мы ежедневно ждали его приезда, — мы с Катюшей Кандауровой и Гришей Ярчуком шли вместе по улице. Шли и молчали. Был великий пост, от церквей плыли волны колокольного звона. Издалека, от железной дороги, доносились паровозные гудки. Невозможно было вообразить себе что-нибудь более пленительное, чем чистота этих весенних звуков. Ведь в течение всей зимы они доходили до нас, словно закутанные в вату. А сейчас они звенели гулко, необыкновенно явственно, прозрачно, как незамутненная родниковая вода. Бывают такие минуты, когда в жизни, как в сказке, все кажется возможным, правдоподобным, ни капельки не удивляет. Так было с нами в этот день. Когда из сизоватого, сумеречного тумана вдруг появился высокий человек, протягивавший руки к нам, мы нисколько не удивились. Правильнее было бы, конечно, сказать, что хотя шел-то он навстречу нам троим, но руки протягивал Кате: — Катюша… Курносик! И Катя тоже ничуть не удивилась. Она только выдохнула: — Матвей!.. И полетела к нему, как тополиная пушинка. Не сговариваясь, мы с Гришей взялись за руки и юркнули в переулок. Мы долго бежали, чтобы уйти подальше от Кати и Матвея, чтобы не мешать их встрече, оставить их вдвоем… Мы напрасно так стремительно убегали от них — они и не думали гнаться за нами или хотя бы звать нас. Наверное, они даже не заметили, что нас вдруг не оказалось больше возле них. Мы с Гришей остановились, поглядели друг на друга. — Матвей приехал! — радостно сказал Гриша. — Да… А про себя я подумала: «Теперь Матвей и Катюша войдут в счастье, как в ворота радуги». Минувшим летом, в первый раз за два года, приехала к родителям Лида Карцева. Когда она пришла ко мне, мы так обрадовались друг другу, что сперва долго молчали. Мы только смотрели друг на друга. Смотрели требовательно, придирчиво, словно проверяя по списку памяти — все те же ли у нас лица, глаза, руки… Да, все было то же, и вместе с тем все было чем-то ново! Теперь Аида была выше ростом (как, вероятно, и я), стройнее, чем прежде. Серо-голубые глаза ее смотрели как будто еще умнее, еще глубже. Но это была она, Лида! Я видела это и смеялась от радости. И она радовалась, что я прежняя. Только когда мы заговорили — обе одновременно, — нам показалось, чта изменились наши голоса: стали словно ниже. Но и к этой перемене мы привыкли мгновенно. В ту первую встречу мы говорили с Лидой долго — ведь нам столько надо было рассказать друг другу! «А у нас…», «А у вас…», «А помнишь?..», «А где теперь?..», «А что теперь?..» Говорили и о смешном, и о печальном, о пустяках и о серьезном. За два года Лида прочитала очень много книг, но беспорядочно: все, что попадалось под руку. У тети-поэтессы — декадентскую литературу. У тети-романистки — классиков, новейшие книги и журналы. В общем, оказалось, что хотя и разными тропинками, но шла Лида с нами в ногу. И вот от Лиды я услыхала о тех воротах, в которые она собирается пройти… к счастью! — Он — наш преподаватель! — рассказывала Лида. — Русского языка и словесности… «Преподаватель»? Я даже испугалась. В моем воображении «преподаватель» — это кто-то из нашей кунсткамеры: это Лапша, или бывший директор Тупицын, или Федор Никитич Круглов, похожий лицом на незлую гориллу, или учитель физики с невкусной кличкой «гиена в сиропе»… Неужели Лида полюбила такого? Брр! Словно угадав мою мысль, Лида спешит успокоить меня: — Ему двадцать шесть лет. Всего два года, как он окончил университет. Я дам тебе почитать его книгу о Пушкине… Нет, Шурочка, он тебе понравится — он умный, веселый! Но как же могло случиться, чтобы воспитанница Смольного института и преподаватель… Где они могли встретиться вне Смольного, познакомиться, полюбить друг друга? Все это произошло в доме у тети-романистки. Во время прошлогодних рождественских каникул Лида жила у тети. Алексей Дмитриевич приходил к ним часто, водил и возил Лиду по пушкинским местам Петербурга и Царского Села. Они с Лидой вместе бегали на коньках, ездили в театры, бывали в Эрмитаже и музее Александра III. Каникулы кончились, ученье в Смольном возобновилось — и тут произошел курьез. То есть это как посмотреть: синявки решили, что это не курьез, а страшный скандал. Во время каникул Лида и Алексей Дмитриевич совсем забыли, что они учитель и ученица, а не просто знакомые. Встретившись с ним в Смольном (он подошел к ней во время перемены), Лида забыла, что она должна «макнуть свечкой» — сделать реверанс, — забыла, что она должна держаться с ним «по-чужому». Она привычно поздоровалась с ним за руку (то же и при прощании!), и они проговорили целую маленькую перемену (пять минут). Что тут поднялось! Чего только не наговорили ей классные дамы и начальница Смольного (воспитанницы должны называть ее «маман», то есть «мама»)! «Как? Вы здоровались и прощались за руку с преподавателе? С чужим мужчиной? Вы разговаривали с ним „сан фасон“(те есть запросто), как с добрым знакомым?» — Ох, Шурочка, вышел мне этот разговор с Алексеем Дмитриевичем боком! — вздыхает Лида полушутя, полусерьезно. Не помогли никакие ухищрения синявок. Конечно, Алексей Дмитриевич не стал больше подходить к Лиде на переменах… Но ведь они любили друг друга, а для того чтобы сказать это глазами, достаточно одной секунды. В заговор вступила тетяроманистка: она передавала письма от Денисова — Лиде и от Лиды — ему. Пасхальные каникулы прошлого года Лида снова провела у тети. Опять они с Алексеем Дмитриевичем встречались ежедневно. Теперь они оба видели перед собой ту радугу, под которую войдут, как только Лида окончит Смольный. Пребывание Лиды у родителей во время прошлогодних летних каникул пролетело незаметно. Все мы — старые Лидины друзья: Варя, Маня с Катей, Леня, я, — все мы были рады Лиде, чувствовали себя с ней так, словно бы и не разлучались на целых два года. Накануне своего отъезда в Петербург Лида пришла ко мне в сумерки — посидеть на прощание. Мы сели в моей комнате, как бывало в детстве: вдвоем в одну качалку. Тогда было просторно, теперь стало тесно. Но нас эта теснота не тяготила. Мы сидели, как сестры, так дружно и радостно! Лида снова рассказывала мне об Алексее Дмитриевиче Денисове. Какой он хороший, талантливый. Одна беда: здоровье у него хрупкое. Слабые легкие… На прощание я спросила: — Будешь писать, Лида? — Непременно! Только не волнуйся, если будут провалы в переписке. В Смольном — как в тюрьме… Какая-нибудь мелочь, пустяк — и я уже разобщена с миром. Тетя больна или уехала на время из Петербурга, — и вот уже некому опустить письмо в ящик. В начале августа Лида уехала в Петербург. Она писала довольно часто, но это были пустые, ничего не значащие открытки. «Крепко целую тебя, дорогая Шурочка! Твоя Лида». А по краю открытки мелконькими буковками: «Тетя Маруся все хворает, я ее совсем не вижу». Или: «Тетя все время на даче, на Черной Речке…» Из этого я понимала, что Лиде некому дать письмо для отправки мне. «Значит, и с Алексеем Дмитриевичем Лида не переписывается, бедная!» — думала я. Но мне и в голову не приходило, насколько ей трудно, моей подружке! Узнала я об этом совершенно случайно. Во время недавних рождественских каникул Ивана Константиновича и Леню осчастливила — наконец! наконец! — сама «тучка золотая»! Впервые за целых три года к ним приехала Тамара. Трудно описать, как ее приезд ВЗВОЛНОВАЛ и обрадовал Ивана Константиновича! За эти годы она несколько раз обманывала его и Леню. То обещала «приеду на рождество», то «ждите на пасху». Прошлым летом случилось даже, что Тамара написала: "Мы с тетушкой Евдокией Дионисиевной едем на воды в курорт Карлсбад. Проедем через ваш город в ночь с 15 на 16 июля. Если вам нетрудно, дедушка и Леня, приезжайте повидаться со мной на вокзал. Поезд стоит двадцать минут. Успеем наговориться всласть! Вагон международный 1-го класса". Иван Константинович так расцвел, засуетился с таким добрым, заботливым теплом, что на него просто приятно было смотреть. Леня тоже был веселый — тут уж никаких сомнений быть не могло: на этот раз Тамара приедет, хотя и на двадцать минут всего! Вот и телеграмма, сообщающая номер поезда и номер вагона! 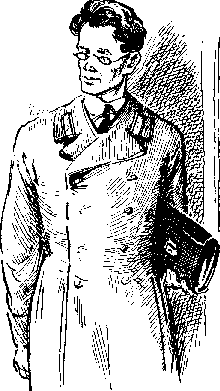 Поезд должен был прибыть в пять часов утра. Задолго до прихода поезда Иван Константинович и Леня, принаряженные, накрахмаленные, напомаженные, выутюженные, начищенные до блеска, стояли на платформе. Шарафут держал корзину цветов, самую большую, какую удалось достать в цветочном магазине. Леня ждал Тамару с красивой бонбоньеркой, а Иван Константинович — с корзиной фруктов. Они стояли на платформе, смотрели в ту сторону, откуда должен был прибыть поезд, — и ждали… И не дождались! То есть поезд-то, конечно, пришел. Но из международного вагона никто не выглянул. Ломиться в поезд, будить спящих пассажиров Иван Константинович и Леня, конечно, не стали. Вагонный проводник на их робкий вопрос: «Не знаете ли, в этом вагоне едет графиня Уварова с племянницей?» — пожал плечами и внушительно сказал: — Пассажиры изволят почивать. Будить не положено. Спустя несколько дней от Тамары получили открытку с видом «Шпрудель-Колоннаде» в Карлсбаде. В углу открытки было изображение ласточки, несущей в клюве символ счастья: четырехлистный трилистник. Для письменного сообщения места почти не было. "Дорогие дедушка и Леня! Какая чепуха вышла с поездом! Не сердитесь. Я нечаянно проспала". В углу открытки около ласточки было нацарапано: «Эта ласточка несет вам мои поцелуи!» Иван Константинович пережил этот случай очень тяжело. Такого глубочайшего равнодушия Тамары к нему и Лене он всетаки не ожидал. — Д к кому и к чему она не равнодушна, эта девочка? — сказал папа. — Впрочем, нет, я не прав: есть в мире одно существо, которое этот вундеркинд Тамара даже обожает: самое себя, свою особу! Если бы эта графиня-тетка внезапно обеднела, потеряла состояние, дома, дачи, имение, деньги, Тамара бы в тот же день упорхнула от нее… — «По лазури весело играя…» — произнесла я вспомнившиеся мне слова Катеньки Кандауровой, сказанные несколько лет назад о Тамаре. — Вот именно «по лазури весело играя»! — подхватил папа мрачно. — Она бы и не оглянулась на то место, где осталась ее обедневшая тетушка. Ни одной слезы не пролила бы над ее бедой… Вундеркинд! Но вот после напрасных, не выполненных ни разу обещаний Тамара в самом деле приехала этой зимой — последней нашей институтской зимой! — на рождественские каникулы к Ивану Константиновичу и Лене. Я видела ее только один раз. Мы с мамой взбунтовались и впервые не согласились идти к Ивану Константиновичу для встречи с Тамарой. — К Ивану Константиновичу всегда рада пойти! — сказала мама с неожиданным, необычным для нее упорством. — А к Тамаре идти не хочу. Если она помнит нас, если хочет увидеться с нами, пусть приходит к нам. Тамара в самом деле пришла (вероятно, настояли Иван Константинович и Леня). Они пришли все трое, но говорила одна Тамара. Хорошенькая, прелестно одетая, она трещала обо всем, что угодно, трещала без умолку. Никогда я не слыхала такой неумной, пустой болтовни. — Ты с Лидой Карцевой в одном классе учишься? — спросила я. — Увы, в одном! — Тамара сделала гримасу. — С ней ведь беда случилась. Вы слышали? — Нет, не слыхали. А что? — Романчик завела. Это Лида-то! Скромница, схимница! И с кем, спросите? С учителем нашим, словесником Денисовым. Правда, он красивый, даже, можно сказать, породистый, но всетаки… И можете себе представить, три месяца назад Денисов заболевает, не ходит на свои уроки, ничего о нем не известно… Ну, Лидочка наша, конечно, в грустях! Днем бледна, ночью плачет… И вдруг случайно она слышит разговор двух наших классных дам между собой, надо ж такое! Одна классная дама говорит: «Почему это Денисов не является на уроки?» — «Денисов? — отвечает другая. — Разве вы не слыхали? У него скоротечная чахотка объявилась, он умирает!» И что бы вы думали? — Тамара обводит нас глазами, словно приберегая к концу самый эффектный номер своего рассказа. — Лида Карцева при всех в рекреационном зале слышит этот разговор о своем драгоценном Денисове и — хлоп в обморок!.. Тамара хохочет. — А дальше что? — спрашиваю я. — Чего же еще «дальше»? Ромео помирает, Джульетта лежит в обмороке! — веселится Тамара. Перевожу глаза на Леню. У него горят уши. Он на меня не смотрит… В тот же вечер мы с Леней бежим к Лидиной маме — Марии Николаевне Карцевой. Она подтверждает рассказ Тамары: Лида в самом деле лишилась чувств, услыхав разговор классных дам. Лида давно не имела никаких известий о Денисове. На уроки он не являлся. Она знала, что он болен, но чем болен, тяжело ли, не знала: тети-романистки не было в Петербурге. Мария Николаевна телеграфировала тете-поэтессе. Та обо всем разузнала и сообщила: Денисов в самом деле был очень сильно болен — у него был тяжелый катар легких. Тетя-поэтесса восстановила нарушенную переписку между Лидой и Денисовым. Весной, когда Лида окончит Смольный институт, она и Денисов обвенчаются и поедут на юг — долечивать легкие Алексея Дмитриевича. — Шельмы-то какие, Лидка и Алексей Дмитриевич! Потихоньку влюбились, обо всем договорились, нам с отцом одно осталось — благословить! Милая Мария Николаевна! Она остается верной себе. Прелестная, красивая, молодая, глаза мечтательные, а рот — по-детски большой рот девочки-лакомки. Значит, Лида и Денисов после выпускных экзаменов подадут друг другу руки и войдут в ворота под радугой… Пусть будут счастливы! Мы идем с Леней домой, Леня очень мрачен. Я не спрашиваю почему… — Тамарка-то, а? — говорит он с гЪречью. — Не понравилась она тебе? Мне очень не хочется отвечать правду. Но ведь иначе — не по правде — мы с Леней друг с другом не говорим. — Нет, — отвечаю я тихо, — не понравилась. — Она ведь тоже замуж собирается! — сообщает Леня с какой-то кривой усмешечкой, на которую неприятно смотреть. — За кого? — За бульдога. За старого бульдога… У-э-э-э! — Леня делает такую гримасу, словно его тошнит. — Перестань, Ленька, противно! — А мне, думаешь, не противно? Она нам с дедушкой фотографическую карточку жениха своего показала. Барон! Такая бульдожина, тьфу! — Так зачем она? — удивляюсь я. Леня подражает восторженной интонации Тамары: — Богач удивительный! Тетушка Евдокия Дионисиевна говорит про него: «Конечно, он не Адонис, но какое богатство!..» Я молчу. — Сказать тебе, о чем ты сейчас думаешь? — спрашивает Леня, но уже своим собственным голосом, добрым, чуть насмешливым. Мы с Леней иногда играем в такую игру: «Хочешь, скажу, о чем ты думаешь?» И ведь очень часто угадываем! — Хочешь, скажу, о чем ты сейчас думаешь? — настаивает Леня. — Скажи! — поддразниваю я. — Скажи, давно я глупостей не слыхала! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
|||||||||