 |
|
Популярные авторы:: Азимов Айзек :: Борхес Хорхе Луис :: Толстой Лев Николаевич :: Горький Максим :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Картленд Барбара :: Сименон Жорж :: Чехов Антон Павлович :: Лесков Николай Семёнович Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: Чтобы мы не помнили :: Справочник по реестру Windows XP :: The Boarding House :: О дубляже :: О культе книг :: Аэрофобия :: Отражение :: Граф Монте-Кристо :: Памятные встречи |
Сказки черепахи Кири-БумModernLib.Net / Детские стихи / Бондаренко Владимир Никифорович / Сказки черепахи Кири-Бум - Чтение (Весь текст)
Владимир Никифорович Бондаренко, Вениамин Никифорович Бондаренко Сказки черепахи Кири-Бум Сорокопут 
Каждую среду в Гореловской роще у сосны с кривым сучком черепаха Кири-Бум рассказывает сказки. Послушать ее приходят даже из соседних лесов и рощ. Засиживаются иногда до полуночи. Бывает много смеха, но случается кое-кто и всплакнет. Если черепаха рассказывает сказку о медведе Спиридоне, то его давний друг медведь Лаврентий говорит при этом: – Похоже. И другие подтверждают: – Очень похоже. И только медведь Спиридон не соглашается: – Что вы, я же совсем не такой и немного не так это было. А когда черепаха рассказывает о медведе Лаврентии, то уж теперь медведь Спиридон говорит: – И маленькие глазки у Кири-Бум, а зорко видят. Ловко она в тебе это подметила. И другие подтверждают: – Очень ловко. Зато самому медведю Лаврентию кажется, что сказка не о нем, что Кири-Бум кое-что преувеличила, не так поняла. Да и другим, о ком случается рассказывать черепахе, так кажется, но так как рассказывает черепаха всегда с доброй улыбкой, без зла, на нее редко кто обижается. Придумывать сказки черепаха научилась давно, Сперва она сама, встретившись с кем-нибудь в роще, предлагала: – Хочешь послушать сказку? Потом начали ее просить при встречах: – Расскажи, Кири-Бум. А вскоре желающих слушать появилось так много, что не стало черепахе покоя ни днем, ни ночью. Все шли к Бобровой запруде, где жила черепаха, и вызывали ее: – Выйди, Кири-Бум. Черепаха даже прятаться начала. Увидит: идут к ней – залезет под корягу, будто нет ее дома. Потопчутся пришедшие на берегу, потолкутся да с тем и уходят. А однажды сказала сама себе Кири-Бум: – Не дело это – сказку от друзей прятать. На сказках они учатся, как жить лучше. И объявила всем в Гореловской роще: – Домой ко мне не ходите. Собирайтесь по средам у сосны с кривым сучком, и я буду рассказывать вам все, что придумаю. Так и ведется с той поры уже много лет: как среда, идут все к сосне с кривым сучком послушать, о чем собирается говорить черепаха. Слушают и дивятся: – И откуда ты, Кири-Бум, берешь столько сказок! – Да вы же мне и подсказываете их, – говорит черепаха. Правду говорит, а ей не верят, думают – шутит Кири-Бум. А она ходит по роще, присматривается, кто как живет, и рассказывает об этом в своих сказках. Вчера была среда. Черепаха Кири-Бум пробыла у сосны долго, говорила много, устала, домой, в Бобровую запруду, идти заленилась, осталась ночевать у Машуты, дочери медведицы Матрены. Утром Машута предложила: – Давай я снесу тебя, Кири-Бум, к запруде. Мне это совсем не трудно. Но черепаха отказалась: – Спешить мне некуда. Чем дольше пройду, тем больше увижу. Простилась и пошла. Она шла по роще и думала о том, как быстро течет время. Давно ли Машута была маленькой и царапалась с братом из-за каждой мелочи, а уж у нее сын медвежонок Иля. И брат ее, Мишук, вырос и тоже медвежат имеет. Да и по средам Кири-Бум все меньше и меньше видит у сосны старых друзей. Ходила медведица Авдотья, умерла, один ее Ивашка остался. Умерла и Матрена, мать Машуты. Перебрался жить к сыну в Осинники медведь Лаврентий. Заметно постарел и сдал за минувшую зиму медведь Спиридон. И медведя Тяжелая Лапа не слышно давно. То все по роще ходил, глядел, кому по шее дать или хотя бы плечом притиснуть, а то и на сказки ходить перестал. Давно уж не был. – Что ж, молодое растет, старое старится, – проговорила черепаха Кири-Бум, останавливаясь у Яблоневого оврага. Вроде и недалеко он, Яблоневый овраг, от берлоги Машуты, а велик ли у черепахи шаг? Чуть к обеду добралась до него. Устала. Присела отдохнуть. На ветке черемухи покачивался Сорокопут и повторял одно и то же: – Неправильно это. Забудется вроде немного, но тут же встрепенется и скажет: – И все-таки неправильно это. – О чем это ты? – спросила у него черепаха. – Зря, говорю, товарищи на меня обиделись, – отозвался Сорокопут и, перелетев поближе к Кири-Бум, рассказал: проснулся он вчера и объявил всем: – У меня сегодня день рождения. Именинник я сегодня. И полетели к нему синицы, зорянки, зяблики. Каждый что-то съестное принес: кто жука, кто червяка. Так уж принято у птиц Гореловекой рощи: одарять именинника в день рождения. Окружили птицы Сорокопута, угощают: – Тебе сегодня нужно сладко есть. У тебя сегодня такой день… А Сорокопут ест да поддакивает: – Да, да, как же, это ведь такой день… А когда наелся досыта, махнул крылом: – Ну а теперь летите все по домам. Пошутил я. Никакой я не именинник. Просто захотелось мне, чтобы вы поухаживали за мной, угостили меня. Птицы обиделись. Улетели. Это было вчера. А сегодня проснулся Сорокопут и вспомнил, что у него сегодня и в самом деле день рождения. В этот день год назад он родился. Пролетел Сорокопут по Яблоневому оврагу и сообщил всем: – Собирайтесь ко мне в гости, я сегодня именинник. Но никто к нему не прилетел и не принес никаких подарков. Сказали птицы: – Ты нас обманул вчера. Мы тебе не верим. И вот теперь покачивался Сорокопут на ветке и жаловался черепахе Кири-Бум: – Неправильно же это, совсем неправильно: я же их вчера обманул, а они мне и сегодня не верят. А я ведь ночь проспал, теперь мне опять верить можно. – А ты шутник, – улыбнулась черепаха и сощурила глазки. Подумала: «Вот и еще одна живая душа растет у нас в роще. Не сбился бы с пути, надо будет рассказать о нем в следующую среду, поправить. А то начнет плутать, как плутает всю жизнь медведь Тяжелая Лапа. Кто от него только не плакивал, на ком он только крепость своих кулаков не пробовал. И все от того, что проглядели когда-то. Свернул он с тропы верной и прет напролом. И сам измаялся весь и другим от него одно горе». – Прилетай в следующую среду к сосне с кривым сучком, я кое-что интересное расскажу, – пригласила черепаха Кири-Бум Сорокопута и спустилась по склону оврага. – Обязательно прилечу, – прокричал ей вслед Сорокопут и закачался на ветке, повторяя время от времени: – Нет, нет, неправильно это. Я ночь переспал, и мне опять верить можно. Заяц Андропка 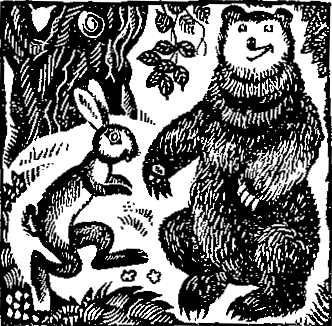 Черепаха скатилась на дно Яблоневого оврага, огляделась. В овраге было прохладно, пахло влажной землей. По склону, цепляясь за стволы черемух и вяза, карабкались кверху колючие плети ежевики. Рядом у вербы булькал родничок. Кири-Бум попила из него и хотела было идти дальше. Поблизости кто-то всхлипнул. Черепаха прислушалась: неподалеку кто-то плакал. Кири-Бум свернула влево и увидела медведя Тяжелая Лапа. Он лежал на дне оврага, седой, тучный. Возле него сидел заяц Андропка, По его серым щекам текли слезы. Медведь был мертв. Он лежал на животе, уткнувшись мордой в траву, и лапы его были растопырены в стороны. – Что же ты не позовешь никого? – спросила черепаха зайца. Его же похоронить надо. – Звал, – всхлипнул Андропка, – но никто не идет. Он, говорят, столько куражился над нами, столько нам за свою жизнь зла сделал, что ему за это три раза умереть мало и все три раза непохороненным остаться. Черепаха обошла медведя вокруг. Посмотрела ему в глаза мертвые, сказала: – Отходил, значит, свое, помер. И повернулась к зайцу: – Неужели так никто и не пошел хоронить? – Нет, – всхлипнул Андропка. – Все утро звал. Зачем, говорят, мы его хоронить будем, если он всю жизнь только и делал, что ходил по роще да глядел: кого бы кулаками своими тяжелыми вымолотить, а кого причесать по больнее. – Ну что ж, – сказала черепаха, – как жил, такова и честь ему, видно: где уложила его смерть, там пусть и лежит на страх другим. Услышал ее слова Андропка и запричитал: – А я как же? Что я без него делать буду? – А ты-то о нем что плачешься? – удивилась Кири-Бум. – Он же тебя обижал при жизни, помыкал тобой. – Помыкал. Проходу от него одно время не было. – Колотил тебя. Много ты от него перетерпел. – И это одно время было, – уронил заяц слезу на мертвого медведя. – Из рощи тебя гнал. – И это было. Где ни увидит, бывало, и ногами топает: вон с глаз долой. – Так что же ты тогда о нем убиваешься? Он тебе столько плохого сделал… – Да ведь не все же плохое, и хорошее было. – Это от медведя Тяжелая Лапа хорошее? У него же доброта в сердце на семь замков замкнута была. – А я ключик подобрал к его сердцу, оно и открылось, обогрело меня. Черепаха не верила, а заяц говорил правду. Побегал он по роще, прятался ото всех и понял: сила – у сильных. Вон как разбегаются все в стороны, когда появляется медведь Тяжелая Лапа. И решил Андропка поближе к медведю держаться, понравиться ему решил. Чуть что, бывало, бежит к нему за советом. Лето на пороге – он в берлогу к медведю. – Помоги, пожалуйста, наставь на путь верный. Кроме тебя никому задачи не решить моей. Только твоему разуму под силу она. Обсыплет медведя словами липучими, польстит ему, он и раздобреет. – Чего тебе? – гудит. А Андропка поближе к нему придвигается. – Да вот посоветоваться пришел к тебе: пора ли мне морковку рыть. А откуда медведю знать – пора зайцу морковку рыть или нет. Он морковью не кормится. Но приятно медведю, что Андропка за советом к нему пришел. Другие зайцы, даже когда позовет он их, в кусты кидаются, а Андропка сам, без зова пришел. И спрашивал медведь у зайца: – А сам-то ты как думаешь? – Да вроде рановато. – Тогда погоди, – решительно советовал ему медведь Тяжелая Лапа. – Поспешишь, всех насмешишь. Зачем тебе это. Идет Андропка домой, рассказывает встречным: – У медведя Тяжелая Лапа был сейчас. Вот голова. Ума недюжинного медведь. Совет с ним держал: пора ли морковку рыть. «Погоди, – говорит. – Спешить в таком деле не надо». Как он советует, так и сделаю – спешить не буду. А ступит, бывало, осень на порог, опять Андропка к медведю бежит. – Помоги, пожалуйста, наставь на путь верный. У тебя ведь голова – другой такой не найти. Польстит медведю, и отмягчит у него сердце. – Чего тебе? – гудит. Посоветоваться к тебе пришел: пора или не пора капусту на деревенских огородах зубрить. А откуда медведю знать: пора или не пора зайцу капусту зубрить? Медведи капусту не едят. Но и приятно ему, что Андропка за советом к нему пришел. Другие зайцы бегут от него, даже когда он позовет их, а Андропка сам, без зова пришел. И спрашивал медведь у зайца: – А сам-то ты как думаешь? – Да вроде пора. Морозцем ее уже поприжало. Самый раз вроде. – Тогда беги и зубри, – решительно советовал ему медведь Тяжелая Лапа. – Упустишь время – потом не наверстаешь. И шел заяц опять домой, хвастался: – У медведя Тяжелая Лапа был сейчас. Недюжинного ума медведище. Совет с ним держал: не пора ли капусту на огородах зубрить. Говорит: «Пора, Андропка, беги, а то опоздаешь». Побегу сейчас. Как он советует, так и сделаю. Встретил однажды Андропка зайчиху на просеке весной, глянул на нее, всплеснул ушами и помчался со всех ног к медведю. – Помоги, пожалуйста. – Чего тебе? – прогудел медведь Тяжелая Лапа. – Посоветуй скорее, – приплясывал от нетерпения заяц. – Пора или не пора мне жениться? А откуда медведю знать – пора зайцу жениться или нет. Но и без совета оставить Андропку не хочется. Ведь он один только изо всей рощи навещает его. Спросил: – А сам-то ты как думаешь? – Думаю, что пора, – подпрыгнул заяц. – Тогда женись, – решительно посоветовал ему медведь Тяжелая Лапа. – Только и жениться, пока молодой. Состаришься, кто за тебя, за старика, пойдет? Летел после этого заяц по роще, кричал всем: – Опять у медведя Тяжелая Лапа был, совет с ним держал. Недюжинного ума медведище, во всем разбирается. И всегда так: сходит к медведю и хвастает. Слушают его звери и думают: «Андропка-то у медведя запросто в гостях бывает. Надо подальше от него держаться, а то придушишь невзначай, беды потом не оберешься». Доволен был Андропка. Смело по роще ходил, весь страх потерял, не гнулся, как бывало. Говорил всем с гордостью: – Оттого у меня все в жизни складно получается, что я без совета медведя Тяжелая Лапа ничего не делаю. Его советами живу. Доволен был и медведь Тяжелая Лапа. И тоже ходил по роще и говорил всем: – Глядите, не обижайте Андропку. Он заяц правильный. Пока моего совета не спросит, ни за какое дело не возьмется. Оттого и не ошибается ни в чем. Жениться собрался и то ко мне за советом прибежал. И шел дальше. И вскоре слышно было, как он еще убеждает кого-то: – Вот вы все говорите – заяц, заяц. Нет, зайцы, они тоже разные бывают. Взять вот Андропку, к примеру. Очень правильный заяц. И начинал свой рассказ о правильном зайце. – Опорой он был мне в жизни и защитой, – говорил Андропка черепахе и размазывал по щекам слезы. – Увидел я, одинок он, и стал ходить к нему. И была мне от него польза. А теперь что я без него делать буду? Не любят меня в роще, и все за то, что я с медведем Тяжелая Лапа дружбу водил. – Что ж, – сказала Кири-Бум, – это ведь не только у нас и в других рощах подхалимы не в чести. Перед кем шею гнул? Эх, ты, Андропка. Он у нас в роще только тем и славился, что дурью силу в лапах имел. – А что я мог? Он – медведь, я – заяц. Мне всегда и везде больно. Всяк по загривку метит. – У нас в роще не один ты заяц и другие есть, да они ведь не пошли на поклон к нему. Гордость в себе имели. Один ты подлизун такой выискался. – Что ж, если я робким таким родился. – Не родился – вырос. Подхалимами не рождаются, подхалимами вырастают. Плохо тебе будет теперь. Андропка, ох, плохо! – Что ты меня пугаешь, – всхлипнул заяц. – Я итак весь слезами изошел. Ты бы лучше посоветовала мне, как быть. Медведь мой умер, товарищи от меня отвернулись. Один я. – А ты советовался с кем, когда к медведю ластился и товарищей своих на него менял? – Нет. –То-то, сам ты их отшиб от себя. И как сумел потерять, так сумей и найти. И нечего слезы лить. Не такой уж ты горький. – Так ведь тяжело мне. Один благодетель был и тот помер. – Водицы вон из родничка попей, авось легче станет. – Я уж пил, не помогает. – Ну и я твоему горю не помощница, – сказала черепаха и пошла своей дорогой. Хотела было позвать кого-нибудь, чтобы похоронили медведя Тяжелая Лапа, все-таки он – медведь. Нехорошо, если он будет на виду у всех в овраге лежать и будут клевать его вороны с коршунами. Но тут же решила: – Пусть полежит. Пусть все видят и запомнят пусть все: как прожил ты свою жизнь, такова тебе и честь после смерти. Так товарищи не делают 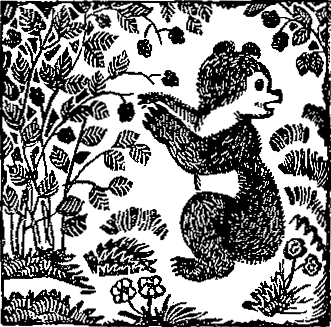 За Яблоневым оврагом повстречался черепахе Кири-Бум Ивашка, сын покойной медведицы Авдотьи. Шел он от Мишука, нес мед в ведерке. Чуть узнала его черепаха: совсем медведем стал Ивашка. Округлел, раздался. А года два назад, как и Машута, медвежонком по роще бегал. Большим озорником был. С медведя Тяжелая Лапа пример брал. Буянистый был, обижал маленьких. Без отца рос, пристращать некому было, вот и озорничал. Станет его, бывало, стыдить медведица Авдотья: – Разве можно так делать, Ваня? Огрызнется Ивашка: – Медведю Тяжелая Лапа можно, а почему мне нельзя? И шел в рощу безобразничать. И хитрым рос Ивашка. Так и глядел, кого бы надуть, у кого чего выманить. Попадало ему часто за это, но все равно Ивашка от привычки своей – хитрить – не отказывался. В сказках его пробирала Кири-Бум у сосны с кривым сучком. Слушал ее вместе со всеми Ивашка и поскрипывал от злобы зубами. А когда рассказала черепаха однажды, какой сон приснился Ивашке в воскресенье, сказал Ивашка сердито: – Я тебе этого, Кири-Бум, никогда не прощу. И пошел прочь от сосны. А сказка вроде и безобидная была. Рассказывала Кири-Бум: «Уснул Ивашка после обеда в воскресенье и приснился ему сон. Приснилось ему, будто пришел к нему Мишук и говорит: – Идем, Ваня, в соседний лес помалинничаем. Пошли они. Забрался Ивашка в малинник. Очень ягодный куст нашел. Сидит, обирает его, Мишука не зовет. А Мишук аукает, кричит ему: – Ты где, Ивашка? Молчит Ивашка. Сидит под кустиком, ест, не отзывается. Отзовись, придет Мишук, рядом подсядет. Горсть сорвет – убыль ему, Ивашке, на целую горсть меньше достанется. Лучше уж помолчать. Промолчал Ивашка, не откликнулся на голос Мишука. А Мишук покричал, поаукал и затих. Обобрал Ивашка малину с куста, выбрался на полянку. Смотрит – нет Мишука. Туда, сюда – нет нигде. А лес чужой, темный. В одну сторону кинулся Ивашка – нет ему конца, в другую кинулся – стоит лес стеной непроходимой. И не знает Ивашка, куда бежать ему, где искать дом свой. Приложил лапы ко рту, закричал изо всей мочи: – А-у! Где ты, Миша? Прислушался – молчит лес. И еще даже вроде темнее стал и непроходимее. И опять Ивашка лапы ко рту приложил: – Где же ты, Миша? А-у! И оглядывался опасливо: не накликать бы беды. Долго кричал. Осип даже. Изодрался весь, между деревьями плутая. И кто знает, что бы с ним в этом темном лесу было, если бы он… не проснулся. Смотрит Ивашка – он у себя в берлоге. Никакого чужого леса нет. И Мишук вон идет к нему по тропинке в гости и мух от себя лапой отгоняет. Рассказал Ивашка Мишуку сон свой да и говорит: – Что же ты, Мишка, в чужом лесу меня одного бросил? Я, знаешь, как перепугался: сторона дикая, нежилая. Разве так настоящие товарищи делают? – За что ты коришь меня? Это же во сне было, – попытался было оправдаться Мишук. А Ивашка ему сказал: – И во сне так настоящие товарищи не делают. Я же мог заблудиться. И одного только не рассказал Ивашка из своего сна, как сидел он неслышно под малиновым кустом и обирал с него малину. И когда окликнул его Мишук, не отозвался, чтобы не пришел тот и не подсел рядом. Не рассказал этого Ивашка, потому что знал он, что и так тоже настоящие товарищи не делают даже во сне». Вот какую сказку рассказала однажды у сосны с кривым сучком черепаха Кири-Бум. Все смеялись. Смеялся вместе со всеми и Мишук, а Ивашка слез вдруг со своего пенька и заявил сердито: – Я тебе этого, Кири-Бум, никогда не прощу. Было это три года назад. Крепко тогда у Ивашки на черепаху обида осела, даже здороваться перестал. Но за три года много в речке воды утекло, хоть и перегородили ее бобры запрудой. За эти годы Ивашка совсем иным стал: и сам никому худа не делает и других осаживать учился. И на черепаху больше не сердится. Увидел ее, остановился: – Домой пробираешься, Кири-Бум? – Куда же еще? С самого утра иду и полпути прошла только. Сам знаешь, как хожу я. Да и стара стала, устаю, отдыхаю часто. Сказала и пошла было дальше, но Ивашка предложил ей: – Давай я тебе помогу, Кири-Бум. Если бы это другой кто предложил, Кири-Бум отказалась бы: она любила ходить. Пока идешь по роще, столько увидишь всего. Другому кому черепаха не позволила бы нести себя, а Ивашке сказала: – Ну, помоги. Ей было приятно, что Ивашка иным стал, что больше не сердится на нее. Ведь она о нем чаще, чем о других, сказки рассказывала. Да и сейчас еще иногда рассказывает. И Ивашка не обижается. – А зачем обижаться, – говорит. – Что было, то было. До самой Бобровой запруды донес Ивашка черепаху Кири-Бум. А когда узнал, что в Яблоневом овраге лежит мертвый медведь Тяжелая Лапа и никто не хочет хоронить его, сказал: – Я пойду похороню его. И пошел было, но остановился, добавил: – А ведь и я мог бы свою жизнь так же, как он, во зле прожить, если бы ты не поправила меня, Кири-Бум, своими сказками. Спасибо тебе за них. Напугал Месяц Зорьку  Кири-Бум устроилась поудобнее на коряге и стала смотреть, как уходит с неба солнце. Она любила по вечерам, сидя у Бобровой запруды, глядеть на затухающие краски неба. Сначала оно бывает все в огне, горят высокие неподвижные облака. Потом пламя садится ниже, еще ниже. И наконец от него остается только узенькая полоска вдоль горизонта. Она держится долго, но к полночи и она гаснет. И Кири-Бум уходит спать, а на другой вечер она опять сидит на коряге и любуется закатом. Вот и сейчас смотрит она, как не спеша опустилось далеко за реку солнце и там, за рекой, где сходятся земля с небом, родилась Зорька. В небе висел Месяц. Зорька помахала ему алой косынкой и сказала: – Здравствуй. Я вижу тебя первый раз, но ты мне нравишься. Если бы Зорька была постарше, она, возможно, не сказала бы этого, но она только что родилась и говорила, что думала. Месяц тоже был молодым. Ему было три дня от роду. И все-таки он был старше Зорьки на три дня и решил подшутить над ней. – Ты напрасно радуешься, – сказал он с грустью. – Тебе недолго глядеть на меня: сейчас я оставлю небо. – Вечер только начался, а ты уже хочешь идти спать? – Разве я сказал, что иду спать? Я решил покончить с собой. Солнце от меня ушло, звезды ко мне не идут. Я остался один и сейчас брошусь от тоски в речку. Месяц шутил, но Зорька была так молода, что не догадывалась об этом, верила ему, говорила: – Не отчаивайся. Я с тобой. Я буду гореть для тебя, только будь в небе. Если бы Зорька была постарше, она, возможно, не сказала бы этого. Но она только что родилась и говорила, что думала. Месяц посмеивался про себя в небе, пугал ее: – Нет, нет, не уговаривай, я не изменю своему слову. Я покидаю небо. Смотри не на меня, в речку смотри, я падаю, падаю… Зорька перевела взгляд на речку и побледнела: в воде барахтался Месяц. К нему от берега бежали волны. Кажется, они хотели потопить его. Зорька закричала им: – Осторожнее, это же – Месяц. Его оставило солнце, к нему не идут звезды. Он совсем один и от тоски бросился в речку. Спасите его. И томилась у берега: – Что ты наделал, Месяц! Плыви ко мне. Я здесь. Я помогу тебе. Ну что ты молчишь? Пророни хоть словечко. И темнела от страха, что он тонет, что он далеко от нее, а она не умеет плавать и потому не может броситься в воду и спасти его. Месяц шутил. Месяц был в небе. Он глядел на Зорьку сверху и смеялся, что она приняла его отражение за него самого. Он тоже был молодым, ему было всего три дня от роду. Ему захотелось еще сильнее напугать ее. Мимо проплывало облако. Месяц взял и прикрылся им. Увидела Зорька – нет больше Месяца в речке, одни волны бегут назад к берегу. Вскрикнула: – Утонул! Вскоре Месяцу надоело прятаться за облаком. Он выглянул. Зорька догорала на берегу речки. В ней угасала последняя искра жизни. И лишь тут только понял Месяц, как он зло подшутил над нею. И он закричал сверху: – Очнись, Зорька. Я пошутил. Гляди – живой я, плыву по небу. И ласково, нежно: – Очнись, Зорюшка. Но Зорька померцала еще с минуту и угасла. И Месяц вдруг осиротел. Стало действительно ему одиноко в небе, хоть и горели в нем уже тысячи звезд. Месяц опустился чуть ниже. Потом еще ниже. И укатился за край земли. Провожая его маленькими глазками, подумала Кири-Бум: «Каждому на земле свой срок отмерян. Скоро и я, как заря эта, отгорю свое. И может, это последняя сказка, которую нашла я в нашей роще и которую расскажу в следующую среду». И еще подумала: «Умру я, и умрут вместе со мной мои сказки». Подумала так и встревожилась. Нет, сказкам ее нельзя умирать. Они нужны роще. Сколько еще бродит по ней таких, как заяц Андропка, Сорокопут, и таких, каким был когда-то Ивашка. Их надо поправить, пробудить в их сердцах доброту. А как? – спросила сама себя черепаха Кири-Бум и сама же себе ответила: – Сказкой. Сказка к любому сердцу тропу находит. И потому мне можно умереть, а сказкам моим – нельзя. Они должны жить и помогать всем, кто живет в нашей роще, становиться лучше. Черепаха завозилась на коряге: что делать? Как быть? – Надо с Потапычем посоветоваться. С этими словами Кири-Бум сдвинулась с коряги и не спеша, своим обычным черепашьим шагом поплелась к Потапычу, хозяину Гореловской рощи, рассказать о своей тревоге. Многим она за жизнь помогла добрым советом, теперь нуждалась в мудром совете сама. Идти было далеко, но дальняя дорога не пугала черепаху. – Когда доберусь, – говорила она, – тогда и ладно. Плохо, что отдохнуть не успела. Ну да ладно, потом отдохну. В роще с каждой минутой сгущались сумерки. Собирались на охоту ночные птицы. Потапыч задумывается  Потапыч, хозяин Гореловской рощи, спал у себя в берлоге и видел третий сон, когда в дверь, хоть и негромко, но требовательно постучали. Медведь заворочался: – Кого это еще там несет нелегкая. Если ты хозяин рощи, то тебе и ночью покоя нет. Заскрипела кровать под грузным медвежьим телом, заскрипел осипший со сна голос: – Кто это стучит там? Сон мой рушит? Завтра приходите. – Завтра поздно будет, Потапыч, сегодня впусти. Медведь узнал голос черепахи Кири-Бум и поднялся. Кому-нибудь другому он мог бы и не открыть в такой поздний час, а Кири-Бум – нельзя. Придумает сказку, на смех поднимет, опозорит. А позориться Поталыч не хотел, потому что знал: его имени не один день жить, хозяина рощи не забывают. В берлогу войти Кири-Бум отказалась. – Душно у тебя. На завалинке посидим. – Можно и на завалинке, – согласился Потапыч, а на язык так и просились слова: «Кто же перед зарей на завалинке сидит? Спать надо». Но подумал Потапыч: «Имени моему не один день жить, и я все снесу: и что с постели поднимают ни свет ни заря, и что зябнуть перед рассветом приходится, все вытерплю, но уберегу в чистоте его». Сказал, поеживаясь: – Слушаю тебя, Кири-Бум. Вижу: не просто так ты ко мне среди ночи пожаловала. Говори. – А что ж тут говорить, сам видеть должен – умру я скоро. – Аль заболела? – Здорова пока, но годы поджали. Ровесницы мои давно в землю сошли. И я скоро лягу. – Все мы не бессмертны. Вот я, хозяин рощи, а тоже умру когда-нибудь. Отстучит мое сердце и – конец. – Ты вроде успокаиваешь меня, Потапыч. Не надо. Не за утехой шла я к тебе в эдакую даль. Не о себе думаю. Умереть я не боюсь. Я свое отжила. Но умру я, и умрут вместе со мной мои сказки. «Туда им и дорога», – подумал Потапыч. Сказок черепахи он не любил: колючие они. И не про тебя вроде, а оглядываться заставляют: не смотрит ли на тебя кто с усмешкой. – И чего ж ты хочешь? – спросил медведь. – Мои сказки нужны роще, – сказала Кири-Бум – Вот и пришла я к тебе с просьбой: прикажи выбить их на березе. Ведь пока будет стоять береза, будут жить и мои сказки, а состарится – можно будет на молодое дерево переписать. И пока шумит Гореловская роща, будут жить и мои сказки. Еще утром сегодня смотрел Потапыч на всех, с кем встречался в роще, и думал: «Умрете вы, и забудут вас, а меня будут помнить и после смерти – хозяина рощи не забывают». И гордился Потапыч, что он не такой, как все. А услышал, что собирается черепаха записать свои сказки, и за сердце схватился: «Э-эх, запишет черепаха сказки, и я уже ничем не буду отличаться от других: ведь их тоже помнить будут. Мне, чтобы в забытых не оказаться, нужно было стать хозяином рощи, а какому-нибудь Шакалу, чтобы прославиться, нужно всего лишь попасть в сказку черепахи Кири-Бум! Так не пойдет». Потапыч вскочил и заходил по полянке. – А почему ты думаешь, что твои сказки нужно записать? – Потому что они добру учат. – Не все. Ты иногда и чепуху рассказывала. – Отберем лучшие. Почему, например, не записать мою сказку о Матрене? – Так она же померла уже. – А сказка о ней осталась. Помнишь ее? Нет? Ну так я могу напомнить, рассказать. – Расскажи, послушаю, – сказал Потапыч, а про себя решил: «Буду хаять. Охаю покрепче две-три, увидит черепаха – плохие у нее сказки и, чтобы не позорить себя, откажется записывать их». А черепаха уселась поудобнее на завалинке и, покачиваясь и поглядывая на помигивающие за ветвями деревьев звезды, певуче повела рассказ свой: «Ничему не хотел учиться у медведицы Авдотьи медвежонок Ивашка. Бранит его, бывало, медведица: – Лодырь ты, бездельник. А Ивашка сердится: – И как это ты все видишь? Это, наверное, потому, что я у тебя один. И тут заболела медведица Авдотья и пригорюнилась – куда Ивашку девать. А соседка ее, медведица Матрена, и говорит: – Давай его ко мне. У меня своих медвежат двое, а где двое, там третий не помешает. Обрадовался Ивашка – среди Матрениных ребят его незаметно будет. Не делай ничего – и слова никто не скажет. Переспали ночь. Собралась медведица завтраком медвежат кормить. Смотрит – ее Мишук и Машута заправили кровати, а Ивашка и не подумал. Как была она у него неприбрана с ночи, так и осталась. Задумалась медведица: как быть ей. Как сказать Ивашке об этом? Пожурить? Еще обидится Ивашка. Скажет – если мать заболела, то уж и ругают меня. И тогда кликнула медведица сына своего и ну его виноватить: – Ты что же это, Мишка, как постель плохо убрал? Погляди, куда у тебя подушка углом смотрит? – К окошку, – сжался медвежонок. – А куда нужно, чтобы она глядела? – К двери. – Так что же, выходит, я тебя зря учила? Да я вот тебя сейчас ослушника за вихор. Убирай все сызнова. Раза три пропотел Мишук, пока его мать бранила. Мишука перестала, Машуту начала: – А у тебя, Машка, что это одеяло морщится? Разве я тебя так учила постель убирать? И не отвертывайся, в глаза гляди, бесстыдница. Уж она ее, уж она ее! «У, – думает Ивашка, – у Мишука с Машутой все-таки заправлены койки, и то она их вон как куделит, а что же будет, когда до меня очередь дойдет?..» Подбежал к своей кровати, заправил ее скорее, одеяло разгладил, чтобы ни одной морщинки не было. Подушку углом к двери поставил, сделал все, как надо. Похвалила его медведица: – Вот у кого учитесь постель убирать. Стали за стол садиться. Смотрит медведица – ее Мишук и Машута умылись, а Ивашка и не подумал даже. Он у себя дома никогда не умывался. – Все равно, – говорит, – к завтрему опять испачкаюсь, грязный буду. Зачем же тогда сегодня умываться? И в гостях неумойкой за стол полез. И задумалась медведица: как быть? Пристыдить Ивашку? Еще обидится. Скажет: если мать заболела, то уж и стыдят меня. И напустилась тогда Матрена на сына своего: – Что же это ты, Мишка, умылся как? Щеки потер, а под носом кто мыть будет? Разве я тебя так умывать ся учила? – Нет, – сжался медвежонок. – А что же ты позоришь меня перед гостем? Уж она его, уж она его! Раза три пропотел Мишук, пока его мать бранила. Побежал поскорее к умывальнику. А медведица дочь свою отчитывать принялась: – А ты, Машка? Ты что же это – шею вымыла, а уши забыла? Я тебя разве так умываться учила? Уж она ее, уж она ее! «У, – думает Ивашка, – Мишук и Машута все-таки умылись, и то она их вон как бранит, а что же будет, когда она увидит, что я совсем неумытый за столом сижу…» Вскочил скорее – и к умывальнику. Морду вымыл, уши, шею чисто-начисто продрал. Похвалила его медведица: – Учитесь у Ивашки, как умываться надо. Так и повелось с той поры: увидит медведица у Ивашки непорядок какой, своих медвежат винить начинает, а Ивашка догадается и, пока до него очередь дойдет, приведет себя в порядок. Похваливает его Матрена. Ивашка тоже доволен. – Хорошо, – говорит, – что я ей чужой: не сразу она меня замечает. Пока своих отбранит, меня уж и бранить не за что. Вот как… Закончила черепаха рассказывать и спрашивает у Потапыча: – Ну, а теперь скажи: разве недостойна Матрена, чтобы сказка о ней записана была. И опять Потапыч виски зажал: как хитро спросила Кири-Бум. Скажи он: недостойна – расскажет об этом черепаха кому-нибудь и поползет по роще: Потапыч запретил записывать сказку о Матрене, а сказка хорошая. И все – конец доброму имени. Нет, в таком деле осторожнее надо быть. Скрыл Потапыч тревогу свою, сказал: – О Матрене записать можно. Она была доброй медведицей. – У меня и о других медведях сказки есть. Можно рассказать, как медведь Лаврентий строил себе новую берлогу, а сын Афоня помогал ему, но помогал так хитро, что Лаврентию самому приходилось все делать. Я рассказывала об этом у сосны. Хочешь, еще расскажу. Слушал Потапыч черепаху, ходил вдоль берлоги, тер виски ладонями, прикидывал в уме, как отговорить Кири-Бум, чтобы не записывала она свои сказки: вдруг обидит кого, ссора может выйти, а разбирать ему – Потапычу. А что, если ошибется он при этом и потеряет доброе имя? «Эх, – думал Потапыч, глядя на черепаху. – И головенка-то с заячий кулак, а что придумала, даже моей большой голове больно». – Ну, понравилась тебе моя сказка о Зайце? Это спросила черепаха. Потапыч покашлял в кулак, сказал: – Ничего, но колючая больно. Такую лучше не записывать. Обидеться может Михайло. – Так это не о нем сказка. – Я понимаю, но он обязательно обидится: задела. – Можно другую рассказать… Сидела черепаха Кири-Бум на завалинке, глядела на помигивающие сквозь ветви деревьев звезды, называла свои сказки о зайцах, а Потапыч ходил вдоль берлоги и поглаживал лапой грудь: саднило сердце, беду чуяло. Не первый год Потапыч был хозяином рощи и знал: скажи он слово – и останутся незаписанными сказки черепахи. Но скажи он это слово, и поползет по роще: – Потапыч запретил записывать сказки черепахи Кири-Бум, потому что правды боится. И конец его доброму имени, а Потапычу хочется, чтобы осталось оно в памяти у всех незапятнанным. Потому и решил Потапыч: «Пусть записывает. Препятствовать ей не буду, но сказки ее процежу, самые безобидные оставлю, чтобы никто на меня не косился потом». Решил так Потапыч, и сразу ему легко стало. И даже похвалил про себя черепаху: молодец Кири-Бум, что придумала записать свои сказки. Пока будут читать их, и его, Потапыча, добрым словом вспоминать будут. Кто, отобрал эти сказки? Потапыч. А кто разрешил записать их? Опять же он – Потапыч. И будут говорить все в роще: – Добрым хозяином был Потапыч. И сказал медведь черепахе: – Убедила ты меня. Я согласен: надо записать твои сказки, пусть живут. С блекнущего неба одна за другой скатывались звезды. Тьма редела. В рощу широко и властно входил рассвет. Потапыч поглядел на черепаху и сказал заботливо: – Сквозит здесь. Идем в берлогу ко мне, а то еще продует тебя, расчихаешься. Утро Ду-Дука  В это утро дятел Ду-Дук проснулся рано. Солнце только еще из-за полей выкатывалось, а он уже сидел на сосне и, поддергивая красные шаровары, думал: «Навыхватываю сейчас жуков-короедов и полечу птенцов кормить», – да загляделся, как всходит солнце, и забыл обо всем. Издали от Ванина колодца донеслось: – Ду-Ду-ук! И дятел очнулся: – Жена!.. Эх, и попадет мне сейчас. Детишки-то не кормлены. Навыхватывал поскорее из сосны жуков-короедов и – домой. Напустилась на него жена: – Что же это ты? Я уже три раза птенцам поесть принесла, а ты первый раз прилетел. Разве так настоящие отцы делают? Ду-Дуку стыдно, что он загляделся на солнце и забыл о детях, но он без спора не уступает, бодрится: – Не ругайся. Вон куропатка одна и на гнезде сидела и птенцов одна водит. И не ворчит. А я хоть немного, да помогаю тебе. И полетел к сосне. Решил он набрать поскорее жуков и домой вернуться, чтобы похвалила его жена. И быстро бы вернулся, если бы не разговорился с медведем Михайлом. Увидел, идет он к речке, окликнул его: – Что я приметил, Михайло Иваныч: кто как ходит, тот так и живет. Вот ты во весь рост ходишь по роще, не робеешь. И живешь так же прямо: никого не боишься. – Это верно, – отозвался медведь, – без робости я живу. – Вот видишь, правду я говорю. А заяц, тот совсем по-иному ходит: высунется из-за кустика, поглядит, нет ли поблизости кого. Перебежит к другому кустику и уши насторожит: не услышал ли его кто. И живет он также: с опаской да с оглядкой. Его с тобой, Михайло Иваныч, не сравнить. На ту пору Змея мимо ползла, траву узеньким лбом раздвигала. Услышала, что говорит дятел, спросила: – Ну а я как живу? – Как ползаешь, – ответил Ду-Дук. – Извиваешься, петляешь. Смотришь вроде мило, а сама так и норовишь ужалить побольнее. – И не правда это, – прошипела Змея и поползла в малинник. И сейчас же взвизгнула в кустах ужаленная ласка. Заговорился дятел с медведем и забыл, зачем на сосну прилетел. И тут издали от Ванина колодца донеслось: – Ду-Дук! Так и схватился дятел за красные шаровары: – Жена! Сейчас мне попадет. И точно, ругала жена его: – Что же ты? Обещал, а сам опять заговорился кем-то. Я еще два раза детей покормила, а тебя все нет. Разве так настоящие отцы делают? – Не буду больше, – ударил себя в грудь крылом дятел. И улетел к сосне. Об одном всю дорогу думал: набрать поскорее жуков-короедов и вернуться домой, доказать жене, что он, Ду-Дук, умеет держать слово. И если бы не окликнул его Поползень, дятел так бы и сделал. Но Поползень высунулся из гнезда – оно у него в дупле, а вход в дупло обмазан глиной – так Поползню нравится, – высунулся и закричал: – Эй, дятел, ты опять на этой сосне умащиваешься? Ты же вчера ее весь день выстукивал. – И на сегодня работы хватит, – нехотя отозвался Ду-Дук, прикладывая к сосне ухо. – Зря, – сказал Поползень. – Ты летай больше. Вот я: позавтракал вчера у дуба, пообедал у ясеня, а ужинать к березе полетел. Везде успел побывать, и весь день сыт был. – Вижу, есть тебе чем дерево вспомнить, – прищурил Ду-Дук левый глаз, – а дерево, интересно, тебя вспоминать будет? – А зачем мне это? Тцит-тицит, – пискнул Поползень. – я сыт, чего мне еще надо? – О, так ты вот какой: только о себе думаешь. Не зря, выходит, тебя все Поползнем зовут. Поползень ты и есть: поползал по дереву и улетел. В дело не в дело, поползал и улетел. Я не таков. – Каков же ты? – Я уж если взялся лечить дерево от короедов, так лечу до тех пор, пока не останется на нем ни одного жука и ни одной личинки. Чтобы после меня другим птицам возле него делать было нечего. А после тебя сколько еще другим работы. – Так это и хорошо. Пусть и другие полакомятся. – Ишь ты! – воскликнул Ду-Дук. – Ты что полегче взять, похватал, а что поглубже упрятано, пусть соседи ищут? Хитер. – Пусть, мне разве жалко. – Вот именно: тебе – пусть, а дерево – страдай. Погоди, я вот расскажу о тебе Кири-Бум, придумает она о тебе сказку. Дятел еще что-то хотел сказать, но от Ванина колодца донеслось вдруг: – Ду-Ду-ук! И дятел схватился за шаровары: жена! – Эх, и попадет же мне сейчас. Из-за тебя попадет. И дятел отчаянно застучал в ствол сосны, а издали от Ванина колодца неслось: – Ду-Дук! Где ты, Ду-Дук? «И чего кричит, – думал дятел. – Ведь теперь все слышат, говорить начнут: опять Ду-Дук заболтался с кем-то и забыл о детях. Разыскивает его жена». А жена кричала чуть ближе: – Ду-Дук! Где ты, отзовись! «Гляди ты, – думал дятел, – она еще мне приказывает. Возьму вот и проучу ее: не стану отзываться, пусть поищет». Но вспомнил, что он уже учил ее однажды, да самого себя только выучил. Случилось это еще в первую весну их совместной жизни. Построили они тогда гнездо, положила в него жена четыре беленьких яичка и стали они совет держать: кому птенцов высиживать. Ду-Дук поддернул красные шаровары, предложил: – Давай ты сиди, а я кормить тебя буду. Но жена не согласилась. – Нет, – говорит, – лучше ты сиди, а я тебя кормить буду. И они заспорили, первый раз в своей семейной жизни. Долго спорили, решили наконец – сидеть по очереди. Первым сел Ду-Дук. Сказал жене: – Иди, да долго не загуливайся. Как встанет солнце вон над той сосной, возвращайся. Улетела жена, а он в дупле сидеть остался. Сидел, грел пушистым животом яички, приговаривал: – Выводитесь, ребятки, шустрыми и пестрыми, как я, отец ваш. Будем вместе по роще летать, деревья прослушивать, да жуков-короедов из них выклевывать. Сколько так просидел дятел, кто знает, только высунулся он из дупла и видит: солнце уже над осиной стоит, а жены нет почему-то. Ждет-пождет – не летит жена. Встревожился Ду-Дук: – Не случилось ли с ней чего? Роща большая: и коршун может задрать, и озорники могут обидеть. Сидел Ду-Дук в дупле, пугал себя страшными мыслями, а жены все не было. И только когда солнце с обеда свернуло, появилась она, шустрая, веселая. – Пестренький ты мой! Заигралась я и забыла, что ты у меня в дупле сидишь. При этих словах Ду-Дуку будто кольнули чем в сердце, так ему обидно стало: забыть о нем, заиграться. «Ну погоди, я проучу тебя. Ишь гулянистая какая», – подумал Ду-Дук, а вслух сказал: – Иди, садись. Да смотри не вылезай из дупла, пока я не вернусь. И улетел в самый дальний конец рощи. Решил он спрятаться и не возвращаться домой долго-долго: день а может быть, и два. – Лучше всего три, – решил дятел и спрятался в ветвях столетней сосны. Сидел, грозился: – Побудешь вот три дня без еды, без воды, без солнышка и узнаешь тогда, как забывать про меня. В следующий раз не будешь лукавить. Грозился дятел, а сам краешком глаза за солнышком поглядывал. И чем ниже опускалось оно, тем мягче становилось у Ду-Дука сердце. – Ладно, – сказал он через некоторое время, – один день, так уж и быть, скощу я тебе, а остальные два, как миленькая сидеть будешь. Но немного погодя поменьшала у него обида в сердце и скостил он еще один день. – Хватит ей и одного. Она у меня сообразительная, в момент все схватывает. Потом… Потом раздумался дятел: конечно, неплохо бы подольше домой не возвращаться, но ведь сердце-то у жены нежное. Еще разорвется от страха, что он тогда один с птенцами делать будет. – А что если оно разорвалось уже? – ахнул Ду– Дук и через минуту уже заглядывал к себе в дупло. – Жена, где ты тут? Увидела она его, поразилась: – Ты чего рано вернулся как? Я свое еще не отсидела. – Разве? – удивился в свою очередь дятел, – а мне показалось, что пора уже. Ну ладно, раз уж я прилетел, не улетать же мне еще раз. Иди отдыхай, да смотри, не опаздывай больше, вовремя приходи. И сел греть пушистым животом яички. Грел, приговаривал: – Выводитесь, птенцы, шустрыми и пестрыми, как отец ваш. Будем вместе по роще летать, деревья лечить. Говорил и улыбался: приятно ему было, что скоро он будет отцом, и птенцы будут звать его «папа». Давно это было, но вспомнил дятел, как учил он жену когда-то, и закричал изо всей мочи: – Я здесь, у сосны. Лети ко мне. Подлетела к нему жена, заворчала: – Что же ты… Опустил дятел глаза, шаровары красные повыше поддернул: – Прости, заговорился тут с Поползнем. Но я сейчас… Быстро… – Да я не об этом, – сказала жена. – Что не отзывался долго? Лети скорее к Потапычу. Зовет тебя. – Кто сказал? – Сорока прилетала. – А как же птенцы? Их же кормить надо. – Лети, одна управлюсь. Тетерка с глухаркой сами кормят, а ты мне сегодня уже помогал немножко. – И еще помогу – вернусь вот, – воскликнул дятел и помчался к Потапычу. Довольный летел: знал, для какого-нибудь разговора приглашает медведь, а поговорить дятел любил. Несла Сорока новость  Издавна все звали в Гореловской роще Сороку болтушкой. И вовсе не потому, что она раньше всех новости всякие узнает и передает всем. А потому, что узнает она иной раз на рубль, а приврет на десять. И поди разберись потом, где ложь, а где правда. Потому и звали Сороку болтушкой, а с лета прошлого еще и замарашкой звать стали. И случай-то вроде пустяковый вышел, а дал Сороке новое имя. Не зря, видно, говорят, что не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Прилетела Сорока к речке напиться, а по речке нефть синими кругами плавает. Испачкалась в ней Сорока. Попробовала отмыться, еще больше испачкалась. Сама на себя не похожа стала. – Как же, – говорит, – я теперь в рощу заявлюсь? Меня же засмеют все. Но домой лететь надо, не будешь же у речки без дела сидеть. Прилетает Сорока в рощу, а ее не узнает никто. Говорят друг другу: – Смотрите, как она похожа на нашу Сороку: и глаза такие же, как у нашей Сороки, блудливые, и хвост длинный, а платье не ее. Что за птица такая? Спрашивают у Сороки: – Ты – наша Сорока? А она головой качает – дескать, что вы! И даже крыло в сторону отставила – дескать, как вы даже могли подумать так! А сама – ни звука. Скажешь слово, узнают по голосу и начнут смеяться: «Ты уж и попить аккуратно не смогла, выпачкалась». Молчит Сорока, немоту на себя напустила. И вскрикнул тут Кобчик: – Да какая же это Сорока! Это же Птица Заморская. Смотрите, она даже языка нашего не знает. И подлетел к Сороке. – Ты из-за моря, да? И закивала Сорока головой – дескать, конечно, из-за моря, откуда же еще мне быть. И сразу оказалась в почете. В Гореловской роще любят гостей встречать. Еды всякой нанесли, угощают Сороку: – Отведай, что едим мы. У вас за морем, наверное, не едят такое. У вас там все заморское. Кивает Сорока черным клювом – дескать, конечно, у нас за морем все заморское. А сама вот ест, вот ест. Глядят все на нее и улыбаются: видать, по вкусу пришлась Птице Заморской еда наша. Шепчут друг другу: – Не из гордых, не гнушается нами. И Сороке: – Кушай, кушай. У нас еще есть. Наелась Сорока досыта и забыла об осторожности. Подняла крыло. И загомонили все: – Тише. Птица Заморская говорить хочет. Пусть не поймем ее, так хоть послушаем, как говорят за морем. И сказала Сорока: – А что я сейчас видела у речки… Всего только это сказала, и все сразу узнали ее. – Ну, конечно, – говорят, – это наша Сорока. Она всегда так: поест – и за сплетню. Язык-то у нее долгий во рту не умещается. А Мишук, сын медведицы Матрены, добавил при этом: – И вовсе она не Птица Заморская. Она просто замарашка. С той поры и появилось у Сороки новое имя. В роще, не любили ее: в глазах она у всех навязла. И только Лиса всегда охотно выслушивает все, что говорит Сорока, и прикидывает в уме: нельзя ли из какой-нибудь ее новости извлечь выгоду. К Лисе и летает Сорока всегда раньше всех. К ней она к первой прилетела и в это утро. Хоть солнце уже было высоко, Лиса только что проснулась. Непричесанная, неумытая, ходила по избе из угла в угол, искала, чего бы поесть. Но так как запасов она никогда не делала, то поесть было нечего. Как раз в эти грустные минуты и появилась у нее под окошком Сорока. Закричала, зажмуривая глаза: – Ой, что сейчас будет, что будет. – Что будет? – кинулась к ней Лиса. – Там, у березы, черепаха Кири-Бум готовится рассказывать свои сказки. – Но она же позавчера рассказывала их. – О, это совсем не то. Позавчера она просто так рассказывала, а сегодня она будет рассказывать, а дятел Ду-Дук записывать, а Потапыч будет сидеть и глядеть: так ли все делается. – Ну?! – Да, у березы уже собираются. Беги и ты скорее. – Я мигом, – сказала Лиса и выскочила наружу. Помчалась со всех ног к березе: может, там у кого чем-нибудь подразжиться удастся. А Сорока дальше понесла свою новость. Увидела – медведь Михайло у берлоги сидит, опустилась на траву, отогнула хвост в сторону, затараторила: – Березу у Ванина колодца знаешь, Михайло Иваныч? – Ну? – Черепаху Кири-Бум знаешь, Михайло Иваныч? – Ну? – Так вот, возле этой березы черепаха Кири-Бум сейчас будет сказки рассказывать, а Ду-Дук записывать их. – А мне-то что? – повел медведь Михайло лохматыми бровями. – Пусть пишут. Зачем ты мне это говоришь? – Как зачем? Запишут вот о тебе на березу что-нибудь, будешь тогда знать, – сказала Сорока и улетела. А медведь Михайло сидел, грудь почесывал, басил: – В моей жизни нет ничего такого, чего бы записывать нельзя было. Я свою жизнь честно прожил. И вдруг отвисла у него нижняя челюсть и в глазах темно стало. Вспомнил медведь молодость свою, а вместе с ней и детство свое вспомнил. Говорила ему в детстве мать: – В лесу жить – с лесом дружить. На всю жизнь запомнил медведь Михайло эту материнскую мудрость. И еще говорила она ему: – Без друзей и товарищей в лесу не прожить. Кто тебе при случае поможет? И эту мудрость матери запомнил медведь Михайло на всю жизнь. И сказал самому себе: – Верно, друзья для того и нужны, чтобы помощь оказывать. И чем больше друзья для меня сделают, тем меньше мне самому делать достанется. Но все время, чтобы только тебе да тебе помогали, так ведь и в лесу тоже нельзя. Поэтому медведь Михайло, если звали его берлогу помочь поставить или еще что сделать, никогда не отказывался. Говорил: – Обязательно приду. А про себя думал: «И не неволит вроде никто, а идти надо». Правда, идти не торопился. Говорил: – Зачем спешить? Чем позже приду, тем меньше мне дела достанется. И всегда старался придти к вечеру, когда уже все сделано. Возьмет веник, подметет вокруг, скажет: – Вот и все теперь. Живи. Скажет так, будто это он товарищу берлогу поставил. Ставили ее все, целый день потели. Ставили сообща, а Михайло мел один, на виду у всех. И говорили все потом: – Чисто отмел как. Доволен Михайло: заметили. А случалось и так: придет Михайло, а уж все сделано и даже отметено от берлоги, вроде и остается ему лишь повернуться и уйти домой, но Михайло и тут не терялся. Распахнет окошко, скажет: – Пусть дух нежилой уйдет… Ух, как свежим ветерком потянуло. Вот теперь хорошо. Живи, дыши, радуйся. И опять говорил так, будто это он товарищу берлогу поставил. Другие целый день трудились. Не обращали внимания, кто что делает. А вот как Михайло окошко распахнул, все видели. И говорили при этом: – Смотрите-ка, а ведь и в самом деле совсем другой воздух в берлоге стал, как он окошко открыл. Слушал Михайло, что о нем говорят, думал: «В лесу только так и жить надо. Делай всегда пусть даже пустяковое, но видное дело, и будет о тебе идти всегда добрая слава». Так он и жил: прикидывал да выгадывал, как бы не переработать, как бы кому чего лишнего не сделать. Берег себя, не утруждал. Но поняли вскоре медведи – хитрит Михайло. Решили и ему хитростью отплатить. Собрался он однажды берлогу новую ставить. Обошел всех, позвал: – Приходите. И все пообещали: – Придем. Ты же к нам ходишь. На другое утро Михайло пораньше проснулся: скоро товарищи начнут собираться, надо их работой наделить. Сам на пеньке сидел, ни за что не брался. Зачем? Чем больше другие сделают, тем меньше ему достанется. До обеда прождал, никто не идет. И до вечера никто не показался. Да и на следующий день никого не видно было. И пришлось медведю Михайле самому деревья для берлоги валить. И когда уже была поставлена берлога, повалили из чащи товарищи. Бегают, суетятся. Кто веничком полы метет, кто окошки распахивает, а медведь Спиридон на крышу забрался, поглядеть, не попало ли чего в трубу, а то начнет топить Михайло печь и пойдет дым в берлогу. Все осмотрели, оглядели, сказали: – Порядок. Живи теперь и радуйся. Важная берлога вышла. Поклонился Михайло всем, сказал: – Спасибо. Хотел было добавить: «За науку спасибо», – но раздумал: и так всем понятно, за что он благодарит их. Не обижался на них и на черепаху не обижался, когда она сочинила об этом сказку. – Что было, то было, чего скрывать, – говорил он, когда смеялись все у сосны с кривым сучком. И добавлял, улыбаясь: – В молодости это было. Теперь, когда зовут меня помочь, я не ищу себе видного дела, за всякое берусь. Один раз осрамился, хватит. Дважды об один пень не спотыкаюсь. Вот что вспомнил медведь Михайло. Вспомнил и поднялся. Взял посох – стареньким стал за последние годы, без посоха не ходит никуда – и пошагал к березе. – Я пойду. Я буду слушать. Я буду возражать. И если запишут эту черепашью сказку обо мне, березу разнесу в щепки. Было дело, ошибся я в молодости, перестрадал за это, но позорить меня перед внуками и правнуками не позволю. И на Потапыча не погляжу. Медведь Михайло к Ванину колодцу шагал, а на Маньяшином кургане прыгал заяц и жаловался Сороке: – Эх, такое дело затевается, и я на нем быть не могу: с волком видеться нельзя мне. Встречает он меня как-то и говорит: – Давай дружить с тобой. – А как? – спрашиваю я у него. – А так, – говорит волк, – сегодня я к тебе в гости приду, ты меня угощать будешь, а завтра… И замялся тут волк. А я и спрашиваю у него: – Ну а завтра? – А завтра, – говорит, – ты меня к себе позовешь, угостишь чем-нибудь. И зачесал я тут за ухом: – Это что ж, – говорю, – и сегодня ты у меня и завтра, а когда же я твоим гостем буду? А волк мне и говорит: – Разве мало тебе того, что я у тебя каждый день в гостях бывать буду? И зачесал я опять за ухом. Говорю ему: – Я так сразу решить не могу. Мне подумать надо… С той поры год уж прошел, а я все думаю: дружить мне с волком или нет. Вдруг спросит он меня, что решил я, а я и ответить не знаю что. – Так он тебя, поди, забыл давно, – сказала Сорока, – а ты боишься. Мало ли зайцев у нас по роще скачет. – Меня забыть нельзя, – сказал заяц. – Я особенный: у меня усы рыжие… Эх, так на сказках побыть хочется. Вдруг черепаха что из нашей заячьей жизни говорить будет, а я и не услышу. А про нас, зайцев, ух, какие жгучие сказки можно рассказывать. Ну вот эту хотя бы почему не рассказать? Заяц подбоченился, облизал красным языком раздвоенную губку и начал было бодрым голосом: «ЗА ЧТО ЗАЯЦ ПРОЩЕНИЕ ПРОСИЛ», – да завозилась Сорока. Она любила рассказывать, но не любила слушать и потому остановила зайца: – Да, это интересная сказка. – Но ты же не знаешь ее. –Я все знаю. О вас, зайцах, действительно много всего рассказать можно. И может, расскажет черепаха, и я послушаю, но только там, у березы. А сейчас мне некогда. И Сорока полетела дальше. Она летела и кричала: – Бегите к березе. Там черепаха Кири-Бум сказки рассказывает, а Ду-Дук записывает их. Видела: волнует всех эта новость, И потому выкрикивала ее изо всей мочи, даже эхо по роще катилось: «Бегите к березе…». И думала Сорока о себе с гордостью: «Хоть вы и зовете меня болтушкой, а все-таки раньше меня новости в нашей роще никто не узнает. Вот вы еще не знаете, что предложил волк зайцу, а я знаю и буду рассказывать вам об этом по великому секрету». Первая сказка 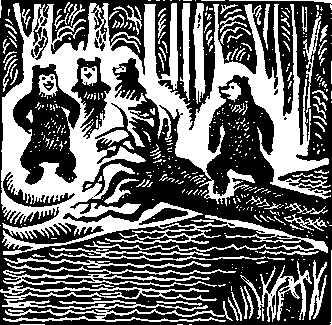 К березе, на которой черепаха Кири-Бум решила записать свои сказки, спешили со всех концов рощи: каждому хотелось услышать, какую о нем расскажет черепаха сказку, каждому хотелось увидеть, как ее выбьет на березе дятел Ду-Дук. Пришла Машута со своим медвежонком Илей, устроилась с ним на сосновом выворотне. Пришли Ивашка с Мишуком. В последнее время они крепко сдружились. Сели рядом, зашептались о чем-то. Прибежал Ёж Иглыч. Оглядел всех. На пенек, покряхтывая, взобрался. Енот его для себя прикатил, а Ёж Иглыч уселся. – Ты, – говорит, – еще для себя прикатишь. Ты и помоложе меня и посильнее. Енот поводил ушами, да делать нечего, прикатил себе другой пень. Медведь Спиридон с медведем Михайлом устроились позади всех на поваленной липе. Медведь Спиридон сидел спокойно, а Михайло ерзал, тревожился, как бы не записал Ду-Дук на березе про его видное дело. Медведь Спиридон поглядел на него сбоку. Спросил: – Ты чего зубами-то скрипишь? – Разве? – спохватился медведь Михайло, – а я и не заметил. В привычку, видать, вошло. – Дурная привычка, а от дурных привычек отвыкать надо. На нас вон медвежата смотрят. Еще подумают, что так и надо – зубами скрипеть. И начнут друг перед дружкой скалиться. А медвежата и впрямь глядели на медведей. Сидели они на траве, свернув ноги калачиком. Позади них сидел у костра Шакал. Тут же и кабан был, чавкал. Лиса все одергивала его: – Не чавкай и не сопи. – Не буду, – смущался Кабан, но через минуту забывался и снова начинал сопеть и чавкать. И Лиса опять одергивала его. Черепаха Кири-Бум сидела на пенечке слева от березы, Потапыч – на большом дубовом пне справа. Губы у него были поджаты, брови сдвинуты – Потапыч хотел, чтобы его именно таким запомнили в первый день записи сказок. Умрет он, а в роще еще долго говорить будут: – У Потапыча в тот день были поджаты губы и сдвинуты брови. Дятел Ду-Дук крупно и четко выбил на самом верху березы: «СКАЗКИ ЧЕРЕПАХИ КИРИ-БУМ». «Записаны в присутствии хозяина рощи Потапыча», – чуть было не сказал Потапыч, да вовремя спохватился: стыдно самому о себе напоминать. Пусть так догадаются. Покашлял значительно. Не догадались. Покосился только Ду-Дук сверху, поддернул повыше красные шаровары, сказал: – Давай, Кири-Бум, начинай. Я готов. Черепаха подперла кулачком щеку. Все затаились: с кого начнет Кири-Бум. У медведя Михайлы сжалось сердце: «Неужели обо мне рассказывать будет?» – думал он, вбирая голову в плечи. «Вот если бы обо мне», – подумал Енот и привстал чтобы его лучше видела черепаха. «Обо мне рассказывать нечего, – спокойно глядел на черепаху Ёж Иглыч. – Я не плут». Ёж Иглыч был уверен, что сказки рассказывают только о плутах. А Кабан, тот вообще ничего не думал, стоял и чавкал. Обвела черепаха всех маленькими глазками, сказала: – Расскажу я вам сейчас о медведе Тяжелая Лапа. «Не обо мне», – сразу довольный, распрямился и сел пошире медведь Михайло. «Не обо мне», – вздохнул с сожалением и опустился на свое место Енот. – О медведе Тяжелая Лапа надо рассказывать. Он плут, и притом большой, – сказал Ёж Иглыч. – Вот и расскажу я о нем. Это моя новая сказка. Ты ее почетче выбей, Ду-Дук, чтобы легко читалась она, и чтобы, читая ее, каждый помнил, что как ты проживешь жизнь свою, такова тебе и честь после смерти будет. Пиши… И Ду-Дук застучал о березу крепким клювом. На землю посыпались белые пахучие стружки. «Стареньким стал медведь Тяжелая Лапа. Осунулся, сгорбатился – совсем старичок. Уж и не ходил ни к кому. Все больше сидел на завалинке у берлоги, позевывал да на солнышке грелся. И вот приходит как-то перед обедом к нему Смерть и говорит: – Готовься. Пора. Села на пенек и давай точить ножик о половинку кирпича. Поднялся медведь Тяжелая Лапа. – Что ж, – говорит, – пора так пора. Схожу вот только к речке, искупаюсь последний раз да раков поем. Выкупался медведь в речке. Поел раков. Простился со знакомыми. Настелил в берлоге свежих кленовых листьев. Лег и глаза закрыл. Лежит, слушает, как точит Смерть ножик свой, и вспоминает прожитые годы. Вспомнилось медведю: шел он как-то по роще. Смотрит: гнездо Сороки на березе разрогатилось. Как дал по нему слегой, далеко сорочата улетели. Шмякнулись о землю и не дышит ни один. Недели полторы все летала Сорока по роще и все приговаривала: – Р-разбойник! Р-разоритель! А медведь Тяжелая Лапа смеялся. Гулко, по-медвежьи: – Гы-гы-гы… Вспомнил медведь, как поймал однажды зайца в чаще и привязал его к осине вниз головой. Слетелись к нему вороны и ну клевать. Вопит заяц на всю рощу: – Караул! Погибаю! А медведь Тяжелая Лапа стоял в сторонке и смеялся: – Гы-гы-гы… И многое другое вспомнил медведь Тяжелая Лапа. Всю свою жизнь в памяти перебрал и видит: нет ничего в ней светлого. Вся она из одних шалостей да безобразий сложена. И вот умрет он сейчас и будут говорить о нем в роще: – Жил когда-то среди нас медведь Тяжелая Лапа. Всю жизнь он только и умел, что пакости другим делать. И зашевелились у медведя реденькие волосы на голове. Выполз он из берлоги. Бурый. Щеки впалые. Уши в стороны торчат. Ни на кого не похож. – Нельзя мне, – говорит, – умирать пока. – Почему это? – спрашивает Смерть, а сама ножик о ноготь пробует: хорошо ли наточен. Смотрит на нее медведь выцветшими глазами и говорит: – Понимаешь, оглянулся я сейчас на прожитое и вижу: столько я за жизнь горя всем причинил, что и сказать даже страшно. Умру я, и никто меня добрым словом не вспомнит. Пожала Смерть узенькими плечами: – Я-то здесь при чем? Пришло время умереть тебе, значит, должен ты умереть. – Это я понимаю, – говорит медведь. – Но исполни последнее желание мое: дай мне подышать еще хотя бы часа два. Хочу я перед смертью биографию свою подправить немного. – Ладно уж, так и быть, – говорит Смерть, – даю тебе два часа жизни. Иди. И села еще точить свой ножик. Спустился медведь Тяжелая Лапа к речке. Решил он свалить через нее сосну. Будут ходить по ней с берега ка берег звери и хорошо о нем думать. Покрепче сосну выбрал, чтобы подольше мост его служил роще. Уперся в нее грудью, крякнул, а сосна и не шелохнулась даже. Уперся еще раз, и опять она ни с места. И понял тут медведь, что стар он сосны с корнем из земли выворачивать. Только и может он теперь, что топтаться возле них да покрякивать. И так ему жалко самого себя стало, что откуда вдруг что и взялось. Заходила в нем кровь медвежья по жилам. Крякнул, уперся плечом – и легла сосна через речку. Крякнул еще раз – и еще одна вытянулась. Сел тут же, где стоял, и никак отдышаться не может. Глядь, а уж по его мосту Заяц прыгает, раздвоенной губой причмокивает: – Вот это мост! Сто лет пролежит и все будет как новенький. – Я сделал, – сказал медведь Тяжелая Лапа. А Заяц засмеялся: – Ишь ты, так я тебе и поверил. Ты всю жизнь всем только разные пакости делал и чтобы такой мост положил! Не обманешь. И другие звери пришли и тоже сказали: – Не обманешь. И тоже засмеялись. Горячился медведь Тяжелая Лапа, доказывал: – Честное слово, я. Смотрите, даже плечо оцарапал, когда сосну валил. – Какой из тебя вальщик, – сказали звери, – ты на ногах-то чуть стоишь. Дунет ветер покрепче, и упадешь. Скажи уж лучше по совести: чужое доброе дело за свое решил выдать. Обвел медведь всех печальными глазами и опустил голову. Понял он тут, что опоздал подправлять свою биографию. За всю свою долгую жизнь он никому ничего хорошего не сделал, и сколько бы он теперь ни говорил, что это он мост через речку навел, никто ему не поверит. И о другом подумал медведь Тяжелая Лапа: вот умрет он сейчас и останется в памяти у всех не только как безобразник и озорник, но еще и как обманщик. Будут теперь говорить о нем в роще: – Вы помните, как медведь Тяжелая Лапа обмануть хотел нас? Кто-то построил мост через речку, а он решил его за свой выдать. Да мы ему не поверили. И будут добавлять при этом: – Он уж такой был: умел только плохое делать. «Эх, начать бы все сначала. Но к речке от берлоги уже шла по тропинке его Смерть и поглядывала на часы». Выбил Ду-Дук последние слова сказки. Отлетел в сторону. Поглядел, как получилось. Остался доволен – Все, – говорит, – одного припечатали. – Что припечатали, то припечатали, – зашуршал Ёж Иглыч колючками. – Так их, Кири-Бум, этих плутов, чтобы знали, как мошенничать. Особое место  Черепаха Кири-Бум рассказывала сказки, дятел Ду-Дук записывал, остальные внимательно слушали, и только Лиса совсем не интересовалась сказками. Солнце свернуло с обеда, а Лиса еще не завтракала. Глядела она беспокойно по сторонам: чего бы поесть. Лежит возле Енота сверток и, чувствуется, с едой, но как выудить его. Енот с Лисой не дружит. «Да и вообще у меня здесь друзей нет», – думала Лиса. Целый год почти она не жила в родной роще. Надоела своими плутнями, и решили однажды звери повесить ее. Но Лиса и тут нашла выход. Попросила: – Разрешите хоть дерево самой выбрать. Это ей разрешили: – Тебе висеть. Выбирай. Всю рощу прошла Лиса и не нашла дерева, на котором ей было бы приятно висеть. На одном слишком много сучьев, на другом слишком мало, одно слишком прямое, другое слишком кривое. Походила, походила, сказала: – Идемте в Осинники, может, там найдем что под ходящее. Но у каждого дома были дела, и никто с Лисой в Осинники не пошел. – Иди сама, – сказали ей, – найдешь, позовешь нас. Мы придем и повесим тебя. Все рощи в округе за год обошла Лиса, но так и не нашла подходящего дерева. Зато из каждой рощи посылала слезные письма и все просила: «Простите меня. Разрешите вернуться в родную рощу. Я поумнела и больше плутовать не буду». И в конце каждого письма приписку делала: «Прошу мое письмо обсудить на сходе». И по каждому письму Лисы собирался сход. И все отказывали ей. Писали: «Нет подходящего дерева в Осинниках, в дубовую рощу иди». Потом надоело советы Лисе давать, куда дальше идти ей. Послали письмо: «Возвращайся, но если хоть еще раз сплутуешь, повесим тебя на первом же попавшемся дереве». И Лиса вернулась, объявилась в прошлую пятницу. Неуверенно еще себя чувствовала. Поглядывала на сверток Енота: унести бы его, но как? А в уши втекал певучий голосок черепахи Кири-Бум: «Не в нашей роще это было, да и не в наши годы. Жили в лесу звери. Одной семьей жили, за одним столом ели. И было у каждого за этим столом свое место: у Зайца – свое, у Лисы – свое, у Волка – свое. Медведь тоже ел за общим столом, и было у него свое место. Называли его медвежьим местом. Усядется, бывало, Медведь на него и сидит, глядит на всех, а все на него смотрят. Скажет Медведь: – Щи сегодня бледные какие-то. И хоть румяные щи, наваристые, кивают все головами, соглашаются: – Точно, бледные сегодня щи. Заяц тоже поддакивает: – Бледные. Скажет Медведь: – Солнце как-то не так светит сегодня. И опять все головами кивают: – Точно, не так как-то светит солнце сегодня. Заяц тоже поддакивает: – Не так. Что ни скажет Медведь, все соглашаются. Куда на пошлет кого, бегут, не прекословя. Сидит Заяц, косит на медведя глаза, думает: «Оттого, наверное, все слушают его, что на первом месте за столом сидит Медведь. Сидел бы я на его месте, меня бы все слушались». И вот как-то собрались все к столу, а Медведя нет. Пустым его место осталось, никто его занять не решился. И на второй день не пришел Медведь, и на третий – тоже. И решил тогда Заяц: «Займу-ка я его место». И тишком вскарабкался в медвежье кресло. Зашумели на него все, зашикали: – Куда это ты залез? Это Медведя место. И хотели было прогнать его, да Волк вступился: – Пусть сидит, а то его и не видно на его-то месте. И все согласились: – Пусть сидит. Уселся тогда Заяц поудобнее, подтащил к себе миску медвежью, склонился над нею, повертел носом: – Чугуном сегодня щи пахнут. Понюхал Волк, сказал: – Щи как щи. Лучку только маловато. И хоть было во щах достаточно луку, закивали все головами: – Точно, маловато сегодня лучку во щах. Поглядел Заяц на солнце, сказал: – Нет сегодня в солнце вчерашней ясности. Поглядел Волк, сказал: – Солнце как солнце. А вот звезды сегодня ночью как-то не так светили. И все опять закивали головами: – Точно, не так как-то сегодня звезды светили Сидел заяц во главе стола, косился на Волка и думал: «Странно, на медвежьем месте я сижу, а слушают почему-то все волка». И эту сказку черепахи выбил дятел на березе. Пошел шакал по соседям  Многого в жизни не понимал Шакал: не понимал он, как можно с кем-нибудь поделиться последним, или у кого-нибудь что-то взять, а потом отдать. Многое казалось Шакалу удивительным в жизни. Вот и сейчас глядел он на черепаху и удивлялся, что она даром, ни за что рассказывает сказки, а Дятел даром, ни за что записывает их. Глупые! Ведь из этого можно было такую выгоду иметь! И вдруг насторожился: черепаха Кири-Бум объявила, что сейчас она будет рассказывать сказку о радости Шакала. «Это о какой она радости узнала моей» тревогой подумал Шакал и привскочил: – Ты обо мне, что ль, говорить хочешь, Кири-Бум? – О тебе, – ответила черепаха. – А если я этого не хочу? О других говори вон. – Расскажу и о других, а сейчас пока о тебе. – А если я не согласен? – А мы твоего согласия не спрашиваем. Хочешь слушать – слушай, не хочешь – иди домой, – сказал медведь Михайло. Черепаха уже рассказывала, Ду-Дук записывал, сыпалась на землю пахучая стружка. «Жадным рос Шакал, жадным вырос. Все греб к себе, прятал. Жену учитывал во всем, попрекал: то долго спит она, постель мнет, то ест много – сразу за двоих. – Мне и надо много, – оправдывалась жена. – Сын у меня грудничок. Не поем я, как следует, и молока у меня не будет кормить его. – Будет, – говорил Шакал, – ты в теле. Поела немного и ладно. Лишняя еда баловством зовется и не в пользу идет. Так-то. Исхудала его жена, кожа да кости остались, пока сына на ноги поставила. Идет, бывало, и ветром ее качает. А Шакал все меньше и меньше еды ей давал. Не вытерпела она однажды, заплакала. – Слабею я, – говорит, – хожу еле. – Ничего, – успокоил ее Шакал. – Скоро сына отделим, одним ртом у нас меньше станет, наешься тогда, поправишься. Нагулять тело – труд невелик, были бы кости. Больше терпела, немного уж потерпи. И терпела она. Из последних сил тянулась. Вырос сын. Стал Шакал к свадьбе готовиться. Как представил, сколько нужно всего, и голову от жадности потерял. Сам высох и жену высушил. Только и слышно было, как он покрикивает на нее да попрекает: – И что ты все жуешь и жуешь? И как в тебе столько еды помещается? – Да ведь изголодалась я, – начнет она, бывало, жаловаться, а он цыкнет на нее, зубами для острастки прищелкнет: – Мне разве не хочется? Да я креплюсь. Соберутся гости, чем я их угощать буду? Ты об этом подумала? Конечно, тебе зачем думать? С тебя спрос маленький: не ты, я хозяин, обо мне и говорить потом будут – не угостил. Не радеешь ты о чести семьи нашей. А за неделю до свадьбы сказал он жене своей: – Ну, жена, отделим в воскресенье сына, и конец нашим мукам. Только ты уж эту неделю не ешь совсем, поэкономить нужно немножко. В воскресенье за все сразу и наешься. А жена его уж так обессилела, что и слова сказать не может, только глядит на него и даже глазами не моргает – сил нет. В хлопотах быстро пролетела неделя. Собрались в воскресенье к Шакалу гости. Усадил он их за стол, раздал всем ложки. К жене повернулся: – А тебе, жена, и ложки не хватило. Ну да ладно, ты ведь хозяйка, ты и так посидишь. Смотрит, а ее и нет за столом. – Где это она? – забеспокоился Шакал и подумал: «Уж не в кладовой ли, не запасы ли мои поедает…» А запасов у него разных столько было, что и за три зимы не поесть. Кинулся он к ним – целы они, только плесенью покрылись, прозеленели. Запасы целы, а жены нет возле них. Шакал в спальню – наверное, спит-лежит, постель мнет. Уж она такая у него, небережливая. И точно: в спальне была жена. Только не живая уже, мертвая. Всю жизнь в голоде жила и на свадьбе сына не пришлось досыта наесться – не дотянула. Всплеснул Шакал лапами: – Горе-то какое!.. Но тут же просиял весь радостью: – Хорошо, – говорит, – что она сегодня умерла: заодно уж вместе со свадьбой я поминки справим, дважды не расходоваться». Выбил Ду-Дук последние слова сказки и опять отлетел в сторону. Поглядел, как получилось, доволен остался. Сказал: – Еще одного припечатали. «Что припечатали, то припечатали», – подумал медведь Михайло и пригнулся, чтобы черепаха не видела его. – Если бы обо мне написали такое, я бы и березу в щепки разнес». А Енот поглядывал на Шакала и думал: «Счастливчик, о нем хоть такую да записали сказку, а обо мне никакой пока. Умру, и знать через сто лет не будут, что жил я». Все оглядывались на Шакала, а Кабан, добродушно похрюкивая, показывал ему клыки: – Как тебя продернули! Хрю-хрю. А Шакал сердился. Лапами размахивал, слюной брызгал: – Небывальщина все это. Не давайте ее словам веры. Ишь чего набрехала про меня. Во мне жадности нет, бережливость только. Не так дело было. Вам бы лишь посмеяться, ошельмовать меня. А в душу мне ни разу не заглянул никто, что там. – А что заглядывать? – сказал медведь Спиридон. – Тьма там у тебя беспросветная. – И неправда все это, – Что – неправда? Что не жадный ты? Да скупее тебя у нас в роще никого нет. Ведь у тебя даже средь зимы снега не выпросишь. – У этой черепахи язык без пути болтается. Врет, что ей на ум придет, а вы ей верите, а я докажу, что я не такой, вот увидите, – возмущался Шакал, а вечером пошел по соседям. К первому к Кабану постучался: – Вот вы все подтруниваваете надо мной, скопидомом дразните. Говорите, что жадный я. Слова охульные придумываете про меня. А я сегодня Хорю суслика дал. – Ой, врешь, Шакал! – Эх, ты! Рядом со мной живешь и не веришь. – Потому и не верю, что рядом живу. – Ну вот, все вы такие. Лишь бы досадить мне, – обиделся Шакал и пошел прочь. И сомненье тут взяло Кабана. Может, и правда выправляться начал Шакал и ни за что обидели его. Побежал к Хорю узнать повернее. – Правда, что ли, что тебе сегодня суслика Шакал дал? – Было дело. – Наш Шакал и тебе дал суслика? – Да. Иду я перед вечером к озеру воды попить, а он несет суслика. «У, – говорю я, – длинный какой». А он мне: «Он не только длинный, но и увесистый. Подержи-ка». И дал мне подержать своего суслика. – И только-то! – хрюкнул Кабан. – А чего ж еще? И этого много. Раньше он и пощупать не разрешал, а тут даже подержать дал. – Вон что, – сказал Кабан, – а я-то думал… А Шакал в это время стучался к медведю Спиридону. К себе после сказок медведь черепаху Кири-Бум ночевать увел, вот и пришел Шакал сказать ей, что она зря о нем сказку рассказывала, зря обесчестила его. И вооб-ще ни за что его в роще скопидомом да скрягой дразнят. Пусть и Кири-Бум знает, что он, Шакал, сегодня Хорю суслика дал. – Ох и врешь же ты, Шакал, – не поверила ему Кири-Бум. – Не в твоем характере сусликов раздавать. – Вот-вот, – обиделся Шакал, – все вы так. Лишь бы на смех меня поднять, а поверить в доброе нет вас. И обиженный, пошел к барсуку Фильке. И попросила тогда Кири-Бум медведя Спиридона: – Сходи к Хорю, узнай, как дело было. Сходил медведь, узнал. И долго они смеялись вдвоем над хитростью Шакала, а потом до рассвета проговорили о медведе Лаврентии. Афоня  Жизнь свою медведь Спиридон прожил бок о бок с медведем Лаврентием. Крепкая у них дружба сложилась. Соберутся, бывало, у медведя Спиридона гости, зовет он медведя Лаврентия: – Идем, Лаврентий, без тебя вроде и за столом пусто. А соберутся гости у медведя Лаврентия, он зовет Спиридона. Горой друг за дружку стояли и помощь всем в роще оказывали. Надо медведице Авдотье берлогу к зиме отремонтировать – идут. Надо Ванин колодец почистить – чистят. Жизнь так прожили, а минувшей осенью ушел Лаврентий к сыну в Осинники, и осиротел без друга медведь Спиридон. Всю зиму тосковал о нем и весной из берлоги прежде времени вылез. Ходил по роще, печатал следы до ноздреватому снегу, говорил: – Спит еще, поди, Лаврентий, а то бы давно навестил меня или весточку прислал. Посидит у своей берлоги, идет к берлоге медведя Лаврентия. Поглядит в окошко – пусто. Вздохнет: – Нежилым пахнет. И глядит на просеку: не идет ли Лаврентий. Он, медведь Спиридон, сам бы давно сходил к нему, да не знает, где теперь живет Лаврентий. Тоскует о нем. И чтобы как-то развеяться немного, душу излить, увел после сказок черепаху Кири-Бум к себе ночевать. Лежал, глядел в потолок, говорил: – Да, не удался у Лаврентия сынок, не в отца пошел Афоня, хитрости вобрал в себя лишку. Помнишь, как он вздумал мост через речку строить и насмешил всех? – Как не помнить? – отзывалась со своей постели черепаха. – Я еще тогда об этом сказку рассказывала. – Да, да, верно. И я от души смеялся тогда. Расскажи теперь, я еще посмеюсь. Видела Кири-Бум: не для того, чтобы посмеяться, просит медведь рассказать сказку. Одиноко ему без друга, поговорить о нем хочется. И не могла она отказать Спиридону, не могла не уважить просьбу его. – Хорошо, – говорит, – слушай. И повела рассказ о хитреце Афоне. Слушал ее медведь Спиридон, а в памяти вставал яркий летний день. Полдень был. Они сидели в тени у берлоги медведя Лаврентия, пили чай, когда прибежал из чащи Афоня, сын медведя Лаврентия, и сказал: – Хочу я, отец, переход через нашу речку сделать, а то разве это хорошо? Как идти на ту сторону, так все вброд и вброд. Надоело. – Переход – это замечательно! Молодец ты, Афоня, – похвалил Лаврентий сына. – Только как же ты его сделаешь? – Просто, – отвечает Афоня, – свалю, где речка поуже, сосну. Протянется она через речку и станет мостом. – Ладно придумал, – похвалил Афоню еще раз медведь Лаврентий и бросил чай пить, пошел объявить всем, чтобы собирались утром к речке смотреть, как Афоня его будет мост делать. Собрались все на другой день у речки, стоят, семечки грызут, Афоню поджидают. Похаживает Лаврентий перед всеми, хвалит сына: – Вот он у меня какой, Афоня-то, старательный: переход через речку решил сделать. Ждут все. Уж и обед миновал, и вечер подступил, а Афони все нет и нет. Спрашивать начали у медведя Лаврентия: – Где же сынок твой? И тогда, чтобы выручить друга, сказал медведь Спиридон: – А зачем нам его дожидаться? Что мы без него не осилим пару сосен через речку свалить? Переход всем нужен, вот и давайте сообща соорудим его. Сгрудились все возле медведя Спиридона, уперлись в сосну, надавили с шутками да смехом и положили ее через речку. И еще одну положили так же. Только валить закончили, смотрят – Афоня из чащи идет, кукурузный початок ест и озорно хворостиной поигрывает. – Поздравь меня, отец: на самую высокую сосну залез только что. – Я вот тебя поздравлю сейчас хворостиной, – напустился на него Лаврентий. – Ты где пропадал? – Ходил смотреть, какая в этом году кукуруза на колхозных полях уродилась, потом на сосну лазил. – Как же ты мог по полям ходить и по деревьям лазать когда мы тебя все здесь ждем. – Зачем? – Как зачем? Сам нахвастал и ходишь праздничаешь? Я со стыда едва сквозь землю не провалился. Ты что вчера говорил? «Хочу, отец, мост через нашу речку построить». А кроме хотения у тебя, оказывается, и не было ничего. Хвастун несчастный. Я с тобой еще дома поговорю. – Зря бранишься, отец, – сказал на это Афоня. – Ты же сам всегда учил меня: захотеть – полдела сделать. Я половину сделал – захотел мост через речку построить, а остальное пусть другие доделывают, не все же мне одному. Как сказал он это, так и покатились все со смеху. Вместе со всеми и медведь Спиридон смеялся, приговаривая: – Ну, уморил ты нас, Афоня. Значит, сделал полдела – захотел мост построить. Охо-хо! – Посмеялись все тогда от души над Афоней. И когда я сказку о нем рассказывала, опять все смеялись, – закончила черепаха Кири-Бум рассказ свой. А медведь Спиридон сказал, глядя в потолок: – Это я помню. Я еще тогда предупреждал Лаврентия: «Гляди, говорю, как бы не сбился сынок твой с пути. Видал? Нам с тобой стыдно, а ему хоть бы хны». И закончил с грустью: – Озорник был и хитрец. Так и смотрел, как бы кого надуть, как бы возле кого поживиться. Он и в Осинники-то жить ушел, чтобы от нас с Лаврентием подальше быть, чтобы мы не мешали озорничать ему. Хорошего медведя сын, а посмотри каким вырос. Полежал, покряхтел, опять заговорил: – Помнишь, пес Вертихвост ко мне в гости шел, а Афоня остановил его и говорит: «Не ходи к Спиридону просекой, иди вон той тропкой». А на тропке той охотники яму для волка вырыли и прикрыли кленовыми ветками. Три дня Вертихвост просидел в ней голодный. – Над таким милым псом и такую злую шутку отшутил. И как отказывался, помнишь? – Как не помнить? Еще Лаврентий все утро тогда Вертихвоста медом у себя в берлоге кормил, чтобы он не серчал на Афоню. – Да, медом он угощать любил. Я сам у него сколько раз чай пил с медом. Да и тебе, наверное, приходилось? – Было дело, – сказала черепаха и подтянула к уху одеяло. – Давай спать, Спиридон, поздно уж, устала я, а мне завтра у березы опять сказки рассказывать. – Да, да, давай спать, – закутался плотнее в одеяло и медведь Спиридон, но уснуть до утра так и не смог, все лежал, глядел в темный потолок и думал: «Что же ты забыл обо мне, Лаврентий, я ведь совсем, совсем один…» Тревога барсука Фильки  Барсук Филька высунулся в окошко. У березы слышались шумливая возня, выкрики. «Обо мне, наверное, рассказывает черепаха», – подумал Филька и туго-натуго сжал зубы. Жизнь свою Филька начал с хитрости. Воровал в молодости, с соседями бранился, хотел даже поссорить однажды медведя Спиридона с медведем Лаврентием. Но только зачем говорить об этом? Все это давно было. Сейчас Филька не тот, что был когда-то. Остепенился и честно доживает свою жизнь. К березе Филька решил не ходить: лучше не попадаться черепахе на глаза. Может, она забыла о нем давно, а увидит и вспомнит. И поэтому решил Филька не ходить к березе, но знать, о ком речь возле нее идет, хотелось. И попросил Филька Сороку: – Болею я. Сам бывать у березы не могу. Так ты прилетай ко мне по вечерам и рассказывай. – С удовольствием, – обрадовалась Сорока. – Мне ведь кроме тебя и рассказывать некому: все сами слышат. И чтобы не выведали подружки, что барсук болеет. И не летали бы к нему с вестями от березы, ни единой душе во всей роще не сказала Сорока о болезни Фильки. Это был ее секрет, единственная за всю ее жизнь тайна. За деревьями у березы повизгивал и похрюкивал Кабан. Филька напряженно вслушивался в доносящиеся с поляны выкрики. – Неужели, – шептал он, – это обо мне выстукивает сказку на березе дятел. Опозорила, опозорила черепаха. О сыне Енота, наверное, вспомнила. И надо мне было обмануть его тогда! Давно это случилось. Сидел сын Енота на крылечке, а Заяц мимо бежал и подарил ему морковку. Половину Енотик съел, а половину решил на черный день припрятать. Вот только куда спрятать ее не знал. Тут и попался ему на глаза Филька. Окликнул его Енотик: – Дядя барсук, куда бы мне мою морковку ненадежнее спрятать, где бы ее никто не нашел, а то пропадет. Поглядел Филька на Енотика – простачок он, запросто можно надуть его. Сказал: – Давай я ее в живот себе положу. Очень надежное место. Никто твою морковку в животе у меня искать не догадается. – Бери, – сказал Енотик и отдал барсуку морковку. Дня через три прибегает к нему, спрашивает: – Дядя барсук, где моя морковка? – В животе у меня, – отвечает Филька. – Давай я ее съем. И заскреб Филька за ухом: – Эх, – говорит, – положить-то я морковку в живот к себе положил, а вот как достать мне ее оттуда, не подумал. – Так ты подумай, дядя барсук, а я завтра прибегу, – сказал Енотик и верно прибежал. Филька еще и с постели не успел подняться, а уж он постучал в окошко к нему: – Придумал, дядя барсук, как мою морковку из живота достать? – Нет, – ответил Филька, – не успел. Сам понимаешь, дела всякие: то то, то это. Ну так ты прямо сейчас садись и думай, а я здесь на лавочке посижу, подожду, пока ты думаешь. Смотрит Филька на Енотика, ну совсем-совсем еще глупый он, его можно надувать и надувать. Сказал: – Ты, я смотрю, разумом-то боек, а того в толк не возьмешь, в один день такие дела не делаются. Ты беги играй, а завтра наведайся. И не волнуйся, никуда твоя морковка не денется, место надежное. Вот только положить туда легко, а чтобы достать, думать надо. – Что ж, я могу и подождать. Мне что сегодня съесть, что завтра, – сказал Енотик и побежал домой. А на другое утро – тук-тук – стучится к Фильке ни свет ни заря. – Придумал, дядя барсук, как морковку достать мою? – Нет пока, – отвечает Филька. – Так ты думай. – Да я бы всей душой, да некогда. Вот сейчас на охоту идти надо, чего-нибудь на завтрак добыть. А мысли, сам понимаешь, дело такое – тут отвлекаться никак нельзя. – А ты и не отвлекайся, дядя барсук, садись и думай. На охоту я вместо тебя схожу, добуду чего-нибудь, – сказал Енотик и принес Фильке три кувшинки. – Ну, придумал, дядя барсук? – Какой ты шустрый, – сказал Филька, с аппетитом похрустывая сочными кувшинками. – Так быстро такое дело не делается. Завтра приходи. – Завтра я к тебе не приду, дядя барсук. – Что так? – удивился Филька. – Или тревожишься? Напрасно. Место надежное. – И с удовольствием похлопал лапой по животу. – Да, место это у тебя надежное, – сказал Енотик. – Положить положишь, а взять не возьмешь. Пропала моя морковка. Лучше бы я ее себе в живот положил, тоже бы надежно было. Посмеялся тогда Филька над глупым Енотиком, а сейчас вспомнил этот случай и за голову схватился: что если черепаха расскажет об этом сказку, а дятел выбьет на березе, прочтут ее через сто лет те, кто будет жить через сто лет в Гореловской роще, и скажут: – Какой он был, Филька-то! Енотика глупого не постыдился обобрать. – Но ведь это когда было? – вздохнул Филька и потер ладонями горячие щеки. – Эх, хорошо живи – не похвалят, дурно живи – не удивишь никого. Ведь я теперь совсем не тот, что был когда-то. Зачем же за прошлое надо мной сейчас смеяться? Но тут вспомнился Фильке недавний сон его. Приснился он ему недели три назад. Ничего в тот вечер не добыл себе на ужин Филька и потому лег спать с порожним животом. И приснилось ему, будто он в гостях у своего давнего товарища барсука Федора. С детства не виделись они, а тут вдруг приснилось Фильке, что пришел он к Федору, а тот сидит ужинает. А на столе у него чего только нет: лягушки лежат одной кучкой, мыши – другой, орехи – третьей. А на тарелках – желуди, яички овсянки, яички жаворонка и другие разные кушанья. Некоторые Филька не знал даже и назвать как. Сказал с завистью: – Богато живешь ты, Федор. И тепло у тебя и ешь досыта. А я вот сегодня и не ужинал еще. И пообедал так себе. Да и за завтраком досыта не наелся. – А что же ты тогда стоишь у порога? – сказал Федор и подал табуретку Фильке. – Подсаживайся к столу, будь гостем. Мы ведь с тобой вон как давно не виделись. Ты всех что-то чуждаешься, затворником живешь. – Такой уж характер у меня нелюдимый, – сказал Филька и подсел к столу: угоститься он любил. – Исхудал ты, Филя, – посочувствовал ему Федор. – Жизнь не сладкая, – ответил Филька и в уме прикинул, чего бы придвинуть к себе. Начал есть. Сперва по-хорошему ел, а потом как набросился на мышей, чуть ли не целиком их заглатывает, давится. Еще одну мышь прожевать не успеет, а уж другую в рот тискает. Глядел, глядел на него Федор да и сказал: – Что это ты как, Филька, ешь жадно? – Проголодался, – ответил Филька, а сам горку лягушек пригреб к себе. Их еще не съел, а уж за орехами потянулся и заодно приглядывался, чего бы еще прихватить. И тогда не вытерпел барсук Федор, громыхнул кулаком по столу: – Что же это ты накинулся так на еду мою, даже меня отпихиваешь. Уходи сейчас же. Не хочу с тобой, с таким жадным, за одним столом сидеть. И выпихнул из избы Фильку, за порог его выставил и дверью за ним так хлопнул, что Филька даже… проснулся. Лежал, смотрел в темный передний угол, злобился на самого себя: – Дурак я, дурак! И зачем я в самом деле ел так жадно. Потихоньку бы надо, не торопясь. Глядишь, досыта бы наелся, а то вон как есть хочется. Три недели назад приснилось это, а сейчас вспомнил Филька сон свой, сказал: – Точно, проведала как-нибудь черепаха про сон мой и выбивает теперь Ду-Дук его на березе, а все смеются. Конечно, им бы только посмеяться, время веселее провести, а мне позор и не на один день… А Кабан, Кабан-то как взвизгивает! У, рыло свиное. Сам еще хуже меня, а хрюкает. Эх, поскорее бы кончился день. Вечером прилетит Сорока и хоть расскажет, что там было, что из моей жизни выбил дятел на березе. У Фильки стучали зубы. И не только щеки, но и уши у Фильки были горячими. Чтобы не было беды  Истомился Филька за день, изныл, чуть вечера дождался. И когда вылетела из-за липы Сорока, кинулся к ней: – Говори скорее, что там было. – Не торопи, успеешь. Все скажу, ничего не утаю. Когда меня спросили однажды, что самое тяжелое в жизни, я ответила – секрет. – Чепуха. Всего тяжелее, когда видишь – неправильно день прожил, а поправить уже нельзя: пролетел день-то. – Э, дни еще будут. Нет, самое тяжелое – это когда ты знаешь что-нибудь особенное, а рассказать не можешь, потому что слово дал, что никому не скажешь. Знать и никому не сказать, ох, до чего же это тяжело. Ну я эту тяжесть долго не ношу одна, стараюсь поскорее с кем-нибудь поделиться, чтобы не мне одной тяжело было. Сорока уселась на суку и затараторила: – Ну, слушай, Филька. Начинаю рассказывать. Собрались мы сегодня у березы. Подсадил Ивашка черепаху на пенек, взлетел Ду-Дук на березу, и все притихли. И ты думаешь, о ком черепаха сегодня первую сказку рассказывала? – Обо мне, – буркнул Филька. – Не угадал. Про Верблюда и Барана. Села черепаха вот так, подперла щеку кулачком и начала: «Пришел Верблюд в гости к Барану. Положил Баран перед ним беремя сена. Угощает: – Подзаправься-ка. Только чур не оставлять ни былки. У нас, у баранов, примета есть такая: не доел у тебя гость за столом – беду жди. Ты уж, пожалуйста, все беремя съешь. А велико ли у Барана беремя? Верблюд даже и распробовать не успел, что за сено, как уж ни былки не осталось. Никогда он так мало в гостях не ел. Стоит, нахваливает: – Ух, и сено! Вот это сено! Так и ел бы и ел. Думал Верблюд: может, догадается Баран и еще охапки две принесет. Но Баран не догадался, и ушел Верблюд голодным домой. Дня через три Баран к Верблюду в гости пожаловал. Увидел его Верблюд и улыбнулся: «Ну, – думает, – погоди, брат. Я тебе тоже сейчас дам беремя, а больше не жди. Узнаешь, как гостей не досыта кормить». И пошел за сеном. Самого лучшего выбрал, чтобы Барану обиднее было голодным оставаться. Принес, положил перед ним: – Угостись-ка… А беремя у Верблюда верблюжье. Глянул Баран – копна целая перед ним. Весь день нужно есть, чтобы все съесть. А не съесть нельзя. Примета есть такая: не доел в гостях – накликал беду на хозяина. Ест Баран час, ест два, а сено вроде и не убывает, вроде сколько было, столько и есть. Барану уж и глотать почти некуда, полон живот набил, но и оставлять нельзя: накличешь беду на Верблюда. Ест баран, чуть жует. Глядит на него Верблюд и думает: «Сено ему, что ли, мое не нравится? Эдак ему, пожалуй, и добавки не захочется». Чуть доел Баран сено к вечеру. Последнюю былку дожевывал со слезами, а уж глотать ее было некуда, за щекой оставил. Никогда не ел в гостях так много. Даже силы не осталось «спасибо» сказать. Поглядел на Верблюда, подумал: «Не будет теперь у тебя беды в доме». И все-таки ждал Верблюд: может, попросит Баран добавки. А когда не попросил он, сам предложил: – Может, ты еще бы поел? – Н-н-н-е, – еле выдавил из себя Баран и чуть понес домой живот свой, до самой земли он отвис у него. Глядел Верблюд, как уходит Баран, и думал: «Точно, не понравилось ему мое сено, потому он и отказался от добавки. Надо бы у соседа лугового с клеверком попросить. Ну да ладно, придет еще раз». Но Баран почему то больше к нему не идет. – Ты знаешь, Филька, – затараторила Сорока, – как закончила черепаха сказку, мы так все и покатились со смеху. – А черепаха? – Она тоже посмеялась с нами и начала новую сказку. И ты думаешь, о ком она была? – Обо мне? – похолодел Филька. – Не угадал. О Мышонке рассказывала Кири-Бум свою вторую сказку. Вот так, знаешь, села, глазки сощурила и начала: «Стоял Кабан под дубом и ел желуди. Мимо Мышонок бежал. И ему захотелось желудей отведать. – Можно, – говорит, – и я с тобой есть буду? Мама у меня заболела. Один я. – Ешь, – разрешил Кабан и подвинулся. Едят они, а Мышонок и говорит: – Ох ты и чавкаешь, дядя Кабан, ну как свинья. Хрюкнул на него Кабан и прогнал со своей делянки. Прибежал Мышонок домой. Рассказал матери, как дело было. Забранилась на него Мышка: – Как же ты мог Кабану сказать такое? Ведь свинья – мать его. Иди сейчас же и извинись. Вернулся Мышонок к дубу, сказал Кабану: – Прости меня, дядя Кабан. Я не знал, что твоя мать – свинья. Если бы я знал, что ты – сын свиньи, я бы никогда не сказал, что ты ешь по-свински. – Вон отсюда! – затопал ногами Кабан и прогнал Мышонка со своей делянки. Прибежал Мышонок домой, рассказал матери, как дело было. Забранилась на него Мышка: – Ну кто же так извиняется? Ты же опять обидел его. Иди повинись, да по-хорошему. А как, не сказала. И опять Мышонок к Дубу побежал. Говорит Кабану: – Знаешь, дядя Кабан, хоть и свинья твоя мать, хоть и чавкаешь ты по-свински, хоть и пахнет свиньей от тебя… Собирался Мышонок сказать дальше: «Все же ты хороший, дядя Кабан», – но не успел. Кинулся Кабан к нему, поддел пятачком и отшвырнул в сторону. – Скройся с глаз, или разорву в клочья. Прибежал Мышонок домой. Рассказал матери, как дело было. Застонала Мышка, приложила мокрый липовый листок ко лбу. – Беда мне с тобой. Разве так извиняются. Поучила сына, как извиниться надо. Побежал он. Увидел его Кабан, и налились его глаза кровью. И пошел прочь от дуба. «Ешь, – думает, – мои желуди. Я себе еще натрясу, только не вводи меня во зло. Могу не сдержаться я и такое с тобой сделать, что и самому потом стыдно будет». Увидел Мышонок – пошел Кабан в чащу, сказал: – Эх, спесивый какой, дядя Кабан. Ушел и даже выслушать меня не захотел. А ведь я прибежал сказать тебе, что хоть ты и сын свиньи, а все-таки ты не свинья, а – Кабан и Кабан добрый. Вот ушел и целую делянку желудей подарил мне. И запищал, замахал лапками: – Подожди, дядя Кабан, я что-то тебе сказать хочу. Но Кабан так и не остановился». – Ох, Филька, – тараторила Сорока, – окончила черепаха Кирн-Бум свою сказку, а я, поверишь ли, так и обмерла: что сейчас, думаю, будет. А ничего и не было. Просто обиделся Кабан и ушел от березы. А мы так смеялись, так смеялись. Жаль, что ты больной, ты бы тоже вместе с нами смеялся. – Ну а дальше что было? – спросил Филька. – И дальше были сказки. Черепаха рассказывала, а Дятел записывал. Да я все скажу, не торопи меня, а то я собьюсь или забуду что-нибудь… Дальше, Филька, совсем забавная история вышла. Уж и не знаю, говорить ли тебе. – Говори уж, чего там. Обо мне, что ль, разговор был? – Нет, Филька, не о тебе. Рассказывала, знаешь, Кири-Бум сказки, а Енот ерзал на пенечке и вздыхал: «И эта не обо мне. Когда же обо мне будет?» Услышала это Лиса, подсела к нему, и ну, понимаешь, вздыхать рядом с ним: – В самом деле, почему вы о Еноте не хотите рассказать? Обрадовался Енот поддержке Лисы, еще громче вздыхать начал. А Лиса – толк, толк его под бок. – Что это у тебя в узелке? – Обед. – Можно, я погляжу. – Гляди. Развернула Лиса сверток и лапами всплеснула: – О! Можно, я попробую? – Пробуй, – говорит Енот, – я тут неподалеку живу, сбегаю поем, если надо будет. Ела Лиса обед Енота и покрикивала: – О Еноте расскажите. А Енот и рад тому. Тоже просит: – Расскажите обо мне. Поглядела на них черепаха и говорит: – Ну хорошо, пиши, Ду-Дук. «Проходил медведь под яблоней и приметил яблоко на вершинке. Постоял, поглядел на него, пятерней в затылке поскреб. Сказал: – Налилось, да недоспело. Но ничего, дойдет. Только сказал так, а Енот выходит из-за березки. И не звал его медведь, сам вышел, лишний раз на глаза показаться, авось пригодится. Спрашивает: – Что, Михайло Иваныч, яблочком любуешься? – Любуюсь, – прокряхтел медведь, – да оно зеленоватое пока. Не дошло. И вдруг насупился, сдвинул косматые брови. – А ты что, – спрашивает, – тоже на него заришься? Смотри у меня. Это яблоко я себе выглядел. Доспеет, сорву. Сказал и ушел. А Енот и с места сдвинуться не может. Хлопает себя лапами по груди, приговаривает: – Ах, батюшки! Как же мне теперь быть? Сорвет кто-нибудь яблоко, а медведь меня виноватить будет. Забранит, до смерти забранит и при каждой встрече куделить будет. Ах, ты недоля какая. Что же мне теперь делать? Долго думал. Придумал-таки: – Буду караулить медвежье яблоко. Вырыл нору поблизости, перебрался к яблоне со своей семьей. Днем жена дозорила, прела на солнышке, предупреждала всех: – Это яблоко Михайлы Иваныча. Он его зачурал, не рвите. А ночью Енот сам караул нес. Страшно было, но все-таки стерег медвежье яблоко. На каждый шорох отзывался: – Эй, кто там? Проходи мимо. Тут я, Енот, стою, медвежье яблоко караулю. Особенно тяжело осенью стало. Дожди пошли. Давно уж вызрело яблоко, переспело даже, а медведь все не шел за ним. Стоял Енот под дождиком, прикрывался дырявым лопухом, прыгал с ножки на ножку, грелся, приговаривал: – Сейчас надо особенно начеку быть. При такой погоде и не уследишь, как сорвет кто-нибудь яблоко, а Михайло Иваныч на меня будет думать. А я перед Михайлом Иванычем никогда не был виноватым и не хочу быть. А Медведь и не помнил уж, что он яблоко зачурал, спать на зиму в берлоге завалился». – Ох, Филька, – прыгала на суку Сорока, – если бы ты видел, что тут началось. Енот, знаешь, вскочил. Лапами размахивает, слюной брызжет. На самого себя не похож. – Стойте! – кричит. И Лиса тоже: – Стойте, – а сама обед Енота доедает. Кинулся Енот к Ду-Дуку. Подпрыгивает, кричит: – Погоди, не стучи. Что ты там долбишь? Эту сказку не надо записывать. В ней ничего поучительного нет. – Тут уж я, Филька, – рассказывала Сорока, – и смеяться перестала. Гляжу, что будет. И тут подходит к Еноту Шакал и – щелк, щелк зубами. – Это, – говорит, – как же так не записывать? Обо мне вон какую неправду буковка к буковке выбили, а ты хочешь улизнуть? А Енот кулаки сжал и пошел на Шакала. – Ты что на меня зубами стучишь? Ты что меня в грудь толкаешь? И если бы не растащил их медведь Михайло, кто знает, чем бы все это кончилось. Но медведь сгреб их за воротники и усадил возле себя. Шакал сразу присмирел, а Енот еще раза три вскакивал и кричал: – Не надо про меня сказку записывать. Это плохая сказка. Зачем же она место на березе занимать будет? Но Ду-Дук дописал ее до конца и поставил в конце восклицательный знак и две жирные точки. Это особенно обидело Енота. Опять вскочил он: – Ты зачем эти две точки выбил? Ты на что намекаешь, что я у бабушки Агафьи с огорода морковку унес? Так это когда было? Еще в прошлом году. Ты зачем мне этим сегодня глаза колешь? – Ох, Филька, – подпрыгивала на суку Сорока, – если бы ты видел все это. Чуть успокоили Енота. И все равно ругал он самого себя: – Ну не дурак ли, – говорит, – я? Ну зачем я сам на сказку напросился, зачем без очереди полез? Может, когда дошла бы до меня очередь, Кири-Бум совсем другую бы обо мне сказку рассказала. – И все? – спросил Филька. – Больше ни о ком сегодня разговору не было? – Все, – сказала Сорока. – Выбил Ду-Дук сказку про Енота, и все разошлись, потому что Кири-Бум сказала, что у нее совсем-совсем разболелась голова. Ну, бывай здоров, Филя. Спокойной ночи тебе. Полечу я, а то муж ругается, когда я поздно домой возвращаюсь. – Лети, – сказал довольный Филька, – только завтра обязательно прилетай. – А как же, прилечу. Мне ведь, кроме тебя, и рассказывать некому, что у березы делается. Ты ведь один не бываешь там. – Болею я. Корежит меня всего. Ужасно как нездоровится мне. – Болей, Филя, болей. И не спеши выздоравливать. Поторопишься – еще хуже заболеешь. – Я уж и то так думаю. В таком деле лучше не спешить, – сказал Филька и пошел в избу. Запирал Филька дверь на засов, радовался: сегодня о нем речи не было, значит, ему можно спать спокойно. – Да и вообще обо мне говорить не надо. Есть Енот, есть Шакал, Заяц есть, зачем же еще на меня время тратитъ. Лежал в постели, вспоминал сказку о Баране и покачивал головой: глупый, чтобы не было беды, надрывает себя, ест через силу. – Чепуха все эти приметы. Че-пу-ха! Живи честно, и тогда тебе никакая беда страшна не будет. И ты всегда будешь спать спокойно. По себе знаю. Давняя история  На сказки черепахи Кири-Бум Ёж Иглыч приходил без всякой тревоги. Был уверен, что сказки рассказывают только о плутах, а он – не плут, значит, о нем и рассказывать Кири-Бум не будет. Сидел на пеньке, шуршал колючками и выкрикивал после каждой сказки: – Так их, Кири-Бум, так их, мошенников. Крой их, припечатывай, чтобы у других плутовать охота отпала. – Я для этого и рассказываю о вас сказки, чтобы других предостеречь, – сказала черепаха и, устроившись поудобнее на пеньке, начала новую сказку: «Каких только историй не случается в лесу. Вот как-то расцвела на полянке бело-розовыми цветами Яблонька. Мимо бежал Ёж Иглыч. Приметил ее. Остановился. – Цветешь? – спрашивает. – Цвету, – отвечает Яблонька. – Первый раз в жизни цвету. – Ну цвети, цвети, – сказал Ёж Иглыч и побежал дальше. Яблонька отцвела. И стали полнеть, круглиться на ее ветвях яблочки. Случилось Ежу Иглычу опять пробегатъ мимо. Увидел он их, поинтересовался: – Наливаются? – Наливаются, – сказала Яблонька. – Первые в моей жизни. – Пусть наливаются, – сказал Ёж Иглыч и побежал дальше. Налились на Яблоньке яблочки, стали сочными, круглыми. Солнышко их подрумянило. Прибежал Еж Иглыч, поморгал глазками. – Какая ты стала. Прямо красавица. А яблочки, яблочки-то какие налитые. Стряхни-ка мне пяток. Яблонька стряхнула. Ей было приятно, что Ёж Иглыч опять приметил ее, разговаривает с нею. Съел Ёж Иглыч одно яблочко, а остальные наколол на иголки и унес к себе: дома пригодятся. Дня через два опять прибежал к Яблоньке: – Стоишь? Зеленеешь? Это хорошо. Зеленой, говорю, хорошо быть, молодой себя чувствовать… А яблочки-то, яблочки какие у тебя, так и светятся соком, прикоснись губами – и брызнут. Стряхни-ка мне пяток, я позабавлюсь. И Яблонька стряхнула. Она была счастлива, что Ёж Иглыч опять пришел к ней. А он, как и в прошлый раз, одно яблочко съел, а остальные наколол на иголки и унес домой. Через день он снова прибежал к ней. Прибегал и еще много раз, а она все угощала и угощала его яблочками. И говорила соседним деревцам: – Он меня приметил, еще когда цвела я. И пришел день, когда Яблонька стряхнула и отдала Ежу Иглычу последнее яблочко. Он деловито наколол его на иголки и унес к себе. Она долго слушала, как уходит он, и как похрустывают под его шагами прошлогодние листья. На другой день Ёж Иглыч не пришел. Не пришел и на третий. Яблонька напрасно ждала его, прислушиваясь к шорохам. Через неделю она услышала его голос. На соседней полянке росла еще одна молоденькая яблонька, и Ёж Иглыч говорил ей: – Я помню, как ты цвела. У тебя были крупные, белые с розовым цветы. Яблонька слушала, что говорит Ёж Иглыч ее соседке, и думала: «Что ж, у нее еще есть яблочки и можно говорить ей, как цвела она и какими крупными были ее цветы…» И хоть до осени было еще далеко, с ветвей ее падали на землю поблекшие листья…». Глядел Ёж Иглыч, как выбивает на березе Ду-Дук сказку о нем, и шуршал иголками: «Это, что ж, выходит, и я плут?.. Но ведь это же давно было». И он уже хотел было крикнуть: «Давняя это история, зачем записывать ее», – да засопел, завозился на пне. – «Пусть записывают, я уже не такой, а другим на пользу пойдет». Воронье диво  Не каждый может мужественно выслушать о себе сказку. Ворона вот не смогла. Любила Ворона Ворона, а он любил не ее, а Иволгу, любил он ее за песни звонкие. И подумала как-то Ворона: «Погоди, ты еще пожалеешь об этом». И стала завлекать Ворона. Увидит: полетел он к речке, отправляется за ним следом. Сядет на виду, глаза под лоб заведет, крылья по бокам свесит – пусть видит Ворон, что она не просто так сидит, а – думает. Полетит к Маньяшину кургану Ворон – и Ворона за ним. Пристроится где-нибудь поблизости, заведет глаза под лоб и сидит, толстая, серая. Была уверена Ворона: увидит ее Ворон думающей и поймет, что главное в птице не песня звонкая, а – ум, и перестанет летать к Иволге, у нее, у Вороны, время коротать будет. Но Ворон не обращал на нее внимания. И поэтому когда сказала черепаха как-то у березы: – Сейчас я расскажу вам сказку про Воронье диво, – захлопала Ворона крыльями, закричала: – Слушайте, слушайте, обо мне Кири-Бум начинает сказку рассказывать. И до меня дошла очередь. И многозначительно поглядела на Ворона, дескать, имей в виду, я не чета Иволге: обо мне сказки рассказывают, а со временем будут рассказывать и легенды. Я птица легендарная. А черепаха, покачиваясь на пенечке, рассказывала: «Прилетела в нашу рощу из-за моря Птица Заморская. Долго о диковинках заморского края рассказывала, а потом и говорит: – Ну, а теперь покажите, что в вашем крае хорошего есть. Привели ее наши птицы на поляну, цветы показали. Похвалила она их: – Красно цветут. У нас нет таких. Ворона тоже здесь была. Распахнула клюв, прокаркала: – Эко диво – цветы. Нашли что показывать. Вот если бы я показала, ахнула бы гостья заморская. Привели наши птицы гостью из-за моря к Ванину колодцу. Попила она воды из него, похвалила: – Студеная. У нас редко встретишь такую. Ворона и сюда прилетела. Распахнула клюв, прокаркала: – Эко диво – вода родниковая. Нашли что показывать. Бот если бы я показала кое-что, ахнула бы гостья заморская. Привели наши птицы гостью к Лысой горе. Посидела она на ее вершине, похвалила: – Красивая у вас гора. А Ворона и сюда прилетела. Распахнула клюв: – Эко диво – гора Лысая. Нашли что показывать. Вот если бы я показала кое-что, ахнула бы гостья заморская. И сказали тогда наши птицы: – Что ж, покажи ты свое диво, Ворона. – И покажу, – сказала Ворона и привела заморскую гостью к своему гнезду. Сидела в нем молодая, только что оперившаяся ворона с большим животом и большими выпуклыми глазами. – Это моя дочка, – сказала Ворона. – Красивее ее никого у нас во всей округе нет. Разве… я только». Нет, совсем не такую от черепахи ждала сказку Ворона! Разве хотела она, чтобы над нею смеялись? Ворон тоже смеялся. Правда, не так явно, как все, но все-таки смеялся. И это больше всего обидело Ворону. «Ты еще об этом пожалеешь», – сказала про себя Ворона и улетела домой. Села у своего гнезда, завела глаза под лоб, крылья по бокам свесила. Будет лететь мимо Ворон, увидит ее. – О, – скажет, – на вид-то Ворона простоватая, а с думой в голове, – и пожалеет, что смеялся над нею. Но увидела Ворону Сорока. Летела она к барсуку Фильке, крикнула на лету: – Что? Думаешь, каким бы новым чудом удивить нас? – Но, но, – кинулась к ней Ворона и, если бы не удрала Сорока, быть бы ей битой. – Балаболка, – послала ей вслед Ворона обидное слово и опять глаза под лоб завела: с минуты на минут должен показаться Ворон. Ворона ждала Ворона, а появился Коршун. Крикнул на всю рощу: – Удиви-ка чем-нибудь, Ворона. И даже Сокол, который снился ей почти каждую ночь, которого втайне она любила больше, чем Ворона, даже Сокол не пролетел мимо, чтобы не съязвить: – Нет ли у тебя еще какого дива, Ворона. Ха-ха!.. И тогда сказала Ворона: – Ах, так, ну вы еще пожалеете об этом. И решила навсегда улететь из Гореловской рощи. В Осинники решила улететь Ворона. Гнездо свое на землю спихнула, чтобы никто не вздумал жить в нем. Вылетела из рощи, оглянулась, пригрозила. – Хватитесь завтра, а меня нет. Увидите, плохо жить без Вороны, и позовете. Посмотрим тогда, захочу ли я к вам вернуться. Прилетела Ворона в Осинники и угнездилась на макушке самой высокой осины, чтобы, когда придут звать ее, сразу бы увидели, где она. А то еще поищут да назад вернутся, скажут: «Не нашли». Отчего осина горькая  Каждое утро бобер Яшка приходил к березе и сидел возле нее до вечера. Ему очень хотелось, чтобы и о нем рассказала черепаха Кири-Бум сказку и чтобы выбил эту сказку Ду-Дук на березе на самом видном месте. Дни шли. Все меньше и меньше оставалось на березе места для сказок, а о Яшке черепаха пока и словом не обмолвилась. Бобер сердился, но никому не говорил об обиде своей. Прятал остренький подбородок в бобровый воротник, ворчал себе под нос: – Соседка называется. Я с ней на дню по два раза здороваюсь и все зря. Однажды сказала черепаха: – Сейчас я расскажу вам, отчего осина горькая, и на этом сегодня кончим. Устала я. Да и Ду-Дуку пора хоть немного жене помочь, гнездо почистить, птенцов покормить. Правильно я говорю, Ду-Дук? – Правильно, – поддернул дятел красные шаровары. – Немножко помочь надо, а то будет сердиться жена. И приготовился записывать. А бобер услышал, что собирается Кири-Бум про осину рассказывать, и пошел прочь от березы: если сказка сегодня последняя, да не о нем, то зачем ее слушать? Недовольный Яшка домой пришел. Сказал жене хмуро: – Состряпай поесть чего-нибудь. Но не успела она стол накрыть, а Яшка умыться, как прилетела Сорока и, заглядывая в окошко, поманила крылом: – Выйди, Яшка. Вышел бобер. Отогнула Сорока хвост влево, чечекнула: – Ты чччего ушел так рано? – А тебе что? – Мне-то все равно, а вот черепаха о тебе сказку рассказывала. – Врешь. Она об осине объявила, я слышал. – Объявила про осину, а рассказывала про тебя. Ух и сказка получилась! Я ее один раз прослушала и три раза прочитала. На память заучила. – Ой ли! А ну расскажи. – Пожалуйста, – сказала Сорока и, усевшись на крылечке Яшкиной хатки, начала рассказывать: «Еще когда бобер Яшка бобренком был, приметил он, что отец его, чуть заспорит с женой, к осине бежит. Встанет перед ней и вот говорит, вот говорит что-то. Спросил он однажды: – Зачем это ты, отец, к осине бегаешь? – Горечь свою отношу ей. Жизнь доживаю я с твоей матерью, а еще ни разу не сказал ей грубого слова. Защемит иной раз сердце, такое сказать хочется, но побегу скорее и скажу это осине. Оттого и живем мы с твоей матерью в ладу, не ссоримся. А где лад, там, говорят, и клад, там, говорят, и счастье. Отец это сказал, а Яшка запомнил. Вырос, сам бобром стал, семьей обзавелся. Обиделся как-то на жену, хотел было ее словом огненным ожечь, да отцовскую присказку вспомнил: где лад – там и клад. Закусил губы: лучше не вздорить. А слово горячее так и вертится да языке, так и просится, чтобы его сказали. И чувствует Яшка, если не скажет он его, если не освободится от него, покоя не будет. Выскочил он из своей хатки и побежал к осине, к которой отец в свое время бегал. Все сказал ей, что жене сказать хотел. И сразу легче на душе стало, отмяк. Веселым домой вернулся. И жена его весело встретила. За стол усадила, осинку молоденькую положила перед ним. – Ешь, Яша. Однажды опять поспорили они – в семье такое бывает. И опять захотелось бобру слово погорячее подобрать и опалить им сердце жены побольнее, но вспомнил присказку отцовскую: где лад – там и клад. Вспомнил и побежал к осине. Побранился на нее, облегчил душу. И когда видят теперь у Бобровой запруды, что Яшка опять к осине бежит, говорят друг другу: – Это он свой семейный клад бережет. А глядя на Яшку, и другие бобры стали к осине бегать, всю траву вокруг нее попримяли. – А что? – говорят. – Выскажешь ей обиду свою, и остынет сердце. А если еще и погрызешь ее немного, совсем легко делается. – Ну! – воскликнула Сорока. – Разве не о тебе эта сказка? И схватился Яшка за голову: – Что я наделал! Столько ждал о себе сказку, а услышать, как рассказывала ее Кири-Бум, не пришлось. – У, – вытаращила глаза Сорока, – эту сказку черепаха рассказывала так, что у нас у всех дух в горле перехватило. – И-и, – закачался бобер из стороны в сторону, – как я глупо поступил, что ушел, как глупо. –Ну, ты переживай тут, – сказала Сорока, – а я к Фильке полечу. Я к нему каждый вечер летаю, записанные сказки рассказываю. Сам он слушать не может, болеет. – Погоди, – попытался остановить ее бобер. – Расскажи еще раз о том, как я к осине бегаю, свой семейный клад берегу, а я жену кликну, вместе послушаем – Не могу, – сказала Сорока. – Филька ждет. Да и муж не любит, когда я поздно домой возвращаюсь. Да и зачем я буду тебе одно и то же два раза рассказывать. Сказка о тебе на березе записана, можешь сбегать в любое время и прочесть. Спи спокойно. Но спокойного сна в эту ночь у бобра не было. Повалялся он в постели. Поднялся. В рощу пошел. Встал у березы и прочитал о себе сказку от начала до конца. Верно рассказывала Сорока, ничего не спутала и ничего не забыла. Прочитал еще раз. Прослезился: счастье-то какое. Теперь и через год и через пять лет будут знать, что жил Яшка в ладу со своей женой. И будут говорить все: – Живите так, как жил бобер Яшка: не ссорьтесь с женами. Яшка еще раз прочитал сказку о себе и, смахивая слезы с ресниц, побежал к Машуте, у которой последние дни ночевала черепаха. Постучал в окошко. И когда поднялась с подушки большая голова Машуты, сказал: – Я это – Яшка. Пусть Кири-Бум выйдет. И когда вышла черепаха, попросил ее: – Расскажи еще раз сказку обо мне, я послушаю. Кири-Бум видела, что это очень важно для бобра – услышать о себе сказку именно сейчас. Присела на крылечко Машутиной берлоги, слово в слово рассказала то, что так старательно выбил дятел на березе. Яшка слушал, и по щекам его катились слезы: Яшка был счастлив. На следующее утро он пришел раньше всех к березе я ушел последним. Так было и в последующие дни: первым приходил к березе Яшка и сидел до конца. Вдруг еще о нем черепаха Кири-Бум сказку расскажет, а он не услышит. Второй раз идти к ней стыдно будет. Старенькая уже Кири-Бум. Устает от сказок, охрипла даже. Делил медведь барана  Не спалось в эту ночь волку. С охоты он пришел пустым, от жены ему попало, голодные волчата скулили. Злой был волк. Вылез из логова, побрел по роще. Остановился неподалеку от Ванина колодца. На луну поглядел, зубами пощелкал: – Худо нам, волкам, жить стало: из ружья по нас палят, собаками нас травят. Худо. Увидел березу со сказками, свернул к ней. Хоть сказки почитать, все, может, полегче станет. Подошел, прочитал: «ДЕЛИЛ МЕДВЕДЬ БАРАНА», – возмутился: – И что она врет, эта Кири-Бум. Чтобы медведь поделил с кем-нибудь своего барана, да такого еще никогда не было и не будет. Медведи привыкли брать, а не давать. И нечего их выгораживать. И вдруг рыжая шерсть у него на загривке ощетинилась: волк читал сказку о самом себе. Было выбито на березе: «Добыл волк Рыжий Загривок барана, тащил домой А идти нужно было мимо берлоги медведя Сидора. «Дай, – думает волк, – зайду к медведю, лишний раз напомню о себе». Но так просто как зайдешь к медведю? Не товарищ он тебе, неудобно. И решил тогда волк: – Попрошу-ка я его барана разделить нам с женой, будто мы никак не можем поделить его между собой поровну. Протиснулся волк Рыжий Загривок с бараном к медведю Сидору в берлогу, а у того гости: медведь Потап, медведь Лаврентий, да еще какой-то медведь незнакомый, да четыре медведицы. Остановился волк у порога. Положил барана к ногам. Поклонился медведю Сидору: – Зашел навестить тебя, Сидор. – И правильно сделал, что зашел, – сказал Сидор, не вставая из-за стола. Поклонился волк еще раз ему: – Решил попросить тебя, Сидор, барана разделить нам с женой. Сами никак поделить не можем. – И правильно сделал, что решил, – сказал медведь и лапы протянул. – Давай-ка его сюда. Да отодвинься от окошка к порогу, не темни. Застишь, а тут точно видеть надо. Положил медведь барана на стол. Отрезал голову. отодвинул в сторону. – Она одна, ее не поделишь. Отложил в сторону и сердце. – Оно тоже у барана одно, не делится. После этого разрезал барана на две равные половины я спрашивает у гостей: – Как вы думаете, какую из них волку отдать – левую или правую? Зашевелились медведи, поближе придвинулись к медведю Сидору. Губы облизали. Подали совет: – Какая вкуснее, ту волку надо отдать. Он трудился, добывал. Откусил медведь Сидор от левой половины, отведал. Откусил от правой – тоже пробу снял. Сказал: – Левая вроде вкуснее. Еще раз попробовал и протянул гостю, соседу своему: – Отведай-ка ты, Потапушка, может, ошибаюсь я. Отхватил медведь Потап от левой половины кус, съел его. От правой отхватил, медведю Лаврентию подал: – Верно, левую половину надо волку отдать. Она в самом деле вкуснее. Попробуй-ка, Лаврентий. Попробовал медведь Лаврентий, своему соседу передал, а тот – медведице Авдотье, а медведица Авдотья – медведице Матрене. И все кусали да пробовали. И пока дошли до волка бараньи половинки, одни кости остались. После этого взял медведь Сидор сердце барана, подал волку: – Жене отдай, чтобы любила тебя крепче. А голову сам съешь, чтобы в твоей побольше мозга было. А когда в следующий раз добудешь еще барана, заходи, не стесняйся – поделю. – Обязательно приду, – пообещал волк Рыжий Загривок и понес домой бараньи кости. С той поры немало времени прошло, но почему-то так ни разу больше и не пришел волк к медведю Сидору делить барана, хотя и пообещал». Дочитал волк сказку до конца и схватился за голову: вот ему теперь медведь: «Раззвонил, – скажет, – не утерпел. Один раз угостился твоим бараном и ты уж разболтал всем». А волк и не славил его вовсе. Стыдно ему было в тот день с бараньими мослами домой идти, он и вытряхнул их из мешка в Бобровую запруду – пусть раки полакомятся. Увидела его у берега черепаха, спросила: – Ты что это к медведю за мослами ходишь, побираешься? И чтобы не сплела она о нем небылицы какой, рассказал волк, как дело было. И еще попросил даже: – Ты только никому не рассказывай об этом, пусть это будет нашей с тобой тайной. Черепаха опустилась на дно запруды и пустила оттуда струйку пузырьков воздуха. И не понял тогда волк, будет Кири-Бум хранить его тайну или нет. Время шло, разговору в роще о случившемся не было, и волк успокоился и забыл эту историю с бараном и вот теперь среди ночи прочел ее выбитой на березе и схватился за голову. К березе Сидор пока не ходит. Простудился у речки, болеет, но выздоровеет и придет. И тогда, как узнает, что о нем записано на березе, – у-у! И поглаживал волк Рыжий Загривок сердце. Бывало, жил и не чувствовал, что оно у него есть, а сейчас ноет под ребрами, не к добру, видать, ох, не к добру. – Сцарапать бы эту страшную сказку с березы, но ведь тогда сразу все догадаются, что это я сделал, к ответу потянут. Еще из рощи прогонят. А куда я тогда пойду? В Осинники? Там свои волки есть. И в других рощах тоже. Ох, худо нам, волкам, жить стало, ху-удо. И глядел на выбитую на березе сказку, зубами пощелкивал, завывал тоненько: – Что будет, что будет! И грозил черепахе: – Ну погоди, Кири-Бушка. Хотя знал, что ничего дурного ей не сделает: за плечами у Кири-Бум вся Гореловская роща с медведями во главе. – Надо идти заглаживать вину свою, пока не поздно, – сказал волк и побежал к медведю Сидору. Он долго топтался у него под окошком, не решаясь постучать. И не постучал, а робко поскреб о наличник. И вздрогнул, когда раздался из тьмы берлоги хриплый голос медведя Сидора: – Кого еще там в такую пору черти принесли? Волк от страха и голову вобрал в плечи. На пришибленного деревенского пса похож стал. Сказал чуть слышно, совсем не по-волчьи: – Я это. – Кто – ты? Не признаю никак по голосу, – прохрипел медведь и толкнул створки окна. – Ты, что ли, это, волк? Что это ты какой? И меньше вроде стал и в голосе нет прочности прежней. Что по ночам шляешься? Сам не спишь, и меня с постели поднял. – Беда, Сидор, – простонал волк. – Черепаха эта… Вызнала откуда-то, как ты барана делил мне, и сочинила сказку, а дятел записал ее на березе. – Врешь! – прорычал медведь и полез в окно из берлоги. – А ну, пошли к березе. И размашисто зашагал по просеке. Волк рядом бежал. Поскуливал, оправдывался: – И откуда она вызнала? Кто ей мог сказать! И старался заглянуть медведю в глаза. Пришли они. Осмотрел медведь березу сверху донизу: исписали уже сколько! Приказал: – Ну, которая здесь сказка про меня? Читай. Да громче и отчетливее, что ты мямлишь. Прочитал волк. Прижал его медведь к груди. – Милый, как хорошо, что ты зашел тогда ко мне с бараном. Не зайди ты, и нечего было бы Кири-Бум рассказывать обо мне. Не сразу понял волк Рыжий Загривок, что медведь не собирается бить его. А когда понял, ослаб вдруг и опустился на траву. А медведь Сидор стоял над ним, ухал. – Хорошо, ух, как хорошо! А! Живешь и не знаешь, что в твоей жизни будет сказочного. Ну, зашел ты тогда ко мне, разделил я тебе барана – мелочь. Трудно разве это было мне? А погляди, как все обернулось. Спасибо тебе. А ты что худой какой? – Ем плохо, – честно признался растроганный волк. – Пастухи зоркие нынче пошли, не подойти к стаду. Весь вечер бродил у загона и не добыл ничего. Да еще и обстреляли из ружья и собаками припугнули. – Так ты что, и не ужинал сегодня? – Я даже и не завтракал. – Милый, идем тогда ко мне. У меня кое-что припасено. Только ты еще раз прочти сказочку. Хоть и луна светит, а слаб я глазами, не вижу. Дома накормил медведь Сидор волка мясом. Ребятишкам кусок в гостинец послал. Проводил его до Яблоневого оврага. К березе вернулся. Погладил ствол ее, воздух понюхал. Сказал: – Как в жизни бывает! И пошел к своему давнему товарищу медведю Михайле. Поднял его с постели. За плечи трясет, кричит: – Видел? Сказку обо мне на березе выбили. – А, – протянул медведь Михайло, – не только видел, но и слышал, как черепаха рассказывала ее. И отвернулся к стене. Подумал: «Нашел чему радоваться – сказке. Я с утра до ночи бога молю, чтобы обо мне не рассказали, а он – радуется. Какие мы все разные». Сказал сухо: – Иди домой, спать я буду. Но медведь Сидор домой не пошел. Он вернулся к березе и простоял возле нее до утра. И потом весь день бродил по роще я говорил всем: – Читали сказку обо мне? Идите читайте. Поучительная сказка. Я даже сам, прочтя ее, многому научился. Сурок  Утром, когда черепаха Кири-Бум пробиралась к березе, у Ванина колодца она повстречала Сурка. Он пил из лужицы воду. Черепаха оглядела его, сказала: – Я тебя раньше вроде у нас не видела. – А я никогда раньше у вас не был. Только что появился. Хочу у вас на Маньяшином кургане поселиться. Можно? – Это Потапыч решит. Он у нас хозяин рощи. А ты чей? Сурок рассказал о себе. Выслушала его Кири-Бум и махнула лапкой. – Иди за мной. Она привела Сурка к березе и взобралась на пенек. Все уже ждали ее. Черепаха подперла кулачком щеку и началась: – Сейчас расскажу я вам свою новую сказку. Погоди Ду-Дук, не записывай. Сперва прослушайте, а потом уж решим – записывать ее или нет. Сказка-то новая. И она повела рассказ: «Поймали ребятишки Сурка в степи и принесли школу в живой уголок, но он у них убежал ночью. Выбрался за село и стал соображать: в какую сторону идти ему, где искать нору свою. Место было незнакомое, совсем чужое. Поднял Сурок глаза к небу, попробовал по звездам определить путь свой. Но никогда раньше не наблюдал Сурок за звездами, и потому сегодня ничего они ему не сказали. До рассвета просидел Сурок у села, но так и не смог определить, куда идти ему. А когда всходило солнце, решил: – Пойду к нему, оно мне поможет. Так рассудил Сурок: придет он к солнцу и скажет: – Солнышко, ты по целым дням в небе. Ты выше всех и все видишь. Скажи, где находится тот курган, на котором по утрам я люблю сидеть и посвистывать. Вытянет солнышко луч и покажет, куда бежать надо. И будет потом Сурок на кургане у себя рассказывать, как был он в гостях у солнца и как помогло оно ему домой дорогу найти. Но попасть к солнцу оказалось не так-то легко: утром оно на востоке, в обед – на юге, а вечером – на западе. Бегал, бегал за ним Сурок, совсем запутался. Понял: и к солнцу ему не попасть и домой не выбраться. – Что ж, – сказал Сурок, – буду здесь прибиваться к кому-то. Не жить же одному. Была ночь. Собиралась гроза. Сурок обежал пустырь, на котором застигла его непогода, но кроме домика Хомяка, ничего не нашел на нем. Ну что ж, и Хомяк тоже живая душа, пригреет. И верно, пригрел Хомяк. Впустил к себе Сурка, расспрашивать начал: откуда идет он и куда путь держит. Услышал, что заблудился тот, посочувствовал: – Один, значит, на земле остался. Это плохо, одному говорю, плохо быть: поругаться и то не с кем. По себе знаю. Я на этом пустыре уже третий год один живу. Плохо. И загорелись вдруг остренькие глазки Хомяка, и сам он весь посветлел как-то. Предложил: – Послушай, ты – бобыль, я – бобыль. Давай вместе жить. Вдвоем легче век коротать. Больно я о товарище натосковался. – Я согласен, – сказал Сурок. – Мне теперь где ни жить, лишь бы не одному, лишь бы с кем-нибудь поблизости. И умащиваясь на сухонькой соломке, спросил: – А ты как на этом пустыре оказался? Или всегда жил здесь? – Что ты! Я на кургане у Гореловской рощи жил, да с соседями не поладил. У меня, знаешь, натура широкая. Я люблю жить так, как я хочу, а им это не понравилось. Учить меня начали. Я и перебрался от них на этот пустырь. И тихонько засмеялся, захрюкал будто, весь подергиваясь: – Когда я уходил, пугали они меня, соседушки мои. От тоски, говорят, помрешь. А вот и не помру теперь. ты у меня есть. Одному и в самом деле плохо. Я уж даже подумывать начал: не податься ли к своим, но теперь ты у меня есть, и я никуда не пойду. Мне здесь хорошо: делаю, что хочу, и никто не перечит. «Так вот ты какой, – подумал Сурок, – ты хочешь жить так, чтобы только тебе удобно было, и меня к себе для забавы берешь. Нет уж, отделился ото всех, так и живи один». Снаружи уже гроза гремела, лил дождь. В норе у Хомяка было тепло и сухо, но поднялся Сурок и пошел к выходу. – Пойду, – говорит, – я думал, ты из доброты пустил меня на ночь, а ты вовсе и не обо мне, о себе думал. Себялюб ты, и я с тобой даже одним воздухом у тебя норе дышать не хочу, – и, вобрав голову в плечи, нырнул под холодный ливень. Мокрый сидел Сурок посреди пустыря. Когда вспыхивала молния, зажмуривался от страха и, замирая ждал грома. По спине его барабанил дождь. Дождь тек по щекам и груди. Высунувшись из норы, Хомяк кричал: – Иди ко мне. Что ты мокнешь зря? Но говорил самому себе Сурок: «Пусть будет страшно мне, пусть будет мокро мне, зато никто никогда не скажет, что я провел ночь в одной норе с тем, кто ушел от товарищей, кто любит только себя». Утром, когда утих дождь и взошло солнце, Сурок увидел у горизонта рощу и курган возле нее. Догадался: это и есть Гореловская роща и это тот самый курган, на котором живут товарищи Хомяка. – Пойду к ним, с ними жить буду, – сказал Сурок и, встряхнувшись, побежал к роще». – И вот он перед нами, – закончила Кири-Бум свою сказку. – Я встретила его у Ванина колодца и привела сюда. Он просит разрешить ему поселиться у нас на Маньяшином кургане. Что ты скажешь на это, Потапыч? Потапыч сдвинул брови. Сурок стоял перед ним навытяжку желтеньким пенечком. Вокруг шумели: – Разреши ему, Потапыч. Он хороший. И Потапыч махнул лапой: – Живи. – Ну вот, одним жильцом у нас в роще стало больше, – сказала черепаха. – А теперь давайте решим, записывать о нем сказку или нет. – Как же не записывать, – басил медведь Михайло. – Раз он теперь наш, то и на березе для него должно найтись место. Не о Сурке заботился медведь Михайло. Знал он: чем больше на березе будет выбито сказок о других, тем меньше на ней останется места для сказки о нем, а может, и вовсе не останется. Потому и басил медведь: – Обязательно записать надо. Страшная весть  Весь день сидел барсук Филька у окошка своего домика и с тревогой прислушивался к доносящимся с поляны голосам. Обхватывал голову лапами: «Неужели сегодня обо мне говорит Кири-Бум?» И ждал Сороку: появится она и все расскажет. Перед вечером небо заволокли тучи, и пошел дождь. Филька заволновался: что если испугается Сорока дождя, не прилетит, и не узнает Филька, была о нем сегодня речь у березы или нет. Может, весь день только о нем и говорили. Но зря тревожился Филька. Прилетела Сорока, не устрашилась дождя. Вынырнула из-за сосны, затараторила: – Иди сюда, Филька, скорее иди. Радость скажу. – У меня окошко открыто. Я и так слышу, говори. – Ишь ты какой, – сказала Сорока, умащиваясь на суку. – Я мокнуть на сосне буду, а ты будешь из окошка глядеть на меня. Не пойдет. Если хочешь секрет узнать выходи на улицу. Не падким был Филька на чужие секреты. И если бы Сорока прилетела к нему с обычной своей сплетней Филька прогнал бы ее. Но Сорока знала, опозорен Филька или еще нет. И Филька вышел наружу. Дождь стучал по его узенькой голове, тяжелыми каплями скатывался с бровей. – Ну говори скорее, с чем прилетела-то. Но говорить Сорока не спешила. Ей было приятно видеть, как стоит Филька под дождем, мокнет. И она все возилась на суку, все умащивалась. А Филька стоял и глядел на нее, и глаза его наливались слезами: Фильке было жаль самого себя: «Вот оно как в лесу-то жить: один раз ошибся, и потом всю жизнь тебе этой ошибкой в глаза тычут». Увидела Сорока печальные глаза Фильки, растрогалась: как он ее, Филька-то, любит. Каждый день слушает, не прогоняет, не то что другие. Вон даже дождик его мочит, а он стоит, ждет, что скажет она ему. И, благодарная Фильке за внимание, Сорока начала свой рассказ с главной новости: – Радуйся, Филька: завтра о тебе черепаха сказку рассказывать будет. Сорока думала обрадовать барсука, а он испугался. Щека у него задергалась, зубы застучали: – Откуда ты знаешь? – Я всегда все знаю, – приподнялась на цыпочки Сорока. – Кири-Бум сказала. Приходите, говорит, завтра о Фильке рассказывать буду. Так прямо и сказала – все приходите. Вот, Филька, как она тебя любит. – Пусть бы она лучше тебя так любила, – зло сказал Филька и пошел в избу. Сорока прыгала на суку, кричала: – Куда же ты, Филя? Я еще сказки сегодняшние не рассказала тебе. – Расскажи себе их, – буркнул Филька и хлопнул дверью. Спать в эту ночь он не мог. Постель ему казалась жесткой. И воздуху не хватало Фильке, хоть и открыты были все окна. До полуночи проворочался Филька в постели, а потом поднялся и сказал, глядя в темный угол: «Нельзя спать в такую ночь. Решается судьба моя, а я под одеялом прячусь». Филька решил идти к черепахе Кири-Бум. Пошел. По пути к березе свернул. Омытая дождем, она тускло белела среди дубов и кленов. Сказки шли сверху, каждая в своей рамочке, каждая со своим заголовком. Филька скользнул по ним взглядом. На одном задержался. Он был особенно крупным и страшным. «ПРОВОРОВАЛСЯ» – прочитал Филька и оглянулся вокруг. Простонал, поскрипывая зубами: – Нет, уж лучше быть повешенным на березе, чем в такой сказке на ней пропечатанным. И затрусил по мокрой траве к Бобровой запруде. Долго топтался на берегу, звал: – Выйди, Кири-Бум. Из своей хатки высунулся бобер Яшка: – Это ты, Филька? Ты чего поздно как? – Когда случилась нужда, тогда и пришел, – оборвал его Филька. – Тебе-то что? Спи иди. И топтался на берегу, звал: – Выйди Кири-Бум. Черепаха устала да к тому же с вечера дождик брызнул, спалось ей крепко, и Филька долго не мог докликаться ее. Наконец, всплыла она со дна запруды и протирая кулаком глаза, спросила: – Кто здесь? Кто это зовет меня? – Я, – сказал барсук. И черепаха узнала его по голосу: ночью она видела плохо. – Ты – Филька? Что не спишь? – Не до сна мне сегодня. Сорока прилетала, говорила, что ты собираешься завтра обо мне сказку рассказывать. – О других говорила, и о тебе говорить буду. И встал Филька на колени перед черепахой, лапы над водой вытянул: – Не срами меня, Кири-Бум. За мной давно уж дурных дел не водится. И это теперь навсегда. Я не медведь Тяжелая Лапа, умею себе укорот сделать. Зачем же старое ворошить? – А я и не собираюсь говорить о твоей прошлой жизни, есть что рассказать и о сегодняшней. – Это неправда! – воскликнул Филька. – Тебя, может, в заблуждение ввели. Наговорить невесть что могут. В моей сегодняшней жизни ничего плохого нет, – сказал это Филька и вдруг вспомнил недавний сон, как он был в гостях у давнего товарища барсука Федора, и как Федор выставил его из избы за жадность. И еще отчаяннее стал просить Филька: – Не рассказывай, Кири-Бум. – Не могу, – сказала черепаха и опустилась на дно запруды. К Потапычу побежал Филька. С постели его поднял: – Только ты один можешь спасти меня, Потапыч. Ты у нас хозяин рощи. Выручи. – Чего тебе? – сипел со сна медведь. – Запрети, Потапыч, записывать обо мне сказку. Не переживу я этого. Помялся Потапыч, сказал: – И рад бы тебе помочь, Филька, да не могу. Не я решаю, какую сказку записывать на березе, а какую нет. – А кто же решает? – Все. Как решат все, так и будет. Шел Филька домой и плакал. Катились по его худым щекам слезы и падали на мокрую после дождя траву, и когда утром шла к запруде за черепахой Машута, то думала о них: «Ишь, росинки светлые какие». Есть друг и у Фильки  Всю ночь Филька не сомкнул глаз. То на завалинке сидел, то ходил перед окнами и все думал, думал. Жизнь к концу продвинулась, было о чем подумать. А звезды медленно, но упрямо поворачивали к рассвету. С рассветом пришла в рощу заря и алым пламенем подожгла небо. Постаревший и осунувшийся за ночь Филька поднялся с завалинки. – Пойду хоть послушаю, как будут убивать меня. И пошел к березе. Он не был первым. За кустом малины стоял Кабан и похрюкивал. Погорячился Кабан, когда рассказывала черепаха сказку о Мышонке, и ушел от березы. Ждал: позовут его. Но позвать никто не догадался. Вот и прячется с той поры Кабан каждый день за кустом, но прячется так, что его наполовину видно. Филька спрятался по-настоящему. Из-за куста видел он, как уверенно и солидно прошел к березе медведь Михайло и прочно опустился на поваленную липу. Липа охнула под ним и вдавилась в землю. Прибежал Енот. Встал перед березой. Почмокал губами: – И все-таки зря в конце сказки обо мне дятел поставил две точки. Ни к чему они. И сел возле медведя Михайлы. Пришел медведь Сидор. Постоял у березы, поглядел на сказку о себе, хмыкнул: – Вот ведь как! Живешь ты и не знаешь, что из твоей жизни в сказку угодит. И сел возле Енота. Потом взял его под мышки и поднял. Енот задергался, завизжал: – Ой, щекотки боюсь. Сидор пересадил его к себе с левой стороны, а сам к медведю Михайле подвинулся. – Так будет правильней, а, Михайло? А скажи, приятно это, когда о тебе сказку на березе выбивают? – Кому как, – буркнул медведь Михайло. Говорить с Сидором у него охоты не было. Михайло с опаской поглядывал на березу: как много на ней еще места. Вполне может хватить и на сказку о нем. «Запишут в самом низу, и будет всякая лесная мелочь нос совать и зубы скалить», – думал медведь Михайло и горбил плечи: вот житье пришло невеселое. Пришла Машута и принесла черепаху Кири-Бум. Она уселась поудобнее на своем пеньке и вздохнула: – Вроде и не шла, а устала. «Вот она, посрамительница моя», – глядя на черепаху из-за куста малины, думал Филька и даже не замечал, что царапает когтями землю. Прилетел Ду-Дук. Окинул березу гордым взглядом. – Исписал сколько! Сейчас вот еще Фильку впишу. «Типун тебе на язык», – подумал Филька и вздохнул. Кабан тоже вздохнул и захрюкал: дескать, слышите – здесь я, зовите меня. Подполз к кусту заяц с рыжими усами. Толкнул Кабана под бок. – Обо мне еще не было речи? – Ни о ком еще пока не было? – А будут обо мне говорить, не знаешь? – Откуда мне знать? – А ты спроси, чего тебе стоит? Замолви за меня словечко. – Обо мне самом кто бы замолвил. Ты разве не видишь, я под кустом прячусь? И вообще, шел бы ты, милый, домой, не до тебя тут. – Нет, я домой не пойду. Я ждать буду, – сказал заяц и, подкрутив рыжие усы, вдвинулся в куст. Черепаха Кири-Бум откашлялась и подняла лапку. – Давайте начинать. Слушайте сказку о Фильке. Ты, Ду-Дук, покрупнее ее выбей. «Эх, – чуть не плакал за кустом Филька. – Мелко обо мне ее не устраивает, ей покрупнее надо». И сразу темно у Фильки в глазах стало, и звучал в темноте голос черепахи: «Вы, наверное, знаете, что у барсука Фильки никогда друзей не было. Говорил Филька: – Друг – это одно беспокойство. То к тебе в гости пожалует, то тебя к себе в гости уведет. И поэтому жил Филька без друзей, чтобы никакого беспокойства не было. И вот как-то поселился рядом о ним барсук из Осинников. Голодно ему там стало, он и перебрался к нам со своей семьей. Вечером к Фильке пришел: – У тебя там не найдется поесть чего-нибудь, сосед? Пока устраивался на новом месте, ничего достать не успел. Я бы сам и так переспал, да ребятишки пристали – сходи, попроси у соседа чего-нибудь. У Фильки были припрятаны в кладовке три мыша да лягушка. Филька всегда с запасцем живет. Всего у него вдосталь. И есть он не хотел, поужинал уже. Можно было отдать соседу, но так рассудил Филька: бойкий какой сосед у него поселился. Не успел оглядеться и уже просить идет. Навадишь, так и будет ходить потом, дай да дай. И не отучишь. Сказал Филька: – Со всей душой угостил бы тебя, да нет ничего. – Ну ладно, так переспим, – извинился сосед и закрыл за собой дверь. Долго в ту ночь не мог уснуть Филька. Ворочался, ворчал: – Нестоящий сосед угодил мне. Привык, наверное, у себя там в Осинниках шататься и у нас с того же начинает. И язык повернулся слово такое сказать – дай. Мне самому будто не надо. Лакомый на чужое. Уснул уж под утро. Но спал недолго. Вышел ко двору, смотрит, а уж сосед с охоты возвращается, связку мышей несет. Отобрал парочку пожирнее, протянул Фильке. – На, сосед, когда ты еще себе добудешь, а перехватишь малость, оно на душе-то спокойнее будет. Бери. Отчего не взять, коли дают? Взял Филька, подумал: «Чудной какой-то сосед у меня. У самого детей куча, а он со мной делится». В другой раз наловил сосед лягушек на озере и опять парочку Фильке занес. Фильки у двора не было, так он ему в окошко подал: – Развлекись маленько. И опять улыбнулся Филька: Ну и сосед. Глупый, видать, всем делится. И не просишь, сам дает. Нисколько экономить не умеет. Ну и пусть делится, разве Фильке от этого хуже. Как-то увидел Филька – сосед суслика поймал. И захотелось ему суслятинки отведать. Пришел он к соседу, просит: – Дай кусочек. А сосед обрадовался, что Филька навестил его. Всегда мимо поскорее норовил пройти, а это зашел. Всего суслика отдает ему: – Чего там кусочек, целого бери. Опешил Филька, попятился даже. – А ты как же? Ты еще, поди, не ужинал. – Обойдусь. – И дети вон у тебя. – И они потерпят. Бери, бери, я себе завтра еще добуду. А мы сегодня можем и без ужина обойтись: мы в обед сытно поели. Дома у Фильки хомяк припрятанный лежал. Было Фильке поесть что, а сосед последнее отдал, и себя и детей без ужина оставил. Нес Филька суслика к себе и тяжелым он казался ему. Стыдно было Фильке, первый раз в жизни стыдно было. И не выдержал Филька, воротился с половины дороги и отдал соседу суслика. – Понимаешь, – говорит, – пока шел от тебя, хомяка поймал. Идем ко мне. И ребят своих бери, заодно поужинаем. – Да они уже спать легли. – Ну возьми тогда суслика-то. Утром они встанут, ты и покормишь их, а сам идем ко мне. Знаешь, какой хомяк большой попался. Одному мне его ни за что не съесть». У Фильки радостью зашлось сердце: какую черепаха сказку о нем хорошую рассказывает. И плыли глаза Фильки: «Значит, разглядела Кири-Бум рассвет в душе моей. И с маленькими глазками, а глубоко видит». А возле березы переговаривались: – Вот это сказка. – Да, до слез трогает. – И без дополнительных точек в конце. – А зачем они? И так все ясно – выправляется Филька, друзьями обзаводится. – Жаль, нет его с нами. Болеет, говорят, а то бы и он порадовался. – Да здесь я, здесь, – закричал растроганный Филька и высунулся из-за куста. И повернулись все к нему. Медведь Сидор лапы расставил. – Правда, он. Глядите – Филька наш. Иди сюда, я тебя обойму. Обо мне ведь тоже сказку Кири-Бум рассказывала. Я барана волку разделил, а она узнала об этом. Да иди же сюда, чего ты там стоишь. «Ну вот, его зовут, а меня вроде и не замечает никто», – подумал Кабан и сказал: – И правда, что ж ты стоишь, Филька, иди. – Я пойду, пойду я, – тер обмякший Филька глаза кулаком. – И ты, Кабан, айда, что ты все тут за кустом хрюкаешь. Негоже от товарищей прятаться. – Да, да, негоже, – сказал повеселевший Кабан: все-таки его позвали – и тоже вышел из-за куста. Кто кого перехитрит  Не была в тот день Лиса на сказках у березы: проспала. Проснулась утром, слышит – гудит уже полянка, и не пошла. Дома весь день просидела. И как раз в этот день Кири-Бум рассказывала о ней сказку. Будь Лиса у березы, может, и удалось бы ей упросить не записывать ее, но Лисы не было, и никто за нее не заступился. И дятел выбил на белой коре черными буквами: «Встретились молодая Лиса и старая. Молодая была из Гореловской рощи, старая – из Осинников. Подружились и пошли на охоту. Принесли яйцо и курицу. Как поделить? Смотрит лиса из Гореловской рощи на лису из Осинников и думает: «Я моложе моей подружки, ум у меня резвее. Соображу сейчас, как мне ее хитрее провести, и курица будет моя». И говорит: – Одна курица – это, конечно, плохо. Но у нас есть еще яйцо, а яйцо – это ведь тоже курица. Правда, она еще не родилась, но готова родиться. Как ты думаешь, подружка? – Так же, – сказала старая лиса и не проронила больше ни слова. «Отлично, – обрадовалась молодая лиса, – отдам ей сейчас яйцо, а себе возьму курицу». Взяла молодая лиса яйцо, поднесла к уху. Послушала. На свет поглядела. Похвалила: – Большая курица в нем запрятана: и на слух слышно и на свет видно. Погляди ты еще, подружка. Взяла яйцо старая лиса. На свет поглядела, к уху поднесла, послушала. Не терпится молодой лисе. Спрашивает: – Ну как ты думаешь? – Так же, – сказала старая лиса. – Большая курица в яйце запрятана. Шейка белая, ножки желтенькие. И жирная. Куда жирнее той, что принесли мы. – Вот-вот, – завела под лоб глазки, вздохнула. – Эх, жалко, конечно, ну да ладно: ты постарше меня, бери себе лучшую курицу. Ту, что в яйце. Она пожирнее. А я, так уж и быть, эту возьму, тощую. Я помоложе. И протянула старой лисе яйцо. Но сказала старая лиса: – Не жалей. Оставь эту жирную курицу себе. Тебе расти надо, она тебе нужнее. А я уж выросла, мне и тощую девать некуда. И придвинула к себе курицу. И перестала лиса из Гореловской рощи дружить с лисой из Осинников: она не любит, когда обманывают ее». Нет, если бы Лиса была в этот день у березы, она бы, конечно, постаралась доказать, что сказка плохая. Но Лисы не было. И вечером Енот побежал к Лисе, понес ей неприятное известие и свое сочувствие. Они не были друзьями. Лиса не раз обжуливала Енота и, когда судили за плутовство Лису, Енот одним из первых заявил: – Повесить ее, плутовку. И даже когда советовались последний раз: разрешить вернуться Лисе в родную рощу или нет, Енот крепко стоял на своем: – Ни в коем случае. Но сумела найти Лиса тропку к сердцу Енота. То просила вместе с ним, чтобы о нем, о Еноте, сказку рассказала Кири-Бум, то потом сочувствовала ему: – Ни за что обидела тебя Кири-Бум. И это участие Лисы особенно тронуло Енота. Оттаяло у него сердце. Терпеливее стал он относиться к Лисе, обедом с ней делился своим. Все эти дни она ему сочувствовала, теперь Енот бежал ей посочувствовать. В окошко увидела Лиса Енота. Встречать выбежала. – Я так рада, так рада. Поглядел на нее Енот и поморщился: – Ты что непричесанная какая? Опустила глаза Лиса: – Это меня ветер растрепал. Я так спешила к тебе… Но что же мы на крыльце стоим, в сени идем. Вошел Енот в сени к Лисе и опять поморщился: – Что же у тебя намусорено как? Ступить некуда. За собой убрать не можешь. – Это только в сенях так, – виляла Лиса хвостом. – В избу входи. Вошел Енот. Смотрит, а у Лисы и в избе ступить некуда. – Э, да у тебя, Лиса, и в избе не красно. – Это ногами из сеней нанесли. Но куда же ты? Побудь у меня хоть часок. Енот хотел было остаться, но поглядел, а на столе у Лисы посуда со вчерашнего дня немытая стоит. Хлопнул дверью и пошел прочь. Бежала сбоку возле него Лиса, оправдывалась: – Засиделась вчера допоздна за столом, убрать уж сил не хватило. Приходи в другой раз, я все везде вы скоблю, отмою. Тебе у меня понравится. И тут же – раз, раз! – и пригладила коротенькие волосы на голове. Умылась из лужи и вроде ничего стала. Сказал Енот: – Идем к березе. Там о тебе сказку дятел выбил, как тебя старая лиса из Осинников обманула. Сама курицу съела, а тебе яйцо дала. Все так смеялись. – Надо мной? – Над кем же еще? О тебе сказка. Глазки у Лисы сузились. Губы поджались: Лисе не нравилось, когда над нею смеются. Спросила сухо и зло: – А ты куда это идешь со мной? – К березе. – Я и без тебя дорогу знаю. – Ну и пожалуйста, – обиделся Енот и свернул вправо. Прибежала Лиса к березе, прочитала о себе сказку, скрипнула зубами: – У, Кири-Бушка, чтоб тебе в собственной запруде водой захлебнуться. Эх, уж лучше бы меня повесили, чем в такой сказке навсегда жить оставили. И что за день выдался? Ни одной удачи. То проспала, то теперь сказка эта. И еще есть хочется. Но тут же сказала сама себе Лиса: – Из любой беды можно найти выход, главное – голову не терять. И стала прикидывать: у кого бы ей поужинать. Можно было к Еноту пойти, если бы она не обидела его. Он же хотел ей сочувствие выразить, а значит, и накормил бы. – Теперь не накормит. И думать нечего. Схожу-ка я лучше к медведю Спиридону. Сердце у него доброе. Да и улыбнулся он мне на прошлой неделе, авось и покормит. Прибегает Лиса к медведю, а на двери у него – замок, а на замке – записка: «Меня дома нет. Ушел к Лаврентию. Привет!» Лиса сорвала с двери записку, растерзала ее на клочки. Ну и денек! Хоть и большая Гореловская роща, а поесть пойти некуда. Навестил медведь друга  Всего один раз побыл медведь Спиридон у березы на сказках черепахи Кири-Бум. Больше не ходил. – Уйду я, – говорит, – а Лаврентий придет. Увидит – нет меня, уйдет. И мы не встретимся. Я лучше потом прочту, какие сказки будут записаны, зато встречу друга. Но друг не шел. Напрасно просиживал медведь Спиридон на завалинке, поджидая его. Садился раненько поутру и сидел. Хрупнет сухая ветка в чаще, встрепенется медведь: – Не Лаврентий ли это? И уж готов подняться навстречу, да не идет никто. Свесит большую голову на грудь и сидит, угрюмый. И так до вечера. Поглядит иной раз на берлогу медведя Лаврентия и вздохнет тяжело: – Как быстро дичает она. Травой уже заросла, будто и не жил в ней никто. А вечером поднимется и скажет: – Значит, и сегодня не будет. И идет в берлогу. Но и в берлоге все о том же думает. Ляжет в постель, а покой не берет. – Что же не идешь ты, Лаврентий? Или сообщил бы с кем, где живешь ты, я бы сам навестил тебя. Говорил когда-то: ото всего отрекусь, а с тобой не расстанусь тут… Эх, ты. И вспоминал последнюю встречу с медведем Лаврентием. Минувшей осенью это было. Сидел Лаврентий возле медведя Спиридона и жаловался: – Сова из Осинников прилетела, сказывала: опять со всеми соседями переругался Афоня мой. Хотят его из Осинников выселить. И что ему добром не живется. Решил я к нему пойти. Внуков нянчить буду да и Афоне мудрость свою житейскую передавать. Простились они. Ушел Лаврентий, а медведь Спиридон всю зиму ворочался в берлоге да думал: «Ох, Лаврентий. Лаврентий, не насмешил бы ты Осинники мудростью своей житейской. Научишь чему-нибудь сынка, а он поймет это по-своему и оконфузит тебя, как с мостом оконфузил». И с первых дней весны все ждал медведь Спиридон – навестит его Лаврентий или весточку пришлет. А Лаврентий ни сам не шел и не присылал никого. «Может, болеет», – думал по ночам медведь Спиридон. И однажды решился: – Пойду, Осинники не так уж велики. Кто-нибудь укажет, где живет Лаврентий. Долго добирался медведь Спиридон, не те годы стали, чтобы в эдакую даль по гостям ходить, да и в Осинниках не вдруг отыскался Лаврентий. Не знали его еще в Осинниках, а про Афоню медведь Спиридон спросить не догадался. Но все-таки нашел. Подходил к берлоге, тревожился: – Застать бы дома. Вдруг я к нему иду, а он ко мне отправился? Ждать придется. Но зря тревожился медведь Спиридон. Дома был Лаврентий. Сидел на лавке в берлоге, внука причесывал. Увидел медведя Спиридона, обрадовался: – Спиридоша! Ты! И медведь Спиридон ему обрадовался: – Лаврентий, живой! И прижал его к груди, по спине похлопал. Повторял, роняя на плечо слезы: – Живой, гни тебя в дугу. Растрогался и медведь Лаврентий, запершило и у него в горле: – И живой, и здоров. Внуков вот нянчу. Спиридоша, как же ты отчаялся с твоим здоровьем идти ко мне в такую даль? – Что ты, – сказал медведь Спиридон. – Разве дорога к другу может быть далекой? И опустился на стул, с трудом перевел дыхание. – Не ходок стал. Воздуху не хватает. Думал: и не дойду. Не те годы стали, чтобы по гостям ходить. Ты ведь моложе меня, вон в тебе еще сколько силы. Так меня сдавил, что даже кости хрустнули. – Как же ты отчаялся, Спиридоша? Ведь и в самом деле путь-то не близкий. – Что ты мне все о дороге твердишь? Проведать тебя хотел, вот и пришел. Думал, болеешь ты, а ты здоров, вон как сдавил меня. И вспомнил тут Лаврентий, что как ушел он из Гореловской рощи, как закрутился с сыном да с внуками, так и не сумел ни разу выбраться к медведю Спиридону, а вот передать с кем-нибудь, где живет, не догадался. Вспомнил и глаза опустил: – Я сам к тебе собирался, да времени все как-то не было. Ты не думай, Спиридон, меня ведь тоже не пугает дорога дальняя. – А я и не думаю вовсе, – вздохнул медведь Спиридон, – я же тебя повидал теперь. Вижу, не болеешь ты, зачем мне думать… А я тебе вот ягод из нашей рощи принес. Ивашка все помнит  Выбил дятел Ду-Дук на березе очередную сказку, сказал: – Все. На одну только сказку место на березе осталось. – Ну что ж, эту последнюю сказку мы запишем завтра, – сказала черепаха Кири-Бум. – Вы отдохнете за ночь, да и я подумаю, о ком рассказать. И сдвинулась с пенечка. Тут к ней и подошел Ивашка: – Сегодня годовщина со дня смерти моей мамы. Пойдем, Кири-Бум, побудь у меня до завтра. О маме моей поговорим. Черепаха любила медведицу Авдотью, пошла с Ивашкой. Весь вечер говорили о ней. – Помаялась она с тобой, – говорила черепаха и пила из блюдца чай с малиновым вареньем. – Озорник ты был, Ивашка. Забыл, наверное, как больным притворялся и ничего делать по дому не хотел? – Как можно забыть это? – говорил Ивашка и подливал черепахе чай из чайничка. Правду говорил. Этот случай он хорошо помнил. Попросила его как-то вечером мать: – Сходи, сынок, налови в речке раков, поужинаем. Поужинать Ивашка был не прочь, а вот в речку за раками лезть, мокнуть в студеной воде на ночь глядя не хотелось. Но ведь так прямо не скажешь матери – не пойду. Она ведь может и за вихры оттаскать. Да и поругивала уже не раз мать Ивашку: – Что же это ты ничего делать не хочешь. Ведь кормильцем ты моим должен быть, а ты все еще на моей шее сидишь. Нет, так просто отказаться нельзя было, мать ругаться бы стала. И потому сказал Ивашка матери: – Я бы, мама, с радостью сходил, да нога у меня что-то побаливает. Застужу в воде, хромота нападет, куда я тогда калека? А так бы я с радостью. – Что ж, – сказала медведица Авдотья, – раз болеешь ты, посиди тогда в берлоге, я сама схожу. Сходила, принесла целое лукошко раков. Дрожью изошла вся, пока наловила их, стара уж стала в речке-то купаться. Кормила Ивашку, приговаривала: – А ты побольше ешь, сынок. Пища крепость придает, а крепких хворь стороной обегает. А когда укладывала Ивашку спать, сказала: – Раз нельзя тебе пока, сынок, в речку лезть, не надо. На деревню сходи завтра, барашка добудь. Неможется мне что-то. Пожую баранинки, полегче, может, станет. Да и ты мясца отведаешь. Отведать баранинки Ивашка всегда готов, а вот идти за ней ему не хотелось. Но ведь так просто не скажешь матери – не пойду. Начнет браниться мать, услышат медведь Спиридон с медведем Лаврентием, придут и расчешут вихры. Они уж расчесывали ему. Подумать надо, как быть. А медведица Авдотья увидела – ушел ее сынок в мысли, обрадовалась. Ясно, о чем сейчас думает Ивашка: как незаметно к барану подобраться, как без лишнего шума подмять его под себя и унести, чтобы собаки его не заметили. Всю ночь лежала медведица в постели, смотрела на светлый квадратик окошка и улыбалась нежно: выправляться, значит, Ивашка начал – задумывается. А утром Ивашка сказал ей: – Я бы, мама, с радостью пошел на деревню, да что-то у меня сегодня голова не в порядке: кружение в ней какое-то. Как бы не свалиться в дороге, беды бы не на жить. А так я бы с радостью. – Ну коли болеешь ты, сынок, в берлоге посиди, в шашки поиграй. Я сама схожу как-нибудь, – сказала медведица Авдотья и пошла на деревню барашка добыть да сына мясцом попотчевать. С этого дня частенько начал прихварывать Ивашка. Так обычно носится по роще, а чуть станет посылать куда мать по делу, тут же за сердце хватается. Глаза под лоб закатывает, охает: – Ох, я бы с радостью, мама, да недуги меня разные замучили. Не успею от одной боли оправиться, другая прилипает. Вчера животом маялся, сегодня сердце что-то пошаливает. А так я бы с радостью. И плетется, бывало, медведица Авдотья сама, куда Ивашка в минуту слетать мог бы, если бы захотел. Но медведица не знала этого и говорила всем в роще: – Выправляется мой Ивашка. Бывало, никак не хотел помогать мне. – А сейчас, – спрашивали у нее, – помогает? – Нет пока, но и не отказывается. Готов помочь, да болеет. Но ведь заболеть каждый может. Я вон тоже себя плохо чувствую, чуть хожу. Но хоть и плохо себя чувствовала Авдотья, кормила Ивашку сытно. Чего, бывало, ни пожелает он, того и добудет. – Балуешь ты его, Авдотья, – говорила ей медведица Матрена. – Покрепче приглядывай за ним. Не стойкий он у тебя, свихнется ненароком. А она отвечала: – Больной он у меня, а больного что ж не побаловать. И пришли тогда однажды к ней в берлогу медведь Спиридон с медведем Лаврентием и сказали: – А ну показывай, где больной твой, мы ему лечебный массаж сделаем. Как услышал Ивашка про массаж, так и выскочил сейчас же в окошко и кинулся бежать. – Я здоров, – кричит, – я уже вылечился, ничем не болею. Вот об этом и напомнила теперь черепаха Кири-Бум, а Ивашка сказал: – Такое не забывается. – А ведь это я тогда подговорила медведей помассажировать тебя. Сходите, говорю, помогите Авдотье вылечить Ивашку… А помнишь, какую я об этом сказку тогда сочинила? Ивашке ли забыть это! Да над ним тогда недели две медвежата потешались да и от взрослых прохода не было. Кто ни встретит, сейчас же спросит: – Не приходили еще раз медведь Спиридон с медведем Лаврентием уши тебе драть? Ивашка даже помнит, как рассказывала Кири-Бум эту сказку у сосны с кривым сучком. Ночь была лунная, хорошо ее было видно. Сидела она на пеньке, глазки щурила, говорила: «Совсем обленился у медведицы Авдотьи медвежонок Ивашка. Чего бы и когда ни попросила мать сделать у него уж и ответ готов: – Сама разве не можешь? Стыдила его медведица: – Неслух ты. Бока уж, поди, пролежал. Ничего не помогает. И тогда решила медведица: – А прикинусь-ка я глухой. Кликнула Ивашку. Сидел он у берлоги и сам с собой в шашки играл. – Сходи, сынок, принеси мне поесть чего-нибудь. – Сама разве не можешь? – ответил, как всегда, Ивашка, а медведица приложила к уху ладонь и говорит: – Ты вроде что-то сказал, сынок? Не расслышала я. Повтори. Это Ивашке не тяжело, повторил он: – Сама разве не можешь поесть себе принести чего-нибудь? И опять медведица ладонь к уху приставила: – Ах, батюшки, вот вижу: шевелятся у тебя губы, говоришь ты мне что-то, а что – понять не могу. Совсем туга на ухо стала, глухота меня одолела. Ты мне погромче кричи, сынок. Не слышу я. И заорал Ивашка изо всей мочи: – Сама разве не можешь на ужин себе принести чего-нибудь? И покатилось по роще эхо, от дерева к дереву, от полянки к полянке: «Сама разве не можешь…» И сказала медведица Авдотья: – Вот теперь хорошо. Теперь не только я, все услышали, что ты меня, старую, кормить не хочешь. Придут сейчас медведь Спиридон с медведем Лаврентием и поговорят с тобой. А Ивашка знает, как медведи разговаривают: по-медвежьи, один возьмет за одно ухо, другой – за другое. И кто кого перетянет. Вскочил он и побежал в чащу. Немного погодя улей принес. Поела медведица меду, попить ей захотелось. Кликнула она Ивашку: – Сходи, сынок, к речке, принеси мне воды. А у Ивашки, как всегда, ответ готов: – Сама разве не можешь? Приставила медведица ладонь к уху: – Ты вроде что-то сказал, сынок? Повтори, не разобрала я. – Сама, говорю, разве не можешь за водой сходить? – Ну что ты будешь делать, – сокрушалась медве дица, – вот вижу: говоришь ты мне что-то, шевелятся у тебя губы, а что – никак понять не могу. Темно в голове, ну ничего не слышу. Ты мне погромче крикни, сынок. И заорал Ивашка изо всей мочи: – Сама разве не можешь за водой сходить! И покатилось по роще эхо, от дерева к дереву, от полянки к полянке: «Сама разве не можешь…» И сказала медведица Авдотья: – Вот теперь хорошо. Теперь не только я, все слышат, что ты мне, старой, воды ленишься принести. И вот сейчас придут медведь Спиридон с медведем Лаврентием и поговорят с тобой. Вскочил он поскорее, за ведро и – к речке. Так и пошло с той поры: станет медведица посылать куда Ивашку, начнет он отказываться, она сейчас же ладонь к уху: – Глухота меня, сынок, одолела. Ты мне погромче кричи, чтобы не только я и другие слышали, как ты мать свою старую слушаешься. Придут тогда медведь Спиридон с медведем Лаврентием и поговорят с тобой. Скажет она так, и бежит Ивашка, куда мать посылает, потому что он знает, как медведи разговаривают. Поговорили они один раз с ним, а он потом с неделю к ушам притронуться не мог». Вот какую сказку рассказала тогда черепаха Кири-Бум у сосны с кривым сучком. О ней она и напомнила ему теперь. – Да, – говорил Ивашка и подкладывал черепахе малиновое варенье на блюдечко, – нелегко было матери со мной, я теперь понимаю это. И кто знает, сумела бы она со мной справиться, если бы вы все не помогли ей: медведи – силой, ты – сказками. Ох, ты и пробирала меня ими, вспомнить страшно. Заячий плетень 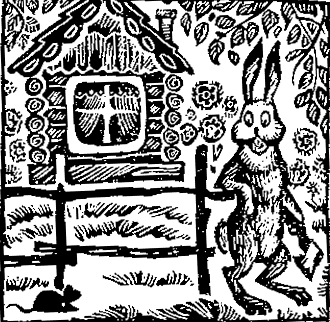 Ивашка с черепахой уже ложились спать, когда в окошко постучали. – Кто там? – спросил Ивашка. Из-за окошка отозвались: – Пусть Кири-Бум выйдет. Вышла черепаха. – Кто это тут спрашивает меня? – Я, – вышел из темноты заяц. – Слышал я, завтра ты будешь рассказывать у березы последнюю сказку. Расскажи обо мне ее. – Я уже рассказывала о зайцах. – Ты вообще о зайцах рассказывала, а я не такой, как все. – Чем же ты отличаешься? – Я особенный: усы у меня рыжие. И сказка обо мне особая должна быть. Но почему бы, например, вот такую сказку не рассказать про меня? Заяц подкрутил рыжие усы, подбоченился и начал бодрым голосом: «Встретил медведь Зайца на полянке и говорит: – Ты, оказывается, – вор. Жаловался мне Енот, что ты у него репку поворовываешь. Сложил Заяц лапки на груди, попросил: – Прости, Михайло Иваныч. Поглядел на него медведь строго и говорит: – Но ты, оказывается, не только вор, но и обидчик. Жаловалась мне Лиса: умывалась она у речки, а ты подкрался сзади и толкнул ее в воду. И опять Заяц лапки на груди сложил: – Прости, Михайло Иваныч. И тогда загремел медведь на всю рощу могучим голосищем: – Но ты, оказывается, не только вор, обидчик, но и грабитель. Жаловался мне волк: нес он барана по просеке, а ты остановил его с дубиной и отнял. И пролепетал Заяц чуть слышно: – Прости, Михайло Иваныч. И не сдержался тут медведь, говорит: – Эх, ты! Ну за что ты у меня прощение просишь? Я же тебя черню, поклеп возвожу на тебя, а ты мне «прости» говоришь. И заиграли у Зайца озорные огоньки в глазах. – А я и сейчас говорю: прости, Михайло Иваныч, что я не такой большой, как ты. Был бы я сильным, ахнул бы тебе по горбу, чтобы не шутил так зло над зайцами. Сказал, прыгнул за куст и был таков». Кончил заяц рассказывать сказку, подбоченился еще круче и спрашивает у черепахи: – И ты думаешь, кто этот заяц был? Я! – А откуда это видно? – А тут не глядеть, соображать надо. Кто еще из зайцев, кроме меня, может сказать такое медведю? Никто. И черепаха с ним согласилась: – Верно, никто. Даже – ты… Нет, эту сказку я рассказывать не буду: не моя она. Я лучше расскажу свою. Хочешь послушать? – Еще бы! Кому же это о себе сказку не хочется по слушать. Черепаха присела на порог Ивашкиной берлоги и, пряча в глазах лукавую улыбку, повела рассказ свой: «Построил себе Заяц дом и решил огородить плетнем его, да повыше решил плетень поставить, чтобы никто не видел, что у него во дворе делается. И представилось Зайцу: выплел он плетень высокий, высокий. Идет вдоль него Медведь, шею вытягивает, на цыпочки привстает, хочется ему поглядеть, что там у Зайца во дворе делается, да не по росту заячий плетень ему, высок слишком. Остановился Медведь и говорит: – Отгораживаешься? От меня отгораживаешься? Представил это Заяц, и рыжие усы его опустились книзу, и он сразу же решил: – Нет, выплету я плетень вокруг своего дома чуть пониже, чтобы Медведь видел, что у меня во дворе делается, а Волк и остальные – нет. И представилось Зайцу: выплел он плетень чуть пониже. Идет вдоль него Медведь и все видит, что у Зайца во дворе делается, а Волк тянет шею, хочется и ему посмотреть, да не может – слишком высок плетень для него. Остановился тогда Волк и говорит: – Медведю, значит, можно во двор к тебе глядеть, а мне нельзя? Ох, как представил это Заяц, так и опустились его рыжие усы книзу, и он тут же сразу и решил: – Нет, выплету я свой плетень еще чуть ниже, что-бы Медведь с Волком видели, что у меня во дворе делается, а Лиса и остальные все – никто. И представилось Зайцу: выплел он себе плетень еще чуть ниже. Идут вдоль него Медведь с Волком и все видят, что у Зайца во дворе делается, а Лиса силится посмотреть, да не может – слишком высок плетень для нее. Остановилась Лиса и говорит: – Медведю с Волком, значит, можно глядеть во двор к тебе, а мне нельзя? Ох, как представил это Заяц, так и опустились его рыжие усы книзу, и он тут же сразу и решил: – Нет, выплету я свой плетень еще ниже, чтобы Медведь, Волк и Лиса видели, что у меня во дворе делается, а остальные все – никто. И представилось Зайцу: выплел он себе плетень еще ниже. Идут вдоль него Медведь, Волк и Лиса и всё видят, что у Зайца во дворе делается, а Мышка бежит вдоль плетня, подпрыгивает. Хочется и ей поглядеть, что же там у Зайца во дворе делается, да не может – слишком высок заячий плетень для нее. Присела тогда Мышка у плетня и говорит: – А, если я маленькая, слабенькая, то от меня отгораживается даже Заяц. Представил себе это Заяц, и стыдно ему стало перед Мышкой, вроде только от нее одной и отгородился он. Махнул лапой: – Не буду я никакого плетня ставить. Пусть все видят, что у меня во дворе делается, я бессекретный, мне себя за высокий забор хоронить нечего. Так он сделал: никакого плетня не поставил. Но кольев вокруг дома все-таки набил, чтобы все видели что здесь у него, у Зайца, должен быть плетень». – Ну, – спросила черепаха, – нравится тебе моя сказка? – Ничего, – сказал заяц, – только она не про меня. – Почему же? У тебя усы рыжие и в сказке про рыжеусого зайца говорится. Все сходится. – Сходится, да не все. По одним усам нельзя судить. Мало ли зайцев с рыжими усами по земле бегает. Но только я точно знаю, эта сказка не обо мне: мои усы никогда не опускаются книзу. Погляди: они у меня кверху загнуты. Показал заяц черепахе свои усы и попросил: – Ты уж, пожалуйста, не рассказывай завтра эту сказку, а то будут меня с тем зайцем путать. Плетень не выплел он, а смеяться надо мной станут. А колья я сейчас вокруг дома повыдергаю. Долго разве это? И скрылся в темноте. Последняя сказка  Допоздна засиделись в эту ночь черепаха с Ивашкой. Уснули уже перед утром. И спали до тех пор, пока не забарабанила в окошко Машута и не разбудила их: – Спите? А у березы все давно собрались, ждут вас. – А батюшки, – замахала Кири-Бум кулачками. – Берите меня, несите скорее. Нес ее всю дорогу один Ивашка. Протянула, было, лапы Машута, да Ивашка отстранил ее: – Кири-Бум моя гостья, мне и нести ее. Ждали черепаху с нетерпением, и каждый думал при этом о своем. Медведь Михайло горбился на поваленной липе, хмуро глядел прямо перед собой и хмуро думал: «Неужели она в последней сказке обо мне расскажет? Да я тогда и березу разнесу в щепки». А у бобра Яшки совсем иная в голове мысль была: «Вот бы рассказала Кири-Бум обо мне еще одну сказку, да я бы тогда с ней до конца моей жизни по два раза на день здоровался». Были в голове думы и у Потапыча. Каждое утро, приходя к березе, Потапыч усаживался на своем пне и весь день сидел на нем, прямой и суровый. Смеялся редко. Сдвинет брови к переносице и сидит, думает: «Глядите на меня, запоминайте, чтобы передавать потом из уст в уста, от поколения к поколению, как сидел я у березы, когда записывал на ней сказки черепахи Кири-Бум дятел Ду-Дук». Все время только и думал о том, как бы ему сесть повиднее. А чем больше рассказывала черепаха и чем меньше места оставалось на березе, тем все чаще иные мысли у него в голове появляться начали: что неплохо бы и о нем, о Потапыче, сказку на березе выбить, еще хорошей сказкой его прославить. Но неудобно было сказать: – Расскажи обо мне, Кири-Бум. Томился, ждал: может, сама догадается. Значительно в кулак покашливал. Кхыкал. И все напрасно: о других рассказывала Кири-Бум свои сказки. И когда объявила она вчера: «Завтра запишем мою самую любимую сказку», – дрогнуло у Потапыча сердце: уж эта сказка наверняка о нем будет. Был уверен он, что любимая сказка у черепахи только о нем, о Потапыче, может быть. Все-таки он, как никак – хозяин рощи, его любить надо. Глядел Потапыч на черепаху нежно, благодарен был ей в душе, что сказку о нем она к концу приберегла. Сколько о нем теперь разговору в роще будет. А черепаха уселась поудобнее, обвела всех маленькими глазками, сказала: – Пиши, Ду-Дук: «И МЕДВЕДЬ СПИРИДОН УЧИЛСЯ». «Не обо мне?!» – удивился Потапыч, но тут же успокоился: он, Потапыч, и без сказки знаменит. Он – хозяин рощи, его имени все равно в веках греметь. Пусть увековечат Спиридона. Потапыч принял важный вид: надо же, чтобы все запомнили, как сидел он у березы, когда выбивал на ней дятел последнюю сказку, приготовился слушать. Зато медведь Сидор поднял лапу. Все эти дни он ждал, не вспомнит ли черепаха еще что сказочного из его жизни. Потому и поднял лапу, вдруг да в последнюю минуту вспомнит и вместо Спиридона его сказкой порадует: – Зачем же о Спиридоне? Его с нами нет. Говори о тех, кто есть. – Тебя тоже не было с нами, да я рассказывала о тебе, – сказала Кири-Бум. И медведь Сидор качнул головой: верно, без него записали сказку о нем. И опустил лапу: – Ладно, давай о Спиридоне. И черепаха начала рассказывать. Ду-Дук едва успевал записывать за ней. На землю сыпалась пахучая березовая стружка. Рассказывала черепаха: «Жили по соседству два медведя – медведь Спиридон и медведь Лаврентий. У медведя Спиридона всегда для всех двери открыты. Всех он привечает, всех угощает: – У меня, – говорит, – есть, значит, у всех есть. Последнее отдам. А если у меня нет, то уж не судите: и рад бы последнее отдать, да отдавать нечего – у самого нет. Как говорил, так и делал. Добудет что, половину сам съест, а половину знакомым раздаст. На следующий день опять добывать идет. Смеется, бывало, над ним медведь Лаврентий. – Неэкономный ты какой, Спиридон. Не роздал бы вчера своего барана, он бы тебе сегодня как пригодился: не надо было бы никуда ходить. Лежал бы себе в берлоге, как я вон. Да, медведь Лаврентий, тот совсем иначе жил. Никогда никого не привечал, никогда ничем не делился. Скуповат был. – Все, что есть у меня, – говорил он, – это мое. – Сегодня мне не надо, а завтра пригодится. Не одним днем живем. Смекать надо. И в другом рознились медведи. Медведь Спиридон тот ух какой уважительный был. Позовет его кто помочь, никогда не откажет. И работает всегда на совесть А медведь Лаврентий, тот нет, тот зря силу свою не расходовал. – Я лучше, – говорит, – в берлоге полежу или в речке покупаюсь. Моя сила мне самому сгодится. Надо прямо сказать: легко жил медведь Лаврентий, ничем не отягощал себя. Медведь Спиридон даже позавидовал ему однажды. Пришел и попросил: – Научи меня жить по-твоему. Я сметливый, быстро все схватываю. Устал я, знаешь, немного от доброты своей. Похлопал его медведь Лаврентий по плечу. – То-то, говорил я тебе: не солнце, всех добротой своей не обогреешь. Да оно и солнце-то не для всех одинаково: под ним сидишь – тепло тебе, в тень зашел – холодно. Одумался, значит? Ну идем. Поживешь со мной, научишься. Сходили они на деревню, принесли по барану. Одного съели, а одного на завтрашний день оставили. – Завтра уж не ходить, понял? – сказал медведь Лаврентий, ложась в траву. – С запасцем, брат, жить надо. – Неопытный я был, – прилег возле него медведь Спиридон, – не понимал. Теперь вижу: лучше так, как ты живешь. Точно, приберегать надо. Той порой по тропинке волк Рыжий Загривок шел, печальный-припечальный. Окликнул его медведь Спиридон: – Ты что идешь не идешь – голову повесил? – На деревню ходил, не добыл ничего. Чем детей сейчас кормить буду, ума не приложу. А у меня ведь их пятеро. Посочувствовал ему медведь Лаврентий: – Да, плохо это, когда есть нечего. – Чего уж хуже, – сказал волк и тоненько повыл: – У-у-у! Жалко медведю Спиридону стало его. Никогда он не видел, как волки плачут. Расчувствовался, говорит: – Давай, Лаврентий, выручим его. Он, волк-то, в нужде, ему помочь надо. У нас есть, у него нет, давай поделимся. Покряхтел медведь Лаврентий. Не хотелось ему припрятанного барана отдавать волку, но ведь не скажешь теперь, что у тебя нет его, когда сосед выдал. Вынес из берлоги барана, кинул волку. – Бери, корми ребят своих. И загорелись у волка глаза радостью. Приободрился он, завыл дрожащим голосом. – Вот спасибо, выручили. Дети, пятеро ведь их у меня. Весь день ходил потом медведь Лаврентий по берлоге и все говорил: – Ты помнишь, Спиридон, какие глаза у него были. Никогда я таких счастливых глаз не видел. И ночью все поталкивал его в бок, будил. – Спишь, Спиридон? А я никак уснуть не могу. Все о волке думаю. Какие глаза у него были! Вот так и стоят они передо мной со слезами. – Спи ты, – отмахивался медведь Спиридон, – завтра на деревню чуть свет идти, отдохнуть надо. Затихал медведь Лаврентий, а немного погодя опять начинал возиться и толкать медведя Спиридона под бок: – Вот обрадовался серый, а! Не думал, что мы поможем ему. Утром сходили они на охоту, добыли кое-что, позавтракали. – А теперь ложись и отдыхай, – сказал медведь Лаврентий медведю Слиридону. – Я всегда так делаю после завтрака, чтобы жир завязался. Когда есть жир в тебе, не такой долгой тебе зима кажется, и никакие холода тебе не страшны. Прилег медведь Спиридон с ним рядом. Лежит, былку покусывает. Смотрит: барсук Филька из домика своего показался. Худой, облезлый. Еле идет. Сделает шаг, постоит, отдышится и еще шаг делает. – Куда это ты, Филька, собрался, – окликнул его медведь Спиридон. – К речке схожу, – отвечает барсук, – может, хоть лягушку поймаю. Болею вот, совсем ослаб. – Куда же ты пойдешь такой? Еще утонешь. – А что же мне делать? Есть ведь надо что-то. Я уж и так три дня не ел ничего. Нездоровится мне. И положил медведь Спиридон лапу на плечо медведю Лаврентию. – Давай, Лаврентий, поможем больному, из беды его вызволим. – Чем же мы поможем ему? У нас у самих ничего нет. – Добыть надо. Мы с тобой здоровые и лежим, а он больной и идет. А куда идти ему? Он стоит еле. Не хотелось медведю Лаврентию подниматься с лужайки, но и отказать стыдно было, поднялся. Спустились они с медведем Спиридоном к речке, наловили раков. Полдня по брюхо в воде лазали. Наловили все-таки. Принесли барсуку: – Ешь, Филька, да поправляйся. А тот и не верит даже. Думал – шутят медведи, когда сказали, что за раками ему пошли. А они и впрямь принесли целое лукошко. И постель ему перестелили, чтобы лежалось Фильке удобнее. Заплакал Филька. – Эх, – говорит, ведь я сегодня погибать шел. Спасли вы меня, спасибо. И в эту ночь опять долго не мог уснуть медведь Лаврентий, все ворочался, толкал медведя Спиридона под бок: – Ты помнишь, Спиридон, как плакал Филька? Помнишь, какие у него по щекам слезы текли? Круглые, с горошину. Я таких слез и не видел никогда. – Спи ты, – отмахивался от него медведь Спиридон и прикрывался подушкой. Так и повелось у них: сперва медведь Спиридон уговаривал медведя Лаврентия поделиться едой с кем-нибудь, а уж потом и сам медведь Лаврентий чуть что и предлагает бывало: – Поделимся, Спиридон? Мы с тобой еще добудем. И помогать приохотился. Совсем мало лежать стал. Поговаривал: – Хоть я и не солнышко, хоть и не согрею всех добротой своей, но кое-кого согреть все-таки могу. И однажды сказал медведю Спиридону: – Иди, Спиридон, домой. Пока я собирался учить тебя своей жизни, твоей выучился. И иной мне теперь не надо». Обида медведя Михайлы  Выбил дятел последнюю сказку, смотрит – осталось еще немного места. Подумал и сделал приписку «Все эти сказки записаны со слов черепахи Кири-Бум. И поэтому все здесь верно от слова до слова». И расписался в самом низу – Ду-Дук. И оглядел еще раз березу. По самому верху ее было красиво выбито: «СКАЗКИ ЧЕРЕПАХИ КИРИ-БУМ». И вниз по стволу шли сказки до подписи. Оглядел, остался доволен. Поддернул красные шаровары, сказал: – Хороша береза, велик труд. И поднялся тут с поваленной липы медведь Михайло. Обида его зацепила. Это что ж, выходит, зря он эти дни дрожал у березы? О нем и рассказывать не собирались? Что он, хуже всех? – Это что ж, один я остался без сказки? Во всей роще одного меня обошли? О барсуке и то рассказали. – О нем есть что говорить. – А обо мне нечего? Жизнь целую прожил и нечего рассказать обо мне? – Слон тоже целую жизнь прожил, – сказала черепаха, – а умирать стал, оглянулся и увидел – прожитого-то нет. – Какой слон? – Африканский. Птицы наши зимовали в Африке, рассказывали мне о нем. Разве я вам не говорила? Тогда послушайте: «Почувствовал Слон, что пришла пора умереть ему и оглянулся на прожитое. Перебрал в памяти долгую жизнь свою и увидел: никому он за время, пока ходил по земле, зла не сделал, никого не обидел ни разу. И похвалил Слон самого себя: – Со спокойной совестью могу умереть я, потому что честно жизнь прожил – никого не обидел. А ведь я большой, силы во мне много, сколько зла я мог причинить всем, а вот не причинил, чиста моя совесть перед Африкой. И тут стал вспоминать Слон: а чего доброго сделал он родной Африке за долгую жизнь. Все перебрал в памяти, что было. Вздохнул: да, немало он за свою жизнь плохого видел. Один раз идет он, смотрит: обезьяна плачет. Можно было остановиться, успокоить, а он прошел мимо, хоботом помахивая. Так рассудил Слон: – Кто обезьяну обидел, тот пусть и слезы вытирает ей. Зачем мне еще в это дело вмешиваться. А то еще случай был: стоял он в тени под пальмой, от жары прятался. Смотрит: крадется лев к антилопе. Мог бы крикнуть ему Слон: – Оставь ее, у нее же детеныш. И лев бы его послушался. Но Слон промолчал. Так рассудил он: – Зачем мне вмешиваться? Я никого не обижаю, честно живу. Пусть и лев о своей чести сам думает. А лев задрал антилопу, и остался ее детеныш сиротой. А то еще случай был… Да мало ли их было за долгую африканскую жизнь? – Эх, – вздохнул еще раз Слон. – Сколько силы я носил в себе и сколько мог добра сделать. Я ведь от природы добрый. Добрым я родился, да только доброта моя неявленной осталась. И сомнение тут взяло слона: все-таки честно или не честно прожил он жизнь свою? Так и умер в сомнении». – Вот так со Слоном-то было, – сказала Кири-Бум и сдвинулась с пенька. Но медведь Михайло и теперь не успокоился: – При чем здесь Слон? Он жил в Африке где-то, а я здесь среди вас живу. Обо мне речь вести надо. – А я о тебе и вела речь, Михайло. Злого ты никому ничего не сделал, но и доброго от тебя никто ничего не видел. Какую о твоей жизни сказку можно рассказать, как не ту, что рассказала я. – Это что же, я, по-твоему, – африканский Слон? – А с кем еще тебя можно сравнить? Так сказала черепаха Кири-Бум, а медведь Михайло обиделся и пошел прочь с поляны. Но чем дальше уходил он, тем тревожнее становилось на сердце у него. Это верно, что он зла никому не сделал, но верно и то, что добра от него никто не видел. Сколько раз Заяц за помощью прибегал к нему: – Помоги, Михайло Иваныч, совсем волк одолел, проходу от него не стало. Но Михайло к медведю Спиридону отсылал его: ссориться с волком не хотелось. Просили его сколько раз постращать медведя Тяжелая Лапа: – Обижает всех, обнаглел совсем. Ты сильнее его, припугни. Но и тут Михайла не изменил себе – ни слова не сказал медведю Тяжелая Лапа. «Он меня не трогает, зачем же я буду отношения с ним портить». Перевеял в памяти медведь Михайло жизнь свою и увидел – и верно, ничем не отличается он от африканского Слона. Сказал: – Смотри ты, живем в разных концах земли, а как похожи друг на друга. И тут же добавил: – Хорошо хоть на березе места не оказалось больше, а то бы записали такую позорную сказку обо мне. А не записанную ее ведь скоро забудут. Но зря радовался медведь Михайло, Не суждено было сказке о нем забыться. Правда, места ей на березе не оказалось, о чем дятел Ду-Дук искренне сожалел и, поддергивая красные шаровары, все повторял: – Эх, такая сказка и незаписанной осталась. И вдруг подпрыгнул и взмахнул крыльями: – А я ее на пне выбью. И тут же выбил ее на пне, с которого рассказывала Кири-Бум свои сказки. Оглядел написанное и говорит: – Чего-то тут не хватает. Сказка хорошая, но как узнают, что она про нашего Михайлу Ивановича сложена. Подумал и написал сверху: «Посвящается медведю Михайле». – Вот теперь все в порядке. Теперь можно и домашними делами заняться, – сказал дятел и полетел домой. Разошлись и остальные все. У березы осталась только черепаха Кири-Бум. Ей хотелось одной побыть у березы. Но одной ей побыть не пришлось: опираясь на посошок, подошел медведь Спиридон. – Ты? – удивилась черепаха. – Ты откуда идешь? – От Лаврентия. Проведать ходил его. – Ну и как он там? Не болеет? – Здоров. Внуков нянчит. – Что ж он сам не пришел-то? – Говорит, закружился, не смог. – Что ж, и такое бывает… А я тут о тебе сказку рассказывала сегодня, как ты учиться к медведю Лаврентию ходил, как жить легче, а вместо этого его своей жизни научил. – Что ж, сказка неплохая, но все-таки это – сказка. В жизни все иначе складывается. Вот ты говоришь, учил я Лаврентия, да, выходит, недоучил. Знать мало я успел в него добра влить, если он даже меня, друга своего, навестить не догадался. – И все-таки жизнь он свою рядом с тобой в доброте прожил. Не суди его. Закружился он с Афоней. Не повезло ему с сыном. Ну, прощай, пойду я. – А может, у меня заночуешь сегодня? – Нет, пойду, давно дома не была, – сказала Кири-Бум и пошла, приминая траву. У сосны оглянулась. Опираясь на посошок, медведь Спиридон, прищуриваясь, читал записанные на березе сказки. * * *
В прошлом году черепаха Кири-Бум умерла. А береза со сказками ее и сейчас стоит в Гореловской роще. К ней часто приходит медведь Михайло и сидит на пне, с которого рассказывала когда-то Кири-Бум свои сказки. Сидит он, горбясь, и, бережно поглаживая пень, думает: «И я не обойден. И обо мне записана сказка. Правда, не совсем приятная она, но уж, видно, каково жизнь прожил, такова о тебе и сказка. Другие свою жизнь проживут лучше, о них и лучше расскажут». Думает так медведь Михайло и качает тяжелой головой, совсем от седины белой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
|||||||