 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Лондон Джек :: Самохвалов Максим :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Толстой Лев Николаевич :: Коллектив Рубоард :: Нортон Андрэ :: де Камп Лайон Спрэг :: де Вилье Жерар Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Бурый волк :: The Boarding House :: Чернобыль, 26,4,86 - Вариант ситуации :: Собачки неба :: Червь времени (Подробности жизни Ярослава Клишторного) :: Аромат счастья :: Вторая книга Паралипоменон :: Что-то кончится, что-то начнется :: Омен. Армагеддон 2000 |
ИпатияModernLib.Net / Историческая проза / Кингсли Чарльз / Ипатия - Чтение (Ознакомительный отрывок) (Весь текст)
Чарльз Кингсли Ипатия ПРЕДИСЛОВИЕ 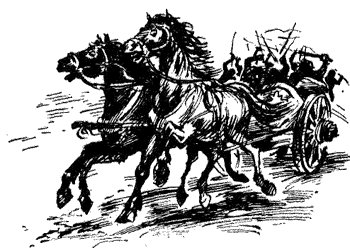 Когда ты предо мной, и слышу речь твою, Благоговейно взор в обитель чистых звезд Я возношу, – так все в тебе, Ипатия, Небесно – и дела, и красота речей, И чистый, как звезда, науки мудрой свет… Так Паллад, один из последних талантливых представителей «языческой» поэзии обращался к Ипатии, так же, как и он сам, одной из последних носителей умиравшего эллинства. Один из героев «Ипатии», епископ Синезий, сочетавший в себе философа-неоплатоника и христианского епископа, приветствовал ту же Ипатию в своих письмах гомеровской цитатой: …Не забуду его, не забуду, пока я Между живыми влачусь и стопами земли прикасаюсь! Если умершие смертные память теряют в Аиде, Буду я все-таки помнить и там благородного друга. Так перекликались между собой в оценке и женской красоты, и человеческой значимости герои романа Кингсли: последователь умиравшего «язычества» и приверженец уже победившего христианства. Тем более трагичной представляется судьба самой Ипатии. В марте 415 г. н. э., в великопостный день, толпа христианских фанатиков вытащила ее из экипажа, заволокла в церковь и там совершила своего рода жертвоприношение, содрав с прекрасной, но ненавистной представительницы проклятого язычества острыми устричными ракушками все мясо, до костей, и бросив жалкие останки в пламя. Именно эта жуткая трагедия в связи с обрывочностью всех сведений, иллюстрирующих жизнь и учение Ипатии, очень рано превратила ее жизнь почти что в легенду, в блестящий аргумент для борьбы с деспотизмом христианства. Светлый образ Ипатии и ее трагический конец давали прекрасный материал для достижения художественного контраста, а бедность исторических сведений о ней представляла широкий простор фантазии писателя и публициста. В самом деле, не совсем вразумительный и не вполне надежный рассказ историка церкви Сократа и отрывочные, хотя и любопытные Фрагменты Гезихия, и, в особенности, Дамаския[1], сохраненные византийским лексикографом Свидой, – вот и все, что известно о прекрасной дочери александрийского математика Теона, преподававшей философию Платона в ее позднем, неоплатоническом толковании, а также математику и астрономию. Любопытно, что сама христианская церковь чувствовала некоторую неловкость за кровавую расправу с Ипатией. Приходилось тщательно выгораживать Кирилла Александрийского, чтобы снять с этого признанного авторитета клеймо погромщика. Это было почти безнадежным делом. Недаром трезвый и саркастический историк поздней Римской империи, Эдуард Гиббон, замечает: «Убийство Ипатии наложило неизгладимое пятно на характер и религию Кирилла Александрийского». По странной иронии судьбы Кирилл, этот ревностный и неутомимый борец за достоинство христианской богоматери, как девы и матери не человека, а именно Бога, оказался идеологическим вдохновителем гнусного растерзания девушки, правда «языческой». Интересно, что растерзанная Ипатия доставила даже материал для христианской агиографии. Составленное около X века н. э. житие мифической Екатерины Александрийской почти точно повторяет житие Ипатии. Обе героини, «языческая» и христианская, занимаются философией, математикой, астрономией, блистают красотой, чистотой, красноречием, и обе погибают мучительной смертью в руках разъяренной толпы. Таким образом, жертва христианского фанатизма и изуверства превратилась в христианскую святую. Но если церковь использовала «страсти» Ипатии как материал для житий своих собственных мучеников, то это была лишь благочестивая, хотя с изрядной примесью цинизма, литературная контрабанда. Подлинной и настоящей темой образ Ипатии стал только в руках писателей-антицерковников и атеистов. Уже в 1720 году Джон Толанд[2] посвятил Ипатии один из очерков своего «Тетрадима», характеризуя свою героиню, как «… добродетельнейшую, ученейшую и достойнейшую даму, разорванную на куски александрийским духовенством, чтобы удовлетворить гордость, завистливость и жестокость своего архиепископа, обычно, но незаслуженно называемого святым Кириллом». Памфлет Толанда, превозносящий Ипатию в пику официальной церковности, очевидно, попал в цель, так как вызвал против себя злостное, но беззубое опровержение клерикала Льюсиса, трактовавшего Ипатию как «самого бесстыдного школьного преподавателя Александрии». Не забыл Ипатии в своей борьбе против католицизма и Вольтер. Чтобы яснее представить своему читателю облик Ипатии, он переносит александрийскую трагедию в современный ему Париж, где кармелитские монахи якобы растерзали некую парижскую красавицу за то, что она предпочитала Гомера поэме кармелита, посвященной Магдалине. Вольтер, которому свойственно иногда сочетание сарказма и цинизма, приписывает александрийским монахам даже мотивы низменного сладострастия, прибавляя к своей смелой модернизации следующую сентенцию: «прекрасных дам обнажают вовсе не для того, чтобы их убить». В самом конце XIX века образом Ипатии воспользовался известный автор «Истории атеизма» Фриц Маутнер, роман которого «Ипатия» имеет кое-что общее с романом Кингсли, с той, однако, существенной разницей, что маутнеровское произведение гораздо резче заострено против официальной церковности. Для Маутнера Ипатия – духовная дочь Юлиана Отступника, борющаяся с «галилейским» учением во имя реставрации эллинского мировоззрения. Конечно, приведенными выше характеристиками Ипатии далеко не исчерпывается трактовка образа Ипатии в мировой литературе – они указывают лишь общую направленность этой трактовки, ее, если не всегда атеистичность, то во всяком случае антирелигиозность. У французского писателя XIX века Леконта де Лиля Ипатия становится даже настоящим символом погибавшей эллинской культуры, последним воплощением «духа Платона и тела Афродиты», и этот план ее изображения дает возможность Леконту де Лилю выразить одну из основных мыслей своей поэзии – любовь к миру и культуре древнего эллинства. «Ипатия» Кингсли занимает несколько особое место в истории данной темы. Роман Кингсли, несомненно, самое популярное из всех произведений, посвященных трагической смерти этой незаурядной представительницы поздней эллинской философии и науки. Но уже и в самом выборе темы, и в ее трактовке сказывается автор, англиканский священник, поднявшийся до высокого поста духовника самой королевы Виктории. Находившийся в конце 40-х годов под впечатлением размаха чартистского рабочего движения Кингсли занимается пропагандой идей христианского социализма, куда входило и основание производственных товариществ, и просвещение рабочих, и разъяснение английским капиталистам их «социальных обязанностей». Однако это увлечение Кингсли рабочим движением оказалось очень, недолгим. Уже в начале 50-х годов под влиянием наступившей реакции во Франции, развала чартистского движения в Англии Кингсли значительно охладел ко всякого рода социальным проблемам. Позднее он сам рассказывал, что, еще будучи двенадцатилетним мальчиком, он наблюдал в Бристоле восстание рабочих и сделался на целых десять лет «аристократом до мозга костей, полным ненависти и презрения к этим опасным классам». Можно думать, что таким, несмотря на весь внешний покров христианского «добротолюбия», Кингсли остался на всю жизнь. Велико было влияние на взгляды Кингсли типичного английского богослова Мориса, книга которого «Царство Христа» сделалась чуть ли не настольной у автора английской «Ипатии». Морис пытался оживить засохшую официальность англиканизма довольно примитивной мистикой, учением о постоянном и непрерывном откровении божественного начала в жизни человечества. В одной из своих «Вестмистерских проповедей» он прямо заявил: «Мир должен быть сотворен именно таким образом, потому что он сотворен Иисусом Христом, нашим Господом, и законы мира – подобие его характера, они милосердны, так как он милосерден, и строги, так как он строг». Кингсли чересчур глубоко сидел в рамках официальной церковности. Именно Морису Кингсли во многом обязан в своей работе над «Ипатией». Прежде всего, общей установкой романа. Действие последнего происходит главным образом в области чистой идеологии. По совету Мориса Кингсли пользовался преимущественно неоплатонической литературой для воссоздания александрийской культуры начала V века н. э. Даже один из важнейших мотивов романа – обращение в христианство Рафаэля Эбен-Эзры после бесед с Августином, подсказан Кингсли Морисом. Последний факт весьма важен для объяснения отношений Кингсли к главнейшим персонажам своего романа и, в первую очередь, к самой Ипатии. Кингсли, хотя и церковник, не может отрицать огромного впечатления, производимого Ипатией на большинство ее культурных современников. Поэтому его Ипатия окружена учениками самых различных народностей и в его изображении является живым воплощением эллинизма на его закате. Но Кингсли нужно и другое: показать какую-то ее внутреннюю неполноценность, внутренний дефект, присущий ей уже потому, что она – явный враг христианства. Конечно, под христианством Кингсли разумеет не официальную организацию Александрийской церкви, руководимой Кириллом, а «вечные» христианские истины, которыми в романе обладают Августин, Синезий и даже Авфугий-Арсений. Отрицательное отношение Кингсли к Кириллу имело и свой социальный смысл. В своих позднейших произведениях Кингсли уверял, что духовенство, членом которого он является сам, все более сознает свои обязанности и выздоравливает от своей моральной спячки. Эта компромиссная позиция избавила Кингсли от чересчур резкого отношений к Кириллу, так как возможное для английских священников было тем более возможно для александрийского архиепископа, да еще сопричтенного к лику святых. К своему «разоблачению» Ипатии английский романист приступает очень осторожно. Самый скептический, самый искушенный в тонкостях философии и благах жизни, ее ученик Рафаэль, еврей, «профессиональный» враг христианства, становится христианином и упрекает Ипатию в том, что она не смогла понять внутренней сущности Божества – справедливости милосердия и любви. Бог, спекуляциями о природе которого Ипатия занималась всю жизнь, полностью не раскрылся для нее. Богословие Мориса вступило здесь в свои права. Ту же самую цель разоблачения Ипатии преследует Кингсли, сводя Ипатию с колдуньей Мириам. Гордая дочь Теона, отчаявшись в своих усилиях лицезреть божественные силы, прибегает к колдовским услугам Мириам и терпит при этом жалкое фиаско. Бесспорно, что последний период существования «языческой» философской мысли дает целый ряд примеров тесного слияния философской мысли, синкретической религиозности и грубого магического суеверия. Но как все это показано у Кингсли! До своего политического крушения Ипатия пребывает в сфере чистой александрийской науки, а затем происходит ее «падение» в бездну колдовства и магии. Кингсли уничтожает свою Ипатию внутренне перед тем, как предать ее в руки Кирилла и его приспешников. В ее последнем разговоре с Рафаэлем она уже в положении жалкой обороняющейся стороны, а не в виде едкого критика «галилейского» учения. По-своему она могла повторить легендарные слова Юлиана: «Ты победил, галилеянин». Так английский проповедник, несмотря на все свое внешнее почтение к блестящей представительнице умиравшего эллинизма, привел ее к внутреннему краху. Совершенно ясно, кто из героев «Ипатии» более всего по сердцу английскому романисту. Таким является смелый и веселый птолемаидский епископ Синезий. В его родной Кирене он считался ведущим свой род от самого Геракла через Эврисфена, первого дорийского царя Спарты. По остроумному замечанию Гиббона, «такая генеалогия… не имеет себе равной в истории человечества». Уже одно это могло импонировать такому респектабельному англичанину, как Кингсли. Столь же своеобразным был Синезий в качестве христианского епископа. Он еще кое-как расстался со своими собаками, но никак не согласился разойтись с женой, получил разрешение от предшественника и дяди Кирилла, Феофила Александрийского, заниматься в своих проповедях не «мифами», а «философствованием» и в качестве философа сомневался в христианских представлениях о конце мира и воскресении мертвых. Все это опять-таки было приемлемо для английского джентльмена, понимавшего толк в любви к собакам и в качестве просвещенного европейца XIX века писавшего Дарвину после выхода в свет «Происхождения видов»: «Дорогой и почтенный учитель! Если люди не соглашаются с вами – это потому, что они не знают фактов». Недаром Христиан Бунзен, ориенталист и знаток античности, в своем предисловии к немецкому переводу «Ипатии» писал, что сам Кингсли является прототипом «сквайра-епископа» Синезия. Да и сам моральный победитель Ипатии, Рафаэль, говорит про Синезия, что это единственный христианин, который умеет искренне смеяться. С мнением Бунзена можно во многом согласиться, так как этот прусский дипломат не только хорошо знал древность, но во время своего пребывания на посту посла в Лондоне мог неплохо ознакомиться и с английскими «сквайрами-епископами». Для Кингсли Синезий одновременно и античный аристократ, умело сочетавший в себе все, что было здорового в эллинской культуре, со столь дорогими для английского священника истинами христианства и борющийся за благополучие своей епархии духовный пастырь, чего как раз не хватало, по мнению проповедника-романиста, английскому духовенству. Христианская установка «Ипатии» еще более рельефно выступает при литературном анализе двух других персонажей романа, созданных Кингсли так же свободно, как Рафаэль. Разлученные брат и сестра – Филимон и Пелагия также живые показатели морального торжества христианства. Филимон из молодого анахорета делается сподвижником Ипатии только для того, чтобы, впитав в себя частичку эллинской мудрости, обнаружить тлен и безумие без христианской веры. Замкнутый аристократизм Ипатии, когда она говорит об его падшей сестре, и участь самой Ипатии гонят его обратно в пустыню. Здесь Кингсли снова наносит удар своей главной героине. Иначе он относится к Пелагии. Пелагия, эта антитеза Ипатии, это настоящая служительница Афродиты «народной», если придерживаться платоновской терминологии, не найдя своего спасения у почитательницы Афродиты «небесной», при помощи не вполне раскрытой читателю благодати находит свое блаженство в той же пустыне, где и брат. Грильпарцер[3] в одном разговоре с Бетховеном говорит, что женщина – либо «дух без тела», либо «тело без духа». Кингсли создал с известными оговорками своих двух героинь по этому рецепту. И что удивительно, – никто из литературных критиков не заметил того, что «тело без духа» победило «дух без тела». В романе Кингсли беспутная Пелагия такая же победительница мудрой Ипатии, как и Рафаэль, – это воспроизведение мудрости Екклезиаста в сочетании с философией упадочного эллинизма. «Галилеянин победил» и распутство плоти и распутство духа. В этом внутренний смысл романа Кингсли и торжество благовоспитанного и благонамеренного английского епископа. Идеалистическое построение романа Кингсли совершенно не дает ответа на самый существенный вопрос романа – почему же, в конце концов, христианство в лице самых различных своих представителей, от антипатичного автору Кирилла до любимого им Синезия, оказывается победителем в борьбе с гибнущей греко-римской культурой? Если отказаться от теории божественного происхождения христианской религии, то само христианство окажется составной частью той же греко-римской культуры. Поэтому победа христианства была обусловлена не тем, что в некоторых конкретных своих проявлениях и в своем основном учении оно содержало в себе истину, как уже по своему званию предполагал священник Кингсли, а его большей приспособленностью к социальным условиям того времени. Антагонизмы эпохи разложения Римской империи имели такой характер, что греко-римские и восточные культы неминуемо должны были уступить место победоносной христианской церкви. Полное небрежение к социальному фактору составляет основной порок «Ипатии». Рабы, мелкие производители города и деревни подвергались жесточайшей эксплуатации со стороны римских рабовладельцев и ростовщиков. Тогда явилось христианство, серьезно отнеслось к наказаниям и награде на том свете, создав небо и ад, и таким образом найден был выход. Естественно может появиться вопрос, почему же именно христианство оказалось этим «выходом», а не какая-либо другая синкретическая религия поздней античности, как, например, столь популярный культ Изиды[4] или бывшей во второй половине III века н. э. серьезным соперником христианства иранский культ Непобедимого Солнца, Митры? Любая религия древности, несмотря на всю свою «интернационализацию» в эпоху эллинизма и Римской империи, не могла окончательно перерезать пуповину, связывавшую ее с определенной народностью. Даже процесс слияния различных религиозных форм, известный под именем синкретизма, не мог вытравить из религий поздней античности их специфических национальных черт. Только христианство, возникшее в эпоху всеобщего имперского смешения и уравнения всех во всеобщем бесправии, могло с полным правом претендовать на подлинную универсальность. Существование Римской империи, по крайней мере ее западной части, подходило к своему концу. Приближался час ликвидации рабовладельческого общества. Революция рабов, колонов и варваров была в полном разгаре. Уже смута III века н. э., эта эпоха «тридцати тиранов», подорвала жизнь городов, этого основного связующего элемента Римской империи. Окончательное установление доминанта[5] при императорах Диоклетиане и Константине повело к своеобразному закрепощению огромного большинства всего имперского населения. Крестьянин-колон оказался прикреплен к земле, многочисленные категории городских производителей были прикреплены к своим профессиям, включая даже членов городских курий, звание которых из знака почета стало знаком отдачи чуть ли не в каторжную работу по выполнению фискальных повинностей, взимавшихся в пользу непомерно разросшегося государственного аппарата с худосочного, неплатежеспособного населения. Современник и отчасти апологет императора Юлиана, последний крупный латинский историк Аммиан Марцеллин, описывая бунт готов, которые введены Кингсли в его роман «Ипатия», говорит: «Большим подспорьем для них явилось то, что со дня на день присоединялось к ним множество земляков из тех, кого продали в рабство купцы, или тех, кто в первые дни перехода на римскую землю, мучимые голодом, продавали себя за глоток скверного вина или за жалкий кусок хлеба. К ним присоединилось много рабов с золотых рудников, изнемогавших от тяжести поборов». Таково свидетельство «языческого» писателя, приближенного того императора, делу которого в борьбе с христианством хотела служить и Ипатия. Марсельский священник Сальвиан, который был почти современником Кирилла Александрийского и которого никак нельзя заподозрить в служении «языческим демонам», выражается еще энергичнее: «И мы думаем, что, обращаясь с бедными с такой жестокостью, мы не заслуживаем за это божьего наказания? Мы верим, что нам позволено быть несправедливыми, а Бог не будет справедлив в отношении нас? Где и у кого, кроме римлян, можно встретить подобное зло? Чья несправедливость превышает нашу? Ничего подобного нет ни у вандалов, ни у готов… Неудивительно, что у римлян нет желания находиться под римскими законами. Единственная и всеобщая мечта римского простонародья состоит в том, чтобы жить с варварами». Рабовладельческая империя «вечного города», Рима, пришла к своему концу. Но грандиозное движение низов проходит мимо поля зрения благонамеренного английского романиста. Казалось бы, что Кингсли, видевший могучую поступь рабочих батальонов в чартистском движении, мог почувствовать шатание рабовладельческого пьедестала, на котором зиждилась Римская империя. Но Кингсли – богослов – одержал верх над Кингсли – социальным реформатором. Правда, само христианство уже изменилось – из религии общественных низов оно переродилось в религию имущих, бежавших от государственных тягот, и в то же время манившую всех обездоленных и отчаявшихся великолепным зрелищем Нового Иерусалима и Нового Сиона, будущим царством праведников, если не на земле, то во всяком случае в новом эоне, в небесном царстве. И, тем не менее, даже эта переродившаяся христианская церковь давала широкой народной массе больше, чем государство. Пусть это переродившееся христианство не посягало на «основы» и, провозглашая равенство всех перед Божеством, вовсе не стремилось уничтожить земное рабство, все же своими благотворительными организациями оно давало какой-то выход тяжкой нужде. Отсюда успех тех же александрийских «параболанов» Кирилла, которые не только растерзывали таких противников христианства, как Ипатия, но и занимались благотворительной деятельностью среди низов такого городского центра, как Александрия. Если церковник Сальвиан горестно замечал: «Мы стыдимся не порока, а добродетели», то еще в забитой народной массе тлела надежда на своих церковных вождей, которые, по крайней мере, обещали компенсировать наградами в потустороннем мире все тяготы в настоящем. Столь же грозны были и политические события, сопровождавшие эти видоизменения в классовой структуре поздней Римской империи. В августе 410 года вождь вестготов, Аларих, захватил и разграбил «вечный город», Рим. Вестготского предводителя тщетно пугали многочисленностью населения Рима. Как передает историк Зосим, Аларих иронически ответил на эти предостережения: «Чем гуще трава, тем легче ее косить». Можно думать, что Аларих был прекрасно осведомлен о настроениях римского населения и очень мало боялся его многочисленности – в августовскую полночь городские рабы и бедняки открыли ему саларийские ворота Рима, и в первый раз за все свое существование столица империи была захвачена неприятелем. Смерть постигла Алариха в этом же году. Его преемник Атаульф заключил мир с империей и удалился в Галлию. Как раз во время этих длительных и сложных переговоров бездарного и ленивого императора Запада, Гонория, с Атаульфом произошел мятеж наместника Африки, Гераклиана, служащий фоном заключительных сцен «Ипатии». Сам Гераклиан представлял типическую фигуру бесцеремонного претендента на шатающийся престол Римской империи. Лукавый царедворец, коварный убийца Стилихона, хотя и «варвара» по происхождению, но одного из последних крупных римских полководцев, человек, не побрезговавший после разгрома Рима Аларихом торговать бежавшими в Африку римскими женщинами и девушками, Гераклиан оказался бездарным полководцем, и, будучи разбит в Италии, был позорно обезглавлен в Карфагене, столице управляемой им провинции. Интересно отметить, что именно здесь роман Кингсли анахронистичен. Гибель Гераклиана произошла в 413 году, смерть Ипатии в 415 году, но Кингсли стянул оба события почти что в один хронологический момент для того, чтобы оправдать свою фабулу о бракосочетании Ореста и Ипатии. Это последнее событие – «поэтическая вольность» английского романиста, следующего здесь главным образом Сократу, который, пытаясь выгородить Кирилла, приписывал неистовство александрийской толпы в расправе над Ипатией господствовавшему якобы в Александрии убеждению, что влияние воинствующей представительницы эллинизма мешает примирению наместника Ореста, этого представителя светской власти, с Кириллом, духовным главой христианской Александрии. Эта вольность была бы простительна, если бы Кингсли не прошел совершенно мимо того грандиозного социального фона, на котором развертывались изображаемые им события. Если революционное движение масс поздней античности прошло мимо Кингсли, то не следует удивляться, что и сами христианские деятели у него даны крайне однообразно и монотонно. Для них у него есть только две квалификации – хорошие и дурные, пользующиеся симпатией автора и лишенные таковой. Зато совсем упущена социальная характеристика христианства IV—V веков. В эту эпоху официальная церковь все более и более делается оружием в руках рабовладельческой верхушки, благо сама по себе церковная организация еще пользуется в известной степени народными симпатиями и доверием. В этом отношении характерен эпизод с антисемитским выступлением Кирилла. Александрийские евреи уже со времен птоломеев пользовались рядом существенных льгот и известным самоуправлением, что, однако, не мешало Александрии быть одним из центров античного антисемитизма и даже погромных выступлений против еврейского населения. Правящие александрийские круги всегда умело пользовались этими антисемитскими выходками в своих собственных интересах, и их достойным наследником в этой почтенной деятельности оказалась христианская церковь. Без всякой санкции со стороны императорской власти христианский епископ повел фанатических монахов и городскую чернь на приступ еврейского квартала Александрии, который был разграблен, а захваченное имущество было разделено между ревнителями веры. Несомненно, что этот погром носил демагогический характер, что религиозный фанатизм александрийских христиан был использован Кириллом для того, чтобы сделать богатое еврейство ответственным за нужды александрийского простонародья. Характерны и последствия этого «геройского» поступка. Когда префект Египта, Орест, пожаловался на самоуправство Кирилла императорскому правительству, то науськанная архиепископом банда нитрийских монахов чуть не расправилась с префектом на улице. Захваченный на месте преступления монах Аммоний был казнен по приказания Ореста, но под новым именем «Таумасия» – «удивительного» – был причтен к лику мучеников Кириллом. Вся эта антисемитская инсценировка была достойной увертюрой к растерзанию Ипатии. Нельзя, конечно, сказать, что Кингсли симпатизирует этим подвигам Кирилла, но весь этот эпизод изложен им так спокойно и объективно, что эта невозмутимость английского джентльмена и духовного лица приобретает какой-то сомнительный характер. И тем не менее истина может оказаться сильнее самого автора. Пусть роман Кингсли неглубок, пусть он односторонен и идеалистичен, – сами факты, изложенные в нем, вопиют и рассказывают вполне недвусмысленную повесть о том, как победившее христианство показало черты самой резкой религиозной нетерпимости, фанатизма и ненависти. Эпоха падения древнего мира и торжества христианства очень бледно освещена художественным творчеством. Это и понятно. Еще так недавно эта область истории была под строгим табу – либо прямого запрещения, либо своеобразного лицемерия. Кингсли, как типичный англичанин викторианской эпохи, не мог, конечно, раскрыть глубокого социального смысла того переворота, который отделяет древний мир от европейского средневековья. Но он имел смелость взять сюжетом своего романа такой исторический эпизод, где самое елейное благочестие было бессильно обелить действия христианской иерархии, хотя сам Кингсли входил в ее ряды. Более того, и сами исторические факты, поскольку они доступны историку, изложены им в их подлинном виде. И эти упрямые факты – слабость государственной власти, рост церковной тирании, погромные действия христианского святого, жуткая сцена умерщвления Ипатии – сами по себе таковы, что почти не требуют комментариев и до сих пор оказывают должное действие на всякого, кто ознакомится с ними. Сентиментализм Кингсли в изображении «подлинного» христианства, его христианские настроения в обрисовке созданных его художественной фантазией лиц объясняются его социальным положением и по своей некоторой наивности легко могут быть вскрыты при аналитическом отношении к роману и его автору. Всякий исторический роман есть сложный результат двух слагаемых: во-первых, эпохи, в которой жил автор, и его положения в ней, и во-вторых, эпохи, описываемой в романе. А в восприятии такого романа действует еще третий фактор – эпоха, к которой принадлежит сам читатель и общество, в котором он живет. Именно наш современник обладает всеми данными для того, чтобы оценить правильно факты, изложенные Кингсли, отношение автора к ним и, что еще важнее, установить свое собственное отношение и к этим фактам и к их сюжетной расстановке. Проф. П. Преображенский 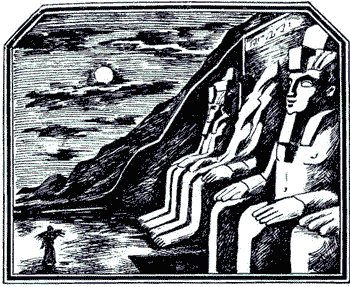 Глава I ЛАВРА Это было в 413 году христианского летоисчисления, за триста миль от Александрии. На склоне невысокой цепи скал, окруженных песчаными наносами, сидел молодой монах Филимон. Позади него расстилалась безжизненная, беспредельная пустыня, тусклый цвет которой отражался в прозрачном голубом небе. У его ног струился песок, заливая необъятными желтыми потоками лощины и холмы; порой, когда поднимался легкий летний ветерок, песок окутывал бурыми дымчатыми облаками всю окрестность. На гряде утесов, сгрудившихся стеной над узкой котловиной, виднелись кое-где высеченные в камне гробницы и огромные старые каменоломни с обелисками[6] и незаконченными колоннами, так и оставшимися в таком виде, в каком их бросили рабочие много веков тому назад. Вокруг них кучами лежал песок; кое-где он покрывал их верхушки словно инеем. Повсюду царило безмолвие и запустение: это была могила мертвого народа в умирающей стране. Полный жизни, молодости, здоровья и красоты сидел Филимон, погрузившись в раздумье. Он казался юным Аполлоном пустыни. Единственным одеянием ему служила старая овчина, стянутая кожаным поясом. Его длинные черные волосы развевались на ветру и блестели на солнце; все в его облике говорило о здоровой цветущей молодости: грубые мускулистые и загорелые руки, явно не гнушавшиеся тяжелого физического труда, высокий лоб и искрящиеся глаза говорили об отваге, воображении, страсти и казались неуместными в такой унылой обстановке. Что искало среди могил это прекрасное, юное человеческое существо? Этот вопрос, вероятно, задавал себе и сам Филимон. Как будто отгоняя набегавшие грезы, он провел рукой по лбу и со вздохом приподнялся. Он стал бродить между скал, останавливаясь то у выступа, то над впадиной в поисках дров для той обители, откуда он пришел. Но даже и этого жалкого топлива, состоявшего преимущественно из низкорослого сухого кустарника пустыни да деревянных брусьев из заброшенных каменоломен, становилось все меньше около Сетской лавры. Чтобы набрать дров, Филимону пришлось отойти от своего монастыря дальше, чем он это делал до сих пор. У изгиба лощины его взору представилось невиданное зрелище. Он увидел храм, высеченный в скале из песчаника, а перед храмом площадку, заваленную старыми бревнами и сгнившими орудиями. Кое-где в песке белели оголенные черепа, принадлежавшие, вероятно, мастеровым, убитым за работой во время одной из бесчисленных древних войн. Игумен Памва, духовный наставник Филимона, и, в сущности, настоящий его отец, – ибо из воспоминаний детства у юноши не осталось ничего, кроме лавры и кельи старца, – категорически воспрещал ему приближаться к этим останкам древнего языческого культа. Но к площадке вела широкая дорога, и множество сухих веток, видневшихся там, было настолько соблазнительно, что он не мог пройти мимо. Филимон хотел спуститься, набрать охапку и вернуться, а потом сообщить настоятелю о найденной сокровищнице и спросить его, разрешает ли он брать из нее и впредь. Он начал спускаться, едва осмеливаясь смотреть на пестро окрашенные изваяния, красные и синие краски которых, не поврежденные ни временем, ни непогодою, ярко выступали на фоне мрачной пустыни. Но он был молод, – а юность любопытна; и дьявол, – во всяком случае в пятом столетии, – сильно смущал неопытные умы. Филимон слепо верил в дьявола и ревностно молился днем и ночью о спасении от его козней. Он перекрестился и воскликнул: – Отврати взор мой, Господи, чтобы я не узрел эту суету сует! А все-таки он взглянул… Да и кому бы удалось побороть искушение? Разве можно было оторвать взор от четырех исполинских изваяний царей, восседавших сурово и недвижно на своих тронах? Их огромные руки опирались о колени, а мощные головы, казалось, поддерживали гору. Чувство благоговейного трепета овладело молодым монахом. Он боялся нагнуться, боялся собирать дрова под строгим взглядом этих больших неподвижных глаз. Около их колен и тронов были выгравированы мистические буквы, символы и изречения, – та древняя мудрость египтян, в которой был так сведущ Моисей. Почему бы и Филимону не ознакомиться с ней? Не были ли скрыты в ней великие тайны прошлого, настоящего и будущего того обширного мира, о котором он еще так мало знал? Миновав царственные изваяния, Филимон залюбовался внутренним строением храма, – светлой бездной прохладных, зеленоватых теней, которые в анфиладе[7] арок и пилястров[8] постепенно сгущались в непроницаемую мглу. Смутно различал он на погруженных в таинственный полумрак колоннах и стенах великолепные арабески – длинные строки иллюстрированной летописи. Вот пленные в причудливых, своеобразных одеяниях ведут невиданных животных, нагруженных данью далеких стран; вот торжественные въезды триумфаторов, изображение торжественных событий, различных работ; вот вереницы женщин, участвующих в празднестве. Что означало все это? Зачем целые века и тысячелетия просуществовал великой божий мир, упиваясь, наедаясь и не зная ничего лучшего? Эти люди утратили истину за много столетий до их рождения… Христос был послан человечеству спустя много веков после их смерти… Могли они знать что-либо высшее? Нет, не могли, но кара постигла их; все они в аду – все! Возможно ли примириться с этой мыслью? Разве это божественное правосудие? Подавленный множеством зловещих вопросов, по-детски неопределенных и неясных, юноша побрел назад, пока не достиг выступа скалы, у подножия которой была расположена его обитель. Лавра была построена в довольно приятном месте. Она представляла собой двойной ряд грубо сложенных циклопических келий, ее окружала роща старых финиковых пальм росших в вечной тени у южного склона утесов. Находившаяся в скале пещера разветвлялась на несколько коридоров и служила часовней, складом и больницей. По залитому солнцем склону долины тянулись огороды общины, зеленевшие просом, маисом и бобами. Между ними извивался ручеек, тщательно вычищенный и окопанный; он доставлял необходимую влагу этому небольшому клочку земли, который добровольный труд иноков ревностно охранял от вторжения всепоглощающих песков. Эта пашня была общим достоянием, как и все в лавре, за исключением каменных келий, принадлежащих отдельным братьям, и являлась источником радости и предметом заботы для каждого. Ради общего блага и для собственной пользы братья таскали в корзинах из пальмовых листьев черный ил с берега Нила; для общей пользы иноки счищали пески с утесов и сеяли на искусственно созданной почве зерно, собирая затем урожай, делившийся между всеми. Чтобы приобретать одежду, книги, церковную утварь и все, что требовалось для житейского обихода, поучений и богослужения, братья занимались плетением корзин из пальмовых листьев. Старый монах выменивал эти изделия на другие предметы в более зажиточных монастырях на противоположном берегу. Каждую неделю перевозил туда Филимон старца в легком челноке из папируса и, поджидая его возвращения, ловил рыбу для общей трапезы. Жизнь в лавре текла просто, счастливо и дружно, согласно с уставами и правилами, чтимыми и соблюдаемыми чуть ли не наравне со священным писанием. У каждого была пища, одежды, защита, друзья, советники и живая вера в промысел божий. А что еще нужно было человеку в те времена? Здесь скрывались люди из древних городов, в сравнении с которыми Париж показался бы степенным, а Гоморра – целомудренной. Они бежали от тлетворного, адски испорченного умирающего мира тиранов и рабов, лицемеров и распутниц, чтобы на досуге безмятежно размышлять о долге и возмездии, о смерти и вечности, о рае и аде, чтобы обрести общую веру, разделить общие обязанности, радости и горести. – Ты поздно вернулся, сын мой, – произнес настоятель, не отрывая глаз от работы, когда к нему приблизился Филимон. – Сушняк стал редко попадаться; мне пришлось далеко уйти. – Монаху не подобает отвечать, когда его не спрашивают. Я не осведомлялся о причине. Но где ты нашел эти дрова? – Перед храмом, очень далеко от нашей долины. – Перед храмом? Что ты там видел? Ответа не последовало, и Памва поднял на юношу свои проницательные черные глаза. – Ты вошел в него, тебя влекло к его мерзостям? – Я… я не входил… я только заглянул. – Что ты увидел?.. Женщин? Филимон молчал. – Не запретил ли я тебе заглядывать в лицо женщины? Не прокляты ли они навеки вследствие непослушания их праматери, через которую зло проникло в мир? Женщина впервые растворила ворота ада и осталась доныне его привратницей. Несчастный отрок, что ты наделал? – Они были только нарисованы на стене. – Так, – произнес настоятель, словно освободившись от тяжкого груза. – Но откуда ты знаешь, что то были женщины? Если ты не лгал, – а этого я не могу предположить, – то ведь ты еще никогда не видел облика дочери Евы. – Быть может… – заговорил Филимон, останавливаясь с видимым облегчением на новом предложении, – быть может, то были лишь дьяволы. Это вполне вероятно, потому что они мне показались поразительно прекрасными. – А – а… откуда же тебе известно, что дьяволы красивы? – Когда на прошлой неделе мы с отцом Арсением оттолкнули лодку от берега, то увидели возле реки, не особенно близко, два существа с длинными волосами. Большая часть их тела пестрела черными, красными и желтыми полосами… они рвали цветы над водой. Отец Арсений отвернулся… я же… не мог совладать с собой и думал, что более красивых творений я еще не встречал… Я спросил, почему он отворачивается, и он мне сказал, что это дьяволы, которые искушали блаженного Антония[9]. Позже я вспомнил, что искушения приходили к святому подвижнику в образе прекрасной женщины… И вот… те изображения на стенах были похожи на них… Я подумал… не они ли… Поняв, что он вот-вот покается в позорном смертном грехе, бедный юноша сильно покраснел, запнулся и замолчал. – Они тебе понравились! О, безнадежная испорченность плоти! О, коварный враг человеческий! Да простит тебя Господь, мое бедное дитя, как я прощаю тебя. Но отныне ты не выйдешь за ограду нашего сада! – Не выходить за ограду сада? Я не могу! Не будь ты моим отцом, я бы сказал, – не хочу! Мне нужна свобода, отпусти меня! Я не тобой недоволен, а только самим собой. Я знаю, послушание – подвиг, но опасность еще благороднее. Ты видел свет, отчего же и мне не взглянуть на него? Если ты бежал, когда он тебе показался слишком плохим, то почему бы и мне не поступить так же, но по собственному свободному побуждению? Тогда я вновь вернусь сюда, чтобы впредь уже не расставаться с тобой. Но Кирилл[10] со своим духовенством ведь спасаются же… Филимон, с трудом переводя дыхание, порывисто изливал эту страстную речь из самых глубин своего сердца. Наконец, он остановился и стал ждать, что удар доброго настоятеля вот-вот повергнет его на землю. Юноша стерпел бы это наказание с такой же покорностью, как и любой инок этой обители. Старец дважды поднимал свой посох, чтобы ударить юношу, и дважды опускал его. Наконец он медленно встал, покинул Филимона, упавшего на колени, и в глубоком раздумье, опустив глаза вниз, направился к жилищу брата Арсения. В лавре все почитали брата Арсения. Его окружал ореол таинственности, усиливавший обаяние его необыкновенной набожности и почти детского смирения и кротости. Во время своих уединенных прогулок монахи иногда шепотом рассказывали друг другу, что некогда он был могущественным человеком и прибыл из большого города, быть может, даже из Рима. Простые монахи гордились, что к их общине принадлежал человек, видевший столицу империи. Во всяком случае, настоятель Памва глубоко уважал его, никогда не бил и не делал ему выговоров, – впрочем, может быть, потому, что он не заслуживал ни того, ни другого. В эту минуту вся община подвижников занималась плетением корзин и каждый сидел перед своей кельей. Они видели, как настоятель, очень раздраженный, отошел от коленопреклоненного монаха и поспешил к жилищу мудрого старца. Очевидно, произошло нечто чрезвычайное, грозившее неприятностями их общему благу. Более часа пробыл настоятель у Арсения. Они беседовали тихо и вдумчиво. Потом раздался торжественный гул, какой слышится тогда, когда двое стариков молятся со слезами и рыданиями. Филимон все еще неподвижно стоял на коленях. Его душа была переполнена, но чем – он не мог бы сказать. «Сердце знает свое горе, и не войти постороннему в радость его». Памва вернулся, задумчивый и безмолвный. Опустившись на стул, он обратился к Филимону: – «И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне полагающуюся часть наследства…“ По прошествии нескольких дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там растратил полученное, живя распутно»… Ты уйдешь, сын мой, но сначала последуешь за мной и поговоришь с Арсением. Филимон, равно как и вся братия, любил Арсения и, когда настоятель ушел, оставив их наедине, он не ощутил ни стыда, ни боязни и раскрыл перед ним всю свою душу… Он говорил долго и страстно, отвечая на краткие вопросы старца, который прерывал юношу без строгости и напыщенной педантичности монаха и с детской незлобивостью позволял Филимону перебивать свою речь. Но в звуке его голоса сквозила грусть, когда он отвечал на мольбы молодого инока. – Тертуллиан, Ориген[11], Климент[12], Киприан[13] – жили в миру, а кроме них еще многие другие, имена которых мы почитаем, испрашивая их заступничества. Всем им была знакома языческая наука, и они боролись и трудились, оставаясь незапятнанными, живя среди людей. Почему бы и мне ее не испробовать? Даже патриарх Кирилл был вызван из пещер Нитрин, чтобы занять место на александрийском престоле. Медленно поднял старец руку и, откинув густые волосы со лба юноши, заглянул ему в лицо долгим сосредоточенным взглядом, исполненным кроткого сострадания. – Так ты хочешь увидеть мир, жалкий глупец? – Я хочу изменить мир. – Прежде всего ты должен познать его. Рассказать ли тебе, каков мир, который, как тебе кажется, так легко изменить? Я живу вот здесь бедным, старым, безвестным монахом, который молится и постится, чтобы Господь сжалился над его душой. Но ты не подозреваешь, как глубоко я изучил свет. Если бы ты так же его знал, то был бы рад остаться тут до конца жизни. Некогда при имени Арсения царицы, бледнея, понижали голос. Суета сует, всяческая суета! При виде моего нахмуренного чела содрогался тот, перед кем трепетал весь мир. Я был воспитателем Аркалия[14]. – Императора Византии?[15] – Его, его самого! При нем узнал я свет, который ты хочешь увидеть. А что же я увидел? Именно то, что предстоит увидеть и тебе: евнухов, державших в страхе своих повелителей, епископов, лобзающих ноги отцеубийц и развратниц, невинных людей, угождающих грешникам и ради единого слова их разрывающих на части своих братьев в противоестественной борьбе. Свергнутого гонителя немедленно заменяет толпа новых, изгнанный дьявол возвращается с семью другими, еще худшими. Среди коварства и себялюбия, гнева и похоти, смятения и неурядиц, сатана враждует с собственной братией повсюду, начиная со сладострастного императора, восседающего на троне, до забитого раба, поносящего своего Бога. – Если сатана изгоняет сатану, то его царство не долговечно. – В будущем мире, – да, в нашем же мире оно будет крепнуть, побеждать и шириться, пока не наступит конец. Наступают последние дни, о которых вещали пророки, приближается начало страданий, каких еще не знавала земля. Я это давно предвидел. Я предсказал, что нахлынет мрачный, неудержимый поток северных варваров; я молил об отвращении его, но мои пророчества и предостережения ни к чему не привели. Мой питомец противился моим советам. Страсти юности и козни царедворцев оказались сильнее божественных внушений Создателя. Тогда я перестал надеяться, перестал молиться о благоденствии дивного города и понял, что он не избежит суда. Я видел его духовным оком, как некогда его узрел апостол Иоанн в своем откровении. Отчетливо выступал он передо мной со всеми его грехами среди ужасов неотвратимого разгрома. Я бежал тайно ночью и схоронил себя в пустыне, ожидая конца света. Днем и ночью взываю я Создателю, чтобы он ниспослал своих избранных и ускорил пришествие своего царства. С каждой зарей, с трепетом и надеждой, подняв лицо к небесам, ищу я на них знамение Сына божьего, жду минуты, когда солнце померкнет, луна обратится в кровь, звезды посыпятся с небесных высот, а подземные огни вырвутся из-под земли, возвещая кончину мира. И ты хочешь идти в свет, откуда я бежал? – Богу нужны рабочие, когда близится жатва. Если времена ужасны, то я избран для необычных дел. Помни меня и позволь сегодня же уйти туда, куда рвется душа – в ряды первых борцов Христа. – Да будет его святая воля! Ты пойдешь. Вот письмо к патриарху Кириллу. Он станет любить тебя ради меня и ради тебя самого, как я надеюсь. Ступай, и да не оставит тебя Творец. Не льстись на золото и серебро. Не ешь мясного, не пей вина, а живи как доселе, – служителем Всевышнего. Не избегай взора мужчины, но не заглядывайся на лицо женщины. Идем, настоятель ожидает нас у ворот. Филимон медлил с уходом. У него лились слезы удивления и радости, но в то же время он испытывал и какую-то робость. – Иди! Зачем печалить и себя, и своих братьев долгими проводами? Из кладовой захвати себе на неделю запас продовольствия: фиников и пшена. Лодка готова: в ней ты спустишься вниз по Нилу. Бог нам заменит ее новой, когда в ней окажется нужда. В продолжение плавания ни с кем не разговаривай, кроме отшельников божьих. По истечении пяти суток расспроси, как попасть в устье Александрийского канала; когда же доберешься до города, то тебя всякий монах проведет к архиепископу. Дай нам знать о себе через какого-нибудь благочестного вестника. Иди! Молча пересекли они долину, направляясь к пустынному берегу великой реки. Памва был уже там, его седины озарялись лучами восходящей луны, когда он дряхлой рукой спускал на воду легкий челнок. Филимон бросился к ногам старцев, с рыданиями умоляя их простить и благословить его в путь. – Нам нечего прощать тебя, – следуй зову внутреннего голоса. Если в тебе заговорила плоть, то она и покарает тебя; мы же не смеем противиться Господу Богу, если твой порыв исходит от духа. Прощай! Через несколько мгновений челнок несся по течению быстрой реки, скользя в золотистых сумерках летнего дня. Вскоре на землю опустилась южная ночь, все утонуло во мраке, и только на воде отражался лунный свет, озаряя скалу и на ней – двух коленопреклоненных старцев. Глава II УМИРАЮЩИЙ МИР В Александрии, неподалеку от музея, в верхнем этаже дома, построенного и украшенного в древнегреческом стиле, была небольшая комната, выбранная ее владельцем, вероятно, не только для отдыха. Правда, она находилась довольно далеко от южной стороны двора, но все же сюда долетали голоса прохожих, шум экипажей, проезжавших по оживленной дороге, дикий рев, крики и звон труб из зверинца, расположенного по соседству на другой стороне улицы. Главную прелесть этого покоя составлял, быть может, вид на сады, на цветочные клумбы, кусты, фонтаны, аллеи, статуи и ниши, которые в продолжение семи столетий внимали мудрости философов и поэтов Александрии. Тут работали философы различных школ, блуждая под сенью платанов, ореховых деревьев и фиговых пальм. Все, казалось, дышало здесь очарованием греческой мысли и поэзии, с тех пор, как некогда тут прохаживались Птоломей Филадельф[16] с Евклидом[17] и Теокритом, Каллимахом[18] и Ликофроном[19]. Слева от садов тянулся восточный фасад музея с картинными галереями, изваяниями, трапезными и аудиториями. В огромном боковом флигеле хранилась основанная отцом Филадельфа знаменитая библиотека, которая еще во времена Сенеки[20] насчитывала четыреста тысяч рукописей, несмотря на то, что значительная часть их погибла при осаде Цезарем Александрии. Здесь, сверкая на фоне прозрачной синевы неба, высилась белая кровля – одно из чудес мира, а по ту сторону, между выступами и фронтонами великолепных построек, взор терялся в сверкающей лазури моря. Комната была отделана в исключительно греческом стиле и представляла собой обитель спокойствия, чистоты и прохлады, хотя в окна, защищенные сетками от москитов, проникал со двора яркий солнечный свет. В комнате не было ни ковра, ни очага; обстановка состояла из кушетки, стола и кресла, но вся мебель отличалась тонкостью и изяществом форм. Однако, если бы кто-либо вошел в комнату этим утром, то, вероятно, не обратил бы внимания ни на меблировку, ни на сады музея, ни на сверкающее Средиземное море, так как его взор отыскал бы нечто более привлекательное, перед чем все остальное меркло и стушевывалось. В кресле сидела молодая женщина лет двадцати пяти, погруженная в чтение лежавшей на столе рукописи. Именно она и была богиней-покровительницей этого маленького храма. Ее одеяние, вполне соответствовавшее характеру комнаты, состояло из простого белоснежного платья старинного фасона. Длинное, строгое и изящное, оно ниспадало до самого пола, собиралось у шеи, совершенно скрывая очертания бюста и обнажая лишь руки и немного плечи. Ее наряд был лишен всяких украшений, кроме двух пурпуровых полосок спереди, обличавших в ней римскую гражданку. Она носила расшитую золотом обувь и золотую сетку на волосах, спускавшуюся на спину. Цвет и блеск ее волос отливали чистым золотом и сама Афина[21] могла бы позавидовать не только оттенку, длине и густоте, но и прихотливым завиткам ее локонов. Черты ее лица, руки и плечи соответствовали строгому, но чудесному стилю древнегреческой красоты. При первом же взгляде обнаруживались прекрасное телосложение и блестящая мягкая кожа, которой отличались древние греки и которая достигалась не только частыми купаниями и постоянными физическими упражнениями, но и ежедневными втираниями душистых масел. Быть может, кого-то неприятно удивила бы чрезмерная грусть ее больших серых глаз, самоуверенность резко очерченных губ и нарочитая строгость осанки. Но чарующая прелесть и красота каждой линии лица и фигуры не только смягчали, но и полностью искупали эти недостатки. Бросалось в глаза поразительное сходство с изображениями Афины, украшавшими простенки комнаты. Молодая женщина оторвала глаза от рукописи и с пылающим лицом обернулась к садам музея: – Да, статуи повержены, библиотека разграблена, ниши безмолвны, оракулы безгласны. И все же… кто посмеет утверждать, что угасла древняя религия героев и мудрецов? Прекрасное не умирает. Боги покинули своих оракулов, но они не отталкивают души тех, кто томится стремлением к бессмертию. Они уже не учат народы, но не прервали связи с избранными. Они отвернулись от пошлых масс, но еще благосклонны к Ипатии! Ее лицо вспыхнуло от восторга, но вдруг она вздрогнула, не то от страха, не то от отвращения. У стены садов, расположенных напротив дома, она увидела сгорбленную дряхлую еврейку, одетую с причудливым и ослепительным, но грубым великолепием. Старуха, очевидно, наблюдала за ней. – Зачем преследует меня эта старая колдунья? Я ее вижу повсюду. Попрошу префекта, чтобы он узнал, кто она такая, и избавил от нее, прежде чем она меня сглазит своим злобным взглядом. Она уходит – благодарение богам! Безумие! Безумие, и это у меня, женщины-философа! Неужели, вопреки авторитету Порфирия[22], я верю в дурной глаз и колдовство? Но вот и отец. Он, кажется, прохаживается по библиотеке. Из соседней комнаты вышел старик, тоже, очевидно, грек, но менее чистокровный с обычной внешностью. Он был смугл и порывист, худ и изящен. Стройной фигуре и щекам, ввалившимся от усиленных занятий, как нельзя более подходил простой, непритязательный плащ философа – символ его профессии. Он нетерпеливо зашагал по комнате; напряженная работа мысли сказывалась в тревожных движениях, в пронизывающем взоре блестящих глаз. – Вот оно… нет, снова ускользнуло. Получается противоречие. Несчастный я человек! Если верить Пифагору[23], символ – это расширяющийся ряд третьих ступеней, а тут все время получаются кратные числа. Ты не подсчитывала сумму, Ипатия? – Присядь, дорогой отец, и поешь. Ты сегодня еще не прикасался к еде. – Что мне пища? Следует выразить необъяснимое, завершить труд, хотя бы это было так же трудно, как найти для круга равновеликий квадрат. Может ли дух, парящий в надзвездных сферах, ежеминутно опускаться на землю? – Ах, – возразила она не без горечи, – как рада была бы я, если бы, всецело уподобляясь богам, мы могли существовать без питания. Но, замкнутые в эту материальную темницу тела, мы должны изящно влачить наши оковы, если у нас есть вкус. В соседней комнате для тебя приготовлены плоды, чечевица, рис, а также и хлеб, если ты его не слишком презираешь. – Пища невольников, – заметил он. – Хорошо, пойду и буду есть, хотя и стыжусь еды. Подожди… Говорил ли я тебе, что в школу математики сегодня утром прибыло шесть учеников? Школа растет, расширяется. Мы, в конце концов, победим. Она вздохнула. – Почему ты думаешь, что они пришли к тебе, как Критиас и Алкивиад[24] к Сократу, – лишь для изучения политических и светских наук? Ах, отец мой, для меня нет более жестокого страдания, как в полдень видеть у носилок Пелагии толпу тех самых слушателей, которые утром внимали в аудитории моим словам, словно изречениям оракула… А затем вечером… я это знаю – кости, вино и кое-что похуже. Увы, ежедневно Венера[25] всенародная побеждает даже Палладу[26]. Пелагия обладает большей властью, чем я! И в голосе Ипатии звучали ноты, наводившие на мысль, что она ненавидит Пелагию, несмотря на то величавое спокойствие и невозмутимость, которые вменяла себе в обязанность. В это мгновение беседа внезапно прервалась. В комнату торопливо вбежала молодая рабыня и дрожащим голосом доложила: – Госпожа! Знатный префект прибыл. Его экипаж ждет уже пять минут у ворот. Он сам идет за мной по лестнице. – Неразумное дитя, – сказала Ипатия с несколько напускным равнодушием, – может ли это меня обеспокоить? Ну, впусти его. Дверь распахнулась и, предшествуемый по меньшей мере полудюжиной благоухающих запахов, появился цветущий мужчина с тонкими чертами лица. На нем было роскошное одеяние сенаторов, а на руках и на шее сверкали драгоценные украшения. – Наместник цезарей почитает за честь поклониться жертвеннику Афины Паллады и счастлив узреть в лице ее жрицы прелестное подобие богини, которой она служит. Не выдавай меня, – но когда я вижу твои глаза, я могу изъясняться лишь по-язычески. – Правда всесильна, – ответила Ипатия и приподнялась, приветствуя его улыбкой и поклоном. – Да, говорят… Твой достопочтенный отец удалился. Он, право, слишком скромен и совершенно беспристрастно оценивает свою неспособность к политическим интригам. Ты ведь знаешь, что я всегда прошу совета у твоей мудрости. Как вела себя беспокойная александрийская чернь во время моего отсутствия? – Стадо, по обыкновению, ело, пило и… любило, – по крайней мере я так полагаю, – небрежно ответила Ипатия. – И множилось, без сомнения. Ну, а как идет преподавание? Ипатия грустно покачала головой. – Молодежь ведет себя, как молодежь, и я сам готов признаться в своей вине. «Вижу лучшее, а следую худшему». Но не вздыхай, а то я буду неутешен. Да, знаешь, твоя самая опасная соперница удалилась в пустыню и собирается посетить город богов над водопадами. – Кого ты имеешь в виду? – спросила Ипатия, с далеко не философским раздражением. – Конечно, Пелагию. Я встретился с этой обольстительной и самой легкомысленной представительницей слабого пола на полпути между Александрией и Фивами и убедился, что она превратилась в настоящую Андромаху[27],– стала воплощением целомудренной любви. – К кому, смею спросить? – К некоему готскому богатырю. Какие люди рождаются у этих варваров! Право, когда я шел рядом с этим верзилой, я так и думал, что он вот-вот раздавит меня. – Как, – воскликнула Ипатия, – знатный префект снизошел до беседы с дикарем? – Его сопровождало около сорока дюжих соплеменников, которые могли бы причинить массу неприятностей робкому префекту, не говоря уже о том, что всегда выгодно оставаться в хороших отношениях с этими готами. После взятия Рима и разграбления Афин[28], похожих теперь, на улей, расхищенный осами, я начинаю серьезно смотреть на этих людей. А что касается этого детины, то он знатного рода и хвалится происхождением от своего прожорливого Бога. Он, впрочем, не удостаивал беседой презренного римского наместника, пока его верная и любящая подруга не оказала мне покровительства. Этот малый, впрочем, умеет пожить, и мы скрепили наш дружеский союз самыми утонченными возлияниями Вакху. Но с тобой я не смею говорить об этом. Итак, закатилась звезда Венеры, и восходит светило Паллады. Ну, а теперь скажи мне, что делать со святым поджигателем? – С Кириллом? – С ним. – Твори правосудие! – О, прекрасная мудрость, не произноси этого ужасного слова вне аудитории. В теории оно очень хорошо, но на практике несчастный наместник должен ограничиваться лишь тем, что удобоисполнимо. Если бы я задумал творить истинное правосудие, то Кирилла со всеми его монахами я должен был бы попросту пригвоздить к крестам на песчаных буграх за городской чертой. Это довольно просто, но совершенно невозможно, как многие другие отличные и простые вещи. – Ты боишься народа? – Да, моя дорогая повелительница. Разве вся чернь не на стороне этого гнусного демагога? Разве не могут здесь повториться ужасные константинопольские события[29]? Я не могу наблюдать подобные зрелища; право, мои нервы их не выносят. Быть может, я слишком ленив. Ну что ж, пусть так. Ипатия вздохнула. – Ах, если бы ты, уважаемый префект, решился допустить великое единоборство, исход которого зависит от тебя одного! Не думай, что дело тут только в борьбе между христианством и язычеством… – А если бы даже так, то ведь ты знаешь, что я христианин, служу христианскому императору и его августейшей сестре… – Понимаю, – перебила его она, нетерпеливо махнув рукой. – Борьба идет не только между этими двумя религиями, и даже не между варварством и философией. Борьба, в сущности, идет между патрициями и чернью, между богатством, образованием, искусством, наукой, – словом, всем, что возвеличивает народ, и дикой шайкой пролетариев, толпой неблагородных, которые должны работать на немногих благородных. Должна ли Римская империя повиноваться собственным рабам, или же она должна повелевать ими? Вот вопрос, который разрешится посредством схватки между тобой и Кириллом. И схватка эта будет кровопролитной. – Вот как? Я бы не удивился, если бы дело дошло до этого, – возразил префект, пожимая плечами. – Вполне возможно, что в один прекрасный день какой-нибудь бешеный монах проломит мне череп на улице. – Почему бы и нет? Это допустимо в эпоху, когда императоры и консулы ползают на коленях перед могилами ткачей и рыбаков и целуют сгнившие кости презренных рабов. – Я вполне согласен с тобой, что с практической точки зрения много несоответствия в новой, христианской вере, мир вообще кишит нелепостями. Мудрый не опровергает свою религию, если она ему не по душе, так же как и не негодует на свой больной палец. Он ничего не в силах изменить и поэтому должен извлечь наилучшее из наихудшего, Скажи мне только, как сохранить порядок? – И обречь философию на гибель? – Этого никогда не будет, пока жива Ипатия, способная обучать мир. Но помоги и дай совет. Что мне делать? – Я уже сказала тебе. – Да, в общей форме. Но вне аудитории я предпочитаю практические советы. Например, Кирилл пишет мне, а он и на одну неделю не может оставить меня в покое! – будто среди евреев возник заговор, преследующий цель перерезать христиан. Вот этот документ. Но, насколько мне известно, существует совершенно противоположный, и христиане намереваются перерезать всех евреев… А между тем я не могу оставить без внимания это послание. – Я не согласна с тобой, мой повелитель. – Если что-либо произойдет, – подумай только, какие доносы и обвинения полетят в Константинополь! – Ты не должен принимать к сведению это послание уже по причине того тона, в котором оно написано. Ибо подобное ущемляет твое достоинство и честь государства. Прилично ли тебе объясняться с человеком, отзывающемся о жителях Александрии, как о стаде, которое царь всех царей поручил его руководству! Кто управляет, – ты, знатный наместник, или гордый епископ? – Право, моя прекрасная повелительница, я уже перестал вникать в этот вопрос. – Ну, так объяви ему, но только устно, что частное сообщение касается не его, епископа, а тебя, правителя. Поэтому ты можешь принять к сведению его письменные заявления, лишь в том случае, если он представит официальный документ в суд. – Прекрасно! Царица дипломатов и философов! Я повинуюсь тебе. Ах, почему ты не Пульхерия[30]? Впрочем, тогда в Александрии царил бы мрак, и Орест не удостоился бы высокого счастья поцеловать руку, которую Паллада, сотворившая тебя, заимствовала у Афродиты[31]. – Вспомни, что ты христианин, – заметила Ипатия с легкой улыбкой. Префект простился с ней, миновал приемный покой, переполненный аристократическими учениками и посетителями Ипатии, и, раскланиваясь с ними, прошел мимо, обдумывая удар, который он готовился нанести Кириллу. Перед входом стояло много экипажей, рабов, державших зонтики своих господ, толпа мальчишек и торговцев. Свита префекта наделяла зевак пинками и подзатыльниками, но они не роптали. Как могущественна Ипатия, если сам великий наместник Александрии удостоил ее своим посещением, – думали они. Среди толпы виднелись и недовольные, хмурые лица, ибо в большинстве своем она состояла из христиан и беспокойных политиков, потомков александрийцев – «мужей македонских». Садясь в колесницу, префект увидел стройного молодого человека, столь же роскошно одетого, как и он сам. Он спускался по лестнице и небрежным движением руки подозвал негритенка, державшего зонтик. – Рафаэль Эбен-Эзра! Мой дорогой друг! Какой благосклонный Бог… я хотел сказать – мученик, привел тебя в Александрию именно тогда, когда ты мне нужен?! Садись рядом со мной и поболтаем немного по пути к зданию суда. Молодой человек принял приглашение. Он приблизился и низко поклонился префекту, хотя этот поклон не только не смягчал, но, по-видимому, и не должен был смягчать пренебрежительного и недовольного выражения его лица. Он спросил, растягивая слова: – В связи с чем наместник цезарей оказывает такую великую честь одному из своих покорных слуг, который… – Не беспокойся, я не намереваюсь занимать у тебя деньги, – со смехом отвечал Орест, когда Рафаэль сел рядом с ним. – Рад это слышать, В семье достаточно и одного ростовщика. Мой отец копил золото, а я растрачиваю его и думаю, что это все, что требуется от философа. – Не правда ли, как красива эта четверка белых никейских коней? Только у одного из них серое копыто. – Да… Но я прихожу к убеждению, что лошади надоедают, как и все остальное: они то хворают, то разбивают седока и вообще тем или иным способами нарушают его душевное равновесие. В Кирене меня чуть было до смерти не замучили поручениями по части собак, лошадей, оружия, требующихся его святейшеству, престарелому Нимвроду[32], епископу Синезию. – Теперь переключись на время на низменные земные дела. Кирилл пишет мне, что евреи собираются перерезать всех христиан. – Прекрасное, доброе дело! Я бы сердечно порадовался, если бы это подтвердилось. Я думаю, что это соответствует истине. – Клянусь бессмертными богами… я хочу сказать – святыми! Неужели ты в этом уверен, Рафаэль? – Да отвратят от меня четыре архангела подобные помыслы. Меня это нисколько не касается. Я только думаю, что мой народ состоит из таких же глупцов, как и прочий мир, и, вероятно, носится с подобными планами. Ему это, конечно, не удастся, и потому ты не должен тревожиться. Если же ты придаешь значение этим сплетням – я им значения не придаю – то я могу расспросить обо всем одного из раввинов, так как приблизительно через неделю должен посетить синагогу по делам. – О, ленивейший из смертных! Мне нужно сегодня же дать ответ Кириллу. – Лишний повод не осведомляться у своих соплеменников! В таком случае ты можешь заявить со спокойной совестью, что ничего не знал об этом деле. – Хорошо. По здравому рассуждению такое неведение кажется мне надежной точкой опоры для несчастного государственного мужа. Поэтому не торопись. – Могу уверить твою светлость, что мне это и в голову не приходит… – Смотри, вон Кирилл спускается по ступеням Цезареума. Представительный мужчина, хотя и похож на свирепого медведя. – А за ним следуют его птенцы. Какая мошенническая физиономия вон у того стройного молодца, монаха-псаломщика или что-то в этом роде, судя по одежде. – Вот они шепчутся друг с другом. Да ниспошлет им Небо приятные думы и более привлекательные лица! – Аминь! – воскликнул Орест с насмешливой улыбкой. Он произнес бы это с большим убеждением, если бы мог слышать ответ Кирилла Петру: – Он идет от Ипатии, говоришь ты? Но ведь он только сегодня утром вернулся в город. – Я видел его лошадей у ее дверей, когда полчаса тому назад шел сюда по улице Музея. – Мир, плоть и дьявол знают своих приверженцев, которые не придут к нам, пока у них есть возможность посещать своих собственных пророков. Нечего и ожидать этого, Петр. – А если убрать с дороги этих пророков? – Тогда, за отсутствием лучшего развлечения, они вспомнили бы и о нас… Царство божие в Александрии попирается ногами и власть принадлежит не епископам и священникам единого Бога, а предводителям мира сего, с их гладиаторами[33], ростовщиками и паразитами. И так будет до тех пор, пока возвышаются эти аудитории, египетские храмы, полные языческих обольщений, эта выставка сатаны, где дьявол преображается в ангела света, подражает христианской добродетели и украшает своих слуг наподобие служителей истины. Сопровождаемые небольшой кучкой параболанов[34], Кирилл и Петр направились по набережной и внезапно скрылись в темном переулке тесного и нищего матросского квартала. Но мы не будем сопутствовать им в делах милосердия, а подслушаем беседу наших изящных друзей. – За маяком дует отличный ветер, Рафаэль. Это очень хорошо для моих кораблей с пшеницей. – Они уже отплыли? – Да. А что? Первую флотилию я отправил три дня тому назад, а прочие снимутся с якоря сегодня. – А, так ты, значит, ничего не слышал о Гераклиане[35]? – Гераклиан? Какое отношение – во имя всех святых – имеет наместник Африки к моим судам с пшеницей? – О, никакого. Меня это дело не касается, но я слышал, что он готовит восстание. Но вот мы уже у твоих ворот. – Он готовит восстание? – повторил Орест испуганным голосом. – Он хочет восстать и завладеть Римом. – Всеблагие боги! Я хочу сказать – Боже мой… Вот еще новая забота. Войди и поведай все несчастному жалкому рабу, именуемому наместником. Но говори тихо, ради самого Неба! Надеюсь, что эти предатели-слуги не расслышали твоих слов. – Нет ничего проще, как сбросить их в канал, если они услышали что-либо, – произнес Рафаэль, следуя с невозмутимым спокойствием за взволнованным префектом. Бедный Орест остановился, дойдя до покоев, выходивших во внутренний двор. Тут он знаком подозвал еврея, запер дверь, бросился в кресло, уперся руками в колени и, охваченный страхом и смятением, уставился в лицо Рафаэля. – Расскажи мне все, все немедленно! – Я уже сказал тебе все, что знаю, – ответил Рафаэль, спокойно опускаясь на диван и играя кинжалом, украшенным драгоценными камнями. – Я думал, что тебе известна эта тайна, а то бы я ничего не сказал. Меня ведь это не касается. Оресту, как большинству слабых и развращенных людей, – в особенности римлян, – была присуща звериная жестокость, и она теперь проснулась в нем. – Ад и фурии! Бесстыдный провинциальный раб! Твоя наглость не знает границ. Знаешь ли ты, кто я, проклятый еврей? Открой мне без утайки всю правду, или, клянусь головой императора, я ее вырву у тебя раскаленными клещами. На лице Рафаэля появилось упрямое выражение. Зловещее спокойствие сквозило в его улыбке, когда он произнес: – Тогда, мой милый наместник, ты окажешься первым человеком на земле, который заставил меня, еврея сказать или сделать то, чего я не хочу. – Увидим! – воскликнул Орест. – Сюда, рабы! – и он громко хлопнул в ладоши. – Успокойся, уважаемый, – произнес Рафаэль, приподнимаясь. – Дверь заперта, перед окнами сетка от москитов, а этот кинжал отравлен. Если со мной что-либо случится, ты смертельно оскорбишь всех еврейских ростовщиков и кроме того будешь умирать в мучительной трехдневной агонии. Тебе не удастся занять денег у Мириам. Ты потеряешь самого денежного из твоих друзей и оставишь финансы префектуры, равно как и свои собственные, в плачевном состоянии. Гораздо благоразумнее будет, если ты спокойно сядешь и выслушаешь то, что я могу тебе сообщить, как философ и преданный ученик Ипатии. Не можешь же ты требовать от человека, чтобы он сказал тебе то чего сам не знает. Орест, оглядев комнату и убедившись, что ускользнуть нельзя, опять спокойно уселся в кресло. Когда рабы стали стучать в дверь, он настолько уже овладел собой, что приказал прислать не палача, а мальчика с вином. – Ах вы, евреи, – сказал он, пытаясь смехом загладите свою вспышку. – Вы до сих пор остались такими же воплощенными дьяволами, какими были при Тите! – Именно, мой милый префект. Но обсудим сначала это дело, которое, действительно, важно, по крайней мере для язычников. Гераклиан в любом случае поднимет восстание – это я узнал от Синезия. Он снарядил войско, уже готов отплыть в Остию, задержал собственные суда с пшеницей и собирается написать тебе, чтобы ты попридержал и свой груз, дабы таким образом уморить голодом и вечный город, и готов, и сенат, и императора, и всю Кампанью[36]. Конечно, только от тебя зависит, согласится или нет на это разумное и, пожалуй, незначительное требование. – А это, в свою очередь, зависит от его планов. – В самом деле, нельзя требовать, чтобы ты… мы будем выражаться иносказательно… Если вся затея не стоит связанных с нею трудов… Орест сидел в глубоком раздумье. – Нет, – произнес он почти бессознательно, но тут же гневно взглянул на еврея: он боялся выдать себя. – А почем мне знать, не расставляешь ли ты мне одну из своих адских ловушек? Скажи мне, как узнал ты обо всем этом, или клянусь Геркулесом[37],– в это мгновение он совершенно забыл о своем христианском вероисповедании, – клянусь Геркулесом и двенадцатью олимпийцами… – Не употребляй выражений, недостойных философа, я почерпнул эти сведения из верного и простого источника. Гераклиан вел переговоры о займе с раввинами Карфагена, но из-за боязни и верноподданнических чувств, они в конце концов отказали ему. Он знал, как и все мудрые наместники, что евреям бесполезно угрожать и поэтому обратился ко мне. Я никогда не давал денег взаймы, – это противно духу философии, но я его свел со старой Мириам, которая не побоится вести дела с самим чертом. Не знаю, получит ли он деньги, знаю только, что мы владеем его тайной. Если же потребуются все подробности, то тебе их сообщит старуха, которая любит интриги не меньше фалернского вина. – Так, так… Ты истинный друг… – Да, без сомнения. А вот и Ганимед[38] с вином, – он является как раз вовремя. Да здравствует богиня мудрых советов, мой благородный повелитель! Что за вино! – Настоящее сирийское – огонь и мед! Ему исполнится четырнадцать лет в следующий сбор винограда. Уходи, Ганимед! Смотри, не подслушивай! Итак, о чем же мечтает наместник? – Он жаждет получить вознаграждение за убийство Стилихона[39]. – Как? Разве ему не достаточно быть властителем Африки? – Я думаю, он считает, что это звание вполне оплачено его заслугами за последние три года. – Да, он спас Африку. – А следовательно и Египет. Ты, вместе с императором, в долгу у него. – Дорогой друг, мои долги слишком многочисленны, чтобы я мог надеяться погасить когда-либо хоть один из них. Какую же награду он требует? – Порфиру. Орест встрепенулся и погрузился в глубокое раздумье. Рафаэль наблюдал за ним несколько мгновений. – Могу я теперь удалиться, мой благородный патриций? Я сказал все, что знал. Если я теперь не отправлюсь домой, чтобы закусить и подкрепиться, то вряд ли успею разыскать для тебя старую Мириам и обговорить с ней наше небольшое дельце до заката солнца. – Постой! Как велика численность его войска? – Уверяют, что около сорока тысяч. Бессовестные донатисты[40] пойдут за ним все, как один человек, если только его финансы позволят ему заменить их деревянные дубинки стальным оружием. – Прекрасно, ступай… Так! Сто тысяч было бы достаточно, – произнес он задумчиво, когда Рафаэль с низким поклоном покинул комнату. – Он не наберет столько, но все-таки, право, не знаю… У этого человека голова Юлия Цезаря. Арсений, этот безумец, поговаривал о присоединении Египта к Западной империи. Мысль не дурна. Гераклиан – римский император, я – неограниченный владыка по эту сторону моря… Затем нужно хорошенько стравить донатистов и церковников, чтобы они с полным благодушием перерезали друг другу горло… Не иметь более на шее Кирилла с его шпионством и сплетнями… Это было бы недурно… Но сколько хлопот и треволнений! С этими словами Орест вышел из комнаты, чтобы принять теплую ванну. Глава III[41] ГОТЫ Молодой монах уже два дня плыл по Нилу. Справа и слева виднелись красивые города и виллы, возбуждавшие томительное любопытство. Он долго смотрел назад, пока они не скрывались за выступом берега, и ему безумно захотелось узнать, каковы вблизи эти роскошные здания и прекрасные сады, какой жизнью живут те люди, которые теснятся на набережных и непрерывной вереницей идут и едут по широкой дороге вдоль Нила. На крутом повороте реки он увидел пестро раскрашенную барку. На ее палубе сновали вооруженные люди в неуклюжем иноземном одеянии и с дикими возгласами следили за каким-то большим и бесформенным зверем, барахтавшимся в воде. На носу стоял человек исполинского роста. В правой руке он держал наготове гарпун, а в левой – веревку от другого гарпуна, вонзившегося в громадный окровавленный бок гиппопотама. Животное билось несколько поодаль от барки, разбрасывая пену и брызги. Один из воинов, стоявших у руля, держал по веслу в каждой руке и неуклонно направлял барку на чудовище, несмотря на неожиданные и порывистые движения последнего. Любопытство овладело Филимоном. Он подплыл почти к самой барке, не замечая, что за ним следят томные черные глаза нескольких существ, сидевших под разукрашенным навесом около кормы судна.  Это были женщины… Коварные обольстительницы весело болтали, встряхивали блестящими локонами в золотых сетках и улыбались. Увидев их, Филимон от смущения вспыхнул, схватился за весла, чтобы уйти от соблазна, но гиппопотам заметил его и ринулся, освирепев от боли, на беззащитный челнок. Веревка гарпуна обвилась вокруг стана юноши, лодка мгновенно опрокинулась вместе с ним, и чудовище, широко разинув огромную клыкастую пасть, стало настигать пловца, боровшегося с течением. К счастью, Филимон, в отличие от большинства монахов, часто купался и умел хорошо плавать. Чувство страха ему было чуждо; как и прочие отшельники, он с детства привык размышлять о смерти, и она не внушала ему ужаса даже в эту минуту, когда ему улыбалась жизнь. Но этот монах был молодым мужчиной, не желавшим умереть без борьбы, не отомстив за себя. Он быстро освободился от веревки и выхватил короткий нож, свое единственное оружие. Ловко нырнув, юноша избежал пасти страшного зверя и напал на него с тыла. Варвары кричали от восторга. Гиппопотам бешено метнулся на нового врага и одним движением челюстей раздробил пустой челнок. Но это нападение оказалось роковым для животного: барка очутилась возле него, и, когда гиппопотам высунул из воды свою незащищенную широкую грудь, гарпун, брошенный мускулистой рукой великана, поразил его прямо в сердце. Зверь судорожно вытянулся, и его огромное синевато-черное тело всколыхнулось и всплыло над водой. Бедный Филимон! Он оставался безмолвным среди общих восторженных возгласов и одиноко плавал вокруг своего разбитого маленького челнока. Тоскливо поглядывал он на далекие берега и думал, что, пожалуй, лучше добраться до них во что бы то ни стало, лишь бы спастись от… Но тут он вспомнил о крокодилах и повернул назад. Однако страх перед соблазнительными женщинами привел его к окончательному решению: крокодилов, быть может, и не встретит, а кто спасется от женщин? Он храбро поплыл к берегу, но вдруг вокруг его тела обвилась веревка, и дружеская рука варвара при общем одобрительном смехе вытащила его на палубу. Никто не сомневался, что юноша обрадуется оказанной ему помощи, и добродушные готы совершенно не понимали причины его недовольствия. Филимон с удивлением смотрел на этих странных людей, а их бледные лица, круглые головы, широкие скулы, коренастые сильные фигуры, рыжие бороды и желтые волосы, причудливыми узлами связанные на макушке. Их неуклюжие одеяния, представлявшие смесь римской и египетской моды, состояли наполовину из неизвестных ему мехов. Безвкусно украшенные самоцветными камнями, римскими монетами и драгоценностями в виде ожерелий, эти одежды, однако, носили на себе следы многих невзгод и схваток. Только рулевой, подошедший к борту, чтобы посмотреть на гиппопотама и помочь поднять на палубу грузное животное, носил допотопный наряд своего народа: белые полотняные штаны, стянутые ремнем, кожаный нагрудник и медвежью шкуру вместо плаща. Язык варваров был совершенно непонятен Филимону. – Какой это рослый, отважный юноша, Вульф, сын Овиды! – обратился богатырь к старому воину в медвежьей шкуре. – Он, пожалуй, не хуже тебя сумеет носить шубу в этом пекле. – Я сохранил одежду моих предков, Амальрих-амалиец; Асгард[42] я сумею найти в той же одежде, в какой некогда брал Рим. Костюм богатыря представлял собой смесь римского военного и гражданского одеяния. На нем был шлем, панцирь и сенаторская обувь; с дюжину золотых цепочек обвивалось вокруг шеи, и на всех пальцах сверкали драгоценности. Он отвернулся от старика с нетерпеливой насмешливой улыбкой. – Асгард! Асгард! Если ты спешишь достигнуть Асгарда по этой вырытой в песке канаве, то расспроси юношу, далеко ли нам еще плыть. Вульф тут же исполнил его желание и обратился к монаху с вопросом, на который тот мог ответить лишь отрицательным движением головы. – Спроси его по-гречески. – Греческий язык – наречие рабов. Пусть им пользуются невольники, – я от него отрекаюсь. – Эй, девушки, подойдите-ка сюда! Пелагия, ты, во всяком случае, понимаешь язык этого молодца. Спроси его, Далеко ли еще до Асгарда? – Ты должен повежливее обращаться со мной, мой суровый герой, – ответил нежный голос из-под палубного навеса. – Красоту следует просить, ей нельзя приказывать. – Ну так подойти сюда, мое оливковое дерево, моя газель, мой лотос, моя… ну, как так еще называется эта чепуха, которой ты меня учила недавно. Приди и спроси этого дикого человека из песчаной пустыни, далеко ли до Асгарда от этих проклятых кроличьих нор. Занавес шатра отдернули, и, сладострастно раскинувшись на мягком ложе, под опахалами из павлиньих перьев, сверкая рубинами и топазами, показалось существо, какого Филимон никогда еще не видел. То была женщина лет двадцати двух, с чувственными, обольстительными формами гречанки. Под чудесным золотистым загаром кожи едва просвечивались тончайшие жилки, а маленькие босые ножки были красивее, чем у Афродиты. Мягкие округленные контуры бюста и рук явственно обозначались под прозрачной тканью, а стан был перехвачен шелковой шалью оранжевого цвета, богато затканной гирляндами из раковин и роз. Густые локоны темных волос, перевитые золотом и драгоценностями, лежали на подушке, а темные глаза сияли, как алмазы, из-под век, подведенных сурьмою. Женщина медленно подняла руку, медленно раскрыла губы и на чистейшем, благозвучном греческом наречии повторила вопрос своего исполинского возлюбленного. Она дважды повторила слова, прежде чем юный монах, преодолев очарование, смог ей ответить. – Асгард? Что такое Асгард? Красавица взорами спросила новых указаний у богатыря. – Град бессмертных богов, – торопливо и серьезно вмешался старый воин, обращаясь к молодой женщине! – Град Бога – на небесах, – возразил Филимон переводчице, отвернувшись от ее сияющих, похотливых и испытующих глаз. Все, кроме вождя, пожавшего плечами, встретил ответ единодушным хохотом. – Висеть в вышине на облаках или тащиться по Нилу – для меня, в сущности, безразлично, – сказал Амальрих. – Мне сдается, что нам также легко, или, вернее так же трудно долететь до Асгарда, как доплыть до него на веслах по этой длинной канаве. Пелагия, спроси, откуда течет река. Пелагия повиновалась, и тут последовал беспорядочный набор сказок, которыми Филимона в детстве развлекали монахи. – Нил направляется к востоку мимо Аравии и Индии; путь идет лесами, населенными слонами и женщинами с собачьей пастью, а дальше тянутся Гиперборейские горы[43], где царит вечный мрак… Одна треть реки течет оттуда, другая из южного океана, через лунные горы, куда еще не ступала человеческая нога, а последняя треть из страны, где живет Феникс. Далее следуют водопады, а по ту сторону порогов тянутся лишь песчаные бугры да развалины, кишащие дьяволами. А что касается Асгарда, то о нем никто никогда не слышал. Все озадаченнее и смущеннее становились лица слушателей, а Пелагия все продолжала переводить, путаясь и перевирая. Наконец великан хлопнул себя рукой по колену и торжественно поклялся, что больше ни шагу не сделает вверх по Нилу. А Асгард пусть себе гниёт, пока не погибнут боги. – Проклятый монах, – пробормотал Вульф. – Разве об этом может что-нибудь знать такая жалкая тварь? – Почему бы ему не знать столько же, как и той обезьяне – римскому наместнику? – спросил Смид. – О, монахам все известно, – вмешалась Пелагия. – Они странствуют на сотни и тысячи миль по Нилу и пересекают пустыню, переполненную чертями и чудовищами, где всякий другой лишился бы рассудка или был бы немедленно разорван на части. – Почему бы ему не знать столько же, сколько знает префект? Это ты правильно заметил, Смид. Я думаю, что секретарь наместника нагло лгал, когда уверял нас, что до Асгарда не более десяти суток езды. – Зачем ему было лгать? – До причины мне нет дела. Я только говорю, что наместник походил на лжеца, а этот монах – на честного парня. Ему я и верю, и больше об этом ни слова! – Не смотри на меня так сердито, викинг[44] Вульф. Я не виновата, я ведь только повторяла то, что мне рассказывал монах, – прошептала Пелагия. – Кто сердито смотрит на тебя, моя царица? – взревел амалиец. – Пусть-ка он выйдет, и клянусь молотом Тора… – Да разве тебе кто-нибудь сказал хоть слово, глупенький? – стала успокаивать его Пелагия, ждавшая каждую минуту какой-нибудь бешеной вспышки. – Никто ни на кого не сердится, только я недовольна тобой: ты во все вмешиваешься. Берегись, я исполню свою угрозу и убегу с викингом Вульфом, если ты не будешь вести себя хорошо. Гляди, все ждут от тебя речи… Амалиец встал. – Слушайте, Вульф, сын Овиды, и все вы, воины! Если мы ищем богатств, то мы не найдем их среди песчаных бугров. Женщин надо? Но лучше этих мы не увидим даже у чертей и драконов. Не смотри так грозно, Вульф. Ведь ты же не намерен взять в жены одну из тех девушек с собачьими мордами, о которых рассказывал монах – а? Вернемся же обратно, пошлем послов в Испанию, к одному из вандальских племен, – им уже успел надоесть Адольф[45], я же упрочу их положение. Мы соберем рать и возьмем Византию. Я стану августом, Пелагия будет августой, вы, Вульф и Смид, превратитесь в цезарей, а монаха мы сделаем начальником над евнухами. Выбирайте любое, пора пожить спокойно. Но по этой проклятой горячей луже я больше не поплыву. Герои, спросите ваших девушек, а я переговорю со своей. Ведь все женщины – пророчицы. – Если они не потаскушки, – пробормотал Вульф себе в бороду. – Я последую за тобой на конец света, мой повелитель, – со вздохом произнесла Пелагия. – Но в Александрии, конечно, приятнее быть, чем здесь… Вульф гневно вскочил. – Выслушай меня, Амальрих, амалиец, сын Одина[46], и все вы, герои! – сказал он. – Когда мои предки поклялись быть слугами Одина и уступили царство священным амалийцам, сынам Эзира, какой договор был заключен между вашими предками и моими? Не решено ли было, что мы направимся к югу и неуклонно будем двигаться туда, пока не дойдем до города Асгарда, обители Одина, и не передадим Одину господство над Вселенной? Не соблюдали ли мы наш обет? Не были ли мы неизменно преданы тебе, сын Эзира? – Вульфа, сына Овиды, никто не уличит в нарушении клятвы, данной другу или недругу, – сказал амалиец. – Почему же тогда его друг не исполняет своего обещания? Почему он изменил клятве? Где найдет стадо вожака, когда бык бросил его и валяется в грязи. – Разве Один еще не насытился пролитой нами кровью? Если он в нас нуждается, пусть ведет нас сам! – возразил амалиец. – Нам нужно отдохнуть перед новым походом! – закричал один из воинов. – Вы ведь слышали, монах говорит, что мы никогда не проедем через пороги, – кричал другой. – Мы сначала заткнем ему глотку с его бабьими россказнями, а потом сделаем то, что нужно, – вскричал Смид вскочив с места, взялся одной рукой за боевой топор, другой сдавил горло Филимона. Еще мгновение – и монаха не стало бы. Филимон впервые в жизни ощутил прикосновение врага, и новое, еще неведомое чувство овладело всем его существом. Он вырвался из рук гота, остановил левой рукой занесенный топор, а правой схватил противника за пояс. Женщины тщетно упрашивали своих любовников разнять борцов. – Ни за какие блага! Силы равны, и схватка бесподобна! Во имя всех валькирий[47]… смотрите, они лежат на полу и Смид очутился под монахом! Так оно и было в действительности. Филимон мог бы вырвать боевой топор у гота, но к величайшему удивлению зрителей он отпустил противника, а сам поднялся с пола и тихо сел на свое прежнее место. Заговорившая совесть заглушила ту жажду крови, которая охватила его, когда он ощутил врага под собой. Все присутствовавшие онемели от удивления: они были убеждены, что он воспользовался своим неотъемлемым правом и на законном основании раскроит противнику череп. Они искренно погоревали бы о подобном исходе, но, как честные люди, не помешали бы монаху. Правда, чтобы отплатить за гибель товарища, они, быть может, содрали бы кожу с победителя, или изобрели бы что-либо иное, дабы рассеять свою скорбь и доставить отраду душе умершего. С боевым топором в руке Смид встал и оглянулся кругом, точно спрашивая, чего от него ожидают. Потом замахнулся, готовясь нанести удар. Филимон не тронулся с места и спокойно смотрел ему в глаза. Зоркий глаз старого воина заметил, что судно поплыло вниз по Нилу и что никто не пытался направить его против течения. Тогда он отложил в сторону свой топор и в раздумье опустился на сиденье, поразив всех не меньше, чем Филимон. – Так долго длилась борьба и никто не убит! Это позор! – воскликнул кто-то. – Мы должны видеть кровь, и мы лучше полюбуемся на твою кровь, чем на кровь того, кто лучше тебя! С этими словами один из готов кинулся на Филимона. В этом порыве сказалось настроение всех. Не в опьянении или в припадке безумия, как кельты и египтяне но с хладнокровной жестокостью тевтонов поднялись готы все вместе и, повалив Филимона на спину, обсуждали, каким способом его умертвить. Филимон бесстрастно покорился своей участи, если можно назвать покорностью такое душевное состояние когда внезапное удивление и новизна впечатлений разрушают все привычки человеческой природы и самые невероятные поступки и страдания принимаются, как нечто разумное и неизбежное. Да и кроме того, он отправился странствовать, чтобы познакомиться с миром, и теперь увидел его. Филимон приготовился ко всему и спокойно ждал развязки. Она наступила бы тут же и притом в неописуемо отвратительной форме. Но и у грешниц порой бьется сердце в груди, и Пелагия громко закричала: – Амальрих! Амальрих! Не допускай этого. Я не могу этого видеть! – Воины – свободные люди, моя дорогая. Они знают, что делают. Жизнь подобной твари не может иметь для тебя цены. Тут Пелагия неожиданно вскочила со своей подушки и бросилась в толпу хохотавших дикарей. – О пощадите его! Пощадите его ради меня! – Красавица! Не мешай забаве воинов! В одно мгновение сорвала она с себя плащ и накинула его на Филимона. Она стояла перед ними, неподвижная и прекрасная. Все очертания ее прекрасного стана обрисовывались под тонкой кисеей хитона, и готы невольно отступили, когда она воскликнула: – Не смейте прикасаться к нему! Пелагию они уважали, правда, не больше чем остальное человечество, но в это мгновение она была не александрийская Мессалина[48], а просто девушка. Охваченные древним инстинктом почитания женщины, они смотрели, не отрываясь, на ее глаза, выражавшие не только великодушное сострадание и благородное негодование, но и чисто женский страх. Они отошли в сторону. С минуту нельзя было сказать, что восторжествует – добро или зло. Затем Пелагия ощутила на своем плече тяжелую руку и, обернувшись, увидела Вульфа, сына Овиды. – Назад, красавица! Товарищи, я требую юношу для себя. Смид, отдай мне его – он твой. Ты мог его убить, Я бы захотел. Ты этого не сделал, и никто кроме тебя не смеет этого сделать. – Дай его нам, викинг Вульф! Мы так давно не видели крови. – Вы увидели бы целые потоки ее, если бы решились идти вперед. Этот парень мой, он храбрый, ибо он сегодня победил воина и пощадил его; за это мы из него тоже сделаем воина. Вульф приподнял распростертого монаха. – Ты теперь принадлежишь мне! Любишь ли ты войну? Филимон, не понимавший языка, на котором тот обратился к нему, кивнул головой. Впрочем, говоря по совести, он не ответил бы отрицательно, даже если бы понял смысл вопроса. – Он покачал головой! Он не любил войны! Он трус! Отдай его нам! – Я уже убивал людей, когда вы еще стреляли в лягушек! – вступился Смид. – Послушайте меня, сыны мои! Трус сильно сопротивляется в первое мгновение, но быстро ослабевает. Рука же храброго становится тем тверже, чем дольше он держит противника, ибо на него нисходит дух Одина. Я испытал прикосновение этого юноши и уверяю вас, из него выйдет мужчина. Я его сделаю мужчиной. А пока мы извлечем из него пользу. Дайте ему весло! Воины снова взялись за весла, вложив одно из них в руки Филимона, который заработал с такой силой и ловкостью, что его мучители, в сущности добродушный народ, несмотря на свою склонность к убийству и грабежу, начали ласково трепать его по плечу. А затем все, не занятые греблей, отправились осматривать только что убитого диковинного зверя. Глава IV МИРИАМ На той же неделе рано утром любимая рабыня Ипатии с испуганным лицом вошла в комнату своей госпожи. – Старая еврейка, колдунья, которая так часто подсматривала за тобой последнее время… Вчера вечером она заглянула в дверь и страшно испугала нас. Мы все сказали, что если у кого дурной глаз, то именно у неё. – Что ей нужно? – Она внизу и хочет говорить с тобой, госпожа. Я сама не боюсь ее, потому что на мне амулет. Наверное, и ты его носишь? – Глупая девушка! Те, кто, подобно мне, посвящен в таинства богов, презирают духов, потому что могут повелевать ими. Неужели ты думаешь, что любимица Афины Паллады унизится до волшебства? Пошли ее наверх… Девушка удалилась, бросив на свою госпожу боязливый взгляд. Вскоре она вернулась со старой Мириам, держась из предосторожности сзади. Мириам вошла, поклонившись до земли, и не спускала глаз с гордой красавицы, которая приняла ее сидя. Лицо еврейки было худощаво, а полные, резко очерченные губы носили отпечаток силы и чувственности. Но что мгновенно привлекло и приковало внимание Ипатии – это черные глаза старухи со странным сухим блеском. Окруженные густой каймой ресниц, они горели, выделяясь на фоне черных с проседью кудрей, покрытых золотыми монетами. Ипатия не могла оторваться от этих глаз. Она покраснела и даже рассердилась, когда заметила, что старуха смотрит на нее не отрываясь. После краткого молчания Мириам вытащила из-за пазухи письмо и передала его, еще раз низко поклонившись. – От кого это? – Быть может, само послание ответит прекрасной госпоже – счастливой, мудрой, ученой госпоже, – заговорила Мириам льстиво. – Может ли бедная старая еврейка знать тайны важных господ! – Важных господ? Ипатия взглянула на печать, скреплявшую шелковый шнурок, которым было обвито послание. Печать и почерк принадлежали Оресту. Странно, что он избрал такого посланного! Какова же была весть, требовавшая столь глубокой тайны? Ипатия хлопнула в ладоши, призывая рабыню. – Пусть эта женщина подождет в приемной! Мириам пошла, низко кланяясь и направляясь к дверям. Но когда Ипатия подняла глаза, чтобы убедиться, одна ли она, она снова встретила упорно устремленный на нее взгляд и уловила в нем выражение, заставившее ее похолодеть и содрогнуться. Оставшись, наконец, одна, она прошептала: – О как я безрассудна! Что мне за дело до этой колдуньи? Лучше взглянем на письмо. «Благороднейшей, прекраснейшей представительнице философии, любимице Афины, шлет привет ее ученик и раб». – Мой раб! Он не называет своего имени! «Есть люди, которые полагают, что любимая курочка Гонория[49], носящая имя столицы, будет жить лучше под властью нового хозяина. Наместник Африки, по собственному желанию и по воле бессмертных богов, намеревается теперь присматривать за птичником цезарей,– по крайней мере на время отсутствия Адольфа и Плацидии[50]. Некоторые же думают, что тем временем удастся убедить нумидийского льва[51] взять себе в спутники нильского крокодила. Земли, которые войдут в состав владений этой четы, вероятно, будут простираться от верхних водопадов до столбов Геркулеса и представят некоторую прелесть даже для философа. Но новая Аркадия[52] останется незавершенной, пока земледелец будет лишен своей нимфы[53]. Чем был бы Дионис[54] без Ариадны[55], Арес[56] без Афродиты, Зевс[57] без Геры[58]? Даже Артемида[59] имела своего Энидимиона. Одна лишь Афина осталась без супруга, и то лишь потому, что Гефест[60] казался слишком грубым претендентом. Но тот, кто дает представительнице Афины возможность разделить с ним нечто, достижимое при содействии ее мудрости и немыслимое без нее, не таков... Неужели Эрос, от века непобедимый, не сможет овладеть благороднейшей добычей, в которую когда-либо метили его стрелы?» На щеки Ипатии, побледневшие от взгляда старой еврейки возвращался румянец, по мере того как она пробегала глазами это странное послание. Наконец, он встала и, сложив письмо, поспешила в смежные комнаты, где сидел Теон над своими книгами. – Отец, известно ли тебе что-либо об этом? Посмотри, что Орест посмел мне прислать через эту противную еврейскую колдунью. И она нетерпеливо развернула перед ним письмо, Дрожа от гнева и оскорбленной гордости. Старик прочел медленно и внимательно, а затем взглянул на дочь, очевидно не очень оскорбленный содержанием послания. – Как, отец! – воскликнула Ипатия с упреком. – Неужели ты не понимаешь, какое оскорбление нанесено твоей дочери? – Мое дорогое дитя, – возразил он в смущении, – разве ты не видишь, что он тебе предлагает? – Я понимаю, отец. Владычество над Африкой. Он предлагает покинуть горные высоты науки, оторваться от созерцания необъяснимого великолепия и спуститься в грязные равнины и долины земной практической жизни. Стать рабыней, погрязнуть в борьбе политических интриг и мелочного честолюбия, в грехах и обманах смертного человечества… А в награду он предлагает мне, целомудренной и неуязвимой, свою руку… – Но, дочь моя, дитя мое, – целое государство… – Даже власть над всем миром не вознаградит меня за утрату самоуважения и законной гордости. Стать собственностью, игрушкой мужчины, предметом его похоти, рожать ему детей, терзаться отвратительными заботами жены и матери… Долгие годы искал он моего общества для того, чтобы употребить их для эгоистических, земных целей! Я была тщеславна, я слишком ему потакала! Нет, я несправедлива к себе. Я только думала и надеялась, что дело бессмертных богов возвеличится и окрепнет в глазах толпы, если Ореста будут видеть у нас… Я пыталась поддерживать небесный огонь земным топливом – и вот справедливая кара! Я ему немедленно напишу и пошлю письмо с тем самым посланцем, которого он ко мне направил! – Во имя богов, дочь моя! Заклинаю тебя ради твоего отца, ради тебя самой! Ипатия! Моя гордость, моя радость, моя единственная надежда! Сжалься надо мной. Бедный старик бросился к ногам дочери и с мольбой обнял ее колени. Ипатия нежно приподняла и обняла его. Ее слезы падали на голову старика, но лицо выражало непреклонную решимость. – Подумай о моей гордости, о моей славе, которая заключается в твоей славе, – вспомни обо мне – не ради меня! Ты знаешь, я никогда не думал о себе! – рыдал Теон. – Я готов умереть, но перед смертью желал бы видеть тебя императрицей! – А если я умру во время родов, как умирает столько женщин? – А-а, – начал старик, стараясь придумать довод, способный убедить прекрасную фанатичку, – а дело богов? Сколько бы ты могла совершить, – вспомни Юлиана! Руки Ипатии внезапно опустились. Да, верно. Эта мысль поразила ее душу, наполняя ее восторгом и ужасом… Видения детства восстали перед ней. Храмы… жертвоприношения… священнослужители… коллегии и музеи! Чего только не удастся ей совершить! Что бы она сделала из Африки! Десять лет власти – и ненавистная религия христиан будет предана забвению, а исполинское изваяние Афины Паллады из слоновой кости и золота осенит гавани языческой Александрии… Но какой ценой. Она закрыла лицо руками и, разразившись слезами, медленно вернулась в свою комнату. Старик робко последовал за ней. Он остановился на пороге и от всего сердца молил богов, демонов и прочих духов, чтобы они изменили решение, которое рассудок его не мог одобрить, но которому по слабости своей он не смог бы воспротивиться. Борьба завершилась и красавица выглядела опять ясной, спокойной и гордой. – Это должно совершиться ради бессмертных богов, в интересах искусства, науки и философии. Так и будет! Если боги требуют жертвы, я готова ее принести. И она села писать ответ. – Я приняла предложение Ореста с некоторыми условиями, – сказала она отцу, – но все зависит от того, хватит ли у него мужества исполнить их. Не спрашивай, каковы мои требования. Пока Кирилл еще остается вожаком христианской черни, тебе лучше всего отрицать всякое отношение к этому делу. Можешь быть доволен: я ему сказала, что если он поступит так, как я желаю, я сделаю то, чего он от меня ждет. – Не была ли ты слишком опрометчива, дочь моя? Не потребовала ли ты от него то, чего он не смеет сделать из боязни общественного мнения? – Если мне суждено стать жертвой, то жрец, приносящий меня в жертву, должен быть мужчиной, а не трусом, не лукавым льстецом! Если он действительно предан христианству, то пусть защищает его от меня, ибо должны погибнуть или христианство, или я. Если же он не верит в Христа – а я знаю, что он не верит, – то пусть откажется от лицемерия и перестанет поносить бессмертных богов, ибо это противно его сердцу и разуму. Она позвала служанку и молча передала ей письмо, Заперла дверь комнаты и попробовала снова приняться за комментарии к Платону[61]. Но что значили все грезы метафизики в сравнении с действительной пыткой человеческого сердца? Где связь между чистым верховным разумом и отвратительными ласками развратного трусливого Ореста? Нет, Ипатия не хочет, она воспротивится подобно Прометею, она не покорится судьбе, а отважно вступит с ней в борьбу! Красавица вскочила, чтобы потребовать письмо назад. Но Мириам уже ушла, и, в отчаянии бросившись на постель, Ипатия залилась слезами. Ее настроение, конечно, не стало бы радостнее, если бы она увидела, как старая Мириам торопливо вошла в грязный дом еврейского квартала, вскрыла письмо, прочла и потом снова запечатала его с такой удивительной ловкостью, что никто не мог бы заподозрить ее в нескромности. Столь же мало утешительно было бы для Ипатии подслушать беседу, происходившую в летнем дворце Ореста между этим блестящим государственным мужем и Рафаэлем Эбен-Эзра. Они лежали на диванах друг против друга и забавлялись игрой в кости, чтобы убить время в ожидании ответа Ипатии. – Опять у тебя три очка! Тебе помогает нечистая сила, Рафаэль! – Я в этом уверен, – сказал тот, загребая золото. – Когда же, наконец, вернется старая колдунья? – Как только прочтет твое письмо и ответ Ипатии… А вот и Мириам, – я слышу ее шаги в приемной. Давай, побьемся об заклад, прежде чем она войдет. Я держу два против одного, что Ипатия потребует от тебя возвращения к язычеству. – А что поставим на заклад? Негритянских мальчиков? – Что тебе угодно. – Согласен. Сюда, рабы! С недовольным видом вошел мальчик. – Еврейка стоит там с письмом и нагло отказывается передать его мне. – Так пусть она сама его принесет. – Не знаю, к чему я в доме, если есть тайны, которые от меня скрывают, – ворчал мальчик. – Не желаешь ли ты, чтобы я украсил синяками твоя белые ребра, обезьяна? – заметил Орест. – Если так, то там вон висит наготове кнут из бегемотовой кожи. Но вот и Мириам с ответом! Подай-ка письмо сюда, царица сводниц. Орест начал читать, и его лицо омрачилось. – Ну, что же, выиграл я? – Вон из комнаты, рабы, и не смейте подслушивать! – Так, значит, я действительно выиграл? Орест подал приятелю письмо, и Рафаэль прочел: «Бессмертные боги требуют нераздельного почитания, тот, кто желает пользоваться внушениями их пророчиц, должен принять к сведению, что они ниспошлют своим слугам вдохновение свыше лишь тогда, когда будут восстановлены их утраченные права и погибший культ. Если тот, кто намеревается стать властителем Африки, осмелится втоптать в грязь ненавистный крест, то он должен возвратить верховную власть олимпийцам, для прославления которых возникла империя и окрепла власть цезарей. Если он публично, словом и делом, выразит свое презрение к новому варварскому суеверию, то я сочту высшей для себя славой разделить с подобным человеком труды, опасности, даже смерть. А до тех пор…» На этом месте письмо прерывалось. – Что мне делать? – Согласиться. – Великий Боже! Тогда меня отлучат от церкви. Что станет с моей бедной душой? – То, что ее ожидает во всяком случае, мой повелитель! – ласково возразил Рафаэль. – Но меня назовут отступником. И это – перед лицом Кирилла и всего народа. Говорю тебе, – я не могу на это отважиться. – Никто от тебя не требует отступничества, благородный префект. – Как? А что же ты сам только что говорил? – Я посоветовал только соглашаться на все. Перед браком дают не мало обещаний, которым никогда не суждено осуществиться. – Я не смею, я не хочу обещать. Я подозреваю, что тут какая-то западня, расставленная вами, еврейскими интригами. Вам нужно, чтобы я опозорил себя перед христианами, которых вы ненавидите. – Уверяю тебя, я слишком глубоко презираю людей, чтобы ненавидеть их. Но тебе, право, следует принести небольшую жертву, чтобы овладеть этой своенравной девушкой. При помощи ее глубокого и смелого духа ты мог бы справиться и с римлянами, и с византийцами, и с готами, если бы она пожелала использовать их для твоих целей. А что касается красоты, то одна ямочка у кисти ее маленькой прелестной ручки стоит всех красавиц Александрии. – Клянусь Юпитером! Ты так ею восторгаешься, что я начинаю подозревать, не влюблен ли ты сам в нее. Почему бы тебе не жениться на ней? Я бы сделал тебя первым министром, и мы могли бы пользоваться ее мудростью, не страдая от ее капризов. Рафаэль встал и поклонился до земли. – Милость знатного префекта подавляет меня, до сих пор я заботился только о собственном благе, и трудно представить, что в настоящее время я посвящу себя чужим интересам, хотя бы и твоим. Кроме того, как с практической, так и с теоретической точки зрения, женщина, на которой я когда-либо женюсь, будет моей частной собственностью. Ты меня понимаешь? – Довольно откровенно с твоей стороны! – Конечно, но мы упустили из виду третий пункт, а именно, что она, вероятно, не согласится выйти за меня замуж. – Клянусь Юпитером, она меня отвергла всерьез! Она раскается в этом. Глупо было делать ей предложение. К чему телохранители, если не можешь взять силой то, чего добиваешься? Если кроткие меры недействительны, – помогут строгие. Я немедленно велю доставить ее сюда. – Благородный повелитель, это ни к чему не приведет. Разве тебе не знакома непреклонная твердость этой женщины? Ни бичевание, ни истязание раскаленными клещами не поколеблют ее решительности при жизни. Мертвая же она совершенно бесполезна для тебя, но не бесполезна для Кирилла… – В каком смысле? – Он с радостью ухватится за эту историю, как оружие против тебя. Он заявит, что она умерла целомудренной мученицей во славу вселенской апостольской веры, подстроит чудеса над ее прахом и, опираясь на эти знамения, сравняет с землей твой дворец. – Так или иначе, Кирилл узнает обо всем, – и это второе затруднение, в которое ты, пронырливый интриган, вовлек меня. Ипатия оповестит всю Александрию, что я искал ее руки, а она отказала мне. – Положись на меня. Как бы ни грезила наша красавица о заоблачных сферах, престол сам по себе – настолько заманчивая вещь, что даже пифия[62] Ипатия не откажется от него. На прощание побьемся еще раз об заклад: держу три против одного. Не предпринимай ничего ни в том, ни в другом направлении, и не пройдет месяца, она сама пришлет тебе письмо. Поставим кавказских мулов? Хочешь? Решено! И Рафаэль, низко поклонившись, покинул комнату. Выходя из дворца, он заметил на другой стороне улицы Мириам, которая, очевидно, поджидала его. Но, увидев его она спокойно пошла дальше, как бы вовсе не желая с ним говорить. Завернув за угол, Рафаэль остановил ее, и она порывисто схватила его за руку. – Дурак решился? – Кто решился и на что? – Ты знаешь, о чем я говорю! Неужели ты думаешь, что Мириам способна передавать письма, не ознакомившись с их содержанием? Отречется ли он от христианства? Скажи мне. Я буду нема, как могила! – Дуралей нашел в каком-то закоулке своего сердца старый изъеденный крысами клочок совести – и не решается. – Проклятый трус! У меня сложился такой великолепный план заговора! В течение года я бы вышвырнула всех христианских собак из Африки. Чего опасается этот человек? – Адского огня. – Он и без того не избежит его, поганый язычник! – Я ему на это намекнул, по возможности деликатно и осторожно, но, подобно остальному человечеству, он предпочитает отправиться в преисподнюю собственной дорогой. – Трус! Кого мне взять теперь? О, если бы во всем теле Пелагии было столько ума, сколько в мизинце Ипатии, то я бы посадила ее на трон цезарей вместе с ее готом. – Она, без сомнения, самая знаменитая из твоих питомиц. Ты, мать, вправе гордиться ею. Старуха слегка усмехнулась и быстро повернулась к Рафаэлю: – Посмотри, у меня есть подарок для тебя, – сказала она, вытаскивая роскошное кольцо. – Но, мать, ты постоянно делаешь дорогие подарки. Всего месяц тому назад ты прислала мне этот отравлений кинжал. – Почему бы и нет? Возьми кольцо от старухи. – Какой чудесный опал! – Да, это настоящий опал. На нем начертано непроизносимое имя божие, – точь-в-точь как на кольце Соломона. Возьми его, говорю тебе. Тому, кто его носит нечего бояться огня и стали, яда и женских очей. – Включая даже твои? – Возьми, говорю тебе! – Мириам силой надела кольцо на его палец. – Вот оно тут. Теперь ты в безопасности. Не смейся! Прошлой ночью я составляла твой гороскоп[63] и знаю, что тебе сейчас не до смеха. Тебе угрожает великая опасность и великое искушение. Когда же ты пройдешь через это испытание, ты сможешь стать ближайшим советником цезаря, первым министром или даже императором. И ты будешь им, клянусь четырьмя архангелами! И старуха скрылась в боковом переулке, оставив Рафаэля в полнейшем недоумении. Глава V ДЕНЬ В АЛЕКСАНДРИИ Пока происходили все эти события, Филимон плыл вниз по течению реки с приютившими его готами. Перед ними мелькали древние города, превратившиеся в развалины. Наконец они вошли в устье большого александрийского канала и, проплыв всю ночь по озеру Мареотис, к рассвету очутились среди несчетных мачт, возле шумных набережных одной из величайших гаваней мира. Пестрая толпа чужеземцев, гул наречий всех народов, от Тавриды до Кадикса, высоко громоздившиеся склады товаров, огромные груды пшеницы, сваленной под открытым небом, не знавшим дождя, суда, могучие корпуса которых вздымались ярусами и напоминали плавучие дворцы, – вся эта оживленная картина навела молодого монаха на мысль, что мир не так ничтожен, как он думал. Перед большими грудами плодов, только что подвезенных базарными лодками, грелись на солнце группы негритянских рабов, которые, болтая и смеясь, с тревогой и нетерпением высматривали покупателей. Филимон отвернулся, не желая смотреть на мирскую суету, но всюду, куда ни обращались его глаза, он видел ее в самых разнообразных проявлениях. Он изнемогал от массы новых впечатлений, его оглушал шум, и он едва овладел собою настолько, чтобы воспользоваться первой возможностью и постараться ускользнуть от своих опасных спутников. – Эй, – заревел оружейный мастер Смид, когда Филимон начал подниматься по лестнице пристани. – Ты никак задумал сбежать, даже не попрощавшись с нами? – Оставайся со мной, парень, – сказал старый Вольф. – Я тебе спас жизнь, и ты принадлежишь мне. Филимон с некоторым колебанием повернулся к нему. – Я монах и слуга божий. – Им ты можешь остаться везде. Я хочу сделать из тебя воина. – Оружие мое – не плотские вещи, а молитва и пост – возразил бедный Филимон, чувствуя, что это средство самообороны в Александрии нужнее, чем где-либо в пустыне. – Пустите меня, я не создан для вашей жизни. Я благодарю и благословляю вас. Я буду молиться за тебя, мой повелитель, но отпусти меня. – Проклятие трусливому псу! – завопило с полдюжины голосов. – Почему ты не дал нам волю, викинг Вульф? От монаха иного нечего было и ждать. – Он не дал мне позабавиться, – воскликнул Смид, – но я своего не упущу! Топор, брошенный искусной рукой, полетел в голову Филимона. Монах едва успел уклониться от удара, и тяжелое орудие разбилось о гранитную стену позади него. – Ловко увернулся, – холодно заметил Вульф. Матросы и торговцы закричали: «убивают!», а таможенные чиновники, надзиратели и сторожа гавани сбежались со всех сторон. Но все они спокойно разошлись по местам, когда раздался громовой голос амалийца, стоящего у руля: – Ничего не случилось, ребята! Мы только готы и едем к наместнику. – Мы только готы, мои милые ослиные погонщики! – повторил Смид. При этом грозном слове чиновники поспешили удалиться, стараясь сохранить равнодушие и всем своим видом показывая, что их присутствие необходимо как раз на противоположном конце гавани. – Отпустите его, – сказал Вульф, поднимаясь по лестнице. – Отпустите юношу. Всякий человек, к которому я чувствовал расположение, впоследствии меня обманывал, и от этого малого я не вправе ожидать чего-либо иного, – пробормотал он про себя. – Пойдемте, товарищи, выходите на берег и напейтесь как следует. Так как Филимону было разрешено удалиться, то он, конечно, пожелал остаться. Во всяком случае ему следовало вернуться, чтобы поблагодарить варваров за оказанное гостеприимство. Обернувшись, он увидел, что Пелагия садилась на носилки вместе со своим возлюбленным. С опущенными глазами приблизился он к прекрасному созданию и пролепетал несколько слов признательности. Пелагия приветствовала его ласковой улыбкой. – Перед разлукой расскажи мне побольше о себе. Ты говоришь на прекрасном чистейшем афинском наречии. Ах, что за счастье опять слышать свой родной язык! Бывал ли ты в Афинах? – Малым ребенком, – я помню, то есть мне кажется, что помню… – Что? – быстро спросила Пелагия. – Большой дом в Афинах, битву и потом долгое путешествие на корабле, доставившем меня в Египет. – Милосердные боги! – воскликнула Пелагия и умолкла на мгновение. – Девушки, вы говорили, что он на меня похож? – Мы ничего плохого не имели в виду, когда в шутку заметили это, – сказала одна из ее спутниц. – Ты похож на меня! Ты должен навестить нас, мне нужно тебе сказать… Приходи непременно! Филимон, ложно истолковав ее интерес к нему, правда, не отпрянул, но ясно проявил нерешительность. Пелагия громко рассмеялась. – Глупый юноша, не будь таким тщеславным, не питай подозрений и приходи. Не думаешь же ты, что я всегда болтаю только глупости? Посети меня, быть может, это окажется полезным для тебя. Я живу в… Она назвала одну из самых роскошных улиц. Филимон в душе дал обет никогда не воспользоваться ее приглашением. – Брось этого дикаря и иди! – ворчал амалиец, сидя в носилках. – Ты, надеюсь, не собираешься идти в монахини? – Нет, пока еще жив единственный мужчина, которого я встретила на земле, – возразила Пелагия и, быстро взбираясь на носилки, обнажила прелестную пятку и очаровательную щиколотку. Это была как бы последняя стрела, пущенная наудачу. Но в Филимона стрела не попала. Толпа смеющихся пешеходов увлекла его вперед. Довольный, что избавился от опасной собеседницы, молодой монах решил узнать, где живет патриарх. – Дом патриарха? – переспросил маленький, худощавый, черноватый малый, с веселыми, темными глазами, к которому он обратился. Поставив перед собою корзину с плодами, он сидел на деревянном обрубке и разглядывал иноземцев с выражением пронырливого, простоватого лукавства. – Я знаю его дом, ибо дом этот знает вся Александрия. Ты монах? – Да. – Так спроси монахов. Ты и шага не сделаешь, как встретишь кого-нибудь из них. – Но я не знаю даже в какую сторону идти. А ты разве не любишь монахов, добрый человек? – Видишь, юноша, мне кажется, ты слишком хорош для монаха. Я – грек и философ, хотя, к несчастью, водоворот событий бросил искру божественного эфира в тело носильщика. Поэтому, юноша, я питаю троякую вражду к монашеству. Во-первых, как мужчина и супруг. Ведь если бы монахам дать волю, они не оставили бы на земле ни мужчин, ни женщин, и сразу погубили бы людской род проповедью добровольного самоубийства. Во-вторых, как носильщик, – если бы все мужчины стали монахами, то не было бы бездельников и моя должность упразднилась бы сама собой. В-третьих, как философ. Как фальшивая монета внушает отвращение честным людям, так и нелепый, дикий аскетизм отшельника претит логическому, последовательному мышлению человека, который, подобно мне, скромному философу, хочет устроить свою жизнь на разумных началах. – А кто, – спросил Филимон, улыбнувшись, – кто был твоим наставником по части философии? – Источник классической мудрости – сама Ипатия. Некий древний мудрец ночью качал воду, чтобы иметь возможность учиться днем, а я храню плащи и зонты, чтобы упиваться божественным знанием у священных врат ее аудитории. Но все-таки я укажу тебе дорогу к архиепископу. Философу приятно поверять скромной юности сокровища своего ума. Быть может, ты поможешь мне отнести эту корзину с фруктами? Маленький человек привстал и, поставив корзину на голову Филимона, направился в одну из ближайших улиц. Филимон последовал за ним, не то с презрением, не то с любопытством спрашивая себя, какова же та философия, которая поддерживала самомнение этого жалкого, оборванного, маленького обезьяноподобного существа. Миновав ворота Луны, они шли около мили по большой широкой улице, которая пересекалась под прямым углом другой, столь же прекрасной. Вдали на обоих концах этой последней неясно обозначались желтые песчаные холмы пустыни, а прямо перед путниками сверкала голубая гавань сквозь сеть бесчисленных мачт. Наконец они достигли набережной, в которую упиралась улица, и перед изумленными взорами Филимона широким полукругом развернулось синее море, окаймленное дворцами и башнями. Он невольно остановился, а вместе с ним и его маленький спутник, с любопытством следивший за впечатлением, которое произвела на монаха эта грандиозная панорама. – Вот, смотри, это все творение наших рук! Это сделали мы, греки, темные язычники. Разве христиане там, на левой излучине, построили этот маяк, чудо мира? Разве христиане возвели каменный мол, который тянется на расстоянии многих миль? А кто создал эту площадь и выстроил вот эти ворота Солнца? Или Цесареум по правую руку? Обрати внимание на два обелиска перед ним! И он указал на два знаменитых обелиска, один из которых известен под именем иглы Клеопатры. – Говорю тебе, смотри и убеждайся, как ничтожен, как страшно ничтожен ты на самом деле! Отвечай, потомок летучих мышей и кротов, ты, шестипудовая земляная глыба, ты, мумия скалистых пещер, – могут ли монахи произвести нечто подобное? – Мы продолжаем работу наших предшественников, – возразил Филимон, пытаясь сохранить безучастный и бесстрастный вид. Он был слишком удивлен, чтобы сердиться на выходки своего спутника. Его подавлял необъятный простор, блеск и величие зрелища, ряд великолепных зданий, каких, быть может, никогда, ни раньше, ни позже, земля не носила на своей поверхности. Среди необычайного разнообразия форм можно было видеть и чистые дорические[64] постройки первых птолемеев, и причудливую варварскую роскошь позднейших римских зданий, и подражания величественному стилю Древнего Египта, пестрый колорит которого смягчал простоту и массивность очертаний. Покой этого громадного каменного пояса составлял разительный контраст с неуемной суетой гавани. Высокие паруса кораблей, отодвинувшись далеко в море, походили на белых голубей, исчезающих в беспредельной лазури. Это зрелище смущало, угнетало и наполняло неопределенным тоскливым чувством сердце молодого монаха. Наконец, Филимон вспомнил о данном поручении и вторично спросил о дороге к дому архиепископа. – Вот дорога, молокосос, – сказал маленький человечек, огибая с Филимоном большой фронтон Цесареума. Взор молодого монаха случайно упал на новую лепную работу над воротами, украшенными христианскими символами. – Как? Это церковь? – Это Цесареум. Временно он стал церковью. Бессмертные боги на короткий срок позволили поступиться своими правами, но тем не менее здание остается по-прежнему Цесареумом. Вот, – сказал он, указывая на дверь с боковой стороны музея, – здесь последнее убежище муз – аудитория Ипатии, школа, где мы все учимся. А тут, – он остановился перед воротами прекрасного дома, находившегося напротив, – место жительства благословенной любимицы Афины. Теперь ты можешь опустить корзину. Проводник постучал в двери, сдал плоды чернокожему привратнику, вежливо поклонился Филимону и, по-видимому, намеревался удалиться. – А где же дом архиепископа? – У самого Серапеума[65]. Ты не ошибаешься. Четыреста мраморных колонн, разрушенных христианскими гонителями, стоят на возвышении… – Далеко ли это отсюда? – Около трех миль, у ворот Луны. – Как? Значит это те самые ворота, через которые мы вошли в город? – Те самые, ты не заблудишься, потому что уже раз прошел со мной весь этот путь. Филимону захотелось схватить за горло бессовестного болтуна и разбить его голову об стену. Хотя он и подавил это желание, но не мог удержаться, чтобы не сказать: – Итак, негодяй, язычник, ты заставил меня попусту прогуляться шесть или семь миль? – Точно так, молодой человек. Если ты вздумаешь меня обидеть, то я позову на помощь: рядом – еврейский квартал, и оттуда, словно осы из гнезда, немедленно высыпят тысячи людей, чтобы убить монаха при столь удобном случае. Но я действовал с самыми благими намерениями: во-первых, по указаниям практической мудрости, – чтобы корзину пришлось нести не мне, а тебе; во-вторых, из высших философских соображений, – чтобы, пораженный величием нашей славной цивилизации, которую хотят уничтожить твои братья, ты понял, какой ты осел, черепаха, бесформенное ничто! Если же ты познал свое ничтожество то постарайся стать хоть чем-нибудь! – Ты пойдешь со мной и будешь указывать мне дорогу. Если ты согласен, – все обойдется мирно, в противном же случае я силой заставлю тебя повиноваться. Это справедливая кара за твой поступок. – Философ преодолевает препятствия, подчиняясь им. Я стою за миролюбие и за все его блага. Итак, они вместе отправились обратно. Пройдя около полумили рядом с носильщиком, Филимон внезапно спросил его: – А кто эта Ипатия, о которой ты столько рассказываешь? – Кто Ипатия? О, что за невежество! Она царица Александрии. По уму – Афина, по величавости – Гера, по красоте – Афродита. – А кто они? Носильщик остановился, медленно смерил его с головы до ног презрительным взглядом и с выражением безграничной жалости хотел было уйти. Но сильная рука Филимона удержала его. – Ах… понимаю… Кто Афина? Богиня, дарующая мудрость, Гера – супруга Зевса, царица небожителей; Афродита – мать любви… Впрочем, я не надеюсь, что ты постигнешь мои слова. Филимон, однако, понял, что Ипатия в глазах его маленького проводника была весьма выдающейся и удивительной личностью, и предложил новый вопрос, чтобы таким образом несколько уяснить себе это чудо Александрии. – Она дружит с патриархом? Привратник вытаращил глаза и, шутливо глядя на юношу, стал проделывать какие-то таинственные знаки, смысл которых, впрочем, был совершенно неясен Филимону. Маленький человек остановился, еще раз посмотрел на статную фигуру Филимона и, наконец, произнес: – Она – друг всего человечества, мой юный спутник. Философ должен возноситься над отдельными личностями, дабы созерцать целое. А вот здесь есть на что посмотреть, и ворота открыты. И он подошел к фасаду большого здания. – Это дом патриарха? – У патриарха более плебейский вкус. Он живет, как рассказывают люди, в двух грязных, маленьких каморках, ибо знает, что ему неприлично роскошествовать. Дом патриарха? Нет, это храм искусств и красоты, дельфийский треножник[66] поэтического вдохновения, утешение рабов, изнемогающих под земным гнетом, одним словом, театр, который твой патриарх, имей он возможность, завтра же превратил бы… Но философ не должен браниться. Ах, я вижу телохранителей наместника у ворот. Значит, он сейчас отдает распоряжения. Войдем и послушаем. Прежде чем Филимон успел отказаться, внутри здания поднялась страшная суматоха, а затем заволновался народ, стоявший на улице. – Это неправда! – раздавались голоса. – Еврейская клевета! Этот человек невиновен! – Он так же совсем не думает о бунте, как и я, – ревел жирный мясник, который, по-видимому, с одинаковой легкостью мог сразить и человека, и быка. – Во время проповедей святого патриарха он первым начинает хлопать в ладоши и последним заканчивает. – Добрая, кроткая душа! – причитала женщина. – Еще сегодня утром говорила я ему: – почему ты не бьешь моих мальчишек, господин Гиеракс? Станут ли они учиться, если не бить их? А он ответил, что не терпит розог – от одного их вида у него бегут мурашки по спине. – Очевидно, это было пророчество! – Это-то и доказывает его невиновность. Как бы он мог прорицать, не будучи святым? – Монахи, на помощь! Гиеракс, христианин, схвачен и подвергнут пытке в театре! – закричал какой-то пустынник. Волосы и борода ниспадали ему на грудь и плечи. – Нитрия! Нитрия! За Бога и Богоматерь, монахи Нитрии! Долой еврейских клеветников! Долой языческих тиранов! И толпа бросилась вниз по сводчатому проходу, увлекая за собой носильщика и Филимона. – Друзья мои, – начал маленький человечек, пытаясь сохранить спокойствие философа, хотя не мог более стоять на ногах и, стиснутый локтями двух зрителей, висел в воздухе, – что означает этот шум? – Евреи распустили слух, что Гиеракс готовит восстание. Да будут они прокляты со своей субботой! – Поэтому они затевают волнения по воскресеньям. Гм… это борьба партий, которую философ… Говоривший замолчал; толпа расступилась, он упал на землю, где его тут же стали топтать бесчисленные ноги бегущих. Услышав о преследованиях и доведенный до неистовства криками, Филимон смело бросился сквозь толпу и вскоре достиг больших ворот с железными решетками преграждавшими путь. Отсюда молодой монах мог беспрепятственно следить за трагедией, разыгравшейся внутри здания, где невинный страдалец, подвешенный на дыбе, извивался и громко вскрикивал при каждом взмахе ременного кнута. Филимон тщетно стучал и колотил в ворота вместе с отступившими его монахами. Им отвечал лишь хохот телохранителей, находившихся внутри двора. Они громко проклинали мятежное население Александрии с его патриархом, духовенством, святыми и церквями и грозили, что доберутся до каждого из тех, кто тут стоит. Между тем отчаянные вопли пытаемого постепенно ослабевали и, наконец, вслед за последним судорожным криком жизнь и страдание навеки прекратились в этом жалком истерзанном теле. – Они его убили! Они сделали его мучеником! Назад, к архиепископу! К дому патриарха! Он отомстит за нас! Страшная весть дошла до народа, теснившегося на площади, и вся толпа повалила по улицам к жилищу Кирилла. Филимон следовал за ней, вне себя от ужаса, ярости и жалости. Среди тревоги и суматохи он провел часа два перед домом патриарха, прежде чем был допущен к последнему. Вместе с плотно сжавшей его толпой он попал в низкий темный проход и, наконец, едва переводя дыхание, очутился во внутреннем дворе четырехугольного невзрачного здания, над которым возвышалось четыреста колонн разрушенного Серапеума. Разбитые капители и арки величественного сооружения уже стали зарастать травой. Наконец, Филимону удалось выбраться из тесноты и вручить хранившееся на груди письмо одному из священников. Последний провел его через коридор и несколько лестниц в большую, низкую, простую комнату. Ждать Филимону пришлось не более пяти минут. Вскоре его допустили к самому могущественному человеку на южном побережье Средиземного моря. Тяжелый занавес скрывал дверь в смежную комнату, но юноша отчетливо слышал шаги человека, быстро и гневно ходившего взад и вперед. – Они доведут меня до этого! – воскликнул, наконец, ломкий благозвучный голос. – Они меня доведут до этого. Да падет их кровь на их собственные головы! Мало им поносить Бога и церковь, повсюду расставлять сети всяческих обманов, колдовства и ростовщичества, угадывать будущее, делать фальшивые деньги, – нет, они смеют еще передавать духовенство в руки тирана! – Так было и во времена апостолов, – вставил более мягкий, но гораздо менее приятный голос. – Ну, а больше так не будет! – Бог даровал мне власть, чтобы обуздать их, и да покарает он меня так же, или еще суровее, если я не воспользуюсь своей силой. Завтра я очищу эти Авгиевы конюшни[67], полные гнусностей, и в Александрии не останется ни одного еврея, и некому будет кощунствовать и обманывать людей. – Боюсь, как бы такой самосуд, как бы он ни был справедлив, не оскорбил высокопоставленного префекта! – Высокопоставленного префекта, – скажи лучше тирана! Почему Орест пресмыкается перед евреями? Только из-за денег, которые они дают ему взаймы. Он с удовольствием приютил бы в Александрии тысячи чертей, если бы они оказывали ему подобные же услуги. Он натравливает их на мою паству, унижает достоинство религии, а возбужденный им народ поднимается в рукопашную и доходит до насилий вроде сегодняшнего! Говорят, это мятеж! Да разве народ не призывают к мятежу? Чем скорее я устраню один из поводов для мятежа, тем лучше. Пусть поостережется и сам искуситель: его час тоже близок. – Ты имеешь в виду префекта? Деспот, убийца, угнетатель бедняков, покровитель философии, презирающей и порабощающей неимущих… Не заслуживает ли такой человек наказания, будь он трижды префектом? Филимон понял, что он, должно быть, уже слишком много слышал, и легким шорохом дал знать о своем присутствии. Секретарь быстро откинул занавес и несколько резко спросил, что ему надо. Имена Памвы и Арсения несколько смягчили его, и трепещущий юноша был представлен тому, кто фантастически занимал престол фараонов. Обстановка комнаты была крайне скромна и мало отличалась от жилища ремесленника. Грубая одежда великого человека поражала простотой, забота о внешности сказывалась лишь в тщательно расчесанной бороде и локонах, уцелевших от тонзуры. Высокий рост и величественная осанка, строгие, красивые и массивные черты лица, блестящие глаза, крупные губы и выдающийся вперед лоб – все обличал в нем человека, рожденного для власти. Кирилл окинув юношу взглядом, от которого щеки Филимона стали пунцовыми. Затем архиепископ взял письмо, пробежал его глазами и сказал: – Филимон. Грек. Пишут, что ты научился повиновению. Если так, то сумеешь и повелевать. Настоятель, твой отец, поручает тебя моему попечению. Теперь ты должен повиноваться мне. – Я готов. – Хорошо сказано. Так, ступай к окну и прыгни во двор. Филимон подошел к окну и открыл его. До мощеного двора было не менее двадцати футов, но Филимон обязан был подчиняться, а не измерять высоту. На подоконнике в вазе стояли цветы; он совершенно спокойно отодвинул их и в следующее мгновение соскочил бы, если бы Кирилл не крикнул ему громовым голосом: «Стой!» – Юноша нам подходит, Петр! Я теперь не боюсь, что он выдаст тайны, которые, быть может, слышал. Петр одобрительно улыбнулся, хотя в выражении его лица сквозило сожаление, что молодой человек не сломал себе шею и не лишил себя возможности выдать их секрет. – Ты хочешь увидеть мир? Сегодня ты уже наверное немножко посмотрел на него. – Я видел убийство… – Так, значит, ты видел то, что хотел видеть, – таков свет и таковы справедливость и милосердие, которые присущи ему. Ты, вероятно, не прочь посмотреть, как карает Господь людскую злобу. По твоим глазам я вижу, что и сам ты охотно станешь орудием божиим в этом деле. – Я бы хотел отомстить за этого человека. – Да, да, он погиб, бедный простак-учитель! Его судьба кажется тебе верхом земных ужасов. Подожди немного и, проникнув вместе с пророком Иезекиилем[68] в сокровенные тайники сатанинского капища, ты увидишь там худшее: женщин, оплакивающих Таммуза, сетующих об упадке идолопоклонства, в которое сами более не верят… Да, Петр, в этой области нам тоже придется свершить один из Геркулесовых подвигов. В эту минуту вошел монах. – По приказанию вашего святейшества раввины проклятого народа ожидают внизу. Мы провели их через задние ворота, боясь, как бы… – Верно, верно! Если бы с ними что-нибудь случилось, могло бы погубить вас. Проведите их наверх. Возьми его с собой, Петр, и представь его параболанам. Под чье начало лучше всего отдать его? – Брату Теопомпию. Он очень кроток и умерен. Кирилл со смехом покачал головой. – Пройди в соседнюю комнату, сын мой… – Нет, Петр, отдай его под начальство какого-нибудь пламенного и святого человека, который его заставит трудиться до изнеможения и покажет ему все, что нужно, с лучшей и с худшей стороны. Клейтфон для этого более всего пригоден. Теперь посмотрим, что мне надо сделать. Для разговора с евреями мне достаточно пяти минут. Оресту не угодно было запугать их, – посмотрим, не удастся ли это Кириллу. Потом час для просмотра больничных счетов, час для школ, полчаса для разбора просьб о неотложной помощи, полчаса для себя лично, а потом богослужение… Проследи, чтобы юноша присутствовал на нем. Теперь впускай всех по очереди. Где евреи? Филимон отправился с параболанами и с отрядом приходских надзирателей. Вместе с ними он увидел темную сторону того мира, светлой частью которого была панорама гавани и города. Вблизи порта, величайшего в мире по вывозу продовольственных продуктов, среди грязи, нищеты, разврата, невежества и дикости умирали с голоду скученные массы старого греческого населения. Городская администрация не заботилась об их нуждах, и обездоленные бедняки порой заявляли о себе лишь отчаянными кровавыми мятежами. Тут-то среди них и для них работали днем и ночью приходские надзиратели. Филимон пошел с ними; он выдавал пищу и одежду нуждавшимся, отправлял больных в госпитали, хоронил усопших, очищал зараженные дома, – лихорадка никогда не прекращалась в этих жилищах, – и утешал умирающих. Филимон видел в этом труде только исполнение монашеского долга. Вернувшись, он бросился на складную кровать, стоявшую в одной из четырех келий, и через мгновение крепко заснул. Среди ночи юноша проснулся от торопливых шагов и громких криков, раздававшихся на улице; понемногу приходя в себя, он, наконец, явственно расслышал призыв: – Александровская церковь горит! На помощь, добрые христиане! Пожар! Спасайте! Филимон приподнялся на кровати и стал торопливо одеваться. Потом он быстро выскочил из кельи, чтобы узнать в чем дело от монахов, тревожно пробегавших по длинному коридору. – Да, Александровская церковь горит! – отвечали ему они, устремляясь вниз по лестницам, а дальше через двор на улицу, где высокая фигура Петра служила как бы сборным пунктом. Филимон подождал с минуту, а потом поспешил к своим товарищам. Это промедление спасло ему жизнь. Не прошло и нескольких секунд, как из тьмы выскочила какая-то мрачная фигура, длинный нож блеснул перед его глазами, и находившийся рядом священник со стоном упал на землю. Убийца бросился бежать вниз по улице, преследуемый монахами и параболанами. 1, 2, 3, 4, 5 |
|||||||