 |
|
Популярные авторы:: Эллисон Харлан :: Желязны Роджер :: Говард Роберт Ирвин :: Ломер Кит :: Лавкрафт Говард Филлипс :: Шукшин Василий Макарович :: Родари Джанни :: Ламур Луис :: Дойл Артур Конан :: Силверберг Роберт Популярные книги:: Справочник по реестру Windows XP :: Бурый волк :: Снежная страна :: Лопатка :: Последний коммунист :: Дунайский лоцман :: Птичка певчая :: Вирусы мозга :: Шотландский лев :: Иди и смотри |
ЛеонардоModernLib.Net / Космическая фантастика / Журавлева Валентина Николаевна / Леонардо - Чтение (Весь текст)
Валентина Журавлева Леонардо  Я разговорился с ним, когда в проигрывателе — шестой раз за вечер! — крутилась пластинка Канделаки. До этого мне как-то неудобно было подойти к нему — нас познакомили мельком. Но в шестой раз услышав песенку о Егорке, который никак не мог научиться ходить на лыжах, я не выдержал. Видимо, он тоже скучал. Когда я предложил ему папиросу, он охотно вышел со мной на балкон. Нужно было начать разговор, и я спросил первое, что пришло в голову: — Если не ошибаюсь, именинница — ваша сестра? Он ответил: — Да. Потом добавил: — Если не ошибаюсь, она — подруга вашей жены? Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. — Мероприятие, — сказал он. — Торжественное мероприятие. И мы с вами попали в почетный президиум… Он оказался интересным собеседником — образованным, остроумным. Высокий, полный, пожалуй, излишне полный для своих тридцати трех-тридцати пяти лет, с маленькой аккуратно подстриженной русой бородкой, голубыми чуть-чуть раскосыми глазами, он чем-то напоминал актера. Может быть, такое впечатление возникало из-за его манеры говорить. Он очень ясно (я бы сказал — выпукло) произносил слова. Да простится мне профессиональное сравнение, но этот человек не был сделан по типовому проекту. На все, что он знал (а знал он, кажется, немало), у него была своя, иногда удивительно верная, иногда довольно странная, но обязательно своя точка зрения. Сначала меня раздражали его категорические суждения. Впрочем, он не стремился навязывать свою точку зрения. Просто она не вызывала у него сомнений, казалась ему естественной — отсюда и убежденность. С такой же убежденностью ребенок может, показав на трамвай, сказать: «Дом». И попробуйте убедить его в том, что это не дом, а трамвай! Когда разговор коснулся архитектуры, Воронов (Кирилл Владимирович Воронов — так звали моего нового знакомого) спросил, какие здания строились по моим проектам. Я назвал несколько домов в пригороде Москвы. Он прищурился, вспоминая. Усмехнулся: — Если архитектура — это застывшая музыка, то сыграли вы нечто вроде марша. Очень размашисто и… очень прямолинейно. Обидеться я не успел. Воронов высказал несколько конкретных замечаний, и с ними нельзя было не согласиться. В архитектуре он разбирался свободно — слишком свободно для неспециалиста. Мне захотелось узнать его профессию. — Скульптор, — сказал он. И сейчас же поправился: — Бывший скульптор. — Бывший? — переспросил я. Он ответил не сразу. По-видимому, ему не очень хотелось говорить на эту тему. — Да, бывший… Теперь работаю в институте этнографии. Есть там лаборатория пластической реконструкции. Ну вот в ней и работаю. Заметив мое недоумение, он пояснил: — Пластическая реконструкция — это восстановление лица по черепу. Вы не могли не слышать. Метод Михаила Михайловича Герасимова: реконструкция внешнего облика давно умерших людей. По методу Герасимова разный народ работает — медики, биологи, антропологи… и скульпторы. — Так почему же — бывший скульптор? Воронов ответил нехотя: — Кое-кто из нашей братии считает, что искусство несовместимо с документальной достоверностью. Пластическая реконструкция, дескать, ремесло. Ну, они и назвали меня… бывшим. Он погасил папиросу, достал новую, размял и закурил — все это очень аккуратными и экономными движениями. — Восстанавливая лицо по черепу, — сказал я, — вы действительно должны сделать его таким, каким оно было. Нужно создать достоверную копию, не так ли? Начиная работать, вы даже не знаете, какое именно лицо у вас получится. Решение вполне определенное решение — подсказывает наука. Что же остается скульптору? Конечно, пластическая реконструкция не ремесло, но… Он перебил: — Вы так думаете? После трех бокалов шампанского у меня было миролюбивое настроение. — Послушайте, — сказал я Воронову, — восстановление лица по черепу используется и в криминалистике. Расскажите что-нибудь… такое… — Детективное? — усмехнулся он. — Грешен… — Увы, ничего не знаю. На моей памяти лаборатория для криминалистов не работала. Но если хотите, я вам кое-что покажу. — Покажете или расскажете? — Покажу. Я здесь живу — двумя этажами выше. Черепа и все с ними связанное — не самая приятная тема для разговора. Но перспектива в седьмой, восьмой, а может быть, и в девятый раз услышать песенку о злоключениях Егорки привлекала меня еще меньше. Я согласился. Лестница едва освещалась тусклым, мерцающим светом. — Свет-то каков, а? — сказал Воронов. — Мечта режиссера. Именно при таком освещении надлежит появляться призраку отца Гамлета… Призрака датского короля мы не обнаружили. Но на лестничной площадке оказались молодой человек и девушка, которые, насколько я мог судить, не обращали внимания на плохое освещение. Увидев нас, они начали довольно громко говорить о задаче по начертательной геометрии. Воронов пробормотал что-то вроде приветствия, и мы прошли в коридор. О квартире Воронова мне трудно что-либо сказать. Сославшись на беспорядок, он зажег свет только в третьей комнате. Это была мастерская или рабочий кабинет — скорее всего то и другое вместе. Два очень больших окна, прикрытых шторами, днем, наверное, давали много света. Напротив окон, на подставках, стояли бронзовые и гипсовые скульптуры. Красноармеец в буденовке. Двое дерущихся мальчишек. Человек, протянувший руку к пульту с кнопкой. Это было очень здорово сделано — лицо человека, подготовившегося к какому-то важному опыту, и рука, застывшая над кнопкой… Красивый антикварный столик, заваленный книгами, мало гармонировал с прибитыми к стене грубыми деревянными полками. В углу, небрежно прикрытое материей, стояло мраморное изваяние — скульптурный портрет девушки, той самой девушки, которую мы встретили на лестнице. — Не закончили? — спросил я Воронова. — Пустяки, — сухо сказал он и задернул материю. Потом, словно извиняясь, добавил: — Соседка. Начал как-то, да все недосуг. Больше я не расспрашивал. — Это неинтересно. Самые обычные скульптуры, — продолжал он. — А пластическая реконструкция у меня одна. Только сейчас, присмотревшись, я заметил в дальнем углу комнаты бронзовый бюст. Он стоял на невысокой тумбочке, и под него были подложены три толстые книги. Мы подошли ближе. Это была голова старика: высокий очень высокий лоб, поредевшие, но длинные, почти до плеч, волосы, тщательно расчесанная волнистая борода. Лицо — вытянутое, с близко посаженными глазами, большим ртом и узким, с горбинкой носом — сразу же показалось мне знакомым. — Леонардо? — спросил я Воронова. Он молча кивнул. Признаться, я был взволнован. Взволнован и разочарован. Тончайшая, прямо филигранная, отделка деталей создавала впечатление реальности, граничащее с иллюзией. Но стоило только отвлечься от деталей — и иллюзия разрушалась. Я не раз видел в репродукциях автопортрет Леонардо. Это лишь беглый набросок, но он передает то, что я привык считать главным в Леонардо, — мудрость человека, возвысившегося над поколениями. Облик Леонардо да Винчи, человека фантастической судьбы, всегда представлялся мне каким-то особенным, если так можно выразиться — надчеловеческим. И вот этого особенного, надчеловеческого, я не увидел в скульптуре Воронова. Сходство с автопортретом, конечно, не вызывало сомнений. Но Леонардо Воронова казался обыкновенным человеком. Более того — человеком уставшим, старым, почти несчастным. — Садитесь. — Воронов придвинул мне кресло. Я, кажется, забыл сказать, что комната освещалась лампами дневного света. Узкие трубки, подвешенные к потолку, излучали не то чтобы белый, а какой-то сиреневатый свет. В этом свете бронза теряла свой красивый, но несколько искусственный золотистый оттенок. Освещение усиливало иллюзию реальности, придавая бронзе цвет и фактуру загоревшей кожи. Усадив меня в кресло, Воронов включил две лампы, расположенные на стене, по обе стороны от скульптуры. От яркого света я зажмурился, а когда открыл глаза… В первый момент мне показалось, что бюст подменили. Он был тот и не тот. Сильный поток света стер детали. Раньше они подавляли целое, отвлекая внимание. Теперь изумительная отделка деталей не бросалась в глаза, она только угадывалась, ощущалась. Очень ясно, с удивившей меня отчетливостью, проступило главное — выражение лица. Трудно, пожалуй невозможно, передать словами это выражение. У скульптуры свой язык, и он не всегда поддается переводу. Радость и горе, нет, величайшая радость и величайшее горе, торжество и страдание, знание и недоумение — все смешалось в этом выражении. Впрочем, смешалось — не то слово. Не смешалось, а чередовалось. По отношению к скульптуре такое определение может показаться надуманным. Но я не преувеличиваю. Выражения лица именно чередовались. Может быть, это объяснялось тем, что, рассматривая бюст, я не сохранял одного и того же положения. Может быть, зрение мое, останавливаясь то на одной, то на другой части лица, поочередно выхватывало из общего что-то отдельное… Выражение лица Леонардо менялось. Я говорю это, не боясь показаться смешным. Повторяю, все объяснялось, по-видимому, простыми физическими явлениями. Однако эти явления стали возможными потому, что скульптору удалось перешагнуть границу, отделяющую искусство от того, что только похоже на искусство. Может быть, эта фраза слишком выспренна. Но, черт возьми, есть же в искусстве нечто, не раскладываемое на элементы, не поддающееся логическому анализу. И еще одно — теперь Леонардо уже не казался мне обычным человеком, уставшим и старым. Все это осталось — и возраст, и усталость. Но усталость была не житейской, а какой-то иной, словно человек заглянул далеко вперед, и столетия, трудные, наполненные горем и радостью, легли ему на плечи. А возраст… Именно таким и представлялся мне Леонардо — не моложе и не старше. Должен оговориться, что я передаю лишь основное, наиболее ясное в скульптуре Леонардо. Многое ощущалось смутно. В частности, сила. Не было того мощного разворота плеч, которым скульпторы любят снабжать свои произведения. Но в чем-то неуловимом — может быть, в посадке головы, может быть в изгибе губ — угадывалась сила. Голос Воронова донесся откуда-то со стороны: — В январе тысяча пятьсот шестнадцатого года Леонардо выехал во Францию. Король Франциск Первый предоставил Леонардо замок Клу, близ города Амбуаза. Он был умен и образован, этот король. Всю жизнь Леонардо искал просвещенного покровителя. И нашел его слишком поздно… Бронза была красноречивее слов. Но Воронов продолжал, и я понял, что ход его мыслей как-то связан с прервавшимся разговором об искусстве. — Второго мая тысяча пятьсот девятнадцатого года Леонардо скончался. Его похоронили в маленькой амбуазской церкви… Через четыре с половиной столетия череп Леонардо передали нашей лаборатории. Впрочем, не было особой уверенности, что этот череп действительно принадлежал Леонардо. Да и сам череп… Левая скуловая и верхнечелюстная кости были выломлены, зубы выкрошились, от носовых костей остались обломки… Вы, кажется, сказали — ремесло? Нет, это сплав знания и интуиции, расчета и догадки… Сломанные кости воспроизводились по уцелевшим, симметричным. Носо-лобные отростки помогли восстановить форму носовых костей. По гнездам на челюстях воспроизвели зубы. И только после этого началась реконструкция мягких тканей лица. В какой-то части это действительно техника. На череп наносятся вылепленные из воска жевательная и височная мышцы. Потом восковые гребни, соответствующие толщине мягких тканей. Воском же заполняются промежутки между гребнями. И на этом техника кончается. Например, форма рта, рисунок и форма губ зависят от многих, еще не вполне ясных факторов. А о форме ушей можно только догадываться. Прическа, усы, борода вообще не определяются по черепу. Как видите, научная достоверность не исключает творчества. Не исключает! Но главное не в этом. Лицо, воссозданное по черепу, лишено выражения. Это, так сказать, среднеарифметический облик человека. Если хотите — облик человека спящего. Попробуйте-ка заставить его проснуться… Метод Герасимова дает скульптору исторически достоверную заготовку — и только. В эту заготовку — не разрушая ее и не ломая ни одной детали нужно вдохнуть жизнь. Здесь уже искусство. Леонардо прожил шестьдесят семь лет. Он был художником, скульптором, служил инженер-генералом в войсках герцога Борджиа, строил каналы и крепости. Он родился во Флоренции, жил в Милане, Венеции, Риме, наверное, путешествовал по Востоку. Умер он, как я говорил, во Франции… Из этой жизни нужно было выбрать что-то одно. Но что? Показать художника, написавшего «Тайную вечерю»? Скульптора, изваявшего «Великий Колосс» — конную статую Франческо Сфорца? Ученого, на столетия опередившего свое время, знавшего, что пространство бесконечно, что движение — основа жизни? А может быть, честолюбивого придворного, приближенного Людовика Моро, Цезаря Борджиа, Франциска Первого?.. Но Леонардо оставлял картины незаконченными. Он не завершил работу над «Колоссом». Он неожиданно прерывал оптические исследования и писал монографии по ботанике. Он менял покровителей, переезжал из государства в государство… Что он искал? Кем он был?.. Скажите, что выражает лицо Леонардо? Я — как мог — передал свои впечатления. По-видимому, они были не такими, как хотелось бы Воронову, потому что, слушая меня, он хмурился, а потом долго молчал. — Что ж, может быть и так, — сказал он, доставая папиросу. Он вообще много курил в этот вечер. — Пожалуй, даже именно так. У меня к этой вещи слишком личное отношение, чтобы судить объективно. Год поисков, сомнений и разочарований, десяток неудачных вариантов и, наконец, этот, последний, сделанный за одну ночь… Я искал ключ к жизни Леонардо, одно мгновение, в котором, как в фокусе, пересекались бы все линии его жизни, судьбы, характера… В ту ночь я был уверен, что нашел этот ключ. А теперь… Не знаю. Кажется, что-то осталось в глине и не перешло в бронзу. Он негромко, с хрипотой рассмеялся. — Вжиться в образ — так ведь говорят артисты? Раньше мне казалось, что это претенциозный термин — не больше. Но той ночью… Вы понимаете, это трудно объяснить… Мне казалось, что я окончательно запутался. Хаос мыслей, впечатлений… И знаете, что я сделал? Взял лист бумаги и попытался описать Леонардо. Ну какой из меня писатель… Я вымучивал первые фразы. А потом — это получилось как-то незаметно — я уже едва успевал записывать. Вы понимаете, я слышал голос Леонардо… Вместе с Леонардо я видел крепость: дряхлые форты, полуразвалившиеся башни, заросшие мхом бойницы. Где-то сзади ковылял хромой старик, смотритель крепости. Стучала палка о камень выщербленных временем и непогодой ступеней… Писал я, наверное, плохо, но сам процесс писания упорядочил, прояснил мысли. Получилось что-то вроде трамплина. Последняя фраза осталась незаконченной — я принялся за глину. Воронов с силой вдавил окурок в пепельницу. — У вас сохранилось написанное? — спросил я. Он молча подошел к полке, достал лист бумаги, протянул мне. Почерк был странный: мелкий, довольно ясный ив то же время — летящий, с глубоким наклоном вправо. «…Почтительно склоняется смотритель перед инженер-генералом. Шаг назад. Неловкий шаг на хромой, негнущейся ноге, и еще один поклон. Это — перед титулом „наш превосходнейший и избраннейший приближенный“. Так назван Леонардо в патенте, скрепленном печатью герцога Борджиа. Еще шаг назад, и снова поклон. Это, пожалуй, в благодарность за то, что герцогский инженер, приехавший инспектировать укрепления Пьомбино, оказался снисходительным, очень снисходительным…(Зачеркнуто.) Глупо считать поклоны. Леонардо резко оборачивается. Жадно глотают губы морской, насквозь просоленный ветер. С башни видно далеко. Но он смотрит вниз, туда, где кончается камень и начинаются волны. Волны упрямы. Нагнув крутые лбы, как горные бараны, прыгают они на камни. Прыгают в бешенстве и отскакивают, роняя серые клочья пены. Он никогда не изображал моря. Бессильна мертвая сангина или грубоватая темпера перед живой игрой света и тени на гребнях волн. Бессильна кисть перед прозрачной глубиной, вмещающей тысячи тысяч оттенков. Бессилен перед морем живописец Леонардо… Узкие пальцы скользят по шершавым зубцам башни. Время к вечеру. Прохладно. Только камень еще хранит тепло, скупую ласку весеннего дня. Камень стар. Солнце и ветер, как скарпель терпеливого скульптора, вырезали в нем глубокие морщины — незаживающие шрамы времени. Боясь упустить последний свет дня, Леонардо торопливо вытаскивает из потайного кармана плотный лист картона. Придирчивый взгляд вновь и вновь возвращается к четким линиям рисунка. Да, все правильно… Нужно открыть кран, и человек сможет дышать под водой легко и свободно. В сосуде достаточно alito, дыхания, чтобы пробыть на дне моря так долго, как только можно оставаться без пищи…(Зачеркнуто.) Простой рисунок — но это власть над морем. «Над морем?» — глухо спрашивают волны. «Над морем?» — чуть слышно повторяет ветер. Леонардо всматривается в чернеющую воду. Неужели он вслух произнес эти слова? Тихо. Волны, утомившись, ласково гладят камень. Море изменчиво… как правители. Через два дня он увидит Цезаря. Дрогнет цепкая рука герцога, принимая маленький листок картона. Миром правит тот, кто владеет морем… Инженер-генерал смотрит на косой парус, белым мазком брошенный в черную бездну моря. Гордый, похожий на коршуна, бусс разворачивается, и ветер несет его к гавани. Призрачное могущество! Человек может пройти по дну моря, и снаряд, посланный невидимой рукой, взломает дно корабля. Хлынет в пробоину вода, закричат в безумном ужасе люди… Что ему за дело до чужого горя? Зло, которое ему не вредит, стоит ровно столько же, сколько добро, для него бесполезное. Столько же?.. В пятьдесят лет трудно обманывать себя. В пятьдесят лет человек умеет думать. Но о чем думать? Этот листок картона придется отдать. Великое творение не может, не должно остаться неизвестным. Придется отдать, чтобы открыть дверь в мир рыже-зеленых водорослей, мир, вход в ко — торый наглухо закрыт для человека. И не его вина, если в открытую дверь хлынет чужое горе. Да, будут идти ко дну корабли. Будут гибнуть люди. Разве мало горя на земле? Одним горем будет больше… Он переходит на другую сторону башни. Здесь нет моря… Здесь все просто, привычно. Знакомые звуки гасят неясную тревогу. Переругиваются у окна трое солдат. Сталкиваясь, стучат игральные кости. И у другого окна тени. Хохочет, повизгивая от притворного возмущения, толстая служанка смотрителя. Снова щелкают плиты под ногами инженер-генерала. Снова перед ним черный провал моря. А за спиной — Италия…(Зачеркнуто.) Что ж, он отдаст свое открытие Италии. Впрочем, в пятьдесят лет трудно обманывать себя. «Италия? — он усмехнулся. — Ее нет. Милан против Рима, Рим против Флоренции, Флоренция против Милана… Все против всех. И не Италии — Цезарю нужен маленький лист картона…» Трижды поднимался по сбитым ступеням смотритель. И трижды возвращался, не смея подойти к сгорбленному человеку в плаще инженер-генерала. А утром «превосходнейший и избранный приближенный» сошел вниз. В глазах его — безразличных и холодных — не было сомнения. Он решил…» — Решил?.. Воронов, ходивший по комнате, остановился. Сказал, глядя в бронзовые глаза Леонардо: — Нет, в ту ночь он ничего не решил. Прошло еще восемь лет, прежде чем он решил. — Что? Скомкав, Воронов отбросил пустую папиросную коробку. Голос его прозвучал как-то странно, словно он сам прислушивался к своим словам: — «Как и почему не пишу я о своем способе оставаться под водой столько времени, сколько можно оставаться без пищи. Этого не обнародую и не оглашаю я из-за злых людей, которые этот способ использовали бы для убийств на дне моря, проламывая дно кораблей и топя их вместе с находящимися в них людьми…» Я протянул ему портсигар. Он отрицательно покачал головой, улыбнулся: — Ради бога, не посчитайте все это абсолютно достоверным. Мысли не восстановить по черепу… Хромого смотрителя и ночь на башне я вообще выдумал. Точнее — так мне представлялось в ту ночь. А вот остальное — правда. В мае тысяча пятьсот второго года Леонардо по поручению Борджиа инспектировал укрепления Пьомбино. Рубен Абгарович Орбели считает, что именно там Леонардо и изобрел водолазный скафандр. — А эти слова? «Как и почему…» — Запись сохранилась до наших дней. Это так называемый Лейчейстерский манускрипт. Удивительный документ, не правда ли? Всю жизнь Леонардо стремился покорить море; работами Орбели это доказано абсолютно точно. Всю жизнь! И, наконец, создал скафандр. Кстати, alito — это, скорее всего, сжатый воздух. Не случайно, среди изобретений Леонардо есть прибор для определения плотности воздуха. В современных аквалангах можно пробыть под водой минут сорок. А Леонардо писал: «…столько, сколько можно оставаться без пищи». Представляете? Это была трагедия — отказаться от такого изобретения. И Леонардо отказался! Из-за людей, для людей… Изобретение не попало тем, кто в своих интересах вел кровопролитные войны. Гол спустя Леонардо писал: «Война — сумасброднейшее из безумств человеческих»… Художники считают Леонардо художником, ученые — ученым, инженеры — инженером. А он ни тот, ни другой, ни третий. Точнее — и тот, и другой, и третий, но сверх того, выше того — еще кто-то… Это я и хотел передать… Да вот… Давайте все-таки закурим… Мы закурили. Попыхивая папиросой, Воронов ходил по комнате. Я смотрел на Леонардо. Сейчас я уже не думал о том, как скульптору удалось передать сложнейшую гамму чувств. Я не думал и о том, что именно преобладало в этой гамме. Не все ли равно — радость или горе? Не все ли равно — вдохновение, понимание или воля? Как семь цветов спектра, смешавшись, дают белый свет, так и человеческие чувства, слившись, образовали нечто особое, согревшее бронзу своим мягким светом. Художник, ученый, инженер? Да, конечно. Но сверх того и выше того — Человек. 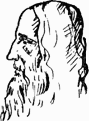 |
|||||||