 |
|
Популярные авторы:: Грин Александр :: Борхес Хорхе Луис :: Толстой Лев Николаевич :: Азимов Айзек :: Чехов Антон Павлович :: Раззаков Федор :: Горький Максим :: Громов Дмитрий :: Сименон Жорж :: Куприн Александр Иванович Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: Гость :: Десятое правило волшебника, или Фантом :: Похищенный кактус :: Справочник по реестру Windows XP :: White Fang :: Ярмарка Святого Петра :: Сожженная заживо :: Манук |
Тайны Земли Русской - Последние Рюриковичи и закат Московской РусиModernLib.Net / История / Зарезин Максим Игоревич / Последние Рюриковичи и закат Московской Руси - Чтение (Весь текст)
Максим Зарезин Последние Рюриковичи и закат Московской Руси ОТ АВТОРА Падение династии Романовых и катастрофа 1917 года прочно связаны между собой в общественном сознании. Уход с политической сцены династии Рюриковичей повлек за собой потрясения не меньшего масштаба, чем Февральская революция. И если кто-то полагает, что события той эпохи не более чем «преданья старины глубокой», то жестоко ошибается. Каждая русская Смута порождает следующую, передавая своеобразную эстафету до наших дней. Пока мы не вычислим алгоритм возникновения и развития русских Смут, мы вряд ли сможем рассчитывать на возрождение нашего Отечества. Фраза «Россия, которую мы потеряли» стала сакраментальной. Московская Русь последних Рюриковичей, по нашему мнению, первая потерянная нами Россия – уникальная цивилизация, которая не погрузилась в океанскую пучину подобно Атлантиде, а растворилась в бурном потоке времени, в бескрайних российских просторах. В истории русского Средневековья исследователей в первую очередь привлекает внимание процесс собирания русских земель вокруг Москвы, разрастание небольшого удельного княжества в могучую национальную державу. Однако замечательно не только это удивительное превращение, но и характер нового государства. Московская Русь – особая социально-политическая формация, отличная как от удельного княжества Даниловичей, так и от абсолютной монархии Годунова и первых Романовых. Здесь усиление единодержавия сочетается с появлением представительных органов власти и земского самоуправления, первые попытки установить контроль над умами – с горячим обсуждением волнующих общество вопросов. Здесь все самобытно: и политический строй, и характер правовых и экономических реформ, и культура, и публицистика. Русские люди думают и действуют иначе, чем несколько десятилетий спустя – при Годунове и первых Романовых, где абсолютизм подавляет всяческую инициативу, а всевозможные новации сводятся к неловкому копированию западных образцов. Несмотря на обилие бурных и противоречивых событий, поворотных точек в истории России не так много. В ходе исторического развития страны не часто возникают условия, когда факторы нестабильности способны преодолеть силу инерции, когда неустойчивость и новизна положения диктуют необходимость радикальных перемен и приводят к пресловутой «революционной ситуации». Увы, но такой поворотной точкой стало крушение Московской Руси. Ушла с исторической сцены сама династия Рюриковичей. Но если произошедшая в это же время смена на французском престоле Валуа Бурбонами не повлекла за собой радикальных перемен в жизни королевства, то закат Рюриковичей ознаменовался глубочайшим политическим, хозяйственным и нравственным кризисом, потрясшим самые основы русского государства. Само его существование оказалось под угрозой в годы Смутного времени. Эпоху Московской Руси нельзя назвать переходной. Это была эпоха выбора – прежде всего выбора модели отношений между личностью, обществом и властью, той модели, которая в значительной степени сохранилась до сих пор. Спор шел о свободной воле человека, о том, доверяет ли власть – светская и церковная – сделать человеку выбор самостоятельно, либо не доверяет, а значит, берет его под свою жесткую и докучную опеку. Этот вопрос только на первый взгляд кажется отвлеченным – тот или иной вариант ответа на него непосредственно отражался на границах и характере правовой и экономической самостоятельности жителя Московской Руси. Свой выбор предлагало нестяжательское движение заволжских старцев, его вольные и невольные союзники. По сути дела, через всю эпоху последних Рюриковичей прослеживается борьба двух групп российской элиты, протекавшая как бы в трех плоскостях. Помимо упомянутой религиозной – противостояния нестяжателей и иосифлян, борьба шла в сфере политической – в соперничестве сторонников сына Ивана III Василия и его внука Димитрия, а также клановой, что выражалось в столкновении между старомосковским боярством и «служилыми князьями» – выходцами из Литвы. Именно эта борьба в значительной мере определила характер исторического развития Московской Руси. России предстояло сделать и другой важный для ее дальнейшей судьбы выбор – между различными формами и приемами управления страной: земским самоуправлением и сословно-представительными учреждениями, с одной стороны, и абсолютистским самодержавием, опирающимся на всевластие центрального бюрократического аппарата – с другой. Не претендуя ни в коей мере на «ниспровержение основ», настоящая работа в значительной мере пересматривает традиционные взгляды на эпоху последних Рюриковичей. Дело не в том, что они по тем или иным причинам «устарели». «Устаревшим», а точнее ложным, стоит считать материалистическое (атеистическое), а затем и марксистское мировоззрение, которое укоренилось в среде научной интеллигенции в конце XIX века. Слепая вера в прогресс и социальное переустройство общества, которая так прочно владела умами как дореволюционных, так и советских ученых, способствовала тому, что исторический материал рассматривался прежде всего с точки зрения борьбы старого и нового, передового и реакционного. Как следствие, объективный анализ, даже у крупных исследователей, зачастую подменялся мифотворчеством. Необходимо отметить, что в последние годы вышло немало глубоких и содержательных исследований, посвященных отдельным проблемам взаимоотношений нестяжателей и их оппонентов, их литературному наследию. Целью настоящей книги было показать борьбу двух направлений церковной и политической жизни той эпохи в самом широком историческом контексте. Думается, что различные подходы к данной теме помогут читателю получить более полное и яркое представление не только о Московской Руси XV—XVI веков, но и о процессах, происходящих в современной России. Глава 1 НА НЕВЕДОМОЙ ВЫСОТЕ Силы, которые стояли выше московского князя, исчезали: пала власть византийских царей, пало «иго» Золотой Орды. Московский князь поднимался на какую-то неведомую высоту. Нарождалось в Москве что-то новое и небывалое. Собирание элиты 1471 год в русской истории знаменит прежде всего подчинением Великого Новгорода Московскому княжеству. Заключенный в 1456 году договор между боярской республикой и Москвой был подписан от имени великого князя Василия II и его сына Ивана, что дало последнему возможность рассматривать Новгород как свою «отчину». Важнейшие внешнеполитические акции Св. Софии отныне требовали согласования с московскими властями. Вече лишалось права самостоятельно принимать договорные грамоты, на которых отныне должна была стоять печать московского князя. Любой союз Новгорода с врагом Москвы отныне рассматривался как политическое преступление против великого князя. Именно такое преступление и совершил вольный город в 1471 году, когда по инициативе боярской верхушки, раздраженной ущемлением своей власти москвичами, Новгород заключил союз с польским королем Казимиром. Данный документ не только отдавал власть в городе литовцам, но и содержал положения о совместных действиях против Москвы. Иван теперь имел все основания рассматривать подобный шаг Новгорода как предательство и получил законный повод покарать отступников. Но прежде он дважды пытался урезонить новгородцев и отвратить их от союза с «латинянами», и только после провала этих попыток он решился применить силу. Против новгородцев, как предателей общерусских интересов, Иван повел рать, в которую вошли воины из Твери, Пскова, Вятки, что придало походу статус общенационального предприятия. Речь шла не о наказании города за неподчинение Москве, а о ликвидации угрозы для всей Руси. В это время Казимир вел переговоры с ордынским ханом Ахматом о союзе против Москвы. Если бы переговоры увенчались успехом, Новгород автоматически включался в этот альянс, и тогда не только Московское княжество, но и все русские земли оказывались в кольце вражеского окружения. До присоединения Новгорода в состав московского княжества входили территории бывшей Владимиро-Суздальской Руси. С 1317 года, когда Юрий Данилович получил ханский ярлык на великое княжество Владимирское, московские князья рассматривали владимирский стол как свою вотчину. Поэтому все последовавшие приобретения можно рассматривать как реализацию этих полномочий. Господин Великий Новгород был не только самостоятельным государством, но и древнейшей самобытной цивилизацией. Присоединение Новгорода имело принципиально иное значение, чем предыдущие территориальные приобретения Москвы. Москва, наконец, выходила из своего северо-восточного угла на общерусский простор, обретала реальную перспективу перерастания в национальное государство. Смысл этого события в полной мере осознавал Иван III. В послании великого князя к новгородцам в марте 1471 года впервые в официальном документе московский князь был назван государем всея Руси. Знаменательным проявлением этих перемен стал неожиданный шаг великого князя. Накануне новгородского похода 1471 года Иван пригласил в Москву всех епископов, своих братьев и зависимых от него князей, бояр и воевод, то есть, как указывает Г.В. Вернадский, был дан наказ собраться «всем боярским сынам» и дворянам, находившимся на его службе. «Это была по существу национальная ассамблея церковных и государственных лидеров, аристократии и дворянства», которую, по мнению историка, можно считать «прототипом земского собора XVI и XVII веков»[1]. С.О. Шмидт предполагает, что подобного типа совещания в конце XV – первой половине XVI века происходили нередко и попросту еще не выявлены исследователями[2]. Скорее всего «Национальную ассамблею» можно назвать высшим экспертным советом в форме сословно-представительного органа. Обратим внимание, что на «ассамблее» обсуждался вопрос не политический – выступать или нет против новгородцев (он был уже решен), а технический, узкопрофессиональный – в какое время лучше отправляться в поход. Роль квалифицированных советников в государственном управлении Иван во время на примере правления своего отца. По замечанию Костомарова, характер княжения Василия II решительно изменился в лучшую сторону после того, как он… потерял зрение. «Очевидно, – заключает историк, – что именем слепого князя управляли умные и деятельные люди… – митрополит Иона, князья Патрикеевы, Ряполовские, Кошкины, Плещеевы, Морозовы, славные воеводы – Василий Оболенский и его сын Стрига-Оболенский и Федор Басенок, но более всех митрополит Иона»[3]. Еще более определенно выражается Г.В. Вернадский: «Для судеб Москвы было счастьем, что в это время в разных группах сторонников Василия обнаружилось несколько одаренных государственных деятелей и военачальников»[4]. Созыв Национальной ассамблеи – совещательного органа гораздо более широкого по составу, чем Боярская дума – стал возможен благодаря формированию нового политического самосознания московской элиты. «Увидев себя в сборе вокруг Московского Кремля, новое, титулованное боярство взглянуло на себя как на собрание… властителей Русской земли, а на Москву как на сборный пункт, откуда они по-прежнему будут править Русской землей, только не по частям… а совместно, совокупно… Теперь… их прежняя власть… превратилась в собирательную, сословную и всеземскую», – отмечал В.О. Ключевский. Причем «сами московские государи поддерживали среди них этот взгляд»[5]. В таком случае даже Боярская дума как бы превращалась из исполнительного в представительный орган, но не в смысле того, что территории выбирали своего представителя, а властитель территории представлял ее в общегосударственном правительственном органе.  Великий князь Иван III
Появление представительных органов в Европе было продиктовано противоречиями между сословиями и конфликтами внутри правящей верхушки и оформляло сложившийся баланс сил и структуру общества. Социально-политическая ситуация, сложившаяся в Московской Руси, отличалась коренным образом, и, соответственно, отсутствовала надобность в такого рода органах. Появление земских соборов в Московской Руси продиктовано иными обстоятельствами. Значительно расширилась территория Московского княжества, собственно княжеский удел трансформировался в национальное государство, существенно усложнился процесс государственного управления – расширились функции, изменился масштаб требующих решения проблем. Но с ростом территории и превращением Москвы в центр собирания Руси здесь начала формироваться политическая элита, способная решать новые задачи. Когда же происходило наиболее интенсивное сложение этой политической элиты? М.Е. Бычкова в работе «Состав класса феодалов в России в XVI веке», суммируя выводы С.В. Веселовского, А.А. Зимина и американского историка Н. Шэлдс-Колман, говорит о стабильности боярской верхушки Московского княжества, предки которой начали свою службу при Иване Калите, при этом подчеркивая, что эти исследования анализируют ситуацию до середины XV века[6]. Однако, как отмечал Ключевский, именно со второй половины XV столетия состав московского боярства глубоко изменяется: из 200 родовитых фамилий конца XVI века более 150 вошло в состав московского боярства именно с середины XV века[7]. В течение двух – трех десятилетий московская элита обновилась более чем на три четверти. «Служилое князье если не задавило, то закрыло старый слой московского нетитулованного дворянства». Рост влияния новой волны московской элиты нетрудно проследить по тому, как изменялся состав Боярской думы. Наиболее ранний список бояр времен Ивана III относится к 1475 году. Из 11 бояр большинство – шестеро – составляют старомосковские фамилии: Василий Федорович Образец, П.Ф. Челяднин, братья Тучко Морозовы, Григорий Морозов и Василий Китай. Четверо относятся к служилым князьям – трое Патрикеевых (Иван Патрикеев, два его племянника – Иван Булгак и Даниил Щеня, а также А. В. Оболенский). Ярославский удельный дом представлял князь Федор Хромой. Прошло без малого четверть века, и картина значительно меняется. В Боярской думе образца 1498 года из того числа бояр шесть представляют служилых князей (Иван Патрикеев, Даниил Щеня и новое поколение клана Патрикеевых – сын Ивана Юрьевича и его зятья: Василий Патрикеев и Семен Ряполовский, а также двое Оболенских), двое удельных Ярославских князей и только трое старомосковских бояр – братья Яков и Семен Захарьевы, А.Ф. Челяднин[8]. Среди иммигрантов выделялись выходцы из Литвы – так называемые «выезжане» – Воротынские, Одоевские, Трубецкие, Вяземские, Голицыны, Вельские, Куракины. Переход литовских православных магнатов на службу московскому князю начался с Кревской унии 1386 года и продолжался до женитьбы Василия III на Елене Глинской, когда на службу Москве перешли Дмитрий Вишневецкий, Федор Мстиславский. В великое княжение Ивана III ключевую роль в правительстве играл Гедеминович Иван Патрикеев, а в армии – «литовец» Оболенский и «тверич» Холмский, руководившие военными действиями против Новгорода. Федор Михайлович Мстиславский приехал в Москву в 1526 году и сразу же занял почетное место в московской элите: стал старшим членом Боярской думы и вступил в брак с племянницей великого князя Василия Анастасией. За что такая милость? Государь скорее имел основания не доверять Мстиславскому – его отец удельный литовский князь Михаил Иванович Заславский (Жеславский), праправнук Явнутия Гедиминовича, в 1499 году получивший в удел Мстиславское княжество, подался было с уделом на сторону Москвы, но после победы литовцев при Орше (1514) вернулся к литовскому государю. Тем не менее Мстиславский сразу достигает положения, недоступного для представителей многих старинных московских родов. Очевидно, Василия, как и его отца, привлекает в литовских перебежчиках именно то обстоятельство, что их статус, каким бы высоким он ни был, целиком зависит от поддержки великого князя. Не случайно, после смерти Василия III, Гедеминовичи – Вельский и Мстиславский, а также западный Рюрикович, потомок черниговских князей Овчина-Телепнев, несмотря на чин старших бояр Думы, фактически остаются не у дел. Только Овчине-Телепневу, благодаря известной близости к регентше Елене Глинской удалось сохранить свое политическое влияние. «Выезжане» и «аборигены» Почему же приезжие потеснили старомосковских бояр, верой и правдой служивших потомкам Калиты. Безусловно, большинство «выезжан», Рюриковичи или Гедеминовичи по крови, по происхождению стояли выше и удельных князей Северо-Восточной Руси, и старожилов великокняжеского двора. Переход князей на службу московского государя со своими землями усиливал потенциал Москвы и ослаблял ее врага – Великое княжество Литовское. По мнению А.А. Зимина, часть служилых князей (Гедеминовичи и Звенигородские) ранее не имела никаких поземельных связей в Московском княжестве, поэтому их благополучие всецело зависело от воли великокняжеской власти, а другие (Стародубские, Оболенские) хотя и были связаны со своими исконными владениями, но могли их сохранять только при прямом покровительстве могущественного московского сюзерена. А.А. Зимин отмечает, что именно эта часть политической элиты в Государевом дворе и Думе второй половины XV в. составляла самую влиятельную прослойку[9]. При этом историк объединяет Гедиминовичей, Стародубских, Оболенских и Звенигородских князей в категории «старомосковских княжат», включая сюда потомков тех князей, которые еще в XIV веке вошли в состав великокняжеского двора»[10]. На наш взгляд, это не совсем удачный термин, поскольку он искусственно отделяет служилых князей «первой волны» от литовских «выезжан» более позднего периода и, напротив, сближает их со старомосковским боярством. Кроме того, часть «старомосковских княжат» появилась в Москве только в начале XV века. Так, Александр Федорович Звенигородский и основатель рода Патрикеевых Патрикий Наримонтович приехали на Русь в 1408 году. За их спиной – поколения самостоятельных властителей, ратные подвиги предков. Свежий взгляд на московский уклад жизни позволял более глубоко и критично оценивать его достоинства и недостатки, чем свыкшимся с привычным устройством «аборигенам». Очевидно, что в этот период укоренившееся в Москве боярство уступало «новичками» и по деловым, и по нравственным качествам. К тому же «литовцам» легче находили общий язык с выходцами из земель, недавно приобретенных Даниловичами. Москвичей уже в те времена не жаловали жители других российских земель. Как замечал Костомаров, при Калите его подданные «где только могли, показывали себя высокомерными господами над прочими русскими людьми»[11]. Вряд ли можно говорить о некоем исконно московском злонравии. Однако роль исполнителей ордынской воли благоприятствовала нравственной деградации москвичей. Они успешнее других раболепствовали перед ханом, благодаря чему получали власть над единоверцами, перед которыми, в свою очередь, охотно разыгрывали роль хозяев, полагая, что статус ордынских прислужников дает им право видеть в соплеменниках бесправных рабов. Между тем часть «выезжан» ценила московскую службу именно за возможность бороться с врагами православия – католиками и ордынскими «бесерменами». Знаменитый воевода Дмитрия Донского Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский выехал из Литвы между 1366 – 1368 годами, то есть после окончания успешной войны Ольгерда с Ордой. В 1376 году он участвует в походе против волжских булгар, а спустя три года внук Гедемина воюет против Литвы. На Куликовом поле Боброк-Волынский командовал засадным полком вместе с серпуховским князем Владимиром Храбрьм. Но в 90-х годах, после поражения от Тохтамыша, Москва временно избегает столкновений с Ордой. Напротив, в это время энергично готовится к войне против ордынцев литовский князь Витовт. И вот православные сыновья Ольгерда князья Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский, а вместе с ними и Боб-рок-Волынский возвращаются на литовскую службу. Все они погибли в 1399 году на Ворскле в битве с войском Едигея. Разумеется, неверно представлять всех «выезжан» бессребрениками, которые переходили на московскую службу исключительно движимые патриотическими убеждениями и нежеланием изменять православной вере. С другой стороны, если бы князья Западной Руси, выбирая свой дальнейший путь, исходили исключительно из меркантильных соображений, то чаша весов скорее всего качнулась бы в сторону Литвы. Королевские «привелеи» 1387 года освободили литовское шляхетство почти от всех государственных повинностей, закрепляли за ним право распоряжаться и передавать по наследству свои владения и имущество, выдавать дочерей замуж без санкции верховной власти – невиданная вольность для подданных московского государя. Городельская уния 1417 года закрепила привилегированный статус за литовскими боярами при условии перехода в католичество. Постепенно дискриминационные меры в отношении православных феодалов отменялись, однако сохранялся запрет для некатоликов занимать важные государственные должности. В 1447 году их права закреплялись новыми обширными «привелеями». Если бы западнорусские князья отказались от православия, нет сомнения, что они вошли бы в элиту Речи Посполитой наравне с Радзивиллами, Сапегами, Вишневецкими, Сангушко и другими могучими магнатами. Как и у восточных соседей, в Литве административные функции от удельных князей постепенно переходили к государевым наместникам, но переезд в Москву в этом случае никаких особых выгод «выезжанам» не сулил. Никакого роста привилегий в Московской Руси не отмечалось. Напротив, как отмечает В.Б. Кобрин, уже к середине XIV века власть великого князя по отношению к своим боярам была достаточной для того, чтобы конфисковать у опального боярина владение и не возвращать его даже после примирения[12]. При Иване Васильевиче князьям запрещалось передавать свои вотчины кому бы то ни было без ведома великого князя[13]. Следует признать, что верность православной церкви и осознание того, что Москва по праву претендует на роль собирателя русских земель, в значительной мере побуждали западнорусских князей искать покровительства московского государя. Старомосковское боярство не пользовалось авторитетом даже у земляков, о чем можно судить по примечательному эпизоду, который произошел во время нашествия хана Тохтамыша в августе 1382 года. Жители города, покинутые великим князем Димитрием, готовились выдержать осаду и выбрали в предводители литовского князя Остея. Г.В. Вернадский полагает, что на горожан «произвели впечатление его умение и уверенность в себе»[14]. Причем, судя по летописной записи, Остей случайно оказался в Москве в этот драматический момент, скорее всего впервые приехал в город и был доселе незнаком горожанам. Его ошибочно называют внуком Ольгерда: «…и се прииде к ним в град некий князь литовский Остей, внук Ольгердов, и тои скрепи град и затворися в нем со множеством народ»[15]. В критической ситуации москвичи отказали в доверии представителям хорошо им знакомых боярских родов и вверили свою судьбу чужаку – знаменательный сам по себе выбор – в первую очередь, как более умелому в ратном деле. Последнее вполне объяснимо, ведь москвичи до недавнего времени получали боевой опыт лишь в карательных походах против соседних княжеств, в то время как литовцы сражались и с крестоносцами, и с ордынцами, а значит, имели возможность перенимать их тактические приемы и заимствовать вооружение. Приток знатных эмигрантов из Литвы способствовал резкому усилению военного потенциала Москвы, отмеченный еще в середине XIV века. При Дмитрии Ивановиче значительно выросло постоянное ядро русского войска – «двор», почему значительно изменились организация, тактика и вооружение русского войска[16]. Как показали С.Б. Веселовский и Л.В. Черепнин, служилые князья показали себя решительными сторонниками объединительной политики великокняжеской власти, хотя их представления о путях ее осуществления не всегда совпадали с намерениями Ивана III[17]. На первый взгляд, их политическая ориентация ничем не отличалась от устремлений старомосковского боярства. По словам Р.Г. Скрынникова, старомосковские бояре (Челяднины, Захарьины, Морозовы, Плещеевы) составляли наиболее прочную политическую основу поднимавшейся монархии. Но этой «основе» пришлось потесниться: «Старомосковская знать уступила первенство более знатным княжеским фамилиям, но и тогда продолжала прочно удерживать в своих руках важнейшие отрасли приказного аппарата управления государством…»[18] Подобная оценка, по нашему мнению, нуждается если не в корректировке, то в комментариях. Старомосковские бояре «уступили первенство» во второй половине XV века. Сомнительно, чтобы они сделали это добровольно, не оказывая сопротивления. Роль приказной бюрократии становится заметной лишь в середине XVI века, к этому времени свои позиции аборигенам пришлось отвоевывать – разумеется, не без борьбы. Налицо и предпосылки возникновения конфликта интересов и очевидные проявления острого противоборства между старомосковским боярством и служилыми князьями. Ситуация внутри служилого класса Московской Руси, сложившаяся к середине XV века, отчасти напоминает первый век правления киевских князей варяжского происхождения, когда сосуществовали княжеская дружина, которая до XI века была по преимуществу варяжской, и земское боярство славянского происхождения. Первые жили содержанием, получаемым от князя, были связаны только с ним товариществом военной дружины, делили с ним его победы и поражения. Вторые имели прочную оседлость, прочную связь с населением[19]. Конечно, выезжане были славянами и православными по вере, но они, как и варяжские дружинники, в большей степени были зависимы от государя. Кроме того, покидая Литву, они сознательно делали выбор в пользу Москвы – выбор, которого у представителей старомосковских родов не было. Первое столкновение «аборигенов» и «выезжан» случилось в 1332 году, в княжение Ивана Калиты, когда в Москву из Литвы прибыл киевский выходец Родион Нестерович. Первый московский боярин Акинф Гаврилович Шуба, оскорбленный почетом, оказанным приезжему боярину, «не желая быть под Родионом в меньших», перешел на службу к тверскому князю[20]. Следующий, местнический по своему обличью, конфликт произошел при Димитрии Донском, когда представитель Гедеминовичей Боброк-Волынский оттеснил от первенства в Думе старомосковский клан Вельяминовых. Ивану Вельяминову, лишившемуся карьерной перспективы при дворе московского государя, пришлось бежать в Орду. По замечанию Р.Г. Скрынникова, «он представлял ту часть московских правящих кругов и населения, которая крепко держалась за старину и пыталась любой ценой избежать кровопролитного столкновения с Ордой»[21]. Если переезд Шубы в Тверь, по всей видимости, закончился для него благополучно, то вернувшийся на Русь из Орды Вельяминов в 1378 году был схвачен в Серпухове и казнен в Москве. В XV веке великие князья начинают энергичную борьбу против права отъезда, летописцы уподобляют ищущих новой службы бояр Иуде, называют «коромольниками льстивыми»[22]. Недовольные бояре, желающие перейти к другому государю, наталкивались на все большие препятствия в осуществлении своих планов и вынуждены были мириться с новыми московскими реалиями, уступая место пришельцам. В документах тех лет встречаем такую реплику: «Приехал князь Юрий Патрикеевич и заехал боярина Константина Шею и других»[23]. В начале княжения Василия Дмитриевича наиболее влиятельным лицом был Иван Федорович Кошка. Крымский хан Едигей называет его старейшиной бояр и единственным советником великого князя[24]. Но после приезда в 1408 году Патрикеевых положение меняется. Юрий женится на дочери великого князя, а его сын Иван в 1463 году подписывает духовную Василия Темного, в которой назван боярином. В то же время следующее поколение Кошкиных не оставило заметного следа в истории[25]. Униженные бояре остаются в Москве, но значит ли, что они смиряются с господством «выезжан»? По замечанию Н.П. Павлова-Сильванского, «бояре обнаруживали удивительное упорство, неослабевающую твердость в постоянной, изо дня в день, защите своих родовых отеческих прав. Они смело противились воле государя, навлекали на себя опалу, сидели недели и месяцы в тюремном заключении, жертвовали существенными материальными интересами, когда отказывались из-за местничества ехать на какое-либо воеводское кормление, жертвовали всем, чтобы отстоять высокое место своего рода и не принять невместного назначения»[26]. Более того, московские государи, включая Ивана Грозного, с большим пониманием относились к местническим претензиям. Основанное на прецедентах местничество было призвано сохранить для представителя родовитого семейства положение в правящей верхушке, достигнутое его предками. Роман Алферьев (Нащокин), местничая с князем Василием Мосальским, упирал на то, что «Нащокины вечные холопы московских царей». В.Б. Кобрин, рассказывая об этом споре по поводу «невместного назначения», отмечает, что при разборе конфликта преимущество получали те, кто служил московскому государю раньше[27]. Но в таком случае прибывшие из Литвы князья никогда бы не обошли старые боярские фамилии. И аргумент Нащокина в споре с Рюриковичем Мосальским – довод слабого. Дело в том, что распри между «аборигенами» и «выезжанами» никак не укладывались в рамки местнических распрей, поскольку старомосковские бояре не могли оспорить первенство Гедеминовичей и Рюриковичей. И если это происходило, то их жалобы были заведомо обречены на неудачу. Знаменательный эпизод произошел во время литовского похода 1500 года. Великий князь послал на помощь отряду под командованием боярина Юрия Захарьина племянника князя Ивана Патрикеева Даниилу Щеню с тверской ратью. В объединенном войске Щеню назначили воеводой в большой полк, а Захарьина – в сторожевой. Внук Ивана Кошки оскорбился, написав великому князю о том, что ему «невмочно» служить в сторожевом полку и «стеречи князя Данила». Разразившийся конфликт пришлось разбирать великому князю, который решительно пресек претензии обиженного боярина. А.А. Зимин замечает в этой связи, что здесь нет местнического дела[28]. Действительно, Юрий Захарьин прекрасно понимал, что не имеет никаких формальных оснований оспаривать назначение Щени, однако раздражение против Патрикеевых было столь велико, что боярин не смог его сдержать, даже предугадывая негативную реакцию государя. Отсутствие возможности оспорить выдвижение служебных князей вынуждало старомосковских бояр искать иные способы изменить сложившееся положение. Появление на московской политической сцене литовских «выезжан», спаянных и общей судьбой, и родственными связями, их наступление на позиции старомосковского боярства заставило последних сплотиться, выступить единым фронтом в защиту своих интересов. Враждебность эта была столь очевидна и естественна, что Иван Васильевич использовал ее в своих целях, отряжая старомосковских бояр (И. Челяднин, М. Захарьин) в войска следить за титулованными военачальниками[29]. Впрочем, иногда данная практика давала сбой, и соперничество между двумя группами московской элиты прорывалось наружу. В 1514 году в сражении с литовцами при Орше русским войском командовал и старомосковский боярин Иван Андреевич Челяднин и князь из рода Патрикеевых Михаил Иванович Булгаков-Голица. По свидетельству очевидцев, первым начал сражение правофланговый отряд под командованием князя Михаила который атаковал левофланговую литовскую конницу. В случае успеха атаки и прорыва к переправам литовцы были бы зажаты в угол между Днепром и Крапивной и там перебиты. Но литовская конница оказала Голице упорное сопротивление, а польская пехота выдвинулась из второй линии вперед и открыла огонь по русской коннице с фланга. Русский летописец утверждает, что Челяднин из зависти не помог Голице. Основные силы московского войска устояли, но московские военачальники попали в плен. Обе группировки были не способны выступать как самостоятельная, самодостаточная политическая сила, целью их борьбы и одновременно ее орудием было влияние при дворе, и в первую очередь, благорасположение великого князя и его близких. Обе группировки нуждались в фигурах, вокруг которых они могли объединиться и которые, в свою очередь, нуждались в преданных сторонниках. Такие фигуры появились в 80-е годы XV века, раскол в правящей элите стал не только реальностью, но и превратился в важнейший фактор политической и даже духовной жизни Московской Руси. Тайны Московского двора Начиная с 1470 года наследником престола и соправителем великого князя считался сын Ивана III от первого брака с княжной Марией Борисовной Тверской Иван Молодой. Между тем отношения наследника с отцом, а особенно с мачехой – принцессой из византийского императорского дома Софьей Палеолог – оставляли желать лучшего. Венецианец Амброджо Контарини, побывавший в Москве в конце 1476, отмечал, что Иван Молодой находится «в немилости у отца, так как нехорошо ведет себя с Деспиной»[30]. Выходит, что в то время Иван Васильевич благоволил Софье Палеолог и не доверял старшему сыну. Тем не менее его статусу будущего правителя государства ничего не угрожало. Ситуация изменилась в 1479 году, когда у Софьи родился мальчик, потомок византийских императоров. Правда, младенец, нареченный Василием, мог претендовать разве что на удельный стол, однако амбиции его матери заставляли серьезно задуматься над тем, кто станет будущим московским государем.  Софья Палеолог
Так перед политической элитой встал вопрос – на чью сторону встать в наметившемся противоборстве. Как отмечает Р.Г. Скрынников, за те годы, что Иван Молодой был соправителем отца, у него сложились прочные связи с Боярской думой. Правительственные круги опасались повторения междоусобной смуты, разразившейся при Василии Темном, и твердо поддерживали старшего сына государя в качестве наследника престола в пику Софье и ее сыну Василию[31]. Наиболее влиятельные правительственные деятели того времени – князь Иван Патрикеев и «министр иностранных дел» дьяк Федор Курицын осознавали исходящую со стороны Софьи угрозу и предприняли меры, дабы укрепить положение Ивана Молодого. Важное место в этой программе занимала женитьба наследника. Выбор невесты и сватовство происходили при живейшем участии Патрикеева и Курицына. Об этом можно судить по тому, что невеста – дочь молдавского господаря Стефана Великого приходилась дальней родственницей Патрикеевым (впрочем, как и самому Ивану III). Дочь князя Ивана Юрьевича (?) Федка выполняла роль посредницы при переговорах об устройстве брака[32]. Елена Стефановна приходилась племянницей киевскому князю Михаилу Олельковичу и имела тесные связи с литовскими православными магнатами. В 1480 году в Литве начались выступления против короля Казимира, в следующем году переросшие в открытый мятеж, в котором принимали участие двоюродные братья Михаил Олелькович и князь Федор Вельский, как и Патрикеевы, принадлежащие дому Гедемина[33]. Очевидно, Патрикеев имел непосредственное касательство к заговору и заговорщикам. После подавления мятежа Вельскому удалось бежать в Москву, а киевский князь был казнен в августе 1481 года. Литовские усобицы 1480 года помогли Ивану III одержать политическую победу над ханом Ахматом в ходе знаменитого стояния на Угре. В. В. Каргалов отмечает не только наличие сговора между Казимиром и Ахматом, но и то, что на первом этапе войны главной целью ордынцев было соединение с польско-литовским войском[34]. Сам выбор места для московского лагеря на берегу Угры определялся необходимостью поставить преграду на прямой дороге, ведущей в Литву. Однако Казимир, занятый внутренними распрями, не пособил ордынцам. «Король же не поиде к нему, ни посла рати, была бо ему свои усобицы»[35]. По мнению И.Б. Грекова, заговор против Казимира представлял большую опасность, так как «превратить польского короля в пассивного наблюдателя мог только действительно широкий размах подготавливающегося движения»[36]. Федор Вельский был щедро награжден великим князем, получив «город Демон вотчину да Мореву со многими волостьми». Впоследствии князь Федор, претерпев опалу, пользовался значительным влиянием при дворе и даже женился на племяннице государя рязанской княжне Анне Васильевне. Сватая своего сына за Елену Стефановну, Иван III таким образом отдавал «долг» ее дяде. Вспомним и то, что бабка Елены Анастасия Васильевна – дочь Василия I и Софьи Витовтовны в 1446 году прислала в Москву из Киева своего шпиона, чтобы наблюдать за действиями Дмитрия Шемяки и сообщать брату Василию II Темному о намерениях и планах его врага всячески помогала брату и его сторонникам, бежавшим в Литву[37]. Но в первую очередь великим князем двигала не благодарность к тетке, а расчет на союз с отцом невесты молдавским господарем Стефаном Великим. Женитьба Ивана Молодого на самом деле укрепила авторитет наследника – его супруга могла рассчитывать на реальную поддержку в Молдове, Литве и в самой Москве. Елена Стефановна, получившая в Москве прозвище Волошанки, явно пришлась по душе государю. Трудно судить, испытывал ли Иван Васильевич «комплекс» перед честолюбивой, энергичной и образованной Софьей Палеолог. Но вот в его семью вошла женщина, как и Деспина, столь непохожая на московских боярынь – умная, развитая, общительная. Вокруг нее собрался кружок московских интеллектуалов, да и сама Елена обладала несомненным талантом. Выполненная ею пелена считается замечательным памятником древнерусского художественного шитья и одной из первых светских картин Московской Руси. К невестке Иван Васильевич имел право относиться покровительственно, чего он, разумеется, не мог позволить по отношению к суровой нравом супруге и что безусловно льстило самолюбию государя. На отношения Ивана III с супругой и старшим сыном непосредственным образом повлияло поведение близких государя во время Ахматова нашествия. В эти тяжелые месяцы Иван Молодой проявил себя как самостоятельный лидер, энергичный военачальник, соправитель не по титулу, а по сути – человек, на которого можно опереться в трудную минуту. В феврале 1480 года, в то время когда Ахмат угрожал Москве, братья великого князя Андрей и Борис Большой подняли мятеж. Их выступление вызвало большой переполох во всем княжестве. «И ради была вси людие, была во страсе велице от братьи его, вси гради была в осадах и по лесом бегаючи, мнози мерли от студени без великого князя»[38]. Государю пришлось отвлекать внимание и силы для ликвидации внутренней угрозы. Выступление братьев напомнило о той опасности, которую несут в себе междуусобицы, посеянные амбициозными планами Софьи. События 1480 года самым плачевным образом отразились на репутации Деспины. Грекиню в Москве никогда не любили, но общественное мнение окончательно отвернулось от нее, после того как великая княгиня ввиду угрозы Ахматовой рати бежала в Заволжье. Московский летописный свод сообщает о том, что великая княгиня «бегала от татар на Белоозеро, а не гонял никто же, и по которым странам ходили, тем пущи татар от боярьскых холопов, от кровопиицев христианских, въздай же им, господи по делом их»[39]. Летописец противопоставляет позорное бегство Софьи поведению матери великого князя, которая «не захоте бежать, но изволи в осаде сидеть»[40]. Помимо обвинений Софьи в бегстве в документах той эпохи мы найдем обвинения в адрес советников Ивана, советовавших тому подчиниться хану и избежать столкновения с ордынцами. Об этом пишет ростовский упископ Вассиан Ивану III: «ближних своих, иже советующих ти неблагое, отверзи их и далече отгони, сиречь отсещи, и не послушал совета их»[41]. К.В. Базилевич отмечает тенденциозность летописной записи и предполагает ее более позднее происхождение, а также других произведений, посвященных борьбе с Ахматом – «Повести о стоянии на Угре» и «Послания на Угру» великому князю от ростовского епископа Вассиана[42]. Г.В. Вернадский полагает, что владыка Вассиан действительно писал обращение к государю, но оригинальный текст позднее, скорее всего в 1498 году, был заменен на политический памфлет[43]. Соглашаясь с доводами К. В. Базилевича о позднем происхождении подобных негативных оценок поведения Софьи и части приближенных великого князя, заметим, что они не отменяют достоверность самих событий и отношения к ним москвичей. Разумеется, Софья не покинула бы Москву без ведома великого князя, но вряд ли ее отъезд – инициатива Ивана Васильевича, скорее всего государь пошел навстречу желанию супруги, хотя оно и не пришлось ему по душе. Тем паче Софья не просто покинула великого князя, но нашла пристанище в удельных владениях Верейско-Белозерских князей. В Москве оставался весь двор и бояре, митрополит Геронтий, соправитель Иван Молодой, мать государя инокиня Марфа, его дядя, правитель белозерского уезда Михаил Андреевич Верейский, странное исключение было сделано только для Деспины. Мы даже не знаем, последовали ли вместе с Софьей ее дети, хотя последнее подразумевается, мы не имеем данных на этот счет. Как бы ни были предубеждены против Софьи позднейшие авторы, вряд ли в 1480 году москвичи, и без того настроенные против Софьи, оставили ее отъезд без язвительных комментариев. Разброд среди государевых советников также вряд ли можно отнести к выдумкам. Упоминания о них встречаются в различных источниках. «Тогда же была многа размышлениа во многих человецех: овии тщахуся до крове и до смерти с поганными братися; овии же на бегство умышляху, своего живота щадяще, Землей же Русстей предателей хотяху явитися, а безеерменом норовники», – сообщает Никоновская летопись[44]. Старомосковские бояре, как столетие назад Вельяминовы, опасались полного разрыва с Ордой. Одним из таких «норовников» предстает приближенный Ивана III Григорий Мамон из старомосковского рода Нетлмчей. Старомосковских бояр встречаем и среди сторонников Софьи: так, на Белоозеро Деспину сопровождали Василий Борисович Тучков и Андрей Михайлович Плещеев.  Стояние на Угре
А. А. Зимин полагает, что «побег Софьи вызвал неудовольствие у части московской знати»[45]. Очевидно, что к этой части принадлежали Патрикеевы и их сторонники. Впрочем, в то же время опрометчивый поступок Софьи дал повод бросить тень на грекиню и ее окружение. В Боярской думе образца 1475 года было равное число и Патрикеевых, и Морозовых – по трое. Братья Василий и Иван Тучко еще с 60-х годов занимали ключевые позиции и в Думе, и при дворце[46]. Но возрастающее влияние Патрикеевых заставило их задуматься о своем политическом будущем. С рождением Василия Деспина превратилась в центр притяжения сил, которые мы будем условно называть «партией реванша», что и Заставило «партию власти» перейти к более активным действиям. В 1482 году после женитьбы Ивана Молодого и перехода на московскую службу Федора Вельского позиции Патрикеевых еще более укрепляются, а оппоненты терпят первые поражения. Около 1483 года великий князь повелел распустить дворы братьев Тучко Морозовых, еще одного Морозова – Михаила Яковлевича Русалки и других старомосковских родов. Отношение великого князя к Деспине явно переменилось к худшему. Со всей очевидностью неблаговоление великого князя проявилось в 1483 году, после того как у Елены Волошанки и Ивана Молодого родился сын Димитрий. В свое время Софье было разрешено носить украшения первой жены великого князя Марии Тверской – «саженья» с каменьями и жемчугом, теперь великий князь потребовал от Деспины вернуть драгоценности, дабы передать их невестке. Гордая Софья, безусловно, по достоинству оценила издевательский подтекст и символическое значение этой передачи. Бесконечно одинокая и чужая в Москве, она долгих шесть лет страстно ждала рождения мальчика, который при удачном стечении обстоятельств мог наследовать русский престол. В Шумиловском списке Никоновской летописи содержится рассказ «О чюдесном зачатии и рождении великого князя Василия Ивановича», в котором говорится о том, что Софья родила «три дочери изрядны, сына же тогда не успе роди не единаго». Летописец сообщает, что супруги «о сем скорбь имяху и Бога моляху, дабы даровал имъ сынове родити в наследие царству своему, еже и получиша»[47]. Странно, что Иван Васильевич переживает об отсутствие наследника, который у него в то время уже был (очевидно, это вставка более позднего периода), а вот чувства Софьи вполне понятны. Три года спустя после рождения сына Василия великий князь демонстративно выразил предпочтение появившемуся на свет внуку и его матери. Унижением эпизод с драгоценностями не ограничился. Выяснилось, что отдавать Софье Фоминичне нечего, «понеже бо много истеряла». Кроме того, великокняжеские «саженья» Деспина передала своей племяннице Марии Палеолог, бывшей замужем за князем Василием Верейским. Итальянский финансист, способствовавший передаче, был арестован, Мария и Василий Верейские бежали в Литву. Похоже, что Софья и ее приближенные пострадали не от спонтанно возникшего пожелания Ивана Васильевича, а от хитроумной интриги, воскрешающей в памяти хрестоматийную историю с подвесками из «Трех мушкетеров». Недруги великой княгини, узнав о том, что Софья своевольно распорядилась драгоценностями, надоумили государя потребовать их у жены, прекрасно представляя возможные последствия этого шага. По мнению Л. В. Черепнина, ситуация с саженьями отразила реальное взаимотношение политических сил в Москве: намечался блок с Литвой Твери и московских удельных князей, и эти оппозиционные элементы завязали отношения с Софьей Палеолог. Недаром после побега Василия Михайловича Верейского Иван велел арестовать каких-то иноземцев, возможно близких к Софье Палеолог. Передача «сажений» Марии Тверской Елене Волошанке означало признание прав Ивана Молодого на тверское княжение. Эти замыслы должны были вызвать протесты Софьи Палеолог, которая вступила в оппозиционный по отношению к государю блок, так как закрепление за линией Ивана Молодого великого княжения лишало прав Василия[48]. Вскрывшийся проступок дискредитировал Софью и нанес серьезный удар по ее окружению, и прежде всего Морозовым, которые и после инцидента с «саженьями» продолжали держаться Софьи. Например, третий «думец» из морозовского рода – Григорий Васильевич оставался у великой княгини осенью 1485 года, когда Иван Васильевич во главе войска выступил в поход на Тверь. В 1485 году братья Тучко Морозовы были «поиманы». А.А. Зимин полагает, что их опала связана с укреплением позиций Ивана Молодого и ухудшением положения при великокняжеском дворе Софьи[49]. Клан Морозовых потерпел сокрушительное поражение. Следующее поколение рода начало свою думскую карьеру не с боярства, а с чина окольничьих[50]. Однако борьба между «аборигенами» и «выезжанами» только начиналась. Под Знаменем Киевской Руси Московская Русь вышла из подчинения ордынских ханов, однако последствия двухсотлетней зависимости, несомненно, оказали влияние на различные стороны жизни русского общества, в том числе и на характер государственного управления. Мнение о том, что московские государи переняли приемы и обычаи монгольских «царей», доминирует в историографии. Из ордынского наследства привычно выводят корни российского «тоталитаризма». При этом московская государственность предстает полной противоположностью политическому устройству Киевской Руси. Прежде эту мысль подчеркивали историки, работавшие за рубежом, а в последнее время ей уделяют повышенное внимание многие российские исследователи. Так, Г. В. Вернадский подчеркивал, что политическая жизнь русской федерации киевского периода строилась на свободе: «Три элемента власти – монархический, аристократический и демократический – уравновешивали друг друга, и народ имел голос в правительстве по всей стране. Даже в суздальской земле, где монархический элемент был наиболее сильным, и бояре, и городское собрание, или вече, имели право слова в делах. Типичный князь киевского периода, даже великий князь суздальский, был просто главой исполнительной власти правительства, а не самодержцем»[51]. По мнению историка, «разрушение в монгольский период большинства крупных городов Восточной Руси нанесло сокрушительный удар городским демократическим институтам, в киевский период процветавшим по всей Руси»[52]. «Если мы хотим узнать, где Москва обучалась науке царствования (не как некоего идеала, а как реально действующего института), нам следует обратиться к Золотой Орде», – заключает американский исследователь Ричард Пайпс[53]. Схожую точку зрения недавно высказал М.П. Одесский: «В домонгольской Руси власть была рассредоточена между «углами» «четырехугольника»: князь – вече – боярство – церковь. Конструкция была цельной, хотя в одних землях сильнее было боярство (Юг – Галицкая Русь), в других – вече (Новгород, Псков, Вятка), в третьих – князь (Северо-Восток – Владимирская Русь). Различными были и удельный вес, и реальное влияние церкви. Однако ни в одном из случаев князь не был единственной властью, и ситуация в целом была похожа на европейскую. Как только Андрей Боголюбский, словно действуя по принципу «власть – все», решил подмять под себя бояр и народ, его отправили на тот свет: не было у князя той «массы насилия», которая позволила бы ему сломать «четырехугольник», превратив в сингулярную точку Власти. Проблему решила Орда. Именно ее появление обеспечило тем князьям, которые шли на службу ордынскому орднунгу – Александру Невскому, а затем московским Даниловичам – ту «массу насилия», которая обесценивала властный потенциал боярства и веча»[54]. Не случайно М.П. Одесский упоминает Андрея Боголюбского – это крайне неудобный пример для сторонников ордынских корней русской государственности. Задолго до появления на Руси монголов Боголюбский вел себя как настоящий восточный деспот. «Властолюбивый князь, изгнавши братьев и тех бояр, которые недостаточно ему повиновались, правил в своей земле самовластно, забывши, что он был избран народом, отягощал народ поборами через своих посадников и тиунов и по произволу казнил смертью всякого, кого хотел»[55]. Несмотря на то что народ и бояре имели причины недолюбливать князя, смерть Андрея Боголюбского не связана с реакцией общества на его деспотические замашки, как на это намекает М.П. Одесский. Заговор, стоивший ему жизни, созрел в среде узкого круга приближенных князя, осуществлявших ту самую непопулярную самодержавную политику. Среди заговорщиков, как заметил Костомаров, было немало иноземцев: «чувствуя, что свои имеют повод не любить его, он думал обезопасить себя таким способом»[56]. Налицо обычный дворцовый переворот, слабо связанный с отношением населения к деяниям государя, против которого данный переворот направлен. Впрочем, жизнь и смерть Андрея Боголюбского не составляет труда отнести к тем пресловутым исключениям, которые только подтверждают правило. Однако из подобного рода исключений состоит вся государственная практика Московской Руси. Обратимся к предложенному М. П. Одесским «четырехугольнику»: князь – вече – боярство – церковь. Касаясь первого пункта, необходимо отметить отсутствие доказательств того, что Иван III, Василий III и даже Иван Грозный были самодержавными властителями. И боярство, и церковь, и даже вече (как это случилось в Москве в 1547 году) на протяжении XV—XVI вв. с разной степенью эффективности выполняли задачу ограничения царской власти. В историографии укрепилось представление о сословно-представительной форме московской монархии, что никак не вяжется с доктриной об ордынском влиянии. Пытаясь защитить столь уязвимое место, Ричард Пайпс предлагает рассматривать Боярскую думу и Земские соборы «как временные учреждения, в которых у государства поневоле была нужда до тех пор, пока оно не смогло позволить себе добротного административного аппарата»[57]. Но Земские соборы относятся к законодательным, а не распорядительным органам, а Боярская дума, хотя в известном смысле играла роль правительства, ни в коей мере не могла заменить административный аппарат или хотя бы помочь ему. Кроме того, соборы, созывавшиеся на протяжении столетия, а тем более думу никак нельзя назвать «временными учреждениями». Их истоки кроются в обычаях киевского периода, когда дружина жила одной жизнью с князем не только в военное время. «С ней он советовался и в мирное время обо всех делах управления… Но относительно внутреннего управления князья советовались только с избранными советниками, со старейшей или большей дружиной», – замечает Н. П. Павлов-Силванский[58]. В первое столетие ордынской зависимости, когда князья выступали в роли послушных исполнителей ханской политики, а все остальные должны были подчиниться им в этом качестве наместников, «коллегиальное начало» в принятии решений сводится к минимуму. Но по мере того, как русские властители начинают проявлять все больше самостоятельности и начинают противодействовать Орде, процесс принятия политических решений усложняется, возрождается и все большее значение приобретает практика советования со «старшей дружиной», из которой постепенно вырастает Боярская дума. Во времена митрополита Алексия и Дмитрия Донского она приобретает значительный вес. Перед кончиной великий князь заповедовал сыновьям: «боары своя любите, честъ имъ достойную въздавайте противу служений ихъ, без воли их ничтоже не творите»[59]. Созыв «Национальной ассамблеи» 1471 года означал, что на этом этапе развития власть сочла необходимым для обсуждения некоторых задач привлекать более широкий круг советников, представляющих не только «старейшую», но и остальную часть «дружины». Наконец, эта практика возродилась уже в форме Земских соборов. Что касается веча, то этот демократический институт под гнетом княжеской власти действительно теряет свое значение, поскольку вече превратилось в главный оплот сопротивления монгольскому диктату, вступив в фатальное противоречие с политикой московских князей, служивших проводниками ордынской воли. У князей не оставалось выбора: они либо должны были полностью контролировать ситуацию, подавив очаги антимонгольских выступлений, либо им пришлось бы расстаться с властью, а то и с жизнью. Здесь мы сталкиваемся с последствиями конкретной ситуации, а не с результатом воздействия политического строя или определенного государственного института. Однако появление Земских соборов и становление земского самоуправления в конце XV – начале XVI века в определенной степени компенсировало отмирание веча. Роль церкви в структуре московской власти также нельзя оценить однозначно. С одной стороны, великие князья все больше вмешиваются в церковные дела, но не Орда служила им образцом. С другой стороны, вмешательство это встречает серьезное сопротивление, которое светская власть оказывается не способной преодолеть, когда речь заходит о принципиальных вопросах, как это случилось на соборе 1503 года и Стоглавом соборе эпохи Ивана Грозного. Сами совещания представителей духовенства стали новьм и весьма заметным явлением в русской жизни после отказа от ордынской зависимости. Их прототипом можно считать созванный в 1147 году в Киеве собор русских епископов, независимо от воли Константинополя избравший нового митрополита. В завоевавшей независимость Москве не подражали Золотой Орде, а пытались восстановить порядок, существовавший во времена Киевской Руси, так как отождествляли себя с ее правителями, а не с золотоордынскими ханами. Впервые идея исконного единства Русской земли и преемственности ее власти и политической традиции была выражена предельно ясно Иваном III в марте 1471 года в послании к новгородцам. «Отчина есте моя, людии, Новгородстии, изначала от дед и прадед ваших, от великого князя Володимира, крестившего землю Русскую, от правнука Рюрикова первого великого князя в земли вашей..»[60] Более того, Иван настаивает на том, что «казнити волны же есмь, коли на нас не по старине смотрити начнете». Иван угрожает новгородцам карами, потому что обязан защитить от мятежных посягательств законное положение вещей, сложившееся почти пять столетий назад – при Владимире Святом. Именно в этом послании впервые в официальном документе московский князь был назван «Государем всея Руси». На позицию великих князей, безусловно, в значительной степени повлияли внешнеполитические факторы. Киевская «старина», возрождение державы Рюриковичей становятся тем знаменем, под которым московские государи борются за собирание русских земель – от Корелы до Тмутаракани, от Галиции до Рязани. Ричард Пайпс указывает на то, что во время последнего наступления на Казань и Астрахань Иван IV называл их своей вотчиной. «Это утверждение могло означать лишь одно – что он смотрел на себя как на наследника хана Золотой Орды»[61]. Иван Грозный был человеком своеобразным: смотрел на себя и как на недостойного Ивашку, и как на потомка императора Августа, не исключено, что в иную минуту он мог представлять себя и наследником хана. Но если мы обратимся к официальным документам, отражающим точку зрения правительства, то увидим, что во времена Ивана III, Василия III и Ивана IV летописи непременно величают казанских ханов «царями». Так, в 1487 году «князь великий Иван Васильевич всеа Русин царя Махмет-Аминя из своей руки посадил на царство в Казани, а коромольных князей и уланов смертию казнили иных коромольников; а царя Алегама съ царицею послал князь великий в заточение в Вологду»[62]. Итак, для московского летописца Иван Васильевич «великий князь всея Руси», а Мухаммед-Эмин (Махмет-Аминь) – «царь», хотя и посажен на царство «из руки» московского государя, а перед тем «бил челом, а назвал себе его великого князя отцом». «Царем» остается и сведенный с престола и отправленный в ссылку Али-хан (Алегам). Зная щепетильное отношение властей к титулатуре, невозможно представить, чтобы летописец именовал казанских правителей «царями» в то время, когда великий князь почитал себя наследником хана Золотой Орды. В январе 1502 года Иван III послал в Казань войско, которое восстановило власть Мухаммед-Эмина, свергнутого ханом Абдул-Латыфом. Своему союзнику крымскому хану Менгли-Гирею московский князь так объяснял причины, заставившие его произвести смену правителей в Казани: «И он (Абдул-Латыф) на чем нам шерть дал, в том нам во всем солгал, все почал делати не потому; а людем, аки Руси, так и бесерменом, учял велику силу чинити и всей земле Казанской учял лих быти; ино уж не мочно было от него лиха терпети»[63]. Несмотря на то что великий князь, как и пятнадцать лет тому назад, грубо вмешался в казанские дела, мы не видим даже намека на то, что Иван рассматривает ханство как свою «вотчину», хотя, кажется, наступил самый подходящий момент разыграть эту карту. Однако причина свержения Абдул-Латыфа совсем иная – нарушением им союзнических, а точнее вассальных обязательств. Уже в конце правления Ивана III Казань не представляла серьезной угрозы для Руси: было очевидно, что казанская проблема рано или поздно будет решена. Зато ханское наследство лишало Москву всяких оснований в борьбе с Литвой. А ведь задачу собирания киевских земель Русскому государству удалось решить (и то не до конца) лишь в конце XVIII века. Киевское наследство позволяло московским князьям не только оспаривать первенство с властителями Литвы, но и претендовать на лидерство среди прочих русских князей. Наконец, если бы потомки Ивана Калиты возомнили себя наследниками Тохтамыша, а не Владимира Мономаха, то не почитали бы себя выше Гедеминовичей, которые Орде никогда не подчинялись. В этом случае сомнительно, чтобы московские князья доверяли Патрикеевым, Вельским, Мстиславским занимать столь важные государственные посты. Действительно, титул «царь», который переняли московские государи, ранее относился к ханам Золотой Орды. Г. В. Вернадский отмечает в этой связи, что «вполне естественным для московского правителя было принять титул его прежнего сюзерена»[64]. Однако в последнее время это представление подвергается пересмотру. Так, по мнению А.А. Горского «ведущую роль в обосновании легитимности царского титула у московского великого князя сыграло все-таки, по-видимому, утвердившееся к началу XVI века представление о том, что царским достоинством обладали правители Киевской Руси»[65]. Именно в наследии Киевской Руси, а не в развалинах Золотой Орды черпали материал и вдохновение московские великие князья для строительства величественного здания Московской Руси. Глава 2 ДУХ И БУКВА На наших островах, – продолжала миссис Дэвидсон своим пронзительным голосом, – мы практически искоренили лава-лава. В них ходят только несколько стариков. Все женщины носят длинные балахоны, а мужчины – штаны и рубашки. В самом начале нашего пребывания там, мистер Дэвидсон написал в одном из отчетов: «Обитатели этих островов по-настоящему проникнутся христианским духом, когда всех мальчиков старше 10 лет заставят носить штаны». Безмолвная молитва Около 1485 года в 15 верстах к северу от Белозерского монастыря недалеко от места погребения основателя обители игумена Кирилла, что у излучины речки Соры, преподобный Нил Майков построил часовню и келью, положившие начало Нило-Сорскому скиту. Очевидно, место тогда понравилось преподобному старцу своей уединенностью и пустынностью. Болота, «мхи великие и непроходимые», делали его труднодоступным для мирских людей. Преподобный Нил выбрал Сору как место, удобное для жизни по скитскому обычаю. «И повсюду обретается въ святых писаниях, – пишет в своих главах «О мысленном делании» преподобный Нил Сорский, – похваляемо иже с единем или съ двема безмолвие, яко же и самовидцы быхом въ святей горе Афонстеи и в странах Цариграда, и по инех местех многа суть такова пребывания»[66]. Про Нила – до пострижения Николая Майкова – известно, что приблизительно в двадцатилетнем возрасте он принял постриг в Кирилловом монастыре. Обитель была известна нестяжательством, унаследованным еще от преподобных Сергия и Кирилла, наставлявших братию, уподобляясь апостолу Павлу, довольствоваться самым мальм, «ибо корень всех зол есть сребролюбие». Когда Николай вступил в обитель, еще были живы ученики преподобного Кирилла, его постриженники. Иноки стремились во всем подражать покойному учителю. Проницательный игумен Кассиан выбрал в наставники Николаю одного из самых опытных и мудрых старцев Паисия Ярославова, который, в свою очередь, был воспитанником святогорца Дионисия[67]. Беседы Нила с побывавшим на Востоке игуменом Кассианом, с Паисием и другими старцами обители, собственные размышления над прочитанным, услышанным утвердили его в желании посетить христианский Восток. Предполагают, что Нил ушел на Афон приблизительно в 1475 году, то есть после двадцатилетнего пребывания в Кирилловом монастыре. На Афоне и в Константинополе Нил пробыл около десяти лет. На Святой горе он нашел то, что искал: высшую школу духовного делания и идеальный образец иноческого жития, там он стал последователем учения исихастов о мистическом слиянии человека с Богом. Исихазм не новое явление, а скорее возвращением к истокам монашеской жизни, к аскетическим подвигам египетских пустынников. Теоретиком и проповедником исихазма выступил афонский монах, впоследствии архиепископ города Салоники Григорий Палама (1296 – 1359), который, в свою очередь, развивал идеи Симеона Нового Богослова и Григория Синаита. По учению Паламы, человек, возлюбив Бога, способен посредством молитвы приобщиться к Божественной энергии, то есть живой и повсеместной действующей Божественной Благодати и возвыситься до самого Бога и увидеть воочию свет Его предвечной славы. «Эта божественная и несозданная благодать и энергия Божия, уделяемая без ущерба, наподобие солнечного луча, придает озаряемым свое собственное сияние», – пишет русский философ Иван Ильин[68]. Многие подвижники исихазма видели славу Божию в виде ослепительного и неописуемого света, подобного тому, что апостолы увидели на горе Фавор. Краеугольным камнем практики духовного сосредоточения, или «умного делания», стало многократное обращение к Всевышнему с Иисусовой молитвой, заключенной в словах «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй мя грешнаго». Само же слово «исихазм» происходит от греческого «исихия» – «молчание», так как для достижения необходимого состояния духа исихасты практиковали «умную» молитву, читая ее про себя – «в уме». Русская традиция исихазма сложилась задолго до основания Сорской пустыни. На Русь исихазм стал проникать почти сразу же за распространением его на Балканах еще при митрополите Феогносте (1328 – 1353). Первой дошедшей до нас русской литературной реакцией на учение византийских мистиков считается «Послание новгородского архиепископа Василия тверскому епископу о рае», датированное 1347 годом[69]. С середины XIV века византийская культура, и прежде всего письменная, широким потоком полилась на Русь. По оценке исследователей, за столетие, прошедшее с этого времени, русская литература увеличилась вдвое[70]. В этом отношении примечательным является быстрое по времени и широкое по объему усвоение древнерусской литературой творений патриарха Филофея Коккина, которое исследователь А.Г. Дунаев называет «уникальным»[71]. Многие сочинения Филофея были переведены на русский язык при его жизни, причем именно патриаршья редакция Божественной литургии утвердилась на Руси с конца XIV века в качестве нормативной, а его Учительное Евангелие пользовалось неизменным авторитетом[72]. Нил Сорский, несомненно, познакомился с основными положениями исихазма еще до поездки на Афон. В книгах Кирилла Белозерского имелись «наставления и руководства по «безмолвию», где рекомендовалось постоянное повторение Иисусовой молитвы»[73]. Нил знал об исихазме и от своего наставника Паисия Ярославова. Г.М. Прохоров, исследовав рукописи, принадлежавшие Паисию, пришел к выводу, что они ясно указывают на созерцательный исихастский склад ума и характер интересов создателей и владельца этих книг[74]. Затем последовало еще более тесное знакомство с учением и практикой молчальников на Святой горе. Е.В. Романенко отмечает, что преподобный Нил Сорский изучал практику умной молитвы на Афоне незадолго до того, когда там подвизался сам Григорий Палама, а афонские старцы были самыми горячими приверженцами его учения[75]. В сочинении старца Нила «О мысленном делании» цитаты из творений древних и «новых» учителей исихазма находятся рядом. Основное внимание всего келейного правила монаха скита сосредоточивалось на «умной молитве», на достижении безмолвия – исихии, когда «не молитвою молится ум, – пишет преподобный Нил, – но превыше молитвы бывает; и в обретении лучшаго молитва оставляется, в изступлении бывает, и ни хотениа имать чего». Преподобный Нил Сорский говорит об этом словами святых Григория Синаита и Симеона Нового Богослова: «О молитве… прилежно попечение имети, всех помысл ошаася в ней, аще мощно; не точию злых, но и мнимых благых и искати в сердци Господа, еже есть умом блюсти сердце в молитве и внутрь сего всегда обращатися..»[76]. Но почему влияние исихазма на русскую церковь, а через нее, как мы увидим ниже, и на политику Москвы оказалось столь велико и многообразно? Что именно привлекло русских клириков и мирян в мистическом учении последователей Симеона Нового Богослова, Иоанна Лествичника и Григория Паламы? Как заметил Г.М. Прохоров, византийские исихасты нащупали какую-то скважину в глубине человеческой души[77]. «Сердцевина учения Григория Паламы заключается в том, что благодать не есть какой-то тварный дар, который Бог нам дает, вместе с тем оставаясь Сам иным по отношению к этому дару.. он учил, что благодать – это сам Бог, как бы приобщающий нас к Своей Божественной природе, делая нас через это общение богами по приобщенности. Думая, что благодать является только даром Божиим, но не Самим Богом, Который Себя нам предает, западные богословы утверждали как бы непроходимость пропасти между Богом и человеком, творением и творцом. … Но нет! Опыт Церкви нам говорит, что благодать – это сам Бог, Себя нам отдающий, и что, принимая благодать, мы делаемся, по приобщению, участниками Божественной природы»[78]. «Единение с Богом совершается не в том смысле, что человек становится Богом, а в ином, более утонченном значении, – замечает Иван Ильин, – человек приемлет, каждый в меру своих сил, своего очищения и своей свободной искренности, благодать Божию, как бы врастает в ее дары и преображается от этого в духовный свет, духовную силу и духовный огонь. Он вступает в воздух благодати, оставаясь человеком; он приобщается силам Божиим, не переставая быть единичной тварью; он становится участником Царства Божия, которое «внутрь нас есть»[79]. Исихастский метод позволил русским людям по-новому взглянуть на христианское вероучение. Крещение Руси в значительной степени свелось к замене языческих богов христианскими святыми во главе с единым, «главным» Богом. Этот новый Бог был грозен в своей непостижимости и универсальности, но по этой же причине евангельские ценности оставались для большинства русских, включая многих священнослужителей, всего лишь чудодейственной сакральной формулировкой. Бог существовал «сам по себе», а его чада – сами по себе. Исихазм рушил эту стену, и потому русские с таким вдохновением ринулись в образовавшийся пролом. По мнению некоторых исследователей, русскому средневековому массовому сознанию, мало изощренному в идеалистических тонкостях греческой богословской мысли, импонировал в паламизме как раз момент возможности конкретно-чувственного восприятия духовногосвета[80]. Белорусская исследовательница Л.В. Левшун считает, что «исихазм воспринимался восточными славянами не на теоретико-научном уровне, но как особое мироощущение и определяемая им иерархия духовных и деятельно-служебных ценностей»[81]. Разумеется, нельзя говорить о том, что идеология исихазма получила массовое распространение, но питала немногих подвижников и мыслителей, которые в свою очередь служили образцом духовного подвига. Исихазм дал интеллектуальный импульс для зарождения и развития русского православного гуманизма – своего рода «Московского Ренессанса». Его содержание в отличие от западного Ренессанса – возврат к первоосновам христианства, а не к античным традициям, не охлаждение религиозного чувства, а более глубокое и эмоциональное осмысление христианского идеала. На Западе язычество возрождается, на Востоке – умаляется. На Западе человек возвышается тем, что выводится из-под «подчинения» Бога, на Востоке – тем, что утверждается реальность приобщения к Божественной благодати. В Московской Руси распространение исихазма стимулировало интеллектуальную активность, развитие творчества, оказывая воздействие не только на содержание, но и на стиль, форму искусства той эпохи – литературы, духовного пения, но в первую очередь – иконописи. Творчество ряда поколений очень разных иконописцев – Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия – в глубинных свои основаниях питалось исихастекой эстетикой «света – красоты – славы», хотя они по-разному преломляли ее в своем творчестве, своим искусством утверждая возможность бесконечного совершенствования человека, способного преодолеть ограниченность плоти и стать даже «лучше и выше ангела»[82]. Иметь и не иметь По мнению Е.В. Романенко, особое значение монастырской деятельности преподобного Нила Сорского заключалось в том, что он на основании многих источников детально разработал систему монастырского скитского жительства и построил монастырь, уклад жизни которого полностью соответствовал состоянию исихастского безмолвия и созерцания[83]. Впрочем, вернувшись в Заволжье и основав скит, Нил не собирался удаляться от мира. В эти годы в северных обителях с их сильным исихастским влиянием, складывается движение, духовным вождем которого он вскоре станет. Поволжские старцы критически оценивали состояние современной церкви, и прежде всего монастырское житие, обремененное хозяйственными и земледельческими заботами. Так образовалась партия, прозванная «нестяжательской». Учитель Нила Паисий Ярославов на собственном опыте убедился в порочности монастырского стяжательства, когда по настоятельной просьбе Ивана III принял игуменство в Троице-Сергиевом монастыре. Как отмечает летописец: «… принуде бо его дотоле князь великий у Троицы, в Сергееве монастыре, игуменством быти. И не може чернецов превратить на божии путь, на молитву и на постъ и на въздръжание, и хотеша его убити, бяхо бо тамо бояре и князи постригшиеся не хотяху повинутися, и остави игуменство»[84]. Подобному монастырскому беспутству Паисий и его соумышленники противопоставили скитское уединение, которое позволяло двум-трем инокам прожить собственным трудом и сосредоточиться на внутренней духовной работе. Нестяжательство логично вытекает из идеологии византийского исихазма. Прот. Иоанн Мейендорф видит практический вывод из доктрины исихазма в том, что ее последователи «обычно не стремились защищать монастырское имущество»[85]. А.И. Алексеев обращает внимание на памятник византийской литературы «Наказание святого Иллариона к отрекшимся мира Христа ради», в котором с горечью говорится о владении селами и жажде наживы, обуявшей Христовых слуг: «Хульно же и проклято еже видети мнихасан в миру приемлюща, и мирская строяща, и богатства беруща». «Именно такие произведения воспитали мысль Нила Сорского и его учеников», – отмечает исследователь[86]. Впрочем, многие историки и публицисты, как светские, так и церковные, отказываются признать в Ниле Сорском борца со стяжательством. Так, А.И. Плигузов утверждает, что «Нил, вопреки мнению многих исследователей, отнюдь не являлся столь радикальным мыслителем, каким он выведен в публицистике 40 – 60-х годов XVI в. и более позднего времени». Исследователь настаивает на том, что Нил ратовал за «средний путь» – средний между лаврской организацией общежительного монастыря и полным отшельничеством анахоретов, который сам по себе не ставил под сомнение достоинств общежительных монастырей и, следовательно, монастырского землевладения как важнейшего условия их существования[87]. Обратимся к первоисточнику – «Преданию» Нила Сорского, в котором преподобный сообщает следующее: «Святыми же отцами свято предано нам то, дабы ежедневную пишу и прочее нужное, что Господь и Пречистая Его Матерь для нас устроят, (приобретали) мы себе от праведных трудов своего рукоделия и работы. Не работающий, – сказал апостол, – да не ест, ибо жительство и нужды наши от наших собственных трудов должны устраиваться. А делать подобает то, что возможно под кровом. Если в общежитиях по нужде похвально и под открытым небом, (например), упряжку волов гнать пахать и иное что-либо тяжелое своими силами делать, говорит Божественное Писание, то для живущих уединенно это достойно укора. Если же в нуждах наших не удовлетворимся мы от работы своей, по немощи нашей или по иной какой-нибудь уважительной причине, то можно принимать немного милостыни от христолюбцев – необходимое, а не излишнее. Стяжание же, принудительно от чужих трудов собираемое, вносить (к себе) отнюдь нам не на пользу, ибо как, их имея, можем сохранить мы заповеди Господни: Хотящему с тобою судиться и взять твою рубашку отдай и верхнюю одежду и другие подобные, будучи страстными и немощными? Но должными (таких стяжаний), как яда смертоносного, избегать и отвергать их»[88]. Нил здесь верен следующим наказам Симеона Нового Богослова: «Не только безмолвствующий или находящийся в подчинении, но и игумен и настоятель над многими.. должен быть беспечален, то есть совершенно свободен от всяких житейских дел. Тот, у кого разум занят заботой о житейских делах, не свободен, ибо он одержим заботой об этом и порабощен ей, будет эта забота о нем самом или о других[89]. Несомненно, Нил Сорский действительно делал различия между келлиотскими общинами и общежитиями, но только в вопросе о работах вне стен обители и внутри оных. Никаких прочих послаблений для общежительных монастырей Нил не предусматривал, следовательно, нет никаких оснований приписывать преподобному некий «средний путь». По мнению А.И. Плигузова, из поучений Нила невозможно вывести оправдания для изъятия земель у общежительных монастырей. Действительно, ни Нил, ни его последователи нигде не говорили о владении землей, его протест вызывает владение селами. Нил в своем «Предании» ясно указывает на то, что практика стяжания сел получила широкое распространение в последнее время, и эта практика вызывает у него беспокойство и протест, поскольку излишняя озабоченность материальной стороной монастырской жизни ведет к обмирщению. Очевидно, что обработка земли насельниками общежительных монастырей, а значит, и само владение земельными наделами вполне допустимо. Вместе с тем преподобный однозначно настаивал на недопустимости феодальной зависимости крестьян от монастырей. В конце xiv века последователь исихазма митрополит Киприан писал о том, что «занеже пагуба черньцем селы владети»[90]. При жизни Нила он и его сторонники «настаивали на том, чтобы «у монастырей сел не было, а жили бы чернецы по пустыням, а кормились бы рукоделием…». Свою позицию они недвусмысленно выразили на церковном соборе 1503 года: «Приходит же к великому князю и Нил, чернец с Белаозера, высоким житием словый сый, и Денис, чернец каменский, и глаголют великому князю: «Не достоит чернецем сел имели»[91]. Спустя полвека старец Вассиан настаивал на том, что «преже сего вси святии отци начальницы сел у монастырей не держали»[92]. Вместе с тем нестяжатели не выступали против владения пустошами, которые монахи могли возделывать самостоятельно, что вполне соответствовало практике афонских монастырей. Вплоть до XIX века Нилова пустынь не имела пахотной земли, скота, скит никогда не владел селами и деревнями. Следуя заветам основателя скита, монахи почти никогда не участвовали ни в каких строительных работах, не работали в поле. Устав запрещал им частые выходы из кельи и долгое пребывание вне ее. Строили церкви, мостили мосты, мшили стены в кельях, чинили печи в Нило-Сорском скиту наемные люди, которым платили из скитской казны[93]. Поэтому Нил Сорский разрешал своему монастырю принимать милостыню нужную, но не излишнюю: «Аще ли не удовлимся в потребах наших от деланна своего за немощь нашу… то взимати мало милостыня от христолюбцевъ нужная, а не излишняа»[94]. Такой «нужной милостынью» вполне можно считать «государево жалованье», ругу, выплачиваемую с 1515 года – уже после смерти преподобного, так как оно не нарушало нестяжания ни монастыря, ни монахов – это был минимум, необходимый для пропитания монахов. Преподобный полагал, что «истинное же отдаление сребролюбиа и вещелюбиа не точию не имети имениа, но и не желати то стяжати»[95]. Здесь Нил говорит об идеале, но реально достижимое нестяжание, по Нилу, – не надрывный аскетизм, а «неимение излишнего». Это характерно как для его отношения к телесным потребностям (меру «пищи и питиа» он определяет просто – «противу силе своего тела и души окормлениа кыиждо да творитъ, бегая пресышениа и сластолюбиа»)[96], так и его отношения к имуществу монастырей. Но значит ли это, что требования Нила не были «радикальными». Ведь отказ от владения крестьянами означал серьезный удар по благосостоянию многих монастырей, поэтому программа нестяжателей встретила ожесточенное сопротивление, которое выражалось и в том, чтобы приписать противникам монастырской эксплуатации крестьян несуществующие требования. Отсюда, вероятно, происходит мнение о борьбе нестяжателей за секуляризацию монастырских земель. Великий Инквизитор Русские исихасты ясно и недвусмысленно определили свое отношение к стремительному обогащению монастырских корпораций. Противоположная группа, защищавшая имущественные права монастырей, получила название «стяжателей». А.И. Алексеев связывает развитие любостяжательского направления и обоснования землевладельческих прав церкви с широким распространением поминальной практики, в результате которой монастыри стали получать значительные вклады, в том числе земли и села[97]. «А ведомо тебе, колко люди добрые давали денег да сел, а велели собя писати в вечное поминание, и кормы по себе кормити, ино тех память всех погыбнет, а мы пойдем вси по двором» – отсюда доктрина неотчуждаемости церковных имуществ[98]. Автор этого откровенного заявления, признанный вождь любостяжательской партии Иосиф Санин, будущий игумен Волоцкого монастыря, был моложе сорского отшельника. Восемнадцать лет он провел в послушании в Боровском монастыре у преподобного Пафнутия. После смерти настоятеля в 1478 г. управление обителью перешло к Иосифу. Желая установить совершенное и полное общежитие братии, новый игумен предпринял путешествие по другим монастырям в поисках путей должного устроения иноческой жизни. Порядок, какой он желал учредить в своем братстве, преподобный нашел в Кирилло-Белозерской обители. Казалось, Нил и Иосиф прошли одну монашескую школу, испытали влияние одного идеала. Но так ли это? Нил вернулся на Русь с православного Востока спустя семь лет после того, как Иосиф основал Волоцкий монастырь. Нравы, которые Нил застал в Кириллове и которые взял за основу Иосиф, показались Нилу «испорченными» в сравнении с тем, что существовали здесь 20 лет назад, и тем более – с тем, что он увидел и узнал на Афоне. Если Иосифу показалось, что в обители в полноте и строгости бережно сохранился общежительный устав, заповеданный преподобным Кириллом, то Нил заключил, что заветы основателя подзабыты, что и послужило одной из причин удаления в скит. Какие нравы царили в то время в Кирилловой обители можно судить по «брани», имевшей место в 1478 году, – именно тогда, когда устройство монастыря брал за образец Иосиф. Насельники белозерской обители захотели выйти из подчинения ростовского владыки, чтобы монастырь «ведати» удельному князю Михаилу Андреевичу. В конфликт пришлось вмешаться великому князю, который указал ведать монастырь по старине ростовскому архиепископу. «Се же все зло бысть отъ тогда бывшаго Кириллова монастыря игумена новоначалного Нифонта и отъ новоначалныхъ старцевъ, – отмечает летописец, – а старью старци, иже святаго ихъ монастыря постриженики, вси съ слезами тогды молиша Бога, и пречистую Богородицу и великыхъ чюдотворцевъ Леонтия и Кирила, чтобы укротилъ Богъ брань, а им бы жити въ повиновании у своего святителя у ростовского архиепископа, как жилъ ихъ преподобный старецъ Кирилъ»[99]. Новый игумен Нифонт привел за собой в обитель у Белого озера многих своих споспешников, которые потеснили коренных обитателей монастыря, бережно хранивших нестяжательские заветы Сергия Радонежского и его любимого ученика Кирилла. Если Иосиф с энтузиазмом черпал вдохновение в замутненном «новоначальными» пришельцами источнике, то Нил имел возможность на Востоке познакомиться с оригиналом. Впрочем, Нил и Иосиф рассматривали уклад Кириллова монастыря под разным углом. Г.П. Федотов замечает, что Кириллов удовлетворяет Иосифа «не духовностью, а уставностью: «не словом общий, а делы»[100]. Здесь, возможно, кроется одна, но, разумеется, не главная, причина того, что Иосиф в своей просветительской деятельности увлекается внешним, предпочитая поиску путей к человеческой душе организационный масштаб, в то время как Нила интересует прежде всего содержательная сторона, интимный контакт, встреча человека – Божия творения с Творцом, что составляет смысл христианской веры. Цель волоцкого игумена состоит в идее «социального служения и призвания Церкви». Однако запас духовной пищи, который Иосиф готов был предложить своей пастве, оказался до крайности скуден. Нельзя сказать, что Иосиф был плохо осведомлен об исихасткой доктрине. Напротив, как установили исследователи, монашеская келейная литература преподобного Иосифа Волоцкого полна выписок из исихастских трудов об «умной молитве»[101]. Я.С. Лурье обнаружил сочинения Симеона Нового Богослова о «Фаворском свете», переписанное рукой Иосифа Волоцкого[102]. Отмечен и его интерес к скитской форме монастырской жизни. В частности, сохранились датированные списки «Скитского патерика», написанные специально по заказу для преподобного Иосифа Волоцкого (в 1487 г.) и его сподвижника архиепископа новгородского Геннадия (в 1493 г.)[103]. Волоколамские монахи постоянно «держали молитву Иисусову», как и афонские старцы. Инок Иосифо-Волоколамского монастыря должен был за день вычитать 100 молитв Богородице и 1900 Иисусовых. Архимандрит Нижегородского монастыря Досифей, побывавший на Афоне в конце XIV века (на столетие раньше преподобного Нила), сообщает, что афонские монахи, которые отдельно живут в кельях, всякий день прочитывают половину Псалтири и по 600 молитв «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Таким образом, питомцы Иосифа в своем молитвенном усердии даже превозмогли афонских коллег. Между тем, в среде иосифлян мистические видения рассматривались как несомненный соблазн, а практика «умной молитвы» не получала распространения и вызывала негативное отношение[104]. Если целью заволжцев являлось Богопознание, то иосифляне не шли дальше Богопослушания. «Духовное окормление иноков Иосиф строит не на совершенствовании души и воли, а на внешне безупречном поведении монаха… – сообщает исследователь истории русского монашества И.К. Смолич. – Старцы тоже видят в послушании хорошее средство новоначального инока, но они используют его именно как средство и всегда стремятся к тому, чтобы в духовном руководстве учитывать своеобразие личности ученика…»[105]. Богослов Георгий Флоровский так формулирует коренное различие нестяжателей и иосифлян: «… завоевание мира на путях внешней работы или преодоление мира через преображение и воспитание нового человека, через становление новой личности»[106]. Заволжцы следовали заветам Григория Паламы, который учил, что «по отношению к миру человек является сокровищем: как в большом доме некая многоценная вещь является более ценной того, что превосходит ее большими размерами»[107]. Идеология нестяжателей – гуманизм, но гуманизм не антропоцентрический, а подлинно христианский. Нил и его единомышленники прежде всего помнят, что человек сотворен по подобию Божиему, что Бог дал ему силы следовать Его заветам и наследовать Его царство, дал способность постичь Божественную благодать. В такого человека верят заволжцы. Иосифлянство прежде всего философия величайшего недоверия к человеку и неверия в его духовные силы: он слаб, опасен, не способен самостоятельно стать добрым христианином, ему требуется поводырь, его железной рукой необходимо загонять в Царствие Небесное. В этом смысле Волоцкий игумен – прямой предтеча Великого Инквизитора Достоевского. Взгляды Иосифа на человеческие слабости и способы их исправления ярко проявились во время церковного собора 1503 года, который обсуждал вопрос о вдовых священниках. Многие иереи, лишившись своих законных супруг, заводили сожительниц и давали волю телесной похоти, вводя в немалый соблазн паству. Участники собора при самом активном содействии преп. Иосифа пошли по самому простому пути – постановили лишать вдовцов священства. Волоцкий игумен не остановился перед выступлением против церковных традиций и установлений, указав для приличия на случаи, когда поздние соборы отменяли установления более ранних. «Очень многие консерваторы поступают таким образом, что для них не существует противоречий и что все то для них хорошо, что в данную минуту их оказывает: в нашем случае преп. Иосиф является принадлежащим именно к числу этих консерваторов», – рассуждает явно смущенный поведением игумена историк церкви Е. Е. Голубинский[108]. Однако вряд ли можно согласиться с подобным умозаключением: беспринципность во имя целесообразности в равной степени присуща как традиционалистам, так и реформаторам – дело не в воззрениях человека, а в его моральных качествах. Кроме того, решение собора было несправедливым и жестоким по отношению к чистым делами и помыслами вдовым иереям. Ростовский священник Георгий Скрипица, указав на неправое решение, выступил со встречными обвинениями в адрес церковной верхушки: «Не от вашего ли нерадения и небрежения, что злых не казнили, не отлучали от священства?.. Благословно ни сами ни священники избранными не дозираете священников, а во грады и в села не посылаете опытовати, како кто пасет церковь Божию»[109]. Иосиф на подобные попреки отвечал тем, что иными способами «немощно злое то прелюбойдейство искоренити». Вот и вся нехитрая философия волоцкого игумена, универсальный способ решения всех проблем: чтобы пресечь грех, надо уничтожить саму возможность его появления, чтобы наказать грешников, надо наказать всех, потому что все способны поддаться слабости. Любая свобода есть искушение слабого человека, неспособного бороться со злом, потому бороться с грехом можно одним унтер-пришибеевским способом: «тащить и не пущать». На этих принципах строилась жизнь Волоцкой обители, в которой порядок поддерживали так называемые «соборные старцы» (обыкновенно их было не менее десяти человек), в чью задачу входило пресекать развращения и доносить о проступках иноков настоятелю[110]. Заволжские иноки упрекали Иосифа в том, что он руководствуется Ветхим Заветом, забывая Евангелия, и напоминали ему, что «…любовь к согрешающим и злым превозмогла и утолила гнев Божий… В благодати Нового Завета владыка Христос открыл союз любви, чтобы брат не осуждал брата, а только Бог судил грехи людей, сказав: «Не судите, не осужденны будете»[111]. Мир Иосифа – это Ветхозаветный мир – мир, до появления в нем Сына Божия, мир без Благодати и спасения, мир, в котором невозможно покаяние и избавление от власти греха. Характерно, что когда в Волоцкий монастырь был прислан еретик Семен Кленов, то Иосиф сетовал на то, что отступников направляют на покаяние, когда их надо только казнить. «Одни исходят из любви, другие из страха..», – замечает в этой связи Г.П. Федотов[112]. В противостоянии взглядов Иосифа и Нила словно воскрешается дискуссия середины XIV века между Григорием Паламой и Варлаамом Калабрийцем. Если первый считал, что человек способен постичь Бога, то второй полагал, что необходимо Бога «адаптировать» к человеку. Варлаам и Иосиф схожи в своем недоверии к духовной силе человека, к его способности к восхождению. Разница между ними в том, что Варлаам, сбежав из Византии в Италию, стал одним из идеологов зарождающегося Возрождения, которое привлекает человека к Богу, делая его земным и доступным – «привлекательным», а Иосиф полагается на насилие, сводя богопознание к исполнению устава караульной службы.  Иосиф Волоцкий пишет обличительные словеса против еретиков
«Дисциплинировать необузданного первобытного человека, научить, заставить его «ходить по струнке» – это то, о чем он тосковал и в меру достижения чего он испытывал искомое удовлетворение», – так вдохновенно рисует А. В. Карташев портрет то ли прусского капрала эпохи Фридриха Великого, то ли лагерного вертухая из нашей недавней истории[113]. Схожую оценку, но с противоположным знаком высказывает И. К. Смолич: «Он (Иосиф) воспитывал инока не воздействием на его совесть, не доказательствами духовного достоинства аскезы, а запугиванием непослушных»[114]. Совсем иное отношение к падшим встречаем мы у заволжцев. «Аще ли же кто от братии от разлениа или небрежениа испадет от преданных ему в некых, исповедати подобает сиа настаящему, и тъи, якоже подобает, исправит съгрешениа. И тако аще в келии лучится съгрешение, или вне где изшедшему, исповеданием исправити сиа», – говорится в «Предании» святого Нила Сорского[115]. Нежелающие изменить свою жизнь должны были оставить монастырь. Самовольно ушедших, но раскаявшихся и вернувшихся иноков вновь принимали в скит. «Внушение чувства страха и покорности, привносившееся в общественное сознание иосифлянской идеологией, явно дисгармонировало с традиционными установками древнерусского православия на любовь, всепрощение и личный пример, который являло собой современное и оппозиционное иосифлянству нестяжательство», – отмечает В.В. Мильков[116]. По разные стороны политических баррикад Иосиф Санин принял постриг в Боровском монастыре у преподобного Пафнутия, со временем став его любимым учеником. После кончины настоятеля в мае 1477 года согласно его завещанию великий князь утвердил Иосифа игуменом Боровского монастыря. Новый настоятель беседовал с государем, который, если верить агиографу, принял его с «великой любовию». Но идиллия в отношениях между Иосифом и Иваном III продолжалась недолго. В мае 1479 года Иосиф с небольшим числом близких единомышленников прибыл в стольный город князя Бориса Волоцкого Рузу. В историографии обычно рассматриваются обстоятельства экономического и «профессионального» характера: у настоятеля возник конфликт с Иваном из-за монастырских холопов. Кроме того, настоятель был вынужден покинуть обитель из-за столкновений с монашеской братией, которую он попытался заставить жить по строгому общежительному уставу. Некоторые исследователи сомневаются если не в реальности конфликта игумена и иноков, то в его причинах. И.У. Будовниц указывает на то, что Пафнутий придерживался общежительного устава, следовательно, никаких радикальных перемен в укладе монастырской жизни произойти не могло[117]. В ответ на это А. А. Зимин приводит слова агиографа Иосифа Льва Филолога, сообщившего, что положение вещей изменилось именно после смерти Пафнутия[118]. Однако между смертью Пафнутия и поставлением Иосифа прошло несколько месяцев, которые вряд ли перечеркнули многолетнюю монастырскую практику. Кроме того, А.А. Зимин полагает, что Пафнутий не проводил начала общежительного устава с неукоснительной последовательностью, как Иосиф[119]. Последний ужесточил требования к постриженикам и встретил отпор с их стороны. Возможно. В то время когда Иосиф покидает Боровск, возникает упоминавшийся выше конфликт между братией Троицкого монастыря и игуменом Паисием Ярославовым. Ситуация, на первый взгляд, схожая: строгий настоятель намерен наставить постриженников на путь истинный. Но схожа только внешняя канва. Паисий Ярославов был в Троицком монастыре чужаком, ему не на кого было опереться. Иосиф в Боровском монастыре провел 20 лет, здесь постригся и прожил 15 лет до своей смерти его отец, здесь же жили его братья Вассиан и Акакий, братанич Досифей Топорков[120]. Вряд ли круг его сподвижников ограничивался родственниками. Сомнительно, чтобы Иосиф, к тому времени известный своим подвижничеством при дворе великого князя, в других монастырях не имел авторитета среди иноков. По своим личным качествам Паисий и Иосиф антагонисты. Паисия отличал мягкий характер, полное отсутствие честолюбия, свидетельством чему – отказ от предложения великого князя занять митрополичью кафедру. Иосиф – полная противоположность: настоящий лидер, волевой и жесткий, не обделенный жаждой власти и успеха. Нет оснований сомневаться в том, что между новым боровским игуменом и его подопечными могли возникнуть разногласия. Вместе с тем Иосифу было по силам выйти из подобного столкновения победителем, но он предпочел ретироваться, что вовсе не в его характере. Похоже, что ссылка на конфликтную ситуацию не более чем предлог, призванный хоть в какой-то степени смягчить впечатление, произведенное на Ивана III переездом Иосифа к волоцкому князю. Великий князь и его окружение имели все основания рассматривать этот шаг как демонстрацию неповиновения, дерзкий вызов, который должен был получить широкий резонанс среди духовенства и мирян. Государь, безусловно, знал о настроениях в Троицкой обители, чем попытался воспользоваться Иосиф, проведя параллель между своим отъездом и событиями в Троице. Иосиф перешел под покровительство Бориса Волоцкого в то время, когда он и Иван Васильевич находились в состоянии «холодной войны», накануне открытого мятежа, когда удельные братья задумали передаться королю Казимиру. Потому переезд игумена был равносилен предательству. Государь явно не ожидал от нового воровского игумена подобной выходки, которая шла вразрез не только с намерениями великого князя, но и политикой его предшественника и благодетеля Пафнутия. В 1473 году в результате размежевания земель между Волоцким уделом и владениями Ивана III земли, на которых расположен монастырь, переходили к Борису Васильевичу, однако по челобитью Пафнутия обитель была оставлена за Московским государем[121]. А.А. Зимин отмечает, что переезд к Борису состоялся только против желания великого князя, а значит, он ясно представлял, что этот шаг влечет за собой разрыв установившихся связей с Иваном Васильевичем. «Уход Иосифа Санина из Пафнутьева монастыря в удел князя Бориса Волоцкого означал не просто перемену места жительства игумена, а смену его политической ориентации», – резюмирует А.А. Зимин[122]. Рассматривая обстоятельства возникновения удельных симпатий Иосифа, следует учитывать, в первую очередь, его происхождение из семьи волоцких вотчинников. Как уже отмечалось, обитель находилась во владениях Бориса Васильевича. Мать Ивана и Бориса Мария Ярославна, дочь воровского князя Ярослава Владимировича, ходатайствовала за младшего сына, чтобы тот в 1473 году получил земли в бывшем боровском княжестве. Очевидно, князь Борис претендовал на весь удел своего дяди по матери Василия Ярославича, который уже много лет жил в заточении в Вологде[123]. Несомненно, волоцкий князь был заинтересован в дружеских отношениях с боровской обителью. По-видимому, на решение Ивана Санина принять монашеский сан в Боровском монастыре повлиял не столько совет одного тверского старца, как следует из агиографической литературы, сколько воля отца, служившего волоцкому князю, которого Борис Васильевич, по сообщению Досифея Топоркова, «зело почиташе». Отметим, что постриженнику в то время шел 21-й год, и он был обязан прислушаться к мнению родителей. Вскоре отец будущего игумена Иван Григорьевич сам стал иноком Боровского монастыря. Следовательно, прошел небольшой срок со времени появления в обители Иосифа, который не мог серьезно повлиять на решение отца, очевидно имевшего свои достаточно ясные представления о Боровском монастыре. Обитель Пафнутия находилась в непосредственной близости от Верейского княжества – владений дяди государя Михаила Андреевича (от Вереи до Боровска не более тридцати верст). Удельный князь и его семья имели тесные связи с монастырем и Боровском. Достаточно сказать, что Михаил Андреевич Верейский был женат на боровской княжне Елене Ярославне. Похоронен князь в обители преподобного Пафнутия, которой он завещал деревню[124]. Таким образом, Боровский монастырь оказался в поле притяжения двух главных центров удельной политики – Рузы и Вереи. М.Н. Тихомиров, рассматривая социальный состав братии основанного Иосифом после отъезда из Боровска Волоцкого монастыря, отмечал, что «сам старец Иосиф вышел из мелкого или среднего служилого люда… Большинство старцев Волоцкой обители были того же происхождения. Это были мелкие служилые люди, разоренные и обиженные крупными феодалами…»[125]. Это обстоятельство сближало Иосифа с «партией реванша», с удельными князьями и старомосковским боярством, группировавшимся вокруг Софьи Палеолог, что наряду с близостью к удельным дворам продиктовало выбор, сделанный им в мае 1479 года. Отъезду Иосифа к Борису Волоцкому предшествовала почти детективная история двухлетнего исчезновения игумена. Как упоминалось выше, новый настоятель, якобы по совету своих соратников, решил отправиться в паломничество по русским монастырям, дабы ознакомиться с устройством тамошнего быта. Однако командировка «по обмену опытом» сопровождалась странными конспиративными ухищрениями. Иосиф путешествовал, представляясь учеником одного из боровских старцев, и даже, по словам агиографа Саввы Черного, «изыдошя вътай из монастыря, никому не ведящу, токмо его советником»[126]. Досифей Топорков, понимая, что пастырь добрый не может бросить вверенное его попечению стадо на произвел судьбы, даже ради того, чтобы повысить свой профессиональный уровень, уточняет, что Иосиф поручил монастырь «первым от братия». Принципиальной разницы между двумя вариантами нет. А.А. Зимин так повествует о поездке любознательного игумена: «После ухода Иосифа братия Боровского монастыря обратилась к Ивану III с просьбой назначить им нового игумена, при этом сообщая об исчезновении Иосифа. Великий князь им категорически отказал: «нет вам игумена опричь Иосифа» – и повелел разыскать беглеца. Когда Иосиф был обнаружен, то вдогонку за ним великий князь послал своих доверенных лиц. На время Иосифу удалось скрыться. Но волей или неволей приходилось возвращаться и снова становиться Боровским игуменом «пакы понужден тем же самодержьцем»[127]. Красноречивое поведение Иосифа и великого князя в этой ситуации позволяет нам сделать ряд важных выводов. От игумена требовалось испросить разрешение государя на столь длительную и дальнюю поездку, но он не только не ходатайствовал об этом, но и покинул обитель тайно, очевидно, чтобы таким образом выиграть время, понимая, что за ним будет послана погоня. К этому времени Иосиф сделал выбор в пользу Бориса Волоцкого. Он понимал, что его экскурсия по святым местам не пройдет безнаказанно, но, связав свою судьбу с удельным князем, Иосиф уже не так страшился опалы. Разумеется, он пока скрывал свое решение, потому что, прознай о нем Иван Васильевич, познавательный вояж завершился бы весьма плачевно для нашего паломника. Но великий князь не догадывался о том сюрпризе, который приготовил ему Иосиф, и сохранил прежнее благожелательное отношение к ученику Пафнутия, потому решительно отмел претензии боровских иноков и снисходительно отнесся к проступку игумена. Очевидно, ходатайство монастырской братии подтвердило версию о том, что поездка настоятеля спровоцирована конфликтом в обители и горячим желанием Иосифа найти ответы на мучившие его вопросы у своих коллег. Неужели эта шпионская эпопея с тайным побегом, погоней, «переодеванием» в простого чернеца задумана ради того, чтобы побольше узнать об устройстве монастырской жизни? Почему Иосиф не пошел легальным путем и решил, что благоволивший ему Иван Васильевич откажет в удовлетворении столь похвального желания? Мы не сомневаемся, что жадный до новых знаний Иосиф был рад посетить разные киновии, но полагаем, что поездка, быть может, в первую очередь, связана с политическими обстоятельствами. Постараемся проследить маршрут передвижений Иосифа. Рассказывая об этой поездке, А.А. Зимин обращает внимание на то, что в своем трактате «Отвещание любозазорным» игумен-путешественник помещает эпизоды из истории Кирилло-Белозерского, Саввино-Тверского, Симонова и Калязинского монастырей[128]. Нам представляется сомнительным посещение Симонова монастыря. Иосифу было ни к чему показываться в Москве, да и маршрут его путешествия тогда выглядит довольно прихотливо. К тому же у него было немало иных, не сопряженных с приключениями, возможностей посетить московские монастыри. Путь Иосифа скорее всего пролегал через Верею, Рузу и Волоцк, оттуда по новгородской дороге на Тверь. Таким образом, Иосиф оказался «заграницей», во владениях тверского князя Михаила Александровича. Оттуда он спустился по Волге к Калязинскому монастырю, где настоятелем был преподобный Макарий. Иосиф относился к калязинскому настоятелю с глубоким почтением. Умерший спустя четыре года старец стал одним из самых почитаемых «стяжателями» святых. Обитель Макария находилась на землях другого удельного брата великого князя Андрея. Здесь у Иосифа были знакомцы. При погребении Пафнутия кроме постриженников почившего присутствовал один посторонний – «мирскы священник, духовник князя Андрея Васильевича Меньшого Никыта именем»[129]. Преемник Пафнутия, разумеется, общался с попом Никитой, если только не познакомился с ним прежде. Появившись во владениях Андрея, Иосиф мог рассчитывать на пособничество близкого к князю человека. Из углицких земель наш пилигрим поднялся по Шексне до Белоозера и, таким образом, снова попал во владения верейского князя Михаила Андреевича, владевшего белозерскими окрестностями. Получается, что маршрут Иосифа полностью пролегал по удельным землям и Тверскому княжеству, тем территориям, где правили враги Московского государя. Во время пребывания Иосифа в Кирилловом монастыре игуменом был Нифонт, в будущем епископ суздальский. Вспомним, что именно в то время, когда Иосиф восхищался общежительными порядками Белозерского монастыря, игумен Нифонт и его сподвижники спровоцировали спор с ростовским епископом. Причем сторону Нифонта приняли верейский князь Михаил Андреевич и митрополит Геронтий, а епархиального владыку поддерживал Иван III. «Того же лета быть брань межи митрополитомъ Геронтиемъ и Вассианомъ архиепископомъ Ростовскимъ о Кирилове монастыре: начать бо Геронтей отнимати от Ростовские епископии, научаем князем Михаилов Андреевичем»[130]. Вспомним и то, что в следующем году во время нашествия Ахмата сюда на Белоозеро прибудет Деспина Софья со своими сподвижниками. А.А. Зимин обращал внимание на то, что Иосиф считал Нифонта Суздальского «главой всему», то есть главой любостяжательской партии[131]. (Цитаделью нестяжательства Белозерский монастырь стал после переезда Нифонта в Суздаль и после смерти верейского князя Михаила Андреевича в 1486 году, когда белозерский удел Иван III забрал себе.) Между тем нам неизвестны ни письменные, ни устные выступления Нифонта в поддержку иосифлянской программы либо направленные против оппонентов. Следовательно, он выполнял некую закулисную координирующую функцию, способствуя соединению любостяжателей и «партии реванша». С подобной оценкой фигуры Нифонта не согласен А.И. Алексеев, который не находит «никаких оснований считать Нифонта сторонником удельно-княжеской оппозиции». Доводы исследователя сводятся к тому, что Иосиф был архимандритом Симонова монастыря, затем епископом суздальским, в 1478 постриг великую княгиню Марфу, в 1496 году перед ним приносил свое покаяние Иван Васильевич[132]. Заметим, что в 1478 году конфликт Ивана III с братьями не достиг острой фазы, епископом суздальским он стал при митрополите Геронтий, конфликтовавшем с великим князем, а покаяние государя перед Нифонтом скорее свидетельствует об обратном. Подытоживая рассказ о паломнической поездке Иосифа, соблазнительно расценить ее как выполнение специального задания удельных князей накануне открытого выступления против великого князя. Впрочем, стоит признать, что мы не можем представить достаточных оснований для подобного вывода. Хотя задатки агентурного работника у Иосифа, несомненно, присутствовали, в последующем волоцкий игумен не раз засылал своих шпионов в стан нестяжателей. Подвизавшиеся в белозерских скитах иосифовы постриженники Нил Полев и Дионисий Звенигородский рассматривались учениками Нила в качестве враждебной силы[133]. Другой волоцкий инок Андрей Невежа, перебравшись в Кириллов, поносил Иосифа и его обитель, дабы завоевать доверие братии, а затем совместно с Дионисием написал донос на одного заволжца, обвинив его в ереси[134]. Не подлежит сомнению и то, что ввиду обострения политической ситуации Иосиф недвусмысленно занял позицию «партии реванша» и его переезд к Борису Волоцкому, в первую очередь связан с этим обстоятельством. Совместное выступление удельных князей в феврале 1480 года произвело чрезвычайный эффект. Судя по словам летописца мятежники не встречали никакого отпора со стороны великокняжеских сил[135]. Ивану III пришлось срочно возвращаться из Новгорода. Шантаж возымел действие, и Ивану III пришлось выделить Борису весь боровский удел, а Андрею – Можайск. Сам факт возникновения Волоцкого монастыря Московский государь рассматривал как враждебное действие по отношению к великокняжеской власти. В противовес Иосифовой обители Иван Васильевич разрешил основать пустынь в подчиненном Москве Клинском уезде представителю семейства Еропкиных, рассорившегося с Борисом Волоцким[136]. Сотрудничество Нила Сорского с правительственной партией, так же как и удельные симпатии Иосифа Санина, обусловлено не только политическим и философским единомыслием, но и личными мотивами. Нил Сорский, «по реклу» Майков, с детства был грамотным, до пострижения жил в Москве, где служил «скорописцем» и имел родственные связи с высшими слоями московской служилой знати. Нил, тогда еще совсем молодой Николай Майков, и его брат Андрей в середине пятидесятых годов XV века входили в состав правительственной верхушки, так как «скорописец» в то время не мог быть техническим исполнителем в ранге мелкого чиновника. (Отметим, что из среды служилого боярства вышли и Кирилл Белозерский и другой заволжский подвижник современник Нила св. Корнилий Комельский[137]. Перед Николаем открывалась перспектива блестящей политической карьеры, однако которой он предпочел монастырское уединение. Тем не менее будущий инок имел возможность составить личное представление о персонажах будущей политической драмы и движущих ими мотивах. В это время уже входил в силу Иван Патрикеев, деятели его будущего правительства и сам будущий государь Иван III. Брат преподобного Андрей Федорович Майков, известный дьяк великих князей московских Василия II Васильевича и Ивана III Васильевича, в 1450 – 1490 годы составлял грамоты Великого князя и княгини. Андрей Майков был ближайшим сотрудником Федора Курицына. Вместе с Ф.В. Курицыным в 1494 – 1501 годы он принимал послов, а в 1495-м сам ездил в Литву «с посольской миссией». Он также выполнял обязанности их посланца в Спасо-Каменный, Кириллов и другие монастыри. Неудивительно, что Андрея Майкова хорошо знали в Белозере: когда здесь постригся князь Иван Заболоцкий, его звали «Майков друг»[138]. Посещая Заволжье, Андрей Федорович наверняка встречался с братом и, обладая самой полной и достоверной информацией, делился с Нилом сведениями о политической ситуации в Москве. Таким образом, Нил Сорский меньше всего подходит на роль наивного старца, которого из скитской глуши силою обстоятельств вынесло на столичную политическую сцену, где определенные силы, пользуясь его неосведомленностью и «политической незрелостью», могли навязать ту или иную роль, использовать в качестве слепого орудия достижения своих целей, в первую очередь секуляризации монастырского имущества. С недоумением приходится читать комментарии А.Л. Янова, который утверждает, что «всё это нестяжательское движение организовано ИваномIII», который, по мнению историка, «вытащил этихнесчастных старцев, которые хотели жить в келье, вдалеке от светских бурь, и превратил… в политическую партию»[139]. Мысль исследователя, очевидно, питают стереотипы человека далекого от церкви, представляющего скитского насельника в виде оперного юродивого, неведомым образом переместившегося с театральных подмостков в лесную глухомань. Впрочем, чего ожидать от светского исследователя, если богослов Флоровский говорит о том, что заволж-цы «оказались запутаны в политическую борьбу», а церковный историк Карташев пишет, что свои выступления Нил делал «извлеченный из своей пустыни боярской землевладельческой партией»[140]. Как видим, разница невелика: в разных вариантах нестяжатели представлены почти что неодушевленными предметами, в лучшем случае – беглецами из мира, которых против их воли снова и снова в этот мир возвращают. Нам трудно понять, на чем основано это убеждение. Вряд ли будет корректным делать подобный вывод, исходя из аскетической практики исихастов, о чем мы уже говорили выше. Нестяжатели действительно искали для себя уединения и преодолевали мирские соблазны, что, впрочем, не означает их равнодушия к социальным и политическим проблемам, ведь исихия – это цель, а способ ее достижения – «деятельная добродетель». Активность исихастов, их вовлеченность в политическую борьбу и социальные конфликты обусловлены их вниманием к земной жизни. Взгляд исихастов на роль человека в этом мире можно сформулировать следующим образом: если не спасешься сам, не спасет и Бог, но зато тот, кто спасается, может узреть Бога уже в настоящем[141]. Преподобный Симеон Новый Богослов писал: «Праздность и безмолвие – вовсе не одно и то же, но и безмолвие – не то, что молчание.. Ибо первое – удел людей, не желающих ни знать что-либо о причастии божественных благ, ни совершать что-либо доброе, а второе – удел усердно упражняющихся в познании Бога и изучающих слово, наполненное мудростью Божьей»[142]. Если мы обратимся к жизненному пути «неотмирного» исихаста св. Григория Паламы, то увидим, что он неоднократно и самым решительным образом вмешивался в политическую жизнь Византии. В октябре 1341 года Палама на шесть лет попал в тюрьму после того, как открыто выступил в поддержку Иоанна Кантакузина могущественного вельможи, боровшегося за императорский престол. Будучи епископом Фессалоникийским, Палама сумел примирить враждующие городские группировки, а также обращался к императору с требованиями снизить подати с бедняков и поставить на место бесчинствующих чиновников военных. Исихасты не остались в стороне, когда униаты стали угрожать византийскому православию, и проявили себя наиболее последовательными и непримиримыми защитниками веры и противниками католической экспансии. С таким же успехом мы можем изобразить преподобного Сергия Радонежского в виде искателя уединения, которого периодически в силу разных обстоятельств «вытаскивают» в мир и «запутывают» во всевозможные государственные хлопоты. Сергий не раз выполнял политические поручения московского правительства, а вернее митрополита Алексия. Так, в 1358 году скитский житель Сергий вел переговоры с ростовским князем Константином Васильевичем о признании власти московского князя. В 1365 году он ездил в Нижний Новгород упрашивать тамошнего князя Бориса явиться в Москву для разбирательства спора со своим братом и после отказа затворил все городские церкви. В 1385-м преподобный мирил Олега Рязанского с Дмитрием Донским. Сергий Радонежский и его племянник Федор помогли утвердиться на митрополичьей кафедре ставленнику паламитов болгарскому игумену Киприану, причем для этого им пришлось вступить в открытый конфликт с великим князем Дмитрием Ивановичем. Во всех этих случаях преподобного Сергия никто не вытаскивал из Троицкой обители и не превращал в посредника для улаживания различных политических неурядиц. Нельзя путать уединение, как важное условие для духовного сосредоточения, с эгоистическим одиночеством, «неотмирность» – с прострацией, и тем более представлять внимание к проблеме личного совершенствования как невнимание к судьбе окружающих, судьбе страны. Пытался ли Иван I использовать Нила и его сторонников в своих целях? Несомненно. (Даже предположим на минуту, что именно с подобным поручением великого князя и ездил Андрей Майков в Заволжье.) Но только ли великий князь пытался это делать? И был ли он первым, кому пришла в голову идея привлечь на свою сторону скитских обитателей. Наверняка и Нил Сорский рассчитывал по-своему использовать верховную власть, сделать ее своим союзником. Вопрос о том, кто кого использовал и кто наиболее в этом искусстве преуспел, остается открытым. Политическая активность заволжцев обусловлена и тем обстоятельством, что их отношение к монастырским стяжаниям встречало поддержку самых разных слоев общества. В конце XV века все лучшие земли были разобраны. Рост вотчинного землевладения остановился. Замедлился (в том числе и по этой причине) и рост монастырского землевладения. Кроме того, сокращались вклады в обители светских феодалов: сельское хозяйство переживало подъем, и теперь вотчинники все менее охотно расставались со своими владениями, которые обеспечивали хороший доход. Черносошные земли требовались центральной власти для наделения поместьями. Вследствие дефицита плодородных земель конкуренция между землевладельцами усиливается, растет число поземельных тяжб. Именно в то время, по выражению С.Б. Веселовского, «на исторической сцене у служилого землевладельца появился страшный соперник в лице монашествующей братии»[143]. Встречное наступление велось на монастырские земли. Крестьяне и феодалы старались вернуть, а иногда присвоить земли, захваченные монахами в период междоусобной смуты. Л.И. Ивина, рассказывая о попытке крестьян захватить земли Симонова монастыря в Дмитровском уезде, отмечает, что в данном эпизоде отразилось «общее» настроение по отношению к монастырским землям. Борьба с «монашествующей братией» за великокняжеские (тягловые) земли, по замечанию исследовательницы, велась «отдельными крестьянами, целыми волостями и княжескими управителями»[144]. В этой ситуации защитники монастырских стяжаний попадали если не в изоляцию, то, по крайней мере, оказывались в роли аутсайдеров, и вынуждены были блокироваться с такими же аутсайдерами – «партией реванша» старомосковского боярства. Напротив, сочувствие общества к идеям нестяжателей придало движению ярко выраженный политический акцент. Заволжцы не могли и вряд ли стремились отказываться от миссии, возложенной на них самим ходом исторического развития. Глава 3 ЕРЕТИКИ И ПРАВЕДНИКИ Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое; Ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду; Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, Чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Проказы «неизвестных прелестников» Поводом для похода Ивана на Новгород в 1471 году послужил договор между городской верхушкой и польско-литовским королем Казимиром: «…волны есмя люди Великий Новъгород бъем челом тебе, честному королю, чтобы еси государь нашему Великому Новугороду и нам господин был, и архиепископа вели нам поставити своему митрополиту Григорию, и князя нам дай из своеа дръжавы»[145]. Однако другая группировка новгородской знати, очевидно пытавшаяся лавировать между Москвой и Вильно, опередила оппонентов, пригласив в Новгород православного киевского князя Михаила Олельковича. Он хотя и был подданным Казимира, но, как замечает К. В. Базилевич, вряд ли был желанной фигурой для короля в качестве его наместника в Новгороде: «Сохранив православие и близкую связь с населением Киев-шины, Олельковичи находились в оппозиции к правящей династии»[146]. Обосновавшихся в Киеве представителей ответвления рода Гедиминовичей многие на Литве рассматривали в качестве претендентов на престол. В середине 50-х была сделана попытка свержения Казимира, взамен которого великое княжение предполагалось передать брату Михаила Семену Олельковичу. В 1461 году на сейме в Вильне литовские паны открыто требовали от Казимира – либо жить не в Польше, а в Литве, либо предоставить ей отдельного князя; при этом опять называлось имя Семена Олельковича[147]. Добавим, что, когда Казимир обнаружил намерение заменить греческую церковь униатской, лишь братья Симеон и Михаил Олельковичи откликнулись на призыв митрополита московского Ионы к православным Литвы защитить истинную веру и убедили архипастыря в своей верности. Еще и по этой причине авторы договора с Казимиром, призывавшие непризнанного Москвой литовского митрополита Григория Цамблака назначить им епископа, никак не могли рассчитывать на то, что король назначит наместником киевского князя. Михаил Олелькович прибыл на берега Волхова в ноябре 1470 года. В сопровождавшей его свите состоял некто Схария (или Захарий Скара) – личный врач князя, по другим сведениям, купец. Собственно, ничто не мешало энергичному интеллектуалу совмещать оба занятия, равно как и увлечение астрологией и другими науками. Вместе с новым князем приехало несколько соплеменников-единомышленников последнего. Эта группа, как предполагает А.В. Карташев, относилась к некоей «модернистской караимской секте»[148]. Спустя неполных пять месяцев Михаилу Олельковичу и его окружению пришлось покинуть берега Волхова. Князь не смог удержать власть в раздираемом политическими противоречиями городе. Гораздо больше преуспел его придворный. За короткое время Схария сумел увлечь своими взглядами нескольких новгородских священников. Новгородское духовенство заведовало в городе торговыми весами и мерами, что обеспечивало пришельцам благоприятную возможность общения и последующей проповеди для насаждения своих взглядов среди духовного сословия[149]. В Литве и на Руси в те времена не делали различий между правоверным иудаизмом и караимами – особым направлением Моисеевой веры, потому исповедуемое лекарем-купцом-ученым и его новыми соратниками учение получило наименование «ереси жидовствующих». Этот традиционный термин подвергли сомнению Я.С. Лурье и Н.А. Казаковой: «ересь жидовствующих название полемическое и неверное по существу». Исследователи настаивали на отсутствии какой-либо связи новгородской ереси и иудаизма, и как следствие этого отрицали реальность существования иудейского вероучителя Схарии, побывавшего в Новгороде и создавшего там группу единомышленников. По мнению Я.С. Лурье и Н.А. Казаковой, новгородской ереси «иудейский» характер гораздо позднее в начале XVI века придал Иосиф Волоцкий в ходе работы над своим «Просветителем»[150]. Однако документальные свидетельства, помещенные в книге Я.С. Лурье и Н.А. Казаковой, опровергают их версию. Так новгородский епископ Геннадий в 80-е гг. XV века сообщает, что «был в Новгороде князь Михаил Олелькович, а с ним жидовин еретик, да от того жидовина распростерлась ересь в новгородской земли». В феврале 1489 года тот же Геннадий пишет о том, что он «обретох здесь еретиков жидовская мудръствующих». А в Соборном приговоре зафиксированы обвинения еретиков в «жидовостве»[151]. Так что преп. Иосиф и его «Просветитель» здесь не причем. Незадолго до описываемых событий вольнолюбивый Новгород породил знаменитый раскол стригольников, упоминания о которых прослеживаются до 1427 года. Стригольники начали с обличений «поставления пастырей по мзде», а затем перешли к развернутой реформационной программе: призывали к публичному покаянию, отвергали таинство исповеди, учили, что искупительные обряды не способны спасти христианскую душу, равно, как и подношения церкви, крестили не младенцев, а взрослых людей. Выступление стригольников обнаружило склонность образованных новгородцев к дерзким помышлениям о путях постижения истины, несовершенном устройстве церковной жизни. Однако, судя по отзывам современников, «жидовствующие» в сравнении со своими предшественниками решительно порывали с христианской доктриной. Основная идея еретиков состояла в «неотменности» Ветхого Завета, а значит, и завета Бога с Авраамом, Моисеевых законов, положения учительных и пророческих книг. Они якобы отрицали Святую Троицу и божественность Христа, им приписывали поругание Святого Креста, икон и прочие страшные богохульства. Согласно официальной версии, берущей свое начало от преп. Иосифа Волоцкого, «жидовская» ересь проникла в Москву и нашла там горячих поклонников на самом верху. Произошло это следующим образом. Иван III во время пребывания в Новгороде в конце 1479 года якобы был настолько очарован талантами и обходительностью хитрых вольнодумцев-протопопов Алексея и Дениса, что великий князь распорядился не только перевести их в Москву, но и назначить настоятелями главных московских храмов – Успенского и Архангельского. Следуя все той же традиционной версии, протопопы Алексей и Денис, оказавшись в Москве, «совратили» «министра иностранных дел» Ивана III дьяка Феодора Васильевича Курицына, а в роли соблазнителя невестки великого князя Елены Волошанки выступил другой новгородский еретик Иван Максимов, приходившийся протопопу Алексею тестем[152]. Следовательно, нам предлагают поверить в то, что небольшая группа полуграмотных иереев отвратила от лона православия государя, его министра, невестку и множество придворных. Куда более правдоподобным представляется вывод А.В. Карташева о том, что перевод протопопов в Москву подсказан государю московской ветвью «жидовствующих». Более того, историк уверен, что не эти малообразованные провинциалы были движущей силой еретичества, а человек «широкого европейского горизонта» Федор Курицын[153]. Вероятнее всего, на фигуры новгородских иереев указал великому князю кто-то из его ближайшего окружения. Правда, А. В. Карташев не развивает далее свою мысль, очевидно опасаясь покинуть наезженную колею традиционной версии. На наш взгляд, совершенно напрасно. Отметим, что за несколько месяцев до поездки Ивана Васильевича в Новгород, а именно в августе 1479 года, во время освящения нового Успенского собора приключился необычный инцидент. «Неции прелестници клеветаша» великому князю на митрополита, который якобы неправильно поступил, совершая крестный ход вокруг церкви со крестами не по солнечному всходу. «Сего ради гнев възджвиже на нь князь велики, яко того ради, рече, гнев Божий приходит»[154]. «Неизвестные прелестники» – люди, несомненно, влиятельные и книжные, потому что Иван Васильевич совершенно уверился в правоте их доводов и в неправоте митрополита Геронтия. Мы полагаем, что на роль придворных экспертов более всего подходят любимец Ивана Васильевича дьяк Курицын и его единомышленники. Цель затеянной провокации очевидна: скомпрометировать главу церкви, фигуру потенциально опасную для еретиков. Скандал получился столь шумным, что Геронтию пришлось удалиться от исполнения своих обязанностей. Его место могли занять фигуры, которые устраивали закоперщиков интриги – Паисий Ярославов или игумен Зосима, который, в конце концов, и сменил спустя несколько лет Геронтия. После того как прибывшие в Москву новгородские иереи заняли должности настоятелей крупнейших кремлевских соборов, позиции «неизвестных прелестников» в церковной верхушке еще более укрепились. Крымский след Но если мы согласимся с тем, что кружок еретиков появился в Москве до появления там Алексея и Дениса и независимо от них, то нам необходимо выяснить, каким образом «жидовская» ересь проникла в Кремль. Для этого от церковных дел обратимся к внешней политике. Иван III и его дипломаты усердно и умело налаживали сношения с балканскими государствами и Крымским ханством. В результате образовалась антиказимировская коалиция Русь – Венгрия – Молдова – Крым. Наиболее могущественным и последовательным союзником Москвы был хан Менгли-Гирей, с которым русские соединялись в борьбе против еще одного общего недруга – остатков Золотой Орды. Неудивительно, что в политике московского двора на южном направлении ключевое значение имели отношения с Бахчисараем. Первые шаги по установлению союза с Крымом были предприняты Иваном III в 1472-73 гг. через кафинца Хозию Кокоса, тесно связанного с Менгли-Гиреем и независимым княжеством Феодоро[155]. Полномочия Кокоса не ограничивались крымскими делами. Через Крым русские послы направлялись на Балканы, например посольство Штибора в Венгрию. Преимущественно через Крым осуществлялись сношения с Молдавией. Таким образом, крымский посланник вовлекался в обширный круг забот русской дипломатии. К.В. Базилевич полагает, что Иван III очень дорожил услугами Хозии Кокоса, посылал ему «поминки» и «жалованье» и в переговорах с ним соблюдал почти те же формы, как и в сношениях с владетельными лицами. Не случайно в роли правительственного агента выступил кафинский купец. В конце XV века генуэзская колония Кафа (Феодосия) с населением 70 тысяч жителей являлась одним из крупнейших городов и торговых центров Восточной и Центральной Европы, куда стекались торговцы и товары из множества государств, в том числе из русских княжеств[156]. Россия занимала значительное место в товарообороте Кафы. Когда весной 1492 года Иван III не отпустил торговых людей в Крым, кафинский паша исчислил убыток в 60 тысяч алтын[157]. Особенно широкий размах «сурожская» торговля Москвы с Кафой и через Кафу приобрела именно во второй половине XV века[158]. Кроме того, по замечанию К. В. Базилевича, «Крым являлся очень удобным местом для собирания политических новостей»[159]. Именно в Кафе сметливый человек получал редкую возможность завязать обширные связи, получить самую разнообразную информацию, не будучи заподозренным в чем-то предосудительном. Другим московским представителем в Крыму назывался известный нам Схария – как и Кокос, уроженец Кафы, купец, иудей – или считавшийся таковьм в глазах православных христиан. Схария не только имел большие международные связи, но и был отменно подготовлен для дипломатической деятельности: знал итальянский, черкесский, русский, латинский (на латыни написана его сохранившаяся грамота Иоанну III), татарский, может быть, польский или литовский и еврейский (богослужебный) языки[160]. Покровитель Схарии Михаил Олелькович, вернувшись из Новгорода в Киев, не смог осесть в родовом гнезде. Несмотря на просьбы киевлян, король Казимир повелел ему отправиться в имение Копыль под Слуцком – современная Минская область Белоруссии. Скорее всего деятельного Схарию не привлекало деревенское затворничество, и он вернулся в Крым. Но штурм Кафы турецкими войсками в 1475 году и изгнание с ханского престола Менгли-Гирея могли заставить его покинуть на время благословенный полуостров и вновь оказаться в литовских владениях. В 1484 году Федор Курицын встретился со Схарией при дворе Менгли-Гирея, вернувшего себе власть на рубеже 1478/1479 годов. Но была ли это первая встреча московского дипломата и караимского ученого? Их пути могли пересечься в Киеве, через который обычно следовали русские послы, где Схария был известен и в семье Олельковичей, и при дворе господаря Стефана, о чем мы расскажем чуть позже. Курицын с начала 60-х годов неоднократно бывал на Балканах, где знакомился со многими примечательными людьми, в числе которых валашский господарь Влад III Цепеш Дракула. (Позднее Курицын составит «Повесть о Дракуле» – первое литературное произведение в ряду обширной «дракулиады».) Жадный до знаний и свежих интеллектуальных впечатлений, дипломат имел возможность и желание встретиться с таким известным в тех краях ученым, к числу которых, безусловно, относился Схария. Он и познакомил Федора Васильевича со своими взглядами, а тот уже стал основателем целого кружка в Москве. Сам выбор Кокоса и Схарии на роль представителей русского правительства, по всей видимости, произошел при участии Федора Курицына. Помимо упоминавшихся причин внешнеполитического свойства, побудивших великого князя и молдавского господаря породниться, существовали иные обстоятельства, способствовавшие браку Ивана Молодого и Елены Стефановны. На наш взгляд, с большим основанием можно предположить связь между двумя известными фактами – основанием новгородского кружка приближенным Михаила Олельковича и покровительством, оказанным последователям Схарии племянницей казненного князя, нежели отрицать существование таковой, предпочитая видеть в этом случайное совпадение. Первоначально в качестве невесты Ивана Молодого рассматривалась дочь мангупского князя Исаака, властителя княжества Феодоро, располагавшегося на юго-западе Крыма. Именно Менгли-Гурей «рекомендовал» Исааку выступить с подобной инициативой, а посредником в деле устройства этого брака выступил Хозия Кокос[161]. Близость Кокоса к крымскому хану и двору мангупских князей позволяет предположить, что Кокос скоре являлся не техническим посредником, а одним из инициаторов заключения этого брачного союза, который не состоялся вследствие османского нашествия на Крым и падения Мангупа. После этого Ивану III поступило предложение от господаря Стефана выдать за Ивана Молодого Елену, его дочь от брака с Марией Мангупской. Снова в жены Ивану Молодому предлагают княжну с мангупскими корнями, и снова этому браку содействует хан Менгли-Гирей[162]. Если добавить к вышесказанному, что вся переписка по поводу сватовства шла к Елене через Крым (здесь же останавливались послы на пути ко двору Стефана), становится ясно, что матримониальные «маневры» в треугольнике Крым – Молдова – Москва связаны между собой, и связующим звеном выступают крымские агенты московского правительства, и в том числе Схария, который, как мы полагаем, был принят при дворе Стефана Великого[163]. Заметим, что в начале 60-х Стефан был ранен стрелой при осаде крепости Килия. Шли годы и даже десятилетия, а рана не заживала. Все это время выписанным из Италии и Германии врачам по странному стечению обстоятельств не удавалось попасть ко двору господаря[164]. В подобных обстоятельствах появление при дворе Стефана личного лекаря-астролога его шурина Михаила Олельковича видится вполне вероятным. Но злополучное ранение в конце концов стало причиной смерти Стефана, значит, медицинское вмешательство Схарии (если оно имело место быть) окончилось безрезультатно, что и вызвало гнев государя. В ту эпоху отношения между власть имущими и питомцами Эскулапа складывались весьма непросто, в чем мы еще получим возможность убедиться. В одном из писем к Иоанну III ученый караим жаловался на то, что волошский воевода напал на него в пути, мучил «только что не до конца» и ограбил начисто[165]. Этот эпизод указывает не только на неприязненные отношения господаря к Схарии, но и на факт знакомства. Стефан не грабил путников на больших дорогах, в данном случае враждебные действия направлены конкретно против Схарии. Но если Схария был принят при дворе Стефана, то его дочь Елена еще до прибытия на Русь имела возможность познакомиться с ученым караимом и увлечься его идеями, либо попасть под влияние схарианства через завербованных караимом неофитов из числа придворных господаря. Не это ли обстоятельство повлияло на выбор невесты наследника, сделанный Иваном опять же не без влияния Курицына или его соратников? Рассказ о «совращении» Елены выглядит таким же лукавством, как и «обольщение» Ивана в Новгороде и Курицына в Москве. Именно Елена могла выхлопотать у великого государя письменное приглашение Схарии пожаловать в Москву, которое было ему передано с очередным посольством к крымскому ханству в 1484 году. Курицына не только не было в Москве, долгое время Федор Васильевич не подавал о себе никаких вестей, так что длительное отсутствие дьяка вызвало беспокойство в Москве, и великому князю пришлось послать человека в Венгрию узнать о его судьбе[166]. Приглашение было повторено в 1487 году – очевидно, оно было сделано после возвращения Курицына в Москву. Великий князь при этом не скупился на посулы: «…а как будешь у нас, ож даст бог, наше жалованье к собе увидишь. А похочешь нам служити, и мы тебя жаловати хотим, а не похочешь у нас быти, а всхочешь опять в свою землю поехати, и мы тебя отпустим добровольно, не удержав»[167]. Вероятно, речь шла о службе в качестве придворного врача и астролога. Несмотря на меры, предпринятые послом в Крыму Дмитрием Шеиным, вплоть до ожидавшего на границе специального охранного отряда[168], Схария в конце концов отказался перебраться в Москву, ссылаясь на обремененность семьей. Возможно, Схария рассудил, что подобный визит окажется небезопасным, и любезным приглашением не воспользовался.  Пелена Елены Волошанки
Осторожность оказалась нелишней. В том же 1487 году новгородский епископ Геннадий Гонзов обнаружил очаг ереси в среде местного духовенства, однако в Москве его тревожным сообщениям, казалось, придавали мало внимания. Архиепископ Геннадий, сообщив о ереси в Москву, в том же 1487 г. написал послание епископу Сарскому и По-донскому владыке Прохору, в котором призывал его: «Споборствуяй по Христе Бозе и Пречистые Его Матере честнаго Ея образа в помощь христоименитому православному христианину на еже хулою возносящихся на Господа нашего Иисуса Христа и обезчестивших образ Пречистыя Владычица нашея Богородица новгородскых еретиков жидовская мудръствующих»[169]. Дабы преодолеть московский саботаж и своеобразный заговор молчания, Геннадий принялся в посланиях своим коллегам – епархиальным владыкам – Нифонту Суздальскому, Филофею Пермскому, Прохору Сарскому и Иосафу Ростовскому – горячо обличать пагубную ересь и преступное бездействие московских духовных и светских властей. В это же время, а именно в 1488 году, появляется «Послание на жидов и на еретики» основателя Сенной пустыни на Ладоге инока Саввы, которое представляло собой «компиляцию из противоиудейских разделов Палеи Толковой и «Слова о законе и благодати» киевского митрополита Илариона»[170]. Любопытно, что произведение адресовано боярину Дмитрию Васильевичу Шеину, который отвечал за несостоявшуюся поездку Схарии в Москву. Очевидно, Савва знал об этом обстоятельстве, что обусловило выбор адресата[171]. Похоже, что Савве были известны не только ужасные подробности злодеяний новгородской секты (Савва подчинялся новгородской епархии), знал он и о покровительстве еретикам со стороны супруги наследника. Огорченный этими известиями (Иван Молодой помогал подвижнику в устроении пустыни) Савва поспешил предостеречь неблагочестивых государей, предавших отеческую веру: «Аще бо царь, или князь, или богат, или силный, аще и мнится, гордяся величеством маловременным сим, а не поклоняется Богу нашему Спасу Господу Исусу Христу, написанному образу Его на иконе и не причащается Тела и Крови Христовы, – той воистину раб есть и проклят»[172]. Настойчивость новгородского владыки и гневные отзывы подвижников возымели наконец действие: в 1488 году был собран церковный собор для разбора дела трех еретиков, которые сбежали от преследования Геннадия в Москву. Великий князь повелел бить их кнутом, сослать обратно в Новгород и там разобраться с ними на местном соборе. По сути, Геннадию указали на то, что он сам должен бороться с местными «нестроениями». Епископа удручил столь скромный результат его усердных трудов, тем более что вину за неуспех в борьбе с ересью ловкие московские интриганы переложили на самого Геннадия. Метаморфозы владыки Геннадия Геннадий Гонзов сообщал Ростовскому епископу Иосафу, что лично слышал от видного еретика Алексея о том, что при составлении новой пасхалии церковным иерархам придется обратиться к ним как к знатокам астрономии: «Ино и яз слыхал у Алексея: «и мы де тогда будем надобны»[173]. Возникает вопрос: где, собственно, имел Геннадий столь доверительную беседу с премерзким еретиком? Вероятнее всего, в Москве, в бытность последнего протопопом Успенского собора, а Геннадия – настоятелем Чудова монастыря, располагавшегося между Спасской башней и кремлевской Соборной площадью. С берегов Волхова владыка также сообщал о том, как другой придворный еретик иерей Денис во время богослужения плясал за престолом и ругался над крестом. Выдумал или нет Геннадий сценку сатанинского перфоманса, но явно не пересказывал корреспондентам московские слухи, а сообщал случаи, ему лично известные. А как иначе: на протяжении четырех лет протопопы-вероотступники и будущий руководитель новгородской епархии трудились на духовной ниве по соседству – на расстоянии пары сотен шагов, отделявших Чудов от Успенского и Архангельского храмов. (Протопопы, как мы помним, появились в Москве в начале 1480 года, а чудовским архимандритом Геннадий стал не позже февраля 1477 года, – когда уже сложился московский кружок вольнодумцев)[174]. Заметим, что в этот период великий князь, благоволивший еретикам, благоволил и Геннадию. В Москве злословили, что Геннадий щедро заплатил великому князю за назначение. Похоже, что силы, противостоящие Ивану III, с помощью подобных слухов пытались опорочить и самого государя, и его фаворита. Собственно, расположение государя и позволило Гон-зову занять в декабре 1484 года архиерейскую кафедру. Это, разумеется, не означает, что все любимцы Ивана Васильевича были близкими приятелями или единомышленниками, однако трудно поверить, что кремлевский обитатель Геннадий не знал того, чего не особенно скрывали при дворе – увлечения высокопоставленных сановников некими соблазнительными идеями, а также не ведал об экстравагантных выходках бывших новгородских иереев. Сам же Геннадий и его соумышленники, разумеется, представляли дело таким образом, что владыка ни о чем предосудительном не ведал, а, обнаружив кривоверие, яростно ополчились на вероотступников. Вот как живописует архиерейские подвиги Иосиф Санин: «В лето же 6993 (1484) поставлен бысть архиепископ Великому Новугороду и Пьскову священный Генадие, и положен бысть яко светилник на свещнице Божиим судом. И яко лев пущен бысть на злодейственыа еретики, устреми бо ся, яко от чаща Божественых Писаний, и яко от высоких и красных гор пророческых и апостольскых учений, уже ногты своими растръзая тех скверныя утробы, напившаяся яда жидовъскаго, зубы же своими съкрушая и растерзал и о камень разбивая»[175]. Однако динамичная картина, нарисованная волоцким игуменом, вряд ли соответствует действительности. Зная о более чем сомнительных взглядах и предосудительном поведении Дениса, Алексея, их друзей и покровителей, Геннадий Гонзов, возглавив епархию, не озаботился сразу розыском корней ереси, не спешил пустить в действие свои смертоносные «ногти и зубы», а лишь спустя пару лет во второй половине 1487 года обнаружил ее очаг, причем совершенно неожиданно. Судить приходится с его слов о том, как «распростерлась ересь в Ноугородской земли, а держали ее тайно да потом почали урекатись вопьяне, и аз послышав то да о том грамоту послал к великому князю да и к отцу Геронтию митрополиту»[176]. Подробности же нового вероучения святитель Геннадий узнал только благодаря раскаянию попа Наума: «И только бы поп Наум не положил покааниа, да и в христианство опять не захотел, ино бы как мощно уведати по их клятве, как они отметаются своих велений», – писал архиепископ[177]. Складывается впечатление, что в своих посланиях Геннадий не столько излагает сведения о ереси, сколько пытается объяснить собственную бездеятельность, поскольку его корреспонденты – епархиальные владыки – прекрасно знали обстоятельства карьеры новгородского архиерея. Мы далеки от мысли, что ученик Савватия Соловецкого относился безучастно к кривоверию. Но как человек неравнодушный к власти и власть имущим, он был склонен скорее подольстится к великому князю, нежели вступать с ним в конфликт, обличая его фаворитов. Если бы он решился на это, не видать ему новгородской кафедры и вряд ли Иван Васильевич стал бы защищать Геннадия от нападок митрополита Геронтия. Не потому ли во время достопамятного инцидента с «неправильным» крестовым ходом вокруг Успенского собора архимандрит Чудова монастыря поддержал Ивана Васильевича, таким образом став на сторону «неизвестных прелестников»? Полагаем, что Геннадий Гонзов отбыл из Москвы к месту нового назначения искренним приверженцем великого князя. Но положение главы новгородской епархии разительным образом отличалось от положения чудовского архимандрита, чье благополучие всецело зависело от государева расположения. В то время церковные владения в Новгороде занимали почти 20% от общего числа новгородских земель. Причем во владении архиепископа находилось свыше 5% земель. Фонд владычных земель в Новгороде был гораздо значительнее, чем тот, что находился во владении митрополичьей и епископской кафедр в Северо-Восточной Руси[178]. При том, что в январе 1478 года Иван Васильевич реквизировал у новгородского владыки 10 волостей (а хотел половину) и вдвое сократил земельные владения крупных монастырей[179]. По словам Б.Д. Грекова «Обедневшему Софийскому дому могла позавидовать любая архиерейская кафедра и даже сам московский митрополит»[180]. Для оказавшегося в роли крупнейшего землевладельца Геннадия вопрос о церковных и монастырских имуществах приобрел жизненно важное значение, а Иван Васильевич из благодетеля превратился в человека, угрожающего его благосостоянию, поскольку великий князь был не прочь повторить секуляризационный опыт. Иван III, очевидно, полагал, что верный ему Геннадий станет добросовестным помощником в этом деле. Но он обманулся в новом архиепископе, как в свое время в Иосифе. Отныне мы видим Геннадия в первых рядах любостяжателей. Не случайно при Геннадии в текст «Чина православия» было внесено анафематствование всем «начальствующим и обидящим святые божии церкви»[181]. Подчиненным Гонзова по епархии оказался волоцкий игумен. «И возвести архиепископ сие зло игумену Иосифу, и просит помощи: дабы, рече, злое сие еретичество не вошло в умножение неразумных человек. И сиа слышав отец Иосиф, зело оскорбися; и велми болезнуя о Православной вере от всего живота своего: разны бо телесным растоянием с архиепископом, а духом в единстве о Православной вере… И нача отец Иосиф ово наказанием, ово же писанием спомогати архиепископу, и о сем зело скорбяще…»[182]. Геннадий и Иосиф оказались единомышленниками, оба «разочаровались» в великом князе, оба зарекомендовали себя ярыми сторонниками незыблемости церковной собственности, оба связали судьбу с политическими силами, противостоящими кремлевской партии. Их сближению способствовало и то обстоятельство, что родные братья ближайшего друга Иосифа – Бориса Кутузова Михаил и Константин служили у новгородского архиепископа[183]. В качестве особого расположения Геннадий сделал Иосифа как бы своим наместником в Волоколамске, передав ему все доходы в Волочком благочинии. Трудно судить, когда Иван III заметил произошедшую с Геннадием метаморфозу, но благожелательное отношение великого князя сменилось на враждебное. Геннадий рисковал повторить незавидную участь своего предшественника Феофила, смещенного Иваном Васильевичем. В 1479 году последнего избранного новгородцами архиепископа лишили сана, арестовали и отправили в Москву, где заключили в Чудов монастырь, то есть под надзор Геннадия. Знал новгородский владыка и о могущественном влиянии «неизвестных прелестников», вольным или невольным союзником которых он когда-то являлся. Что же внушало ему уверенность в правильности сделанного выбора и помогло во второй половине 1487 года внезапно «обнаружить» ересь и возвысить свой голос против богоотступников? По нашему убеждению, эпизод с обнаружением ереси неразрывно связан с политической ситуацией, сложившейся в Новгороде. «Положение Геннадия осложнялось неприязненным отношением со стороны Ивана, а также тем обстоятельством, что его реальная власть была сильно ограничена действиями московских наместников», – указывает А.И. Алексеев[184]. Примерно в то же время, когда Геннадий занял епископскую кафедру, наместником города стал Яков Захарьин-Кошкин. Впервые он упомянут в летописи в этом качестве в 1485 году, когда по приказу великого князя боярин водил новгородские полки на Тверь. Яков Захарьин правил городом вместе с братом Юрием. Он не церемонился с опальным городом, обложив жителей непомерными штрафами, «ставил их на правеж». Обиженные и ограбленные новгородцы пытались найти справедливость у Ивана III. Тогда Яков Захарьин обвинил своих обличителей в государственной измене – покушении на жизнь наместника. Семь тысяч новгородцев были высланы в Москву – «занеже хотели убити Якова Захарьича, наместника Новагородского». Прочих мнимых или истинных заговорщиков – «иных думцев много Яков пересек и перевешал»[185]. Действовали ли Кошкины-Захарьины по своей инициативе, стараясь отвести от себя подозрения в лихоимстве, либо выполняли прямые указания великого князя относительно окончательного уничтожения новгородской элиты, в любом случае их действия поддержали в Москве. Геннадия Гонзова также с полным основанием можно считать московским церковным наместником. Первый назначенный архиерей из Москвы не смог обуздать глухое сопротивление местного духовенства, и ему пришлось вернуться восвояси. После столь очевидного фиаско Геннадию наверняка дали самые решительные наставления, а также предоставили полномочия по осуществлению карательных мер в отношении новгородского клира. Для выполнения задания требовалось скомпрометировать здешних иереев, отыскать повод для репрессий. В контексте драматических событий в городе «внезапное» раскрытие епископом ереси среди новгородских священников очень удачно сочеталось с раскрытием заговора среди новгородских бояр и купцов. Получалось, что новгородцы вынашивали преступные помыслы как по отношению к светским властям, так и по отношению к вере православной. Были представлены весьма любопытные «улики». В январе 1488 года новгородский владыка писал хорошо нам знакомому суздальскому епископу Нифонту о том, как на берегах Волхова «наругаютца христьянству – вяжут кресты на вороны и на вороны. Многие велели: ворон деи летает, а кресть на нем вязан деревян(…) И ныне таково есть бесчинство чинитца над Церковъю Божиею и над кресты и над иконам и над христианьством»[186]. Москвич Геннадий мог не знать, что еще с домонгольских времен крестики часто входили в состав языческих амулетов, не имеющих отношения к христианству[187]. Этот пережиток пантеистических верований и был представлен как пример поругания православия. Братья-наместники Геннадий никогда бы не выступил самостоятельно, не синхронизировав свои действия со светскими властями. Пик репрессий против новгородской элиты пришелся на зиму 1488/89 года. С учетом того, что расследование и принятие решения относительно заговорщиков (или жертв оговора) занимало многие месяцы, получается, что архиепископ все сделал «вовремя». (А.А. Зимин не только отмечает совпадение по времени опалы на новгородцев с началом преследования Геннадием еретиков, но и безусловную связь между этими событиями.[188]) Внешне церковный наместник, как и наместник светский? выполнял волю Ивана III. Зарекомендовав себя преданными слугами государя, искоренителями крамолы, Захарьины в то же время руками архиепископа ловко наносили удар по окружению великого князя. Что касается Геннадия, то широковещательное обличение еретиков давало владыке относительную гарантию его благополучного будущего. Как бы неприязненно не относился государь к новгородскому архиерею, было ему не с руки выступать против борца с вероотступниками. А Геннадий между тем все раскручивал расследование. В феврале 1489 года Гонзов сообщил удалившемуся на покой архиепископу ростовскому Иосафу о том, что он вместе с Захарьиными провел новое расследование, но еретики «всех своих действ позаперлись»[189]. Так Иван Васильевич попал в крайне щекотливое положение. Надежда на то, что раскрытие ереси удастся замолчать, не сбылась. Благочестивое усердие Геннадия обличало окружение государя и его самого. Нетрудно представить, как злорадствовали удельные князья, прознав, что их державный братец собрал вокруг себя еретиков, и как негодовал на бывшего любимца Иван Васильевич, догадываясь о подоплеке архиерейского усердия. К 1490 году отношения великого князя с новгородским владыкой накалились до такой степени, что Геннадию запретили въезд в Москву[190]. Архиепископ умело пособил братьям-наместникам, а Захарьины приняли деятельное участие в борьбе с еретиками и, вероятно, пообещали вступаться за имущественные права Софийского дома. Во всяком случае, в бытность их в Новгороде новых конфискаций не последовало. Как замечает Р.Г. Скрынников, Захарьины участвовали в пытках подозреваемых, самолично снимали допросы. Они не только помогали владыке в розыске, но и направляли его в нужное русло. Так некий еретик Самсонка сообщил, что новгородские еретики постоянно «поучалися» у Курицина, который «начальник всем тем злодеем». Важная деталь – владыка Геннадий разъяснил, что настоящие признания были вырваны под пыткой и занимались этим богоугодным делом люди наместника. «Аз ли того Самсонка мучил, – оправдывался архирей, – ведь пытал его сын боярский великого князя, а мой был только сторож»[191]. У Захарьиных, судя по всему, были свои причины посредством разоблачения ереси поквитаться с фаворитами Ивана Васильевича, и в первую очередь с «великим временным человеком», как именовали современники Ивана Патрикеева. Неизвестно, как потомок Гедимина относился к вопросам веры, но, как политик, в вопросе престолонаследия он поддерживал Ивана Молодого и Елену Волошанку. Участники кружка Елены были его естественными союзниками. Основатель рода Кошкиных-Захарьиных Андрей Кобыла прибыл в Москву из Прибалтики за два столетия до описываемых событий, и его потомки считали себя коренным московским родом, имеющим полное право претендовать на самые высокие посты, которые, однако, все чаще доставались лицам, недавно перешедшим на московскую службу. Н.П. Павлов-Сильванский, сообщая о засилье княжат, оттеснивших на второй план большую часть старых боярских родов, отмечает, что «с некоторым успехом держался род Кошкиных из первостепенного московского боярства»[192]. Но этот относительный успех достигался немальм напряжением сил. Соперничество Захарьиных и Патрикеевых, то затихая, то обостряясь, прослеживается на протяжении полутора веков. Дед братьев-наместников Иван Федорович Кошка был тем самым большим боярином великого князя Василия Димитриевича, которого «заехали» прибывшие из Литвы Патрикеевы в самом начале XV века. Вспомним желчный выпад Юрия Захарьина против Даниила Щени перед битвой при Ведроши. На церковном соборе 1531 года, разбиравшем обвинения против Максима Грека и сына Ивана Юрьевича Патрикеева Василия (в иночестве Вассиана), в качестве одного из главных обвинителей выступал сын Юрия Захарьина Михаил. Примечательно, что он упирал на то, что обвиняемые отступили в «жидовской закон». В 50-е годы XVI века противостояние возобновилось в виде соперничества клана Захарьиных и Избранной рады, которую можно в определенном смысле назвать преемницей придворного кружка времен Ивана III. Возвращаясь к братьям-наместникам, стоит отметить тесную связь Захарьиных с другим старомосковским кланом – Морозовых. Тетка новгородских наместников была замужем за И.Г. Морозовым[193]. Юрий Захарьин был женат на дочери сподвижника Софьи Палеолог И.Б. Тучки Морозова, попавшего в опалу в 1485 году[194]. Так что связь видного боярина с «партией реванша» подкреплялась матримониальными узами. На упоминавшемся процессе Максима Грека помимо М.Ю. Захарьина обвинителями выступали его двоюродный дядя М.Б. Тучков с сыном Василием – такой вот своеобразный «семейный подряд». Первая решительная атака Захарьиных против тогдашних фаворитов была осуществлена именно в Новгороде. Отметим, что «герой» сражения при Орше, «не сработавшийся» с племянником И.Ю. Патрикеева, Иван Андреевич Челяднин был сыном боярина Андрея Федоровича Челяднина, посланного наместником в Новгород на смену Захарьиным. Другой сын А.Ф. Челяднина Василий известен как большой друг Иосифа Волоцкого[195]. Морозовы также имели устоявшиеся связи с городом на Волхове, многие из представителей этого старомосковского рода назначались на новгородское наместничество[196]. По всей видимости, Новгород не случайно стал опорным пунктом, откуда «партия реванша» начала свой поход на Москву. Еретическое попурри До сих пор, рассматривая события конца XV века, исходя из традиционного взгляда на новгородскую секту, мы говорили о «жидовствующих» как о некоем реально существовавшем антицерковном движении. Но как только мы попытаемся определить конкретное содержание и непосредственные задачи этого движения, сформулировать его программу, то столкнемся с непреодолимыми препятствиями. К сожалению, мы можем оценить воззрения и поступки «жидовствующих» лишь со слов их противников, которые так долго добивались суда над еретиками и так горячо настаивали на самом жестоком наказании, что для достижения своей цели были способны изрядно домыслить и приукрасить их противные православию поведение и образ мыслей. В начале XX века А.И. Соболевский даже приходил к пессимистическому выводу, что «вопрос о сущности ереси «жидовствующих», при скудности наличных данных должен считаться неразрешимым»[197]. О мировоззрении «жидовствующих» мы в первую очередь судим по сочинению преп. Иосифа Волоцкого «Просветитель». Этот объемный труд в своем законченном виде состоит из 16 частей – «слов», каждое из которых является опровержением на тот или иной пункт критики догматов христианства со стороны «жидовствующих». Следовательно, мы сможем составить представление о взглядах противников Иосифа по тому, с каких позиций они нападали на официальную церковь. Следуя версии Иосифа, «жидовствующие» утверждали, что у Бога Отца нет ни Сына, ни Святого Духа; что Христос еще не родился, но придет время, когда Он родится; а Тот, Которого христиане называют Христом Богом, – простой человек, а не Бог – об этом преподобный сообщает в первом и втором «словах»[198]. Тезис о том, что Иисус не может быть ни сыном Божиим, ни мессией, предсказанным пророками, занимал главенствующее место в системе иудейской критики христианства и потому звучит весьма уместно в устах людей, обратившихся в Моисееву веру. В третьем «слове» Иосиф указывает на то, что еретики настаивают на необходимости придерживаться Моисеева закона, сохранять его, совершать жертвоприношения и обрезание. Кажется, это также согласуется с исповеданием иудаизма. С этих позиций христиане атакуются, подвергаются нападкам в труде Флавия Клавдия Юлиана «Против христиан», упоминания о котором мы найдем и в тексте «Просветителя»[199]. Император-философ, правивший Римской империей в 361 – 363 годах, не только восстановил античное язычество, но пытался оспорить христианские догматы. В частности, Юлиан обвинял христиан в том, что они отступили от заветов Моисея, отказавшись от обрезания, в то время как Иисус предписывал строгое следование иудейскому закону. Юлиан, как и многие римляне той поры, рассматривал христианство как иудейскую секту, и с этой точки зрения пытался выставить их лжецами и отступниками. Другое утверждение еретиков, сообщенное волоцким игуменом, скорее всего позаимствовано у другого античного критика христианства – Цельса, известного по направленным против него сочинениям христианского философа Оригена. Новгородские еретики в трактате Иосифа говорят следующее: «Разве Бог не мог спасти Адама и род его, неужели у Него не было небесных воинств, пророков, праведников, чтобы послать на исполнение Своей воли, – но Он Сам сошел в виде нищего бедняка, вочеловечился, пострадал и этим победил дьявола?»[200]. Таким образом, еретики повторяют следующие слова Цельса: «Вы занимаетесь софистикой, когда говорите, что сын божий – само слово; объявляя сына божьего „словом“, вы предъявляете не чистое, святое слово, а человека, позорнейшим образом поведенного на казнь и подвергнутого мукам бичевания. Если бы сын божий был у вас действительно словом, мы бы вас похвалили. (Но ваш Иисус только) хвастун и колдун»[201]. Цельсу представлялось варварством поклонение христиан «схваченному и казненному». Последователь античной религии не мог понять, как всемогущий Бог способен воплотиться в смертного человека и претерпеть пытки и казнь. В следующих двух «словах» Иосиф приписывает еретикам протест против изображения на иконах Святой и Единосущной Троицы и поклонения рукотворным предметам, как то: икона или крест. Иудеи были настроены непримиримо к христианскому культу поклонения рукотворным изображениям. Можно ли отнести подобные рассуждения исключительно на счет иудейского влияния? Иконоборчество на протяжении длительного времени являлось составной частью государственной политики православных византийских самодержцев начиная с 726 года, когда император Лев Исавр запретил воздавать поклонение иконам. Иконоборцы, как впоследствии новгородские еретики, по версии преп. Иосифа и западноевропейские протестанты, указывали на заповедь: «Не сотвори себе кумира..» Император в условиях усиления мусульманского натиска рассчитывал таким образом опровергнуть обвинения христиан со стороны исламских богословов в идолопоклонстве. Иконоборчество не было странной выходкой одиночки, вызовом, брошенным всему обществу. Как отмечает Ф.Ф. Успенский, в самой христианской Церкви обнаружились сомнения и колебания относительно поклонения иконам. «Некоторые греческие епископы, сравнивая культ первых веков христианства с современным им, не могли заметить существенных отличий. Тогда язычники упрекали христиан, что их бедная плебейская вера не имеет ни храмов, ни алтарей, ни прекрасных статуй, на что христиане с полной искренностью и справедливостью могли отвечать: зачем мне изображение Бога, когда и сам человек есть образ Божий; на что мне строить храм Богу, когда и весь этот мир дело рук Его… Нельзя думать, что эдикт против иконопочитания не имел себе поддержки в современных воззрениях…»[202]. Иконоборчество оказалось заразительным и живучим движением, следы которого мы находим и на территории Московской Руси. В конце XIV века бороться с иконоборцами пришлось ростовскому епископу Иакову. Сомнительно, чтобы в то время ростовчане стали объектами еврейского прозелитизма. Позднее иконоборчество стало характерной чертой гуситского движения, которое в первой половине XV века распространило свое влияние на территории от Австрии до Молдавии и Польши. Гуситы врывались в храмы и уничтожали иконы и другие священные изображения. Сходным образом, если верить Иосифу Волоцкому, действовали и новгородские еретики. Так, некий «Юрка-рушеник клал святую икону в скверную лохань, а Макар-дьякон ел мясо в Великий пост и плевал в образ Пречистой»[203]. Критика новгородских еретиков касалась и иноческого жития, причем «жидовствующие» на этот раз указывали на отступление от евангельских и апостольских писаний. «Иные же говорят, что иноческий образ схимы был передан Пахомию не святым ангелом: если бы это был ангел Божий, он явился бы светлым, но он явился черным – а это знак бесовского действия», – так формулирует Иосиф один из упреков новгородских еретиков[204]. Наконец, по сведениям волоцкого игумена, «жидовствующие» указывали на то, что несостоявшееся второе пришествие Христа после завершения пасхалии означает ложность апостольских и святоотеческих писаний. «Тогда подошла к концу седьмая тысяча лет от сотворения мира; еретики же говорили: семь тысяч лет прошло, и пасхалия закончилась, а второго пришествия нет, – значит творения отцов Церкви ложны и следует их сжечь»[205]. Пожалуй, этот единственный пункт из всех приписываемых еретикам взглядов подтверждается реальными обстоятельствами той эпохи. Составленная еще во времена Киевской Руси пасхалия была доведена до 7000 года после сотворения мира, то есть до 1492 года от Рождества Христова. Когда в 1408 году окончился очередной миротворный круг, то новый пасхальный круг был расписан только на 84 года – до конца рокового седьмого тысячелетия. В конце этой неполной пасхалии было написано: «.. зде страх, зде скорбь, аки в распятии Христове сей круг бысть, сие лето и на конце явися, в нем же чаем и всемирное Твое пришествие»[206]. А.И. Алексеев отмечает, что митрополиты, возглавлявшие русскую Церковь в XV веке, как в лице выдающихся представителей византийской образованности, так и в лице русских епископов, полностью разделяли мнение о наступлении конца света с исходом седьмой тысячи лет от сотворения мира[207]. Жил ожиданием наступления последних дней и Иосиф Волоцкий: «… в последяа сиа лета и во время лютейшая паче всех времен, о нихже рече великий апостолъ Павел: „В последила настанут времена люта, приидет преже отступление и тогда явится сынъ погибельный“. Се ныне уже прииде отступление…»[208] Владыка Геннадий размышлял недоуменно: «Како седми иысущь лета проходят, и знамения совершения не явись никоторое»[209]. В 1490 году московское посольство в Риме наводило справки о католических пасхалиях, явно выполняя соответствующие инструкции[210]. В XV веке широкое распространение получают иконы на сюжеты Страшного суда, Апокалипсиса, Сошествия во ад, которые до того встречались крайне редко[211]. Любой не ленивый умом православный по прошествии критической даты не мог не задаваться вопросами относительно предстоящего Судного Дня, а затем – несостоявшегося Апокалипсиса. Из послания Геннадия Новгородского к епископу Иосафу Ростовскому видно, с какой тревогой обсуждался в 1489 году этот вопрос. По мнению историка астрономии Д.О. Святского, «жидовствующие» использовали в качестве практического курса астрономии «Шесток-рыл», комментатором которого был еврей Иммануэль бен-Якоб, живший в XIV веке в Италии. «Шестокрыл» – не что иное, как шесть лунных таблиц, откуда и появилось его название, позволяющих путем несложных математических приемов вычислять вперед с известной точностью лунные фазы и затмения. «Ересь» «Шестокрыла» заключалась в том, что в нем была принята иудейская эра от сотворения мира, тогда как на Руси признавалась византийская, разница между которыми составляет 1748 лет – такую отсрочку давали еретики христианам, ожидавшим со дня на день услышать трубу Страшного суда. Д.О. Святский полагает, что астрономическое искусство «сводить знамения с неба», предсказывая затмения и «отменяя» Второе Пришествие, и сделало наших вольнодумцев популярными в широких массах[212]. А была ли ересь? Историк русской Церкви митрополит Макарий (Булгаков) определял ересь «жидовствующих» как «полное отступничество от христианской веры и принятие веры иудейской: «Схария и его товарищи проповедовали у нас не какую-либо ересь христианскую, а ту самую веру, которую содержали сами и в том виде, в каком исповедуют ее все иудеи, отвергшие Христа Спасителя и Его Божественное учение»[213]. Но если Схария был караимом, с чем, кажется, согласны современные исследователи, мы уже не можем согласиться с утверждениями митр. Макария. Если же считать «жидовствущих» сектантами, то, судя по обличениям преподобного Иосифа, в отличие от прочих известных еретических движений, Схария не предложил альтернативной официальному христианству идеологии (наподобие, например, манихейской), не выдвигал вслед за стригольниками собственной программы исправления пороков современной Церкви. Полагаясь на свидетельства прел. Иосифа, мы представляем, что отвергали жидовствующие, но при этом остается неясным, что они принимали. Получается, что Схария и его ученики ограничились тотальной критикой христианских догматов и церковных порядков, которая велась еретиками одновременно с позиций иудаизма, античной философии и даже апостольских и евангельских Писаний. Чем объяснить невероятную всеядность еретиков, можно ли допустить, что столь эклектичное мировоззрение послужило основой формирования единого движения? На эту странную особенность ереси «жидовствующих» – сочетание несочетаемых компонентов – обращали внимание многие исследователи. Историк Н.М. Никольский указывал на пестроту социальной базы ереси: «В Новгороде – это сторонники московской партии из мелких людей и клирошан, в Москве – это, с одной стороны, приближенные князя, с другой – гонимое им боярство»[214]. Е.Ф. Шмурло отмечал следующие разительные противоречия в учении и приемах еретиков: 1. Отрицая божественность Иисуса Христа, еретики не отрицали, безусловно, Его божественного посланничества. 2. Критикуя Евангелие, они не отрицали принципиально его положений. 3. Отвергая иконы, они делали исключения для лика Спасителя; иные же готовы были поклоняться вообще всем иконам, лишь бы они были обращены известным образом (на восток, а не на запад)[215]. А.И. Алексеев сложность изучения ереси «жидовствующих» объясняет тем, что обличители ереси объединяли «сторонников, по-видимому, крайне разнородных течений»[216]. В.В. Мильков полагает, что наряду с еретиками-«библеистами» существовали и еретики иного толка, не отвергавшие полностью идей новозаветной литературы, а лишь сомневавшиеся в отдельных ее положениях[217]. К подобным выводам в свое время приходил и Е. Е. Голубинский, который, однако, попытался их примирить следующим образом: «Ересь „жидовствующих“, представлявшая в своем подлинном виде чисто жидовство, с совершенным отрицанием христианства, так что одно принимаемо было вместо другого, а в своем неподлинном виде – большее или меньшее христианское вольномыслие..»[218] Несколько страниц спустя Голубинский предполагает, что помимо «подлинных» и «не подлинных» еретиков существует еще и третья категория, состоящая из «тех, кто, не отпадая в ересь и не заражаясь вольномыслием, стали почитателями и адептами лишь предлагавшихся жидовством чернокнижия и астрологии[219]. Голубинский честно постарался классифицировать это цветущее изобилие убеждений и заблуждений. Так как он не подвергал сомнению искренность преп. Иосифа, ему пришлось и здесь следовать показаниям Волоцкого игумена, который утверждал, что еретики, видя человека благоразумного, боялись оттолкнуть его своими эксцентричными взглядами и начинали с малого, испытывая благочестие своей жертвы критическими рассуждениями о вере, тем самым стараясь заронить в душах сомнение и смуту. Подобный прием способен объяснить разную степень вовлеченности людей в ересь, но не сосуществование в рамках одного движения столь несогласных меж собой мировоззрений. Если даже признать в «более или менее» христианском вольнодумце кандидата в «подлинные» еретики, никак нельзя увидеть в нем соумышленника иудеев. В нарисованной Голубинским лестнице, ведущей в подземелье безверия, отсутствует несколько ступеней, а то и целый пролет. Знакомство с сочинением Волоцкого игумена порождает и другой вопрос – об идеологе ереси – в том грандиозном виде, в каком представил его Санин. Кто среди тех, кого Иосиф причислял к «жидовствукщим», обладал столь глубокими и разнообразными богословскими познаниями и литературными талантами? Если преп. Иосиф в своем грандиозном сочинении разоблачил всевозможные нападки на христианство, кто-то должен был их сформулировать и ввести в единую систему. Очевидно, на эту роль не подходят ни караимский вероучитель Схария, ни полуграмотные новгородские попы, ни жизнелюбивый митрополит Зосима, ни светский писатель и дипломат Федор Курицын. Между тем, по нашему мнению, у ереси все же был свой идеолог – не кто иной, как преподобный Иосиф Волоцкий. Обратим внимание на «невинную», на первый взгляд, фразу в предпосланном «Просветителю» «Сказании о новой ереси новгородских еретиков..». «Этой беды ради и я выбрал из Священного Писания и святоотеческих творений некоторые обличения против речей еретиков, – уведомляет читателя Иосиф. – …Я собрал воедино свидетельства из различных святых книг, чтобы знающие, прочитав, вспомнили, а не знающие, прочитав, поняли»[220]. На наш взгляд, эта фраза раскрывает не столько алгоритм работы над «Просветителем», сколько незамысловатую методику компиляции, благодаря которой появилось на свет учение «жидовствующих». Иосиф кропотливо извлек из множества знакомых ему антиеретических трудов нападки на христианскую церковь, относящиеся к разным эпохам, и, объединив в одно целое, приписал их новгородским вероотступникам, заодно «изобличив» их с помощью богословов прошлого. Еще в середине XVI века рязанский епископ Кассиан критиковал «Просветитель», «яко не подлинну быти свидетельству книги сея»[221]. Постриженник Кириллова монастыря Кассиан, очевидно, обвинял Иосифа в том, что тот возводил ложные обвинения на вольнодумцев и его книга содержит не достоверные свидетельства, а измышления о ереси. Р.Г. Скрынников обратил внимание на то, что в «Просветителе» преподобный Иосиф развивал мысль о «перехищрении и коварстве Божьем», которое противопоставляется «бесовскому злохытрству»[222]. Иначе говоря, есть ложь «хорошая», допустимая для того, чтобы с ее помощью переиграть супротивников Божиих или своих недругов. При внимательном прочтении «Просветителя» нетрудно проследить ход мыслей Волоцкого игумена. Вот как Иосиф живописует иконоборчество еретиков. «Они возносили многие хулы и поношения на Божественную церковь и всечестные иконы, говоря, что не следует поклоняться созданию рук, не следует изображать на святых иконах Св. Троицу, поскольку Авраам видел Бога с двумя ангелами, а не Троицу.. Они запрещали поклоняться божественным иконам и честному Кресту, бросали иконы в нечистые и скверные места, некоторые иконы они кусали зубами, как бешеные псы, некоторые разбивали, некоторые бросали в огонь и говорили: «…надругаемся над этими иконами, как жиды надругались над Христом»[223]. Сначала Иосиф излагает традиционные иконоборческие доводы, которые вкладывает в уста еретикам, затем переходит к их злобесньм деяниям, начиная от запрета на поклонение, переходя к дерзким богохульственным выходкам. В конце, словно спохватившись, что речь идет о «жидовствующих», говорит о том, что надругавшиеся над иконами новгородцы сознательно подражали иудеям. Волоцкий игумен вполне сознательно придал воззрениям новгородских еретиков как можно более неопределенный и широкий характер. Как выражается Е.Е. Голубинский, «что касается несобственного или дохристианского вольномыслия, то относительно его преп. Иосиф Волоколамский не сообщает ничего определенного»[224]. Разумеется! Определенность помешала бы преподобному выдвигать обвинения в принадлежности к ереси в отношении любого своего противника и оппонента. В этом смысле примечателен пример чернеца Захарии, настоятеля одного из монастырей близ Новгорода, который был изобличен как стригольник. В беседе с епископом Геннадием Захарий заявил: «А у кого, деи, ся причищати? Попы, деи, по мзде поставлены.. И аз познал что – стригольник», – резюмирует владыка[225]. Следовательно, Захария отношения ни к новгородским, ни к московским еретикам, ни к иудаизму не имел, но нашел покровителей в столице, что для Иосифа оказалось достаточным, чтобы приписать его к «жидовствующим»[226]. В этом отношении показательны 12 – 16 слова «Просветителя», составленные после 1504 года. В них преподобный отвечает «жидовствующим», которые якобы ратуют за прощение еретиков и отступников. Так, «слово» шестнадцатое направлено «против ереси новгородских еретиков, говорящих, что если еретики или отступники, обличенные в своих ересях и отступничестве и осужденные, начнут каяться, то следует принять их покаяние и удостоить их милости»[227]. На самом деле Иосиф полемизирует здесь не с учениками Схарии, а с заволжскими старцами, которые указывали игумену на то, что «нераскаявшихся и непокорных еретиков предписано держать в заключении, а покаявшихся и проклявших свое заблуждение еретиков Божья церковь принимает в распростертые объятия: ради грешников облекся плотью Сын Божий, и пришел он погибших сыскать и спасти»[228]. Однако Иосиф без всякого стеснения приписывает этот аргумент нестяжателей богомерзким еретикам, а заодно поясняет, что нынешние отступники каются притворно, а «поскольку в святых книгах не говорится, как принимать таковых еретиков и как определить, достойные ли плоды принесло их покаяние, не следует прощать их и давать им волю и послабление»[229]. Таким образом, Иосиф создает прецедент, в соответствии с которым любой враг партии «любостяжателей» будет обвинен в жидовстве, безотносительно истинных воззрений, им исповедуемых. Этот прием с успехом использовался иосифлянами на протяжении последующих десятилетий. Выше мы упоминали о том, что на соборе 1531 года Михаил Захарьин указывал на Максима Грека как на смутотворца, распространителя различных пагубных лжеучений, причем на первом месте оказалась именно «жидовская» ересь. Судьи словно позабыли, что участникам одного из предыдущих соборов (Голубинский полагает, что при Варлааме) Святогорец адресовал «совет к собору православному на Исака жидовина, волхва, чародея и прелестника», где обличал некоего последователя Схарии, объявившегося в московских пределах, и яростно ополчался на астрологию и чародейство[230]. Казалось, при самом большом желании Максима невозможно уличить в сочувствии к иудаизму, однако обвинителей мало интересовали действительный образ мыслей и поступки оппонента. В 1553 году заволжских старцев вновь обвиняли в жидовстве – теперь уже в связи с делом Матвея Башкина. Обвинения и всякое упоминание о ереси прекратились только тогда, когда цель была достигнута и партия нестяжателей была полностью разгромлена. Глава 4 РЕЧИ О ВЕРЕ Войди в себя, и пребывай в сердце своем, ибо там – Бог. Крест и менора Но если признать ересь «жидовствующих» выдумкой преп. Иосифа Волоцкого, то данный вывод вступает в противоречие с несомненными признаками брожения умов в среде новгородского священства и столичной элиты, существованием Схарии и очевидными результатами его прозелитического усердия и многими другими приметами жестоких вероисповедальных столкновений в последние десятилетия XV века, а также их явственной связью с иудаизмом. Некое специфическое направление религиозной мысли, несовместимое с официозным православием, несомненно, существовало и располагало значительным числом приверженцев. Несомненно и присутствие иудейского влияния. Тем не менее преп. Иосиф Волоцкий либо не смог, либо не захотел распознать его сущность, предпочитая сразу приступить к составлению обвинительного заключения. Вплотную к разгадке тайны ереси «жидовствующих» подошел еще Е. Е. Голубинский. Рассказывая о том, что еретики привлекали адептов, предлагая им научные знания в иудейской упаковке, историк, между прочим, отмечает следующее: «В круг своей каббалы евреи включили и астрологию, сделав ее также своим достоянием, т. е. утверждая, что только именно они обладают тайною так повелевать светилами небесными, чтобы эти последние служили благополучию людей»[231]. Однако каббалистическая линия играет у Е.Е. Голубинского вспомогательную и малозаметную роль. Кроме того, он делает грубую ошибку, представляя каббалу составной частью ортодоксального иудаизма. Впрочем, в ином случае, развивая эту тему, исследователь неминуемо бы вступил в противоречие с традиционной версией, основанной на показаниях преп. Иосифа и содержании «Просветителя». Потому Е.Е. Голубинский, как и А.В. Карташев, словно пугаясь своих догадок, продолжали послушно следовать по пути, указанному волоцким игуменом. Указывал на каббалистические корни «жидовствукщих» и покойный митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. Однако, как и Голубинский, владыка Иоанн не вполне ясно представлял, что представляет из себя каббала, упомянув ее исключительно для того, чтобы придать новгородской секте еще более зловещий характер[232]. Совсем недавно В.В. Мильков указал на сходство некоторых еретических идей с «мистико-пантеистическим учением каббалы», однако не стал развивать данную версию, так как, следуя традиционной трактовке, не разделял новгородский и московский кружки, одновременно отмечая их расхождения: «Наряду с еретиками-«библеистами» существовали и еретики иного толка, не отвергавшие полностью идей новозаветной литературы, а лишь сомневавшиеся в отдельных ее положениях»[233]. Попробуем до конца пройти по каббалистической «дорожке», полагая, что ответы на волнующие нас вопросы о содержании вероучения «жидовствующих» можно найти в точках пересечения христианства и каббалы. Каббала – мистическое течение в иудаизме, последователи которого стремились постигнуть истинный смысл Торы – ветхозаветного Пятикнижия Моисея, получить высшее осознание, составить истинную картину мира. Знания о Творце, высшем мире, передавались каббалистами устно и письменно. Считается, что самая первая книга по каббале «Тайный ангел» («Разиэль Амалах») написана первочеловеком Адамом, который получил свои знания непосредственно свыше, а первым каббалистом, самостоятельно постигшим Творца, был праотец Авраам. Каббала рассматривает благодать как Божественное воздействия на человека. Каббалисты полагают, что формы всякого бытия представляют собой десять сфер – сефирот. Эти миры не разделены, а как бы включены друг в друга, подобно концентрическим кругам. Низшие миры реализуют то, что более идеально содержится в высших, а существа и предметы высших миров, воспринимая из первого источника божественные влияния, передают их низшим, служа, таким образом, каналами или «сосудами» благодати. Иудейский семисвечник-менора отображает воздействие благодати на все небесные вещи. Отголоски каббалистических воззрений угадываются в учении фарисеев, учивших, что Дух Божий проявляется через наставников, или «отцов». Некоторые раннехристианские писатели отмечали аскетические упражнения, принятые у фарисеев, и склонность многих из них к астрологии, что также относится к явным приметам каббалистического влияния[234]. Новый Завет свидетельствует, что фарисеи верили в воскресение мертвых, посмертное воздаяние, верили в ангелов и авторитет «старцев» (Мф. 15, 1 сл, Деян. 23, 8). В свою очередь, фарисеи внесли заметный вклад в формирование первых христианских общин. Когда после Пятидесятницы в Иерусалиме начался стремительный рост христианства, многие фарисеи поколебались, а некоторые даже примкнули к новому учению. Их примеру последовало значительное число иудейских священников (Деян. 6, 7). Когда апостол Павел рассуждал о свободе и благодати (достаточно вспомнить знаменитое «Где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3; 17), то различия между каббалистической и христианской антропологией становились очевидными. Ведь для Павла верующий мог обрести свободу во Христе исключительно благодаря Боговоплощению. Но в течение нескольких десятилетий после земной жизни Иисуса, когда христианская догматика еще не сформировалась, между последователями новой религии, с одной стороны, и фарисеями и каббалистами – с другой, не существовало непримиримого антагонизма, а значит, предпосылок против обращения христиан к многовековому каббалистическому наследию. Знаменательно, что Апостол Павел и рабби Акиба были учениками главы фарисеев Гамалиила. В отличие от иерархии саддукейской, Гамалиил рекомендовал относиться терпимо к новому учению (Деян. 5, 34 сл.). Сложилась легенда, что Гамалиил стал позднее христианином, был крещен апостолами Петром и Иоанном (Правосл. Энц., 1, С. 615), а древние апокрифы даже называли его святым. Без вражды относился к христианам и основатель иудаистской богословской школы в Ямнии фарисей Иоханан бен Заккай (ум. ок. 80 н. э.). При нем Ямнийская школа стала авторитетным религиозным центром и даже иногда именовалась «Синедрионом». Однако правление его преемника Гамалиила II ознаменовалось полным разрывом между христианами и иудеями, каббалистами в том числе. Разработанное ямнийскими богословами дополнение к Торе – Талмуд – подпитывало религиозный и национальный изоляционизм евреев, воздвигало стену между исповедниками Моисеевой веры и внешним миром. В то время как евреи-христиане постепенно отрываются от почвы ветхозаветного Закона, иудеи все жестче регламентируют свою жизнь в соответствие с его нормами. Разрыв этот стал бесповоротным после второй Иудейской войны (132 – 135 гг. н. э.) • На борьбу с римлянами поднялся человек по прозвищу Бар-Кохба (Сын Звезды), который объявил себя, возможно в подражание Иисусу, мессией и увлек на борьбу значительную часть населения. Если умеренные фарисеи и христиане в движении Бар-Кохбы не участвовали, то рабби Акиба бен Иосиф признал мессианизм Бар-Кохбы и даже вручил ему жезл командующего. Христианам подобное поведение Акибы должно было казаться святотатством, поскольку Мессия уже приходил на землю в облике Христа. Восстание было подавлено, с рабби Акиба римляне содрали кожу раскаленными крючьями. Разгром восстания Бар-Кохбы ускорил окончательный разрыв христиан с иудаизмом, а также изолировал иудеохристиан, которых теперь ни христиане, ни иудеи не считали за своих[235]. Борьба за единство еврейского народа исключала возможность каких-либо течений внутри иудаизма. Это окончательно определило отношение фарисеев к христианам, которые стали именоваться не иначе как еретиками. Бог – Логос – Эон Иная ситуация сложилась в Египте, где проживало примерно миллион евреев, которые в отличие от своих палестинских собратьев активно усваивали элементы греческой культуры. Связующая нить между иудаизмом и христианством здесь сохранялась более длительное время благодаря философской школе Филона (ум. в 40-х годах I в. н. э.), который пытался синтезировать классическую античную мысль и Ветхий Завет, опирался на каббалу и оказал значительное влияние на богословов Восточной Церкви. Образ Моисея, приближающегося к Богу в Синайском мраке, которым впервые воспользовался Филон Александрийский как символом экстаза, становится у отцов православной церкви излюбленным образом непознаваемости Божественной природы человеческим опытом[236]. Значительное воздействие на христианство оказало учение Филона о Логосе как порождении Бога, посредством которого человек может постичь общение в блаженном экстазе. В отличие от Платона и стоиков Филон не видел в своей «идее всех идей», или в своем Логосе, абсолютного и самобытного начала: Логос есть прежде всего способность Божества, его энергия, сила или разум[237]. Используя термин античной философии, Филон обратился к древней устной каббалистической традиции, поскольку именно здесь содержится учение об атрибутах, силах и свойствах Божества. Филон сам говорил про учение о силах Божества, составившее впоследствии главную часть каббалы, как про великую тайну, о которой сообщается только посвященным[238]. Учение Филона оказало значительное воздействие на различные направления гностицизма – своеобразной эзотерической философии, содержащей в себе тайное знание (др. – гр. «gnosis» – знание) о мироздании. Человек наделялся сверхъестественными способностями и возможностями, ради чего гностики заимствовали идеи из египетской магии и греческой философии и каббалы. Мироздание у гностиков представляло собой лестницу из «эонов» – сущностей. Наверху мироздания стоял Бог, Мировой разум или иная высшая сущность, посредством Божественного логоса творившая Разум и другие зоны. Учения о мироздании каббалистов (Первоначало и его сефироты) и гностиков (Первоотец и его зоны) практически тождественны. Гностики рассматривали Христа как особенное небесное существо, особый эон»[239]. В конце I в. в Сирии секта элькесаитов утверждала, что на человека Иисуса во время крещения сошел Божественный «эон» Христос и его «обожил»[240]. В этой связи представляется закономерным, что в результате знакомства с каббалой мировоззрение московского кружка приобрело ощутимый оттенок гностицизма. В одном из памятников еретической мысли «Написании о грамоте», говорится о том, что для спасения человечества Бог приводит в мир не Сына своего Христа, а грамоту – тождество Бога-Слова с Логосом, созидающим мир[241]. Процесс взаимопроникновения различных религиозных движений был несомненно достаточно интенсивным, хотя и не продолжительным. Тесно связано с гностическими представлениями и фразеологией Евангелие от Иоанна. Элементы гностического подхода содержатся в Посланиях Павла[242]. Очевидно, что в I—II веках иудейские и христианские мыслители, пытавшиеся открыть тайну мироздания и место человека в нем, первоначально обращались к одному кругу понятий и проблем. Со временем последователи разных учений все более отдалялись, противоречия становились все более ожесточенными. В частности, по мнению философа С.Н. Трубецкого, «многие из ранних христианских мыслителей и апологетов продолжали соединять с идеей Логоса стоические и платонические представления; но в общехристианском сознании эти чуждые элементы отпадали сами собою, и в процессе роста и развития религиозной мысли оставалось лишь религиозное значение Логоса, которое определялось мыслью о Христе и его Деле, образом Христовьм, сознанием божественного содержания этого образа»[243].  Адам Кадмон
В богословских столкновениях «главной заботой Церкви и залогом ее борьбы являются утверждение и указание возможности, модуса и способов единения человека с Богом». В порядке домостроительного проявления Святой Троицы в мире каждая энергия исходит от Отца и сообщается через сына в Духе Святом. Всецело непознаваемый в Своей Сущности, Бог всецело открывает Себя в Своих энергиях, которые не разделяют Его природы на две части – познаваемую и непознаваемую, но указывают на два различных модуса Божественного бытия – в сущности и внесущности. Различие между сущностью и энергиями – основа православного учения о благодати[244]. В отличие от христианства каббалисты и гностики нуждались в дополнительном звене, соединяющем Бога и человека. В I—II вв. возникло толкование, приписываемое рабби Акибе, согласно которому человек сотворён «по образу» не Бога, но Адама Кадмона. Филон Александрийский соединил эти представления с платоновской концепцией идеи как вневременного образца вещи: «небесный человек» мыслился как идеальная парадигма «земного человека». Логос мыслился Филоном как порожденный Богом первый ангел, посредством которого человек способен достичь общения с божеством в блаженном экстазе[245]. С.С. Аверинцев указывает, что полное развитие мифологема Адама Кадмона получила в позднейшей каббалистической мистике XIII—XVIII вв., трактующей Адама Кадмона как онтологически необходимое соединительное звено между неопределимой беспредельностью Бога и его самоопределением через полагаемые им же формы[246]. Отделяя Святой Дух от Всевышнего, конструируя «промежуточные» ипостаси между Создателем и его творением, отрицая богочеловеческую природу Христа, каббалисты, гностики, последователи других сект отказывались от Богопостижения, удаляясь в сторону оккультных упражнений доступных избранным. Лосский замечал, что Церковь боролась против гностиков для того, чтобы защитить саму идею обожения как вселенского завершения: «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал богом»[247]. Л. Карсавин указывает на то, что Христианское монашество как высшая ступень христианской жизни делает возможным и конкретно-понятным учение о Духе Святом, о Духе, преображающем уже и земную жизнь, не спасающем от мира, как у гностиков, но спасающем мир[248]. Блюсти ум в сердце Расхождение в главном, во внутреннем содержании, не отменяло схожести внешних форм и приемов. В первую очередь это относится к медитативной технике иудейских мистиков и христианских аскетов, прежде всего исихастов. Каббалисты полагают, что медитативная молитва открывает перед молящимися возможность для единения с Богом, в то же время соединяя Бога со всем Творением. Некоторые приемы медитативной практики описаны в сборнике наставлений VI века до н. э. «Маасе Меркаба», метод которой состоял в сосредоточении на рисунках, подобных буддийским мандалам, изображающих небесные «чертоги», ведущие к Престолу Господню. Первые еврейские школы медитации возникли, по видимому, в конце V – начале IV века до н. э.[249]. Важнейший элемент исихастского «умного делания» – «низведение ума в сердце». «Суть и содержание исихии составляет таинственная и сверхрациональная работа переустройства души в состояние открытости, приуготовленности для благодати… В формировании новых структур и механизмов центральное место занимает особый процесс концентрации, сосредоточения или центрирования сознания, издавна получивший название «сведение ума в сердце».. Человек должен своей волею и усилием собрать всего себя в «сердце» – или, точней, пожалуй, он должен создать в себе «сердце»[250]. Православные мистики опирались на Священное Писание, которое свидетельствует не только о способности сердца воспринимать воздействия Духа Божьего, но и «представляет его тем органом, который совершенствует и исправляет Бог как центр нашей духовной жизни и Богопознания»[251]. Знаток иудейского Закона ап. Павел полагал, что сердце является центром внутренней жизни человека – наиболее близким ветхозаветным аналогом современного понятия «личности»[252]. Сосредоточить ум в сердце – значит установить внимание в сердце и умно зреть пред собою невидимого Бога[253]. Весьма подробно описывает свой медиативный метод Симеон Новый Богослов, характеризуя его как «вещь странную и неудобосказуемую»: «Истинное и неложное внимание и молитва состоит в том, чтобы ум хранил сердце в молитве. Затвори дверь ума и вознеси ум твой от всего суетного, то есть временного. Затем, упершись брадой своей в грудь, устремляя умственное око со всем умом в середину чрева, то есть пуп, удержи тогда и стремление носового дыхания, чтобы не дышать часто, и внутри исследуй мысленно утробу, дабы обрести место сердца, где пребывают обычно все душевные силы. И сначала ты найдешь мрак и непроницаемую толщу, но постоянно подвизаясь в деле сем нощно и денно, ты обретешь – о чудо! – непрестанную радость»[254]. Наставления православного мистика стоит рассмотреть в связи с результатами исследований доктора биологических и кандидата медицинских наук, заведующего лабораторией психофизиологии Психоневрологического института им. Бехтерева (Санкт-Петербург) В.Б. Слезина, который, записав электроэнцефалограмму настоятеля одного из монастырей во время молитвы, обнаружил, что в молитвенном состоянии отсутствовал электрический импульс, свидетельствующий о работе коры головного мозга, – она была полностью отключена, притом что человек оставался в полном сознании. Профессор В.Б. Слезин отмечает, что в процессе молитвы сознание не отключалось, а как бы перемещалось из мозга[255]. Преподобный Григорий Синаит говорил, что только молитва может ум удержать при себе, не давать ему рассеиваться и помрачаться, поскольку «ум.. водится как пленник»: «Когда в силу такого молитвенного труда водворится в сердце действо молитвы, тогда она станет удерживать при себе ум»[256]. Нил Сорский свидетельствовал об этом явлении следующими словами: «О молитве… прилежно попечение имети, всех помысл ошаася в ней, аще мощно; не точию злых, но и мнимых благых и искати в сердци Господа, еже есть умом блюсти сердце в молитве и внутрь сего всегда обращатися..»[257] Безмыслие – важнейший атрибут как христианской, так и каббалистической медитации. Пустынник IV века Макарий Египетский знал, что Божественный свет достигается в успокоении ума ото всего, что может его волновать и возмущать[258]. Состояние медитации в каббале характеризуется как каванна – «святой умысел», то есть сосредоточенное сознание. В этом состоянии безмыслия каббалист обретает опыт взаимопроникновения абсолютного и относительного миров[259]. Он стремится визуализировать свою духовную сущность в центре сефиры, дабы увидеть внутренним взором, как она излучает в мир сияние Мудрости. Это растворение «я» в Небытии и означает нисхождение Божественной благодати – Шефа. С осознанием того, что «я» есть «Ничто», приходит «свет покоя… Желание действовать и трудиться, страсть к созиданию и обновлению, жажда безмолвия и внутреннего возгласа радости – все это сливается воедино в вашем духе, и вы обретаете святость»[260]. Если мы обратимся к буддистской традиции, то увидим, что первым этапом в йоге и главной задачей, решение которой послужит ключом ко многим постижениям, является установление «безмолвия в разуме», необходимое, чтобы расчистить проход между внешним разумом и чем-то во внутреннем существе. Йоги, как и христианские, и иудейские мистики, стремятся, по сути дела, к освобождению сознания: все существо устремляется ввысь; ищущий пытается пробиться за пределы видимого и выйти вверх, в Покой или экстаз. Как только мы овладеваем безмолвием, мы становимся хозяевами ментального мира. Как этого добиться, говорит один из йогов: «Медитируй сидя, но не думай, а лишь смотри на свой ум; ты увидишь, как в него входят мысли; прежде чем они смогут войти, отбрасывай их от своего ума до тех пор, пока ум твой не станет абсолютно безмолвным»[261]. Мистиков различных школ подстерегали схожие опасности. Так, для иных последователей рабби Акибы медиативные упражнения кончились плачевно: один раввин умер во время этих занятий, другой сошел с ума, третий отрекся от веры[262]. На стадии чрезвычайно глубокого сосредоточения, достигаемого в ходе медитации, каббалист встречал эфирную форму самого себя. Этот опыт открывал перед мистиком прежде недоступные ему возможности для самопознания. Но если он не был достаточно осторожен, встреча с мысленной проекцией своего «я» могла причинить ему вред. Впоследствии каббалисты пришли к выводу, что медитации желательно проводить не в одиночестве, а в присутствии хотя бы одного человека, который поможет сохранить связь с реальностью[263]. Симеон Новый Богослов писал о том, что «как только ум найдет место сердечное, он сразу узревает, чего никогда не знал. Видит же он посреди сердца воздух и себя самого, всего светлого и исполненного рассуждения. Однако призыванием Иисуса Христа он изгоняет и истребляет помысел при его появлении, прежде чем тот завершится или сформируется[264]. Чтобы при делании умной молитвы не впасть в прелесть, прел. Нил Сорский призывал не допускать в себе «никаких представлений, никаких образов и видений, ибо… никто не в состоянии владычествовать над ними, кроме достигших благодатью Святаго Духа совершенства и кроме стяжавших Иисусом Христом непоколебимость ума»[265]. Симеон Новый Богослов указывал на христианских аскетов, которые, подобно последователям рабби Акибы, лишились рассудка и наложили на себя руки[266]. Св. Феофан Затворник предупреждал, что «сумасшествие от молитвы Иисусовой может произойти, когда, творя сию молитву, не отстают от каких-либо грехов и привычек грешных, кои осуждает совесть». Он же находит возможность избежать прелести: «У отцов для этого указывается один способ: не оставайся один, имей опытного советника и руководителя. Если нет его, то сойдитесь двое-трое и руководитесь взаимно при свете отеческих писаний»[267]. Сходны каббалистическая и исихастская трактовки Божественного света. В каббале опосредованная связь с Творцом возможна благодаря Его свету, который дает человеку чувство полного, ясного общения с Создателем[268]. Но, как мы уже подчеркивали, схожесть приемов не должна заслонять расхождения в главном. Цель каббалиста – постичь на собственном опыте этот основополагающий факт Бытия и тем самым соединить все Творение с его источником, ибо Бог есть одновременно источник и цель творения, мир формы и внеформенные миры. Идеальным инструментом для достижения такого опыта является Тора[269]. Для христианина Иисус есть единственная дверь к Богообщению, к снисканию которого и стремится молитва, ибо Он Сам сказал: «никто-же приидет ко Отцу токмо Мною» (Ин. 14: 6). Ученик Абулафии Иудейский и христианский мистицизм, казалось, никогда более не встретятся. Однако в XIII веке испанский еврей-сефард Авраам Абулафия открыл доступ к каббалистическому учению еврейским женщинам и христианам. Своих оппонентов Абулафия осыпал упреками, заявляя, что в духовном развитии те уступают даже его ученикам-неевреям и следуют только букве, но не духу Торы. Единение с Богом Абулафия трактовал в узком смысле – как глубокое сосредоточение на буквах священного Имени Тетраграмматона, ведущее к исчезновению самосознания[270]. Абулафия бывал в Византии. Исследователи философии Абулафии не исключают воздействия исихазма на его мировоззрение. (В одной биографической справке, посвященной Абулафии, сказано следующее: «fu in Grecia dove forse subi linfluenza dell Esicasmo cristiano»)[271]. Абулафия не только вербовал учеников среди христиан, но и пытался адаптировать Каббалу к христианскому восприятию. «С этой целью он пытался воспроизвести тринитарную систему, или хотя бы ее оболочку, не касаясь сущности Божественных ипостасей. А его ученики в Испании и Италии еще больше усиливали тринитарную идею, согласовывая ее с концепцией Десяти Сефирот, стремясь привлечь как можно больше христиан. Отсюда в каббалистической литературе XIII столетия появились понятия Отца, Богоматери, Сына и Святого Духа»[272]. Деятельность Абулафии вызвала негодование ортодоксальной иудейской верхушки и привлекла к себе внимание инквизиции. В 1280 году проповедовавший в Италии Абулафия оказался в римской тюрьме. Затем в окружении верных учеников бежал от гнева раввинов на Сицилию. В 1290 году «пророк» покинул Апеннины[273]. Именно в эти годы начинается интенсивное освоение генуэзцами своих крымских колоний и интенсивные сношения между Италией и Тавридой. Мы полагаем, что переселившийся в Крым ученик Абулафии был предком Схарии, либо основателем кружка, к которому он принадлежал, либо и тем и другим. Впрочем, мистическая каббала в версии Абулафии могла попасть в генуэзские колонии и позднее. Тем не менее итальянские корни схарианства очевидны: Схария знал итальянский, да и само прозвище (фамилия) «Scara» по-итальянски означает «жук». Г.М. Прохоров приписывает Захарию-Скаре фамилию «Гвизольфи» – явно итальянского происхождения. Вспомним, что и «Шестокрыл», которым широко пользовались «жидовствующие», был составлен в Италии ученым-каббалистом. Не противоречит каббалистической версии и догадка о караимских корнях наших «жидовствующих». В начале XV века Иоганн Шильтбергер обнаружил в Кафе «два рода евреев, которые имеют две синагоги в городе и четыре тысячи домов в предместье»[274]. Исследователи полагают, что здесь подразумевались общины, представлявшие ортодоксальное раббинисткое и караимское течения в иудаизме[275]. Вряд ли покинувший Италию из-за преследования раввинов ученик Абулафии или его позднейший последователь предпочел примкнуть к ортодоксальным иудеям. Очевидно, что он бы сделал выбор в пользу караимизма: хотя бы потому, что и каббалистов, и караимов ортодоксальные раввины считали (и считают до сих пор) раскольниками. Караимизм отличает от ортодоксального иудаизма непризнание Талмуда. Движение караимов – дословно «люди Писания» – возникло в VIII веке в Месопотамии. Его основатель Анан бен Давид в книге «Сефер ха-Мицвот» («Книге заповедей») обрушился с яростными нападками на Талмуд, раввинов, которые обвинялись в подмене законов, данных евреям Богом через Моисея в его Пятикнижии, законами, произвольно установленными ими самими. Приверженность неукоснительному следованию Торе создавала определенные предпосылки для понимания между каббалистами и караимами. Аннаниты отрицают необходимость посредничества между Богом и человеком, верят, что человек создан свободным и руководствоваться в жизни обязан только своей совестью. Если человек не принимает религиозные предписания, он не должен с ними соглашаться, а также не должен слепо следовать тому, чему его учат. Его задача – самому дойти до истины. В этом также караимы сходятся с каббалистами. С другой стороны, караимизм перекликается с христианством – принимает Ветхий Завет и 10 заповедей, признает Иисуса Христа и Магомета великими пророками, отвергает Талмуд. В отличие от последователей официального иудаизма у караимов не было столкновений с христианскими государствами и церковью, а также коренным населением. В Российской империи караимы пользовались всеми правами подданных нехристианского вероисповедания, в том числе имели право иметь офицерский чин, проживать в столице, заниматься торговлей. Отличительной особенностью караимизма являлось уважение к науке, особенно к философии, математике и астрономии. Именно в этих областях авторитет Схарии был столь велик, что имя ересиарха упоминается в православных богослужебных книгах, где помещались лунные таблицы, например, в молитвослове 1536 года, снабженном «Пасхалией с луновником»[276]. В лице Схарии русские интеллектуалы столкнулись с «пророком», который, следуя примеру Абулафии, стал учителем сокровенных познаний, в том числе и для неевреев. Впрочем, похоже, Схария при этом не ставил перед собой обширную прозелитическую программу. Большую часть жизни Схария провел в Крыму и Литве, где проживало значительное число единоверцев, среди которых он искал единомышленников. Коренные жители были слабо осведомлены о том, что происходило в закрытых раввинистских или караимских общинах. Неудивительно, что следы деятельности Схарии не отмечены за пределами Московии. Вряд ли Схария вообще стремился к широкой пропаганде эзотерических знаний. Человек достаточно осторожный, Схария помнил, что в средневековой Европе каббалисты всегда несли на себе двойное бремя проклятия: они были не только евреями, а еще и евреями, «погрязшими в колдовстве». Сам характер каббалистического вероучения предполагает избранность. Абулафия, хотя и не ограничивал круг своих учеников единоверцами, вместе с тем не обращался к широким массам, но только к образованным и высокопросвещенным людям[277]. Схария также не стремился вербовать иудеев в среде православных, однако охотно делился знаниями с интеллектуалами типа Федора Курицына, людьми знающими и стремящимися к знанию. Пророк не собирался вступать в конфликт с христианством, потому его покровителем стал Михаил Олелькович – известный радетель православия. Сам Иосиф Волоцкий называл его истинным христианином, по-христиански мыслящим. Трудно представить, чтобы князь не знал об образе мыслей вероучителя из Кафы, однако он не только держал его при себе, но и взял с собой вместе с несколькими учениками в Новгород. Михаил Олелькович поступал таким образом именно потому, что не видел в Схарии расколоучителя. Не стоит строго порицать князя за подобное «благодушие» – вспомним, что в то время астрология и ворожба, хоть и осуждаемые официальной церковью, процветали при дворах христианских государей. Таков круг идей, которые питали Схарию и которые он мог проповедовать своим ученикам. Мы полагаем, что схарианство представляло собой караимскую трансформацию каббалистики, в чем и состоял, если использовать формулировку А.В. Карташева, «караимский модернизм». В том или ином виде каббала, несомненно, представляла для русских книжников интеллектуальную сенсацию, на что никоим образом не претендовал традиционный раввинизм. К тому же такое внеэтническое и внеконфессиональное учение, как каббала (в версии абулафианца Схарии), не отталкивало москвичей, весьма нерасположенных доверяться иудеям, а тем более следовать за ними. Таким образом, разрешается одно из главных недоумений, порождаемых общепринятой версией происхождения ереси: чем новгородских иереев и московских интеллектуалов так привлек хорошо знакомый им иудаизм. Но между вероучением Схарии и воззрениями его русских слушателей нельзя ставить знак равенства, так же как и между московским и новгородским кружками. Еще Иван III полагал различие между ересью, «которую держал Алексей протопоп» и «которую ересь держал Феодор Курицын»[278]. Различия эти связаны, в первую очередь, с тем, как складывались отношения Схарии с москвичами и новгородцами, их интеллектуальными качествами. Направляясь в Новгород, Схария понимал, что здесь, в отличие от Кафы или Киева, не было иудейской общины и бдительных раввинов – постоянного источника опасности для каббалиста. В торговом городе чужеземец и иноверец не вызывали чрезмерной настороженности. Имея могущественного заступника в лице светского правителя, Схария мог не беспокоиться за свое будущее. Он прибыл в Новгород не служить Михаилу Олельковичу и не совращать православных, – именно в Новгороде кружок каббалистов попадал в наиболее благоприятные условия для своей деятельности. Именно эта уникальная ситуация подвигла его, подобно Абулафии, постараться расширить круг избранных за счет здешних грамотеев. Воздух свободы опьянил Схарию и сыграл злую шутку с ним и его новыми учениками. Сам он оказался в роли основателя секты «жидовствующих», а попы-неофиты превратились в вероотступников. Схария провел в городе на Волхове неполных пять месяцев. Отнимем от них срок необходимый для знакомства и завязывания более тесных отношений. За столь короткий срок можно успеть собрать группу посвященных, преподать самые азы каббалистической системы, снабдить нужной литературой, но для глубокого постижения столь сложного и громоздкого учения необходим значительный период наставничества. А поддерживать регулярные контакты с единомышленниками в Литве или Крыму доморощенным каббалистам-недоучкам из рядовых иереев было непросто. Оказавшись в изоляции и будучи предоставленными сами себе, слушатели ускоренных курсов по каббале постепенно деградировали. Кроме того, в сознании новгородских иереев были живы пережитки стригольничества с его обращением к язычеству, пантеистическому культу Неба и Земли. По мнению Милькова, для многих новгородцев в XIV веке и позже святынями оставались сферы чувственно воспринимаемого обожествляемого Космоса[279]. Неудивительно, что, постигнув азы использования астрономических трудов, протопопы-полуязычники рассматривали их исключительно как пособие по чернокнижию. Процесс деградации новгородского кружка подстегнул отъезд к великокняжескому двору в 1480 году наиболее даровитых адептов, чьи кандидатуры наверняка были подсказаны Схарией. Судьба прочих мало интересовала как самого наставника, так и его московских учеников. Когда Геннадий «обнаружил» в Новгороде ересь, прошло десять лет с момента перевода Дениса и Алексея в Москву, и больше пятнадцати лет минуло с тех пор, как покинул новгородские пределы Схария. За это время кружок полуграмотных иереев, оставшихся без попечения, окончательно выродился в секту чернокнижников, объединенных слепым исполнением таинственных ритуалов. Лаодикийское послание Кружки на берегах Волхова и Москва-реки действительно появились и развивались независимо друг от друга, резко отличались и социальным составом, и взглядами на мироустройство, и поведением их участников. О философии московского кружка мы можем судить по небольшому, не разгаданному до конца произведению Федора Курицына «Лаодикийское послание»: Душа самовластна, заграда ей вера. Вера – наказание, ставится пророком. Пророк – старейшина, исправляется чудотворением. Чудотворения дар мудростию усилеет. Мудрости – сила. Фарисейство – жительство. Пророк ему наука. Наука преблаженная. Сею приходит в страх Божий. Страх Божий – начало добродетели. Сим вооружается душа[280]. Мильков обращает внимание на то, что послание Курицына распадается на две части: в первой конец строки повторен в начале следующей. Полагаем, что по данному принципу построено все произведение. Чтобы увидеть это, несколько изменим порядок изложения: Душа самовластна, заграда ей вера. Вера – наказание, ставится пророком. Пророк – старейшина, исправляется чудотворением. Чудотворения дар мудростию усилеет. Фарисейство – жительство. Пророк ему наука. Наука преблаженная. Сею приходит в страх Божий. «Страх Божий – начяло добродетели. Сим въоружается душа». Автор «Послания…» излагает свои мысли в необычной последовательности, он оперирует понятиями, которые образуют геометрическое построение центром, исходной и конечной точкой которого оказывается Душа. «Лаодикийское послание» действительно делится на две половины, но не по форме, а по содержанию: Курицын последовательно раскрывает два пути соединения Души человеческой с Богом – посредством Веры и Добродетели. Душа Вера – Пророк Пророк – Чудо Чудо – Мудрость Фарисейство – Наука Наука – Страх Божий Душа «Душа самовластна, заграда ей вера». Самовластная душа – у Курицына эгоистическая сущность нашей низкой природы, которую способна обуздать только вера – вера в существование Творца, в Его желание, чтобы люди изменились и приблизились к своей богоподобной природе. «Вера – наказание, ставится пророком». Вера лишь первое условие Богопостижения. Постигнуть Творца помогает пророк-старейшина, советы мудрецов, достигших духовного уровня познания. Мы уже говорили о том, что пророки играли огромную роль в раннехристианских эклесиях: христиане верили, что на пророках – Благодать Божия, что их устами вещает Дух Святой, поэтому общение с пророками было для христиан священнодействием[281]. Но в данном случае автор скорее обращается к образу пророка в каббалистической версии, или, точнее, в версии Абулафии. По утверждению Абулафии, после того как «я» тайновидца растворится в Едином, в нем пробуждается пророческий дар. Высочайшая пятая ступень восхождения души именовалась йехида – «совершенное единение». Достигший ее исполнялся шефы («истечения» Божественной благодати) и с тех пор почитался «пророком». Удачные пророчества, с которыми выступал сам Абулафия, вне сомнения, разжигали в его последователях желание также сделаться пророками[282]. Вероятно, эту черту унаследовало и схарианство. «Пророк – старейшина, исправляется (направляется) чудотворением». Пророки, исполненные Божией Благодати, способны проникать в сферы, недоступные непосвященным. Однако здесь их подстерегают серьезные опасности. Поэтому «Чюдотворения дар мудростию усилеет». Здесь Вера как бы встречается со своей противоположностью Мудростью, иррациональное начало с рациональным, взаимодополняющие друг друга. Курицын противопоставляет «фарисейство – жительство» и Добродетель. Фарисей – человек, исполненный наружного благочестия, ведущий благопристойный образ жизни, неспособный к постижению Всевышнего. Только с помощью эзотерических знаний – «науки преблаженной» – фарисей способен постичь Страх Божий – одну из великих добродетелей. Страх Божий – «начало» (первоначало Добродетели) подразумевает удивление, трепет перед лицом величия Божия, с одной стороны, и сыновью любовь к Господу, которая ведет к благочестию, совершеннейшей чистоте и святости жизни, прямо противоположным фарисейству. На первый взгляд, в «Послании..» нет ничего предосудительного с точки зрения православной церкви. Однако В.В. Мильков справедливо указывает на то, что Курицын утверждает пророческий источник веры и мудрости, игнорируя роль святоотеческих писаний в деле утверждения истинной веры[283]. Судя по соборному приговору, «жидовствующие» считали Христа подобным Моисею. Разочарованные в официальной церкви и не находя многих ответов в святоотеческом богословии, вольнодумцы обращались к «альтернативным источникам». В это же время (а точнее, в 1489 году) флорентийский философ Джованни Пико делла Мирандола обнародовал «900 тезисов по философии, каббалистике и теологии», один из которых звучал следующим образом: «Никакая наука не может лучше убедить нас в божественности Иисуса Христа, чем каббала»[284]. Интерес Мирандолы к каббале объясняется тем, что мыслители эпохи Возрождения разделяли точку зрения каббалистов на то, что их учение имеет древнейшие корни, восходя к самому Моисею, следовательно, содержит глубинные тайные познания. «Давайте позовем самого Моисея, который лишь немногим меньше того обильного источника священной и невыразимой мысли, откуда пьют нектар ангелы», – призывал Мирандола в своей «Речи о достоинстве человека»[285]. В каббале Мирандола увидел «не столько религию Моисея, сколько христианскую»: «Там я читал то же, что мы ежедневно читаем у Павла, Дионисия, Иеронима и Августина – о таинстве Троицы, о воплощении слова, о божественности Мессии, о первородном грехе, об искуплении его Христом, о небесном Иерусалиме, о падении демонов, об ангельских хорах, о чистилище, о воздаянии ада»[286]. Мирандола полагал возвысить человека до «находящейся над миром курии, самой близкой к высочайшему благоденствию», в котором обитает херувим – созерцатель, ступень между «троном» – справедливым судьей и серафимом – обожателем в Боге и Бога в нем. «…Но ведь если необходимо строить нашу жизнь по образцу херувимов; нужно видеть, как они живут и что делают….Посоветуемся с апостолом Павлом, ибо, когда он был вознесен на третье небо, то увидел, что делает войско херувимов. …Он ответит нам, что они очищаются, затем наполняются светом и, наконец, достигают совершенств, как передает Дионисий»[287]. Здесь третье небо апостола Павла соотносится Мирандолой с миром Брия, третьим архетипическим миром каббалы, который является обителью ангельских сонмов и служит мостом между высшим миром эманации и низшим миром формирования[288]. Христианская каббала продолжала развиваться в XVI веке, находя приверженцев в Германии и Италии, среди которых Джордано Бруно и Томмазо Компанелла. Пико делла Мирандола и последующие христианские каббалисты видели свою задачу в том, чтобы устранить при помощи каббалы все существенные разногласия между христианством, иудаизмом и исламом, выделить из них, а также из греческой мудрости искры Божественного откровения и создать новую религию, которую Пико называл «универсальным христианством». Эта новая религия рассматривалась вовсе не как какое-то новшество, но как утраченная традиция[289]. В процессе этих поисков итальянские и русские мыслители обращались к одним авторам. Это, прежде всего, византийский богослов Псевдо-Дионисий Ареопагит, неоднократно цитируемый Мирандолой, популярный у исихастов и московских вольнодумцев. Интересно, что Дионисий, как идеолог «умного делания», (каковым он никогда не был), упоминается в таком светском произведении, как Воскресенская летопись, которая составлялась в 1533 – 1544 годах в кругу близкого к нестяжателям митрополита Иасафа[290]. Рассказывая о смерти Дмитрия Донского, книжник рисует его благочестивый образ: «Иному убо сказание бываетъ, на честь похвалы прилагание дружня любовь понуждает; великому же князю благочестиа дръжателю отъ житиа светлости украшение от прародидель святолепие, по великому Дионисию: говоръ воде ветром бываетъ, мокрота земли солнцемъ погибает, ум владетель чювствием человеческимъ, и спряжением чювствия умъ в сердци сада, въкореняет, сердце же плод умный миру подаваеш»[291]. Похоже, что здесь летописец переосмысляет одну из глав дионисьева трактата «О мистическом богословии», посвященную несущностной природе всего чувственного[292]. Автор, таким образом, подчеркивает изначальную предрасположенность покойного князя к добродетельным мыслям и поступкам. Трудно сказать, насколько подобный прием сообразуется с задачей прославления Дмитрия Донского, но, видимо, книжник не устоял перед искушением, что называется, «блеснуть эрудицией», «прилагаа онех древних философ Еллинскых и повести ихъ». О популярности Дионисия свидетельствует неоднократное обращение к его произведениям Андрея Курбского. В «Истории о великом князе московском» князь обращается к труду «О небесном священноначалии», когда говорит о том, что «не только плотские люди, но и сами бесплотные силы, то есть святые ангелы, – управляются помыслом и рассудком, как пишет об этом Дионисий Ареопагит»[293]. Князь цитирует Дионисия и в послании Константину Острожскому. Христианские каббалисты на Западе и Востоке хорошо знали труды философа Моисея Маймонида, еврея-сефарда, жившего в XII веке в Испании. В.В. Мильков заметил, что в «Логике», принадлежащей перу Маймонида, как и в «Послании..» Курицына, вера одновременно отождествляется с мудростью и знанием, которые Бог объявляет избранным через пророка[294]. С «Логикой» Маймонида был хорошо знаком и Мирандола, по заказу которого комментарии Абулафии к маймонидовой «Логике» были переведены на латынь. В другом произведении московских еретиков – «Написании о грамоте» заметно влияние Филона и гностической традиции. Для спасения человечества Бог приводит в мир не Сына своего Христа, а «грамоту», созидающий Логос[295]. Возможно, русские книжники прониклись тем, что современный американский православный богослов называет «паламитско-маймонидовским пониманием Бога», которое можно сформулировать следующим образом: сущность Бога вне всяких тварных отношений и категорий, однако Божественные действия, напротив, могут быть испытаны и познаны человеком[296]. Вместе с тем «Лаодикийское послание», по нашему убеждению, нельзя рассматривать исключительно как далекое от житейских реалий философское упражнение. Послание Курицына явно навеяно эсхатологическими настроениями тех лет. Лаодикийская церковь – последняя церковь, к которой Иисус обращается в Апокалипсисе. Следующий период Христовой Церкви – Царство Божие. Следовательно, Лаодикия и есть Москва, – тот самый последний Третий Рим, за которым уже не будет четвертого. Слепая самоудовлетворенность Лаодикийской церкви вызывает гнев Божий: «Ты ни холоден, ни горяч, о, если б ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател, и не в чем не имею нужды», а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. III, 15 – 16). «В этих словах с потрясающей силой осуждается то духовное мещанство, обмирщение церковной жизни, которое в своем самодовольстве не примечает своей ограниченности и слепоты духовной, – писал Сергий Булгаков. – Это церковное лаодикийство, которое всегда является духовною угрозой, подстерегает церковность на всех путях ее..»[297] Сочетание материального богатства Лаодикийской церкви с ее духовной нищетой, безусловно, сопоставлялось Курицыным с состоянием современной русской Церкви, ее сребролюбием и любостяжательством. Поэтому мы воспринимаем «Лаодикийское послание» Курицына как обращение к современнику, размышляющему о настоящем и будущем, это предупреждение о грядущей опасности и одновременно попытка предложить альтернативу господствующей церкви, погрязшей в «духовном мещанстве», призыв к очищению от фарисейского «жителства» и фарисейского образа мыслей. Уроки итальянского Очевидно, что участники московского кружка искали в еврейской мистике решающие подтверждения христианских догматов, и, прежде всего, – догмата о Троице и о богочеловеческой природе Христа. Отметим, что Е. Голубинский, не склонный сочувствовать московскому кружку, говорит все-таки о «христианском вольномыслии». Решающими же доводы, почерпнутые в каббале, были бы именно потому, что она воспринималась как традиция, передающая истинное Откровение, восходящее к Моисею. Марселио Фичино находил еще более древний источник познания, чем Моисей. В «Theologia Platonica» философ писал: «Гермес Трисмегист еще в первых людских поколениях изложил учение о сотворении мира куда яснее, чем мы можем прочесть в «Тимее». Удивит ли нас, что человек этот знал столько же, сколько Моисей, и был ему подобен.. И в том превосходит он Моисея, что прежде Богоявления ведал, что творящее Слово есть Сын Божий…»[298]. В эпоху Кватроченто считалось, что мифический Гермес Трисмегист жил раньше всех греческих философов и считался родоначальником религиозно-философской традиции, к которой примкнул Платон[299].  Марселио Фичино
Христианство, в свою очередь, рассматривалось не как отрицание античности, а как более совершенная ступень древнего знания. Энео Сильвио Пикколомини, впоследствии Папа Пий II, писал о том, что «христианство – не что иное, как новое, более полное изложение учения о высшем благе древних»[300]. Следовательно, христианство не обособленное учение, враждебное остальным, а база для синтеза арабских, иудейских, античных идей. Ренессансное умонастроение, порождавшее поиск «всеобщей религии» (термин Фичино), как видно, охватило интеллектуалов не только Западной Европы, но и Литвы и Московской Руси. Сомнительно, чтобы Схария или Курицын были знакомы с трудами Мирандолы или Фичино, которые увидели свет в 80 – 90-е годы. XV столетия. Вместе с тем заметное влияние ренессансной философии на мировоззрение Федора Курицына, очевидные параллели с работами итальянских гуманистов свидетельствуют о том, что московский мыслитель имел непосредственную возможность знакомиться с представителями Возрождения. Такая возможность русскому дипломату представилась во время пребывания в Венгрии при дворе короля Матьяша Хуньяди (Матвея Корвина). Венгерский монарх получил прекрасное гуманистическое образование, охватывакщее латынь, историю, математику, астрономию. Он оказался весьма способным учеником. Хотя почти все время правления Матьяша Венгрия участвовала в различных военных конфликтах, королю удавалось поддерживать в Венгрии интенсивную культурную жизнь. Матьяш основал первый в Венгрии университет, одну из крупнейших в ту эпоху библиотек – Bibliotheca Corvina, насчитывавшую свыше 2000 томов, при нем в стране началось книгопечатание. Главными помощниками на ниве просвещения стали итальянские ученые, находившие радушный прием при дворе Матьяша. В значительной мере этому способствовал второй брак короля, чьей избранницей в 1476 году стала неаполитанская принцесса Беатрис. С Беатрис в Венгрию прибыл Франческо Бандини, который несколько лет провел вместе с Фичино во флорентийской Платонической Академии. В Венгрии Бандини быстро стал другом короля Матьяша и самым близким его советником и, что более важно, играл роль связующего звена между королем и Фичино. В середине 80-х годов XV века в Венгрию прибыл другой итальянский гуманист Антонио Бонфини. В 80-е годы Матьяш Хуньяди, не забывая о государственных делах, все более и более приобщался к «тайнам небес», занятиям по астрономии и постижению тайн духовной жизни, следуя наставлениям Фичино. Фичино писал королю: «Твой труд напрасен, о философ, если, пытаясь постичь суть всех вещей, ты забываешь про душу, посредством которой мы способны познать остальное». Матьяш Хуньяди все более и более обращал внимание на свойства души и заслужил признание своего учителя, посвятившего ему третий том своего труда «De Vita» – о жизни горних сфер. Король надеялся превратить Буду в центр европейского образования. В течение 1480-х годов он пробовал убедить Фичино лично прибыть в Венгрию и основать в Буде Платоническую Академию. Хотя Фичино в Венгрию так и не приехал, он регулярно присылал королю новые переводы философских работ, появлявшиеся на его горизонте[301]. При дворе Матьяша Хуньяди Курицын мог встретить еще одного видного итальянского ученого – Марцио Галеотто. Галеотто занимал должность учителя риторики в университете Болоньи, но в 1477 году был обвинен инквизицией в еретичестве, поскольку в своих христологических исследованиях отрицал необходимость Боговоплощения для спасения человечества. Галеотто, как и многие фигуры Ренессанса, сочетал интерес к медицине, астрологии, математике, филологии, алхимии и оккультным знаниям. Пребывание Галеотто в Венгрии связано с интересом Матьяша Хуньяди к философии Фичино. Именно в Буде Галеотто пишет свой труд «De Homine», посвящая его королю. Когда философ обвинялся в ереси, только два государя позволяли публикации в защиту Галеотто – Матьяш Хуньяди и Лоренцо Медичи[302]. В Буде Курицын попал в насыщенную атмосферу философских дебатов итальянских неоплатоников. Он не только имел возможность познакомиться с самыми последними достижениями гуманистической мысли, но и пригласить в Москву одного из придворных ученых Хуньяди. Иосиф Волоцкий сообщает о том, что с Федором Курицыным приехал «из Угорской земли угрянин, Мартьиком зовут», который «звездозаконию бо прилежаху». Под означенным «Мартынкой», очевидно, подразумевается польский астроном и придворный астролог венгерского короля Мартин Былица (1433/34 – 1493/94). В 60-х годах XV века Былица читал лекции по астрономии в Падуе, преподавал астрологию в Болонском университете. В эти годы в Италии работал знаменитый немецкий астроном и математик Иоганн Мюллер. Результатом совместной работы Мюллера и Былицы стали астрологические таблицы «Tabulae directionum»[303]. Выбор Курицына естественным образом пал на Мартина Былицу, поскольку поляку было легче преодолеть языковой барьер в общении с москвичами. Былица должен был оказать огромное воздействие на московский кружок Курицына. Напомним, что после возвращения дипломата в Москву последовало повторное приглашение Схарии прибыть ко двору великого князя. Очевидно, что Курицын рассчитывал создать в Москве кружок ученых, подобный тому, что он наблюдал в Венгрии. Но его мечтам не суждено было сбыться. Схария в Москву не приехал, а Мартин Былица, скорее всего покинул двор Ивана III не позже 1490 года. Смерть Ивана Молодого, обострение политической борьбы и новый собор на еретиков вряд ли способствовали плодотворной научной деятельности. В связи с осуждением ереси «Мартынка-угрянин» нигде не упоминается. По всей видимости, астроном задержался в Москве года на три, не более. Тем не менее именно с московским кружком связано зарождение в Московской Руси светской науки: философии, истории, астрономии, естественно-научных и математических проблем. По мнению А. Ф. Замалеева, свою главную задачу еретики видели в том, чтобы всякий человек мог свободно обращаться к мирским знаниям, не страшился инакомыслия, веротерпимости, столь ненавистных официальной церкви[304]. Однако вынужденные конспиративные ухищрения привели к тому, что труды московских вольнодумцев получили распространение среди узкого круга посвященных. Не стоит судить участников московского кружка за приверженность к астрологии и магическим обрядам. Подобные увлечения характерны для эпохи Возрождения. Как отмечают исследователи, за исключением случайных обращений к астрологии лишь несколько хорошо известных представителей ренессансного гуманизма писали о проблемах, которые можно считать научными[305]. Федор Курицын не лицемерил, в чем подозревает его Е.Е. Голубинский, когда убеждал великого князя в том, что по решению собора 1488 года «жидовствуюшие» понесли наказание, а остальные лица, причисляемые к еретикам, на самом деле никакого отношения к сей ереси не имеют, увлекаясь астрологией[306]. На самом деле новгородские иереи, как мы выяснили, в результате стечения обстоятельств, стали объектами прозелитического эксперимента каббалиста-караима Схарии. Московский кружок имеет другие корни. Наряду с влиянием Схарии и каббалистических представлений об Абсолюте и путях его постижения Курицын и его друзья испытали воздействие исихастской антропологии, православной медиативной традиции, гностических учений, а также ренессансного неоплатонизма. Столь причудливая смесь является отличительным признаком духовных исканий XV века. Мыслители на Западе и на Востоке подвергали сомнению ортодоксальное христианское вероучение с позиций ветхозаветной, соединенной с интересом к философии и научным знаниям, религиозности. Для них это было этапом «совершенствования» христианского вероучения. Как отмечал В.Н. Топоров, ереси XV века, хотя и нужно расценивать как «уклонение от христианства (не всегда, впрочем, осознанное), но не столько как попытку преодоления его и критику, сколько как поиск подлинного «христианства» Христа, своих надежд и упований»[307]. К таким поискам, несомненно, стоит отнести размышления Федора Курицына и его друзей, пытавшихся по своему соотнести земной путь человека и жизни небесных сфер. Глава 5 ЦЕЛИ И СРЕДСТВА О власть с ее взглядом Медузы! Кто однажды заглянул ей в лицо, тот не может более отвести глаз: он остается зачарованным и плененным. Кто хоть раз испытал хмельное наслаждение власти и повелевания, уже не в состоянии от него отказаться. Первые столкновения, первые жертвы В марте 1490 года Иван Молодой неожиданно умер. Возникшие тотчас подозрения в том, что к смерти соправителя государства причастны люди, близкие к Деспине Софье, имели под собой веские основания. Незадолго до болезни и смерти наследника вместе с послами великого князя греками Андреем и Мануилом Ралевым и софьиным братом Андреем Палеологом в Москву прибыл лекарь венецианец Леон Жидовин. Его связь с греками из окружения супруги государя несомненна. Леону суждено было сыграть зловещую роль в судьбе наследника. Иван Молодой страдал «камчугою в ногах». Согласно рассказу летописца, Леон похвалялся, что излечит больного, а в противном случае князь волен его казнить. «И нача его лекарь лечити, зелие пити даде ему и нача жещи сткляницами по телу, вливая воду горячую; и от того ему тяжчае бысть и умре»[308]. «Камчуга», по Далю, – старинное название подагры. Скорее всего, Иван Иванович основательно простыл и страдал от инфекционного артрита – болезни, которая и сегодня в 20 – 30% случаев заканчивается смертельными исходами. Современная медицина, в частности, рекомендует прикладывать к пораженным суставам лед. Если судить по летописной записи, Леон поступал прямо наоборот, усугубляя состояние больного. Сознательно ли он поступал таким образом или нет, но подобное лечение стимулировало воспалительный процесс и приблизило летальный исход. Леона казнили через 40 дней после смерти Ивана Молодого, что устроило и покровителей эскулапа: венецианец унес свою тайну в могилу. Иноземка Софья и ее униатское окружение и прежде не пользовались расположением москвичей, но после подозрительной смерти Ивана Молодого и усиления династических позиций Василия эта антипатия приобретала дополнительный стимул и новое политическое содержание. Перспектива объявления наследником Василия, в то время удельного князя, возбуждала в русских недобрые воспоминания о междуусобных бранях и безначалии середины века. Одно это обстоятельство еще более привлекало правительство на сторону Димитрия и Елены. Повторялась ситуация, сложившаяся во время гражданской войны в правление Василия Темного, победу которого Ключевский объяснял тем, что «все влиятельное, мыслящее и благонамеренное в русском обществе стало за него, за преемство великокняжеской власти в нисходящей линии»[309]. Столкновение сторонников правительства и княгини Софьи произошло осенью 1490 года. Сначала окружению Елены Волошанки удалось поставить на митрополичью кафедру удобного человека – архимандрита Симонова монастыря Зосиму. Находившаяся под великокняжеским патронатом обитель была тесно связана как с правительственными кругами, так и с нестяжательским движением[310]. Установлено, что в добрых отношениях с Симоновым монастырем находился князь Иван Патрикеев, а также близкая к Патрикеевым семья казначея Ховрина[311]. Л.И. Ивина, сообщая о том, что Иван Иванович Молодой, будучи суверенным правителем Костромы, подтвердил жалованные грамоты Симонова монастыря на его галичскую вотчину, полагает, что соправитель пошел навстречу обители из уважения к Зосиме[312]. Помимо Зосимы в актах Симонова монастыря фигурирует влиятельный старец Досифей Курицын, очевидно, приходящийся родственником могущественному дьяку[313]. Попавший недавно в руки исследователей рукописный сборник Зосимы позволяет сделать выводы о близости его взглядов к нестяжательским, в то же время в своей рукописи Зосима ведет скрытую полемику с Иосифом Волоцким[314]. Несмотря на очевидный кадровый успех «еретической партии», спустя три недели после поставления Зосимы в сентябре 1490 года состоялся церковный собор, на котором рассматривалось дело «жидовствующих». Сам факт соборного разбирательства представляется уступкой Геннадию и его единомышленникам. Однако более вероятно, что у «партии власти» после того, как Зосима занял первосвятительскую кафедру, появилась реальная возможность поставить борьбу с ересью под свой контроль и тем самым перехватить инициативу у новгородского владыки. Соборное расследование позволило московским вольнодумцам избавиться от скомпрометировавших себя бесполезных соратников и к тому же «выпустить пар», продемонстрировав православному народу и, главное, влиятельным недругам решимость властей бороться за чистоту веры. Решения собора привели не к искоренению «кривоверия», а к чистке в рядах вольнодумцев, которые освободились от протопопа новгородского храма Св. Софии Гавриила и священников Дениса и Максима, призванных в свое время Иваном из Новгорода. Протопоп Алексей к тому времени умер.  Поставление игумена Зосимы на митрополию
Осужденных на покаяние и заточение девятерых еретиков выдали новгородскому владыке, лишив того морального права обвинять кремлевскую верхушку в потакании ереси. Геннадий отвел душу, устроив в Новгороде подобие церковной казни для отступников: «повелел посадить их на коней, на вьючные седла, спиной к голове коня, чтобы смотрели они на запад, в уготованный для них огонь, одежду же их повелел надеть задом наперед, а на головы повелел надеть им заостренные берестяные шлемы, будто бесовские; еловцыя на шлемах были из мочала, венцы – из соломы вперемешку с сеном, на шлеме была надпись чернилами: «Вот сатанинское войско». И приказал архиепископ водить их по городу, и всем встречным приказал плевать в них и говорить: «Это враги Божии и хулители христиан». После же повелел сжечь шлемы, бывшие у них на головах»[315]. Владыка Геннадий, очевидно, столь увлекся устроением захватывающего зрелища, что не сумел обеспечить надежную охрану узникам, которые благополучно сбежали из заточения, кто в Литву, а кто «в немцы». Тем не менее, одной цели новгородское аутодафе достигло, наглядно продемонстрировав строптивым новгородцам, как московская власть в лице архиерея и наместников расправляется со своими врагами. Население упраздненной республики понимало, что обвинения в ереси всего лишь новый повод для очередной расправы. Если судить по московской летописи, то новгородцы были люди «невернии бо изначала не знааху Бога, ни научишяся ни отъ кого же православию, прьваго своего обычаа идолопоклонениа держахуся, а сии много летъ была въ христианстве и наконецъ начаша отступати къ Латынству». Поэтому Иван III отправился в поход на новгородцев «не ако на христианъ, но ако на иноязычникъ и на отступникъ православна..». Летописец пошел еще дальше, сравнив поход московского государя с выступлением его прадеда Дмитрия Донского против войска Мамая[316]. Потерпев поражение, «партия реванша» решила сосредоточить усилия на дискредитации Зосимы. Преподобный Иосиф посвятил митрополиту немало проникновенных слов: «Гнусный идолопоклонственный волк, облачившийся в пастырскую одежду, напоял ядом жидовства встречавшихся ему простолюдинов, других же этот змей погибельный осквернял содомским развратом. Объедаясь и упиваясь, он жил как свинья и всячески бесчестил непорочную христианскую веру, внося в нее повреждения и соблазны. Он хулил Господа нашего Иисуса Христа, говоря, что Христос сам себя назвал Богом; он возводил многие хулы и на Пречистую Богородицу; божественные Кресты он выбрасывал в нечистые места, святые иконы сжигал, называя их истуканами. Он отверг евангельское учение, апостольские уставы и творения всех святых, говоря так: «…ни Царства Небесного, ни второго пришествия, ни воскресения мертвых нет, если кто умер, значит – совсем умер, до той поры только и был жив»[317].  Собор на еретиков 1490 года
А.И. Алексеев полагает, что Иосиф сознательно извратил взгляды Зосимы, представив его противопоставление праведных дел заупокойным молитвам и службам, как отрицание загробной жизни. Дабы очернить митрополита, Иосиф обвинил его в приверженности «жидовству»[318]. Между тем сборник Зосимы содержит и немало антииудейских сочинений[319]. Владыка Геннадий повел интенсивную пропаганду против Зосимы среди своих коллег – епархиальных владык. В этой работе принимал живое участие и Волоцкий игумен. Так, в 1493 году преподобный Иосиф составляет полное энергичных выражений послание своему верному товарищу по «любостяжательской» партии суздальскому епископу Нифонту. «В великой церкви Пречистой Богородицы, на престоле свв. Петра и Алексея, сидит скверный, злобесный волк в пастырской одежде, Иуда предатель, бесам причастник, злодей, какого не было древними еретиками и отступниками»[320]. Доставалось от Иосифа и государю. В мае 1492 года Волоцкий игумен пишет «Послание вельможе Иоанну», где выступает апологетом князя Бориса Волоцкого, который видится ему надежным оплотом в борьбе с ересью и противником великокняжеской власти. Сам же Иван III для Иосифа – злодей, «обновитель» древнего Каинова зла. В сложившейся ситуации, как предполагал Соловьев, «сами еретики могли желать удаления Зосимы, как скоро он своим неблагоразумным поведением уже обличил себя, и мог быть теперь более вреден, чем полезен их обществу»[321]. Очевидно, участников Елениного кружка компрометировал не только Зосима, но и подвизавшееся вокруг падшего митрополита окружение – бражники и содомиты. Вряд ли эта маргинальная публика интересовалась догматическими проблемами, но молва связывала их с «еретиками», и потому сие многошумное сборище, как недавно протопопы-чернокнижники, изрядно досаждало кремлевским воль думцам. Вторично после собора 1490 года «партия власти» руками своих оппонентов избавилась от отягощавшего ее «баласта». В мае 1494 года незадачливого Зосиму свели с митрополичьей кафедры и отправили обратно в Симонов монастырь. Правда, случилось это в отсутствие Курицына, отправившегося с посольством в Литву, но вряд ли это обстоятельство повлияло на судьбу митрополита, которая была заранее предрешена окружением великого князя. Зосима недолго задержался в Симонове, потом перебрался в Кириллов монастырь в благожелательное нестяжательское окружение. Как и после смерти митрополита Геронтия, между удалением старого и поставлением нового предстоятеля русской церкви возникла пауза длиной в полтора года, вызванная, очевидно, поисками наиболее приемлемого для «партии власти» кандидата. В Кремле понимали, что еще одного «злобесного волка» на престоле московских святителей ни клирики, ни миряне не потерпят. В конце концов, в сентябре 1495 года выбор пал на игумена Троицкого монастыря Симона – не замеченного в «кривоверии» или в потакании еретичеству и еретикам. А в октябре того же года великий князь отправился в Новгород, где пробыл несколько месяцев. С собой он взял младшего сына Юрия и внука Димитрия, что видится явным признаком расположения: Иван Васильевич явно приучал 12-летнего мальчика к государственным делам и недвусмысленно намекал окружающим, кого он рассматривает в качестве наследника. Деспина Софья и Василий остались в Москве. Милость к падшим В соборе 1490 года приняли участие Нил Сорский и Писий Ярославов. Их авторитет несомненно способствовал благоприятному для обвиняемых исходу. Заволжцы резко выступали против репрессий в отношении еретиков, руководствуясь различными мотивами. Безусловно, они понимали, что преследование лиц, окружавших Елену Стефановну и Димитрия, имеет прежде всего политическую, а не религиозную подоплеку. Солидарность нестяжателей с «партией власти», видными участниками которой были придворные вольнодумцы, безусловно, накладывала заметный отпечаток на их отношение к «жидовствующим». Вместе с тем ветхозаветные симпатии московского кружка вызывали у нестяжателей потребность в полемике. Своеобразным ее проявлением стал первый храм Ниловой пустыни, освященный во имя Сретения Господня, вероятно, по инициативе самого преподобного Нила[322]. Безусловно, Сретение – не единственный праздник, богословие которого раскрывает догмат о Боговоплощении, но это праздник с особым смыслом уверения в истинности Боговоплощения, подобно «Уверению Фомы» в чуде Воскресения Христова. В обстановке интеллектуального возбуждения, порожденного вольномыслием, сретенское посвящение Нило-Сорского скита представляется исследователям не случайным, как не случаен и содержательный отбор житий в агиографических сборниках преподобного Нила Сорского. Об особой актуальности зашиты догмата о Боговоплощении свидетельствует и роспись собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, сделанная в 1502 – 1503 годах знаменитым иконописцем Дионисием. По мнению Н.К. Голейзовского, «все сюжеты росписи… прямо или косвенно связаны с борьбой против ереси «жидовствуюших»[323]. Л.А. Успенский обращает внимание на то, что «основная тема росписи – это утверждение православного вероучения против отклонений еретиков, перечисленных собором 1490 года: здесь подчеркивается Божество и человечество Спасителя, особое место занимает прославление Богоматери, святых и подчеркнуто значение Вселенских соборов»[324]. Дионисий работал в Ферапонтовом монастыре в то самое время, когда в десяти верстах от обители жил преподобный Нил. Он не мог не прийти к старцу, известному своим духовным рассуждением и богомыслием. Вероятно, что в тематике и духовном тоне росписи собора сказалось это общение иконописца со старцем Нилом, который обращал внимание своих современников на богословие догмата о Боговоплощении и призывал «испытывать Божественные Писания», где мы обретаем истинное знание о Боговоплощении. Однако роспись Дионисия является своеобразной идейно-художественной дискуссией не только с московскими вольнодумцами, но и с их преследователями. Л.И. Лившиц отмечает следующую деталь композиции «Страшного суда»: «Вместо привычного огненного потока Дионисий изобразил чистый голубой поток, исходящий от трона Спасителя и изливающийся в геенну огненную, в которой томятся души грешные. Такое прочтение Дионисия основывается на Откровении Иоанна и многочисленных ветхозаветных и апокрифических текстах, где красной нитью проходит мысль о милости Божьей к грешникам». По мнению Л. И. Лившица, основная мысль «Ответа кирилловских старцев на послание Иосифа Волоцкого об осуждении еретиков» – праведность без любви и покаяния, опирающаяся на внешнее делание, мало ценится Богом – прослеживается в росписи, посвященной притче о раскаявшемся блуднике. Здесь Дионисием изображены мытарь и фарисей, но только первый зван на трапезу, устроенную счастливым отцом по случаю возвращения блудного сына[325]. Трактовка Дионисием библейских мотивов для нас тем более интересна, что иконописец знал Иосифа еще по Пафнутьеву монастырю, находился с ним в переписке, работал и в Волоцкой обители, и в Успенском соборе у протопопа-еретика Алексея, потому имел возможность самолично оценить воззрения участников идейных столкновений конца столетия и выработать собственное отношение к предметам, вызывавшим горячие споры. Нил и заволжцы недвусмысленно связывали категорию духовного спасения с наличием у каждого лица свободной, направленной к добру воли, определяемой личным опытом, знаниями и нравственностью каждого отдельного человека[326]. Человек способен заблуждаться, отвергаться от Господа, но это не отнимает от него возможности покаяния и исправления. Паисий Ярославов, Нил Сорский и их сподвижники не могли сочувствовать еретикам, однако последние имели возможность спасти свою душу, но только на путях внутренней духовной работы, «синергии» – взаимодействия Божественной благодати и свободной воли человека. Как замечает И.К. Смолич, мировоззрение Нила проникнуто «духом внутренней свободы, обретаемой в процессе нравственного совершенствования человека»[327]. Расправа над еретиками, в глазах заволжцев, в свою очередь выглядела ересью, ведь в этом случае суд мирской брал на себя функцию Суда Божьего, лишая возможности грешника через раскаяние прийти к осознанию греха и очищению от скверны, подменяя внутреннюю работу государственным насилием. Административное наказание еретика ставило под сомнение действенность Божественной Благодати. Отсюда и противоположное отношение двух партий к разномыслию и интеллектуальной деятельности вообще. Нестяжатели почитают Священное Писание, но, исходя из него, все остальные «писания многа» считают возможным разбирать критически. В то же время один из учеников Иосифа утверждал, что «Всем страстем мати – мнение. Мнение – второе падение»[328]. Любое размышление для иосифлянина – душевный соблазн, любой размышляющий – потенциальный грешник. «Ныне и в домех, и на путех, и на тръжищах иноци и миръстии вси сомнятся, вси о вере пытают…» – возмущается Иосиф в письме суздальскому епископу Нифонту[329]. Именно «рассуждение» является для Иосифа преступлением, не признаком, но сутью ереси, а забвение Священного Писания и святоотеческих трудов, пугающая популярность «отступников» – лишь отягощающие вину обстоятельства. «Люди у нас просты, – вторит волоцкому игумену епископ Геннадий, – не умеют по книгам говорить, так лучше уж о вере никаких речей не плодить, только для того собор учинить, чтобы еретиков казнить, жечь и вешать»[330]. Иосифляне хотя и готовились к богословской дискуссии, однако самыми вескими аргументами они считали виселицу и костер. Гибель противников вызывала у любостяжателей нескрываемую радость. Р.Г. Скрынников замечал, что Иосиф с видимым удовольствием описывал смерть еретика Алексея, муки в заточении еретика Захара[331]. Отметим другое немаловажной обстоятельство, мешавшее заволжцам требовать жестокого наказания вероотступников. В свое время афонские исихасты, которые служили примером для Паисия и Нила, подозревались в ереси своими противниками. Пренебрежение к обрядности и внешности, предпочтение живого духа мертвой букве, враждебное отношение к чиновничьему пониманию пастырского служения приводили к тому, что обвинения «исихастов» в богомильстве сделались общим местом»[332]. Нападки на безмолвников и Иисусову молитву были столь серьезны, что им были посвящены три Поместных собора в Константинополе в 1341, 1347 и 1351 годах. Нил, проведя много лет на православном Востоке, разумеется, знал об этих обвинениях, и это обстоятельство заставляло его чувствовать некоторую сопричастность с тем, кого молва, быть может безосновательно, относила к еретикам. Надо сказать, что византийские исихасты отличались редкой в те времена веротерпимостью. Так при дворе Иоанна Кантакузина подвизались исламские монахи-суфии, что также служило поводом для нападок на паламитов. Но, возможно, самой важной причиной, не позволявшей бросить камень в «жидовствующих», было глубокое и искреннее осознание заволжцами собственного несовершенства. Сокрушению о своих грехах посвящена «Молитва… старца Нила… имущая покаяние и исповедание грехов и страстей». В ней преподобный Нил Сорский говорит, что даже землю оскверняет своим «хожнием». Отправляя послание к брату, вопросившему его о помыслах, преподобный Нил Сорский писал: «Что бо аз реку, не створив сам ничто же благо! кый есть разум грешнику? Точию грехи»[333]. В своем Уставе Нил приводит следующие слова Григория Синаита «Как не считать себя сквернейшим из всех тварей, в естественном состоянии находящихся, как (созданы), мне, по причине безмерных моих беззаконий (пребывающему) ниже естества? Ибо, воистину, и звери, и скоты чище меня, грешного…»[334] В своем духовном завещании преподобный молил братию: «…по кончине моей повергните тело мое в пустынном месте, да изгложут его звери и птицы, потому что согрешило оно перед Богом много и недостойно погребения»[335]. Человека с подобным умонастроением очень трудно представить в роли обличителя чужих грехов, а тем более судьи и палача. Интеллектуальная мобилизация Традиция и общественное мнение Московской Руси противились расправам над инакомыслящими. Внушение чувства страха и покорности, привносившееся в общественное сознание иосифлянской идеологией, явно дисгармонировало с традиционными установками древнерусского православия на любовь, всепрощение и личный пример, которые, кстати, являли собой оппозиционное иосифлянству нестяжательство[336]. Не говоря о том, что общественное мнение склонялось на сторону противников церковных стяжаний, Геннадий и его сторонники наглядно убедились в том, что их призывы к репрессиям не встречают сочувствия ни в верхах, ни в низах. Убедились они и в интеллектуальном превосходстве противников, скудости собственных богословских познаний. Так, Геннадий в 1489 году писал ростовскому архиепископу Иоасафу: «Да есть ли у вас в Кирилове, или в Фарофонтове, или на Каменном, книги: Селивестр папа Римскы, да Афанасей Александрейскы, да Слово Козмы прозвитера на новоявльшуюся ересь на богумилю, да Послание Фотея Патриарха ко князю Борису Болгарьскому, да Пророчьства, да Бытия, да Царьства, да Притчи..»[337] Из просьбы-жалобы Геннадия следует, что «всем этим» старейшая и наиболее престижная новгородская епархия в то время либо не располагала, либо имевшиеся в наличие списки не удовлетворяли соратников архиерея. Среди списка востребованной охранителями литературы значится «Беседа» пресвитера Козьмы, посвященная разоблачению ереси богомилов. Ю.К. Бегунов обращал внимание на то, что творение болгарского богослова X века Козмы Пресвитера было необходимо новгородскому владыке и Иосифу Волоцкому «не только как руководство по искусству обличения, но и для опровержения некоторых, вполне конкретных взглядов новгородских еретиков»[338]. Оттуда же из писаний Козьмы борцы с ересью могли получить следующий ценный совет, которому неукоснительно следовали в дальнейшем: «Уча еретика, не только не научить его, но и кого-либо из неразумных развратить..» Между тем богомилов, враждовавших против церковной собственности, в Византии сравнивали с паламитами. Геннадий и его единомышленники явно усматривали сходство между богомильской доктриной и воззрениями заволжских старцев, и целили прежде всего в нестяжателей, а не в кремлевских вольнодумцев. Примечательно, что Геннадий искал нужные ему рукописи в заволжских монастырях – цитаделях нестяжателей – и обращался к владыке Иосафу. Иосаф (в миру князь Иван Михайлович Оболенский), прежде игумен Ферапонтова монастыря (туда же он вернулся, оставив архиерейскую кафедру), несомненно, принадлежал к числу сторонников Нила и сочувствовал правительственной партии, как и многие его родственники. В этом свете обращенная к Иосафу просьба Геннадия Гонзова: «Мощно ли у мене побывати Паисею да Нилу, о ересех тех было с ними поговорити?», приобретает ощутимый привкус провокации[339]. Любостяжатели всячески старались вызвать оппонентов на содержательный разговор о ереси, дабы отыскать изъяны в их позиции или даже изобличить как соучастников ереси. Необходимо признать за лидерами антиеретической партии не только изощренность, сребролюбие, жестокость и беспринципность, но и умение видеть свои слабые места и желание преодолевать недостатки. Менее всего они напоминают закоснелых традиционалистов. Геннадий и его единомышленники остро чувствовали потребность в пополнении интеллектуального арсенала. С прискорбием наблюдая невежество современного духовенства, новгородский епископ не раз ходатайствовал о заведении духовных училищ перед великим князем и митрополитом. Иосиф, как мы можем судить по «Просветителю», отличался изрядной начитанностью. Он превратил Волоцкий монастырь в центр книгописного дела и активно собирает рукописи. К 1545 году обитель имела книжное собрание, насчитывающее 755 книг – весьма значительная для своего времени цифра. Скажем, в 1549 году в библиотеке Соловецкого монастыря, основанного на сорок с лишним лет ранее Волоцкого, мы находим всего 281 книгу[340]. В свете нападок со стороны еретиков Геннадий принялся изучать вопросы хронологии, анализировать принципы счисления, представленные в «Шестокрыле», сравнивать их с христианскими аналогами. «А что числа поставлены в Шестокриле 276 девятьнадесятиц, ино то учинили на прелесть христианскую – хотят рещи: лета христианскаго летописца съкратишась, а наша пребывают. А то хотят ту прелесть явити как изойдет наша Пасхалиа, занеже аз испытаю его прошел, да и написано у меня. Ино те числа, что поставлены, 376 девятьнадесятниц лет будет 5228. И потому и но у них еще пришествия Христова несть, ино то они ждут антихриста. Ино то прелесть великая!»[341] Борьба иосифлян с вольнодумцами находила отражение и в иконографии. На таблетке из новгородского собора Св. Софии, которая датируется концом XV – началом XVI веков, изображающей приведение Христа на судилище к Понтию Пилату, появляется новая деталь: рядом с Пилатом на одном троне восседают первосвященники Анна и Каиафа, что является отступлением как от канонических, так и апокрифических евангельских текстов[342]. Несомненно, что иконописец, выполняя волю заказчика, акцентировал внимание на вине иудейских первосвященников в осуждении и казни Иисуса, утверждая мысль об известной ненависти евреев к Христу и Христовой вере, тем самым иллюстрируя опасность обнаруженной ереси. Лидеры охранительной партии в отличие от Нила Сорского не прошли богословскую школу Афона и не путешествовали по Европе, как Федор Курицын. Они изыскали совершенно неожиданный источник пополнения интеллектуального багажа. Безо всякого предубеждения они обратились за недостающими познаниями к… католической церкви. В Новгороде сотрудниками православного епископа стали монах-доминиканец Вениамин и дипломат Дмитрий Герасимов, не раз бывавший в Риме. Они взялись переводить труды католических богословов, полемизирующих с иудаизмом. От этого начинания Геннадий перешел к более масштабному проекту – составлению церковно-славянской Библии, опередив и греческий Восток, и латинский Запад. Сотрудничество борцов с вольномыслием и римо-католиков было столь тесным, что исследователь геннадиевской Библии И. Е. Евсеев говорил о невидимом сближении с латинством, о «весьма сгущенной католической атмосфере» вокруг Геннадия и даже о прямом «проявлении воинствующего католического духа в русской церковной жизни»[343]. Западническую ориентацию православных псевдоохранителей обусловил расклад политических сил. Геннадий и Иосиф не имели в то время заметного влияния на государя, их же противники не только заняли ключевые посты в кремлевской администрации, но и умело мимикрировали и конспирировались. Удельное движение к тому времени понесло серьезные потери. В 1494 году в заточении умер Андрей Углицкий, еще раньше – покровитель преподобного Иосифа Борис Волоцкий. Тяжело переживая эти утраты, игумен обрушился с горькими упреками на Ивана III, уподобив его библейскому братоубийце Каину. Но слезами делу – борьбе с секуляризационными притязаниями Ивана III и его окружения – не поможешь. У любостяжателей осталась одна надежда и опора – великая княгиня Софья Фоминишна и достигший совершеннолетия Василий. Обличение еретичества стало главным оружием «партии реванша», а «любостяжатели» – главными союзниками Деспины и ее сторонников в споре с партией Елены Стефановны. Ведущую роль в окружении Деспины играли греки братья Юрий и Дмитрий Траханиоты, униаты по вероисповеданию. Они-то и выступили посредниками между католическим Западом и сторонниками новгородского владыки. Епископ Геннадий обратился к Траханиотам с просьбой получить разъяснения на счет ожидаемого через два года «конца света». В ответ Геннадий из Рима получил новую пасхалию. Также по заданию новгородского владыки Траханиоты пригласили любекского печатника Готана, принятого на службу епископа. Траханиоты же познакомили Геннадия с послом германского императора, от которого новгородский епископ получил достоверную информацию о деятельности испанской инквизиции, которая среди прочего занималась преследованием тайных иудеев. Епископ горячо хвалил «шпанского короля» за столь эффективный метод подавления «ересей жидовских». Переимчивый Геннадий, как мы уже упоминали, даже устроил на берегах Волхова аутодафе на русский лад. Появление на Руси столь ретивого ученика заинтересовало европейских инквизиторов, и их представители поспешили объявиться в землях Ливонского Ордена в то время, когда Геннадий затеял театрализованную расправу над еретиками, чтобы удостовериться, насколько успешно западные методы прививаются на российской почве. Любостяжатели были готовы использовать для борьбы с вольнодумцами самые последние достижения западной цивилизации – от инквизиции до книгопечатания. Их усердие даже возбудило иллюзии у сторонников объединения церквей под властью римского первосвященника. В это время придворный лекарь Николай Булев пишет ростовскому епископу Вассиану послание о перспективах заключения унии. Отметим, что Булева, который прежде служил придворным врачом папы римского, ко двору Ивана Васильевича пригласил Юрий Траханиот. Любопытно и другое: свои идеи Булев, очевидно рассчитывая на благосклонное к ним отношение, излагает епископу Вассиану – брату Иосифа Волоцкого и соратнику Геннадия Новгородского. Разумеется, этим надеждам не дано было сбыться. Тактический союз униатов и иосифлян распался в начале следующего века, сразу же после того, как цель, объединявшая оппозиционеров – разгром еретической партии, – была достигнута. Третий Рим и его строители Противники «любостяжателей» между тем проявляли не меньшую идеологическую гибкость. Возникновение так называемой концепции «Москва – Третий Рим» принято связывать с падением Константинополя, браком Ивана III с представительницей византийского императорского дома Софьей Палеолог. Однако Р.Г. Скрынников замечает, что мысль о византийском наследии развивали не «греки» из окружения Деспины Софьи, а духовные лица и книжники, близкие ко двору невестки великого князя Ивана III Елены Волошанки – жены его старшего сына Ивана Молодого. Исследователь находит это положение парадоксальным[344]. Скорее всего по ряду причин его стоит назвать закономерным. Именно кружок Елены располагал соответствующими творческими и интеллектуальными способностями. Федора Курицына можно с полным основанием назвать первым на Руси светским литератором. Помимо «Лаодикийского послания» его перу принадлежит «Повесть, или Сказание, о Дракуле», написанная после поездки в Венгрию и Валахию. Здесь на примере мутьянского воеводы Курицын показывал, до каких крайностей может дойти неограниченная власть, даже стремящаяся нести добро. Курицына называют даже в числе возможных авторов «Повести о стоянии на Угре», хотя Федора Васильевича во время нападения Ахмата в России не было. Его брат Иван-Волк Курицын составил сборник «Мерило праведное», содержащий различные правовые акты. Другой участник Елениного кружка переписчик Иван Черный скопировал крупнейшее историческое произведение Средневековья «Еллинский летописец», излагавшее важнейшие события всемирной истории. В противоположность москвичам для Софьи Палеолог и ее придворных воспоминания о Византии были слишком живыми и предметными и потому мало пригодными для аллегорических метафор. К тому же сомнительно, чтобы иноземцы, либо исповедующие унию, либо, как Софья, воспитанные в униатской традиции, оказались способны прозреть в Москве новый центр истинного христианства. Для униатов таким центром являлся папский Рим, да и рассматривать падение Константинополя как расплату за «греховность» Деспина и ее окружение вряд ли были готовы. Как отмечал П.Н. Милюков, поиском кандидатуры на титул Третьего Рима увлекались не византийцы, а оппозиционные Константинополю представители балканского книжного духовенства: «Москва должна была явиться в роли, предназначенной когда-то для стольного града Тырнова»[345]. В это время у греков еще не утихла боль от разгрома империи, и при всей политичности и лицемерии соплеменников Софьи само намерение искать некую замену своей падшей, но великой столице в расположенной на задворках Европы Москве должно было казаться византийцам кощунственным. У Елены Стефановны имелся свой взгляд на византийское наследство: она считала, что молдавские господари ведут свой род из Рима, а значит, предки ее самой и ее сына Димитрия имеют еще более древнее происхождение, чем предки Деспины Софьи, и даже имеют то преимущество, что сохранили православную веру в борьбе с католичеством в отличие от Палеологов, которые были известны как сторонники подчинения православной церкви Риму[346]. Между тем первая импровизация на «римскую» тему – «Смиренного инока Фомы слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче» появилась до приезда в Москву Софьи Палеолог и даже до падения Царьграда. Некто Фома, тверской делегат на Флорентийском соборе, на котором была заключена уния между греческой и католической церквами, вдохновился на грандиозное славословие в честь своего государя – великого тверского князя. Борис Александрович уподобляется Фомой библейским царям, римским императорам Августу и Тиберию и византийскому императору Льву VI Мудрому. Комплименты в адрес Бориса автор вкладывает в уста византийского императора Иоанна и вселенского патриарха Иосифа. Иноку, видимо, чрезвычайно понравился найденный им сюжетный ход: 22 (!) православных митрополита восхваляют на все лады тверского князя, чтобы тут же прийти «в исступление ума, помышляя о совершенстве их похвалы». Более того, эти вымышленные речи подтверждают искренность Фомы, восхищенного тверским правителем. «Но, может быть, кто-нибудь подумает, что все я это написал за вознаграждение или из страха – пусть тогда он прочтет похвалы сих святых отцов и узнает, как прославили они великого князя Бориса. Кто же научил их этому? И кто подвинул их восхвалять таким образом?» – с простодушной наглостью обращается к читателям Фома[347]. Впрочем, нас больше интересует другая тирада сего бесподобного панегириста. Перебрав многочисленные лестные для своего патрона сравнения, Фома решает, наконец, уподобить Бориса Александровича императору Константину: «Тот правоверный царь Константин первый принял христианское благочестие, а сей благочестивый великий князь Борис Александрович от Владимира принял таковую же православную честь, и хвалу, и доброславие»[348]. В отличие от позднейших сочинений здесь мы видим не прямую связь «византийский император (здесь Святой равноапостольный Константин) – великий киевский князь (здесь Владимир I Святославич) – великий князь, современник автора (здесь Борис Тверской)», а сопоставление, однако в этом произведении присутствуют все компоненты, необходимые для «построения» здания «Третьего Рима». Оставалось добавить некоторые недостающие звенья («Византия вышла из Римской империи», «Русь восприняла христианство из Константинополя»…), чтобы идеологическая конструкция приняла завершенный вид и получила право жительства в московском интеллектуальном обиходе. Эту задачу выполнил митрополит Зосима, в миру – чиновник великокняжеской канцелярии по «фамилии» Бородатый, который был не столько духовным лицом, сколько «лукавым царедворцем». Вероятно, еще и поэтому он первым смекнул, что сравнение Москвы и Константинополя – плодоносная жила, и тот, кто первый ее разработает, получит приличные дивиденды. Уместный повод вскоре представился. Имевшаяся в распоряжении русской церкви пасхалия – «расписание» празднования Пасхи завершалось 7000 годом с сотворения мира или 1492 годом с Рождества Христова, который в этой связи многими воспринимался как год «скончания века сего». Дабы пресечь брожение умов, Зосима составил пасхалию на следующие 20 лет. Несостоявшийся Апокалипсис рассматривался автором как ознаменование нового этапа жизни православного мира, отныне получавшего новый центр. По мысли Зосимы, сам Бог поставил Ивана – «нового царя Константина новому граду Константина – Москве и всей Русской земле и иным многим землям государя». В «Извещении о пасхалии», который А. А. Зимин называет программным произведением окружения Дмитрия-внука, Иван III впервые титулован «государем и самодержцем всея Руси»[349]. Очевидно, что Зосиме или его соавторам, также близким к Елене Волошанке, было известно произведение инока Фомы или даже сам его автор. Покойный супруг Елены Стефановны Иван Молодой в сентябре 1485 года после присоединения Твери к Москве был объявлен великим тверским князем. Тогда многим тверским аристократам и книжникам пришлось переселиться в Москву. По матери наследник и соправитель государя приходился внуком тому самому достохвальному Борису Александровичу Тверскому, а Елена Стефановна была двоюродной сестрой супруги последнего тверского князя Михаила Борисовича. «Тверь надолго стала опорой семьи Ивана Ивановича», – констатирует А.А. Зимин, по мнению которого комплекс идей, развивавшихся в кругу Елены Стефановны, «имел тверское происхождение»[350]. Б.А. Успенский обратил внимание на то, что митрополит Зосима Константинополь именует «Новым Иерусалимом», а Москва объявляется новым Константинополем, однако уже в новой редакции пасхалии 1495 года «Новый Иерусалим заменяется на Новый Рим»[351]. В этой связи Б.А. Успенский замечает, что «Иерусалим и Рим обозначают две разные перспективы – Божественную и человеческую, – которые соответствуют двум пониманиям царства: как Царства Небесного и как царства земного». По мнению исследователя, «замена выражения „Новый Иерусалим“ на „Новый Рим“ в контексте оценки новой исторической роли Москвы оказывается чрезвычайно значимой»[352]. В этой связи С. Д. Домников предположил, что «Новый Рим» в списке 1495 года появился после того, как «сподвижников Ивана III из итальянского круга Софьи Палеолог возмутило отсутствие Римской империи в списке великих христианских империй»[353]. Между тем причина замены «Нового Иерусалима» на «Новый Рим» достаточно очевидна, носит прозаический характер и вряд ли позволяет вслед за вышеупомянутыми авторами делать далеко идущие выводы. Во время подготовки первой редакции «Изложения пасхалии» русские книжники были охвачены эсхатологическими настроениями, что обусловило характерные ассоциации. Сам Б.А. Успенский отмечает, что выражение «Новый Иерусалим» восходит к Апокалипсису. «И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» (Откр. 1, 2). Однако Второе пришествие не состоялось, появление Нового Иерусалима откладывалось на неопределенный срок, люди остались на «прежней земле» со своими прежними заботами. Соответственно место эсхатологических ассоциаций заняли самые что ни на есть земные – политические. Стоит напомнить, что «римский вариант» позволял Москве не только возвыситься до Константинополя, но и унизить папский Рим, с которым на Руси никогда не прекращалась полемика. В 1496 году «партия власти» снова обратилась к византийскому наследию. Чин поставления нового московского митрополита впервые оказался скопирован с церемонии интронизации константинопольских патриархов. Содержательная часть поставления также соответствовала константинопольскому образцу. Стремясь максимально обезопасить себя от нападок церковных иерархов, московские вольнодумцы поспособствовали тому, чтобы поставление троицкого игумена Симона произошло всецело по воле государя и собранный по сему случаю собор оказался данью форме. (Епископ Геннадий, остававшийся при дворе персоной нон грата, не смог присутствовать на соборе и ограничился присылкой грамоты.) Таким образом, свои полномочия глава церкви отныне получал от светского властителя, то есть за великим князем сознательно закреплялись канонические права византийского василевса. Слова, обращенные Иваном к Симону при вручении пастырского жезла: «Всемогущая и животворящаа святаа Троица, даруяющаа намъ всеа Русии государство, подает тебе сий святый великий престол архирейства» – недвусмысленно свидетельствовали о том, что власть церковная лишь производная от власти светской[354]. А раз так, то митрополит Симон и помышлять не мог о преследовании еретиков. «Партия власти» не предполагала, что, укрепляя свое положение за счет возвышения великокняжеской власти, она подготовляла свое падение. Следующее произведение, в котором сторонники Елены Стефановны и Димитрия продолжили развивать тему «нового Константинополя», стало «Сказание о князьях владимирских», приуроченное к коронации Димитрия – сына Елены и внука Ивана III. Венчание Димитрия в качестве великого князя и соправителя в 1498 году завершало победу над приверженцами Софьи и ее сына Василия. Вот и автор «Сказания.», по замечанию Р.Г. Скрынникова, «старался доказать, что владимирские князья давно породнились с императорским домом и стали его наследниками, из чего следовало, что греческое родство Василия не имеет значения»[355]. Породнение с Византийской короной, следуя автору «Сказания.», произошло в XI веке, когда император Константин Мономах вручил царские регалии – шапку Мономаха своему внуку – Владимиру Мономаху Киевскому. Видимо, еще ранее, чем в Москве, идея преемственности Руси и древних христианских центров была изложена в Новгороде вернувшимся из поездки в Рим сотрудником епископа Геннадия Дмитрием Герасимовым. Сюжет его повести «О белом клобуке» сводится к чудесному перемещению величайшей святыни – белого клобука из Рима и Константинополя в Новгород – к новгородскому владыке. Герасимов, устами римского папы Сильвестра, предрекает наступление времен, когда «царя русского возвеличит Господь над многими языки, и под властию го мнози царие будут от иноязычных, и патриаршеский великий чин от царствующего сего града такожде дан будет рустей земли во времена свою и страна та наречется светлая Россия»[356]. Несмотря на эпический размах и профетический пыл автора, вряд ли стоит рассматривать это произведение как пример осознания современниками нового положения Русского государства и открывавшихся перед ним блестящих перспектив. Герасимов и его московские коллеги работали в злободневном жанре «политической публицистики». «Белый клобук», воспетый Герасимовым, – еще один аргумент в пользу его патрона епископа Геннадия в его борьбе с еретиками и их московскими покровителями, и одновременно изящный реверанс в сторону великого князя, которого Геннадий надеется привлечь на свою сторону. Обращаясь к событиям, имевшим место сотни лет назад, мы склонны придавать им эпохальное значение, подчас забывая, что люди, жившие в то время, как и мы сегодня, прежде всего решали свои сиюминутные задачи. Вот и концепцию «второго Константинополя» или «третьего Рима» придворные публицисты (будь то в Москве или Новгороде) вполне цинично использовали как модную тему, откликаясь на актуальные общественные события. Брак Ивана III Васильевича и Софьи Палеолог действительно актуализировал вопрос о значении многовековых связей между Русью и Византией. Однако, как справедливо заключал И.Н. Жданов: «Наши предки долго и пристально наблюдали процесс медленного умирания Византии… Это наблюдение могло давать уроки отрицательного значения, а не вызывать на подражание, могло возбуждать отвращение, а не увлечение»[357]. «Только спустя два десятилетия идея „Третьего Рима“ преобразилась под пером бескорыстного апологета. Монах псковского Елизарьева монастыря Филофей впервые обратился к ней в Хронографе 1512 года. Примерно в это же время Филофей составил Послание князю Василию III. В нем автор, указывая на нестроения в церковной и частной жизни, обратил внимание князя на высоту исторической миссии, которая выпала его державе, наследующей Риму и Константинополю. „Сего ради подобает тебе, о царю, содержати царствие твое со страхом Божиим.. Внемли, благочестивый царю, яко вся хрестьянска царства снидошася в твое едино царствие“[358]. Филофей не собирался льстить государеву самолюбию, а настоятельно обращал внимание на историческую ответственность, которая выпала на его долю. В еще одном послании из Елизаровского монастыря самодержец сравнивается с ветхозаветным Ноем, «в ковчезе спасеныи от потопа, правя и окормяя Христову церковь и оутвержаа православную веру». Ной явно не тот библейский персонаж, с которым принято сравнивать могущественного царя. Вспомним хотя бы инока тверского Фому, уподобляющего великого тверского князя царю Соломону. Как справедливо отмечает Г. Флоровский: «В послании к великому князю Филофей именно предостерегает и даже грозит, но не славословит»[359]. Филофей – не московский книжник и даже не псковитянин. Елизаровский монастырь находился довольно далеко от древнего города. Из своего далека, из келейной тиши старец пристально наблюдал за происходившими на Руси изменениями и узрел то, чего не заметили столичные грамотеи, погруженные в придворную суету и хитросплетение интриг. В его посланиях не славословия, а скорее радостное удивление от свершающегося на его глазах Божьего промысла и одновременно тревога – готова ли Москва выполнить завещанное. Не прошло много времени, как бывший Киевский митрополит Спиридон-Савва оперативно откликнулся на произведения Филофея и переделал их в верноподданном духе, выкинув, разумеется, докучливые наставления встревоженного монаха. Его «Послание о Мономаховом венце», созданное не позднее 1523 года – по сути, перепев «Сказания о князьях Владимирских», к тому времени, видимо, уже подзабытого, что подтверждает преходящее значение данного произведения. Ловкий книжник выкинул из «Сказания..» потерявшие злободневность, обидные для Ивана III намеки в адрес императора Константина, зато прибавил сообщение о том, что мономаховым императорским венцом венчаются «все великие князья владимирские, когда становятся на великое княжение русское, как и сей вольный и самодержец царь великой России Василий Иванович»[360]. Но «иностранец» Савва, видимо, не до конца разобрался в местной московской специфике и немало досадил великому князю, который совершенно не выказывал ни малейшего желания венчаться на царство. Более того, любые византийские аналогии были Василию Ивановичу до крайности неприятны, поскольку в его сознании были неразрывно связаны с его соперником Димитрием Ивановичем. При Василии III концепция «Москва – Третий Рим» вышла из моды, чтобы быть воскрешенной его сыном Иваном Грозным. Заговор Деспины На всем протяжении 90-х годов XV века позиции «партии власти», казалось, все более укреплялись. Правительство Ивана Патрикеева осуществляло политику модернизации: проводилась земельная реформа (территория государства разбита на единые меры – сохи), реформа государственного управления. В 1497 году был составлен Судебник, что, по мнению А. А. Зимина, стало одним из мероприятий Ивана III и правительственного кружка Елены Стефановны, направленных на укрепление великокняжеской власти[361]. Главными помощниками Патрикеева в составлении Судебника стали Федор Курицын да дьяки Василий Долматов и Василий Жук. В Судебнике были собраны процедуры и правовые нормы, которыми должны были руководствоваться высшие и местные суды в разборе дел о земельных владениях и торговых займах, отношениях между хозяевами и наемными работниками, землевладельцами и крестьянами. Одной из статей Судебника определялось право крестьянина переходить из одного владения в другое – так был учрежден знаменитый «Юрьев день». В то время данная норма отвечала интересам и крестьян, и землевладельцев, и великого князя. Крестьяне получали законодательное подтверждение того, что они имеют возможность свободного передвижения, землевладельцы – гарантии того, что их работники не сбегут до окончания сельскохозяйственного сезона, а великий князь – того, что будет уплачена пошлина с урожая. Как отмечает А.А. Зимин, во время появления московского Судебника в ряде стран Европы (в том числе Англии и Франции) подобных общегосударственных кодексов не существовало[362]. «Партия власти» выигрывала и во внутриполитической борьбе. Ни лобовая атака на церковном соборе, ни модернизация интеллектуального потенциала, ни смена митрополита не принесли униатско-иосифлянской оппозиции, сплотившейся вокруг великой княгини Софьи, никаких дивидендов. Более того, сторонники Елены Стефановны и Димитрия продолжали продвигать своих людей: словно в издевку над Геннадием в новгородский Юрьев монастырь игуменом был поставлен еретик Кассиан – брат известного нам переписчика Ивана Черного. Однако сторонники Елены Волошанки и Димитрия пропустили очень важный кадровый ход любостяжателей. Помимо того, что Юрий Траханиот присоветовал Ивану Васильевичу своего доверенного человека Николу Булева в качестве придворного врача, духовником государя стал соумышленник антиеретической партии игумен Андроникова монастыря Митрофан. Эти люди благодаря своему исключительному положению получили возможность наладить самые доверительные отношения с великим князем, и никакой правительственный деятель или политический советник, каким бы расположением государя он ни пользовался, не мог конкурировать с ними. В критический момент игры за влияние на Ивана Софьины «шестерки» оказывались козырными и могли побить боярских «королей» и «тузов». Но в конце 1497 года многим, вероятно, казалось, что до решающей схватки дело не дойдет: в декабре был раскрыт заговор Софьи и Василия, составленный с целью убийства княжича Димитрия. План, составленный Василием и его приверженцами Афанасием Еропкиным и Владимиром Гусевым, состоял в следующем: сам Василий намеревался отправиться на север и захватить великокняжескую казну, хранящуюся в Вологде и Кириллове. Софья готовилась отравить Димитрия. Летописец сообщает, что великий князь «опалу положил на жену свою на великую княгиню Софию о том, что к ней приходиша бабы з зелием; и обыскав тех баб лихих, князь великий велел их казнити, потопити в Москве-реке нощию, а с нею от тех мест начат жити в бережении»[363]. Иван Васильевич явно вспомнил о слухах, сопровождавших смерть его старшего сына, и поверил в то, что угроза распространяется и на него самого.  Опала на великого князя Василия Ивановича
Что подвигло Софью и Василия на столь решительный, если не сказать отчаянный, шаг? Восстановленная С.М. Каштановым хроника противостояния между группировками Василия-сына и Димитрия-внука свидетельствует о том, что чаша весов попеременно склонялась то в одну, то в другую сторону. В ноябре 1491 года, когда отпала необходимость в нейтрализации углицкого князя, Иван III сначала лишил Василия Тверского княжества, а затем начал выдвигать Дмитрия-внука в качестве политического противовеса старшему сыну. В 1492 – 1493 годах имело место реальное возвышение Дмитрия-внука. Дальнейшему росту политического авторитета Дмитрия в 1494 – 1495 годах, соответствовало полное исчезновение в это время с политической арены Василия. Свадьба дочери Ивана III Деспины Елены и литовского государя Александра усилила позиции Софьи, которой в 1496 – начале 1497 годах удалось добиться определенного преобладания, что выразилось в возвышении Василия в эти годы. Однако в августе 1497 года началось очередное и весьма интенсивное возвышение Дмитрия, которое должно было быть закреплено венчанием шапкой Мономаха[364]. Летописец сообщает, что Василий якобы «сведал от дьяка от Феодора Стромилова то, что отец его князь великий хочет жаловати великим княжением Володимерским и Московским внука своего князя Димитрия Иоанновича»[365]. Деспина решила идти ва-банк. Плетя заговор, Софья и Василий привлекли на свою сторону удельных князей, ущемленных разрастанием централизованной великокняжеской власти. Они составили еще одну силу оппозиции, помимо церковных ортодоксов и униатского окружения Деспины. Таким образом, замечает Г.В. Вернадский, «заговор 1497 года представляется возрождением федеративной идеи, противостоящей аристократии»[366]. Родичи одного из главных заговорщиков Владимира Гусева были связаны с верейским удельным домом. Не случайно Василий намеревался бежать в недавнюю верейскую вотчину – Белоозеро, где еще сильны были позиции противников политики Ивана III и его правительства. Однако очередной раунд борьбы Софья Фоминична проиграла. Глава 6 ТЕРНИИ МОНОМАХОВА ВЕНЦА В свое время я горько упрекал Траяна в том, что он двадцать лет шел на всякие уловки, прежде чем меня усыновить, и что принял окончательное решение только на смертном одре. Но вот прошло почти восемнадцать лет с того времени, как власть оказалась в моих руках, и, несмотря на опасности своей полной случайностей жизни, я тоже откладывал выбор наследника до последнего часа. По этому поводу ходило множество предположений; но то, что люди принимали за тщательно скрываемую тайну, на самом деле было нерешительностью и сомнением. Дело Ряполовского …Заговор потерпел фиаско. Суд приговорил Стромилова, Еропкина и Гусева к смертной казни, Софья и Василий оказались под домашним арестом. Их ожидала еще более печальная участь, если бы не заступничество высших иерархов. В ноябре 1497 года состоялась некая встреча, на которой Иван Васильевич со своей стороны «въсполелся… на свою великую княгиню Софью, да на сына своего князя Василия, да и жалобу сотвори перед митрополитом Симоном. … с архиепископы», а представители высшего духовенства со своей стороны «печаловались» за великую княгиню и ее сына, припоминая государю его вину в смерти брата Андрея, очевидно, предостерегая его от опасности «обновления Каинова греха». Как полагает С.М. Каштанов, событие четырехлетней давности послужило лишь предлогом для разговора об опальном Василии. Епископы вынудили великого князя покаяться и вырвали у него обещание «исправиться»[367]. Успех «партии власти» довершила официальная коронация Дмитрия 4 февраля 1498 года в кремлевском Успенском соборе, где на него возложили «бармы Мономаховы и шапку». Во время церемонии Иван III недвусмысленно сформулировал право наследования престола за старшими сыновьями: «Божиим изволением от наших прародителей великих князей старина наша, то и до сех мест, отци наши великие князи сыном своим первым давали великое княжство, и язъ был своего сына перваго Ивана при себе же благословил великим княжствомь; Божия паки воли сталася, сына моего Ивана не стало в животе, а у него остался сын первой Дмитрей, и яз его ныне благославляю при себе и опосле себя великим княжством Володимерским и Московским и Новгородским»[368]. Примечательно, что, по сообщению имперского посла З. Герберштейна, Геннадий Гонзов не присутствовал на обряде венчания, где был представлен весь русский епископат. Не было там и Василия[369]. Казалось бы, правительственная партия могла праздновать окончательную победу. Однако, по мнению С.М. Каштанова, возвышение Дмитрия-внука Иван III использовал для того, чтобы создать новую политическую систему. Исследователь обратил внимание на то, что Дмитрий не выдавал и не подтверждал жалованных грамот, а следовательно, «несмотря на свой великокняжеский титул, был менее полноправным, чем Василий, он являлся лишь соправителем, фактически помощником великого князя, а не самостоятельным удельным сувереном»[370]. Впрочем, и этот относительный успех Елены Волошанки и ее союзников оказался недолгим. Спустя ровно год после венчания Дмитрия шапкой Мономаха 5 февраля 1499 года зять Ивана Патрикеева и его ближайший соратник князь Семен Ряполовский были казнены. Самого главу правительства и его сына Василия спасло от смерти только заступничество митрополита Симона: Патрикеевых постригли в монахи. Позже схватили еще одного участника правительственного кружка князя Василия Ромодановского. А 21 марта Иван Васильевич, словно позабыв все, что происходило год назад, «пожаловал сына своего князя Василия Ивановича, нарекл его государем великим князем и дал ему Великий Новгород и Псков великое княжение». Ясно выраженный принцип престолонаследия также оказался забыт, на смену ему пришел произвол. «Чи ни волен яз в своем внуке и в своих детех; ино кому хочю, тому дам княжество», – отвечал Иван псковским послам, и в их лице всем недоумевавшим по поводу внезапных и внешне беспричинных перемен[371]. По мнению К.В. Базилевича, казнь Ряполовского «со времен Карамзина историки без достаточных на то оснований объясняли якобы их участием в династической борьбе на стороне Елены Волошанки и Димитрия Ивановича»[372]. Если одна часть исследователей (Я.С. Лурье, А.А. Зимин) придерживалась «дипломатической» версии падения Патрикеевых, разногласия между Иваном III и рядом деятелей правительства по поводу русско-литовских отношений, то другая часть (Н.А. Казакова, И.И. Смирнов) отдавала предпочтение «династической», идущей от Карамзина, полагая, что опальные вельможи поплатились за попытку помешать Ивану III умалить положение Дмитрия в пользу сына Софьи Палеолог. На самом деле упомянутые «династическая» и «дипломатическая» версии падения Патрикеевых друг другу не противоречат, а друг друга дополняют, поскольку конфликт с Литвой накладывал отпечаток на внутриполитические раздоры, и, напротив, династическая борьба сказывалась на дипломатических отношениях между Москвой и Вильно, которые усилиями придворных партий становились орудием междоусобной борьбы.  Венчание Димитрия-внука шапкой Мономаха
Уже вскоре после венчания Елены Ивановны отец и сын Патрикеевы, Семен Ряполовский, ранее столь преуспевавшие на дипломатическом поприще, оказались отстранены от литовских дел. Отстранены ключевые фигуры московской внешней политики в сношениях с западным соседом: в 1492 году в качестве «наивысшего» московского воеводы князь Иван Патрикеев принимал участие в переговорах о заключении мира с Литвой. В 1493 году к нему, как стороннику литовско-русского сближения, обращаются литовские паны. В марте – апреле 1494 года Семен Ряполовский, сын Ивана Юрьевича – князь Василий и Федор Курицын ездили в Вильно сватать княгиню Елену. Василий Патрикеев вел переговоры в Москве с представителями Литвы в августе 1494 года. Это далеко не исчерпывающий перечень контактов Ивана Патрикеева и его ближайших помощников в эти годы. И вдруг – отставка. Что же случилось? Известно, что как только сопровождавшие Елену Ивановну в Вильно Семен Ряполовский и Михаил Русалка выехали в Москву, Александр отослал большинство москвичей из ее окружения, а Елену Ивановну «нача нудити к римскому закону»[373]. Иван Васильевич мог укорить своих послов за то, что оставили ее дочь, не удостоверившись в том, что оговоренные условия ее проживания при дворе Александра будут строго соблюдаться литовской стороной. Василий Ромодановский провинился в том, что русские придворные Елены не смогли сохранить в тайне от литовцев некую конфиденциальную информацию. Великий князь велел передать наставления, чтобы «вперед, что с вами дочи моя учнет говорити, и что будет от нее пригоже написати, или вам ко мне что писати, ино бы у вас не видел никто»[374]. Не слишком серьезные проступки. Но уже не первые такого рода. А.А. Зимин полагает, что одна из причин негодования великого князя состояла в том, что Ряполовский и Патрикеев, будучи сторонниками русско-литовского сближения, отказались от более энергичного давления на литовских представителей и убедили государя в 1494 году заключить мирный договор с Александром Казимировичем на условиях, которые могли быть более оптимальными[375]. Иван Васильевич сделал вывод, что его дипломаты имеют особый, отличный от его собственного, взгляд на настоящий брачный союз и русско-литовские отношения в целом. Если Патрикеевы видели в нем средство укрепления межгосударственных отношений, то великий князь – средство давления на литовскую сторону и средство влияния на православное население Литвы. Потому, если до бракосочетания Елены Ивановны и Александра Казимировича московские дипломаты из правительственной партии твердо отстаивали требования Москвы, что заслуживало одобрения государя, то теперь проявляли предрасположенность к уступкам. Нельзя сказать, что государь отвернулся от проверенных соратников и перестал доверять им важные поручения: в январе 1496 года отряд Василия Патрикеева совершил удачный рейд по южной Финляндии против шведских войск, в августе 1498 года Семен Ряполовский в качестве воеводы передового полка послан к Казани. Однако сношениями с Вильно теперь занимались другие люди. Люди весьма примечательные. Полгода спустя после прибытия Елены Ивановны в Вильно в августе 1495 года в Литву прибыл Борис Васильевич Кутузов, «чтобы дщери его Елены, а своеи великои княгини не нудилъ от гречаского закона къ римскому закону»[376]. Борис Васильевич – близкий друг Иосифа Волоцкого, а его родные братья Михаил и Константин служат у новгородского епископа Геннадия Гонзова. Кутузову и раньше доводилось принимать литовских послов, но, по всей видимости, в переговорах он играл второстепенную роль и в Литву не выезжал. Правда, Кутузова сопровождал брат Нила Сорского, соратник Курицына Андрей Майков. Однако в качестве послов в Вильно все чаще отправляются фигуры, не замеченные прежде на правительственной службе. Так, в мае 1499 года в Литву выехал Иван Мамонов – сын опального боярина Григория Мамона, антигероя времен «угорщины». Федору Курицыну, к тому времени еще сохранявшему свое положение, пришлось даже сочинить сопроводительное письмо, адресованное московскому резиденту в Вильно Шестакову, о том, что тот может без «залы» говорить с Мамоновым. Очевидно, этот боярский сын, естественным образом примыкавший к «партии реванша», смотрелся столь непривычно в роли государева посланника, что понадобилось предусмотрительно оградить его от возможного недоверия[377]. Любопытно, что буквально вслед за ним в Вильно отправился двоюродный брат Б. В. Кутузова Андрей. Изменилась и роль братьев Захарьиных. Яков в бытность новгородским участвовал в дипломатической переписке со своим коллегой и соседом на литовской стороне – полоцким воеводой Яном Заберезинским, но при этом скорее выполнял функции почтового ящика: пересылал воеводские письма в Москву и получал оттуда ответы. Наконец, великий князь отписал Якову Захарьину, что «…ино непригоже тебе к нему своего человека ныне посылати з грамотою, ни с его человеком грамоты посылати»[378]. Вскоре Якова вовсе удалили с политической авансцены, отправив на воеводство в Кострому. Но проходит немного времени и мы видим Якова Захарьина в качестве одной из ключевых фигур в подготовке перехода литовских князей на службу московскому государю. В государевом архиве хранились «тетрати, писан приезд Семенов Стародубскаго и Шемячичев приезд, и грамоты, посыпная, опасная, ко князем, и речи, и к воеводам к Якову Захарьину с товарыщи»[379]. После падения Патрикеевых Яков Захарьин уже самостоятельно списывается с тем же Яном Заберезинским и посылает в нему своего человека[380]. Поспособствовал этому и Александр Казимирович, который, по мнению С.М. Каштанова, став мужем дочери Ивана III, во внешнеполитических сношениях старался игнорировать сына Елены Стефановны. В частности, в приветствии переданном литовским гонцом великокняжеской семье в июле 1495 года, имя Димитрия даже не упомянуто[381]. У литовцев был прямой резон ослабить позиции внука молдавского господаря, который в эти годы стал одним из главных противников Ягеллонов. Так Александр Казимирович и Деспина превратились в невольных союзников. Замужество Елены Ивановны, без сомнения, сослужило хорошую службу «партии реванша». После того как дочь Софьи и сестра Василия стала литовской государыней, перемены в их судьбе непосредственным образом сказывались и на положении Елены Ивановны. Это обстоятельство не играло существенной роли, пока отношения между Литвой и Москвой, хотя бы внешне, выглядели благополучно. По мере того как все явственнее становилась угроза войны, ситуация менялась. Ивану было непросто требовать от зятя уважения прав к своей супруге и использовать в полной мере этот рычаг давления на Вильно в то время, когда мать и брат великой княжны Литовской пребывали в опале. Не случайно в ходе дипломатических сношений с Литвой делалось все, чтобы скрыть от литовского ведомства иностранных дел кому отдается первенство – Василию или Дмитрию[382]. Но вряд ли церемониальные ухищрения могли скрыть истинное положение дел. Московский государь зорко следил за тем, чтобы ничто и никто не препятствовал Елене исповедовать православие. Как мы знаем, Иван III был достаточно индифферентен в вопросах веры, но он прекрасно понимал, что, пока его дочь твердо стоит в «греческом законе», она тем самым подает пример всем православным подданным Александра Казимировича. Стоит ей дать слабину – и этот факт окажет деморализующее влияние на потенциальных союзников Москвы. Но и здесь Иван Васильевич попадал в двусмысленное положение: его покровительство «жидовствующим» к тому времени вряд ли оставалось секретом для литовской элиты, и потому московский великий князь весьма неубедительно выглядел в роли энергичного поборника православия. Выходило, что Иван III, не желая наладить порядок в собственном доме, проявлял горячее желание навести порядок в чужом. Литовский государь имел больше оснований попенять своему тестю за нерадение о христианской вере, особенно после того, как в том же 1495 году Александр Казимирович изгнал всех евреев из Литвы и конфисковал их собственность. Еще более неубедительно выглядели бы представители московского вольнодумного кружка, поручи им великий князь вести вероисповедальные прения с литовскими придворными. Вот еще одна причина, почему сторонников Патрикеева отстранили от ведения литовских дел. Не случайно Б.В. Кутузов ездил в Вильно с напоминанием Александру Казимировичу, чтобы тот «не нудил» Елену переходить в католичество. Надо признать, что в устах примерного иосифлянина этот наказ звучал более убедительно, чем если бы он исходил, например, от Федора Курицына. К.В. Базилевич обращает внимание на то, что до примирения Ивана и Софьи последняя затрагивала в переписке с дочерью исключительно личные вопросы и только после возвращения из опалы стала поднимать в своих письмах, а также устных напутствиях вопросы вероисповедания, буквально повторяя требования великого князя. «И ты бы, дочка, и нынеча памятовала Бога да и государя нашего, отца своего, наказ, да и наш, – писала в Вильно Софья Фоминична, – держала бы еси крепко свой греческий закон, а муже бы еси своего в том не слушала, чтобы ти и до крови или и до смерти о том пострадати, а к римскому закону не приступила…»[383]. Исследователь считает, что до разрыва Деспина в сношениях с дочерью проявляла самостоятельность, а после примирения была вынуждена полностью подчиниться воле своего супруга[384]. Но скорее всего главную роль здесь играли иные мотивы: Софья верно оценила двусмысленное положение Ивана Васильевича – защитника православия в Литве и покровителя еретиков в Москве – и находила возможность указать на это несоответствие великому князю, поведение которого по отношению к дочери в данном контексте выглядело донельзя циничным. Исходя из узкополитических соображений государь осложнял жизнь дочери при литовском дворе бесконечными наставлениями и придирками. В сложившихся обстоятельствах Софья не собиралась споспешествовать государю в подобной жестокой «игре». Зато после того как главные вожди проеретической партии были репрессированы, Деспине пришлось подключиться к пропагандистской программе Ивана Васильевича. Вряд ли материнское сердце сочувствовало требованиям к дочери держаться православия даже ценой собственной жизни, но Софье Фоминичне приходилось расплачиваться за благоприятные перемены в своей судьбе и судьбе Василия, которого Деспина, безусловно, выделяла среди всех своих детей. Ахиллесова пята И все же перечисленные выше обстоятельства, хотя и стоит признать существенными, вряд ли имели решающее воздействие на ход политической борьбы в Москве конца 1498 – начала 1499 года. Непосредственной причиной начала новой большой войны с Литвой послужил переход весной 1500 года православных литовских князей Семена Можайского, Семена Вельского и Василия Шемячича со своими вотчинами на службу московскому государю. Так описывают эти события литовские источники: «В лето от сотворения мира семь тысяч восьмое, а от рождества Христова тысяча четыреста девяносто девятое решил великий князь Иван Васильевич московский начать войну со своим зятем великим князем Александром литовским, вступив перед тем в сговор с Тейдли-Гиреем царем перекопским и со своим сватом Стефаном воеводою молдавским, присягнув на вечный мир и на кровный союз. И послал втайне к князю Семену Ивановичу Вельскому и к князю Семену Ивановичу Можайскому, и к князю Василию Ивановичу Шемячичу, чтобы они с городами и волостями отступились от зятя его великого князя Александра, и со всем с тем служили бы ему, а к тому еще обещал им многие свои города и волости. И такое соглашение сделали и присягнули, что им с помощью его воевать с Великим княжеством Литовским непрестанно, а которые города и волости они у Литвы заберут, то им все держать»[385]. С точки зрения литовского хроникера, инициатором перехода князей на московскую службу выступает сам великий князь. К. В. Базилевич уверен, что «переходу на сторону Москвы князей Можайского и Шемячича должны были предшествовать переговоры между ними и великим князем, которые остались полной тайной для Александра Казимировича и литовских властей»[386]. Но когда начались эти переговоры и кто их вел? Литовский хронист предлагает вполне правдоподобную последовательность событий: сначала Иван принимает решение развязать войну против Литвы – для этого он ведет переговоры с Менгли-Гиреем и Стефаном, а после их успешного завершения начинает тайные сношения с будущими перебежчиками. Иван Васильевич заручился поддержкой Молдовы и Крыма к лету 1498 года. К этому времени в Москве уже была совершенно ясна близкая неизбежность войны с Александром Казимировичем[387]. Следовательно, переговоры с Можайским, Шемячичем и Вельским начались не позднее осени 1498 года. Семен Иванович Можайский был правителем огромной области, располагавшейся на территории современных Брянской, Гомельской и Черниговской областей России, Белорусии и Украины. Этот богатый и обширный край имел к тому же большое стратегическое значение, поскольку земли Можайского, перейди он на службу Москве, широким клином врезались в Литву, перекрывая днепровский водный путь и создавая угрозу одновременно двум литовским форпостам – Смоленску и Киеву. Между тем у Семена Ивановича не было веских оснований жаловаться на свою жизнь и опасаться, что его положению в великом княжестве Литовском что-либо угрожает. В марте 1499 года Александр Казимирович дал князю жалованную грамоту на все его владения. Князь должен был семьдесят семь раз отмерить, прежде чем принять решение. Какие-то весьма влиятельные в Москве и хорошо известные Можайскому люди должны были поручиться за то, что князь не пожалеет о переходе на московскую службу. И, судя по всему, такие люди нашлись. Известный нам Василий Михайлович Верейский, бежавший в Литву в 1483 году после истории с «саженьями», приходился Семену Можайскому дядей. Первоначально государь был решительно настроен против своего троюродного брата и шурина Софьи Палеолог. Так, в 1484 году Иван III и тверской князь Михаил Борисович договорились, чтобы с князем Верейским «не ссылаемся никоторую хитростью, ни к собе его не принимати». Но постепенно гнев сменился на милость, в 1493-м, а затем в 1495 году на просьбу князя Верейского разрешить ему вернуться в Москву был дан положительный ответ, однако Василий Михайлович им так и не воспользовался[388]. Тем не менее сношения Москвы с князем Верейским более не рассматривались как крамола и имели место быть. Несомненно, что при московском дворе за Василия Михайловича хлопотали Деспина Софья и близкие к ней люди. На их поддержку и поручительство мог рассчитывать и Семен Иванович Можайский. С другой стороны, более чем сомнительно, чтобы князь решился на столь радикальные перемены в своей жизни и вверил бы свою судьбу Ивану III, зная, что его покровительница Софья Палеолог находится в опале. Вероятно, в свое время причиной того, что Василий Михайлович Верейский не решился вернуться в Москву, стало именно неустойчивое положение при дворе супруги великого князя. Возвращение Деспины ко двору и возвышение Василия оказывались лучшим аргументом на переговорах Москвы с князем Иваном. Если Можайский наверняка колебался, прежде чем сделать решающий шаг, то Семен Вельский, игравший в княжеском триумвирате роль закоперщика, похоже, не испытывал никаких сомнений. О его связях с окружением или родственниками Софьи Палеолог ничего неизвестно, зато князь Семен – единственный из литовских выезжан, в том числе своих сородичей Вельских – прославился как горячий поклонник преподобного Иосифа. Вельский пожертвовал Волоцкой обители 200 рублей – сумму значительную по тем временам, и «велел пытати, где б земли купити монастырю»[389]. Заметим, что вклада в монастырь в 50 рублей было достаточно, чтобы вкладчика и его родных поминали ежедневно до тех пор, пока «Бог велит сей святой обители стояти»[390]. Неизвестно, испытывал ли Семен Иванович симпатии к волоцкому игумену и его взглядам, проживая в Литве, или же он познакомился с вождем любостяжателей по приезде в Москву, но очевидно, что князь твердо стоял за чистоту православия. «Великая нужа о греческом законе», на которую ссылались Можайский, Шемячич и Вельский, мотивируя свою просьбу о переходе на московскую службу, была для князя Семена не удобным поводом, а главной причиной, побудившей его покинуть Литву. Семен Вельский вряд ли сочувствовал Димитрию и его вольнодумному окружению, и напротив, желал усиления партии Василия и Софьи Фоминичны. Похоже, что Ивану III пришлось сделать недвусмысленный выбор: без изменений в статусе Василия было трудно рассчитывать на положительный исход переговоров с Можайским, Шемячичем и Вельским. Но намерения государя натолкнулись на энергичные возражения Патрикеева. Впервые между великим князем и его многолетними соратниками возникли противоречия, причем противоречия неразрешимые. Патрикеев и его окружение отдавали себе отчет в том, что готовящийся переход Вельского и его компаньонов на сторону Москвы способен спровоцировать вооруженное столкновение с Литвой. По договору 1494 года Иван III и Александр Казимирович обязались не принимать к себе служебных князей с вотчинами, а в случае возникновения претензий выслать судей, которые «учинят исправу» без перевода[391]. В числе вотчин, в которые московский государь давал специальное обязательство «не вступатися» отдельно, упоминались Брянск и Мценск, находившиеся во владениях князей-перебежчиков[392]. Иван III вел дело к военному конфликту с западным соседом, Патрикеев же рассматривал Литву как потенциального союзника в борьбе с татарами и турками. Соответственно по-разному понимали они и роль супруги Александра Казимировича при литовском дворе. Иван рассчитывал, что брак его дочери послужит укреплению прорусской партии, как своего рода «пятой колонны», а в правительстве надеялись, что он послужит заключению политического союза с западным соседом. Эти расчеты нельзя считать безосновательными. Литовский летописец, рассказывая о свадьбе князя Александра и Елены Ивановны, говорит о надеждах на прочный союз с московским государем, которые вселил этот брак в западных соседей. Когда же отношения между двумя странами обострились, литовские публицисты с обидой писали о том, что Иван забыл о родстве с князем Александром[393]. Значительная часть литовской элиты искренне рассчитывала на союз с Россией, и политика Патрикеева в долгосрочной перспективе имела шансы на успех. Теперь же государь вел дело к войне и ради нее был готов переменить отношение к жене и сыну. Софья Фоминична и ее партия получали шанс перехватить инициативу. В столь драматичной ситуации сторонники Елены Волошанки и Димитрия-внука могли пойти на самые крайние меры. Летописец сообщает, что великий князь «поймал в измене Ряполовского». Но в каких конкретных действиях заключалась измена? А.Л. Хорошкевич указывает на совершенную в то время русской дипломатией ошибку. Вместо того чтобы продолжить традиционную политику Москвы, натравливавшую Менгли-Гирея на Литву, в Крым отправили Семена Ромодановского с предложением хану заключить мир с Александром Казимировичем, а к последнему поехал Иван Мамонов с тем же поручением. Менгли-Гирей не скрывал недоумения по поводу подобного кульбита московской политики. «Не в этом ли заключается еще одна причина опалы Дмитрия-внука и Елены Волошанки, окружение которых руководило внешней политикой Руси накануне кризиса в русско-литовских отношениях?» – задается вопросом исследовательница[394]. Данную версию стоит признать заманчивой, только тогда уже следует говорить не об «ошибке», а о той самой «измене», поскольку союз между ханом и Александром Казимировичем играл на руку Литве и ослаблял позиции Москвы, над которой нависала угроза и с запада и с юга, поскольку татары, прекратив набеги на Литву, устремились бы на Русь. Однако предположение А.Л. Хорошкевич наталкивается на серьезные возражения. Иван Мамонов отправился в Вильно 19 декабря 1499 года. Он вез письмо Ивана III Александру Казимировичу, в котором тот сообщал о миссии в Крым Семена Ромодановского с предложением заключить мир с литовским великим князем[395]. Следовательно, спустя почти год после казни Ряполовского великий князь одобрял предпринятые послами шаги по подготовке договора между Литвой и ханством. На самом деле московские дипломаты не стремились помирить Александра Казимировича и Менгли-Гирея, прекрасно представляя последствия подобного миротворчества. Взяв на себя роль посредника, Иван III только запутывал и без того сложные отношения между Вильно и Бахчисараем. Например, московский государь неожиданно соглашался передать Менгли-Гирею Киев и другие русские города, которые сам же назвал своею «вотчиной»[396]. Сомнительно, чтобы сторонники Патрикеева, отстраненные от ведения литовских дел, использовали официальные дипломатические каналы для своих целей. Другое дело – неофициальные. Родственные отношения между княжескими семьями по обе стороны границы играли большую роль в русско-литовских отношениях: шла личная переписка между родственниками, имевшая влияние на ход дипломатических переговоров, посылались тайные гонцы[397]. Быть может, Патрикеевы решились по своим каналам поделиться с литовской стороной конфиденциальной информацией, например, известить Александра Казимировича о сношениях с Можайским, Вельским и Шемячичем, чтобы таким образом сорвать переговоры? Если в конце 1498 года Александр Казимирович все-таки был информирован о замыслах московского государя, он хорошо представлял подоплеку казни Ряполовского в феврале 1499-го. Выдача жалованной грамоты Семену Можайскому в марте этого года представляется мерой, призванной предупредить намерения князя подчиниться Москве и привлечь на свою сторону. Литовский государь соглашался, что Можайский волен свои владения «продати, и отдати, и заменити, и к своему вжиточному обернути, как сам налепей разумеючи» – в Москве о таких правах вотчинник мог только мечтать[398]. Правда, в таком случае от Александра Казимировича стоило ждать реакции на сообщение о готовящейся измене. Но что именно мог предпринять литовский господарь? Прибегать к репрессиям? Но они принесли бы больше вреда, напугав православных князей, и к тому же совершенно изобличили сторонников союза с Литвой в Москве. Заметим, что в это время западный сосед демонстрировал готовность к любым уступкам или компромиссам, только бы избежать прямого столкновения с Иваном III. Последнему, возможно, пришлось прибегнуть к посредничеству в переговорах между Крымом и Литвой, чтобы скрыть от Александра Казимировича свои истинные намерения. Так или иначе переход княжеского триумвирата на московскую службу пришлось отложить на год. … Весной 1500 года Яков Захарьин стал во главе рати, которая должна была занять территорию, отходившую к Москве. Никому из людей, близких к Патрикееву, великий князь такого конфиденциального поручения, разумеется, дать не мог. Военные силы собрались заранее, чтобы немедленно выступить, как только будет достигнута окончательная договоренность с князьями-перебежчиками. К.В. Базилевич отмечает, что «военные приготовления были закончены к моменту прибытия послов от князя Семена Можайского и князя Василия Шемячича, что и дало возможность занять территорию новоприсоединившихся княжеств раньше, чем в Литве успели принять какие-либо контрмеры»[399]. Операция была проведена блестяще, и стоит отметить заслуги лиц, ее готовивших и осуществлявших, и в их числе и братьев Захарьиных, какие бы личные мотивы ими ни двигали. Огромная территория от верховьев Оки до Днепра вошла в состав Московской Руси при отсутствии более или менее серьезного сопротивления. Теперь нам легче понять досаду Юрия Захарьина, которому некоторое время спустя пришлось подчиняться племяннику Патрикеева Даниилу Щене. Однако в последние годы жизни Ивана III братья Захарьины играли ведущую роль в государственных делах, фактически заняв место отца и сына Патрикеевых. Именно литовский вопрос, а не еретическое окружение Елены Стефановны оказался ахилессовой пятой партии власти, чем не преминула воспользоваться Софья Палеолог. Иван Юрьевич Патрикеев, немало способствовавший браку великого князя литовского с Еленой Ивановной, конечно, не полагал, что этот матримониальный альянс, призванный послужить укреплению добрососедства, станет источником неприятностей для него и его сторонников, и, наконец, одной из причин его падения. Компромат на государя, или 20 лег спустя Возвращение Деспины и Василия из опалы и низвержение Патрикеевых понадобились Ивану Васильевичу, чтобы привлечь на свою сторону князей Вельского и Можайского и укрепить свои позиции среди православных Литвы накануне большой войны. Впрочем, не исключено, что великий князь поначалу не думал ущемлять положение своих многолетних соратников (Иван Патрикеев провел в Думе почти 40 лет, из которых 27 служил на унаследованном от отца посту наместника московского), намереваясь ограничиться уравнением в правах внука Димитрия и сына Василия. Однако вожди «партии власти» должны были понимать, что за этим компромиссным решением, принятым под давлением Софьи, последуют новые уступки, и энергично выступили против намерений государя. Причина достаточная для опалы, но недостаточная для жестокой скорой расправы. По сообщению Степенной книги государь велел казнить Семена Ряполовского «испита подробну вся преже бывшая крамолы». Такая же участь ждала отца и сына Патрикеевых[400]. Если верить этому сообщению, Патрикеева и его сторонников постигла кара за их прошлые преступления. Какие? И.И. Смирнов считал, что излишняя самостоятельность Ряполовских и Патрикеевых в дипломатических делах не могла послужить причиной их опалы, полагая, что они рассчитывали использовать малолетство Дмитрия для захвата власти в свои руки[401]. С.М. Каштанов не исключал того, что сторонники Димитрия могли замышлять прямое отстранение великого князя от власти[402]. На первый взгляд, эти версии кажутся чрезмерно эксцентричными, но в их пользу свидетельствуют веские, хотя и косвенные улики, а именно – своеобразная информационная война, развязанная против великого князя в 90-е годы XV века. Поводом для непосредственных обличений Ивана III стало его поведение во время Ахматова нашествия. Нападки на государя содержались в широко известном произведении – послании ростовского архиепископа Вассиана Рыло на Угру, в котором владыка стремился укрепить мужество великого князя и предотвратить влияние на него сторонников примирения с ханом. Для этого Вассиан в своем письме неоднократно напоминает государю о пастыре, не бросающем свое стадо, перемежая льстивые увещевания недвусмысленными угрозами: «Не послушай убо, государю, таковых хотящих твою честь в бесчестие свести, а твою славу в безславие преложити и бегуну явитися и предателю христианскому именоватися»[403]. Естественно, что ростовские книжники, близкие к архиепископской кафедре, использовали послание Вассиана Ростовского при составлении летописного отчета о событиях на Угре. Вызывает удивление другой факт: автор официального московского свода целиком принял версию ростовского летописца, в том числе едкие замечания в адрес Софьи Фоминичны. Автор официального московского свода 1497 года, списал ироническое описание поездки Деспины на Белоозеро из ростовского свода, нисколько не пытаясь смягчить его. Эту особенность легко объяснить принадлежностью автора к кругу Елены Стефановны. Однако московская летопись пошла значительно дальше ростовской в обличении великого князя. Если ростовский летописец всю вину возлагал на злых советников, то московский книжник обличал трусость Ивана. По замечанию Р.Г. Скрынникова, перед нами едва ли не единственный случай в истории московского летописания, когда обличения по поводу трусости монарха попали на страницы официальной летописи[404]. Московский свод 1497 года лег в основу Софийской второй летописи, автор которой пошел дальше своих предшественников в обличении Софьи и Ивана III, погубивших законную ветвь династии в лице Дмитрия-внука. По оценке К.В. Базилевича, рассказ Софийской второй летописи об Ахматовом нашествии является не летописной записью, а более поздним политическим памфлетом, который проникнут чувством острой недоброжелательности к Ивану III, к его трусливому и малодушному поведению, которое противопоставляется мужеству Ивана Молодого[405]. Летописец приписывает государю планы бегства из Москвы в случае неблагополучного развития событий: «И ужас наиде на ны, и восхоте бежати от брегу, а свою великую княиню римлянку и казну с нею посла на Белоозеро… а мысля, будет божие разгневание, царь перелезет на сю страну Оки и Москву възмет, и им бежати к окияну морю»[406]. Если Никоновская и Воскресенская летописи ограничиваются изложением Послания Вассиана на Угру, то составители Софийской второй летописи подчеркивают, что великий князь «не послуша того писания владычня Васиянова, но советников своих слушаше». Тогда ростовский владыка «нача… зле глагслати князю великому, бегуном его называа»[407]. Негативное отношение к фигуре Ивана III и его действиям на Угре словно нарастает по мере переработки ранних источников, посвященных хронике Ахматова нашествия, параллельно обострению межпартийной борьбы. Каждый новый документ отличается от предыдущего более отчетливыми приметами тенденциозной обработки. Вернемся к посланию Вассиана Рыло на Угру. По расчетам К.В. Базилевича, послание было написано между 15 и 20 октября[408]. За несколько дней до этого, 1 – 3 октября, Вассиан и великий князь виделись в Москве на переговорах государя с младшими братьями, после чего Иван Васильевич отбыл на Утру. Что же заставило владыку засесть за сочинение весьма пространного и велеречивого произведения, если накануне он имел возможность обо всем переговорить с великим князем лично? Считается, что причиной написания стало известие из войска о том, что Иван согласился с предложением Ахмата вступить в переговоры. К. В. Базилевич считает, что послание Вассиана подтверждает: переговоры с Ахматом расценивались в Москве как проявление слабости и нерешительности[409]. Однако ничего сенсационного в факте посылки парламентера к хану не усматривалось, это была нехитрая дипломатическая уловка с целью оттянуть время. Вряд ли в Москве данное решение расценили как-то иначе. Переговоры, безусловно, играли вспомогательную роль, о чем свидетельствует тот факт, что к хану был отправлен не боярин или князь, как это было принято в отношениях с Ордой, а сын боярский Иван Товарков который к тому же не сделал никаких конкретных предложений в переговорах[410]. Известие о переговорах не могло смутить такого искушенного политика, каковым, без сомнения, был Вассиан. Рукоположенный в ростовского епископа в 1468 году, все эти годы он проживал в Москве при великокняжеском дворе и хорошо ориентировался в политической практике того времени. Собственно, в самом послании Вассиан никак не порицает великого князя за попытку переговоров. Напротив, он утешает и подбадривает ввиду постигшей его неудачи: «ныне же слышахом, яко безсерменину Ахмату уже приближашуся и христианство погублющу, наипаче же на тебе хваляшеся и на твое отечество, тебе же пред ним смиряющуся и о мире молящуся и к нему пославшу, ему же окаянному единако гневом дышущу и твоего моления не полушающу, но хотя до конца разорити христианство. Ты же не унывай, но возверзи на Господа печаль твою, Той тя препитаетъ: Господь бо гордымъ противится, смиренным же дает благодать. Прииже убо в слухи наша, яко прежнии твои развратницы не престают шепчуще в ухо твое лстивая словеса и совещают не противитися супостатомъ, но отступити и предати на разхищение волкомъ словесное стадо Христовых овецъ»[411]. Следовательно, Вассиана беспокоил не факт сношений с неприятелем, а именно наущения злых советников. Но кого имеет ввиду епископ, неизвестно: несмотря на многословные обличения, он не называет имен. Только ростовский владычный свод указывает на личности «развратников» – Григория Мамона и Ивана Ощеру. Действительно ли государь готов был прислушаться к их совету? Р.Г. Скрынников указывает на то, что Мамон и Ощера не принадлежали к кругу влиятельных особ: Мамон был сыном боярским, а Ощера носил низший думный чин окольничьего[412]. Похоже, этот изъян в позиции обличителей осознавался ими самими. Летописец сделал ошибку, скорее всего сознательную, произведя Ивана Ощеру в бояре, придав недостающую вескость его фигуре. А.А. Зимин приводит летописную запись под 1480 год о том, что Мамон являлся приближенным великого князя, но затем сообщает, что Мамон исчезает из поля зрения до конца века[413]. Но исчезновение не равнозначно опале, которая, постигни она столь «великого» человека, получила бы отражение в источниках. Похоже, Григорий на самом деле был попросту малозаметной фигурой, дослужившейся до окольничьего лишь в 1498 году, будучи весьма зрелым человеком. «Угорщина» никак не сказалась на карьере Ивана Ощери, который в отличие от Мамона хотя из поля зрения не пропадал, но и ключевых должностей не получал. Иное положение занимал епископ Вассиан Рыло, который входил в число доверенных лиц государя, пользовался его благосклонностью. В 1479 году он крестил новорожденного Василия. Участвовал владыка и в тяжелых переговорах с мятежными братьями Ивана III. После того как великий князь рассорился с митрополитом Терентием, Вассиан стал для Ивана Васильевича кем-то вроде главного советника по церковным делам. В этой связи весьма неправдоподобным представляется тот факт, что ростовскому архиерею пришлось вступать в единоборство за влияние на государя с такими второстепенными персонажами, как Мамон и Ощеря. Исследователи уже указывали на явные несообразности в освещении источниками взаимоотношений архиерея и государя. Так, летописец указывает, что, получив письмо Вассиана, Иван Васильевич не послушал его советов и бежал в Москву, где его встретил Вассиан с новой порцией обличений. Р.Г. Скрынников считает данный эпизод выдумкой, поскольку великий князь приехал с Оки, когда татары еще не перешли русскую границу[414]. Серьезные сомнения вызывает подлинность самого послания Вассиана на Угру. Наверняка архиерей считал своим пастырским долгом ободрять находившегося при войске государя, укреплять его дух, но вряд ли спешил докучать многословными наставлениями. Вполне вероятно, что в окружении Ивана Васильевича находились люди, склонные к капитуляции перед Ахматом, но непохоже, чтобы государь спешил к ним прислушиваться. Не менее вероятно, что владыка Вассиан в беседах с великим князем обличал подобный образ мыслей, однако он не имел веских причин специально обращаться к жанру публицистики. Между тем градус Вассианова воззвания столь высок, что складывается впечатление, будто великий князь в критический момент перестал внимать доводам своих испытанных советников, а вместо этого очутился под исключительным влиянием неведомо откуда взявшихся «духов льстивых» и уже изготовился отдать свою державу на поругание «сыроядцам». По оценке В.В. Каргалова, в середине октября 1480 года реальной опасности наступления со стороны Ахмата не существовало: в это время ордынцы разоряли «верховские» княжества[415]. В поведении Ивана III не видно и намека на панику. В отношении великого князя к переговорам с ордынцами отсутствуют малейшие признаки пораженческих настроений. «Перепуганный» Иван Васильевич, желая ублажить хана, вел бы себя совершенно иным образом. Из чего же Вассиан заключил, что Иван Васильевич готов заделаться «бегуном» и «предателем христианства», остается загадкой. Если послание Вассиана подлинно, то требуется признать, что владыка смутно представлял общую ситуацию на Угре, зато был прекрасно осведомлен о подспудных течениях в окружении государя, и более того, придавал им чрезвычайно важное значение. Скорее всего, настоящий автор послания хорошо знал Вассиана и воспользовался известными ему правдоподобными деталями, чтобы составить вымышленное послание, отвечавшее требованиям «текущего момента». Вассиан представлялся весьма «удобным» кандидатом на авторство, поскольку скончался вскоре после благополучного для Москвы исхода «угорщины». Его преемником на ростовской кафедре стал Иосаф Оболенский. Послание, очевидно, было составлено в окружении нового ростовского архиерея вскоре после событий 1480 года, когда еще живо было воспоминание о противостоянии на Угре и авторитете, которым пользовался Вассиан. В чем смысл послания, против кого оно направлено? Иосаф, постриженник Кириллова монастыря (как и его племянник Василий), игумен Ферапонтовой обители, как мы уже говорили, примыкал к заволжскому направлению. Род Оболенских активно содействовал централизаторской политике Ивана III и правительства Патрикеевых. (Исключение, пожалуй, составляет ветвь Оболенских, служивших Борису Волоцкому.) Наиболее вероятно, что атаковавшее их противников «послание» появилось в связи с событиями 1483 – 1485 годов – в то время, когда разгорелся конфликт по поводу «сажений» и нескольких близких к Софье бояр постигла опала. Отметим, что брат епископа Иосафа Борис Туреня был послан вдогонку за бежавшим в Литву Василием Верейским и Марией Палеолог[416]. Не будет излишне смелым предположить, что Иосаф имел основания недолюбливать отца сбежавшего князя Михаила Верейского еще со времен конфликта в Кирилловом монастыре между учениками основателя обители и споспешниками игумена Нифонта. Припомним, что тогда только вмешательство Ивана III поставило на место удельного князя. В этом столкновении Иосаф, безусловно, занимал сторону, противоположную «новопострижен-ным старцам» и их покровителю князю Михаилу Андреевичу. Если послание Вассиана было создано в 1485 году, то Михаил Андреевич был еще жив и владел белозерскими землями, входившими в ростовскую епархию. Отношения между церковными и светскими властями вряд ли складывались просто, что сказалось при составлении послания. О позиции отца и сына Верейских во время «угорщины» источники ничего не сообщают, известно только, что Михаил Андреевич все это время находился в Москве, а Василий Михайлович – при войске. Во всяком случае, у них было куда больше возможности влиять на государя, чем у Мамона и Ощери. Близкий к Иосафу книжник мог воспользоваться событиями 1480 года, чтобы изобличить сподвижников Софьи. Для современников же не составляло труда представить, о ком идет речь. Работа над Ростовским владычным сводом приходится на более поздний срок – 1489 – 1491 годы, когда противостояние с князьями Верейскими потеряло актуальность, зато обострилась борьба между партиями Софьи Палеолог и Димитрия-внука, а Яков Захарьин и Геннадий Гонзов «обнаружили» ересь в Новгороде. Очевидно, что близкий к архиепископу Иосафу и заволжцам ростовский книжник намеренно поместил Ощерю и Мамона в качестве главных обвиняемых. В середине 80-х годов Иван Ощеря служил в Руссе (которая стала «Старой» только в следующем столетии), а с 1489 года наместничал в Новгороде после Юрия Захарьина до своей смерти в 1493 году[417]. Значит, Ощеря стал помощником Якова Захарьина, в том числе в организации репрессий против новгородцев и изобличения еретиков, а возможно, содействовал тому на прежней «должности». (Русса – ближайший к Новгороду крупный город, в те времена четвертый по численности в Московском государстве после стольного града, Пскова и своего соседа на Волхове.) Григорий Мамон, как мы уже говорили, в то время пребывал в тени, но набирался сил его сын Иван, который тоже находился в «зоне ответственности» Захарьиных, служа в 1487 – 1488 годах наместником в Ладоге[418]. Приближенные ростовского архиерея прекрасно знали, что происходит в соседней епархии и вряд ли сочувствовали погромной деятельности новгородских администраторов, но остереглись задевать могущественных Захарьиных, избрав в качестве мишени их подручных Мамона и Ощерю, а в их лице старомосковское боярство, имевшее прочные позиции в Новгороде. Однако московские коллеги и единомышленники ростовских книжников пошли гораздо дальше, не испугавшись возвести хулу на самого великого князя. Прежде чем постараться разгадать эту загадку, обратим внимание на следующие обстоятельства. В 1496 году казанские феодалы свергли ставленника Москвы хана Мухаммеда-Эмина и послали в Москву «бить челом» великому князю, чтобы тот их пожаловал и за их измену «нелюбки им и вины отдал». Иван III не только не стал наказывать мятежников, но и выполнил их просьбу заменить Мухаммед-Эмина царевичем Абдул-Латыфом, не желая вступать в конфликт с казанской знатью[419]. Должно быть, не все были согласны с этим решением государя. В первую очередь, это относится к дьякам, ведавшим внешними сношениями. В творческой лаборатории московского книжника потакание великого князя казанским мятежникам обернулось робостью перед «сыроядцами» во время Ахматова нашествия. При этом летописец, беспощадный к Софьей Фоминичне и Ивану Васильевичу, благожелательно настроен к его почившим братьям Андрею и Борису. Неожиданная симпатия сторонника Димитрия и Патрикеевых к удельным князьям не должна смущать. Противостояние между братьями и его политическая подоплека канули в Лету, а вот раскаяние Ивана Васильевича в том, что он был несправедлив по отношению к братьям, случившееся в 1496 году, давало книжнику возможность добавить черной краски в портрет Ивана Васильевича. Малодушный «бегун», предатель христианства стал еще и братоубийцей Каином. К.В. Базилевич полагал, что вариант повести, использованный в Софийской второй летописи, был составлен в конце 90-х годов XV века или в первые годы следующего столетия сторонником Димитрия и Елены Стефановны. (Соловьев даже полагал, что повесть мог написать Федор Курицын)[420]. Предположение К.В. Базилевича представляется верным, но раскрывает только часть загадки. Понятно, почему книжник превозносил действия против ордынцев Ивана Молодого, тем самым он лил воду на мельницу его сына Димитрия, но почему он при этом не смог обойтись без рискованных упреков в адрес самого государя. Полагаем, этому невозможно найти объяснения, не согласившись с приведенными выше предположениями С.М. Каштанова и И.И. Смирнова – в пестром и многочисленном лагере сторонников Елены Стефановны существовало экстремистское крыло, которое готовилось к свержению Ивана III и воцарению Димитрия. Летописные нападки на великого князя являлись элементом пропагандистской подготовки к перевороту. Не случайно в повествовании об «угорщине» так резко звучит тема неповиновения москвичей, неприятия простыми людьми действий великого князя. Так, накануне решающих схваток двух придворных партий была создана целая литература, призванная скомпрометировать великого князя. Автор «Сказания о князьях Владимирских», приуроченного к венчанию Димитрия Ивановича, следовательно, созданного в самом конце 1497 – начале 1498 года, не ограничился задачей обоснования прав, но и постарался принизить самого Ивана. Симпатии книжника, черпавшего аналогии в византийской истории, были на стороне воинственного внука киевского князя Владимира, одолевшего малодушного деда императора Константина. Владимир-внук послал воинов, которые разорили окрестности Константинополя. Императору Константину пришлось снять с головы своей «венец царский» и послать внуку с мольбой о мире. Современникам не требовалось разъяснять эту параллель[421]. Быть может, в этом и состоят «прежние крамолы» Семена Ряполовского, который был лидером радикального крыла лагеря Елены Стефановны или пал жертвой навета. Заговор в пользу Димитрия, похоже, развивался параллельно заговору в пользу Василия. В обеих партиях имелись люди, полагавшие, что великий князь им препятствует, им не терпелось вступить в очный поединок, убрав с дороги Ивана Васильевича, который мешал и тем, и другим. Но когда Патрикеевьм удалось убедить государя пойти на венчание Димитрия, в окружении Елены Стефановны возобладали сторонники компромисса, и пропагандистская атака оказалась ненужной, оставив свой след в письменных памятниках. А вот Софье Фоминичне пришлось идти ва-банк. Но победа «партии власти» обернулась началом их поражения. Уже с середины 1498 года влияние Дмитрия-внука начинает падать[422]. Как и любой осторожный и расчетливый политик, Иван более комфортно чувствовал себя в ситуации, когда наличествуют примерно равные силы, соревнующиеся за влияние на положение дел в государстве и самого государя. Тем более он существовал в этой ситуации почти два десятка лет. Сегодня это принято называть «системой сдержек и противовесов», но ясно, что подобная тактика существует столько, сколько существует борьба за власть. То обстоятельство, что одна из групп оказалась вне конкуренции, явно обеспокоила Ивана, и получившие столь большую власть фавориты оказались под подозрением. Отныне каждый шаг Елены Стефановны и друзей из правительства разглядывался через призму сомнения в верности. В то же время великий князь, учинив опалу над Деспиной, вспоминал все причиненные супруге притеснения, и понимал, что ее преступные намерения в значительной степени проистекают от отчаянного положения при дворе, созданного по благословению Ивана окружением Елены. Угрызения совести терзали душу государя. Вспомним, что ему около шестидесяти – по тому времени старость, причем большую часть жизни – 35 лет он единолично правит государством, перед которым постоянно встают острейшие проблемы. Он устал. Но удаление Софьи не разрешает ситуацию, напротив запутывает ее. Так возникает соблазн, свойственный раздраженному и измученному человеку – разом изменить в корне ситуацию, одним ударом разрубить гордиев узел. Готовится питательная почва для коренного перелома в мировоззрении Ивана и его оценке происходящего вокруг. Но гордому, привыкшему к самовластию человеку трудно признаться в столь серьезной ошибке даже самому себе, куда проще представить себя жертвой дьявольских чар клеветников. Согласно летописному рассказу, князь «всполилися» на жену и сына «по диаволю действу и наважению и лихих людей совету»[423]. Впоследствии Иван Грозный напишет Курбскому, будто Димитрий и его сообщники князья умышляли многие «пагубы и смерти» против его отца Василия. В данном случае он скорее всего пересказывал официальную или, можно сказать, «семейную» версию. Если великого князя удалось убедить в том, что заговор Софьи и Василия против Димитрия и Ивана – коварная выдумка, навет лихих людей, то для мастерицы византийской интриги Софьи не составляло труда развить эту версию, представить оговор как прикрытие подлинного злодейства – против Ивана и Василия. Но для того, чтобы это предположение укоренилось в сознании государя, стало побудительной причиной радикальных поступков, необходима кропотливая и повседневная пропагандистская работа. Г.В. Вернадский полагает, что Софья, будучи непревзойденным мастером интриги, «не пыталась сама доказывать что-либо Ивану, а подослала какое-то третье лицо, скорее всего не участвующее в конфликте, постепенно подрывать доверие Ивана III к князю Патрикееву»[424]. Идеальными кандидатами для исполнения подобного плана были лекарь Никола Булев и духовник Митрофан, которые имели возможность часто видеться с великим князем наедине и исподволь внушать ему мысль о том, что он стал жертвой чародейства «злых людей», превративших его в орудие преступных планов, доказывать невиновность опальных и изобличать коварство еретиков. Сознание того, чем способно обернуться для него потакание вероотступникам, будоражило воображение Ивана, который уже задумывался о переходе в иной мир. И тогда Иван решился смести фигуры на шахматной доске и начать новую игру. Примечательно, что все приказы по «делу Патрикеева» великий князь отдавал лично, не согласуясь ни с Боярской думой, ни с нормами Судебника, в соответствии с которыми два года назад были осуждены на казнь сторонники Софьи[425]. Государь вышел за рамки сословно-представительного строя, который де-факто существовал с 70-х годов, и, пожалуй, первый и последний раз продемонстрировал столь яркий пример деспотического самовластья. Р.Г. Скрынников обращает внимание на роль боярской Думы, на помощь которой Димитрий в своем конфликте с дедом якобы рассчитывал. По мнению исследователя, напуганные репрессиями бояре не вмешались в конфликт. Правда, здесь же он отмечает, что после опалы Димитрия и его матери Иван не стал преследовать ее окружение, «избегая раздора с Думой»[426]. Но если Дума пассивно наблюдает за действиями Ивана, то отчего тому было опасаться раздора. Невмешательство Думы в конфликт – не следствие испуга, а проявление двойственного взгляда московской элиты того времени на власть, ее устройство и границы ее полномочий. В удельном княжестве существуют отношения между вотчинником и вассалом, в национальном государстве – между государем и его подданными. Если последнее – предмет публичного права, то первое – частное дело, опирающееся на традиции, договоренности и, в конце концов, личные отношения. Члены боярского правительства могли сочувствовать тому или иному претенденту на статус наследника престола, но прекрасно понимали, что конечный выбор остается за великим князем, так как это его семейное дело. Они могли негативно относиться к тому, что Иван отнял у Димитрия и передал Василию титул властителя Новгородского и Псковского, их беспокоили политические последствия этого шага, но вряд ли они могли расценить действия Ивана как превышение полномочий и, очевидно, вполне разделяли его слова, обращенные к возмущенным псковичам: «Чи не волен яз в своем вноуке и оу своих детех? Ино кому хочю, тому дам княжество». В этом причина и нейтрально-благожелательная реакция боярства на расправы великого князя с братьями – удельными князьями. Другое дело – казнь Ряполовского и удаление Патрикеевых. Речь идет не о вассалах, не о родственниках, а о сотрудниках государя. Здесь, как мы уже говорили, великий князь нарушил и прерогативы Думы, и нормы Судебника. Скорее всего, кровавые события зимы 1499 года развивались так стремительно, что Дума попросту не успела отреагировать на вспышку государевой ярости. Однако тот факт, что за опалой Димитрия и Елены не последовали аналогичные меры в отношении ее многочисленных сторонников при дворе, свидетельствует о том, что, великий князь был «волен» только в своей семье, а прочее оставалось вне досягаемости его личного произвола. Возможно, в данном случае для князя, которому все труднее было удерживать рычаги власти в своих слабеющих руках, позиция Думы служила удобным поводом для сдерживания мстительных замыслов все более усиливающейся партии Софьи-Василия. Глава 7 ВЕК ДИМИТРИЯ Слыхал ли ты когда, Чтоб мертвые из гроба выходили Допрашивать царей… Триумфальное бегство Отдавая распоряжения о казнях и опалах, Иван III действовал, повинуясь эмоциональному порыву, отнюдь не намереваясь производить радикальные политические и кадровые перемены. Семену Ряполовскому попросту не повезло – он стал жертвой вспышки ярости: его казнили, в то время как главного зачинщика «предательства» и злейшего противника партии Софьи Палеолог – князя Ивана Патрикеева лишь удалили от двора и от мирской жизни. Остался при дворе Федор Курицын, хотя его роль становится менее заметной. Нет известий об опалах прочих еретиков. Новым главой Думы стал князь Василий Холмский, происходивший из тверской ветви Рюриковичей – типичный представитель новомосковского служилого боярства, которого вряд ли можно записать в число ревностных сторонников Софьи Фоминичны. Так возникло шаткое равновесие между противостоящими группировками, закрепленное в фактическом разделе государства между двумя наследниками. Понятно, что подобное положение не могло продолжаться долго. Бывшая «партия власти» была деморализована, а Деспина, напротив, прочно захватила инициативу. Если она столь эффективно действовала из подполья, то после возвращения ко двору ее возможности, казалось бы, должны многократно возрасти. Однако апрель 1500 года ознаменовался загадочным происшествием. Великий князь Василий.. бежал из Москвы. Краткий летописец 1508 года под 7008 год (сентябрь 1499 – август 1500) сообщает об этом следующее: «Князь Василей, хотя великого княжение, и хотев его истравити на поле на Свинском у Самьсова бору, и сам побежа въ Вязьму своими и советники. А князь великий нача думати со княгинею Софьей и возвратили его, и даша ему великое княжение под собою, а князя Димитрия поимаша и с материею княгинею Еленою»[427]. Каштанов полагал, что Василий бежал в апреле 1500-го года, а таинственное «Свинское поле» расположено между Вязьмой и Дорогобужем, где «состоялось какое-то столкновение войск, поддерживавших Василия, с частью войск Ивана III», при этом «Василий мог опираться на литовские войска»[428]. А.А. Зимин, анализируя предположение С.М. Каштанова, замечает, что Василий не мог пытаться «стравить» отца там, где его не было, и полагает, что погубить беглеца пытались литовцы, однако Василий, узнав о движении литовских войск, бежал к Вязьме[429]. Постараемся предложить иную версию происшедшего, заранее уведомляя, что она, увы, столь же уязвима, как и гипотезы С.М. Каштанова и А.А. Зимина. Прежде всего, согласимся с А.А. Зиминым в том, что «истравить» собирались не великого князя, а самого Василия. Но кто осмелился поднять руку на сына государя? По версии С.М. Каштанова, это были части, верные Ивану III. В это время в окрестностях Дорогобужа действовал отряд Юрия Захарьина. Если действительно Василий бежал в Москву в апреле – начале мая (а доводы С.М. Каштанова в пользу данного предположения весьма убедительны), то литовских войск здесь быть не могло. Подарок от тестя в виде занятия Яковом Захарьиным Брянска 3 мая, как уже упоминалось, оказался неприятным сюрпризом для Александра Казимировича. Литовский летописец свидетельствует: «Князь же Константин Иванович Острожский с вышеназванными панами и со всеми людьми, которые были с ним, пришли к городу Смоленску. …И пришла весть к Смоленску, что воевода великого князя московского Юрий Захаринич стоит на Ведроши с очень небольшим числом людей. Константин Иванович Острожский со всеми людьми и панами, и еще с воеводой смоленским, и со всеми смольнянами, вооружившись и изготовившись, пошли к Дорогобужу и, прежде всего, пришли к Ельне. И в то время поймали одного языка из московского войска по имени Герман, который был дьяком у Богдана Сапеги, но убежал в Москву, и тот язык сообщил им о московском войске, что воевода великого князя московского Юрий Захаринич долгое время был под Дорогобужем с небольшим числом людей. Третьего же дня пришли к нему на помощь другие большие воеводы, князь Даниил Васильевич Щеня и князь Иван Михайлович Перемылитьский с многими другими воеводами и людьми, и что все они уже находятся в одном месте под Дорогобужем…»[430] Получить неприятные вести из Брянска, собрать в Вильне войско, пройти с ним до Смоленска не менее 500 километров, там снова «изготовиться» и выступить к Дорогобужу – все эти приготовления заняли не меньше месяца. Когда Острожский прибыл в Смоленск, Юрий Захарьин уже стоял на Ведроши. Литовцы об этом знали, поскольку русский отряд там находился долгое время. В Смоленской земле Иван III пока не планировал никаких приобретений, отряд Юрия Захарьина выполнял исключительно оборонительную роль, прикрывая движение на Москву, и вперед не выдвигался. Острожский идет к Дорогобужу, но еще точно не знает, что происходит на месте будущего сражения, так как вынужден полагаться (или не полагаться) на сведения беглого дьяка. Если воевода Александра Казимировича не располагал никакими иными источниками информации, значит, по крайней мере, до середины июня 1500 года никаких литовских отрядов в окрестностях Ельни и Дорогобужа, готовых либо прийти на помощь Василию (как полагает С.М. Каштанов), либо его «истравить» (как полагает А.А. Зимин), не было. К тому же если бы на Василия напали именно литовцы, то летописец наверняка отметил бы этот факт. Что вообще делал Василий на востоке Смоленской земли? С.М. Каштанов предполагает сговор между Василием и смоленским наместником Станиславом Петряшковичем, который прибыл в Москву 23 апреля 1500 года по поводу перехода на русскую службу С. Вельского. Следовательно, Василий бежал к литовцам, но его остановили люди из отряда Юрия Захарьина? Данное предположение слишком экстравагантно. Окажись сын Деспины Софьи в стане Острожского или при дворе Александра Казимировича, подобный поворот событий, да еще в условиях разворачивающихся военных действий, по сути дела, перечеркивал его претензии на престол и играл на руку Димитрию-внуку. Поражение русских войск, случись оно, тоже никакой политической выгоды беглецу не сулило. Да и давний противник Патрикеевых Захарьин в роли гонителя Василия выглядит странно. Если будущий государь задумал присоединиться к войску Юрия Захарьина, то почему не сделал это сразу, а бродил неподалеку с небольшим отрядом по смоленским лесам, пока неведомые злодеи не задумали его «истравить»? Между тем сообщение Краткого летописца при всей его туманности и лаконичности позволяет достаточно уверенно выстроить следующую причинно-следственную связь: Василий хочет великого княжения, те же, кто опасается его возвышения, пытаются его «истравить», а потом по причине покушения ему приходится бежать. Хотя недруги Василия не названы, но летописец указывает, что по возвращении молодого князя в Москву Димитрий и Елена Стефановна были «поиманы», что на самом деле произошло два года спустя. Летописец, разумеется, знает об этом, но преднамеренно связывает историю с вынужденным бегством Василия и опалу Димитрия-внука и его матери, чтобы дать понять, кто же желал зла будущему великому князю. Таким образом, неожиданный демарш Василия продолжает линию Софьи Фоминичны, объяснявшей замысел бегства своего сына на Белоозеро не намерением поднять мятеж против отца, а желанием спастись от «крамол», порожденных неспособностью либо нежеланием Ивана III обуздать злодеев. В этой истории Василий должен был играть страдательную роль, любое выступление, направленное против государя, усугубляло его шаткое положение. В таком случае версия С.М. Каштанова о местонахождении «поля на Свинском у Самьсова бору» в районе Дорогобужа близ современного села Самцово ошибочна, если только на Василия не напали, когда тот направлялся в действующую армию по заданию великого князя. Однако о таком задании ничего неизвестно. Василий, в таком случае, присоединился бы к большому отряду одного из Захарьиных, либо тверской рати Даниила Щени, либо новгородской под командованием Челяднина, а не отправлялся в рискованный вояж с небольшим эскортом. Следует учесть, что ни до, ни после Ведроши государь никаких ратных дел Василию не поручал. Наконец, если вернуться к летописной записи, то Василий пустился в бегство «с воями» (с воинами), либо «со своими советники», как полагает С.М. Каштанов, а в предшествующем эпизоде «истравления» о свите молодого князя ничего не говорится. Поучается, что сначала Василий чуть ли не в одиночестве бродил в районе литовской границы, а потом, пережив некоторое приключение, нашел себе спутников и проследовал с ними в Вязьму. Более вероятно, что Свиное поле находилось где-то в пределах Москвы либо ее окрестностей. (С.М. Каштанов приводил несколько предположений на этот счет, не найдя их убедительными). Рискнем высказать еще одно. В Серпуховском районе Подмосковья существует деревня Свиненки в пойме (поле?) реки Лопасни, в десяти верстах от него располагается населенный пункт Соймоново, расположенный в центре крупного лесного массива. Соймоново (или Сойманово) – название явно историческое, поскольку неподалеку в селе Васильевском находилась вотчина дворян Соймоновых, которые в конце XVII века здесь построили церковь[431]. В тех лесах преобладают хвойные породы деревьев и в настоящее время расположены охотничьи угодья. Предположим, Василий охотился в тех местах, где произошел некий инцидент (или его инсценировка), давший ему повод усомниться в собственной безопасности и бежать. Не исключено и то, что упомянутые в летописи географические обозначения не сохранились до наших дней. Вернемся к политической ситуации, сложившейся весной 1500 года. Изменение статуса Димитрия-внука не отменяло его венчания, юный великий князь хотя и не имел распорядительных функций, но зато оставался наследником государя. Василий так и не стал «великим князем Всея Руси», зато получил в удел Новгород и Псков. Правда, что касается Пскова, то права Василий на этот город так и остались на бумаге. То ли Иван III не решился доверить сыну стратегически важную область, на стыке границ с Ливонией и Литвой, то ли, поразмышляв, внял доводам псковичей, просивших оставить «по старине». Да и с Новгородом у Василия получилась незадача. После августа 1499 нет никаких признаков его владетельной роли в управлении Новгородом, что, по мнению С.М. Каштанова, послужило причиной конфликта[432]. Небольшой период участия в управлении Новгородом оставил у молодого князя горький осадок. Вслед за провозглашением Василия новгородским властителем церковные вотчины в землях Святой Софии были конфискованы и розданы «детем боярским поместье, монастырские и церковные, по благословению Симона митрополита». По замечанию Р.Г. Скрынникова, летописцы, за исключением псковского, предпочли не обсуждать мероприятия великого князя, поскольку отчуждение церковных – «божиих» – имуществ воспринималось большинством современников как святотатство[433]. Это был чувствительный удар по архиепископу Геннадию и всей партии «любостяжателей», тем более чувствительный и неожиданный, что последовал вслед за возвышением сына Софьи Палеолог. Складывается впечатление, что очередная новгородская конфискация была вызвана не дефицитом земельных угодий и необходимостью испомещения служилых людей. К тому времени земельные резервы, предназначенные для поместных раздач, далеко не были исчерпаны. Государь был рад уязвить нелюбимого владыку Геннадия, тем более руками Василия. Кроме того, Иван III, что называется, «подставил», рвущегося к власти сына, внеся сумятицу в ряды «партии реванша». То, что теперь имя Димитрия-внука никак не было связано с Новгородом, только помогло великому князю. Иван III вряд ли рискнул бы пойти на «святотатство», опираясь на замеченное в связях с еретиками правительство Патрикеева, действуя от имени Димитрия, мать которого прослыла покровительницей «жидовствующих». После того как Василий получил права, пусть и номинально, новгородского князя, у Ивана III оказались развязаны руки. К началу 1500 года над головой Василия снова сгущаются тучи. Имя Димитрия снова появляется рядом с именем Ивана III в повелениях направить войска на Литву[434]. Тогда Софья Фоминична решила снова ударить в уязвимое место – западный вектор внешней политики Ивана III. Единство великокняжеской семьи рассматривалось государем как важный фактор в строительстве отношений с европейскими державами, и прежде всего с Литвой и Ливонией. Пожалование Василию Новгорода и Пскова совпало с посольством в Венецию через Польшу и Венгрию Дмитрия Ралева-Палеолога. Возложение миссии на приближенных Софьи должно было показать Ягеллонам внутреннее укрепление противника[435]. Само время бегства Василия и место его пристанища выбраны как нельзя удачно. Магистр Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг в конце января 1500 года писал о том, что «великий князь московский со своими сыновьями находится во вражде; причина эта заключается в том, что он хотел своего внука иметь наследником в качестве великого князя, но это ему собственные сыновья, которых он имеет от этой гречанки, не хотят разрешить. Эта вражда и неприязнь удерживает великого князя; иначе бы он давно напал на эту страну»[436]. Плеттенберг имел в виду Ливонию, но эти же слова в полной мере относятся и к Литве. Раздоры в семье препятствовали военным планам московского государя, единство (хотя бы внешнее) способствовало им. И в это время Василий вынужден покинуть столицу, опасаясь за свою жизнь. Если бы эта история получила широкую огласку или имела бы продолжение, позиции Москвы были бы в значительной мере подорваны, а переход Вельского, Шемячича и Можайского и вовсе оказывался под угрозой. Нахождение Василия в Вязьме, неподалеку от границы с Литвой, представляется недвусмысленным шантажом. Деспина Софья предъявила мужу ультиматум: либо удовлетворение всех политических притязаний Василия, либо эмиграция в Литву и громкий международный скандал. Об этом и пришлось великому князю «думати со княгинею Софьей». В тот момент, когда маховик военных приготовлений уже был запущен, когда все договоренности с Шемячичем и его компаньонами были достигнуты, у Ивана Васильевича не оставалось пространства для маневра. Ему снова приходилось пожертвовать Димитрием и снова ради успеха в Литовской войне. На этих условиях Василий готов был вернуться в Москву. Но и низвергать внука в столь напряженный момент великий князь не торопился. Триумф Василия состоялся только тогда, когда стало окончательно ясно, что Литва и напавший на Русь Ливонский орден проиграли. В ноябре 1501 года русские одержали крупную победу под Мстиславлем, зимой 1501/02 года войско Даниила Щени вело успешные боевые действия в Ливонии. А 11 апреля 1502 года Иван III приказал взять Елену Стефановну и Димитрия под стражу, «от того дни не велелъ ихъ поминати въ октенияхъ и литияхъ, не нарицати великимъ княземъ, а посади их за приставы»[437]. Через три дня государь благословил Василия на «великое княжество Владимирское и Московское и учинил всеа Русии самодержцем». Соборный приговор Успешная война с Литвой и присоединение обширных территорий на западе на некоторое время отвлекли великокняжескую семью от конфискационных замыслов, и им стало легче общаться с защитниками церковного имущества. В 1502 году, когда Иван наложил опалу на Елену Стефановну и Димитрия-внука, братчич волоцкого игумена Вассиан Санин стал архимандритом Симонова монастыря – оплота нестяжателей в столице. Правда, продержался он там недолго. Воспрял духом и преподобный Иосиф. Во время пасхальной недели 1503 года Волоцкий игумен добился с помощью Иванова духовника Митрофана встречи с государем. Во время беседы о «церковных делех» игумен принялся уговаривать его покарать вольнодумцев. Очевидно, последовавшие в это время болезнь и смерть супруги (Софья Палеолог скончалась 7 апреля 1503 года) настроили государя на душеспасительные беседы и покаянные признания. Иван сожалел о своих заблуждениях, о попустительстве ереси, о том, что та распространилась в Кремле и самой семье его, но как только речь зашла о наказании отступников, Иван резко прервал беседу с игуменом. Не переменилось и благожелательное отношения государя к заволжцам. По признанию того же Иосифа, Иван III нестяжателей «держал… в чести велице»[438]. Они же «молиша самодержца, яко имуща дерзновение к нему, ради бо крепкого их жительства и добродетели множества не мало же рассуждениа приемлеми и почитаеми»[439]. А значит, вопрос о монастырском стяжании не был закрыт. Осенью 1503 года под вполне невинным предлогом – разрешение вопроса о будущем вдовых попов был собран церковный собор. На нем рассматривался и более существенный вопрос об отмене сборов, которые требовали епископы от священников при посвящении в сан – эта идея равно близка и заволжским исхастам и московским вольнодумцам. Сборы были упразднены. Для Паисия и Нила не составляло труда доказать великому князю Канонами, что взимание платы есть дело незаконное[440]. Собор повелел «вдовымъ попомъ и диакономъ не пети, ни священству касатися; такоже уложили и отъ ставления у поповъ и диаконовъ и отъ тех местъ церковныхъ, по праволомъ святыхъ Отецъ мзды не имати»[441]. После того как официальная повестка собора была исчерпана, дело приняло неожиданный оборот: «Когда совершися собор о вдовых попех и диаконех и нача старец Нил глаголати, чтобы у манастырей сел не было»[442]. Маловероятно, чтобы Нил предпринял этот шаг без согласования с великим князем[443]. И сам момент выступления, и тактика поведения на соборе согласовывались с Иваном III. Нил Сорский апеллировал прежде всего к государю и встретил широкую поддержку: «Приходит же к великому князю и Нил, чернец с Белаозера, высоким житием словый сый, и Денис, чернец каменский, и глаголют великому князю: „Не достоит чернецем сел имети“. Призыв Нила и Дениса встретил широкую поддержку в политической элите: „К ним же приста и Василий Борисов, тферские земли боярин, та же и дети великаго князя: и князь великий Василий, князь Дмитрей Углицкий присташа к совету отца своего. И дияки введеныя по великом князе глаголаху: «Не достоит чернецем сел имети“[444]. Странное первенство скромного боярского сына Василия Борисова, проявлявшего себя прежде лишь на ратной стезе, трудно объяснимо. Видимо, из всех светских лиц он оказался самым активным проводником идей нестяжательства, что бросилось в глаза удивленным современникам. Сам факт выступления Борисова на стороне нестяжателей как раз не вызывает удивления. Борисовы, как и многие тверские фамилии, были близки к окружению Ивана Молодого, а затем Димитрия-внука. Недавно А.И. Алексеев предпринял попытку пересмотреть традиционный взгляд на ход собора и предложил следующую очередность вопросов, рассмотренных его участниками: соборные заседания начались с дискуссии о монастырских селах, которая была прервана болезнью великого князя 28 июля 1503 года, после чего обсуждались дисциплинарные вопросы. При этом А.И. Алексеев опирается на «Житие Иосифа Волоцкого» Льва Филолога, а также «Житие Серапиона» и «Слово иное» – произведения, рожденные в среде троицких монахов, на имущество которых покушался Иван Васильевич. Эти источники относят возникновение спора о монастырских селах к началу собора и связывают его с болезнью, постигшей великого князя[445]. Однако авторам указанных произведений было крайне важно увязать секуляризационные вожделения Ивана III и его болезнь, которую и обиженные государем троицкие книжники, и иосифляне предлагали рассматривать как наказание за нечестивые помыслы. Ради этой благородной задачи они были готовы представить ход событий соответствующим образом. Что касается любостяжателей, то их недруги в качестве наказания обычно начинают испытывать проблемы со здоровьем – это один из «фирменных» приемов иосифлянской пропаганды. Иосиф писал, что ученик Алексея дьякон Истома, «соучастник дьявола, пес адов, был пронзен удой Божьего гнева: гнусное сердце его, вместилище семи лукавых духов, и утроба его загнили». В тяжелых мучениях Истома испустил свой нечистый дух. Вслед за Истомой и «окаянный поборник сатаны» протопоп Алексей заболел тяжкой болезнью и был поражен мечом Божьего суда. Другой еретик – поп Денис после проклятия и ссылки предался вселившемуся в него «хульному» бесу: в течение месяца он «бесчинно» кричал голосами зверей, скотов, птиц и гадов и в ужасных мучениях испустил свой гнусный еретический дух. По сообщению Иосифа, так же ужасно умер и Захар-чернец[446]. Последователи Волоцкого игумена не настаивали на летальном исходе, но столь же последовательно награждали своих врагов различными хворобами. В «Житии Иосифа», написанном Саввой Черным, заболевает некий иеромонах Исайя, «всегда ненавидя и злословя монастырь Иосифов»[447]. Когда епископ рязанский Кассиан «нача хулити преподобного Иосифа… что ж зде, не терпя Бог хулы на преподобного, посылает на него жезл наказания, уяся ему рука, тако же и нога, и не могий языком глаголати»[448]. К тому времени, когда Нил Сорский и окружение великого князя возбудили вопрос о монастырских селах, Волоцкого игумена не было в столице. Он находился при умирающем крестнике князе Иване Рузском, сыне многолетнего своего благодетеля Бориса Волоцкого. Понятно, подобное печальное событие невозможно было предугадать, – молодой князь внезапно заболел на свадьбе своего брата. Тем не менее отсутствие такого энергичного и эрудированного соперника, как Иосиф, безусловно, облегчало задачу сторонникам секуляризации. А.И. Алексеев, проанализировав позицию различных групп духовенства, участвовавших в работе собора, полагает, что «в вопросе об отчуждении церковных и монастырских земель епископы не заняли позиции активного противодействия великокняжеской власти. Только митрополит Симон в силу своего поста – главы русской церкви и архиепископ Геннадий, переживший опыт новгородских конфискаций, выступили против проекта изъятия церковных и монастырских вотчин»[449]. Между тем исследователь характеризует митрополита Симона как человека, лишенного амбиций, способного поддаваться нажиму. Что же касается Геннадия Гонзова, то его положение осложнялось неприязненным отношением со стороны государя[450]. Странно, что ему вообще разрешили после многолетнего запрета прибыть в Москву. Полагали, что напуганный владыка предпочтет помалкивать? Между тем Геннадий попытался было возразить Ивану, то тот «многим лаянием уста его загради». Новгородский епископ счел разумным более не ввязываться в дискуссию и теперь уже заслужил упреки от своих единомышленников: «Что убо противу великому князю ничтоже не глаголешь? С нами убо многоречив еси…»[451] На роль закоперщика Геннадий не годился. Большинство епископата занимало выжидательную позицию. Только Тверской владыка Вассиан Оболенский, двоюродный брат бывшего Ростовского епископа Иосафа, да Коломенский Никон могли поддержать требования Нила Сорского. Против любого покушения на монастырские имущества выступала верхушка «черного» духовенства, а приходские священники, напротив, скорее были готовы поддержать заволжцев. В столь неустойчивой ситуации любостяжатели поспешили призвать на помощь Волоцкого игумена – «паки и принудили его в град Москву взыти». Многое зависело от позиции митрополита Симона. Если бы он занял сторону Ивана или хотя бы сохранил нейтралитет, то вопрос скорее всего решился бы в пользу сторонников секуляризации. Но однажды, потакнув великому князю в новгородских конфискациях, Симон решил, что дальнейшие уступки несовместимы с миссией архипастыря, и твердо встал на защиту материальных благ церкви. Не дожидаясь приезда Иосифа, митрополит послал Ивану письмо, в котором доказывалась законность монастырского землевладения на основании многочисленных цитат, по замечанию П.Н.Милюкова, не всегда добросовестно приведенным[452]. В послании великому князю, зачитанному митрополичьим дьяком, говорилось, что со времен императора Константина «святители и монастыри грады и власти и села и земли дръжали, и на всех соборех святых отец не запрещено святителем и монастырем земель держать»[453]. Но Иван III, который вряд ли был знаком с постулатом «все, что не запрещено – то разрешено», не удовлетворился подобными объяснениями. В этот момент колеблющиеся могли дрогнуть и пойти навстречу настроениям великого князя. Ведь подобным ответом иерархи не только отвергали предложение Нила Сорского, но постфактум осуждали ревизию вотчинных прав церкви, осуществленную по указанию государя накануне в Новгороде. Как отмечает Н.А. Казакова, «независимо от мотивов, которыми руководствовалось правительство, проводя на протяжении последней четверти XV в. последовательные конфискации земель у новгородской церкви, эти действия объективно, в силу огромных масштабов конфискаций, должны были поставить под сомнение самый принцип незыблемости церковного землевладения»[454]. Похоже, что именно в эту критическую минуту в Москве появился Иосиф. По всей видимости, он не выступал прямо в защиту монастырских владений, но зато активно вел закулисную агитацию и сумел доказать епископату, что по отобрании вотчин у монастырей тотчас же настанет очередь вотчин архиерейских[455]. Епархиальные владыки, в свою очередь, могли увлечь за собой значительную часть «белого» духовенства. Сложившееся большинство укрепилось в своих намерениях отстоять церковные имения. Митрополит в сопровождении московского духовенства явился к великому князю и привел конкретные ссылки на Библию, «грамоту» Константина, правило Карфагенского собора, жития святых и пожалования князей Владимира и Ярослава[456]. Но и в этот раз Иван Васильевич счел аргументы любостяжателей недостаточными. Е.Е. Голубинский, обращая внимание на то, что великий князь не удовольствовался единократньм ответом ему собора, заставив давать ответ целых три раза, полагает, что таким образом государь надеялся выторговать у иерархов уступки[457]. Однако нестяжатели и Иван III потерпели полное поражение. Новый вариант соборного ответа содержал не только мотивы предыдущих выступлений, но и предупреждение, что властители, посягнувшие на «стяжания церковные», которые «Божия суть стяжание», будут «прокляты в сей век и в будущий». Борьба была проиграна. Раздосадованный Иван Васильевич отыгрался на своем давнем недруге – Геннадие Гонзове. Отметим, что для новгородского владыки победы его соратников неизменно оборачивались крупными неприятностями: после сведения Зосимы настоятелем крупнейшего в епархии монастыря был поставлен еретик Кассиан; возвращение из опалы Софьи и Василия аукнулось конфискацией земельных угодий; и, наконец, вслед за поражением нестяжателей на соборе 1503 года Геннадия постигла настоящая катастрофа. За поставление одного священника Геннадий получал полтора рубля, что по тем временам составляло значительную сумму[458]. Например, в 60-х годах XV века Симонов монастырь ссудил одному сыну боярскому пять рублей под залог его деревни. Должник не смог вернуть деньги, и ему пришлось расстаться со своей вотчиной[459]. Владыка пал жертвой привычки и жадности. Вернувшись в Новгород, сребролюбивый архиерей, презрев только что принятое соборное постановление, «начятъ мзду имати у священниковъ отъ ставлениа наипаче перваго, через свое обещание, съветомъ единомысленаго своего любовника диака Михаила Иванова сына Алексеева; и обыскав то, князь велики и митрополит сведоша с престола на Москву, и пребысть въ монастыри у Михаилова Чуда на Москве полтретиа года, ту и преставися»[460]. Геннадий не имел недостатка в недоброжелателях, которые воспользовались его оплошностью, понимая, что при дворе будут рады падению владыки. Так бесславно закончил свою жизнь этот, безусловно, даровитый человек. В противоположность Геннадию Иосиф нисколько не потерял в глазах великого князя. Он не перечил государю, когда обсуждался вопрос о монастырских селах, предпочитая оставаться в тени. Кроме того, он оказал немалую услугу Ивану III. Л.В. Черепнин заметил, что на духовной грамоте умершего Ивана Рузского, по которой его удел как выморочный поступил в удел великого князя, стоит только подпись Иосифа, что, по мнению исследователя, означает, что игумен действовал в интересах великого князя[461]. Уже спустя несколько месяцев после заседаний собора, в апреле 1504 года, Волоцкий игумен прислал письмо духовнику Митрофану, в котором требовал от последнего приложить все возможные усилия, дабы побудить Ивана расправиться с еретиками. В противном случае Иосиф угрожал Божьей карой и великому князю, и духовному наставнику. Давление на князя достигло апогея, и терзаемый болезнями и старостью, алчущими мести святыми отцами и предвкушающим сладость власти сыном, Иван сдался на милость победителей. Он дал согласие на созыв нового церковного собора – на этот раз для осуждения ереси – и подписал завещание, в котором благословил Василия «всеми русскими великими княжествами». Последние годы жизни Ивана дают нам повод сочувствовать нравственным терзаниям великого князя. Перед нами трагедия шекспировского размаха и накала: государь, дольше всех русских властителей (царей, императоров, генсеков и президентов) находившийся на престоле (сорок три года единоличного правления!), с именем которого связано формирование великорусского государства, выход его на европейскую арену, разрыв с ордынской зависимостью, преобразование в областях экономики и права, расцвет архитектуры, иконописи, публицистики и интеллектуальной деятельности вообще, к концу жизни оказался перед лицом нравственного краха. Подстрекаемый интригами и клеветой, под влиянием вспышек ярости и назойливых увещеваний он либо прямым действием, либо своим попустительством погубил всех, кого любил, ценил превыше всего, ради кого и вместе с кем строил свое баснословное царство, – внука, невестку, своих многолетних соратников и единомышленников. И это в тот момент, когда так долго готовившаяся война с Литвой завершилась блестящей победой. При этом Иван, будучи правителем жестоким, что вполне согласовывалось с нравами эпохи, значительно уступает в этом качестве отцу, сыну и, разумеется, внуку получившему прозвание Грозный. Ивану совсем не пристает характеристика деспота или тирана. Если говорить об эффективности его политики, то есть о цене, которая была заплачена за успехи государства, то Иван III оказывается вне конкуренции среди российских реформаторов всех эпох. За исключением рокового эпизода декабря 1499 года, он не был беспричинно безжалостен, поощрял людей, говоривших ему в лицо нелицеприятную правду. Но чем дальше, тем ярче проявляется в его поведении нравственный надлом. В последние годы, по мнению Г.В. Вернадского, Ивана «захлестнули отчаяние и тоска: он, по-видимому, каялся в последних ошибках, однако теперь было слишком поздно что-либо менять»[462]. Историк внимательно относится к слухам о намерениях Ивана вернуть к власти Димитрия. Но если таковые и существовали, то им не суждено было сбыться. Иван III скончался в октябре 1505 года, спустя четыре года в узилище умер Димитрий. Шестнадцатый век начался в России смертью в застенках внука Ивана Третьего. В полуопале скоротал свой век в Угличе сын Ивана Дмитрий. Середина столетия отмечена трагической и нелепой смертью его правнука, малолетнего сына Грозного Димитрия, а завершился век гибелью в угличской ссылке другого его правнука, юного царевича, который по горькой иронии судьбы носил все то же несчастливое имя Димитрия Иоанновича. Праздник Святого Иосифа Иосифляне торжествовали. К собору, который был назначен на декабрь 1504 года, великий князь приказал обыскать по всем городам и привезти в Москву видных еретиков. Еще до собора 1503 года Иосиф составил первую редакцию «Просветителя», после – второй расширенный вариант, который сыграл роль своеобразного обвинительного заключения на новом соборе. Правда, оказалось в московских застенках совсем немного вольнодумцев, что огорчало Иосифа и его позднейших апологетов: «Опять пред нами фигурирует очень малое число имен.» – досадует А.В. Карташов[463]. Очевидно, Иван III из последних сил пытался предотвратить массовую расправу. Тем не менее по приговору собора 27 декабря 1504 года были сожжены брат Федора Курицына – Волк, а также Иван Максимов и Дмитрий Коноплев. Позже такая же участь постигла двух братьев – переводчика Ивана Черного и Юрьевского архимандрита Кассиана, а также некоего Некраса Рукавова. Некто Семен Кленов был сослан в Волоцкий монастырь, который с этого времени превратился в место исправления инакомыслящих. Впервые на Руси запылали костры инквизиции, отбрасывая кровавый отблеск на торжествующие лица иосифлян. После неправедных палаческих трудов у Иосифа появилось время поработать во благо собственного детища – Волоцкого монастыря. Разбогатевшей обители стал чрезмерно докучать поборами и имущественными претензиями удельный князь Федор Волоцкий. Епархиальный владыка – новый новгородский епископ Серапион – также тяготил игумена своим откровенно неприязненным отношением. Тогда Иосиф задумал и осуществил весьма ловкую комбинацию, которая позволила избавиться от обоих опекунов и, кроме того, потрафить самолюбию великого князя. В феврале 1507 года Иосиф обратился к Василию с просьбой освободить его монастырь из-под власти удельного властителя и передать его в «великое государство» – в непосредственное ведение московского государя. Великий князь, разумеется, пошел навстречу этой просьбе, что было закреплено приговором архиерейского собора и Боярской думы. Однако подобное решение не имело законной силы без санкции епархиального владыки. Благословение новгородского епископа якобы вызвался выхлопотать сам Василий, но обещания по забывчивости или нежеланию не исполнил, а посланный к Серапиону с объяснениями посланец Иосифа не смог пробраться в Новгород из-за разразившейся эпидемии.  Собор 1504 года. Сожжение еретиков
Эти извиняющие подробности известны со слов биографа и апологета Волоцкого игумена монаха Саввы Черного. А.А. Зимин не сомневается, что обещание великого князя довести до Серапиона это известие является позднейшим вымыслом[464]. Скорее всего, Иосиф действовал вполне сознательно, предугадав реакцию Василия и новгородского владыки. Два года Серапион ждал от Иосифа объяснений по поводу случившегося, пока весной 1509 года не наложил на Волоцкий монастырь и его игумена церковное отлучение. Иосиф, однако, ничем не рисковал, так как владыка тем самым пошел против воли государя. Иосиф тут же пожаловался на действия епископа митрополиту Симону, и тот по совету архиереев и по одобрению великого князя отменил отлучение, а самого Серапиона призвали на церковный собор. Новгородский архиерей не думал раскаиваться, напротив, резко возражал государю, настаивая на невмешательстве светской власти в церковные дела. Стоит ли удивляться, что последовавший приговор был максимально строгим: Серапиона лишили архиерейского сана, отлучили от церкви и заточили в Андроников монастырь, где обращались с ним крайне жестоко. Новгородцы тяжело переживали опалу архиерея. «Великаго ж Новгорода народи всею землею в сетовании и сокрби бывша». Впрочем, и в Москве новгородский владыка вызывал сочувствие, а его противник – негодование. А.В. Карташов признает, что «общественное мнение на Москве было решительным образом настроено против такой жестокой кары, постигшей Серапиона»[465]. Московские «люди многие» говорили: «лучши-де было Иосифу, оставя монастырь, да пойти прочь». Неблаговидность поступка вождя любостяжателей была настолько очевидной, что среди иосифлян раздавались голоса протеста против осуждения Серапиона. Давние почитатели Иосифа Иван Третьяков и Борис Кутузов советовали игумену бить челом бывшему архиепископу. Даже старцы Волоцкой обители советовали ему принести повинную опальному архиерею[466]. В ответ на это Иосиф сочинил послание, в котором попытался разъяснить непонятливым мотивы своего поведения: «Яз бил челом тому государю, который не точию князю Феодору Борисовичу да архиепископу Серапиону, да всем нам общий государь, – ино всея русские земли государем государь, которого Господь Бог устроил на свое место и посадил на царский престол, …такого государя нашел, которого суд не посужается»[467]. Сквозь свойственное манере Иосифа деланное прямодушие легко прочитывается плохо скрытая издевка над возмущенным «общественным мнением», которая граничит с предупреждением или даже угрозой в адрес ретивых критиков, – Иосиф подчеркивает, что находится под защитой суда, чей вердикт «не посужается». Следовательно, никакие доводы, в том числе и морально-этического свойства, Иосифом не рассматриваются. Суд общественного мнения теперь, когда игумен перешел в прямое подчинение великому князю, вызывает у Иосифа откровенное презрение. И все же формально, вьиграв эту схватку, избавившись от подчинения новгородскому архиерею и волоцкому князю, Иосиф проиграл в главном. После казней еретиков любостяжатели готовились к решительному наступлению на заволжское движение. Иосиф разработал идеологическое обоснование для нового обвинения, составив последние главы «Просветителя», направленные, как мы уже говорили, непосредственно против заволжцев, протестовавших против кровавой расправы. В мае 1508 года ушел из жизни Нил Сорский, что, очевидно, ослабляло позиции нестяжателей. Проводилась и определенная «организационная» подготовка. Едва вступив на престол в январе 1506 года, сын Софьи Палеолог назначил Иосифова брата Вассиана Санина Ростовским архиепископом. В ростовскую епархию входили заволжские обители, назначение Вассиана можно расценивать как сигнал к подавлению нестяжательского движения. Великий князь Василий Иванович, казалось, совершенно разделял взгляды иосифлян. В 1504 году Иван III все же амнистировал многих кающихся еретиков, но после его смерти новый государь «обыскал и управил» и вновь вернул в заточение отпущенных. В конфликте Иосифа и Серапиона великий князь встал на сторону Волоцкого игумена. В июле 1509 года Серапион соборным приговором сведен с архиепископства. В августе того же года соратник Иосифа андрониковский архимандрит Симеон назначен суздальским архиепископом. Конечно, вождь любостяжателей не предполагал, что в самое ближайшее время предпочтения Василия III переменятся самым радикальным образом и что, затеяв тяжбу со своими светским и церковным патронами, он, оказывается, только потеряет удобное время для штурма заволжских твердынь, внесет разброд в стан своих соратников и даст дополнительные аргументы своим противникам. (Известно, что заволжцы и после опалы Серапиона признавали действительным церковное отлучение Иосифа и его братии.) Действительно, вряд ли Иосиф или кто-либо из его современников ожидал удивительной метаморфозы: в 1510 году едва избежавший плахи сын князя Ивана Патрикеева Василий (в иночестве Вассиан) вернулся в Москву из опалы и стал «великий и временной человек у государя великого князя ближней, и яз так и государя великого князя не блюлся, как его боялся и слушал»[468]. Главным условием перемены в судьбе князь-инока, безусловно, стала смерть Димитрия-внука в феврале 1509 года. Вряд ли Вассиан Патрикеев смог покинуть Заволжье до смерти законного кандидата на московский престол. Сначала маленький мальчик, потом увенчанный шапкой Мономаха великий князь Владимирский, затем бесправный узник – он всегда представлял опасность для сына Софьи Палеолог. С самого рождения Димитрия борьба с ним, с поддерживавшей его партией Патрикеевых, партией кремлевских либералов и заволжских иноков – на протяжении двадцати лет с этой борьбой была связана жизнь Василия Ивановича. Он никогда не ослаблял бдительности. Так, незадолго до радикального изменения отношения к нестяжателям в 1508 году был арестован и отправлен в Белоозеро глава Думы князь Василий Холмский. Г.В. Вернадский предполагает, что князь решился вступиться за несчастного Димитрия[469]. Действительно, эту причину стоит отнести к числу немногих, способных вызвать внезапную опалу главы правительства. Холмский, освоившись за несколько лет с ролью главы Думы, мог почувствовать себя достаточно уверенным, чтобы возвысить голос в пользу заключенного, за что немедленно поплатился. Василий понимал, что живой Димитрий остается знаменем целой партии, которая при благоприятных обстоятельствах не замедлит выступить против него. В феврале 1505 года наместник Нарвы сообщал главе Ливонского ордена, что «русские больше склонны к внуку, чем к Василию»[470]. Возможно, сам Василий не считал свою власть достаточно легитимной, во всяком случае, по свидетельству 3. Герберштейна, при жизни Димитрия он «выдавал себя только за властителя, по смерти же его всецело забрал себе власть»[471]. Со смертью ненавистного племянника система политических комбинаций и союзов, сложившаяся в 80-х годах XV века, потеряла былое значение. Программа заволжцев, в первую очередь в части секуляризации монастырских земель, несомненно, и прежде вызывала сочувствие Василия Ивановича, потому он поддержал выступление Нила Сорского на соборе 1503 года. Но политическая ситуация заставляла опираться на любостяжателей, ненавидевших Димитрия-внука и его сторонников. Теперь фактор, связывавший Василия III с иосифлянами, перестал действовать, зато настало время обратить внимание на иные обстоятельства. Политическая и интеллектуальная элита Московской Руси на рубеже веков так или иначе, была связана с партией, группировавшейся вокруг Патрикеевых. (Исключение составляют, пожалуй, новгородец Дмитрий Герасимов и пскович Филофей). Поэтому после того, как разрешился важнейший для Василия вопрос, после того, как у него не осталось соперника в борьбе за власть, исчезли препятствия, стесняющие великого князя в выборе высших чиновников или неформальных советников, нестяжательская партия сразу получала объективные преимущества перед конкурентами. Особенно в эти годы, когда положение Москвы серьезно осложнилась ввиду возрастающей агрессивности Крымского ханства, а также наметившимся сближением между Вильно и Бахчисараем. Е.Е. Голубинский полагал, что, приблизив к себе ученика Нила Сорского, Василий III тем самым шантажировал духовенство, пугая клириков перспективой секуляризации[472]. Вряд ли государево благоволение объясняется столь узкой задачей. Как только потребовались не политические союзники, а разумные помощники в деле государственного управления, выбор пал на Патрикеевых, которые были верными соратниками и отца, и деда, и прадеда Василия Ивановича. В то время когда Вассиан Патрикеев стал «великим временным человеком», его двоюродный брат знаменитый полководец Даниил Щеня, согласно А.А. Зимину, назначен московским наместником, а по мнению Г. В. Вернадского, – главой Боярской думы[473]. Вассиан Патрикеев, сочетавший опыт в военной, дипломатической, а теперь и церковной области, с книжной эрудицией, не имел равных среди государственных мужей начала столетия. Василий был примечательной личностью даже на фоне знаменитого отца. Его жизнь до пострижения была отмечена многими славными делами. В 1493 году он был послан с войсками в Можайск. В течение 1494 года князь трижды участвовал в переговорах с литовскими послами и после заключения мирного договора был пожалован в бояре и назван первым во время поездки Ивана III в Новгород. В начале 1496 года Василий Иванович ходил во главе русских войск в поход «на свейские немцы». Напомним, что в злополучном декабре 1499 года Василий Патрикеев принял иночество в Кирилло-Белозерской обители под именем Вассиана. «Славный в миру воинской доблестью, умом и способностями, князь-инок скоро прославился в монастыре строгой жизнию и обширной начитанностью», – пишет церковный писатель[474]. В обители Вассиан познакомился с Нилом Сорским, но его первая встреча со старцем могла произойти и раньше – в Москве. В любом случае еще в мирской жизни Патрикеев-младший был немало наслышан о духовных подвигах и воззрениях Нила. Правда, по замечанию И. Смолича, Нил и Вассиан совершенно отличались по складу характера: «…душевно мягкий, склонный к духовному деланию и созерцанию Нил не мог переделать гордый, энергичный и страстный характер московского боярина, не мог вложить в него иноческого смирения, …ему нужна была арена для действия, на которой он мог бы практически осуществить воззрения Нила». Исследователь считал Вассиана одной из самых интересных фигур русской истории XVI века. «Это был своеобразный человек, сочетавший в своем характере и в своей деятельности самые разнородные черты: высокомерие и страстность; преданность своей идее и вражду против Иосифа Волоцкого и иосифлянства; ученость, ограниченную эпохой, и критически-полемический задор; признание основ христианской аскезы и неаскетический образ собственной жизни; наконец, приверженность взглядам заволжских монахов на монастырские владения и на государственно-политические дела, – человек, который стойко и ожесточенно боролся за свои убеждения и за свою партию, хотя и понимал, что его противники сильнее и что у него почти нет шансов на победу»[475]. А вот как характеризовал князь-инока Е.Е. Голубинский: «…вырванный из среды деятельности государственной и обреченный через пострижение в монахи на бездеятельно-ничтожное существование, он ухватился за проповедь о реформе монашества как за новый род деятельности и как за новый путь для себя к славе»[476]. Путь этот оказался тернистым, чреватьм взлетами и падениями. Патрикеевы возвращаются Преподобный Иосиф отчасти сам дал повод великому князю усомниться в его верности. В 1510 году брат великого князя Юрий Дмитровский, рассорившись с государем, прибыл к Иосифу за советом. По официальной версии, игумен посоветовал удельному князю преклонить «главу свою пред помазанником Божиим и покорися ему». Тогда Юрий уговорил настоятеля сопровождать его на переговоры с великим князем. Игумен прекрасно представлял, чем для него может обернуться подобное посредничество, и внезапно «изнеможе главною немощию възвратися». Тем не менее в ответ на настоятельные просьбы князя ему пришлось послать с ним двух волоцких старцев. После того как братья помирились, Юрий Дмитровский подарил Волоцкой обители село[477]. Подобное изъявление благодарности должно было насторожить великого князя к Иосифу. Вспомним, что на соборе 1503 года Юрий Иванович оказался единственным представителем великокняжеской фамилии, не выступившим в поддержку Нила Сорского, что свидетельствует о его «простяжательских» симпатиях, которые, по всей видимости, и обусловили обращение князя за содействием к Волоцкому игумену. Возвращаясь к конфликту преподобного Иосифа и новгородского епископа, отметим, что, пытаясь сбить волну возмущения, вождь любостяжателей уже тогда распространял воспроизведенную позднее агиографами версию о том, что великий князь не выполнил своего обещания – сообщить Серапиону о переходе Волоцкого монастыря под государеву юрисдикцию. Таким образом, Иосиф выставлял Василия в неприглядном свете, что вряд ли понравилось последнему. А тем временем ситуация складывалась не в пользу любостяжателей. В мае 1511 года митрополитом московским стал архимандрит Симонова монастыря Варлаам. В этой самой обители жил по возвращении в Москву Вассиан, и совершенно очевидно, что поставление нового митрополита произошло при его непосредственном участии. По оценке А.А. Зимина, «позиция нового владыки во внутрицерковных спорах была недвусмысленно «пронестяжательская»[478]. Возможно, избрание Варлаама без соборного участия объясняется не только своеволием государя. Таким образом удалось избежать столкновений с высокопоставленными клириками по поводу данной кандидатуры. В результате при дворе Василия III сложилась конфигурация, подобная той, которую мы наблюдали 20 лет назад при его отце: руководитель правительства (тогда Иван Патрикеев, теперь Даниил Щеня), фаворит государя (тогда Федор Курицын, теперь князь-инок Вассиан, которого великий князь назвал – «подпор державе моей») и митрополит (тогда Зосима, теперь Варлаам – оба, кстати, выходцы из Симонова монастыря) – все они относились к одной партии. Интересно, что Даниил Щеня заседал в Думе вместе с сыном и племянником, так же как в свое время Иван Патрикеев с сыном Вассианом-Василием и племянником Даниилом. При поддержке Варлаама правительству Василия III все же удалось несколько приостановить рост монастырского землевладения. Высказавший данную точку зрения С.М. Каштанов оговорился, что это положение нуждается в проверке. Так или иначе, в 1512 – 1514 годах резко снизилось число жалованных грамот на монастырские вотчины. Одновременно более широкое распространение получила выдача ружных грамот, что представляется симптоматичньм, поскольку денежным жалованием монастрырям – ругой – светские власти пытались заменить земельные или иммунитетные дачи[479]. Князь-инок Вассиан преуспел в другом. Василий III называл Патрикеева-младшего своим «наставником в человеколюбии». Вместе с митрополитом Варлаамом он заступался за опальных и оступившихся. И небезуспешно. Так Василий прощает осужденных в 1504 году еретиков, переводит бывшего новгородского владыку Серапиона из Андроникова монастыря в Троице-Сергиеву обитель, где его положение значительно улучшается. Явно под влиянием Вассиана Патрикеева в апреле 1511 года великий князь велел митрополиту Симону снять отлучение Серапиона. Дело дошло до того, что Василий Иванович прямо выражал желание, чтобы Иосиф Волоцкий отправился с повинной к бывшему архиерею. Тот согласился для виду но, для «истинного христианина» Иосифа покаяние оказалось недоступно[480]. Заручившись поддержкой митрополита, князь-инок предпринял атаку на идеологические бастионы любостяжателей. Предположительно в мае 1511 года, то есть сразу после поставления Варлаама, появилось вассианово «Слово» на «Списание Иосифа». Автор «Списания» скрыто и явно полемизирует с вождем любостяжателей. Если Иосиф цитирует Иоанна Златоуста, призывающего прервать любое общение с еретиками («возлюбленнии, многажды вам глаголах о безбожных еретицех и ныне молю не совокуплятися с ними ни въ ядении, ни в питии, ни в дружбе, ни в любви, творя бо сиа, чюжа себе творит Христовы церъкви»), то Вассиан цитирует Лествицу: «Немощные с еретикы ен ядят, силнии же да на славу божию сходятся». Если Иосиф призывает еретиков и отступников «не токмо осужати, но и проклинати, царем же и князем и судиям подобает сих и в заточение посылати, и казнем лютый предавати», то Вассиан готов простить тех еретиков, что «каются и христиане исповедуются, ибо Господь сказал «милости хошу, а не жрътве»[481]. В это время многие еретики, осужденные в 1504 году, томились в заточении, ожидая прощения, так что выступление Вассиана было продиктовано конкретными обстоятельствами. После Пятидесятницы 27 мая, когда Иосиф услышал в пересказе Зосимы Ростопчина обвинительные речи Вассиана Патрикеева, игумен послал в Москву «к тем, кто до него добр» получить список полемической «тетратки» Вассиана. Иосиф ответил «челобитием» Василию III на новоявленных кирилло-белозерских еретиков, составленным в июле-августе 1511 года. Этот демонстративный шаг Волоцкого игумена наносил урон авторитету кирилло-белозерской корпорации, которую преподобный в первый раз открыто обвинил в «кривоверии». Иосиф продолжил работу над последними главами своего антиеретического «Просветителя». Из них читатель мог почерпнуть вывод о том, что богоотступник способен рядиться в любую личину. «Находясь среди православных, они выказывают себя православными… Если же кто-либо из православных захочет восстать на них с обличением, то они отрекаются от жидовской веры, да еще и проклинают ее последователей». Иосиф убежден, что покаяние не только изменяет образ мыслей еретиков, после покания они сделали еще большее зло. «И кто сможет понять и разобраться, каются они истинно или ложно, как и прежде?»[482] Действительно, кто? Получается, что один только преподобный Иосиф способен отличить православного от кривовера. А те, на кого укажет волоцкий игумен, должны быть беспощадно истреблены, поскольку нельзя православным царям прощать еретиков. Такую ошибку, по мнению Иосифа, совершил Иван III. Государь повелел «святителям проклинать нынешних еретиков и по проклятии сажать их в темницы, где они умирали в муках.. но другие стали каяться, и державный, поверив их покаянию, даровал им прощение»[483]. Из Заволжья на инквизиторские штудии Волоцкого игумена пришел «Ответ кирилловских старцев на послание Иосифа об осуждении еретиков». «Ис Кириллова монастыря старцы, да и все заволжьские старцы положили тому посланию старца Иосифа свидетельства от Божественного писания спротивно, что некающихся еретиков и непокоряющихся велено заточить, а кающихся еретиков и свою ересь проклинающих церковь Божиа приемлеть прострътыма дланьма, грешных ради Сынъ Божий воплотися, приде бо взяскати и спасти погибших»[484]. Заволжцы указывают Волоцкому игумену, что он ставит себя наравне с Всевышним, приписывая право карать и прощать грешников. «Поразумей, господине Иосифе, много розни промежъ Моисея, Илии и Петра апостола и Павла апостола, да и тебе от них. …Еще же Ветхый законъ тогда бысть, нам же в новей благодати яви владыка Христос любовный съуз, яже не осуждати брату брата»[485]. В отличие от энергичных и гневных отповедей Вассиана Патрикеева экспертное заключение заволжских иноков на богословские упражнения преподобного Иосифа не лишено добродушной иронии. Тем не менее старцы твердо и недвусмысленно изобличают ветхозаветные воззрения вождя любостяжателей. Столкновение нестяжателей и иосифлян не ограничилось полемикой. Предпринимается сбор и фабрикация компромата. Иосифов выученик Нил Полев захватил из Заволжья в Волоцкую обитель несколько книг, и в том числе отредактированный и переписанный Нилом Сорским трехтомный Соборник с житийными текстами греческих святых за весь год[486]. Учитывая ценность рукописей и репутацию самого Полева среди белозерских пустынников, трудно представить, что сей бойкий инок получил рукописи легальным путем. Скорее всего, мы имеем дело с тривиальной кражей, сопряженной к тому же с поиском «компромата» на лидеров нестяжательской партии. В библиотеке Волоцкого монастыря хранились специальные подборки текстов идейных противников иосифлян – Нила Сорского, а позже – иноков Вассиана Патрикеева и Максима Грека[487]. Любостяжатели не брезговали и фальсификацией. Так Вассиан Патрикеев, встретив одного из волоцких постриженников Зосиму Растопчина, накинулся на того с попреками: «Вси-де есте отступники Божии и со учителем вашим». Узнав об этом столкновении, Иосиф отписал влиятельному боярину дворецкому Василию Андреевичу Челяднину форменный донос, из которого следовало, что Вассиан «похулил весь святительский и иноческий чин, архимандритов и игуменов и всех называет преступниками». Итак, брань в адрес любостяжателей в интерпретации Иосифа обернулась хулой на всю Церковь. Разумеется, князь-инок тут же был «уличен» в пособничестве еретикам[488]. Волоцкие лазутчики Дионисий и Нил Полев доносили Иосифу, что «нашли следы ереси жидовствующих у двух белозерских пустынников». Иосиф переправил письмо своему брату Ростовскому епископу, а тот представил его великому князю. По настоянию Вассиана Патрикеева прибывшего в Москву свидетеля обвинения подвергли пытке, а доносчиков перевели в Кириллов монастырь. Ростовский епископ обратился не к митрополиту Варлааму, предполагая неблагоприятный исход дела, а через его голову к великому князю. Но благодаря решительному вмешательству князь-инока Вассиана атака была пресечена. Некоторое время Вассиану Патрикееву, не чуждому интриганства и хорошо знакомому с обычаями придворной жизни, удавалось отбивать наступление любостяжателей. Иосиф даже горько жаловался почитателям, что к его мнению в Кремле не прислушиваются. Ему пришлось обратиться к Челяднину с просьбой выхлопотать у великого князя разрешение письменно опровергнуть взгляды Вассиана о милосердном отношении к еретикам[489]. По всей видимости, на этот раз неуспех пропаганды иосифлян объяснялся тем, что Василий III, как и его отец, индифферентно относился к отклонениям от христианских догм и выказывал готовность преследовать еретиков, только когда они были связаны с его врагом Димитрием Иоанновичем. Но теперь, когда война придворных партий канула в Лету, обвинения князь-инока и его соумышленников в ереси оставляли государя совершенно равнодушными. Симфония для одного инструмента Если бы преподобный Иосиф продолжал бить в одну точку, он вряд ли достиг бы успеха. Но преподобный сообразил, что обвинение в еретичестве мало трогает государя, а излюбленная идея о незыблемости церковного имущества и того хуже – придает «любостяжательской партии» характер оппозиции великокняжеской власти. Требовалось предложить нечто такое, что бы вызвало благосклонность власть имущих. И это «нечто» было найдено. До перехода Волоцкого монастыря под патронат великого князя Иосиф ратовал за то, что царю следует оказывать послушание только постольку, поскольку он заботится о православии. Царь лишь Божий слуга, власть Божия выше царской. «Сего ради подобает тем преклонятися и служити телесне, а не душевне, и въздавати им царьскую честь, а не Божественную», – писал он в седьмом слове «Просветителя». (А если царь подвержен скверным страстям и пагубному неверию, то «таковый царь не Божий слуга, но диавол, и не царь, но мучитель»[490].) Любопытно, что Иосиф Волоцкий почти дословно повторяет формулировку Парижского собора 829 года, на котором епископы определили: «Если король управляет с благочестием, справедливостью и милосердием, он заслуживает своего королевского звания. Если же он лишен этих качеств, то он не король, но тиран»[491]. («Мучитель» – по-гречески и есть «тиран».) К схожим выводам в своих трудах приходили Фома Аквинский и Иоанн Солсберийский, о чем Волоцкий игумен мог узнать от своих друзей униатов из окружения Деспины. После того как Иосифова обитель обрела покровительство государя, Иосиф в своих рассуждениях о природе власти заметно меняет акцент. Он по-прежнему настаивает на том, что первейшая задача государя – защита православия. Однако теперь он указывает на сакральный характер светской власти, при которой «царь убо естеством подобен всем есть человекам, в властию же подобен есть Вышнему Богу»[492]. Эта мысль скорее всего позаимствована у византийского писателя Агапита, который полагал, что царь лишь естеством подобен человеку, а «тяжестью своего сана подобен Богу»[493]. Впервые в русской литературе Агапит цитируется в Ипатьевской летописи в записи под 1175 годом, где в «Повести об убиении Андрея Боголюбского»: «естествомъ бо царь земнымъ подобенъ есть всякому человеку, властью же сана вышьше, яко Богъ»[494]. Правда, Агапит уточнял, что император только «пыль земная», что «учит его быть равным всякому». Однако позднейшие компиляторы деликатно опустили подобные «детали». Один из ведущих идеологов евразийского движения философ и правовед Н.Н. Алексеев отмечал, что для иосифлян спасение состоит в учреждении правоверного государства, то есть такого государства, которое всецело сольет себя с установлениями положительной религии и, следовательно, сольет себя всецело с церковью. В то же время для направления, исходящего от заволжских старцев, прежде всего характерно убеждение, что всякое земное государство лежит в грехе, потому что оно никак не может быть точным отображением и подобием божественного порядка[495]. Если иосифлянская церковь сама «давалась» в руки государства, для того, впрочем, чтобы самой выступать во всеоружии государственного могущества, то его противники, наоборот, требовали решительного разделения сферы светской и церковной. Поэтому, как полагал Вассиан Патрикеев, Божья власть должна быть превыше светской – «благо есть уповати на господа, нежели уповати на князя»[496]. Князь-инок указывал Иосифу на пример пророков, которые отстаивали свою правду перед лицом власть имущих: «Ти (пророки) господине, не угожали человеком и о царских судех не брегли. Супротивно всем царем на злых и неугодных соборищех о Христе стояли и страсти претерпели… а нигде ни которому властелину, ни царю, ни князю не повиновалися»[497]. Став приближенным государя, Вассиан не изменил себе, избежал соблазна и не стал ради достижения благих целей восславлять мирскую власть. «Ни в одном христианском направлении не была высказана в столь резкой формулировке мысль: да стоит церковь вне всяких государственных дел!» – пишет Н.Н. Алексеев. Только таким образом пастыри стали бы истинными обладателями чисто духовного авторитета, сдерживающего всякие беззаконные стремления светского государства. Заволжцы стремились не Церковь опустить до состояния государства, но государство поставить под чисто нравственное руководительство церкви[498]. Интересно, что современники Н.Н. Алексеева и товарищи по эмиграции А. В. Карташев и В.В. Зеньковский, сходным образом оценивая отношение «поздних» иосифлян к власти, находили в нем притягательные стороны. По мнению А. В. Карташева, Иосиф Волоцкий исповедовал «идею неразделимости единого теократического организма церкви и государства»[499]. В.В. Зеньковский считал, что возвеличение царской власти не было выражением церковного сервилизма, а было «выражением мистического понимания истории», в котором «преодолевается противопоставление кесарева начала и воли Божьей»[500]. Однако за красивым теоретическим термином «симфония» на практике неизменно открывается цинический альянс церковных и мирских владык, в котором каждая сторона пытается использовать друг друга для упрочения своей власти. Попытка церкви сохранить некий «симфонический» баланс или тем более соревноваться в этом компоненте с государством, заранее обречена на провал: светская власть знает только полное подчинение своей воле, а церковь, пытаясь опереться на авторитет или прибегнуть к прямому вмешательству в дела государства, только усиливает его и тем самым еще более нарушает искомое равновесие. Сомнительна сама необходимость преодоления «противопоставления кесарева начала и воли Божьей» – противопоставления, заповеданного Самим Спасителем. В. В. Зеньковский видит, что «церковь сама шла навстречу государству», но оказывается, она делала это затем, «чтобы внести в него благодатную силу освящения». Таким образом, в царе «утверждается …недоступное рациональному осознанию сочетание божественного и человеческого… движение и превращение земного властвования в церковное»[501]. Если даже согласиться с тем, чтобы безо всяких на то оснований приписать иосифлянам самые благие намерения, все равно мы не увидим никаких последствий воздействия «благодатных сил» на состояние государства, очевидно потому, что гипотетическая синергия кесарева и Божьего оказалась, увы, недоступна «рациональному осознанию» властителей и судей. В.В. Зеньковский согласен с тем, что «в воззрениях заволжских старцев нашло свое выражение главное в воззрениях преподобного Сергия», но оправдывает Иосифа тем, что тот «горячо защищал церковные имущества во имя социальных задач церкви …в связи с принципиальным сближением церковного и государственного бытия»[502]. Однако если церковь растворяется в государстве, «одухотворяя» его, тогда становится неясным, о каких социальных задачах церкви может идти речь – их куда лучше выполнит «одухотворенное» государство. Быть может, философы-эмигранты, скорбно наблюдая одичание большевистской России и угадывая антихристовых предтеч в ее вождях, обманывали себя фантомом праведной власти? Но и сегодня подобные опасные иллюзии имеют место быть. Современный исследователь архимандрит Макарий (Веретенников) с чувством глубокого удовлетворения отмечает, что Иосиф Волоцкий и его ученики были сторонниками «сильной государственной власти, которая должна защищать церковь, имея повиновение перед церковной властью»[503]. В наступившем третьем тысячелетии христианства иосифляне по-прежнему не желают замечать неразрешимого противоречия: власть не способна быть одновременно господином и слугой. Чем больше полагаться на покровительство государства, видя в нем олицетворение силы, способной организовать общественный хаос, чем больше, обманывая себя, способствовать усилению этого государства, тем меньше стоит рассчитывать на его повиновение. Государство, как бы искренне ни старалось идти навстречу церковным нуждам и соответствовать христианским канонам, не способно стать более «духовным», так как этого не требуется для его более эффективной деятельности. В лучшем случае оно украшает себя соответствующими декорациями, дискредитируя тем самым евангельские заветы. В схеме пресловутой «симфонии» государство, органично существуя в социуме, самодостаточно, оно ожидает помощи Церкви, но никогда не рассчитывает на нее в достижении своих целей. Церковь, напротив, пытаясь играть по чужим правилам, «огосударствляется»: из Тела Христова превращается в плотское облачение организации, ведающее отправлением культовых потребностей. Раз потакнув соблазну сослужения власти, Церковь уже боится остаться наедине с миром, обнаруживает пугающую неспособность ответить на вызовы сегодняшнего дня, и потому, каждый раз встречаясь с мало-мальски серьезным испытанием, с испугом и надеждой оглядывается на бюрократический аппарат как на своего естественного защитника. Церковь, которая должна вести к Спасению во Христе, и при этом уповает на административную силу, не только воздает кесарю Божье, она предает свою паству, зависимую от сильных мира сего, вступая с последними в противоестественный союз. Глава 8 ИСКУПЛЕНИЕ ГРЕХОВ Возлюбим же во всем истину, правый разум, святое незлобие и святолепное житие. Московский Савонарола В 1518 году нестяжательская партия получила значительно интеллектуальное подкрепление в лице афонского монаха Максима (в миру Михаила) Триволиса, получившего в Москве прозвище Грек. Он был командирован в Москву по просьбе митрополита, озабоченного значительными искажениями в богослужебных и догматических книгах, которые накопились за столетия в ходе неправильного перевода и многократного переписывания греческих рукописей доморощенными грамотеями. Михаил Триволис родился в 1480 году в албанском городе Арты в знатной и просвещенной семье. За образованием и ученостью он устремился в Италию, давшую приют многим византийским интеллигентам. Здесь в Венеции и городах Ломбардии обосновались родственники Михаила. Молодой грек вел жизнь странствующего студента, переходя из университета в университет, слушая лекции своих знаменитых земляков Эпирота и Томея Халкондила. Эпоха Возрождения диктовала моду на античную литературу, и бежавшие от турецкого порабощения ученые греки оказались востребованными. Важную роль в развитии философии на Апеннинах сыграл византийский епископ Георгий Гемист Плифон, горячий поклонник Платона. После смерти ученого под влиянием его идей глава Флорентийской республики Козимо Медичи учредил в 1459 году ориентированную на древнеафинский прообраз Платоновскую академию[504]. Михаил Триволис учился во Флоренции, где в то время властителями умов были философы Марселио Фичино и Пико делла Мирандола. Молодой грек близко сошелся с графом делла Мирандола, в замке которого он работал в качестве переписчика, переводчика и учителя греческого языка. От итальянского философа странствующий студент почерпнул непримиримость к предрассудкам и прежде всего модной тогда астрологии, преклонение перед свободной волей человека. «О, высшая щедрость Бога-Отца! О, высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть всем, кем хочет!» – писал Мирандола. Некоторое, очевидно недолгое, время Михаил обучался в Падуе, Милане, Ферраре. В Венеции он познакомился со знаменитым типографом Альдо Мануччи, вокруг которого образовалось сообщество из ученых интересовавшихся древними рукописями и античной литературой. По мнению Е.Е. Голубинского, «если бы Максим остался в Италии и занял там одну из кафедр, то, как мы уверены, в числе прославившихся тогда в Италии греческих ученых и профессоров он занял бы одно из самых выдающихся мест»[505]. Но Максим в Италии, как и всюду, искал прежде всего добродетели, а не премудрости. Он застал в Италии не только развитие научных школ, но и сопутствовавшие Ренессансу пороки. Интерес к античности оборачивался возрождением язычества с культом чувственности и торжеством плоти. Почитание разума вело к гордости ума, возвышение человека вырождалось в эгоизм и жестокосердие. Из Флоренции он вынес другое, куда более сильное, чем философские рассуждения неоплатоников, впечатление, которое оказало глубокое воздействие на мировоззрение будущего «богомольца» Московской Руси. В пору угасания веры Римская церковь сама невольно поощряла неверие, являя собой последнюю степень нравственного и интеллектуального падения. Посреди этой мерзости духовного запустения доминиканский монах Иероним Савонарола выступил во Флоренции с проповедью против пороков своего века во имя нравственного очищения и христианского сострадания. Пророческим обличителем восхищались в семье делла Мирандолы. Именно в этом вдохновенном проповеднике и обличителе увидел Максим образец для подражания, именно этот выбор идеала определил его дальнейшую страдальческую судьбу. В 1498 году Савонарола был приговорен папой Александром VI Борджиа к сожжению на костре. «Горячая проповедь Савонаролы и мученическая смерть его, которой он мог быть свидетелем, сделали переворот в его жизни», – полагает автор «Жития преподобного отца нашего Максима Грека»[506]. Больше повезло покровителю Святогорца Пико де Мирандоле. Обвиненный в еретичестве граф был арестован, однако заступничество Лоренцо Медичи спасло его от строгого суда. Пытливый разумом, но чистый сердцем Максим вернулся на родину, разочаровавшись и в итальянском Ренессансе, и католицизме. Недолго побыв во флорентийском монастыре Св. Марка, он отправился искать иноческого подвига на Святую гору. «Житие» объясняет выбор Афона советом Иоанна Ласкариса, византийского ученого-философа, преподавателя Сорбонны, посла французского короля Людовика XII в Венеции. Ласкарис рассказал своему ученику о сокровищах библиотек Афонских монастырей, а особенно Ватопедской обители, хранилище которой пополнили два иночествовавших в ней императора – Андроник Палеолог и Иоанн Кантакузин. Максим поступил в братство Благовещенской Ватопедской обители около 1507 года. А в 1515 году на Афон прибыли послы московского государя боярин Василий Копылов и купец Иван Вараввин, которые привезли богатую милостыню и просьбу великого князя Василия – прислать для перевода греческих книг ватопедского старца Савву. Игумен обители Анфим ответил московскому государю и митрополиту, что означенный старец по немощи своей неспособен к дальнему странствию. «Посему преподобный отец Прот (старейшина над всеми афонскими настоятелями. – М.З.) избрал честнейшего их брата Максима …. как искусного в Божественном писании и способного на истолкование всех книг церковных и Эллинских..»[507] В Москве, куда Максим и его спутники монахи Неофит и Лаврентий прибыли только в начале 1518 года, ученого Святогорца приняли радушно. С большим почетом встретил афонского посланника великий князь и назначил ему пребывание в Чудовом монастыре, а содержание от своего двора. Максим Грек с энтузиазмом принялся за разбор великокняжеской библиотеки. Он признавался Василию, что нигде не встречал столь богатого собрания. Автор «Жития» объясняет это обстоятельство тем, что к тому времени в самой бывшей Византии множество рукописей было уничтожено турками, а греческие оригиналы, вывезенные в Италию, после издания их на латыни, уничтожались католиками. В помощь Максиму дали переводчиков – известного нам новгородца Дмитрия Герасимова и некоего Власа Игнатова, а также писцов Михаила Медоварцева, Исаака Собаку и инока Троице-Сергиева монастыря Силуана. Все это были даровитые и знающие люди. До наших дней дошли 20 рукописных книг, принадлежащих руке Михаила Медоварцева, который не только «златом прописывал» текст в рукописи, но и был создателем и исполнителем орнаментальных украшений. Исаака Собаку ценили как книгописца настолько, что впоследствии, несмотря на церковное отлучение, он был назначен архимандритом Симонова монастыря. «Беседы Иоанна Златоуста» в переводе инока Силуана получили широкое распространение не только в России, но и у южных славян[508]. Сам процесс работы с текстами протекал весьма своеобразно: так как Максим не знал русского языка, он переводил греческий текст на латынь, а его помощники уже с латинского переводили на русский. Герасимов в письме в Псков дьяку М. Мунехину сообщает: «Ныне господин Максим Грек переводит Псалтырь с греческого Толковую великому князю, а мы с Власом у него сидим переменяясь: он сказывает по-латыни, а мы сказываем по-русски писарям, а в ней 24 толковника»[509]. Максим не скрывал, что при таком способе перевода в текст могут вкрасться ошибки. Работа над Толковой Псалтырью заняла почти полтора года. Представляя свой труд великому князю, Святогорец просил своим сотрудникам достойного вознаграждения, а ему с афонскими собратьями дозволения вернуться на родину: «Избавь нас от печали долгой разлуки, возврати безбедно честному монастырю Ватопедскому, давно уже нас ждущему..» – обращался он к государю[510]. Василий III «с радостию принял эту книгу и почтил трудившихся не только похвалами, но и сугубою мздою». Однако на Афон вернулись иноки Неофит и Лаврентий, а Максиму было поручено перевести толкования Иоанна Златоуста на Евангелия от Матфея и Иоанна, другие догматические сочинения, на него также возложили исправление богослужебных церковных книг. Научившись понимать русскую речь, осознав, что Москва для него оказалась не кратковременным пристанищем, а домом и местом работы на долгие годы, Максим стал пристальнее всматриваться в происходящее вокруг. Наблюдения его пытливого и восприимчивого ума, разъяснения Вассиана Патрикеева и митрополита Варлаама помогли глубоко прочувствовать русскую жизнь, он «узнал наше доброе и лихое» и принимал близко к сердцу беды и радости. Круг общения расширялся. Максимова келья в кремлевском Чудовом монастыре превратилась в своеобразный клуб московских интеллектуалов, среди которых были игумен Троицкой обители Артемий, живописец Дионисий, молодые придворные Михаил Шуйский, Андрей Хованский, Василий Тучков. Посетители кельи в Чудовом беседовали о «цареградских обычаях», «спирались меж себя о книжном»[511]. И не только о книжном, но и о перипетиях московской политики. Собеседники Святогорца вряд ли сдерживали свои чувства, а особо отличатся опальный боярин Иван Никитич Берсень-Беклемишев, который рисовал поведение московских властей самыми мрачными красками: по его мнению, великий князь, в отличие от своего отца, который любил, чтобы ему свободно говорили правду, ни с кем не советуется и сердится, когда ему противоречат; митрополит в отличие от прежних «не печалуется ни о ком, и слова поучительного от него не услышишь». Преболе всех Берсень невзлюбил Софью Палеолог: «Как пришла сюда мать великого князя Софья с вашими греками, так и пошли у нас нестроения великие». Максим постарался заступиться за византийскую принцессу, но неожиданно для себя самого заслужил упреки от бранчливого боярина: «Да вот и тебя, господин Максим, взяли мы со Святой Горы, а какую пользу от тебя получили?» Максим, похоже, растерялся от подобного выпада: «Я – сиротина, какой же от меня и пользе быть?» – «Нет, ты человек разумный и мог бы нам пользу принести, и пригоже нам было тебя спрашивать, как государю землю свою устроить, как людей награждать и как митрополиту вести себя», – настаивал Иван Никитич. «У вас есть книги и правила, можете и сами устроиться». Хозяин кельи явно уходил от ответа[512]. Максим не стремился вступать в бессмысленную дискуссию с возбужденным оппозиционером, хотя ясно видел, что «самим устроиться» московитам не удается. Здесь он застал те же пороки, что и в ренессансной Италии, только проистекали они из причин противоположного свойства. Если гордость ума в Италии происходила из пресыщения науками, то на Руси из невежества и нерадения к наукам. Если в Италии царило всеобщее охлаждение к христианской добродетели, религиозный индифферентизм превратился в модное увлечение, то в России под покровом горячего и искреннего религиозного чувства Максим обнаружил слепое следование внешней стороне христианского учения, без глубокого осознания его смысла и даже без малейшего стремления к осознанию. Если в Италии язычество возрождалось и оттесняло на второй план христианство, то в России язычество тесно переплелось с православием и мирно с ним сосуществовалоуже пять веков. Само духовенство, призванное наставлять паству на путь христианского спасения, было подвержено невежеству, суевериям, сребролюбию и плотским грехам. Святогорец по-прежнему прилежно исполнял обязанности переводчика и толкователя, но вместе с тем он все явственнее ощущал, что пепел Савонаролы «стучит в его сердце», призывая к обличению зла, исправлению заблуждений, прославлению добродетели. И он взялся за перо. Более 350 произведений создал в России Максим Грек, в которых затронул самые болезненные вопросы русской жизни от глобальных до самых, на первый взгляд, малозначительных: от устройства верховной власти до опровержения суеверия, гласившего, что из-за погребения утопленника или убитого случается великая стужа[513]. Он обличал еретическое кривоверие и волховство, планы соединения православия с латинством, увлечение внешней стороной благочестия и лицемерное прилежание, лихоимство, чревоугодие и пьянство, подкупы и взятки, моду на астрологические предсказания, ростовщичество. Максим растолковывал места из Священного Писания, произведений Св. Отцов, разъяснял значение обрядов, молитв и икон, рассказывал о многовековом опыте византийской церкви. Он высказывал свое мнение о совершенном иноческом житии и об устроении церковной жизни в целом, размышлял о христианских добродетелях и путях их достижения, наставлял своих учеников и корреспондентов.  Максим Грек. Рисунок из рукописи
О том, что служило Максиму поводом для публицистического выступления и об особенностях его творческого мышления, можно судить по его «Слову о том, какое исповедание надлежало бы епископу Тверскому принести Создателю, после того как сгорел соборный храм и весь двор его со всем имуществом, также самый город Тверь, где сгорело множество иных храмов, обывательских домов и людей, казнимых гневом Божиим, что было 22 июля 1537 года, и какой боголепный ответ последовал бы ему от Господа, чему следует внимать со страхом и нелицемерною верою». Дело в том, что по велению епископа Акакия в Твери был выстроен новый прекрасный соборный храм, который, однако, вскоре сгорел, что, по мнению Максима, служило знаком того, что Господь с гневом отверг это приношение, составленное «от неправедных и богомерзких лихоимств и от приобретений, получаемых посредством похищения чужих имений». От лица самого Господа Максим напоминает тверичам о страшной судьбе своей родины, о погибели «великолепного и сильнейшего Греческого царства». В «Слове..» Максима как бы сам Господь Бог наставляет тверичей: «Вспомните, какое благолепное пение, с каким благозвучным звоном колоколов и с какими благовонными курениями, обильно совершалось Мне там каждый день; сколько совершалось всенощных пений во дни церковных праздников и торжественных дней; какие воздвигались там Мне прекрасные, высокие и чудные храмы, и в них сколько хранилось апостольских и мученических мощей, точащих обильные источники исцелений; какие хранились там сокровища высочайшей мудрости и всякого разума. И все это никакой не принесло им пользы, так как вдовицу и сира умориша и пришельца убиша..»[514] Максим убежден и пытается убедить своих читателей в том, что Спаситель готов принять приношение только в том случае, «если оно будет запечатлено Моею заповедью, то есть, если отнятое разбойнически и немилосердно, вы возвратите обиженному; если очистите свою душу теплыми слезами с воздыханием из глубины сердца, чистосердечным исповеданием своих скверных дел и милостынями нищим; если, оставив пьянство и всякие скверные дела, возлюбите целомудренную жизнь»[515]. Очевидно, что для Грека гибель в огне тверского храма только повод для того, чтобы размыслить о самой сути христианского воздаяния, о пороках, присущих не только тверичам, или пастве русской церкви, но и всем православным христианам. Правда, не желая того, вдохновенный публицист задел, в первую очередь, владыку Акакия, с которым у него сложились вполне добросердечные отношения. Поэтому после того, как храм был восстановлен, Максим посчитал необходимым выступить с «Похвальным словом по поводу восстановления и обновления епископом Тверским Акакием церковного здания после бывшего пожара». Слуга и раб Публицистическая активность Святогорца вызвала горячий отклик в русском образованном обществе. Как установили исследователи, еще при жизни Максима под непосредственным наблюдением автора стали создаваться собрания его сочинений. Выявлено 25 списков этих рукописных сборников, датируемых XVI веком[516]. Понятно, что многих читателей задевали за живое эти необычные для Руси темпераментные обличения, тем более – исходящие от иноземца. Под подозрением оказывалась фигура сочинителя и вся его деликатная деятельность по переводу и исправлению догматических и богослужебных книг. Но судьба московского Савонаролы, возможно, сложилась бы более удачно, если бы он не прибавлял к своим нравоучительным проповедям памфлеты против политических противников нестяжателей и назидания власть предержащим. Афонец не был ни приверженцем исихазма, ни горячим противником монастырской собственности. Тем не менее этот прямодушный праведник и искушенный богослов быстро разобрался в расстановке сил, сложившейся в Москве, в сути волновавших москвичей вопросов и решительно встал на сторону нестяжателей. Первой совместной работой Максима и Вассиана Патрикеева была новая редакция Номоканона или Сводной Кормчей книги – свода церковных и гражданских законоположений Византийской империи. На основе сербской Кормчей XIV века Вассиан создал авторское сочинение в виде обширного канонического трактата[517]. К Номоканону, который был преподнесен самому Василию III, князь-инок присовокупил так называемое «Собрание некоего старца» – своего рода приложение, в котором он вновь обрушился на стяжателей. В следующие редакции вассиановой Кормчей были включены статьи Максима Грека, где тот, в частности, разъяснял, что понятие о праве монастырей на владение «селами» сложилось в результате ошибки переводчика. Сказалось, что слово «проастион», встречающееся в византийских кормчих, означает «пашни и винограды, а не села с житейскыми христианы»[518]. По мнению А.И. Плигузова, Максимов перевод слова «проастион» «не лишен немалой доли лукавства»[519]. В таком случае святогорец сознательно потрафил Вассиану и его соумышленникам. Максим в вопросе о монастырских стяжаниях следовал не византийской старине, а заветам своего кумира Савонаролы, который своих проповедях восставал против папы Александра VI, бичуя «бесчестную Церковь», которая благодаря роскоши превратилась в «бесстыдную девку». В «Прении о твердом иноческом жительстве, где лица спорящие суть: Филоктимон» и Актимон, то есть любостяжательный и нестяжательный, Максим в форме диалога представил все возможные доводы иосифлян и ссылки на Священное Писание, оправдывающие монастырское землевладение, и последовательно показал их несостоятельность. «Не спеши, возлюбленный, злословить доброту нестяжания, составляющую евангельскую и отеческую заповедь и повеление; ибо ты никак не можешь никакими боговдохновенными писаниями доказать, чтобы многостяжание было полезно для посвятивших себя иноческой жизни, а напротив, везде найдешь, что это возбранено..»[520] Так устами нестяжательного Актимона Максим обнародовал свою точку зрения в споре, выходящем за рамки внутрицерковной дискуссии. Милостыня от мирян, оплачиваемая трудом их непрестанного христианского учения, – вот, по Максиму, средство содержания монахов[521]. Святогорец в глазах иосифлян превратился во врага не менее грозного, чем князь-инок Патрикеев. Число недругов Максима неумолимо росло. «Когда смелый обличитель зла указывал на жестокость и несправедливость сильных в отношении подчиненных, на неправду и продажность в судах, на равнодушие духовенства к общественной нравственности и иные недостатки; то немало лиц чувствовало себя задетыми его укорами и раздражалось против него, – сообщает автор «Жития..». Довольно долго эти враги Максима негодовали на него в тайне, ибо он имел много друзей и сильных покровителей: митрополит Варлаам был к нему благосклонен; великий князь любил беседовать с ним. Максим имел к нему свободный доступ и часто ходатайствовал пред ним за несчастных и осужденных»[522]. Митрополит, пропахший серой Однако «роман» Василия III с нестяжателями оказался недолгим. Исследователи указывают на то, что великому князю стали докучать «печалования» и нравоучения нелицемерных его советников. Время, когда Василий переменил отношение к князь-иноку Патрикееву и митрополиту Варлааму, можно установить с достаточной уверенностью. В 1515 году произошло два события, которые породили житейские обстоятельства, способствовавшие более тесным контактам между государем и любостяжателями. В этом году умер князь Федор Борисович и Волоцкий удел отошел к великому князю. Летописец особо отмечает, что в апреле 1515 года Василий впервые был «в своей отцине на Волоце на Ламском на свою потеху»[523]. Впервые за десять лет правления! А ведь в этих местах находились излюбленные охотничьи угодья. Судя по летописной записи, Василий выехал на Волок 14 сентября, а вернулся на «Димитриев день» – день памяти Дмитрия Солунского – 26 октября, то есть великий князь пробыл в своих новых владениях больше месяца. В этом же году умер преподобный Иосиф, который завещал Василию не оставлять вниманием его обитель. Государь до самой смерти недолюбливал игумена и после его смерти мог посетить его обитель, не испытывая раздражения. В том же 1515-м, напомним, скончался Даниил Щеня, что значительно ослабило позиции заволжцев. Новый глава Думы остался неизвестен. Очевидно, это был маловлиятельный боярин, не способный воздействовать на государя силой своего авторитета. С этих пор, зачастую бывая в монастыре, государь охотно внимал сладким словесам иосифовых питомцев, выгодно отличавших их от обличений и ходатайств нестяжателей. Окончательное охлаждение произошло в 1521 году. Наиболее драматичным событием этого года стал поход на Москву крымского хана Мухаммед-Гирея, который в июле внезапно («безвестно») подступил к самой Москве. Хан собрал большое войско, в котором кроме «крымских людей» были заволжские ордынцы и ногаи. Василий, следуя многовековой традиции Рюриковичей, бросил столицу на произвол судьбы, чтобы собрать войска для отражения угрозы. (Насколько помнится, эту тактическую задачу не удалось решить ни одному из князей-бегунов.) Поведение Василия III во время ордынского набега произвело весьма неблагоприятное впечатление на москвичей. Так, Сигизмунд Герберштейн, рассказывая о первом применении Василием полевой артиллерии летом 1522 года, высказывает предположение, что тем самым великий князь решил загладить позор прошлогодних событий – «от самого позорного бегства, во время которого, как говорили, он прятался несколько дней под стогом сена»[524]. Возможно, Василий пережидал набег в более комфортабельной и приличествующей его статусу обстановке, известно только, что в это время великий князь находился «на Волокъ» в гостях у иосифовых выучеников. Зная нелицемерный и горячий нрав наших нестяжателей, можно предположить, что они не преминули обличить трусость государя. Судя по тому, что главным пострадавшим оказался митрополит Варлаам, в роли обличителя выступил именно он – «человек твердый и не льстец великому князю, ни в каких делах противных совести»[525]. Позорная ретирада великого князя явно относилась к такому противному совести делу. И Патрикеев-младший, и Варлаам, разумеется, прекрасно знали историю «стояния на Угре» и обращение Вассиана Рыло к Ивану III в интерпретации близких к нестяжателям московских книжников. Но если тогда государя предостерегали от опасности превратиться в «бегуна», то Василий III в полной мере заслужил это позорное прозвище. Поведение великого князя особенно выделялось в обстановке подъема патриотических чувств, который испытывало русское общество в начале нового века, что, в частности, проявилось в создании «Сказания о Мамаевом побоище»[526]. Тем паче поступок потомка Димитрия Донского представал в невыгодном свете. Василий в полной мере соответствует типическому образу сына талантливого отца. (Хотя если в истории России какой-нибудь политик заслуживает эпитет «гениальный», то его, несомненно, стоит отнести к Ивану III). Способностей его хватало лишь на то, чтобы не разрушать созданного предшественниками и по возможности проводить прежнюю политику – что на самом деле не так уж и мало. Он был человек незлой, но малодушный, способный оценить добро и сам готовый на благодеяния, но в то же время подверженный мелким эгоистическим порывам и даже мстительности. Такие люди редко становятся злодеями, но нередко попустительствуют злодейству. Он ценил мудрость и опыт Вассиана Патрикеева, но ценил и угодливость иосифлян, и не имел достаточных нравственных сил и проницательности, чтобы сделать правильный выбор. В декабре 1521 года Варлаама свели с митрополичьей кафедры и сослали в заточение в Каменный монастырь на Кубенском озере. Как нетрудно догадаться, новьм предстоятелем русской церкви стал достойный ученик преподобного Иосифа игумен Волоцкого монастыря Даниил. Похоже, что именно он утешал Великого князя, когда тот пережидал татарский набег на берегах Ламы. Василий Иоаннович отныне не был расположен выслушивать ходатайства за несчастных и осужденных, он охотнее внимал другим, более приятным, речам и другим, более обходительным и покладистым, собеседникам. В отличие от Иосифа с его подозрительными удельными связями, тираноборческими заклинаниями, пусть и оставшимися в прошлом, Даниил всегда полагал, что «подобает покорятися, а не противитися властем, Божие повеление творящим». Кроме того, новый митрополит старался обходить такую опасную тему, как монастырские стяжания. У Даниила находится меньше замечаний о святости прав монастырей, чем в сочинениях его учителя[527]. «Вообще как деятеля и как нравственное лицо мы знаем Даниила только с худых и отталкивающих его сторон, – сообщал не склонный к «очернению» иосифлян Е.Е. Голубинский. – Честолюбивый, искательный, на месте митрополита покорный слуга и раб великого князя до забвения своих обязанностей, способный к таким действиям угодничества, при которых требовалось вероломное клятвопреступление, исполненный беспощадной ненависти к своим врагам и готовый на всякие средства для их уничтожения..»[528] Быстро позабыв аскетическую монастырскую жизнь, Даниил увидел выгоды первосвятительского сана во внешней пышности и многочисленных возможностях угождать своему тщеславию и плотским утехам. По описанию Герберштейна, Даниил был «человек дюжий и тучный, с лицом красньм», что, по мнению дипломата, свидетельствовало о том, что «он был предан более чреву, чем посту и молитвенным бдениям». Несоответствие между искомым обликом духовного пастыря и раблезианской внешностью нового митрополита было столь неприличным, что, по свидетельству того же Герберштейна, «когда нужно было являться в народе для служений, он придавал лицу своему бледность посредством окуривания себя серой»[529] Однако косметические ухищрения сего иосифлянина кажутся милой слабостью на фоне прочих его поступков. Первым стало клятвопреступление. Под подозрением великого князя давно находился удельный князь Василий Шемячич. Однажды в 1517 году тому удалось оправдаться от наветов своих недругов, но государь снова призвал его к себе на разбирательство по поводу обвиненений в тайной связи с польским королем Сигизмундом. Шемячич решил подстраховаться и попросил выслать ему охранные целовальные грамоты. Даниил поручился за его безопасность, дав клятву на иконе Богоматери. Несмотря на это, в Москве Шемячича схватили и бросили в заточение, где он умер шесть лет спустя. Даниил не только не заступился за князя, но после и хвастал тем, что избавил государя от «запазушного врага». Тень черной вдовы В первые годы пребывания Святогорца в Москве (1518 – 1521) в его творчестве преобладали богословские и нравоучительные произведения. На период с 1521 – 1525 годов, то есть с момента низложения Варлаама до соборного осуждения в 1525-м самого Святогорца приходится его публицистическое вмешательство в политическую жизнь Московской Руси. До разрыва Василия III с нестяжательским кружком Максим, как мы знаем, имел «свободный доступ» к великому князю. Все свои суждения относительно роли властителя Святогорец мог высказывать государю лично, и потому вряд ли имел надобность в письменных посланиях, тем более предназначенных для читающей публики. Но когда положение Максима и его друзей изменилось и Василия плотным кольцом окружили иосифляне во главе с Даниилом, нестяжателям не оставалось ничего другого, как апеллировать к государю и общественному мнению посредством публицистики. И вот из-под пера Максима выходит «Послание к православным правителям об управлении и о том, чтобы они судили богоугодно и вместе милостиво». Послание адресовано к Василию, и, хотя автор обращается к высокопоставленному адресату непривычно интимно – «добрейший Василий, благородного корня благородная ветвь», трудно предположить, о каком православном правителе по имени Василий, кроме великого князя, может идти речь. Очевидно, это произведение написано до расправы с Шемячичем и окончательного разрыва с государем, так как оно составлено в благодушном, нравоучительном тоне и содержание его не связано с актуальными событиями. «Земное же достохвальное и благочестивое царство украшает и ведет всегда к лучшему преуспеянию богодарованная премудрость благоверного царя, растворенная всякою правдою и кротостию, попечением о подчиненных и доброхотным расположением к нам» – так рассуждает автор «Послания..»[530] После коварного и жестокого поведения великого князя в отношении Шемячича призывы к «правде и кротости» становились неуместными. Настало время не наставлений в добродетели, а нелицеприятных обличений. И вот появляется куда более резкое по тону «Слово, в котором пространно и с жалостию излагаются нестроения и безчиния царей и властей последняго времени». Уже из названия видно, что Максим не собирается советовать или взывать к добротолюбию, а бичует пороки современного царствования. Это не послание к конкретному лицу, а памфлет, обращенный ко всем добрым христианам. Сюжетную основу «Слова» составляет встреча путника, бредущего «по трудному и многоскорбному пути» с женщиной по имени Василия – Царственная: «Это превосходное наименование я получила от Вышняго, так как владеющие мною должны быть крепостию и утверждением для подчиненных им, а не пагубою и постоянным смятением. Таково значение на греческом языке имени Василия». Пустынный путь, на котором состоялась эта встреча, «образует собой нынешний последний окаянный век, как лишенный уже царей благочестивых и опустевший ревнителями Отца моего небесного, ибо все ищут своих си, а не Божия.»[531] К числу «неисцельных скорбей» Василии «принадлежит и то, что управляющие ныне мною, по причине великой своей жестокости, нисколько не принимают от своих доброжелателей полезных советов», – явный намек на опальных нестяжателей[532]. Далее Василия печалуется на то, что у нее нет таких поборников, «какие были у меня прежде»: «Нет у меня великого Самуила, священника Бога Вышнего, который дерзновенно встал против Саула, ослушавшегося меня; нет Нафана, который богомудрой притчей уврачевал царя Давида и избавил его от страшного падения»[533]. Далее следуют примеры прочих библейских и византийских героев, однако они являются развитием аналогии, а первые два библейских персонажа, пришедшие на ум сочинителю, явно имеют конкретные прообразы – митрополита Варлаама и князь-инока Вассиана Патрикеева. Напомним, что одним из прегрешений израильского царя Саула стала бичуемая верховным пастырем иудеев Самуилом пассивность властителя по отношению к набегам амаликитян, которые, подобно татарам в южной части Руси, разоряли южные районы Ханаана, учиняли там грабежи и убийства, после чего исчезали в пустыне прежде, чем поспевала помощь (1 Царств. 15). Этот библейский эпизод перекликается с позорным поведением Василия во время набега Мухаммед-Гирея в 1521 году и его возможными столкновениями по этому поводу с митрополитом Варлаамом и Вассианом Патрикеевым. Кроме того, царь Саул в отсутствие первосвященника, по сути присвоив его сан, воздавал жертвоприношения Иегове. Разгневанный Самуил предрек конец его царствованию: «Господь найдет себе мужа по сердцу Своему, и повелит Господь быть вождем народа Своего, так как ты не исполнил того, что было поведено тебе господом» (1-я Царств. 13, 14). Максим явно указывал на противозаконное, в обход патриаршего благословения, совершенное по воле великого князя, поставление Даниила митрополитом. Другой упомянутый Максимом ветхозаветный праведник пророк Нафан рассказал царю Давиду притчу о богаче, который, желая угостить путника, пожалел заколоть овцу из своего обширного стада, а отнял у бедняка его единственную овечку. Этой аллегорией пророк намекал на то, что царь вероломно взял к себе приглянувшуюся ему Вирсавию, предварительно подстроив гибель ее мужа Урии. Выслушав рассказ Нафана, Давид осознал глубину своего падения и искренне раскаивался. (2-я Царств, 12). Это уже явный намек на происходящее в Кремле непотребство: Василий решил под предлогом бесплодия избавиться от своей супруги Соломонии Сабуровой, чтобы жениться на молодой красавице Елене Глинской – «лепоты ради ея лица и благообразия возраста». Намек Максимов был тем опасен, что Господь поразил болезнью сына Давида, рожденного от Вирсавии. Митрополит Даниил не собирался следовать Нафану: он не только не пытался отговорить великого князя от его намерения, но, поправ церковные и людские законы, благословил развод. Великая княгиня должна была отправиться в суздальский Покровский монастырь. Приведенная насильно в церковь для пострижения, Соломония растоптала иноческое облачение, отказалась произносить обеты, криком заглушала слова женщины, произносившей обет за нее. Тогда приближенный Василия III Шигона-Поджогин ударил княгиню плетью, чтобы она замолчала. Именно Соломония, против воли облаченная в монашеский черный куколь, вдова при живом муже, могла послужить Максиму прототипом его Василии, «одетой в черную одежду, приличную вдовам», горюющей в окружении хищных зверей. Позже Андрей Курбский описал Соломонию, как «зело нужную (испытывающую большую нужду. – М.З.) и уныния исполненную, сииречъ жену, ему Богомъ данную, святую и неповинную[534]. В исторической литературе время написания Максимова «Слова…» относится к периоду боярской замятии, когда ввиду малолетства Ивана IV власть переходила от одной партии к другой. В произведении Грека речь идет о «нестроениях и бесчиниях царей и властей последнего времени», однако эта множественность не обязательно подразумевает сменявшие другу друга в междуцарствие боярские группировки. Так, в «Слове» упоминаются еще «нестроения» византийских властителей, то есть пределы «последнего времени» распространяются на многие десятилетия. Греку, как и многим писателям того времени, вообще свойственно, отталкиваясь от конкретного случая, рисовать эпические полотна со множеством действующих лиц, обращаясь к истории разных времен и народов. Не исключено, что Святогорец мог написать «Слово…» еще при жизни Василия III. Расправа Даниил только искал повод, чтобы расправиться с Максимом. Он озлобил митрополита не только принадлежностью к противоположной партии: Святогорец выступил непосредственно против Даниила, считая его поставление «бесчинным», незаконным, без благословения константинопольского патриарха. Сторонники русской автокефалии приводили свои аргументы, слабо согласующиеся между собой. Один состоял в том, что святые места Востока и православные иерархи умалились, оказавшись «в области безбожных Турок поганого царя». Кроме того, в Москве указывали на то, что Константинопольский патриарх прислал благословенную грамоту, разрешающую самостоятельное поставление русских митрополитов. Правда, эта фантастическая грамота так и не нашлась, а на первый пункт Максим специально ответил «Сказанием о том, что не оскверняются святая николи же, аще и многа лета обладаеми суть от поганых». Даниил исподволь, но настойчиво подготавливал дело против «высокоумничающего» богослова. Не без провокационного умысла он возложил на Максима послушание перевести Историю церкви Феодорита[535]. В эту книгу входят многие еретические тексты, и Святогорец не скрывал сомнений относительно полезности подобного чтения для русских читателей. Возможно, он заподозрил, что подобный заказ – уловка, которая позволит впоследствии выдвинуть против него обвинения. В любом случае ученый отнесся без особого рвения к заданию митрополита. Между тем иосифляне придирчиво просматривали сделанные Максимом переводы, выискивая все, что могло служить обвинениями в сознательном искажении, кощунстве или ереси. Оставалось ждать момента, когда противники Даниила своим нелицеприятным прямодушием прогневят великого князя, чтобы дать ход собранным материалам. Случай не заставил себя ждать. Василий решил развестись с Соломонией Сабуровой. Трудно судить, как общественное мнение реагировало на замысел государя. Скорее всего, суждения были самые разные: кто-то жалел добродетельную Соломонию, но опасался распрей ввиду отсутствия прямого наследника, кто-то обличал Василия за плотские похотения и небрежение к христианским законам. Боярская дума поддержала намерение Василия исходя из государственных соображений и представлений о праве великого князя самостоятельно разбираться со своими «удельными» семейными проблемами. Однако развод вступал в противоречие с евангельскими заповедями и обычаями православной церкви. Даже угодливый Даниил не сразу решился дать разрешение на расторжение брака. Реакция же нестяжателей была предсказуемой. Когда Василий пожелал узнать мнение Вассиана Патрикеева относительно своих матримониальных планов, князь-инок сравнил его вопрос с «вопрошением Иродиады о главе Иоанна Крестителя». Максим Грек обратился к Василию с наставлением, в котором убеждал его не покоряться плотским страстям: «Того почитай истинным самодержцем, о благовернейший Царь, кто управляет подданными по правде и по закону, а бессловесные похоти своей души старается преодолеть в себе. Кто же побеждается ими, тот не есть одушевленный образ Небесного Владыки, а только человекообразное подобие бессловесного существа»[536]. Последние слова Максима – злая пародия на пропаганду иосифлян, твердивших, что, хотя телесно самодержец подобен всем остальным людям, во власти он подобен Богу. Поначалу кара обрушилась на боярина Берсень-Беклемишева. Ивана Никитича высоко ценил прежний государь, доверявший ему деликатные дипломатические поручения. Берсень участвовал в важнейших переговорах и при Василии, которому, правда, в конце концов надоели советы настырного и гордого боярина. Не сошлись они по вопросу «литовских дел» и споре вокруг смоленских земель. Видимо, прежний сотрудник Ивана Патрикеева выступил за союз с Литвой против Крыма. Для человека, всю жизнь находившегося в центре политических событий, удаление от двора стало страшным ударом. Он принялся укорять великого князя за «несоветие», «упрямство» и «высокоумие», а развод с Соломонией послужил поводом для еще более желчных обвинений. Терпение Василия III лопнуло, и в феврале 1525 года Берсеня и его приятеля – дьяка Федора Жареного привлекли к суду. Максим был вызван на процесс в качестве свидетеля. Его келейник подтвердил, что к ученому ходили многие лица, толковали с ним об исправлении книг, а когда приходил Берсень, то Святогорец подолгу беседовал с ним наедине. Максим, не таясь, рассказал о крамольном содержании их бесед. Эту откровенность можно объяснить малодушием, или неспособностью, либо нежеланием лгать и изворачиваться под клятвой, но, безусловно, показания Грека повредили Берсеню, который был казнен через отсечение головы. Подвергся опале и другой критик развода с Соломонией Семен Федорович Курбский, муж праведной жизни, как и Берсень, всю жизнь верой и правдой служивший престолу. Наконец дело дошло и до Максима Грека, который на сей раз стал не свидетелем, а главным обвиняемым на соборе в присутствии великого князя, его братьев, митрополита, архиереев и бояр. Письмо Даниила от 24 мая 1525 года называет две главные причины церковного осуждения Максима: «хулу глаголяша на Господа Бога…. иже взыди на небеса и седе одесную Отца» и о «поставлении митрополитов развращаше множество народов… яко не подобно есть поставляться митрополиту на Руси своими епископы»[537]. На суде Михаил Захарьин поведал собравшимся легенду о «римском» учителе Максима, уклонившемся вместе с учениками в «жидовство» и сожженном по приказу римского папы. Похоже, что в представлении боярина смешались смутные известия об осуждении Савонаролы с еще более смутными сведениями, возможно касавшимися жизненного пути Абулафии, который во время пребывания в Италии по приказу папы Николая III был брошен в римскую тюрьму. Обвинители на процессе 1525 года с особым пристрастием указывали на то, что переводя предложение «Христос седе одесную отца», Максим использовал прошедшее время – «седев». Святогорец указывал на грамматическое значение указанных слов, которые значились в прошедшем времени, оправдывал ошибки недостаточным знанием славянского языка, умолял о помиловании, но его осудили как еретика и нераскаявшегося грешника и отлучили от Святого причастия и хождения в церковь. Осужденного тайно вывезли в Волоцкий монастырь (а куда же еще!) для покаяния и исправления, запретили сочинять и с кем-либо переписываться. В качестве надсмотрщика к Святогорцу приставили некоего старца Тихона, а «духовного отца» – старца Иону. Питомцы Иосифа в качестве основных орудий исправления грешника использовали «голод, и холод, и смрад, и угар», которые терпел Максим в своей тесной келье. Впрочем, ради справедливости отметим, что какие бы притеснения не испытал Максим на своем мученическом земном пути, судьба была к нему более благосклонна, нежели к его кумиру – Джироламо Савонароле. Московские иерархи все же уступали в жестокосердии своим итальянским коллегам. Глава 9 ПОД ТЯЖКИМ БРЕМЕНЕМ ТЕРПЕНИЯ Наши же предстоящие, владея множеством церковных имений, только и помышляют о различных одеждах и яствах; о христианах же, братиях своих, погибающих от мороза и голода, не прилагают никакого попечения… Но, увы, уже в нынешние времена многие начальники о своих подданных и сиротах не заботятся, позволяют угнетать их лживым наместникам, об охране должной препорученного им стада не радеют, под тяжким бременем терпения жить своих подданных оставляют. Завещание Василия III Отныне, после насильственного пострижения Соломонии Сабуровой в Покровский Суздальский монастырь, Василий и его семья оказались в плотном кольце иосифлян. Даниил занял место митрополита Варлаама, а родственник Иосифа – Вассиан Топорков заменил своего тезку князь-инока Патрикеева на вакантной позиции «великого сохлеб-ника» государя. Эти святые отцы активно содействовали Василию в бракоразводном деле. Впрочем, они усердно потворствовали не только матримониальным устремлениям государя, но и тешили его самолюбие, возвеличивая его власть, усердно взращивая самодержавную идеологию в духе своего незабвенного учителя. По словам императорского посла Сигизмунда Герберштейна, «из советников, которых он имеет, ни один не пользуется таким значением, чтобы осмелиться разногласить с ним или дать ему отпор в каком-нибудь деле. Они открыто заявляют, что воля государя есть воля Божия и, что ни сделает государь, он делает по воле Божьей. Поэтому также они именуют его ключником и постельничьим Божиим; наконец, веруют, что он – свершитель Божественной воли. Отсюда и сам государь, когда к нему обращаются с просьбами за кого-нибудь пленного… обычно отвечает: «Если Бог велит, то освободим»[538]. Герберштейн приезжал в Москву дважды. Первый раз в 1517 году, когда иосифляне уже теснили нестяжателей при дворе, и второй раз – в 1526 году, когда они торжествовали окончательную победу. Именно воспоминания о второй поездке легли в основу записок Герберштейна. В частности, дипломат замечает, что целью его визита в Москву было посредничество в подписании мира между Русью и поляками, а именно этим занимался посланник императора в 1526 году в Москве. Описывая политические воззрения кремлевских обитателей, Герберштейн имеет в виду не русских бояр или придворных великого князя вообще, а, как явствует из текста, конкретных людей – «советников, которых он имеет», то есть достаточно узкий круг приближенных, хотя почему-то этот отрывок историки обычно приводят в качестве иллюстрации настроений всего русского общества. Возможно, тому виной следующая сентенция автора – «народ по своей огрубелости требует к себе в государи тирана, или от тирании становится таким бесчувственным»[539]. Но подобное морализаторское обобщение скорее дань литературным вкусам эпохи, чем попытка вскрыть российские социальные язвы. Стоит отметить, что не советники поддакивают государю, скорее он повторяет вслед за иосифлянами: «…отсюда и сам государь..» Появление на митрополичьей кафедре Даниила не принудило князь-инока Патрикеева к молчанию. В последующие годы, уже после смерти Иосифа в сентябре 1515 года Вассиан начинает работу по осмыслению исторических судеб православного монашества. Так появляются на свет первые редакции «Собрания некоего старца», своеобразного указателя текстов Священного Писания и предания, обосновывающие необходимость строгого соблюдения монашеского обета как рядовыми иноками, так и церковными иерархами[540]. Столкновение Вассиана с учениками Иосифа в полемической форме выразилось в «Слове ответном» (1523 – 1524). Здесь князь-инок снова ратует за милось к оступившимся и протестует против того, чтобы «позволять монахам стяжать села многолюдные и порабощать крестьян-братьев, и у них отбирать серебро и золото неправедное, в миру еще обращающееся»[541]. Спор с главой русской Церкви заставил Вассиана ускорить работу по составлению «нестяжательской» кормчей. По мнению А.И. Плигузова, внутри этого этапа полемики и сформировалось учение Патрикеева о нестяжательности монашеских корпораций, причем Вассиан начал свои размышления о монашеском «обещании» с менее радикальной постановки вопроса, предусматривая сохранение монастырских сел и передачу управления ими в руки святительских кафедр. Постепенно наметилась эволюция учения князь-инока в более радикальную программу, не останавливающуюся перед изъятием монастырских населенных земель[542]. Между тем сторонники Вассиана продолжали терять свои позиции при дворе. В 1523 году представитель рода Патрикеевых видный военачальник Михаил Щенятев лишился должности, а позже отправился в почетную ссылку в Кострому. Когда зимой 1525/26 год происходил розыск государевой невесты, указывалось, чтобы она не была «в племяни» Щенятьевых[543]. Не случайно Вассиан именно теперь обратился к теме ограничения монастырского землевладения – по сути дела это была плохо скрытая провокация. В это время нарастает напряжение в отношении великого князя с братом Юрием, который, как известно, поддерживал добрые отношения с волоцкой обителью и слыл защитником церковного имущества. Отметим, что Иосиф, имея в виду данное обстоятельство, осмелился затронуть опасную тему монастырских стяжаний только однажды, в момент своего наибольшего влияния при дворе – в 1510 году. В письме к дьяку Третьякову он сетовал: «А того нив древних царех, нив князех православных, нив тамошних странах, ниже в нашей Рустей земи не бывало, что церкви Божия и монастыри грабити, бояхуся бо ся Господа Бога и иже от священных правил положенные клятвы на обидящих Божия церкви»[544]. Вассиан понимал, что в свете конфликта великого князя с братом вступление иосифлянского митрополита в полемику о церковных стяжаниях может стоить тому святительского жезла. Тем горячее становились его нападки на пороки монастырской жизни. Но Даниил, не хуже Патрикеева осознававший грозящую ему опасность, стиснув зубы, молчал. Тем более Вассиан, в отличие от Максима Грека, остался при дворе, что, правда, не означает, как считал Е.Е. Голубинский, что на самом деле князь-инок не протестовал против брака Василия с Еленой Глинской[545]. Очевидно, до поры до времени великий князь остерегался давать полное преимущество одной из группировок и, с осторожностью присматриваясь к иосифлянам, видел в Вассиане противовес их устремлениям. А любостяжателям не терпелось расправиться со своими давними противниками. Назначенный в марте 1526 года Даниилом ростовский архиепископ Кирилл решил вмешаться в жизнь заволжских старцев, для чего направил своих приставов в Нилову пустынь. Вассиану пришлось обратиться с жалобой к государю, который выдал жалованную грамоту насельникам Нило-Сорского скита, подтвердив их неподсудность ростовскому владыке[546]. В семейном кругу Даниил благословил второй брак великого князя и сам совершил богослужение в день венчания Василия и Елены Глинской 21 января 1526 года. Любопытно, что на свадьбе отсутствовали многие «выезжане» – двое Вельских, Мстиславский, Воротынский, не было и Шуйских, зато в наибольшем количестве на пир были приглашены Захарьины. Вместе с разоблачителями Максима Грека М. Захарьиным и М. Тучковым пировали их дети, а также окольничьи И. Ляцкий-Захарьин и В. Яковлев-Захарьин[547]. Им было что праздновать. Окончательному реваншу старомосковских бояр мешало одно препятствие. Одно, но немаловажное. Шло время, а у молоденькой Елены все еще не было детей. Это печальное обстоятельство великий князь мог расценить как кару, постигшую его за поступок с Соломонией, особенно после того как по Москве разнесся слух, будто в монастыре отвергнутая жена – теперь инокиня Софья родила сына Георгия[548]. Москвичи, недовольные новым браком государя, охотно верили в эти рассказы. Что говорить про простонародье, если сам Василий отрядил дьяков в Суздаль разузнать, что же на самом деле там произошло. Иосифляне понимали, что если Елена останется бесплодной, то благорасположение к ним великого князя сменится гневом, который обрушится на потаковников его падения. Василий страстно привязался к молодой жене и вряд ли готов был попрекать ее бесплодием – удаление Соломонии было его грехом, от последствий которого теперь страдала любимая супруга. Даниил и его соратники срочно взяли инициативу в свои руки. Василий и Елена принялись совершать паломничества по разным святым местам в надежде вымолить у Господа первенца: были они у Тихвинской Божьей Матери, в Ярославле, Ростове. Сопровождал великокняжескую чету выученик Иосифа архиепископ Новгородский Макарий. Но паломническое рвение было вознаграждено только после того, как царственные супруги помолили о заступничестве преподобного Пафнутия Боровского. И вот радостная весть – Елена забеременела. Заметим, что супруги в декабре 1528 года побывали и в Спасо-Каменном, и в Кирилло-Белозерском монастыре, однако пребывание в заволжских обителях оказалось безрезультатным. И только после поездки в Боровск к могиле Иосифова учителя сокровенное желание сбылось. Перед праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи 25 августа 1530 года Елена разрешилась от бремени. Восприемниками новорожденного стали монахи-иосифляне Кассиан Босый и Даниил Переяславский. Получается, что любостяжатели оказались «соучастниками» и зачатия, и рождения будущего Ивана Грозного. Не исключено, однако, что роль иосифлян в появлении на свет Ивана не ограничивалась духовным окормлением. Мы имеем в виду те злые языки, которые и тогда и много лет спустя указывали на то, что сын Василия появился на свет не благодаря чудодейственному споспешничеству святого Пафнутия, а мужскому усердию князя Ивана ОвчиныТелепнева-Оболенского. Действительно, Василий, проживший бездетно почти четверть века с одной женой и четыре с другой, дает основание быть заподозренным в бесплодии. Молодой князь Овчина-Телепнев принимал участие в свадьбе великого князя и даже был в числе знатных особ, которые ходили по обычаю вместе с молодым супругом в мыльню, где ему пришлось «колпак держать, с князем в мыльне мыться и у постели с князем спать». Так что князь изначально был близок к государевой опочивальне. Связь Овчины-Телепнева с молодой вдовой стала очевидной для окружающих сразу же после смерти Василия. Скорее всего, что она началась еще при жизни государя. Но, как мы уже говорили, видные иосифляне после женитьбы великого князя на Елене Глинской оказались в роли членов его молодой семьи. Ничто не могло пройти мимо этих искушенных соглядатаев. Как же они не могли заметить преступного сближения великой княгини и молодого придворного?  Венчание ВасилияIIIи Елены Глинской
Как бы то ни было, но после рождения сына великий князь был вне себя от радости. Поколебленное доверие к иосифлянам теперь только укрепилось. Столь же возросло нерасположение к своим недавним советникам – эти нестяжатели своими наглыми поучениями чуть было не подорвали его веру в себя, чуть не довели его до позорного раскаяния. Если великий князь при всей своей привязанности к молодой жене и монаршьем самолюбии в глубине души понимал, что нестяжатели правы и он совершает тяжкий грех, за который последует неминуемая расплата, то рождение сына уничтожало все эти страхи и сомнения, а вместе с ними и авторитет Патрикеева и Грека. И счастливый отец, и торжествующий честолюбец выдал «с головой» верхушку нестяжательской партии. К суду привлекли теперь и Вассиана Патрикеева, и – повторно – Максима Грека. Собор, осудивший вольнодумцев, собрался в мае 1531 года. Вассиана обвиняли в дерзновенном редактировании «Кормчей» и всевозможных кощунственных высказываниях. Князь-инок отвечал своим судьям весьма дерзко. Вассиан не скрывал своей иронии по поводу того, что Макарий Калязинский и митрополит Иона признаны церковью чудотворцами. «Про то знает Бог, да ты со своими чудотворцами», – отвечал он Даниилу. Чудотворцев, как утверждали обвинители, Вассиан именовал «смутотворцами», потому что они «у монастырей села имеют и люди». Иосифляне оседлали любимого конька и стали указывать князь-иноку на святых отцов прошлого, державших села. «О селех – во Еуангелии писано, не велено сел монастырем держати», – отвечал Вассиан, хотя в Новом Завете ни о монастырях, ни о их стяжаниях ничего не говорилось. Обвиняемый толи позабыл об этом, то ли понадеялся на некомпетентность судей. Однако под напором обвинения ему пришлось согласиться, что подвижники прошлого «села держали», но «пристрастия к ним не имели». Когда не хватало аргументов, иосифляне шли на оговор. Так Вассиану объявили, что он «хулил Богородицу» и что «на то послух есть, старец един» – инок Иосифова монастыря. «Яз их к себе не пущаю, и дела мне до них нет», – даже в столь драматичной ситуации Вассиан не захотел скрыть ненависть к питомцам Волоцкого игумена. Митрополит указал на одного старца по имени Досифей. Вассиан согласился, что Досифей – «старец великий, добрый» неоднократно бывал в его келье. Досифей действительно не был иноком Волоцкого монастыря, он подвизался в Симоновой обители, поэтому мог часто встречаться с Патрикеевым. Но Досифей приходился родичем преподобному Иосифу и новому фавориту государя Вассиану Топоркову. Последнего обстоятельства Патрикеев не учел: «великий добрый старец» и явился главным обличителем подсудимого[549]. Максима, твердо стоявшего на своей невиновности, уличали в том, что он не раскаялся. Проповедь нестяжательства и критика качества переводов русских богослужебных книг обернулись обвинениями в том, что он «возводит хулу на русских чудотворцев и на русскую церковь». Собор 1531 года адресовал сотруднику Максима Михаилу Медовар-цеву слова: «Столько много время (покрывал ты) Максима инова Грека, а неведомого и незнаемого человека, ноаопришедщего из Турския земли, и книги переводяща и писания составляюща хульная и еретическая и во многие люди и народы сеюща и распространяюща жидовская и еллинская учения и аринаская и македонская и прочая пагубныя ереси»[550]. Подобные обвинения свидетельствуют не только о недоброй воле судей, но и об убожестве богословских знаний и мысли на верхах русской Церкви. Впрочем, столь же пестрый набор существовавших и вымышленных лжеучений приписывался, как мы помним, и «жидовствующим». Митрополит Даниил обличал Максима, всю жизнь боровшегося против суеверий, в том, что он волховал против великого князя, «хвалился» ворожбой и «чернокнижными волховании еллинскими и жыдовскими». Помимо абсурдных, явно сочиненных обвинений, Святогорцу попомнили все его «грехи», поставив в вину то, что он, как и Вассиан, «укоряет и хулит» церковные стяжания и русских чудотворцев, этими стяжаниями увлекавшихся. Попомнили и то, что Грек укорял великого князя за трусость; якобы он говорил о Василии следующее: «Коли он от крымскаго бежал, а от турскаго ему как не бежа-ти?»[551] По знакомой из новейшей истории логике Святогорца обвинили… в шпионаже в пользу Турции. Максим в свое время встречался и переписывался с послом турецкого султана греком по национальности Скиндером. Этого оказалось достаточно для нелепого обвинения. Максим якобы хотел наускать турецкого султана, «послал людей своих на великого князя землю морем в караблех». Собор осудил и помощников Максима Грека. Пощадили только престарелого Дмитрия Герасимова, который незадолго до судилища вернулся из Рима, куда был направлен для переговоров с папой. Исаака Собаку сослали в новгородский Юрьев монастырь, Михаила Медоварцева – под надзор в Коломну, переводчика Силуана – на Соловки. Сам Святогорец был отправлен в тверской Отрочь монастырь под опеку еще одного Волоцкого питомца – епископа Акакия. Ну а Вассиан Патрикеев добился особой чести – его заключили в Волоцкий монастырь, где в скором времени он был благополучно замучен торжествующими стяжателями. Великий князь Василий умер через полтора года после процесса против нестяжателей. Возможно, столько же времени пролегло между мученической кончиной Вассиана Патрикеева и преставлением великого князя Василия. В сентябре 1532 года по поводу освящения храма Вознесения в Коломенском «сътвори государь праздньство велие светле и радостне», а спустя год сразила его смертельная болезнь[552]. Кончину великий князь встретил там же, где и его прежний советник Вассиан – в Волочком монастыре, куда Василий отправился на охоту летом 1533 года. Троицкий игумен и старцы Иосифова монастыря нарядили в последний путь усопшего, который перед самой кончиной успел принять постриг. Над Русью занималась новая грозовая эпоха. Кризис 1534 года Перед умирающим Василием неизбежно вставал вопрос – как избежать смут и распрей, пока Иоанн не вырастет и не возьмет бразды правления страной в свои руки. Принятые им решения ярко характеризуют взгляд великого князя на управление государством и само государство: он создал несколько центров власти. Формально преемницей великого князя до совершеннолетия наследника становилась Елена Глинская. Однако на самом деле роль главного распорядительного органа получал Опекунский совет. В его состав вошли выходцы из старомосковских боярских родов, имевших серьезную опору в столице – Морозов и Захарьин, представители могучего суздальского клана Шуйские, верный соратник или даже скорее преданный раб великого князя Шигона. Наконец, в совет попал Глинский, так как его судьба, как ближайшего родственника великой княгини, целиком зависела от благополучия Елены и ее сына. Более того, из числа участников Опекунского совета Василий выделил своего рода «президиум» из своих наиболее доверенных людей – Михаила Глинского, Ивана Шигоны и Михаила Захарьина, под надзор которых была поставлена «процедура сношения между думой и вдовствующей великой княгиней»[553]. Наконец, лично Михаилу Глинскому Василий поручил заботиться о безопасности великой княгини и наследника. При этом Боярская дума и ее руководители в лице старших бояр Дмитрия Вельского, Ивана Овчины-Телепнева и Федора Мстиславского де-факто лишалась реальных властных полномочий[554]. Почему же великий князь решил умалить значение традиционного высшего распорядительного органа и санкционировать фактическое двоевластие? В свои последние дни Василий – глава великокняжеского удела, глава династии возобладал над Василием – государем Всея Руси. Умирающий старался предусмотреть все возможное, чтобы власть у его наследника не похитили родственники, способные претендовать на престол. Потому государь наделил властью и тем самым связал с наследником наиболее могущественных московских вельмож, которые отныне будут кровно заинтересованы в том, чтобы сохранить трон для его сына, и которые имеют возможность дать отпор вожделениям удельных родичей. Очевидно, Василий полагал, что Боярская дума в данной ситуации окажется не способна обеспечить преемственность власти. И вовсе не потому, что она не была предана Василию и его сыну и склонялась на сторону других претендентов. Главенствующую роль в Думе играли выходцы из Литвы, в то время Вельский и Мстиславский – служилые князья, сознательно перешедшие под опеку московского государя, обязанные ему своим благополучием и карьерой. Но в данной ситуации достоинства «литовцев» оборачивались недостатками. Их энергия и преданность, в то время когда великий князь по малолетству не мог выступать полноценным правителем – сюзереном, вождем, опорой государства, – значили гораздо меньше, чем разветвленные связи старого московского боярства и экономическое могущество бывших удельных князей. Вряд ли Василий перед смертью «забыл» о государстве: собственно забота о преемственности власти и есть забота о будущем страны. Но умаление правительства в пользу регентского совета привело к тому, что орган, имеющий ограниченные функции, получил неопределенно широкие полномочия. В это же время Дума, механизм работы которой был отработан за десятилетия, превращалась в пышную декорацию. Подобная ситуация создавала питательную среду для конфликтов, которые не заставили себя ждать. Сложившееся после смерти Василия III положение устраивало только Захарьиных и Морозовых. Вся остальная политическая элита желала перемен. Насчитывалось целых четыре группы недовольных, каждая из которых с недоверием и враждебностью относилась к другой и выступала самостоятельно. Первыми недовольство проявили Шуйские, попытавшиеся сразу после смерти государя «не токмо отъехатьи» к удельному князю Юрию Дмитровскому, «но и на великое княжение его подняти». Мятеж был подавлен, 11 декабря 1533 года через семь дней после смерти Василия III Юрий был посажен в темницу, «где наперед того князъ Дмитрей внукъ сиделъ». Из рассказа пленного поляка мы имеем возможность получить представление о следующем раскладе сил, сложившемся после смерти Василия III и «поимания» князя Юрия: «на Москве старшими воеводами (которыи з Москвы не мают николи зъехати); старшим князь Василий Шуйский, Михайло Тучков, Михайло Юрьин сын Захарьина, Иван Шигона, а князь Михайло Глинский, тыи всю землю справують и мают справовати до леть князя; нижли Глинский ни в чом ся тым воеводам не противит, але что они нарядят, то он к тому приступает, а все з волею княгини великой справують. А князь Дмитрий Вельский, князь Иван Овчина, князь Федор Мстиславский тый теж суть старшими при них, али ничого не справуют, только мают их з людьми посылати, где будет потреба… иж тьи бояре великии у великой невзгодие межды собой мешкают, и мало вся вже сколько-кроть ножи не порезали»[555].  Великий князь Василий III
Как замечает И.И. Смирнов, скромная роль Михаила Глинского в Опекунском совете не соответствовала задумкам Василия III. Михаил Глинский хотел «держати царство» с «единомысленным своим» Михаилом Семеновичем Воронцовым, однако Захарьины фактически лишили его властных полномочий. Старшие бояре Дмитрий Вельский и Иван Овчина-Оболенский значительную часть времени находились при войске, что, по мнению исследователя, в первую очередь объясняется тем, что «удаление названных лиц из Москвы являлось лучшим способом лишить их возможности вмешиваться в управление государственными делами»[556]. Между тем оба боярина пользовались расположением покойного государя, что, в частности, выразилось в их присутствии на свадьбе Василия III и Елены Глинской. Однако старшие думские бояре и князь Михаил Львович не готовы были выступить единым фронтом против временщиков. Потомки Рюрика и Гедемина вряд ли могли найти общий язык с амбициозным авантюристом Глинским. Демарш против правительства совершили другие люди. Как сообщает летописец: «Того же лета, августа, съ службы из Серпухова побежали князь Семенъ Федоровичъ Вельской, да околничей Иванъ Васильевъ сын Лятцкого и съ сыном; а советниковъ ихъ, брата княжь Семенова князя Ивана Федоровича Белского же да князя Ивана Михайловича Воротынского и зъ детми, велелъ поимати князъ велики и мати его великаа княгини и оковавъ за приставы посадити»[557]. Из Серпухова в Литву также бежали Б. Трубецкой и «многие дети боярские великого князя». Воротынского отправили в ссылку на Белоозеро. В Москве заключили в тюрьму (правда, ненадолго) родственников беглецов – старшего думского боярина Дмитрия Вельского, его брата Ивана и даже регента М. Захарьина – двоюродного брата окольничьего Ляцкого. В тот же месяц был арестован Михаил Глинский, которого обвинили в том, что он «давалъ великому князю Василью зелие пити въ его болезни, и великого князя въ той болезни съ того зелиа и не стало»[558]. Р.Г. Скрынников полагает, что причиной столь «непатриотичного» поведения бояр был рост симпатий знати как литовского, так и московского происхождения к Литве, где утверждались права магнатов и шляхты, в то время как в Москве «права великих бояр стеснялись»[559]. С этим утверждением можно согласиться только отчасти. Например, Воротынские и Трубецкие приехали из Литвы в Москву в последнее десятилетие XV века[560]. В течение 30 – 40 лет в общественном строе Литвы и Московской Руси не произошло никаких радикальных перемен, заставивших князей переменить промосковскую ориентацию на пролитовскую. И.И. Смирнов не сомневается, что бегство Семена Вельского и Ивана Ляцкого состояло в прямой связи с их участием в заговоре Михаила Глинского[561]. Смысл событий лета 1534 года, на наш взгляд, состоит в том, что со смертью государя и выходом на политическую авансцену московского и суздальского боярства перед теми, кто не оказался в числе узкого круга временщиков, вставал вопрос: кому служить теперь – высокомерным узурпаторам Шуйским, или Захарьиным, или такому же, как и они в недавнем прошлом, литовскому князю Михаилу Глинскому. Неудивительно, что некоторые из выезжан решили вновь поступить на «государеву службу», только на этот раз к польскому королю. Ситуация оказалась настолько безвыходной, а перспективы настолько туманными, что к «выезжанам» присоединились даже родственники Захарьиных Ляцкие. С.Б. Веселовский характеризует Ивана Васильевича Ляцкого как «выдающегося воеводу» и «крупную и очень интересную фигуру своего времени». Однако тот ясно осознавал, что при Захарьиных его таланты не будут оценены по достоинству, и, по предположению С.Б. Веселовского, «еще задолго до бегства отделил свою судьбу от судьбы ближних сородичей»[562]. Кризис лета 1534 года обнаружил тенденцию расслоения старых группировок внутри политической элиты и даже некоторых княжеских родов. Так, Дмитрий Федорович Вельский оказался близок к старомосковскому боярству прежде всего благодаря браку с дочерью И.А. Челяднина. Неудивительно, что торжество любостяжателей при дворе Василия III никак не отразилось на его карьере. Так, во время поездки великого князя на богомолье в Кириллов в декабре 1528 года Дмитрий Вельский единственным из «служилых князей» назван боярином[563]. Возвышение брата никак не сказывается на судьбе его братьев Ивана и Семена Вельских, так же как и возвышение Захарьиных на судьбе Ляцких. Тем более их положение не было связано с положением Михаила Глинского, так что беглецам и их соумышленникам не было никакого резона участвовать в заговоре в пользу опекуна. Сестра Ивана Телепнева была выдана замуж за друга Иосифа Волоцкого дворецкого В.А. Челяднина[564]. Оба брата Челяднины умерли ранее Василия III, но их вдовы занимали высокое положение при дворе. Тесная связь с кланом Челядниных, несомненно, объединяла Дмитрия Вельского и Ивана Телепнева. Кризис 1534 года и предшествующие ему события способствовали возвышению фаворита Елены князя Телепнева. Захарьины и Дмитрий Вельский оказались скомпрометированы бегством родственников. Шуйские отошли в сторону, со злорадством наблюдая, как энергичный временщик Телепнев, укрепляя свою власть, уничтожает наиболее серьезных противников суздальского клана: один из опекунов (соратник Глинского) боярин Михаил Воронцов отправлен в Новгород; сам Глинский томился в узилище. В августе 1536 года Юрий Иванович Дмитровский скончался «въ изымании». Другой брат покойного государя Андрей Старицкий, понимая, что его ждет такая же участь, поднял мятеж, двинувшись с отрядом на Новгород. Оттуда он рассылал грамоты следующего содержания: «князъ велики малъ, а держать государьство боаре и вамъ у кого служити? и вы едте къ мне служити, а язъ васъ радъ жаловать»[565]. На его призыв откликнулись многие «дети боярские великого князя помещики Наугородские». Однако московская рать Ивана Телепнева превосходила числом отряд князя Андрея и тот сдался, положившись на честное слово Телепнева, гарантировавшего ему свободу. Но в Москве выяснилось, что фаворит якобы превысил свои полномочия, и на Андрея Старицкого наложили «тягость». Торжество Телепнева было недолгим. В апреле 1538 года умерла Елена Глинская. Как считали современники Елены и как утверждают эксперты Института молекулярной биологии РАН, исследовавшие ее останки, великая княгиня была отравлена ртутью[566]. Подобный поворот событий прежде всего устраивал Шуйских, которые захватили власть после кончины регентши. С потомком Михаила Черниговского Овчиной-Телепневым суздальские Рюриковичи поступили так же, как, прежде князь расправлялся со своими противниками – уморили в тюрьме. Милость или терпение В эти годы одним из ведущих московских дипломатов был Федор Иванович Карпов, который в правление Василия III ведал отношениями с Турцией, Ногайской Ордой, Крымскими и Казанскими ханствами. Именно он в 1517 году принимал императорского посла Сигизмунда Герберштейна, а в 1526 году вел переговоры с делегациями папы римского, польского короля и тем же Герберштейном о заключении мира с Литвой. Важные поручения выполнял Федор Иванович и во времена регентства. По поручение Елены Глинской в 1536 году Карпов принимал казанского хана Шах-Али на московскую службу. Карпов знал латынь, греческий и татарский языки, был хорошо знаком с античной философией и литературой, переписывался со старцем Филофеем. Когда в Москву прибыл Максим Грек, между ним и просвещенным дипломатом завязались тесные отношения. Правда, начались они с недоразумения. До афонского книжника дошли слухи о том, что видный придворный нелестно отзывается о нем и его знаниях. Дипломат поспешил уверить Максима Грека в обратном. В дальнейшем они, случалось, и спорили (Грек, в частности, порицал увлечение дипломата модной тогда астрологией), но в главном были единомышленниками – Грек называл Карпова «премудрым» и «пречестнейшим» человеком, а Карпов, как мы увидим, развивал многие идеи Святогорца, который стал для него если уж не учителем, то образцом для подражания. Другой авторитет для Карпова – Нил Сорский. Дипломат восторженно пишет об исихазме, его идеологах и практиках – Григории Синаите, Симеоне Новом Богослове и главе русских нестяжателей преподобном Ниле[567]. Об этих своих предпочтениях Федор Карпов сообщал не кому иному, как митрополиту Даниилу – непримиримому борцу с заволожским движением. Сам факт обращения дипломата к митрополиту с посланием, в котором затрагивались острые правовые и философские проблемы, вызывает определенное недоумение. Захотелось поделиться мыслями с образованным человеком, коим, несомненно, был Даниил? Но что за интерес вольнодумному дипломату отписывать к главе иосиф-лянской партии, отличавшемуся, по замечанию А. В. Карташева, «узостью духовного и богословского горизонта»[568]. Подлинное отношение Федора Ивановича к личности митрополита очевидно – даже в приличных нормам эпистолярного этикета славословиях Даниилу («ты – горящий светильник, не знающий тьмы мрака, ты – благовонный цветок добродетели, гнушающийся смрада клеветы…») сквозит сарказм, а, советуя иосифлянину прибегнуть к нестяжательской «умной молитве», Карпов, кажется, попросту издевается над архипастырем. С другой стороны, вряд ли дипломат вступил бы в переписку с главой церкви, дабы Даниил почувствовал неприязненное к нему отношение. Скорее Карпов обращается не к коллеге-писателю, а к предстоятелю русской церкви. Но в какой связи? До нас не дошло первое письмо Карпова и ответ на него Даниила, поэтому мы можем судить о непосредственном поводе обращения к митрополиту только по заключительному посланию Карпова. Сквозной нитью через сочинение Карпова проходит мысль о неправедном суде, о беззаконии и милости. Если Иосиф Волоцкий полагал, что государь, правящий «без правды», уподобляется «мучителю», то Карпов считает, что одной правды для властителя недостаточно. «За милосердие наместник и князь бывает любим своими подданными, а за приверженность к справедливости его боятся, ибо милость, без правды есть малодушество, а правда без милости – мучительство…»[569] Похоже, что обратиться к митрополиту дипломата подвигла судьба осужденного Максима Грека. Карпов не имел права оспаривать справедливость, «правду» соборного приговора, ему оставалось взывать к милости. Даниил в ответ призывает к «терпению». По сути, это отказ на обращение дипломата, что порождает прорывающуюся сквозь велеречивые формулировки горячность Карпова и те колкости, которые он вряд ли позволил себе в первом послании. Исследователи датируют послание Карпова 1533 – 1539 годами. Очевидно, мы можем сузить эти временные рамки до 1535 – 1538 годов. В это время правительство Телепнева прочно удерживает власть, укрепляется положение самого Карпова – в 1538 году он получает думный чин окольничьего. Напротив, влияние Даниила при дворе Елены Глинской становится минимальным – его услужливость не отзывается в сердцах правителей благодарностью, а воспринимается как непременная обязанность. Правительство Телепнева предпринимало меры по ограничению прав церкви, привлекало духовенство к несению некоторых государственных повинностей и даже не стеснялось употреблять церковные средства на свои нужды[570]. Это красноречиво свидетельствует, как мало тогда значило мнение митрополита и главы любостяжательской партии. Именно в это время Карпов посчитал возможным обратиться к митрополиту с письмом, касающимся столь опасного вопроса, как пересмотр участи осужденного церковным собором, и, более того, – рассчитывать на успех. Однако его ходатайство осталось гласом вопиющего в пустыне, что лишний раз показало писателю, «сколь вредными и дурными дорогами, хромыми ногами и вслепую, бредет ныне земная власть и весь род человеческий»[571]. Максим Грек на долгие годы остался под «тяжким бременем терпения». Однако он не только не опустился до ненависти к своему гонителю, но уже после низвержения Даниила направил опальному митрополиту «Послание о примерении…». Узнав от ходатая, просившего разрешить Максиму причащаться Святых Тайн, (только Даниил мог изменить эту «меру пресечения»), что «святая душа твоя негодует против меня», Святогорец в своем послании постарался «излечить» недоброжелательство митрополита[572]. Увы, чуждая евангельских добродетелей, душа Даниила не поддавалась излечению. Не достигнув своей цели, задетый за живое государственный муж разворачивает перед читателем, очевидно, давно им выстраданную программу справедливого общественного устройства. Задаваясь вопросом «что является опорой дела народного, царства, владычества – правда или терпение», он дает на него следующий ответ: «Дело народное в городах и царствах погибнет из-за долгого и излишнего терпения; долготерпение без правды и закона общественного в людях доброе разрушает и дело народное в ничто обращает, дурные нравы в царствах сеет..»[573] Карпов подразумевает под «терпением» практику и последствия субъективного, опирающегося не на закон, а на прихоти властителя суда и в целом государственного управления. Карпов ссылается на Аристотеля, согласно которому «всякий город и всякое царство управляться должны начальниками, стремящимися к правде и следующими известным законам праведным, а не терпению»[574]. Интересно, что Карпов старается различать республику (дело народное), сословно-представительную монархию (царство) и деспотию (владычество). Умаление общественного закона уничтожает республику, поражает царства, а о владычестве Карпов больше не упоминает, поскольку, вероятно, «правда» и деспотия для него несовместимы. Карпов последовательно развивает идеи Максима Грека, утверждая, что «правды» может достичь только праведный суд. Сходно со Святогорцем Карпов трактует понятие царской «грозы». Максим Грек под этим понимает «устрашение государское», которое действует исключительно на исправление, а не на «пагубление», и исключительно в рамках правды. У Карпова «гроза» уже не атрибут власти, а атрибут закона. Сама власть царей необходима в первую очередь для того, чтобы те «пасли бы по законам праведным», подобно гусляру и поэту Давиду: «… как гусляр струны расстроенные приводит в согласие и, возлагая руки, извлекает сладостные для слуха звуки, так и самодержец всякого царства заблуждающихся и зловредных грешников принуждать должен к согласию с добрыми людьми грозою закона и правды, а верных подданных оберегать своим жалованьем и милостями…»[575] Послание Карпова свидетельствует о том, что социально-нравственные выступления Вассиана Патрикеева и Максима Грека не были случайным явлением в общественной жизни Московской Руси. Нил Сорский и заволжские старцы, протестуя против монастырских стяжаний и преследований за убеждения, тем самым поставили вопрос о пределах власти церковной и светской, о суверенитете личности. Патрикеев, полемизируя с Иосифом Волоцким, пришел к выводу о необходимости подчинения властителя началу законности: «Всякий царь да покоряет царство свое истине закона своего». Отталкиваясь от проблемы монастырской эксплуатации и равнодушия к положению крестьянства, князь-инок подходит к идее социальной справедливости. Федор Карпов уже свободно рассуждает об общественном и народном, для него существование власти оправдано соблюдением правды в государстве, служением общественному благу. И Патрикеев, и Карпов подразумевают под законом евангельские заветы, которые противопоставляются людскому своеволию. «Если вы воистину правду любите, то судите по правде сынов человеческих», – сказал некогда блаженный Давид, словно укоряя за грехи некиих людей, противящихся Божией справедливости, людей, у которых язык – острый меч, которые стремятся все поставить по своему и повелениям Божиим не покоряются…», – пишет князь-инок[576]. Федор Карпов акцентирует внимание на социальных аспектах «правды», полагая, что христианские законы даны для того, чтобы «не одолел тот, кто сильнее…», чтобы не допустить угнетения неповинных. Рассуждая о природе и форме власти, Максим Грек размышлял и о всенародном избрании правителя. Н.М. Золотухина отмечает, что Святогорец первым вводит эту мысль в русскую политическую литературу, причем у него имеется не только постановка вопроса о законности занятия царского престола путем выборов, но и положение об участии в этом процессе общественного мнения, в форме «единомыслия» всей земли[577]. Федор Карпов, употребляя республиканские термины, очевидно, так же не сомневался в правомочности выборной системы, однако его, прежде всего, интересовали общие требования ко всем формам государственного устройства. Русская политическая мысль за несколько десятилетий стремительно развивалась. Не стояла на месте и русская политическая практика. Светотени «великой замятии» Три с половиной года, которые находилось у власти правительство Ивана Телепнева, как бы строго ни оценивать моральный облик фаворита регентши, оказались продуктивными для правительства и благодатными для народа и страны. С падением Михаила Глинского опекунский совет перестал играть главенствующую роль в решении государственных дел, и восстановилась нормальная система управления во главе с Боярской думой. Близость с Еленой дала возможность князю Ивану употреблять власть без оглядки, имея на руках своего рода «карт-бланш», который тот использовал для проведения радикальных реформ. Впрочем, и сама Елена отличалась умом и решительным характером. Правительство Ивана Телепнева, делая некоторый шаг к осуществлению проповеди Вассиана против вотчиновладения монастырей, отдало распоряжение, чтобы на будущее время монастыри не под каким видом не приобретали вотчин покупкою и ни принимали как вклад по душам без дозволения правительства[578]. Были проведены меры в нестяжательском духе, направленные на сужение податного и судебного иммунитета церкви[579]. Новации снова коснулись новгородских земель. Власти отписали все пожни, принадлежавшие городским церквам и подгородним монастырям Новгорода, и заставили арендовать их у государства[580]. В 1535 году была проведена денежная реформа. Ее необходимость была продиктована тремя причинами: скудными запасами драгоценных металлов для чеканки монет; массовой подделкой серебряных денег; обращением монет различных княжеств; и разнобоем между московской и новгородской чеканкой. Власти изъяли из обращения старую разновесную монету и перечеканили ее по единому образцу. Основной денежной единицей стала полновесная новгородская серебряная деньга, на которой стали чеканить изображение всадника с копьем. Так правительство Телепнева дало жизнь благополучно дошедшей до наших времен «копейке». Вес копейки, установленный в ходе реформы, оставался неизменным до начала следующего века, когда его пришлось изменить в связи с событиями Смутного времени. В эти же годы велись работы по строительству крепостей и городов, их благоустройству. Так в Москве были возведены каменные стены вокруг Китай-города. Это было время экономического расцвета страны, оживления торговли и ремесел. Успех сопутствовал князю Телепневу и во внешнеполитических делах. Начавшаяся по истечении перемирия война с Литвой окончилась в 1537 году перемирием на пять лет с уступкой Москве двух крепостей – Себежа и Заволочья. Были успешно отражены татарские нападения[581]. Все это говорит о том, что отсутствие твердой единодержавной власти само по себе не угрожало благополучию Московской Руси, не тормозило ее развития. После смерти Елены Глинской получил свободу князь Иван Федорович Вельский, ставший главным соперником суздальского клана. Недолгое соперничество завершилось заговором, в результате которого Боярскую думу вновь отстранили от власти, перешедшей в руки опекунов, среди которых верховодили Шуйские. Переворот случился 21 сентября 1538 года. «Бысть вражда меж бояр»: по приказу Шуйских был обезглавлен один из опекунов ближний дьяк покойного государя Федор Мишурин. Ивана Вельского арестовали и сослали на Белоозеро. Был также отправлен в ссылку другой опекун боярин Михаил Тучков. Митрополит Даниил был сведен с кафедры и отправлен в Волоцкий монастырь. Опекунство окончательно превратилось в декорацию, прикрывавшую прямую диктатуру Шуйских. Недаром Иван Грозный позже напишет, что Шуйские самовольно «воцаришася» в Москве. Воцарились, правда, ненадолго. В октябре 1538 года умер глава суздальского клана Василий Шуйский, а его младший брат Иван не смог удержать бразды правления. Боярская дума перешла в наступление, потребовав освобождения Ивана Вельского. Думцев поддержал новый митрополит Иосаф. Шуйские, выступив инициаторами приглашения Троицкого архимандрита на митрополичью кафедру, полагали, что в его лице они встретят благодарную услужливость или хотя бы молчаливую покорность. Они ошиблись – именно Иосаф стал настойчиво ходатайствовать за Ивана Вельского, который, вернувшись в Москву в июле 1540 года, взял власть в свои руки. Как отмечает Е.Е. Голубинский, Иосаф, будучи поставлен Шуйским, объявил себя сторонником Вельского и был его помощником в деле управления государством, оценив в нем более достойного правителя[582]. Возвращение к власти Ивана Вельского оказалось единственным за время боярского правления переворотом, не ознаменовавшимся казнями и опалами. Даже Шуйские остались на свободе. Дума во главе с Вельским продолжала политику Телепнева, исключив из правительственной практики жесткое преследование политических противников. Этому содействовал опять же добродетельный Иосаф. Новый митрополит оказался поклонником Максима Грека. В ответ на послание из тверского Отрочь монастыря, в котором тот опровергал тяготеющее над ним обвинение, митрополит писал: «Целуем узы твои, как единого от святых, но ничего не можем сделать в твое облечение»[583]. Тем не менее митрополит разрешил Максиму посещать литургию и причащаться. Очевидно, окруженный иосифлянским епископством, Иосаф опасался демонстративно игнорировать решения собора 1531 года. Вместе с тем митрополит «в диаконы и в попы поставил и в архимандриты на Симаново благословил» осужденного тем же собором писца Исаака Собаку, что вызвало удивление опального Даниила[584]. Но Собака в отличие от Святогорца прославился не как полемист, а как квалифицированный писец, возможно, поэтому Иосафу было проще принять более деятельное участие в его судьбе. (В 1549 году Исаака Собаку снова осудили и отпустили в Нилову пустынь.) Тем не менее митрополит не упускал случая показать свое нерасположение к преподобному Иосифу и его ученикам[585]. В отличие от предшественника, при поставлении которого не учитывалось мнение вселенского патриарха, что, как мы помним, осуждалось Максимом Греком, Иосаф заявил, что «во всем последую и по изначальству согласую всесвятейшим вселенским патриархом, иже православие держащим истинную и непорочную христианскую веру..»[586] Этим заявлением митрополит дал отповедь иосифлянам, чванливо попрекавшим греческую церковь испорченностью, что вызывало встречные претензии греков. «Дальновидные и мудрые нестяжатели должны были чувствовать необходимость уничтожения этих моральных трений во имя высших интересов православия», – сообщает А. В. Карташев, который полагает, что именно этим соображением продиктован вышеупомянутый тезис из архипастырского исповедания Иосафа[587]. Иосаф активно поддерживал правительство Ивана Вельского, который по словам Андрея Курбского, «иже не токмо был мужественъ, но и в разуме многъ, и Священных Писаниихъ в некоторых искусен»[588]. Совместные действия энергичного политика и добродетельного церковного владыки обещали принести добрые плоды, как в свое время сотрудничество Василия III, Вассиана Патрикеева и митрополита Варлаама. Вельский выпустил из темницы племянника покойного государя Владимира Андреевича, его мать и многих других пострадавших от боярских междоусобиц. Правительство вернуло Пскову судебные полномочия, дозволив судить уголовные дела выборным целовальникам помимо великокняжеских наместников и их тиунов. В основном в правление Вельского была проведена реформа местного управления. Наместники и волостели лишались права суда по важнейшим уголовным преступлениям, которое было передано губным старостам из числа выборных дворян. В помощь им избирались старосты, сотские и «лучшие люди» из крестьян и посадских людей. Для надзора за окружными судьями учреждался Разбойный приказ, так как главная обязанность губных старост состояла в преследовании «лихих» людей. Назначаемые из центра кормленщики – наместники и волостели, лишались части своих полномочий, которые передавались выбранным людям[589]. Ивану Вельскому и его брату Дмитрию Федоровичу Русь во многом обязана успешным отражением похода на Москву крымского хана Сафа (Саиб) Гирея. Драматические события лета 1541 года незаслуженно обойдены вниманием историков. Между тем Москва готовилась отразить нерядовой крымский набег. Сафа Гирей повел за собой все имевшиеся в его распоряжении военные силы, оставив в Крыму лишь «стара да мала». К нему присоединились турецкие военные «с пушками и пищалями», а также ногаи и многие другие степняки: «Кафинцы, и Азтороканцы, и Азовцы, и Белогородци». На Москву двинулась вся Великая степь от Днестра до Дона. Участники похода ставили целью не только пограбить и взять полон, но «потребити христианство». Хан писал малолетнему великому князю Ивану «с великим возношением»: «прииду на тя, и стану под Москвою, и роспущу войско твое и пленю землю твою»[590]. Не случайно летописец сравнивает поход Сафа Гирея с нашествием полчищ Тимура. Но в Москве деятельно готовились к отражению нападения. Великий князь ввиду столь грозной опасности не отъехал на север, а остался в столице, что послужило поводом для горячей дискуссии среди придворных. Многие бояре напоминали, что во время опасности «великие князи в городе не сиживали». Они указывали на то, что бегство спасло Василия Дмитриевича от Едигея, «а нынеча государь нашъ князь великий малъ… а съ малыми детми как скоро ездити?»[591] Но этой точке зрения решительно воспротивился митрополит Иосаф. Он напомнил боярам о другой странице русской истории – нашествии Тохтамыша в 1382 году. Тогда «князъ велики Дмитрей съ Москвы съехал, а брата своего и крепкыхъ въеводь не оставилъ, и над Москвою каково сталося?» – напомнил архипастырь. Любопытно, что летопись среди тех, кто возглавил сопротивление татарам, называет Василия Жулебина, правнука Остея, того самого литовского князя, возглавлявшего оборону Москвы от Тохтамыша[592]. Решимость власть предержащих передалась жителям столицы, которые энергично готовились к отпору. «И князь велики, выслушавъ речи у отца своего Иасафа митрополита и у бояръ, и призвал къ себе прикащики городовые и велелъ запасы градские запасати, пушки и пищили по местомъ ставити, и по воротомъ и по стрелницамъ и по стенамь люди расписати, и у посада по улицамь надолбы делати; людие же градские съ великим хотениемъ начата прилежно делати, а меж себя завещали за святые церкви, и за государя великого князя и за свои домы крепко стояти и головы своя класти»[593]. Разумеется, 11-летний мальчик Иван не мог отдавать подробные распоряжения о подготовке города к обороне, но само известие о том, что государь остается в Москве, и приказы, отдаваемые его именем правительством Вельского, вдохновили москвичей и способствовали дружной работе по укреплению города. В сравнении с 1382 годом разительно изменились действия и настроение и верхушки общества, и простого люда: начальствующие не пасуют перед лицом надвигающейся угрозы, а рядовые москвичи не бунтуют, не мечутся в панике, а с воодушевлением готовятся встретить врага. Такая же твердость наблюдалась и в воеводах, и в войске, которыми руководили князь Дмитрий Вельский и дьяк Иван Федорович Курицын – сын главы еретической партии. Вельскому удалось собрать, по-видимому, весьма значительное войско, но хана поразила не столько его численность, сколько четкая организация и экипировка русских, их энергия и хладнокровие. Сафа Гирей при виде московской рати стал «дивитися, что идутъ люди многие, учредив полки красно видети, и люди цветны и доспешны, кииждо въеводы в своем плъку, и пришли против царя (хана), и начаша ставитися и людей уставливати»[594]. Такого не видели даже опытные татарские воины, хорошо знавшие вооружение и тактику московского войска. После неудачной попытки переправиться через Оку хан повернул в Рязанскую землю к Пронску, но и оттуда вынужден был отступить с большими потерями. Велико было ликование на Москве. На победу при окских бродах радостно откликнулся из своего заточения Максим Грек. Правление Вельских продолжалось менее трех лет. В ночь на третье января 1542 года Иван Шуйский с отрядом владимирских дворян ворвался в Кремль. Переворот ознаменовался очередным свержением Думы и низложением митрополита. Иосафу подручники Шуйских «начаща бесчестие и срамоту чинити великую». Иосаф и Вельский были отправлены в Белоозеро, где князя по приказу Шуйских задушили. Сведенный митрополит через несколько лет смог вернуться в родную Троицкую обитель, где и закончил свои дни. Главными соратниками Ивана Вельского были Ю.М. Голицын-Булгак и И.И. Хабаров[595]. Первый принадлежит к роду Патрикеевых, мать второго являлась дочерью шурина Ивана Юрьевича Патрикеева казначея Д.В. Ховрина. Фамилия Ховриных на протяжении долгого времени была тесно связана с Патрикеевыми. Сам Иван Вельский был женат на дочери М.Д. Щенятева, еще одного представителя Патрикеевых[596]. Судя по тому, что во время переворота Шуйских мятежники «взяша» Петра Щенятева «у государя из комнаты задними дверми», князь П. Щенятев также был близким советником Ивана Вельского. Неудивительно, что это правительство старалось продолжать политику Ивана Юрьевича Патрикеева. Правда, как замечает И.И. Смирнов, губная реформа начата не Вельскими[597]. Действительно, судя по некоторым направлениям правительственной деятельности в годы боярского правления, по тому же вопросу расширения прав земского управления, в правящей элите был достигнут консенсус. Различия также весьма симптоматичны. Вельского, в отличие от Шуйских, характеризует большая сдержанность в предоставлении податных привелегий монастырям. Суздальский клан превращал монастырские дворы в необрочные, противостоящие посадскому тяглу, что способствовало общей политике Шуйских, направленной на тесное сближение с влиятельными монастырскими корпорациями путем предоставления им широких податных привилегий[598]. Шуйские помнили, кому обязаны победой, и любовно взращивали социальную базу своей диктатуры. При Шуйских было роздано невиданно много поместий. Так, в Тверском уезде всего за один-два года помещики получили больше земли, чем за предшествующие четыре десятилетия[599]. Хорошие времена настали и для любостяжателей, после прихода к власти Шуйских начинается освобождение монастырей от податей[600]. Правление Шуйских оставило в народе недобрую память: «Бояре и воеводы мздами и налогами и великими продажами христиан губяху. Такожде и обычные дворяне и дети боярские и рабы их творяху на господей своих зряще. Тогда же во градах и селах неправда умножися, и восхищения и обиды, татьба и разбои..». «Слезы и рыдания и вопль мног по всей Русской земле», – заключал перечень народных бедствий летописец. Глава 10 СИРОТА ИЗ РОДА АВГУСТА Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев – вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. Воспитание тирана Не лучшие воспоминания о правлении Шуйских остались у маленького Ивана, будущего Грозного царя. Когда суздальский клан пришел к власти, сыну Василия III исполнилось 12 лет, но детская память цепко схватывала причиненные обиды. Иван Васильевич впоследствии вспоминал, как «князь Иван Шуйский сидит на лавке, локтем опершись на постель отца нашего.. а на нас и не взглянет ни как родитель, ни как опекун и уж совсем ни как раб на господ. Кто же может перенести такую гордыню? Как исчислить подобные бессчетные страдания, перенесенные мною в юности? Сколько раз мне и поесть не давали вовремя. Что же сказать о доставшейся мне родительской казне? Все расхитили самым коварным образом…»[601] Иван в семь лет остался без родителей. (Пожалуй, уникальный случай среди правителей России). Его и без того печальная сиротская доля беспрестанно усугублялась бесцеремонностью и прямыми притеснениями суздальских опекунов. Костомаров, много размышлявший о характере самого Ивана и образе его правления, кропотоливо воссоздает условия формирования личности малолетнего правителя: «Он от природы не имел большого ума, но зато был одарен в высшей степени нервным темпераментом и, как всегда бывает с подобными натурами, чрезмерной страстностью и до крайности впечатлительным воображением. В младенчестве с ним как будто умышленно поступали так, чтобы образовать из него необузданного тирана. С молоком кормилицы всосал он мысль, что он рожден существом высшим, что со временем он будет самодержавным государем, что могущественнее его нет на свете, и в то же время его постоянно заставляли чувствовать свое настоящее бессилие и унижение»[602]. Иван потерял отца в четыре года. Это печальное обстоятельство уже не косвенно, посредством изъянов воспитания, а впрямую повлияло на характер будущего самодержца и его правления. Его дед Иоанн III стал единоличным властителем в 22 года, но уже с 10 лет являлся соправителем своего отца Василия II и, в свою очередь, назначил соправителем своего сына Ивана Молодого, когда тому исполнилось тринадцать. Младший сын Ивана III Василий, как мы помним, долгое время находился в тени княжича Димитрия и даже угодил в опалу после попытки заговора. Однако, и находясь в оппозиции, молодой Василий имел предметное представление о делах государственных, время от времени получая возможность опробовать себя в роли удельного властителя. Не стоит забывать и то, что его наставницей была искусный политик Софья Палеолог. Последние четыре года жизни Ивана III Василий правил совместно с отцом, а за год до его кончины фактически стал единоличным правителем Московской Руси и, наконец, занял великокняжеский трон в 26 лет. Как мы видим, и дед, и отец Ивана Грозного вступали на престол, имея уже значительный опыт государственного управления, полученный под отеческой опекой. Именно преемственность политики, усвоенных приемов и взглядов на роль правителя во многом способствовала достижению этими московскими государями поставленных целей и процветанию страны. Но Иоанну Васильевичу и его подданным не повезло. Юный великий князь приступал к самостоятельному правлению, не имея ни пресловутой «практики руководящей работы», ни необходимого багажа знаний и навыков. Хуже того, его представление о власти и властителях сформировалось не во время правления Телепнева и Вельского, у которых было чему поучиться, а позже, когда властью тешились ничтожные по своим достоинствам временщики – Шуйские, Воронцовы, Глинские, не способные преподнести отроку-государю сколь-нибудь положительные примеры. Он был одинок и предоставлен сам себе не только как вступающий в жизнь юноша, не только как неопытный правитель, не оказалось рядом с Иваном человека, способного выслушать и оценить его чаяния, которому можно доверить свои сокровенные мысли и чувства. По мнению Ключевского, «ранняя привычка к тревожному уединенному размышлению про себя, втихомолку, надорвала мысль Ивана, развила в нем болезненную впечатлительность и возбуждаемость. Иван рано потерял равновесие своих духовных сил. …О чем бы он ни размышлял, он подгонял, подзадоривал свою мысль страстью»[603]. …Шуйским словно мстила судьба. Так же как и его старший брат Василий, Иван Шуйский недолго почивал на лаврах и тешил самолюбие, попирая великокняжескую постель. Он тяжело заболел, вынужден был удалиться от дел, и главой клана стал Андрей Михайлович Шуйский. И снова младшее поколение сплоховало – Шуйские не удержали власть, но их победителем был не гуманный Иван Вельский, а дяди государя-отрока братья Михаил и Юрий Глинские. По их наущению в 1544 году Иван приказал схватить Андрея Шуйского и отдать псарям, которые его тотчас растерзали. Глинские занимали особое положение среди выехавших из Литвы князей. В первую очередь происхождением – свою родословную они вели не от Гедимина или Рюрика, а от Мамая – того самого мятежного ордынского темника, который, удирая от берегов Непрядвы, вряд ли мог полагать, что его потомок – сын Елены Глинской – займет престол Дмитрия Донского. Столь близкая родственная связь Глинских с великим князем также отличала их от прочих служилых князей. Выделялась среди не обделенных талантами литовских князей и фигура главы клана Михаила Львовича Глинского. Он воспитывался при дворе германского императора Максимилиана, жил в Италии и Испании, долгое время был на службе курфюрста Альбрехта Саксонского, где, по свидетельству Герберштейна, «пройдя все ступени воинской службы, стяжал себе славное имя»[604]. «Воспитанный в обычаях немцев, он вернулся на родину и снискал себе большое и почетное положение у короля Александра, так что король решал все трудные дела по его мнению и усмотрению», – сообщают современные исследователи[605]. Но Михаила Львовича не удовлетворяло даже его исключительное положение при литовском дворе – он, его дядя и оба брата были назначены наместниками. Бывший кондотьер вынашивал грандиозный план – создать из вошедших в Литву земель Киевской Руси отдельное государство. Ареной деятельности этого типичного для эпохи авантюриста и искателя приключений вроде Кортеса или Писарро по иронии судьбы стал не Новый Свет, а Восточная Европа. Польско-литовская аристократия давно с подозрением наблюдала за амбициозным князем, и при новом короле Сигизмунде I клан Глинских стал стремительно терять позиции. Потомки Мамая не собирались сдаваться и подняли восстание против короля, но, потерпев поражение, в 1508 году бежали в Москву. Правда, и здесь Михаил Глинский не смог удовлетворить свое честолюбие. Сыграв важную роль при взятии москвичами Смоленска в 1514 году, Михаил Львович рассчитывал, что завоеванную территорию по договоренности с великим князем ему передадут в вотчину. Но Василий не выполнил обещания. Конечно, нарушенное слово не красит государя, но, очевидно, к тому времени великий князь разобрался, с кем имеет дело, и поручать такому человеку ведать сопредельной с враждебным государством стратегически важной территорией было бы с его стороны явным недомыслием. Раздосадованный крушением своих планов Михаил Львович решил приложить старания в обратном направлении – вернуть Смоленск литовцам, о чем вступил в переговоры со своим недавним противником королем Сигизмундом. Но заговор был раскрыт. Михаила Глинского схватили и осудили на пожизненное заключение. Только спустя год после свадьбы государя и его племянницы княгини Елены Михаил Львович получил прощение и в последние годы правления Василия III вновь приобрел значительное влияние при дворе. Братья Елены не отличались столь яркими дарованиями, как ее дядя, но с тем же энтузиазмом думали о своей выгоде, и в последнюю очередь вспоминали о стране, давшей им пристанище. Потому-то они так усердно потакали самым низменным наклонностям юного государя. Шуйские приучили его к тому, что убийство – обычная примета политической жизни. Они разлучили маленького Ивана с мамкой Агра-феной Челядниной, к которой он был привязан, убили Ивана Телепнева, к которому он привык, намеревались убить, но в конце концов отправили в ссылку Семена Воронцова, с которым было сдружился мальчик. Глинские внесли свою лепту в воспитание Ивана, приучив его к тому, что он сам способен и обязан внушать страх, издеваться над окружающими и убивать и что насилие и жестокость не только остаются безнаказанными, но и являются доблестью истинного государя. В это время Иван обзавелся сотоварищами, вместе с которыми он, развлекаясь, скакал по городу, топтал и бил прохожих, а Глинские и их прихлебатели, по свидетельству Андрея Курбского, только похваливали его за удальство: «Вот это будет храбрый и мужественный царь!»[606] Искусно разжигая гнев юноши, Глинские продолжали его руками убирать своих врагов. Однажды выехавшему на охоту Ивану явились пятьдесят новгородских пищальников с жалобой на своих наместников. Иван приказал своим дворянам прогнать челобитчиков, завязалась стычка. Взбешенный Иван поручил стороннику Глинских дьяку Василию Захарову выявить подстрекателей бунтовщиков, и тот указал на князя Кубенского и двух бояр Воронцовых, которым Иван повелел рубить головы. Конюший боярин Иван Федоров удалился в ссылку, и его должность вскоре занял один из Глинских. Этот эпизод демонстрирует поведение Ивана, характерное и для его зрелых лет. В любом проявлении неповиновения, даже столь обычном для средневекового этикета действии, как подача челобитной, Иван видит направленный против него заговор. «Вечно тревожный и подозрительный, Иван рано привык думать, что окружен только врагами… Мысль, что вот-вот из-за угла на него бросится недруг, стала привычным, ежеминутным его ожиданием», – пишет Ключевский[607]. Как и в последующем, Иван не только охотно верит в самые тяжкие обвинения, но и готов немедленно и самым жестоким образом карать даже близких ему людей: один из казненных – Федор Воронцов считался любимцем царя. Глинские не только убирали конкурентов – «сильных мужей», но и мстили за смерть Михаила Львовича, казнив сына Ивана Телепнева – Федора. Вместе с ним был убит и его двоюродный брат 18-летний князь Иван Дорогобужский. Первый был посажен на кол против Кремля на замоскворецком лугу (наверное, первая такого рода казнь на Руси), второй «ссечен на льду». По приказу Ивана удавили 15-летнего князя Михаила Трубецкого. Если мы возвратимся в совсем недавние времена, то, исключив казни еретиков по соборному приговору и династические расправы над удельными князьями, сможем вспомнить только казнь Семена Ряполовского при Иване III и Берсеня-Беклемишева при Василии. Не достигнув 17 лет, Иван уже перещеголял отца и деда по количеству пролитой крови.  Казни бояр под Коломной
Между тем рядом с юным государем находился человек, который по своему положению и качествам был способен и, более того, обязан оказать на Ивана самое благотворное влияние – митрополит Макарий. Волоцкий питомец, кажется, избежал крайних проявлений многих черт, характерных для любостяжателей. Он охотно прибегал к интригам, но изощренным вероломством не отличался, любил власть, но ради нее не шел на кровавые преступления, преследовал инакомыслящих, но без маниакальной настойчивости и ненависти, присущих первым воспитанникам преподобного Иосифа. Макарий, пожалуй, самый образованный пастырь волоцкой школы, но, как всякий книжник-иосифлянин, подозрительно относящийся к любому «мнению», он компилятор, но не творец. Его усердием создан грандиозный компилятивный труд «Великие Четьи минеи» – попытка собрать в одной книге сочинения самого разного характера, «которые в Русской земле обретаются» – от «Просветителя» Иосифа Во-лоцкого до географических трудов Космы Индикоплова. «Четьи…» предназначались для месячного чтения и соответственно разбиты на 12 томов, хотя одолеть за календарный месяц том форматом в полный лист и объемом почти в тысячу страниц было под силу не каждому книжнику[608]. Митрополичьи сказки Всю осень и начало зимы 1546 года Иван провел в увеселительной поездке по городам, весям и монастырям, в которой его сопровождало целое войско – три-четыре тысячи приближенных. Собрав столь изрядную толпу оболтусов, юный великий князь «християном много протори учинил», развлекаясь насилиями, грабежами и поборами. В Москве натешившегося Ивана ожидал приятный сюрприз. На следующий день по возвращении в столицу после беседы с митрополитом юный государь вдруг объявляет о своем намерении принять царский венец. Торжественная церемония состоялась 16 января 1547 года. Историки не сомневаются в том, что именно Макарий был если не инициатором венчания Ивана IV на царство (хотя это представляется наиболее вероятным), то руководителем этого мероприятия, предопределившим выбор места и дня венчания и его «чин»[609]. Оказалось, что митрополит, не стяжавший лавров на ниве наставничества, в угождении властителю проявил недюжинную изобретательность, могучий талант компилятора и панегириста. Для чина венчания на царство Ивана Макарий приспособил «Сказание о князьях Еладимирских» и «Послание о Мономаховом венце» Спиридона-Саввы. На первый взгляд, Макарий следовал в русле концепции «Москва – Третий Рим», между тем православный иерарх обращался скорее к императорскому Риму, нежели к византийской традиции. Благословения византийских императоров для величия царской власти оказалось недостаточно. Из творения Спиридона-Саввы был позаимствован легендарный персонаж – брат императора Октавиана Августа Прус. Этот Прус, которому якобы достались города на Висле и Немане, и стал основателем рода Рюриковичей[610]. С помощью столь ловкого маневра Макарий превратил Иоанна Васильевича в прямого потомка «от рода римска царя Августа». Но языческий римский цезарь – это не христианский византийский владыка, это даже не наместник Бога на земле, а живое божество для своих подданных. Трудно предположить более неудачное время и неуместную форму для подобных панегерических экзерсисов. Как мы уже отмечали, все эти пышные аналогии со «вторым Константинополем» и «Третьим Римом» мало что значили и для Ивана III, и для Василия III. Другое дело – малолетний Иван, который с самых ранних лет чувствовал себя природным государем, подчеркивая то обстоятельство, что «мы… по Божию изволению и по благословению родителей своих как родились на царстве, так и воспитались и возмужали, и Божиим повелением воцарились»[611]. Однако вместе с тем слишком часто в начале своей жизни он испытывал унижение и страх. Уязвленное самолюбие и тревожная фантазия лишь подталкивали его к бегству в выдуманный книжный мир. Об этом замечательно пишет Ключевский: «С детства затверженные… любимые библейские тексты и исторические примеры отвечают на одну и ту же тему, все говорят о царской власти, о ее божественном происхождении… Упорно вчитываясь в любимые тексты и исторические примеры и бесконечно о них размышляя, Иван постепенно и незаметно создал себе из них идеальный мир, в который уходил, как Моисей на свою гору, отдыхать от житейских страхов. Он с любовью созерцал эти величественные образы ветхозаветных избранников и помазанников Божих – Моисея, Саула, Давида, Соломона. Но в этих образах, как в зеркале, старался разглядеть самого себя, свою собственную царственную фигуру, уловить в них отражение своего блеска или перенести на себя отблеск их света и величия. Понятно, что он залюбовался собой, что его царственная особа в подобном отражении представилась ему озаренною блеском и величием, какого не чуяли на себе его предки, простые московские князья-хозяева. Иван IV был первый из московских государей, который узрел и живо почувствовал в себе царя в настоящем библейском смысле, помазанника Божия. Это было для него политическим откровением, и с той поры его царственное «я» сделалось для него предметом набожного поклонения»[612]. Внушить рано ожесточившемуся и впечатлительному юнцу цветистую сказку о божественной силе царской власти, воплотить ее в пышной церемонии, закрепить в официальном титуле – ничего более разрушительного для формирования личности Ивана, его представления о смысле возложенной на него миссии придумать было невозможно. О том, сколь много значила для Ивана сказка про Пруса, можно понять из его переписки с европейскими монархами. Грозный истерически реагировал на скептические замечания корреспондентов (например, польского короля Стефана Батория) относительно его императорского происхождения. Вот что писал царь шведскому королю Юхану III в 1573 году: «А что писал еси о Римского царства печати, и у насъ своя печать от прародителей нашихъ, а и римская печать намъ не дико: мы от Августа кесаря родствомъ ведемся, а ты усужаешъ нам то противно Богу – что намъ Бог дал, и ты и то у нас отнимаешь; мало тебе нас укарять, ты и на Бога уста разверз»[613]. Здесь мы видим странную, но типичную для Ивана «причинно-следственную связь»: раз Юхан сомневается в римском родстве московского государя, данном ему Богом, значит, король богохульствует. Несколькими строками ранее Грозный предлагает Юхану представить доказательства, «что ты мужичей роль, а не государьской». Между тем отец Юхана Густав Ваза происходил из старинной дворянской фамилии. Интересно, какие документальные подтверждения происхождения от Августа имелись в распоряжении Ивана Васильевича? Даже в послании скромному литовскому воеводе Александру Полубенскому самодержец не забывает похвастаться, что он потомок Пруса в четырнадцатом колене[614]. Примечательно, что сам митрополит Макарий в своем послании виленскому епископу, затрагивая тему венчания Ивана на царство, вспоминает его предка Владимира Святого, а о Прусе помалкивает, очевидно, прекрасно сознавая нелепость намеков на императорское происхождение юного монарха[615]. Похоже, что Макарий сам не верил в римскую сказку, но счел полезным поразить ею впечатлительного Ивана. Педагогические достижения Макария заслужили благостного отзыва С.Ф. Платонова: «Способный и умный юноша охотно и легко поднимался на высоты Макарьева миросозерцания и вместе с литературными знаниями усвоил себе и национально-политические идеалы, которым веровала окружавшая Митрополита среда»[616]. «Национально-политические идеалы» Грозного отличались известным своеобразием. Так, по сообщению Джильса Флетчера (очень непохожему на выдумку), Иоанн Васильевич в разговоре с ювелиром-англичанином принялся ругать русских, а когда англичанин напомнил царю, что он и сам русский, тот ответил следующим образом: «Я так и думал (отвечал царь), но ты ошибся: я не русский, предки мои Германцы»[617]. Правда, сам С.Ф. Платонов, спустя несколько абзацев, опровергает самого себя. Сказывается, что «воспринятые умом благородные мысли и широкие стремления не облагородили его души и не исцелили его от моральной порчи. Красивым налетом легли они на поверхности, не проникнув внутрь, не сросшись с духовным существом испорченного юноши»[618]. Макарий, преуспев в устроении внешнего благолепия, оказался бессилен исцелить больную душу мальчика-монарха. Впрочем, вряд ли мы имеем право сурово порицать митрополита за то, что он оказался богат книжной мудростью, а не житейской. В этом он даже походил на своего питомца. Желая ему добра, архипастырь решил воспользоваться его жадным интересом к литературе, дабы наставить на путь истинный. Но он плохо распознал характер царя. Выдуманному, питаемому книжными образами миру Ивана митрополит придал зримые черты, освятил жестокие фантазии и предрассудки церковным благословением, укрепил испорченного юнца в осознании собственного величия и непогрешимости. То, что поведение Ивана осталось прежним после венчания на царство, ярко иллюстрирует эпизод с делегацией псковичей, явившихся в июне 1547 года к царю жаловаться на бесчинства наместника князя Турунтая-Пронского. Мы видим, что реакция Ивана не изменилась за те два года, что прошли с того момента, когда к государю с челобитной обратились новгородцы. «Внутренне обновленный» Иван велел раздеть псковичей, положить на землю, поливать горячим вином, палить волосы и бороды. Тем временем «идеалы, которым веровала окружавшая Митрополита среда», плодились и множились. Вслед за венчанием Ивана на царство в феврале 1547 года Макарий собрал церковный собор, на котором к лику общецерковных святых было причислено тридцать русских князей, иерарахов и подвижников. До этого момента за пять с половиной веков минувших с Крещения Руси церковь признала общепочитаемыми 22-х чудотворцев[619]. К этой массовой кооптации иосифляне готовились давно. Еще в 1531 году во время соборного суда над Вассиа-ном Патрикеевым Даниил попрекал князь-инока за то, что тот не считает Иону и калязинского игумена Макария чудотворцами. Несмотря на драматизм обстановки, Патрикеев не скрывал саркастического отношения к чудотворным способностям новоявленных святых: «Про то знает Бог да ты своими чудотворцами»[620]. На первом месте среди прославляемых оказался митрополит Иона, чья главная заслуга в глазах иосифлянского большинства собора (четверо из семерых епархиальных владык) заключалась в его борьбе за независимость русской церкви от константинопольского патриарха Ионы. Излюбленные «партийные» авторитеты иосифлян Пафнутий Боровский и Макарий Калязинский заслужили звание «великих чудотворцев», прочие менее достойные удостоились «титла» «новых чудотворцев». Среди них такие знаменитые подвижники, как Михаил Клопский, Павел Обнорский, Александр Свирский, Савва Сторожевский, Зосима и Савватий Соловецкие. В то же время «великим чудотворцем» признан живший в XII веке архиепископ Новгородский Иоанн. Православная энциклопедия начала прошлого века не награждает Иоанна никаким «титлом», упоминая лишь, что сей владыка прославился тем, что во время осады Новгорода Андреем Боголюбским в 1140 году вышел на городскую стену с иконой Богоматери, после чего суздальцев поразил страх и они бежали прочь от города[621]. Похоже, что митрополит Макарий, канонизируя епископа Иоанна, воздавал должное своим предшественникам и новгородской кафедре. Но не только. Эпизод с осадой Новгорода Андрем Боголюбским напоминает обстоятельства мятежа Андрея Старицкого 1537 года. Князь Андрей Иванович пошел на Новгород, и малолетний Иван и регентша Елена Глинская велели своим воеводам «дела великого князя беречь с владыкою (то есть с архиепископом Макарием. – М.З.) и съ наместники заодинъ»[622]. Правда, Андрей Старицкий до новгородских стен не дошел, встретив рать Ивана Телепнева под Русой, он также «убоялся» противника и, не приняв бой, вступил в переговоры. Макарий, хотя и не обращал в бегство вражеское войско, играл не последнюю роль в подавлении мятежа против великого князя, о чем был не прочь напомнить Ивану. Тем более что иные эпизоды митрополит предпочел бы предать забвению. У Макария был свой «скелет в шкафу». На митрополичью кафедру новгородского владыку возвели ненавистные молодому царю Шуйские. На связь Макария с Шуйскими указывали еще Карамзин и Соловьев, что попытался опровергнуть Е.Е. Голубинский, на наш взгляд, не совсем убедительно. Так, историк указывал, что «если бы Макарий искал кафедры митрополичьей, то он постарался бы получить ее от Шуйского по низвержении Даниила»[623]. Но Даниил и Макарий принадлежали к одной церковной группировке, которая в то время активно поддерживала врагов Шуйских – Ивана Телепнева и Елену Глинскую. Свою лояльность регентше и ее фавориту они подтвердили буквально накануне низвержения Даниила – при подавлении мятежа Андрея Старицкого. Потому в феврале 1538 года Макарий никак не мог рассчитывать на благосклонность Шуйских. Тем более суздальские князья торопились: выбор митрополита из трех кандидатов произошел на третий день по низведении Даниила. Скорее всего, временщики на самом деле не имели ни времени, ни желания тщательно готовиться к избранию предстоятеля. Единственное их требование к кандидатам состояло в том, чтобы те не принадлежали к иосифлянам. Но Шуйским, как мы знаем, не повезло. Мы готовы согласиться с Е.Е. Голубинским, что Макарий «не только не искал кафедры митрополии, а напротив принужден был занять ее», а также с тем, что на тот момент он являлся достойнейшим кандидатом в предстоятели церкви[624]. Но из этого не следует, что новгородский архиерей пассивно наблюдал за происходившим, ожидая, как будут разворачиваться события. Макарий готовился к перемене в своей судьбе, руководствуясь при этом не столько соображениями личной карьеры, сколько интересами любостяжательского движения и изменившейся политической ситуацией. После того как Иван Вельский и митрополит Иосаф попытались ограничивать податные льготы монастырей, иосифлян и Шуйских объединил общий враг. Правда, и при жизни Глинской власти старались ущемить имущественные интересы церкви, но тогда при Телепневе и Данииле любостяжатели сохраняли, хотя и малозаметное, влияние при дворе, да и опасались выступать открыто против верховной власти. Теперь у иосифлян не на кого было опереться в Кремле, зато у них появились могущественные союзники в лице Шуйских, мечтающих расправиться с Иваном Вельским и «предателем» митрополитом.  Митрополит Макарий
В подобной ситуации новгородский владыка становился главной надеждой любостяжателей партии. Макарий не мог не знать о грядущем мятеже, который подготавливался в его епархии. Епископ пользовался популярностью у служилых людей Новгорода, которые сыграли особую роль при свержении Ивана Вельского и возращении Шуйских к власти[625]. Вероятно, низложение Иосафа и возведение Макария в сан митрополита были запланированы Шуйскими и иосифлянским епископатом заранее. По мнению А.А. Зимина, Макарий впоследствии оказывал важные политические услуги суздальскому клану[626]. Но осторожный митрополит опасался тесно связывать себя с какой-либо группировкой, и в первую очередь с Шуйскими, лавируя между ними, он выжидал, кто же станет победителем. Огненньй заговор Расширив когорту святых на соборе, оказав венчанием столь впечатляющую услугу молодому государю, Макарий потрафил и клану Глинских, которые были весьма заинтересованы в укреплении власти Ивана. Могущество Глинских достигло апогея: бабка царя Анна с детьми получила обширные земельные владения на правах удельного княжества, Михаил Глинский стал конюшим, а его брат Юрий – боярином[627]. В эти же недели, когда проходит венчание на царство, а затем и свадьба Ивана и Анастасии Романовой, казнили молодых Федора Телепнева и Ивана Дорогобужского. Шли месяцы, а новоиспеченный царь не проявлял ни малейших признаков духовного перерождения или озабоченности состоянием дел в государстве. «Великий князь Иван встал у кормила власти, не будучи подготовлен к роли правителя огромной державы, – замечает Р.Г. Скрынников. – Любой властитель начинал свое правление с амнистий и милостей. Иван явился перед подданными в роли немилостивого государя»[628]. Но именно в июньские дни 1547 года произошел решительный поворот в поведении царя и его образе мыслей. В то время как его подручные издевались над псковскими челобитчиками, пришло известие, заставившее Ивана вернуться в Москву: он узнал о падении большого колокола – «таков колокол прежъ того не бывал на Москве» – с колокольни Благовещенского собора. Падение колокола издавна считалось дурным предзнаменованием. Предвестие большой беды москвичи увидели и в поведении юродивого Василия, который, горько плача, взирал на церковь Воздвижения на Арбате. На следующий день в этой самой церкви вспыхнул пожар. Распространившись по Воздвиженке, он перекинулся в Китай-город и восточную часть города. Пострадал и Кремль: огонь уничтожил многие храмы и монастыри, и среди них Благовещенский собор с иконостасом работы Андрея Рублева. Взрывались пороховые склады, горели хлебные житницы. Составители летописей единодушно отмечают, что «…таков пожар не бывал в Москве, как и Москва стала именоватися»[629]. Сгорели в огне и задохлись в дыму тысячи человек, десятки тысяч горожан оказались без хлеба и крова, а тот год и без того выдался голодным. В эти тревожные дни по городу стали разноситься слухи о том, что зачинщиками бедствия стали некие колдуны, которые вырезали человеческие сердца и кропили дома «сердечным настоем», вызвавшим пожар. Вскоре молва вместо неведомых колдунов стала называть конкретных виновников народного несчастья – цареву бабку Анну Глинскую с «детьми и людьми». «А сии глаголаху черные людие того ради, что в те поры Глинские у государя в приближение и в жалование, а от людей их черным людем насильство и грабеж…» – поясняет летописец[630]. За слухами последовали действия: разъяренная толпа вытащила Юрия Глинского из Успенского собора и здесь же на площади закидала каменьями. На этом москвичи не успокоились и спустя несколько дней двинулись на Воробьево, где находился царь, с требованием выдать на расправу Анну Глинскую. Толпу удалось рассеять выстрелами, но на молодого царя все перечисленные события произвели столь живое и глубокое впечатление, что он совершенно переменился и в своем отношении к окружающим, и в делах государственных. Этому немало способствовала яркая и убедительная речь иерея Сильвестра, обличавшего пороки царя, которые, по его мнению, послужили причинами всех несчастий и навлекли небесную кару на юного монарха. Такова традиционная версия событий июня 1547 года. Но произошедшие с Иваном метаморфозы столь необычны и важны для понимания последующих событий царствования Грозного, что самого подробного рассмотрения требуют все сопутствующие этой перемене обстоятельства. Вернемся на несколько месяцев назад – в начало 1547 года. Если венчание на царство Ивана в январе стало пиком могущества Глинских, то уже 3 февраля состоялась свадьба молодого царя и Анастасии – дочери покойного Романа Юрьевича Захарьина, изменившая расстановку политических фигур. Начинается новый этап – возвышение Захарьиных-Юрьевых. После кризиса лета 1534 года Захарьины ушли в тень, где пребывали в течение тринадцати лет. Несмотря на свою сплоченность и влияние, старомосковский клан никогда не старался играть «первым номером». Захарьины – мастера придворной интриги, или, как выразился И.И. Смирнов, «практические политики»: им противопоказан открытый бой, которого они всячески стараются избежать. Их конек – умение расположить к себе правителя, но это должен быть «природный государь», силой и авторитетом которого будут сильны и Захарьины. Не случайно во время «великой замятии» они остались не у дел, сознательно уступая инициативу уничтожавшим друг друга временщикам. Но как только ситуация стабилизировалась и Иван Васильевич заявил о себе не как о номинальном, а как о реальном самодержце, Захарьины мгновенно сделали первый и очень сильный ход. Родственницы царицы стали центром притяжения всех сил, недовольных правлением Глинских. К ним присоединяется и митрополит Макарий. Он имел причины быть недовольным могущественными временщиками, которые стремились урезать даже полномочия предстоятеля русской церкви. Кроме того, Макарий как проницательный царедворец, переживший несколько переворотов, догадывался, что звезда Глинских клонится к закату, и поспешил встать на сторону будущих временщиков. Так сложилось некое подобие «антиглинской» коалиции, в первую очередь между Шуйскими и Захарьиными, но именно подобие, так как недовольство способно послужить толчком для выработки программы действий, но если даже оппозиционеры дошли до обсуждения конкретных планов (что весьма сомнительно), они должны были решить, какие именно шаги им необходимо предпринять. Никто не забыл жестоких и скорых расправ, совершенных по указке Глинских, причем в числе казненных, как уже говорилось, оказывались недавние любимцы Ивана. Так что Захарьины не могли рассчитывать на то, что покровительство государя и родство с царицей спасет их от расправы. Открытое вооруженное выступление против родственников царя казалось немыслимым – прошли времена, когда Василий Шуйский врывался в Кремль и учинял там погром. Да и любой мятеж, после того как Ивана венчали на царство, был бы, несомненно, расценен как государственная измена. Обличить Глинских перед царем – но в чем? В народных бедствиях, лихоимстве наместников, неправедном суде? Но к этим темам Иван решительно равнодушен. Зато всем известно гневное неприятие царем обличителей и обличений, которые, будучи направленными на Глинских, непременно затронули бы и самого царя. Иван подозрителен: заговорщики могли использовать это качество характера, чтобы осторожно, исподволь сеять в его душе семена недоверия к Глинским. Но для этого нужны благоприятные условия и время, а оппозиционерам каждый день мог преподнести самые неприятные сюрпризы. Противникам временщиков оставалось «действовать по обстоятельствам». И обстоятельства не преминули обнаружиться. В апреле 1547-го в Москве случились первые в том году грандиозные пожары – сначала в Китай-городе, а потом в Заяузье – в Кожевниках и Болвановке. В общей сложности в городе сгорело более четырех тысяч дворов. Тогда впервые возникли слухи о «зажигальниках». Многих подозреваемых в поджогах после допроса с пристрастием казнили самыми разнообразными способами: секли головы, сажали на кол, «и в огонь их в те же пожары метали». С.О. Шмидт полагает, что правительство Глинских поддержало версию о «зажигальниках», а быть может, и инспирировало эти слухи, дабы народное возмущение обратить против коварных злодеев. Вместе с тем исследователь не исключает, что враги Глинских действительно наняли поджигателей[631]. Как бы то ни было, апрельские пожары приобрели политическое звучание и стали своеобразной репетицией июньских событий, так как наглядно показали, каким образом и по какому руслу можно без особых усилий направить гнев возбужденной толпы. Поэтому, когда в июне над Воздвиженкой занялось огненное зарево, противники Глинских уже знали, что им следует делать. Слухи о поджогах теперь прочно связывались с чародейством бабки царя Анны и ее родичей. Впоследствии Иван прямо говорил о том, что народное возмущение было преднамеренно направлено по определенному адресу: «наши изменники-бояре… (я назову их имена, когда найду нужным), как бы улучив благоприятное время для своей измены, убедили скудоумных людей, что наша бабка, княгиня Анна Глинская, со своими детьми и слугами вынимала человеческие сердца и колдовала, и таким образом спалила Москву…»[632] Очевидно, принимая во внимание обычную подозрительность Ивана и его беспрестанные обличения выдуманных боярских преступлений, историки не слишком обращают внимание на мнение Грозного относительно данного эпизода, которому, на наш взгляд, нет оснований не доверять. Тем более Иван сдержал свое обещание и «назвал имена «изменников-бояр», когда нашел нужным» – при правке официальной летописи – Царственной книги. По мнению Грозного, в «совете» с взбунтовавшейся чернью были Федор Шуйский и Иван Федоров[633]. Отметим, что все они имели основания желать низвержения Глинских. Знаменитый афоризм Карамзина: «Для исправления Иоаннова надлежало сгореть Москве» – звучит многозначительной недомолвкой, словно автор либо узнал, либо догадался о той роли, какую представители правящей династии – Захарьиных-Юрьевых-Романовых играли в событиях 1547 года, о чем придворному историографу приличествовало помалкивать[634]. Обвинения в поджогах упали на благодатную почву. Глинские оказались беспомощны перед стоустой молвой. Народные низы охотно верили в злодейство могущественных временщиков, притеснявших городской люд. Кто-то явно подсказал толпе мысль о цели учиненного злодейства, припомнив Глинским их татарские корни, временщиков обвинили в пособничестве крымскому хану, войско которого замаячило вблизи русских рубежей. Великий московский пожар начался 21 июня. 22 июня было назначено боярское расследование. 23 июня Иван отправился на службу в Успенский собор, а после – в резиденцию митрополита в Новинский монастырь, где состоялось чрезвычайное заседание Боярской думы. Участники собрания, очевидно, основательно к нему подготовленные, обрушились с попреками и наставлениями на Ивана, и без того напуганного разгулом стихии и накалом народного возмущения.  Восстание в Москве 26 июня 1547 года
Подобный шанс нельзя было упустить: юный монарх оставался глух к доводам разума и призывам к добродетельному житию, но в те дни робкий и впечатлительный Иван был буквально парализован разразившейся катастрофой. Плевела гордыни и ожесточения на некоторое время освободили его душу для благотворного воздействия и исправления. Первую скрипку в этом боярском оркестре играл Макарий, «поучая его на всякую добродетель, елико подобает царем православным быти». В эти минуты становилось реальным то, что несколько дней назад было невозможно представить. Стоило митрополиту напомнить царю об опальных и повинных, Иван тут же их «пожаловал». Впрочем, как полагает С.О. Шмидт, поучал царя не столько митрополит, который «разбился велми», спускаясь по веревке из горящих кремлевских палат, сколько протоиерей Сильвестр[635]. Он прибыл вместе с Макарием из Новгорода. Митрополит ценил своего добродетельного и образованного сотрудника, назначив его настоятелем Благовещенского собора, а затем и приблизив к царю. Возможно, впоследствии, когда Сильвестр стал особо доверенным лицом Ивана, Макарий жалел о своем поступке, но тогда он, очевидно, посчитал, что Ивану необходим наставник, который способен восполнить его собственные педагогические провалы. Заметим, что широковещательные поучения малоизвестного тогда священника на собрании высших сановников выглядят необычно. Впрочем, случай был исключительный. Думается, что бояре в этот день при нужде пригласили бы в митрополичьи палаты и «нагоходца» Василия Блаженного. Но эффект, произведенный проповедью Сильвестра, превзошел все ожидания. На достопамятном совещании в Новинском монастыре психологическая обработка, велась параллельно с политической. Нельзя сказать, в какой именно форме была преподнесена Ивану информация о связи Глинских с пожаром и поджигателями, выступавшими на совещании боярами Федором Скопиньм-Шуйским, Иваном Федоровым и царским духовником Федором Барминым. Ясно только, что оправдывать Глинских бояре не собирались. С.О. Шмидт полагает, что политическая судьба Глинских на том совещании была решена в том смысле, что их роль при дворе должна была уменьшиться[636]. Этот вывод, по мнению историка, подтверждает спешный отъезд из Москвы Анны и Михаила Глинских. Но этот поступок возможно вынужден не политическими последствиями совещания у митрополита, а продиктован соображениями личной безопасности. Соображениями, как показали дальнейшие события, вполне обоснованными. Спустя три дня после синклита в Новинском монастыре, 26 июня, бояре, которым было поручено сыскать «зажигальников», «приехаша к Пречистой к соборной на площадь и собрата черных людей и начаша въвпрашати: хто зажигал Москву». Черные люди тут же указали на Глинских: «Они же начаша глаголати, яко княгини Анна Глинская з своими детми и с людми вълхвовала…»[637] Тем временем народное возмущение не успокаивалось, а, напротив, усиливалось, принимая организационные формы вечевых собраний. Участники одного такого «вече» пришли к Успенскому собору, выволокли оттуда Юрия Глинского, находившегося на литургии вместе с остальными боярами, и растерзали князя на площади. С.О. Шмидт полагает, что собрания москвичей «вынудили бояр явиться для уговоров (а может быть, и объяснений) на кремлевскую площадь»[638]. Между тем летописная запись прямо указывает на то, что инициаторами разбирательства выступили бояре. Очевидно, в толпе перед Успенским собором находились наученные заговорщиками люди, которые сразу стали выкрикивать обвинения против Глинских. При этом не стоит упускать из виду то обстоятельство, что стихия народного возмущения обычно выходит из-под контроля сил, вызвавших ее к жизни. Подстрекатели восстания, направляя его разрушительную силу в нужное им русло, были не в состоянии предположить, в какой степени бурные события окажутся воплощением задуманного плана, а в какой – результатом «революционного творчества масс». Итоги совещания 23 июня не могли удовлетворить противников Глинских. Князь Михаил, переждав волнения, мог возвратиться в столицу, после чего все потекло по-старому. Поэтому Захарьины, Шуйские, представители других боярских родов, опасаясь, с одной стороны, размаха народного возмущения, одновременно были заинтересованы в его эскалации. Вряд ли бояре, вышедшие на Соборную площадь, запруженную бушующей толпой, – дядя царицы Григорий Захарьин, Юрий Темкин, Федор Скопин-Шуйский, возвращенный из опалы Иван Федоров – чувствовали себя комфортно среди возмущенных горожан, но еще менее они желали спасти от гибели Глинского. Расправы над князем Юрием и «северскими» людьми, которых привели с собой Глинские и на поддержку которых они могли рассчитывать, играли на руку вдохновителям мятежа. Но и после расправы над князем Юрием волнения в Москве не прекратились. Власть в Москве в эти дни перешла в руки горожан, которые выражали свою волю не только посредством вечевых сходок, но и в форме распорядительных земских органов. 29 июля составленное москвичами ополчение, действовавшее от имени и по «велению» земских органов, возглавляемое официальным лицом – городским палачом, – двинулось на Воробьеве, где находился царь. Столичные жители решили потребовать от Ивана выдачи Анны Глинской и князя Михаила, якобы там скрывавшихся, и, кроме того, призывали собрать военные силы ввиду известий о подходе крымских татар. Но Глинских в Воробьеве не было, известия о набеге крымцев оказались ложными, и после переговоров ополченцы вернулись в город. Власти решились «учинить опалу» в отношении лишь нескольких зачинщиков, да и те, очевидно, отделались мягким наказанием. Исправление Иоанново Несмотря на мирный исход инцидента, появление в царской резиденции грозного вооруженного отряда простолюдинов да еще во главе с палачом довершили смятение в душе молодого государя, и без того пораженного бурными событиями предыдущих дней. Царь, как свидетельствует новгородский летописец, «увидев множество людей, удивися и ужасеся». Спустя четыре года, выступая перед Стоглавьм собором, Иван так вспоминал события июня 1547 года: «От сего убо вниде страх в душу мою и трепет в кости моя и смирися дух мой». Однако не животный физический страх перед возможной расправой смирил гордый дух государя. Чтобы лучше понять причины разительных перемен в образе мыслей и характере правления Ивана, постараемся представить, какие мысли и чувства терзали его в июне 1547 года. Еще совсем недавно, когда государь был слабым подростком, которого при каждом удобном случае унижали всесильные временщики, мысли о верховной власти, его размышления над прочитанными книгами переплелись с мечтами о мести, желанием ответить на силу еще большей силой, на жесткость – еще большей жесткостью. Наконец мечтания воплотились в реальность – Иван стал полноправным правителем в том сложившемся в его сознании понимании смысла власти, которое указывало государю на то, что теперь он получил возможность безнаказанно творить любые насилия и бесчинства. Никто не смеет перечить его единоличной воле, возразить или подвергнуть сомнению принятые им решения. Венчание на царство лишь укрепило подобное представление Ивана о предназначении государя. Его безумства отныне освящены церковным благословением, родством с римскими цезарями, громким титулом. После следует женитьба на любезной его сердцу девице, Ивану еще нет и семнадцати (родился 25 августа 1530 года), а он уже воплотил иосифлянский идеал, уподобившись своей властью «вышнему Богу». Все в его воле, которой никто и ничто на земле не способно поставить предел. Правда, это не христианский триединый Бог, а скорее ветхозаветный Иегова, немилосердный и жестокий. И вдруг события нескольких дней демонстрируют пораженному Ивану, что его представления о безграничности его власти, о мире вокруг него, представления, в которых он до последнего времени все более укреплялся – всего лишь иллюзия. Он увидел воочию, что самый могущественный властитель бессилен перед природной стихией и народным возмущением, что его подданные – не немая безликая масса «черных людей», обреченных на рабскую покорность, а «мир» – грозная сила, способная без особенных усилий лишить его и власти, и жизни. Он видит, что воля самодержца не способна противостоять воле всей «земли». Впрочем, он тогда же понял, что народное волнение можно направить в нужное русло, чем впоследствии так виртуозно пользовался Грозный царь. Но сейчас вознесенный силой своей фантазии на сверкающую вершину, Иван вдруг оказался низверженньм на дно пропасти. Когда казалось, что страх и унижение навсегда остались в его горемычном детстве, они неожиданно вернулись в еще более грозном обличье; и в миг совершилось обратное превращение: внушающий трепет властелин обернулся дрожащим от ужаса подростком. Столь поразительное воздействие проповеди Сильвестра обусловлено еще и тем, что, по позднейшему признанию и самого Грозного и его оппонента Курбского, протоиерей напугал его детскими «страшилами» – некиими картинами, полными пугающих чудес: «претяще ему от Бога Священными Писаниями и срозе заклинающе его страшным Божиимъ именем, еще к тому и чюдеса и аки бы явление от Бога поведающе ему – не вемь, аще истинные, або такъ ужасновение пущающе, буйства его ради и для детских неистоваых его нравов умыслил был собе сие. Яко многажды и отцы повелевают слугамъ детей ужасати мечтательными страхи, и от излишнихъ игор презлых сверсников»[639]. Нечаянно или же выказав незаурядное знание психологии, Сильвестр нанес удар в наиболее чувствительное место Ивана, который охотнее всего верил неведомым угрозам, подстерегающим его на каждом шагу. Примечательно, что в своем первом послании Курбскому Иван несколько раз повторяет, что Сильвестр и его сподвижник Алексей Адашев запугали его подобно неразумному младенцу. «И не пытайтесь запугать меня, как пугают детей и как прежде обманывали меня с попом Сильвестром и Алексеем..» – предупреждает он князя. «Ты опять помышляешь помыкать мною, как младенцем, — ведь вы называете гонением то, что я не хочу, подобно ребенку, поступать по вашей воле. Вы же всегда хотите стать моими властителями и учителями, словно я младенец»[640]. Очевидно, что комплекс ограниченной самостоятельности, присущий переходному возрасту, свидетельствует не только об инфантилизме 33-х летнего автора этих строк, но и о том, что Сильвестр верно нащупал брешь в броне жестокосердия, покрывшей душу молодого монарха. Как бы то ни было, митрополиту Макарию и протоиерею Сильвестру удалось убедительно доказать Ивану, что власть, употребленная им во зло, явилась причиной народного возмущения, породила смертельную угрозу для государства и самого государя. Так вместо одного мировоззрения, порожденного ожесточенностью сердца, пылкостью воображения и сиротством души, Ивану имплантируют другое – образ идеального монарха, исполненного милосердия и прочих добродетелей; монарха, который прислушивается к мудрым советам государственных мужей и соотносит свои действия с евангельскими заповедями и нуждами государства. Как отмечал А.С. Хомяков, юный монарх «пленился великим образом царя благодетеля», «покаялся не как христианин, не как грешник, убитый своей совестью и плачущий перед Богом в чувстве своего духовного унижения, нет – самое его покаяние, пышное и всенародное, было окружено блеском торжества»[641]. Иван с жаром кающейся души, энтузиазмом неофита и природным темпераментом принялся примерять на себя этот образ, который, как он искренне верил, на этот раз надежно защитит его от реальности с ее угрозами и соблазнами. Так одну фантазию сменяет другая, жестокий язычник превращается в добродетельного христианина, безрассудный деспот – в мудрого царя. Но сущность Ивана – тщеславного, малодушного фантазера, который презирает и боится окружающих, остается прежней, меняются лишь маски, личины. Правда, эту маску Иван надевает на многие годы. Легко представить, почему целые поколения историков пленил этот мелодраматический поворот: Иван, еще вчера беспощадный тиран, сегодня милует опальных, вчера грабивший церковные сокровища, сегодня раздает из своей казны церквам «по 20 рублев», вчера разорявший простолюдинов, сегодня попечительствует оставшимся без крова. Иван кается в своих прегрешениях, каются бояре, каются черные люди. С.О. Шмидт насчитывает три представительных собрания в 1547, 1549 и 1550 годах, перед участниками которых царь публично печалился о прежних проступках, а умиленные очевидцы спешили, в свою очередь, очистить свою душу раскаянием[642]. «Все жде людие умилишася и на покаяние уклонишася от главы и до ногу, яко же сам благочестивый царь, тако же и вельможи его, и до простых людей вси сокрушенным сердцем, первая греховная дела возненавидевши, и вси тщахуся и обещевахуся богу угодная дела сотворити, елика кому возможна»[643]. Даже значительно позже, в августе 1552 года под стенами осажденной Казани Иван счел уместным собрать «всех воинов, кои с ним в полку», и «говорил умильно» о своем желании «недостаточная наполняти и всяко пожаловать», а те в ответ поклялись государю, что «единомысленно с ним побарают за благочестие пострадати». Мы вскоре узнаем, как удалось царю справиться с его новой ролью. Глава 11 СОВЕТНИКИ И СОВЕТЧИКИ Наперебой устраивали встречи В полях, поместьях, селах, городах, Стояли на мостах и на дорогах, Шли на поклон, несли ему дары, Тянулись бесконечной вереницей И отдавали сыновей в пажи. Тогда, уверившись в любви народа, Он стал без страха отступать от клятв, Отцу когда-то данных в дни гонений На голом Ревенспергском берегу. Он стал преобразовывать законы, Стеснительные для простых людей, Он говорил про злоупотребленья И плакал над невзгодами страны. Игрою и притворством он добился Чего хотел. Он покорил сердца И сделал дальше шаг… Карающая правда Скорее всего летописец ненамного преувеличил настоятельную потребность в раскаянии и очищении, овладевшую различными слоями общества. «Мир», с оторопью наблюдавший за бесчинствами юного царя, привычно расценивая его грехи как наказание за свои собственные проступки, вздохнул с облегчением после «исправления Иоаннова» и выражал готовность совершенствоваться вместе с «исправившимся» государем и во всем поддерживать его добродетельные устремления. Ощущение того, что смутные времена миновали и страна выходит из мрачных теснин на свободный простор, доминирует в произведениях того времени. Публичные обещания царя покончить с порочными методами прошлого правления, его призывы к взаимному прощению и сотрудничеству породили всплеск литературной активности. Известные и доселе неведомые публицисты спешили предложить государю свое видение стоящих перед страной задач и способов их решения, они советуют и предостерегают. Старец Филофей из своего псковского далека благословил молодого царя, призвав со смертного порога его отвратиться от тех, кто «не только сам не хочет праведно жить, но жестоко борется против тех, кто по Божиим законам живет»[644]. Максим Грек просит дозволения вернуться на родину и, пользуясь случаем, напоминает, что Иван поставлен царем, «чтобы управлять… людьми православными – со всякою правдою, богоугодно помышляя о них»[645]. В другом послании Святогорец еще более категоричен и настойчив в своих наставлениях: «Тебе вручено оно (царство. – М.З.) от вышнего богоначалия, так управляй им согласно с правдой и правосудием, очищая его премудрейшими замыслами и законами от всякой несправедливости и грабительства… Тогда и мы сможем правдиво и искренно о твоем царствовании сказать словами пророка: «Боже, даруй царю суд свой и сыну царя – твою правду. Да судит он праведно людей твоих и нищих твоих на суде и спасет сынов убогих от насильствующих и жестоко притесняющих», потому что никто другой так не готов к этому и так не усерден, как избранный наш царь и защитник наш, ибо он избавит угнетенного и отомстит за обиженного»[646]. Многие взгляды Максима разделял другой политический мыслитель того времени Зиновий Отенский. Что неудивительно, – Зиновий долгое время находился в окружении Максима Грека, будучи монахом Чудова монастыря. Видимо, в связи с осуждением Святогорца Зиновий был отправлен под Новгород в отдаленный Отенский монастырь. Вслед за Федором Карповым и Максимом Греком он считал, что соблюдение законности («правды во всем») является обязанностью лиц, обладающих властью, и в первую очередь царя, который в противном случае должен рассматриваться не как царь, а как тиран. Зиновий полагал, что правитель особенно грешен, «ежели царем величие мнится». Очевидно, указывая на драматические события лета 1547 года, Зиновий пишет, что мятеж в государстве может произойти не только от безначалия, но и от злоупотребления царской властью. Если властитель начнет творить все по «своему хотению», а не «разсмотряти всему царству общия пользы и крепости», и будет «уповать только собою» и дела решать «перед очами своими», то такой властитель может погубить свое царство[647]. В то время как одни публицисты заботятся об образе правления и помыслах государя, другие дают конкретные советы по поводу решения той или иной задачи. Так, автор «Повести о Петре и Февронии Муромских» монах Ермолай-Еразм советует царю, как реформировать податную систему, как изменить порядок воинской и ямской повинности и, наконец, указывает на то, что «следует благочестивому царю во всех городах русских отдать приказ правителям и запретить разведение хмеля и строения корчемные». Наиболее развернутую и одновременно самую радикальную программу государственного переустройства разработал дворянин Иван Пересветов. Он изложил ее в двух «Челобитных..», поданных Ивану в 1549 году. Пересветов затронул вопросы, касающиеся полномочий верховной власти, организации национальной армии, создания единого законодательства и централизованной судебной системы, реформы финансов. Он предложил меры по упорядочению торговли. Челобитчик предложил государю отменить институт наместников, ввести регулярное войско из дворян – «воинников», ликвидировать местничество. Публицист, как и многие его предшественники, размышляя о русских проблемах, обращается к причинам падения Константинополя, однако он не ограничивается обозрением византийских пороков, а берет за образец победителей – Османскую империю, которая становится праобразом для придуманного Пересветовым идеального царства Магмет-салтана. Некоторые ключевые моменты мировоззрения автора «Челобитных…» сближают его с Максимом Греком и его единомышленниками. Например, Магмет-салтан неизменно согласует свои действия с «Советом» и «верной Думой», что дает исследователям сделать вывод о том, что Пересветов призывает в своих сочинениях к форме власти, тождественной сословно-представительной монархии, и продолжает линию, намеченную Максимом Греком[648]. Но другая сторона пересветовской программы разительно расходится с взглядами Святогорца. Когда Пересветов обращается к традиционной теме «царской грозы», то на первый взгляд повторяет предшественников, утверждая, что сильная власть необходима прежде всего для торжества «правды». «Как конь под царем без узды, так и царство без грозы». Однако, как замечает Я. С. Лурье, Пересветов слишком горячо верил в великие достоинства «грозной власти и ее способность искоренять «зло»[649]. Потому он готов многое простить этой власти, лишь бы она оказалась в состоянии восстановить справедливость. Н.Н. Алексеев даже называет идеологию Пересветова, рассматривавшего «правду» как орудие социального реванша, «московским фашизмом XVI века»[650]. По мнению Пересветова, для суда над еретиками и чародеями не требуется улик – таковых надо пытать огнем и предавать «лютой смерти». Пересветов весьма далек от вероисповедальных споров и православных догматов. Как замечает А. А. Зимин, публицист не приводит ни одной выдержки из святоотеческого наследия, а Священное Писание он излагает в весьма вольной трактовке[651]. Тем не менее автор «Челобитных» по сути дела повторяет иосифлянский призыв «казнить, жечь и вешать». Пересветов бесконечно далек от мысли Федора Карпова о том, что «правда без милости – мучительство..». Для автора «Челобитных..» «правда» не только выше «милости», но и само «мучительство» вызывает у него любование. Так, Магмет-царь, узнав о том, что его судьи берут взятки, «их велел живых одирати», рассудив, что «есть ли оне обростут опять телом, ино им вина та отдастся». А из кожи казненных Магмет велел сделать чучела, присовокупив к этому назидательную надпись: «Без таковыя грозы не мочно в царство правды ввести»[652]. Ожесточенность публициста можно объяснить его жизненными обстоятельствами. Пересветов по своему социальному положению фигура уникальная среди русских мыслителей XVI века – он не монах, как Даниил или Спиридон-Савва, и не придворный дипломат, как Курицын или Карпов. Кроме того, человек приезжий. Пересветов – литовский шляхтич, профессиональный наемник, успевший послужить в Польше, Чехии и Венгрии. Прибыв в Россию, он получил небольшое поместье, которое вскоре запустело от «обид великих людей», потом задумал открыть оружейную мастерскую и, очевидно, также претерпел неудачу. Однако это не означает, что наемник-космополит и озлобленный неудачник Пересветов одинок, а его мировоззрение уникально. В эти же годы появляется на свет еще одно известное публицистическое произведение «Валаамская беседа». На первый взгляд «Беседа..» (автор остался неизвестен) предстает чуть ли не манифестом нестяжателей, ведь ее основной смысл сводится к тому, что «вотчин и волостей инокам ни в коем случае не следует давать». В «Беседе..» как и в произведениях Грека и Карпова, речь идет о том, чтобы «царям и великим князьям… следует… всякие дела делать милосердно, советуясь со своими князьями и боярами, и с прочими мирянами..». Но полемический задор нестяжателей здесь подменяется агрессией, аргументы – демагогией, конкретные претензии – огульными обвинениями. Чего стоит приравнивание любостяжателей к еретикам – прием, явно заимствованный у иосифлян. Призывая царя советоваться с мирянами, автор «Беседы.» почти заклинает государя не прислушиваться к мнению иноков. Это уже не протест против обмирщения церкви, а отказ от ее воздействия на светскую власть. Автор «Беседы.» в числе пагубных последствий любостяжания, помимо вреда «душам иноческим», отмечает умаление самодержавного правления. Правители, жалующие инокам села и волости, оказывается, «сами не могут управлять своим царством и отдают народ свой, Богом им данный, как иноверных иноземцев в подчинение», а сами цари «на своих царских престолах не смогут долго держаться». Зато? с другой стороны, «если захотят они, цари и великие князья, исполнять то, что им полагается, и власть употребить, тогда укрепят они города и царства свои могучими воинами, добудут быстротекущую и суетную славу мира сего войнами и доблести храбростью своей». «Вот таким следует царю быть грозным!» – торжественно заключает автор «Беседы.»[653] Вот так нестяжательский мотив очищения церкви подменяется гимном «славе мира сего», проповедь милосердия и добродетели оборачивается рекомендациями, каким следует быть грозному царю. И «Челобитные..» Пересветова, и «Беседа Валаамских старцев» напрямую адресованы царю: его пугают непрочностью царства, подстрекают к скорым расправам, прельщают грозным именем и воинскими победами, перед ним заискивают и обличают неверных. Публицистов «новой волны» (как мы увидим дальше, и политиков) отличает от их предшественников одна замечательная черта – нацеленность на результат любой ценой. Они ясно представляют, как увлечь своими идеями государя, – с одной стороны, польстить тщеславию самодержца, нарисовать блестящую картину его царствования, а с другой – предупредить против роковых шагов, увязать его славу или бесславие с приятием или неприятием предлагаемого ими плана. Но этого мало, они уверены: чтобы их идеи наверняка воплотились в жизнь, недостаточно царской воли – необходимо, чтобы эта воля была беспощадной и неумолимой. Если нестяжатели и Максим Грек считали «царскую грозу» необходимой для исполнения «закона», то есть вечных, не подверженных конъюнктуре установлений, то пересветовы рассматривали ее как инструмент осуществления политических преобразований – по своему, разумеется, покрою. Взгляды нестяжателей, касались ли они способов государственного управления, личного поведения христианина, проблем монастырского землевладения, устройства судебной системы или отношения к еретикам, покоятся на евангельских заветах, на любви к человеку, созданному по образу и подобию Божьему. Они служили для последователей Нила Сорского верным ориентиром на их жизненном и творческом пути, не позволяя увлечься соблазнами, находились ли они в фаворе у власть имущих, либо пребывали в опале. Для Пересветова и ему подобных на первом месте оказываются их личные амбиции, неудовлетворенное тщеславие. Поэтому нравственность для них второстепенна, «правда» и «милость» – фигуры речи. Их пуще всего уязвляют не людские страдания, не беды страны, а собственные неудачи. Их заботит не справедливое устройство общества, а перераспределение собственности и полномочий в пользу одной социальной группы. К чьим советам прислушивался Иван? Я.С. Лурье решительно отвергал «представление о близости или даже идентичности воззрений Грозного с взглядами Пересветова» на том основании, что для публициста «главным преступлением вельмож была их «неправда», заключавшаяся прежде всего в порабощении и закабалении людей», а Ивану, по мнению исследователя, эти идеи были глубоко чужды[654]. Об «идентичности» мировоззрений публициста и самодержца говорить конечно же не приходится, однако сам же Я.С. Лурье приводит следующее обращение Пересветова к царю: «Ты государь грозный и мудрый, на покаяние приведешь грешных и правду во царстве своем введешь». В первом послании к Курбскому Иван буквально вторит Пересветову: «Царь страшен не для дел благих, а для зла. Хочешь не бояться власти, так делай добро; а если хочешь зло – бойся, ибо царь не напрасно меч носит – для устрашения злодеев и ободрения добродетельных»[655]. Здесь между мыслителем и государем нет противоречий и даже разночтений. Иваново «устрашение злодеев и ободрение добродетельных» и есть то самое «введение» в стране «правды», по Пересветову. Еще одно отличие нетерпеливых советчиков Ивана от Максима Грека и Федора Карпова в том, что хрупкая грань между «грозой» и «правдой», которую так ясно представляли нестяжатели, оказалась разрушенной. Действительно, авторы «Челобитных..» и «Беседы» много говорят о «правде», но для них, как впоследствии и для Ивана, – это всего лишь словесная оболочка конкретных намерений и действий, быть может благих, но допускающих негодные методы их осуществления. Возможно, советчики симпатизируют нестяжательским идеям – не более того, но отдают предпочтение иосифлянской практике. Они готовы идти напролом и с охотой вручают царю разящий меч, готовый обрушиться на головы их противников. «Нигде ты не найдешь, чтобы не разорилось царство, руководимое попами. Тебе чего захотелось – того, что случилось с греками, погубившими царство и предавшимися туркам?» – в этом возражении Ивана протестующему против репрессий Курбскому явственно слышатся отголоски «Челобитных..» Пересветова и «Валаамской беседы»[656]. Нетерпеливые советчики Ивана ввязались в страшную игру, не предполагая, что царский меч способен обрушиться на них самих. И вот, призывавший благодетельную царскую грозу Пересветов исчезает в пучине репрессий. Интересно, не содрали ли с него живьем кожу, как с неправедных на суде Магмет-салтана? Не исключено, ведь Иоанн Васильевич не менее автора «Челобитной.» любил мрачные шутки. Ивану Пересветову досталась сомнительная слава возглавить длинный список идеологов радикальных реформ, которые, призывая без сомнений и жалости воплощать в жизнь благие, с их точки зрения, начинания, на собственной шкуре ощутили пагубные последствия подобной политики. Узурпаторы или реформаторы? Возвышение Юрьевых-Захарьиных, начавшееся со времени брака Ивана и Анастасии, достигло апогея после событий июня 1547 года и падения Глинских. В 1547 году дворецким вместо давнего сторонника Вельских И.И. Хабарова становится Д. Р. Юрьев, в это же время В.М. Юрьев занимает пост тверского дворецкого. Как отмечает И.И. Смирнов, с лета 1547 года Захарьины-Юрьевы вместе с тесно связанными с ними Морозовыми выступают как наиболее влиятельная и важная группа политиков[657]. В это же время все больший вес при дворе приобретает Алексей Адашев, происходивший из рода костромских вотчинников. Два года Адашев прожил в Стамбуле, куда попал в составе посольства, которое возглавлял его отец. Возможно, именно в столице Османской империи юный Алексей обратил внимание на фигуру визиря – могущественного временщика при султане. Еще будучи ребенком, в 1540 году он получил придворный чин спальника, что давало ему возможность войти в круг лиц, особо приближенных к юному Ивану. Его отец Федор Адашев с 1548 года служит в приказе Большого дворца, которым руководил Д. Р. Юрьев. Два фактора – возможность заслужить личное расположение Ивана в качестве ближайшего придворного и тесная связь его семьи с кланом Юрьевых-Захарьиных объясняют его успешную карьеру. С 1549 года Адашев руководит Челобитным приказом, который выполнял функции канцелярии государя, куда поступали обращения на его имя. Приказ мог выяснить обоснованность челобитной и сразу принять по нему решение или же поручить разбирательство другому учреждению. При этом Челобитный приказ контролировал другие правительственные службы и рассматривал апелляции на их решения[658]. В 1551 году Адашев получил придворный чин постельничего и по роду службы постоянно сопровождал государя в Кремле, в поездках по монастырям и селам, в военных походах. Постельничие хранили особую царскую печать «для скорых и тайных дел». Адашев, кроме того, ведал «постельной казной», которая включала принадлежащие царю драгоценности, часть библиотеки, личного архива и канцелярии. С этого же времени в качестве думного дворянина Адашев участвовал в работе Боярской думы. В 1553 году получил чин окольничего. Как и всякий видный придворный или думский деятель, Адашев активно участвовал в дипломатической работе и военных действиях. Особенно значительный вклад он внес в завоевание Казанского ханства, проявив себя искусным дипломатом, военачальником и даже разведчиком. Но политическая роль Адашева не ограничивалась его официальными полномочиями. После кризиса 1553 года, который привел к свержению правительства Юрьевых (о нем речь впереди), Адашев становится фактическим руководителем Избранной рады или «ближней думы». По мнению В.Б. Кобрина, польским выражением «Избранная рада» Курбский, обращавшийся прежде всего к читателям в Речи Посполитой, передал русский термин «ближняя дума»[659]. Этот неформальный орган появился при Василии III, что было связано с желанием государя иметь полностью подконтрольный ему «теневой кабинет» – недаром «ближнюю думу» иногда называют «тайной»[660]. Боярская дума, будучи одновременно высшим законодательным, исполнительным и судебным органом государства, формировалась не только по воле государя, но и в согласии с местническими традициями и корпоративной солидарностью политической элиты. Дума могла и не соглашаться с самодержцем и, кроме того, имела право принимать решения в его отсутствие. Впрочем, государь также считал себя вправе иногда принимать решения без участия Думы. Тем не менее Боярскую думу можно считать учреждением в определенной степени независимым от царской власти. Другое дело – «ближняя дума», состав и численность которой всецело зависели от усмотрения государя. Обычно в нее входили особо приближенные члены Боярской думы, некоторые духовные лица и придворные чины[661]. Характер Ивана, в молодые годы явно робевшего перед блестящим аристократическим собранием, его скрытность и подозрительность немало способствовали развитию подобного неформального образования, в котором можно было без лишней огласки обсуждать в узком кругу доверенных лиц самые острые проблемы. Нетрудно заметить, что при Иване «ближнюю думу» в значительной мере составляют его сверстники вроде Адашева или Курбского, с которыми молодому государю было проще общаться, чем с умудренными опытом мужами. Обращает на себя внимание следующая деталь. Летом 1555 года митрополит Макарий, получивший послание от виленского воеводы Николая Радзивилла, пишет Ивану Грозному под Тулу с целью получить инструкции относительно ответа литовскому вельможе. Митрополит указывает на то, что вместе с находящимся при войске государем его сопровождают «бояре государскые, ближняя его дума», а посему: «И нам ныне о таком великом деле государьском мимо ближнюю думу, советовати нелзе»[662]. Заметим, что Макарий четко разделяет бояр, входящих в Боярскую думу, и «государских» бояр, участников «ближней думы». Хорошо ориентируясь в ситуации, Макарий знает, что относительно внешнеполитических дел ему нужно обращаться не к Боярской думе, а к Избранной раде. Под руководством Адашева Избранная рада не только играла роль элитарного клуба, стратегического центра разработки реформ, но и старалась подменить собой официальное правительство. По замечанию И.И. Смирнова, характерной чертой Адашева как политика было то, что в своей деятельности он находился вне рамок служебной иерархии, а зачастую над этой иерархией[663]. Адашев действительно стал напоминать великого визиря при султане, недаром о нем отзывались как о «правителе русской земли». В «ближней думе» нередко обсуждались дела прежде, чем они поступали в «большую» Боярскую думу. Тем не менее окончательное слово оставалось за боярами. Традиция предписывала участие бояр в обсуждении новых законов. В большинстве случаев отмечено участие бояр в «приговорах» об их издании. Однако Адашев в обход правил старался испросить «у царя указ без думы боярской»[664]. Быть может, фаворит имел основания опасаться, что реформаторская деятельность встретит сопротивление «большой» Думы. Но именно последняя в годы боярского правления проводила реформы не менее радикальные, так что говорить о пресловутом противостоянии «реакционеров» и «прогрессистов» на примере Избранной рады и Боярской пумы не приходится. Очевидно, что «ближнюю думу», в том виде, в котором она функционировала при Иване Грозном, нужно считать политическим изобретением Захарьиных и Адашева. Первым, постигнувшим огромного влияния на молодого царя, необходимо было нейтрализовать Боярскую думу, в которой после некоторого перерыва значительную роль снова играли Патрикеевы – П.М. Щенятев, Ю.М. Голицын, И.А. Куракин, а также И.Д. Вельский и Д.И. Немой-Оболенский – двоюродный племянник фаворита Елены Глинской. Правда, удельный вес служилых князей в Думе в эти годы заметно снижается. Почти половина бояр, вошедших в состав Боярской пумы в 1547 – 1552 годах (13 из 30), принадлежит к нетитулованному боярству, среди 20 окольничих нет ни одного князя[665]. Тем не менее Захарьины не могли опираться на Думу и старались умалить ее значение. Решающая роль в «ближней думе» наряду с Морозовыми и Шереметевыми принадлежала именно Захарьиным[666]. Несмотря на некоторую «демократизацию», ни вотчинники средней руки, такие как Адашев, ни родовитые молодые князья и дети боярские не могли претендовать на руководящие роли в Боярской думе (что, впрочем, никак не сказывалось на эффективности ее действий). Избранная рада предоставляла возможность честолюбивым, не лишенным таланта молодым людям прикоснуться к кормилу государственной власти. Однако подобная «деловая игра» на самом деле была далеко не безобидной затеей. Деятельность параллельного неформального учреждения подрывала традиционные (читай законные) институты власти. Об этом свидетельствует сам Грозный, который, обращаясь в лице Курбского ко всем боярам, указывает на то, что Сильвестр и Адашев «мало-помалу стали подчинять вас, бояр, своей воле, из-под нашей же власти вас выводя, приучали вас прекословить нам и в чести вас почти что сравняли с нами, а мелких детей боярских по чести вам уподобляли»[667]. Иван здесь явно себе противоречит – нельзя одновременно пытаться подчинять себе бояр, «уподоблять мелким детям боярским» и возвышать их значение, «сравнивая» с государем. Второе, очевидно, не совпадало с интересами временщиков. В воспаленном воображении Ивана, как это часто происходит, смешиваются разные сюжеты и настроения. Здесь воспоминания об обидах, причиненных Ивану Сильвестром и Адашевым в 50-е годы, наслаиваются на ненависть к боярам, которую Грозный испытывал во время написания первого послания в 1564 году. Поэтому в приведенном отрывке интерес для нас представляет мысль о том, что Избранная рада старалась подменить или даже подчинить себя Боярскую пуму. Например, Избранная рада, как вспоминал один из ее участников Андрей Курбский, выбирала воевод, назначала военачальников, награждала отличившихся движимым и недвижимым имуществом (надо полагать, не своим) и «возведением на высшие степени», отстраняла от царя неспособных и нерадивых, а также «на мужество человековъ подвизаемо и на храбрость всякими роды даров или мздовоздаяньями, кождому по достоянию»[668]. Иначе говоря, неформальный клуб приятелей и царских любимцев располагал важнейшими рычагами контроля над армией и в целом служилым сословием. Своим свидетельством Курбский подтверждает претензии Ивана к соратникам Адашева, которые, по словам царя, «вотчины, города и села», возвращенные по их настоянию бывшим владельцам, «словно ветром разметав, беззаконно роздали, нарушив уложения нашего деда, и этим привлекли к себе многих людей», и кроме того, лишили государя «права распределять честь и места между… боярами, и взяли это дело в свое ведение и усмотрение»[669]. С.Ф. Платонов, повсюду неустанно ищущий следы классовой борьбы, считает, что этими мерами Избранная рада старалась возвратить потомкам удельных князей конфискованные у них родовые вотчины и восстановить свободу отчуждения и завещания этих вотчин, уничтоженную московскими государями. «Конечно, этот акт имел вид классовый и обличал чисто княжескую тенденцию рады», – уверенно заключает С.Ф. Платонов[670]. Данный вывод никак не согласуется с известным фактом: в 1551 году правительство пролонгировало вето на сделки купли-продажи земель суздальских, ярославских и стародубских князей, которые в случае нарушения вето отчуждались в царский поместный фонд. На наш взгляд, в данном эпизоде деятельности Избранной рады усматриваются признаки не мифических классовых интересов, а тривиальной коррупции: временщики пользовались возможностью, чтобы привлечь к себе «многих людей». Действуй они по боярскому наущению, Грозный с огромным удовольствием подчеркнул бы это обстоятельство, однако он прямо говорит о том, что они старались не в интересах третьих лиц, а своих собственных. Сильвестр и Адашев не вернули вотчины прежним владельцам, а роздали новым. Какими бы благими побуждениями ни руководствовался Адашев, его деятельность шла вразрез с традицией, а следовательно, говоря современным языком, была противозаконной. Временщики на Москве появлялись только в специфическое время женского правления – в периоды регентства Софьи Витовтовны и Елены Глинской. Между тем самовольство Избранной рады единственно основывалось на особом царском расположении. Могущество тандема Сильвестр – Адашев состояло в том, что один парализовал волю Ивана, а другой ее себе присвоил, поэтому позднейшие обвинения Ивана в адрес бывших фаворитов в похищении власти вполне обоснованны. Никакими особыми обстоятельствами, никакой «революционной целесообразностью» подобное явление, присущее абсолютистскому правлению, обусловлено не было. Адашев открыто выступал в качестве узурпатора власти, приказывая или самолично подписывая документы государственного значения без соответствующих полномочий. Например, он подписал уставную грамоту жителям Перми от 26 декабря 1553 года. Иначе говоря, чиновник среднего уровня от имени государства взялся регламентировать права и обязанности жителей целого города. С такой же легкостью Адашев озаботился «подбором и расстановкой кадров». В Дворцовых тетрадях, содержащих сведения о служилых людях, имеются такие пометы: «Оставлен по приказу Алексея Федоровича». Но всегда ли означенный Алексей Федорович во благо использовал свою власть? Так, некто Федор Ласкирев свидетельствовал, что его отца Адашев «послал в Казань в городничие, сковав». Мы не знаем, обоснованно ли неблаговоление временщика, но в том, что его действия противоправны, сомнений нет. Известно, что в своем послании Курбскому Иван в ответ на обвинения в гонениях сам припоминает: «Разве не вы приказали народу города Коломны побить каменьями нашего советника, епископа Коломенского Феодосия?..А что сказать о нашем казначее Никите Афанасьевиче? Зачем вы разграбили все его имущество, а самого его держали в заточении в отдаленных землях, в голоде и нищете?»[671] Историкам не удалось выяснить, о каких случаях ведет речь Грозный. Можно только заметить, что указанные царем лица и в самом деле могли возбудить неудовольствие Адашева и его соратников. Епископ Феодосий – иосифлянин, ставленник митрополита Макария, и, если Иван называет его «советником», нетрудно представить, какие именно советы владыка мог давать государю в отношении его могущественных помощников. Царский казначей Никита Фуников-Курцев фактически оказывался в подчинении «постельничьего» казначея Адашева, который считал возможным отдавать указания другим казначеям, что могло послужить причиной обострения отношений. Как резонно замечает Я.С. Лурье, «соответствовали эти обвинения действительности или нет, формально они звучали не менее убедительно, чем упреки противоположной стороны»[672]. Адашев мог по «недружбе» назначить неугодного ему служилого человека на низкую должность, мог внести свой род, до той поры маловьщающийся, в «Государев Родословец». Поэтому Иван IV не без основания, по мнению С.О. Шмидта, писал об Адашеве и его советниках, что они «сами государилися как хотели»[673]. Надо ли говорить о том, что столь откровенная практика фаворитизма являла собой пагубный пример для всех, кто входил в систему государственного управления – от царя до дьяка и наместника. Она откровенно показывала наиболее соблазнительный способ достижения власти. Вслед за одним могучим временщиком на сцене появлялись временщики меньшего калибра: не только Адашев, но и другие окольничие – Л. А. Салтыков и Ф.И. Умной-Колычев, не занимавшие официальных постов дворецких или казначеев, выдавали за своими подписями жалованные грамоты. Отметивший это обстоятельство А.И. Филкшкин, расценивает эти факты, как «явные свидетельства неформальной государственной деятельности, сродни той, которые обычно приписываются Избранной раде»[674]. Вопрос о границах влияния Адашева вызывает споры среди исследователей. И.И. Смирнов полагал, что С.О. Шмидт чрезмерно преувеличил степень участия временщика в государственных делах[675]. А.И. Филкшкин указывает на то, что ни один источник не связывает проведение реформ 1550-х годов с «правительством Адашева – Сильвестра», замечая, что даже неформальная деятельность кабинета, если таковая имела место, должна была оформляться в виде постановлений[676]. Вместе с тем исследователь не отвергает значения «ближней думы» – иными словами, все той же Избранной рады, следовательно, спор идет скорее о терминах, а не о существе вопроса. Для нас важно отметить, что при Иване Грозном существовал неформальный орган, подменявший Боярскую думу, в котором в разное время превалировали различные группировки, в том числе Адашева-Сильвестра и их единомышленников. Решения этого неформального органа могли скрываться под традиционной формулой «боярского приговора», поэтому его деятельность и не оставила следов в документах той эпохи. Военародные человеки «Неформальная государственная деятельность», бурный расцвет которой приходится на 50-е годы XVI века, не была порождена стечением обстоятельств. Временщики целенаправленно добивались нейтрализации Думы и ослабления политического потенциала боярства. При этом они умело воздействовали на царя, стараясь использовать в своих интересах обивавших кремлевские пороги прожектеров. Иван Пересветов, прибывший в Москву в конце 1538 – начале 1539 годов, служил под началом Михаила Юрьевича Захарьина, памятного нам по процессу над Максимом Греком, и пользовался его покровительством. Организованная Пересветовьм мастерская по изготовлению щитов после смерти боярина в конце 1539 года заглохла по причинам объективным: широкая организация производства щитов в период развития огнестрельного оружия себя не оправдала[677]. Р.Г. Скрынников полагает, что, подавая челобитные царю, Пересветов уповал на покровительство клана Юрьевых-Захарьиных и Алексея Адашева[678]. Характерно, что и Юрьева, и Адашева «прогрессивный» публицист характеризует с самой лучшей стороны. Можно с уверенностью говорить о том, именно при их поддержке в сентябре 1549 года Пересветов получил аудиенцию у царя и преподнес ему свои сочинения. Другой публицист Ермолай-Еразм также был лично известен царю и также при содействии придворных покровителей. По мнению А.А. Зимина, с Ермолаем был знаком митрополит Макарий, вероятно еще по новгородской епархии, так как Ермолай происходил из среды псковского духовенства[679]. Но из этого мы можем заключить, что Ермолая знал и Сильвестр. Не он ли стал инициатором встречи Ермолая с Иваном Грозным, состоявшейся около 1549 года, в то время, когда формировалась политическая концепция Ивана Грозного и его взгляды на государственное управление. Чем так привлекли Захарьиных, Адашева и Сильвестра воззрения Пересветова и Ермолая? Объединяло этих очень разных мыслителей одно – ненависть к боярству. Как отмечал А.А. Зимин, своими темпераментными обличениями стяжаний «злочестивых бояр» сторонник иосифлян Ермолай-Еразм как бы отвечал на критику монастырских стяжаний Вассиана Патрикеева[680]. Можно представить, с каким интересом читал подозрительный Иван IV о том, что «чародеи и еретики у царя счастие отнимают и мудрость царскую». Пересветов неоднократно подчеркивает, что вельможи являются естественными противниками государя. Никаких конкретных претензий публицист предъявить не может. По его мнению, бояре хотя и служат царю, но недостаточно ретиво – «за веру христианскую не стоят». А мешает им богатство: «Богатыря богати, и тот обленится». Следовательно, вельможи нерадивы или даже враждебны царю уже в силу своего знатного происхождения. На примере византийской истории Иван Пересветов показывал, как корыстные вельможи «укротили» и «ухитрили» благоверного царя Константина, которого они превратили в своего «раба»[681]. Впоследствии, когда Иван Грозный обрушит на злокозненных бояр поток обличений, он явно припомнит пересветовские челобитные. В самом крупном произведении Пересветова «Большой челобитной» проводится прямая аналогия между «укрощением» Константина и боярским самовольством в годы малолетства Ивана[682]. Примечательно, что в другом заметном публицистическом произведении эпохи – «Летописце начала царствования», автор которого был близок к Адашеву, изложение событий времени малолетства Грозного дано в аспекте обличений самоуправства бояр, в основном Шуйских[683]. Похоже, что Иван Пересветов некоторые свои пассажи писал под прямую диктовку Адашева, который с их помощью рассчитывал решить свои задачи, как стратегические, так и сиюминутные. Так, А.А. Зимин полагает, что, когда Пересветов писал о терзавших страну «бедах великих», под их виновниками он подразумевал Глинских – противников Адашева и Юрьевых[684]. Главный герой публициста Магмет-салтан правит вместе с «верной думой» – узким кружком избранных сподвижников, в котором легко угадывается все та же Избранная рада. Магмет-салтан также рассказывает о «мудром человеке», достойном ведать всеми финансами страны, в котором легко угадывался Алексей Федорович Адашев[685]. И Пересветов, и Ермолай в своих произведениях касались множества иных острейших проблем русской жизни, но их покровителей в первую очередь интересовало изобличение «мятежного» боярства, «провинившегося» перед думным дворянином Адашевым и боярами Захарьиными тем, что мешало установлению их безраздельной власти. Разумеется, они не могли желать и не могли предвидеть размаха будущих репрессий против боярства, они «всего лишь» хотели умалить роль Думы, но Иван слишком уж близко к сердцу воспринял обличения злокозненных вельмож. Те же Сильвестр и Адашев находились в переписке с Максимом Греком, старались облегчить его участь, привлечь внимание царя к трагической фигуре мыслителя и его гуманистическому мировоззрению. Но, увы, Иван воспринимал лишь то, что находило отзвук в его испорченной душе. Вот и Макарий оставил в ней след не нравоучениями, а сказочкой про пращура-цесаря. Хотя «Просветитель» Иосифа Волоцкого был настольной книгой царя, он никогда не относился с трепетом к Церкви: ни к ее иерархам, ни к ее имуществу. В 1549 году правительство резко сократило объем иммунитетных пожалований, монастыри отныне должны были платить основные поземельные подати. Зато из книги преподобного Иосифа Иван почерпнул вывод о беспрекословном подчинении власти: «противляяися власти – Богу противитися»[686]. Иван Грозный на всю жизнь усвоил уроки, полученные в 1547 – 1549 годах, и Россия заплатила дорогую цену за плоды Иванова просвещения. Разумеется, было бы грубой ошибкой изображать Алексея Адашева и его соратников одной черной краской, выставляя их циничными карьеристами и властолюбцами. Тем не менее, деятельность участников Избранной рады свидетельствует об их чрезмерной прагматичности, переходящей в беспринципность. Статус фаворитов царя служил залогом могущества этой группы, и одновременно – неустойчивости ее положения, что подготовляло их будущее падение. Внезаконное образование, зависевшее исключительно от расположения государя, Избранная рада была объективно заинтересована в усилении самодержавной власти, следовательно, умалении народного самоуправления. Последний вывод противоречит устойчивому взгляду на Избранную раду как на генератор прогрессивных начинаний первого периода правления Ивана IV, сопряженного с созывом Земских соборов. Так, Костомаров отмечает, что Избранная рада не ограничивалась исключительно кружком бояр и временщиков; она призывала к содействию себе и целый народ. «С таким господствующим взглядом тогдашние правители именем государя собрали земский собор, или земскую думу, из выбранных людей сей Русской земли. Явление было новое в истории. В старину существовали веча поодиночке, но никто не додумался до великой мысли собрать одно вече всех русских земель, вече веч»[687]. Однако, как полагает С.О. Шмидт, под «всенародными человеками» автор этого высказывания, в то время польский вельможа, подразумевал не представителей различных социальных слоев, а тех, кого в Речи Посполитой причисляли к шляхтичам[688]. Обратимся к словам Курбского: «Царь аже и почтен царствомъ, а даровании, которых от Бога не получил, должен искати добраго и полезнаго совета не токмо у советниковъ, но и у всеродныхъ человекъ, понеже дар духа даетца не по богатетству внешнему и по силе царства, но по правости душевной». А.А. Алексеев переводит этот отрывок следующим образом: «Царь.. должен искать доброго и полезного совета не только у советников, но и у простых людей, потому что духовные дарования даются не по внешнему богатству, не по силе царства, но по душевной праведности…»[689] Заметим также, что Курбский употребляет выражение «всенародных человеков», рассказывая о похождениях юного Ивана, который «по стогнам и по торжищам начал на конех с ними ездити и всенародных человековъ, мужей и жен, бити и грабити, скачюще и бегающе всюду неблагочинне»[690]. Совершенно очевидно, что князь имеет в виду простых людей, которые на свою беду попадались на пути Ивановой шайки, а вовсе не служилых «шляхтичей». Однако все равно в словах Курбского трудно разглядеть революционный призыв, так как, по свидетельству все того же С.О. Шмидта, и без участия Избранной рады представительство различных слоев общества на соборах постепенно расширялось[691]. По мнению Я.С. Лурье, в высказывании Курбского вообще вряд ли стоит искать связь с Земскими соборами, поскольку ко времени написания князем этих строк они созывались уже более десяти лет. Было бы странно воспринимать слова диссидента как некую программу, поскольку она давно осуществлялась на практике[692]. Скорее всего Курбский просто повторяет расхожую мысль. В другом своем сочинении беглый князь указывает на то, что «самому царю достоит быти яко глава и любити советников яко своя уды»[693]. Но схожие идеи мы встретим практически во всех произведениях политической публицистики 30 – 50-х годов. Костомаров очень точно подметил, что этот взгляд был «господствующим». Его торжество подготовлялось всем строем русской общественной жизни, политикой Ивана III и князя И.Ю. Патрикеева, боярскими правительствами эпохи «замятии», а также полувековой нестяжательской пропагандой. А бурные события 30 – 40-х годов поставили вопрос об участии «земли» в обсуждении государственных проблем во главу угла. Думается, мы не много погрешим против истины, предположив, что в созыве соборного совещания были заинтересованы все – от старшего думского боярина до последнего холопа. Урок, преподнесенный событиями последних лет, был слишком очевиден. По сути, в течение небольшого отрезка времени русские люди могли наблюдать последствия двух противоположных форм управления – регентства, когда носитель верховной власти не участвует в управлении и самодержавной деспотии. Первое обернулось междоусобной бранью и правительственной чехардой, грозившей свести на нет даже многие позитивные начинания боярских правительств, второе – насилиями и произволом. И от безначалия, и от тирании в равной степени страдали решительно все слои населения, поэтому за «исправлением Иоанновым» неизбежно должны были последовать радикальные перемены. Страна нуждалась в сильной царской власти, но первые шаги царя Ивана показали, что самодержавное правление, оказывается, может иметь совсем иной характер, весьма отличный от того, к чему привыкли на Руси во времена его отца и деда. Все это подводило к мысли о необходимости предусмотреть порядок, позволяющий «миру» участвовать в обсуждении и решении государственных проблем и тем самым обозначить пределы самодержавной власти и предупредить возможные злоупотребления. Не стоит преувеличивать роль вечевой традиции в процессе становления Земских соборов, имевших иные образцы. «Откуда был взят образец для первого собора 1549 года? Ответ на этот вопрос найдем в существовании в России XVI века прочной традиции сословного представительства, – сообщает М.Н. Тихомиров. – Не случайно церковные соборы в России, известные и в более ранние столетия, начинают усиленно действовать с конца XV века, иногда в соединении с Боярской думой и даже представителями служилых людей[694]. Первый Земско-церковный собор, состоявшийся в феврале 1549 года, получил название «собора примирения», однако на нем не только произносились покаянные речи, но и обсуждались контуры земской реформы[695]. Летом 1550 года состоялось собрание с участием духовенства, думных и приказных людей, на котором обсуждались новый Судебник, приговор о местничестве и другие вопросы государственной жизни. Собравшийся в начале 1551 года Стоглавый собор помимо вопросов церковной жизни рассматривал и «земские устроения»[696]. Были ли заинтересованы в созыве соборов лидеры Избранной рады? В определенной мере это отвечало их интересам, так как появлялся дополнительный рычаг воздействия на впечатлительного Ивана, с помощью которого, с одной стороны, можно было управлять государем, с другой – принизить значение Думы. Но входили ли в планы временщиков, которые были в первую очередь связаны с укреплением самодержавной власти, перспективы дальнейшего развития представительного начала? Между «государским» и «государственным» Костомарова, размышлявшего над характером законодательной реформы, выразившейся в принятии нового Судебника 1551 года и составлении уставных грамот, поразило «развитие двоевластия и двоесудия, что в очень малых признаках видно даже в судебнике Ивана III, но что глубоко заметно во всей жизни древней удельно-вечевой Руси». «Являются две отличные, хотя взаимно действующие стихии: государство и земщина, — продолжает Костомаров. – Дело может быть государское, но может быть и земское. Свадьба государя или венчание его на царство есть дело государево, поход на Казань – дело земское. Служба может быть государева, может быть земская. Много раз можно встретить и в последующие времена эту двоякость общественной жизни, но она является всего ярче в то время, когда самовластие Ивана подпало под влияние Адашева и Сильвестра»[697]. Прежде чем подробно рассмотреть выводы историка, сделаем два необходимых уточнения. Первое из них терминологическое. Костомаров выявляет противопоставление «земщины» и «государства», производя его от «государского», то есть того, что относится непосредственно к «государю». Но как отмечает С.О. Шмидт, «слово «земля» означало тогда, безусловно, «государство», а слово «земский» воспринималось как «государственный» или даже «общегосударственный»[698]. Наблюдения историка в целом подтверждают исследования филолога В.В. Колесова, который отмечает, что слово «земьскъ» относилось к земле как к территории рода, общины, мира; в X веке во времена Владимира Святого «земля» и «государство» были неразличимы. Слово «государь», происходящее от «господин», обозначало феодала, который имеет двойную власть: либо он господин над рабом и холопом, либо владелец имений, а иногда и то и другое вместе. Соответственно, «государство» по первоначальному смыслу слова – не область, а сама эта власть, власть государя над всем, что попадает в орбиту его державства. Отсюда в XVI веке произошли «государский» – хозяйственный, и «государстовати» – управлять. Слово «государственный» в современном значении стало известно позднее – с XVII века. «Государь, как хозяин того, что лично ему принадлежит, все шире распространяет свое господство на разные земли, и смысл накоплений Московского княжеского дома заключался как раз в подобном собирании разных земель и волостей, в том самом простом, хозяйственном, чисто практическом значении слова «государство», которое оно имело до конца XVI века», – заключает В.В. Колесов[699]. Замечал эту разницу и Иван Грозный. Обращаясь к английской королеве Елизавете, царь пеняет ей: «Ажио у тебя мимо тебя люди владеют, и не токмо люди, но и мужики торговые, и о нашихъ о государских головах и о честех и о землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков»[700]. По мнению Ивана Васильевича, заседающие в английском парламенте купцы не радеют не только о чести государей, но и об интересах двух стран, заботясь лишь о собственном благополучии. Выступая перед собором 1551 года, Иван разделял «наши нужи» и «земские нестроения». Следовательно, нам следует говорить о двух отличных началах – общегосударственном «земском» и более узком, частном «государском», относящемся непосредственно к государю. Потому митрополит Макарий в упомянутом нами послании писал о «государских боярах», подразумевая под этим не правительственных деятелей, не государственных мужей, а личных советников Ивана Васильевича. Разницу между «государским» и «государственным» понимали не только светские и церковные правители, но и простые люди. М.Ф. Владимирский-Буданов указывал на то, что «по сознанию тогдашнего населения, государственное устройство состоит не в княжеских отношениях, а в земских (старших городов и пригородов), и само понятие государства приурочивается не к княжениям, а к землям»[701]. Костомарову оставались неизвестны авторы Судебника 1551 года; расцвет «двоякости общественной жизни» историк только хронологически относит к времени могущества Избранной рады. Но Р.Г. Скрынников указывает на то, что именно Алексей Адашев руководил разработкой судебной реформы: «Едва ли случаен тот факт, что именно в период составления нового Судебника А. Адашев возглавил Казенный приказ, получив чин казначея. Как только разработка кодекса законов была завершена, Адашев ушел с этого поста», – отмечает исследоваталь[702]. Итак, что же так «резко» поразило Костомарова? Очевидно, историк, позитивно оценивавший деятельность Избранной рады, с удивлением отметил, что призванные усовершенствовать правовую систему документы, наряду с прогрессивными новациями, содержат положения, представляющие собой по сравнению с Судебником 1497 года шаг назад – в эпоху удельно-вечевой Руси. Именно этот парадокс озадачил историка. Действительно, в результате реформ 50-х годов возрастает роль выборного суда, сокращаются полномочия наместников и волостелей. Однако эта тенденция последовательно развивается на протяжении нескольких десятилетий. Уже в старом Судебнике, подготовленном под руководством Ивана Патрикеева, видно участие земских лиц на суде наместников и волостелей. Вечевые традиции в некоторой степени восстанавливаются в присоединенных к Москве республиках. Суд целовальников, правда, не выборных, а назначаемых, возвращает Новгороду Василий III. Иван Вельский уже в полном объеме возвращает выборный суд в Псков. Правительство того же Вельского, напомним, учреждает институт выборных губных старост, расследовавших уголовные дела. В соответствии с Судебником 1551 года уже гражданские дела рассматриваются выборными старостами и целовальниками.  Судебники 1550 года
Соответственно столь же последовательно и, даже хочется сказать, планомерно сокращаются полномочия назначенных чиновников. Вот как этот процесс прослеживает Костомаров на основе анализа уставных грамот. «Прежде наместники и волостелей судили-рядили произвольно. При Василии Ивановиче дана уставная грамота, определяющаяобязанности волостелей; в 1539 году – при боярском управлении – дана другая грамота, где доходы волостелей определялись несколько точнее, а в 1551 году сообразно судебнику волостелям запряталось творишь суд без участия старост и целовальников. Мало-помалу управление наместников и волостелей совершенно заменялось предоставлением жителям права самим управляться и судиться посредством выборных лиц за вносимую в царскую казну как бы откупную сумму оброка»[703]. Таким образом, только суд над служилыми государевыми людьми остался в компетенции наместников и волостелей, которые, кроме того, в случае жалоб на них подвергались следствию. Следовательно, Алексей Адашев, если присудить ему главную роль в работе над судебной реформой, лишь продолжатель дела, начатого в конце XV века. Но, признавая, несомненно, позитивный характер перемен, стоит отметить их теневые стороны. Как мы отмечали выше, термин «земский» синонимичен «общегосударственному» в отличие от сложившегося с реформ Александра II понимания «земства» как формы муниципального управления. Действительный парадокс реформ состоит в том, что происходит разделение компетенций не между «муниципальным» и «государственным», что было бы естественным, а между «государственным» («земским») и «государевым». На это противоречие указывает и Г.В. Вернадский: «Наместники и волостели имели административную власть над горожанами и населением государственных земель, а великокняжескими владениями, боярскими и церковными землями руководили великокняжеские, боярские и церковные управляющие. Таким образом, вся территория великого княжества фактически состояла из двух частей: одной управляли, так сказать, государственные чиновники, и другой манориальная администрация»[704]. Наметившуюся двоякость можно было преодолеть только одним способом: путем формирования единых распорядительных и судебных органов; единых как для служилых людей, так и тяглового населения. Как мы отмечали, важный шаг в этом направлении был сделан составителями Судебника 1498 года, который указывал на участие в суде наместников выборных старост: «без дворского, и без старосты, и без лутших людей суда наместником и волостелем не судити». Это положение, наряду с усилением контроля над наместниками, в новом Судебнике было сформулировано еще более категорично в двух статьях[705]. Однако последующие шаги правительства Ивана Грозного не только не способствовали разрешению возникшей коллизии, но и привели к тому, что государство стало напоминать треснувшую льдину, и трещина эта, едва появившись, стала стремительно расширяться. Поместная контрреволюция В 1550 году Иван Грозный принял решение о наделении поместьями в Подмосковье тысячи «лучших слуг», в число которых на одинаковых условиях попали и худородные дворяне, и родовитые князья, таким образом превращавшиеся в государевых помещиков. Тысячная реформа, по мнению Р.Г. Скрынникова, должна была вернуть помещенных на новгородских землях московских дворян, которые из-за удаленности не могли использоваться центральным правительством. Однако тут же исследователь поясняет, что именно новгородцам земли под Москвой не досталось. Другая точка зрения, которую разделяют многие исследователи, состоит в том, что новые подмосковные помещики предназначались к постоянной службе в столице и обязаны были быть готовыми к исполнению различных, преимущественно военных, правительственных поручений. Испомещение «лучшей тысячи» якобы помогло правительству всегда иметь под рукой людей, которых можно было назначить воеводами и послами[706]. На первый взгляд, объяснение кажется более чем правдоподобным. А.А. Зимин сообщает, что «тысячные» значительно пополнили состав Государева двора, который в середине XVI века составлял всего 3000 человек[707]. Означает ли это, что правительство сталкивалось с хроническим дефицитом квалифицированных управленческих кадров? И.И. Смирнов отмечает, что «правительство черпало в широких масштабах из среды тысячников кадры для органов местного управления, посылая их на должности наместников и волостелей, а также поручая тысячникам ведать различного вида сборами»[708]. Несомненно, немалое число новоявленных помещиков не осталось без работы, но это не объясняет, что вынудило Ивана прибегнуть к столь экстраординарному мероприятию. Н.В. Мятлев показал, что выбранные дворяне 1550 года занимали в последующие десятилетия большую часть важных должностей по военному командованию, внутренней администрации и дипломатии[709]. При огромном числе «призывников» было бы странным, если бы они не занимали значительное число служебных должностей, тем более многие из них уже находились на службе. Р.Ю. Виппер полагал, что «плотный строй родовой аристократии, теснившейся к должностям, мешал государю выдвигать способных и талантливых людей низшего звания»[710]. Почему-то царю ничто не мешало «выдвинуть» еще в 40-е годы главой русской дипломатии Ивана Висковатого и того же Алексея Адашева – людей низшего звания. Однако ни после тысячной реформы, ни после опричных перетрясок мы не заметим притока «способных и талантливых людей низшего звания», если не считать таковыми антигероев типа Малюты Скуратова. Напротив, уже в 70 – 80-х годах XVI века, то есть после массовых репрессий среди боярства и постоянной «ротации» кадров за счет «молодших людей», самыми выдающимися военачальниками русской армии предстают победитель битвы под Молодями Михаил Воротынский и предводитель Псковской обороны Петр Шуйский – представители той самой ненавистной иванопоклонникам родовой аристократии, которые якобы мешали выдвижению неведомых худородных талантов. Все вышеперечисленные точки зрения входят в противоречие с присутствием в числе «тысячников» знатных аристократов И.Ф. Мстиславского, Д.И. Вельского, П.И. Шуйского – всего 28 высших сановников, многочисленных представителей княжеских фамилий (например, Микулинского, Кропоткина, Козловского) и нетитулованного боярства – отметим Мячкова, Новосильцева, Стромилова, Измайлова, Шереметева, Салтыкова[711]. Если Иван собирался создать некий кадровый резерв, расширить круг людей, годных для придворной службы, то какой смысл записывать в «тысячники» тех, кто уже занимал различные должности (в том числе весьма высокие) или имел возможности сделать себе карьеру. Десятилетие спустя утверждая опричнину, Иван Грозный вовсе не имел намерения опереться на «низы» служилого класса: ряды опричников пополнялись из старого Государева двора, либо из тех родов, которые служили по дворовому списку[712]. Более обоснованными представляются политические мотивы тысячной реформы. Н.П. Павлов-Сильванский отмечает, что почти все княжеские и все виднейшие роды получали поместья под Москвой с обязательством быть готовыми «для посылок», и, следовательно, должны были жить в этих поместьях, оставив свои вотчины в более или менее отдаленной от Москвы провинции, таким образом разобщаясь с теми местами, где они владели наследственными удельными землями[713]. Но куда более важное значение имело то обстоятельство, что, поступая на службу на Государевдвор, эти именитые и неизвестные вотчинники становились не государственными служащими и не «проводниками воли и политики централизованного государства», как выражается И.И. Смирнов, а государевыми слугами, слугами частного лица – царя и великого князя всея Руси. Превратить княжат в своих слуг был не прочь и Иван III, который отписывал в Крым: «Одоевских князей больше не стало, отчина их пуста; а другие князья Одоевские нам служат, мы их кормим и жалуем своим жалованьем»[714]. Но тысячная реформа не идет ни в какое сравнение с этим тягучим процессом – в одночасье возник значительный отряд царских слуг, наподобие княжеской дружины удельных времен. Грозный нуждался в слугах не потому, что его тревожил кадровый дефицит и некому было выступать в поход или ехать с посольством. Могущество царской власти прямо пропорционально количеству слуг – вот нехитрая политическая формула Ивана IV. «Хотя в теории княжество принадлежало князю, в действительности ни у кого из удельных правителей не было ни денег, ни администрации, чтобы утвердить свои владельческие притязания… – отмечает Ричард Пайпс. – За пределами своего поместья князь обладалничтожно малой властью. Черносошные крестьяне, как и бояре, не были подданными князя, но его арендаторами, и отношения между ними носили скорее частный (хозяйственный), нежели чем публичный (политический) характер… Публичная власть средневекового русского князя… отличалась крайней слабостью. У него не было способа принудить кого-либо, кроме своих холопов и слуг, исполнять свою волю… Вся реальная власть удельного князя вытекала из его собственности на землю и холопов…»[715] Впрочем, до Ивана Грозного московских государей данная ситуация вполне устраивала. Н.П. Павлов-Сильванский указывает на то, что великокняжеское правительство не увеличивало, а ограничивало до минимума штат своих чиновников, давая тем самым полный простор крестьянскому самоуправлению. В обширном стане, обнимавшем несколько десятков волостных общин и вотчин разных владельцев, не было, кроме двух-трех доводчиков, других представителей княжеской власти. Управлял деревнею мирской сход и староста волости[716]. Иное дело – вотчинные земли. Вотчинник во всем «ведает свои люди сам или кому прикажет»; он является единственным их судьей и правителем, по своему усмотрению собирает налоги, как самовластный господин в пределах своей земли[717]. Именно эта модель хозяйственно-правовых отношений, а не пресловутая централизация, привлекала Ивана Грозного. Именно по этой причине он жаждет превратить страну в свою вотчину, а своих подданных – в слуг и холопов. Этим задачам и отвечали «тысячная» реформа и последующее развитие поместно-служебного землевладения. Не случайно летописный отчет о «тысячной» реформе службы снабжен заголовком «О рассмотрении государском», а ее проведение опиралось не на закон с четко разработанными юридическими нормами, а на царские предначертания[718]. Испомещение «тысячников» представляло собой прежде всего мероприятие огромного масштаба в области земельных отношений. В результате приведения в жизнь приговора 3 октября 1550 года дворяне-помещики получили в свои руки свыше 100 000 четвертей земли с соответствующим количеством угодий – земли брались из фонда крестьянских земель дворцовых и черных волостей[719]. Иван, таким образом, как бы достигал двух целей: он набирал себе дружину и к тому же делал это в основном за счет свободных черносошных крестьян. Для последних великий князь хотя и считался господином и они выплачивали подати, но для удельного сознания Ивана было гораздо важнее, что теперь эти «ничейные» земли принадлежат людям лично от него зависимым, само право владения наделами обусловлено царской службой. Очевидно, участие дворян в мятежах Андрея Старицкого и Шуйских создало им хорошую рекламу: оно наглядно продемонстрировало, что толпа вооруженных помещиков способна разогнать любое боярское правительство, опирающееся лишь на силу традиции и закона. Недаром перед дворянами заискивал князь Старицкий, а Шуйские обильно одаривали их поместьями. В этом смысле подмосковная «тысяча» – немалая сила, находящаяся в распоряжении государя, способная противостоять такой лихой ватаге мятежников. Вслед за испомещением тысячников в январе – феврале 1551 года собор принял уложение о кормлениях, перестроившее всю налоговую систему государства. Суть тягловой реформы заключалась в окончательной отмене практики сбора прямых налогов самими кормленщиками и специальными великокняжескими данщиками и передаче их функций местному населению – специальным денежным сборщикам в лице выборных голов из детей боярских (десятских священников), земских старост и целовальников, которые должны были ведать сбором дани, кормов и пошлин и их сдачей в казну[720]. Это был несомненный шаг от «государского» к «государственному». Земство как бы откупало право на самоуправление у царских слуг. Однако перевод посадов и волостей на откупа шел туго. Остающихся не у дел кормленщиков волновала не столько перспектива засилья посадско-крестьянских властей, сколько размеры денежных компенсаций, которые обязалась выплатить казна за отказ от кормленых доходов. Назревающий конфликт удалось разрешить после взятия Казани в 1552 году, когда огромные трофеи покрыли затраты казны и послужили для правящей верхушки предлогом, чтобы отложить земское строение и таким образом успокоить кормленщиков, многие из которых входили в состав войска. Как полагает Н.Е. Носов, именно такое мнение возобладало в царском окружении: «Известие о раздаче боярам и воеводам в награду за казанскую службу в кормление «всей земли» трудно понять иначе как отставку (по крайней мере временную) земской реформы»[721]. Так впервые столкнулись земля и удел. Тягловая реформа, едва стартовав, получила серьезный удар. И значительная вина за происшедшее лежит на «ближней думе». А.Л. Янов, анализируя служебную реформу 50-х годов XVI века, отметил, что источник ошибок реформаторов не в недопонимании стоявших перед страной проблем или отсутствии политической воли, а в политической модели деятельности Избранной рады: «В чем состоят общенациональные интересы, реформаторы понимали прекрасно, но как только возникали противоречия с частными интересами могущественных фракций, представленных в армии, на Земском соборе и в самом правительстве – пасовали»[722]. Адашев и его единомышленники сознательно подогревали недоверие Грозного к «злокозненным вельможам» и немало способствовали тому, чтобы низвести последних до положения покорных слуг. Вместе с тем царское правительство старалось расширить полномочия земства, сознавая эффективность этих мер и рассчитывая заручиться поддержкой земли. Но оказалось, что одно с другим не сочетается. Народившийся Франкенштейн – служилое дворянство проявило недюжинный аппетит, который приходилось удовлетворять за счет Земли. Как только позволили обстоятельства, Иван Грозный и его советники пренебрегли интересами государства ради благополучия своих «верных дружинников». Следующим важным шагом в развитии поместной реформы стал указ 1556 года, по которому по всему государству была произведена разверстка поместий для более равномерного наделения землей служилых людей. Если размер вотчин и поместий одних не соответствовал их вкладу в службу, требовалось изъять излишки, чтобы прибавить другим. Еще до Ивана было установлено, что люди, владеющие вотчинами, обязаны нести военную службу так же, как владельцы поместий. Указом 1556 года размеры службы с вотчин были уравнены со службой с поместий. С каждых ста четвертей (50 десятин) землевладелец должен был поставить одного вооруженного всадника – «человек на коне в доспехе полном, а в дальний поход о дву конь». За снаряженных в поход ратников правительство соглашалось приплачивать денежное жалованье, ослушников грозилось штрафовать[723]. Создав экономические условия для развития поместной службы и дворянского землевладения, Иван Грозный и его советники пересмотрели только что оформленные политические условия в пользу государевых людей за счет земства. По сути, произошел пересмотр положений недавно принятого Судебника. По мнению Н.Е. Носова, приговоры о кормлениях и службах 1555 – 1556 годов ознаменовали компромисс, суть которого сводилась к тому, что кроме сугубо черносошных районов Поморья главной судебно-административной властью на местах стали выступать губные старосты из помещиков. Хотя в этих поместно-вотчинных районах (на посадах и по черным волостям) и учреждались земские органы, по существу они были подконтрольны новым дворянским властям. «Это было уже явно куцее земское крестьянско-посадское самоуправление, весьма угодное и феодалам, и правительству», – заключает исследователь[724]. Грозному пришлось выбирать между наращиванием административно-военного потенциала личного удела и политическим и экономическим развитием земли. И царь сделал выбор. Уже в середине 50-х годов XVI века «государско-государственная» двоякость сменяется очевидным креном в сторону «государского». Благотворные реформы застопорились или были выхолощены. Будущее страны было принесено в жертву дворянщине. Глава 12 ЦЕНА КОМПРОМИССА Кому в войне не хватит воли, Тому победы не видать. Коль торговать, не все равно ли, Свинцом иль сыром торговать? «Удел» против «земли» Но, быть может, у поместной реформы не существовало альтернативы? Начнем с того, что формирование военно-служилого сословия шло «сверху», не подкрепляясь движением «снизу» – немногие дети боярские и боярские по служильцы жаждали поступить на государеву службу, чтобы получить надел. В процессе испомещения служилых людей на новгородских землях во времена Ивана III желающих и достойных получить поместья все еще оказывалось очень и очень недостаточно[725]. Фонд поместных земель, образованный на территории конфискованных вотчин Новгорода, Пскова, присоединенных к Москве княжеств и уделов, оказался столь велик, а круг претендентов на поместье столь ограничен, что в Новгородских землях правительство было вынуждено наделить землей более сотни боевых холопов[726]. Поместные раздачи 1499 – 1505 годов не только не исчерпали фондов великокняжеских земель, но не изменили даже того соотношения между поместными и великокняжескими землями, которое существовало до этих раздач. К началу княжения Василия III из великокняжеского земельного фонда около 70 тысяч обеж было роздано не более половины[727]. Крупные вотчинники имели своих дворовых слуг и дворян; князья Одоевский, Воротынский, Вельский ходили в поход со своими удельными полками. Правительство разрешало им присоединяться к московским полкам «где похотят». Только в последние годы правления Ивана III князья становятся во главе того или иного полка[728]. Очевидно, потенциальные помещики неплохо устроились при крупных боярских вотчинах и не горели желанием выходить из этой укрытой бухты в открытое море и пускаться в самостоятельное плавание помещичьего хозяйствования. Судя по тому, что в конце XV – начале XVI веков русское войско, за редким исключением, добивалось побед, сражаясь с литовцами, крымскими и казанскими татарами, подобная схема формирования армии позволяла поддерживать обороноспособность страны на должном уровне. Вместе с тем положение, при котором крупные вотчинники ходили на войну со своими личными отрядами, нельзя признать нормальным в условиях становления централизованного государства. Один из вариантов решения проблемы подсказывал Иван Пересветов, который полагал, что основным источником финансового обеспечения служилых людей должна стать государственная казна, пополняемая за счет налогов. «Таковому силному государю годится со всего царства своего доходы себе в казну имати, а из казны своея воинником сердца веселити»[729]. Подобное решение органично сочеталось с тягловой реформой. В таком случае Россия получила бы общенациональную земскую армию, содержащуюся на средства земли. Ермолай-Еразм предлагал другой вариант формирования вооруженных сил, менее традиционный и, наверное, менее реалистичный, чем у его коллеги Пересветова, но не лишенный своей внутренней логики. «Для удовлетворения нужды вельможи своих ратаев имеют и должны довольствоваться их трудом, взимая у каждого землепашца пятую часть урожая и на эти средства исполняя царскую службу. Этим ратаям никаких других податей, ни сборов ямских платить не следует из-за того, что они содержат вельмож и воинов, – писал Ермолай. – С воинами следует поступать так. Каждый, кто получит от царя участок длиной и шириной в размер четверогранного поприща, должен явиться на военную службу сам и привести с собой слугу в броне. А с прочими быть по такому расчету: на какой земле 20 полных крестьянских наделов… с того участка десять человек одиннадцатого должны в воинство снарядить»[730]. Ермолай полагал, что крестьян, проживающих в вотчинах, если их хозяин исполняет воинскую службу, следует освободить от уплаты государственных податей, черносошные крестьяне обязаны выставлять рекрутов, а профессиональные воины будут получать наделы из фонда дворцовых земель. При такой системе сохранялась и сложившаяся структура землевладения, а крестьянство избегало чрезмерного налогового бремени. Иван Грозный выбрал другую модель реформы. Как она воплощалась на практике? Был образован Поместный приказ: «Ведома в том приказе всего московского государства земля и что кому дано поместья и вотчин». Разрядный приказ ведал службу детей боярских, устанавливал общие размеры поместных окладов и руководил вероганием детей боярских, то есть распределением их по статьям. Поместному приказу принадлежало испомещение детей боярских, наделение их землей по окладам, определенным в разряде. Была проведена всеобщая перепись земель, необходимая, как объяснял Иван Стоглавому собору 1551 года, чтобы ведать «кто чем нужен, и кто с чего служит, и то мне будет ведомо же, и жилое, и пустое». Разрядный приказ ведал мобилизацией и не вникал в вопросы наделения земельных наделов, этим занимался Поместный приказ, дьяков которого не касалось, как служит и служит ли вообще помещик. В подобном распределении функций уже кроется бюрократическая коллизия, впрочем, неизбежная при любом варианте распределения полномочий между подразделениями исполнительного аппарата. Между тем, уже в 60-х годах XVI века в списках Разрядного приказа должно было числиться не менее 23 тысяч дворян и детей боярских[731]. По подсчетам С.Б. Веселовского, общая численность служилых детей боярских составляла около 45 000[732]. Но даже почти полтора столетия спустя – в конце XVII века – весь штат центрального административного аппарата, исключая писцов, насчитывал около 2000 человек[733]. Сомнительно, чтобы в середине XVI века московская бюрократия располагала потенциалом, достаточным для осуществления системного мониторинга и проведения оперативной ротации поместных землевладельцев в соответствии с установленным порядком. Предположим, что новоявленный помещик по причине тяжелой болезни не в состоянии нести службу. Следовательно, его поместье должно автоматически перейти во владение другому поступившему на службу дворянину. Факты болезни, увечья, возраст служилого человека отмечались в Дворовой тетради, которая была начата вскоре после «тысячного» указа октября 1550 года. Наличность и состояние служилого состава проверялись ежегодно на смотрах[734]. Но данный порядок распространялся на служащих Государева двора, а не на всю растушую массу помещиков. Примерная штатная численность Государева двора составляла 2600 человек и проживали они в Москве или ее окрестностях[735]. Служилых дворян, разбросанных на огромной территории Московского царства, было на порядок больше. Неужто за всеми удавалось уследить и наказать нерадивого?! Между тем для надзора за служивыми требовалась кропотливая работа множества чиновников. «Когда служилый человек вследствие умножения семейства бил челом, что ему с прежнего поместья служить нельзя, то показания челобитной, по царскому указу, поверялись явчим списком, писцовыми отдельными и приправочными книгами и всякими посыльными грамотами»[736]. С.Б. Веселовский утверждает, что в XVI веке угроза отписки поместья на государя в случае неявки владельца на службу вовсе не была пустым словом. Жену, детей и людей помещика-дезертира сажали в тюрьму, а его самого, если удавалось поймать, били батогами и отправляли под конвоем в полки[737]. Наверняка таких горемык-неудачников было немало. Но не меньшему числу дворян удавалось успешно отлынивать от исполнения долга. Многие землевладельцы на практике избегали службы и вместе с тем жили в своих поместьях, о чем свидетельствует поток указов, обещающих суровые наказания за отказ явиться по приказу в войско или дезертирство. Так, в окрестностях Твери один из четырех живших там дворян никому не служил[738]. При всей внешней строгости власть была вынуждена снисходительно относиться к нерадивым «нетчикам» (как сказали бы сегодня, «отказникам»), используя разные благопристойные поводы, чтобы снять с них наказания. «Спала с нетчиков складывалась, им опять давались поместья, старые или новые, по случаю разных торжеств, церковных и царских, например по случаю принесения чудотворного образа, по случаю рождения царевича», – сообщает С.М. Соловьев[739]. Р.Г. Скрынников, подчеркивающий принципиальную разницу между положениями вотчинника и помещика, вместе с тем вынужден признать, что «московское самодержавие не обладало достаточной властью, чтобы навязать дворянам принцип обязательной службы с земли вопреки их воле»[740]. Причина этого явления кроется не только в технических сложностях и слабости бюрократического аппарата. Поместная реформа открыла широкий простор для злоупотреблений и коррупции. Вот как Генрих Штаден описывает нравы тех, кто ведал верстанием и испомещением служилых людей во времена Грозного: «В Поместном приказе сидели Путило Михайлович и Василий Степанович. Оба они хорошо набили свою мошну, ибо им одним была приказана раздача поместий; половину нужно было у них выкупать, а кто не имел, что дать, тот ничего и не получал». Не лучше обстояли дела в Разрядном приказе: «Те князья и бояре, которые давали денег в этот приказ, не записывались в воинские смотренные списки, а кто не мог дать денег, тот должен был отправляться в поход, даже если ничего, кроме палки, не мог принести в смотр»[741]. Судя по рассказам Штадена, исполненным восхищения размахом московских коррупционеров, чиновный произвол царил и в прочих приказах, однако именно поместная реформа создала принципиально новую ситуацию, когда весь служилый класс оказался в полной зависимости от Путило Михайловича и ему подобных. Н.П. Павлов-Сильванский был уверен в том, что указ Грозного об «уложенной службе с вотчин и поместий» не привел к радикальным переменам. По мнению исследователя, ранее служба обусловливалась свободным договором с земли, новации заключались только в ее всеобщей обязательности и точно установленных размерах, ее регламентации по норме, что явилось следствием укрепления государственной власти[742]. Так ли это? Со слов Сигизмунда Герберштейна, во времена Василия III верстание на службу происходило следующим образом: «Каждый два или три год государь производит набор по областям и переписывает детей боярских с целью узнать их число и сколько у кого лошадей и служителей. Затем.. он определяет каждому жалованье. Те же, кто могут по достаткам своего имущества, служат без жалованья»[743]. Какое же решение приняло правительство Ивана Грозного? «Лосем же государь и сея разсмотри, которые велможи и всякие воини многыми землями завладали, службою оскудеша, – не против государева жалования и своих вотчин служба их, – государь же им уравнения творяше: в поместьях землемерие им учиниша, комуждо что достойно, так устроиша, преизлишки же разделиша неимущим… а хто землю держит, а службы с нее не платит на тех на самех имати денги за люди; а хто дает в службу люди лишние перед землею, через уложенные люди, и тем от государя болшее жалование самим… И все государь строяше, как бы строение воинъству и служба бы царская безо лжи была и без греха вправду; и подлинные тому разряды у царьских чиноначальников, у приказных людей»[744]. Если прежде великокняжеские чиновники вели учет служилых людей, отталкиваясь от реальной ситуации, то отныне правительство решило заняться планированием: нарезать угодья, перемещать людей, отрезать излишки, прибавлять, делить. Поместная реформа являлась не следствием укрепления государственной власти, как полагал Н.П. Павлов-Сильванский, а экспериментом по централизованному планированию со всеми его характерными пороками и изъянами. Правительство, взявшееся все предусмотреть и все отрегулировать, достигает искомого результата лишь на бумаге, на практике постоянно возникают проблемы, ставящие чиновника в тупик. Об одной из таких проблем поведал Джильс Флетчер. «… Если царю покажется достаточным число лиц, состоящих на таком жалованье (ибо все земли на всем пространстве государства уже заняты), то часто их распускают, и они не получают ничего, кроме небольшого участка земли, разделенного на две доли. Такое распоряжение производит большие беспорядки. Если у кого из военных много детей и только один сын получает содержание от царя, то остальные, не имея ничего, принуждены добывать себе пропитание несправедливыми и дурными средствами ко вреду и угнетению мужиков.. Это неудобство происходит вследствие того, что военные силы государства содержатся на основании неизменного наследственного порядка»[745]. Флетчер побывал в России во времена Федора Иоанновича. Ливонская война давно закончилась, государству более не требовалось такое число воинников, и оно попросту бросило их на произвол судьбы. В этом проявилась решительная разница между моделью, построенной на учете военно-служилого потенциала государства, и попыткой его централизованного планирования. Об этом говорит и следующая коллизия. По замечанию С.Б. Веселовского, лишать проштрафившегося дворянина поместья иногда было нецелесообразно, так как в таком случае помещик был недееспособен[746]. Вряд ли о таких случаях думали авторы Поместной реформы, посчитавшие, что они предусмотрели действенные механизмы организации государевой службы. На самом деле, если помещик отказывался служить, выяснялось, что лишить его поместья – не выход из положения. Ну отнимешь у него имение – значит человек пропал для службы. Найти на его место другого – так это надо еще искать, и не факт, что новичок будет ревностно относиться к службе. Вот и оказывалось, что правительству выгоднее наказать дезертира батогами и отправить в войско. Нетрудно представить боевой настрой этого ратника. Увы, служба царская «безо лжи и без греха», как это задумывалось, не получалась. Правительству не удавалось выполнить обязательства. Большинство из тысячи «лутчих слуг» поместий так и не получили[747]. Ситуация в провинции складывалась еще более сложно. Значительное число помещиков находилось в затруднительном материальном положении. Об этом можно судить по тому, что буквально вслед за приговорами о службе 1555 – 1556 годов, а именно зимой 1557/58 года правительство подняло вопрос о задолженности служилых людей, в результате чего помещиков освободили от обязательств по выплате процентов по долгам. Стесненность помещиков в средствах напрямую отражалась на боеспособности русского войска. Одной из главных военных неудач Ливонской войны было вооружение, составлявшее самую слабую сторону русского войска и не годившееся уже для войны с западными соседями. В 70-х годах дети боярские, имевшие пищали, составляли самое незначительное меньшинство среди массы, не имевшей огнестрельного оружия, и те были несовершенны. Даже в половине следующего столетия многие дети боярские служили «по старине» с саблями и луками[748]. А откуда было взяться вооружению, когда богатые откупались от службы, а на войну шли те, кто не имел средств ни откупиться, ни вооружиться должным образом? Между тем, когда правительство Грозного затеяло грандиозную ломку всего русского уклада жизни ради создания боеспособного резерва военной силы, время дворянской конницы подходило к концу. Правда, Н.П. Павлов-Сильванский, сопоставляя структуры русских вооруженных сил и европейских армий, приходит к следующему выводу: «Поместная иррегулярная конница составляет у нас до половины XVII в. видную часть войска; затем, точно так же, как в Германии, она быстро оттесняется на второй план регулярными войсками»[749]. С этим утверждением можно поспорить. Само сравнение не вполне корректно. В западноевропейских государствах постоянные армии возникали на основе наемничества, а в России на основе верстания на службу дворян и детей боярских. Но не это самое главное. Военный историк Е.А. Разин указывает на то, что около середины XVI века, или в третью четверть этого века на Западе появляется новый род войск – кавалерия, заменившая средневековое феодальное рыцарство[750]. В это же время в Москве устраивают опасный эксперимент, закрепляющий старую структуру вооруженных сил, от которой уже отказываются в Европе. Рыцарство, аналогом которого являются московские землевладельцы, выступающие на службу «конно, людно и оружно», стремительно теряет значение. Его место занимают профессионалы, как в пешем, так и конном строю, с иной выучкой и иным вооружением. Нельзя сказать, что в Москве не предпринимали мер для переустройства армии на новый лад. Еще Василий III завел отряды пехоты «с огненным боем». А в 1550 году «учинил у себя царь и великий князь Иван Васильевич выборных стрельцов с пищалей 3000 человек, а велел им жити в Воробьевской слободе»[751]. Грозный, очевидно, рассматривал стрельцов как свою личную охрану, поселив их в придворном селе и поставив им в командиры худородных боярских детей. Тем не менее регулярные пехотные части росли. Так, Флетчер в конце столетия насчитал уже 12 000 стрельцов и 4300 наемников[752]. Серьезную угрозу для противника представляли легкоконные татарские отряды и артиллерийский «наряд». А вот дворянская конница – детище Поместной реформы – оставалась самым слабым местом русского войска. Не случайно помещиков вскоре отставили от сторожевой службы, требовавшей наибольшей мобильности и профессионализма. В 1571 году на место детей боярских определены казаки, причем со временем число боярских детей сокращалось, а казаков и стрельцов увеличивалось[753]. В начале XVII века находившийся на русской службе профессиональный вояка Жан Маржерет весьма скептически оценивал московские принципы формирования войска и боеспособность дворянской конницы. По мнению наемника, в результате верстания поместного ополчения «собирается невероятное число, но скорее людей, чем теней», а служба знатных дворян состоит в том «чтобы образовать количество, чем в чем либо в другом». «Вышеназванные знатные воины должны иметь кольчугу, шлем, копье, лук и стрелу, хорошую лошадь, как и каждый из слуг; прочие должны иметь пригодных лошадей, лук, стрелы и саблю, как и их слуги; в итоге получается множество всадников на плохих лошадях, не знающих порядка, духа или дисциплины и часто приносящих армии больше вреда, чем пользы», – отмечает «эксперт».[754] Да собрать дворянское войско в приемлемые сроки удавалось далеко не всегда. Так, 6 ноября 1577 года к Грозному пришла весть о падении ливонского города Невгина. Царь дал приказ о сборе войска, но поход не состоялся, ибо дети боярские не собрались. Только 1 февраля 1578 года войска, наконец, выступили[755]. Получается, что распоряжение самодержца выполнялось почти три месяца! С похожей ситуацией мы встречаемся во времена Бориса Годунова. После известия о первых успехах Лжедмитрия I Разрядный приказ получил распоряжение собрать полки в течение двух недель. Царский указ пришлось повторять трижды, «уклонистов» доставляли к месту службы под стражей, у них отписывали имения, их наказывали батогами, но несмотря на строгие меры полки собрались лишь через два месяца[756]. Реформа самым пагубным образом отразилась и на положении крестьянства. В самом начале правления Грозного нововведения, кажется, не особенно затронули отношения на селе. По мнению В.Б. Кобрина, когда черные земли передавали в поместье, то статус владения менялся не полностью, и не сразу. Поместье воспринимали как часть волостной земли, которая только находится «за» помещиком. Помещик же выступал в роли покровителя волостных крестьян: становясь адресатом провинностей, которые раньше поступали государству, он должен был «стоять» за волостную землю. Черная земля, розданная в поместья, не меняла своего верховного собственника – государя и продолжала юридически и психологически осознаваться как волостная. Исследователь полагал, что в этом кроются причины той легкости, с которой поместье поглощало черные земли[757]. Между тем в результате испомещения «тысячных» сократились крестьянские земельные наделы. Крестьяне сохранили только ту часть лугов, которая в долевом отношении соответствовала оставшейся в их владении пашне. Остальные луга с пахотной землей перешли во владения помещиков[758]. Небогатые дворяне (а таковых, полагаем, было большинство), чтобы сводить концы с концами, вынуждены были усиливать эксплуатацию крестьянства, проживавшего на выделенной помещику земле. Крестьянам вряд ли мог понравиться подобный хозяин, и они все чаще задумывались о том. чтобы перебраться на другую землю. Это уже, в свою очередь, не нравилось помещику. Так завязывался еще один драматический узел русской истории. Вплоть до новаций Ивана Грозного крестьянин Восточной Руси не являлся простым арендатором чьей-либо земли, а имел собственное право, трудовое право на землю, которую обрабатывал. Независимо от того, работал он на «черной», дворцовой или боярской земле, никто не мог законным путем согнать его с участка, и его права на эту землю признавались судом – до тех пор, пока он продолжал обрабатывать ее и платить налоги[759]. Судебник 1550 года подтверждал за крестьянином право на свободу передвижения, установленную в старом Судебнике. Однако по мнению Е.Ф. Шмурло, чрезвычайно быстрое развитие поместной системы стало причиной того, что «крепость крестьян к земле в глазах правительственной власти стала явлением желательным, которое следует поощрять, а то и прямо регламентировать законом»[760]. Скорее всего, разные политики и правительственные группировки имели свои резоны, подготовляя и воплощая в жизнь поместные нововведения: одни надеялись укрепить кадровый и, прежде всего, военный потенциал страны, другие желали подорвать значение удельных князей, третьи планировали заполучить политических сторонников, облагодетельствовав их при распределении поместий. Между тем, если судить по конечному результату, следует согласиться с радикальным выводом Ричарда Пайпса: «Введение обязательной службы для всех землевладельцев.. означало не более и не менее как упразднение частной собственности на землю… и средства производства»[761]. Недаром Р.Ю. Виппер обратил внимание на «самодержавно-коммунистические выражения», которые применяет летописец, рассказывая о реформах 50-х годов[762]. Коммунистическое обобществление напоминали не только выражения, но и действия правительства, порожденная им ситуация. По свидетельству того же Флетчера, «и дворяне, и простолюдины по отношению к своему имуществу суть не что иное, как хранители царских доходов, потому что все нажитое рано или поздно переходит в царские сундуки»[763]. Ему вторит соотечественник Ричард Ченслер: «У помещика нет ничего своего, но все его имение принадлежит Богу и государевой милости; он не может сказать, как простые люди в Англии, если у нас что-нибудь есть, что оно „Бога и мое собственное“[764]. Одновременно, по наблюдению С.О. Шмидта, именно в 50-е годы в исторических источниках обнаруживаются столь редкие в рукописях XVI века слова «мир» и «вече»[765]. Освободившись от произвола кормленщиков, «земля» в условиях хозяйственного прогресса и развития предбуржуазных отношений укрепила свой политический и экономический потенциал и возвышала свой голос. Однако земство оказалось зажато между самодержавной властью и помещичьим слоем. Власть, рассчитывающая исключительно на холопов и слуг, готовила наступление на вольное население Земли. Стоглавый собор У правительства, породившего жестокое и пагубное противостояние между «уделом» и «землей», оставалась возможность если не примирить, то сгладить нарастающие противоречия, направив хищный взор помещиков на обширные монастырские земли. А.Л. Янов сравнивает ситуацию в России и странах европейского северо-востока – Дании и Швеции, где также нарастал антагонизм между дворянством и предбуржуазией: «Обеим странам, точно так же, как и России, пришлось пережить жестокую феодальную реакцию, закрепощение крестьян и даже изведать вкус власти многочисленных тиранов…» Тем не менее скандинавам удалось преодолеть социально-политический кризис без тех катастрофических последствий, с которыми столкнулась Москва, благодаря тому, что обе эти страны утолили земельный голод помещиков не за счет боярских, не за счет крестьянских, а за счет церковных владений. «Мощь аристократии была сохранена, крестьянская дифференциация продолжалась», – заключает А.Л. Янов[766]. Не исключено, что к подобному варианту склонялась и царская «ближняя дума», которая в феврале 1551 года на Стоглавом соборе предприняла попытку провести секуляризационную реформу. Перед глазами Ивана Грозного и его советников стоял пример шведского короля Густава Вазы, который успешно провел секуляризацию в 1527 году, заручившись широкой народной поддержкой. Нестяжатели старались склонить государя на свою сторону, убедив силой своих доводов. Ивану были адресованы послания игумена Троицкого монастыря Артемия, ратовавшего за нестяжательное иноческое жительство, и «27 поучительных глав о государственном управлении» Максима Грека, в которых Святогорец горячо выступал против имущественных злоупотреблений церковных иерархов. Репетиция будущего столкновения состоялась за несколько месяцев до собора. Во время проведения «тысячной» реформы Иван, вероятно, обращался с запросом к Макарию относительно покупки или уступки казне подмосковных митрополичьих вотчин. Но митрополит с небывалой для него решительностью и смелостью дал отпор царским претензиям. В своем «Ответе о недвижимых вещах вданных Богови в наследие вечных благ» Макарий повторял аргументы, изложенные церковной верхушкой на достопамятном соборе 1503 года. «А того ради вси православныя цари, бояся Бога и святых Отец заповеди великого царя Константина, не смели судити или двинути от святых церквей, и от святых монастырей недвижимых вещей, вданных Богови в наследие благ вечных»[767]. Казалось, повторяется сценарий событий полувековой давности. Алексея Адашева и Сильвестра не смутила отповедь митрополита, они, похоже, заручились твердой поддержкой Ивана в вопросе о секуляризации монастырских земель, потому, подготавливая собор, действовали без оглядки на Макария. Временщики привлекли к работе Артемия и рязанского епископа Кассиана – единственного из епархиальных владык, разделявшего нестяжательские убеждения. Они готовили нелицеприятные вопросы к церковным иерархам, прежде всего о монастырском имуществе. Заседания собора открыл сам Иван, выступивший с прочувствованной краткой речью: «Молю вас, святейшие отцы мои, аще обретох благодать перед вами, утвердите в мя любовь, яко в приснаго вам сына, и не обленитеся изрещи слово к благочестию единомысленно о православной церкви, нашей христианской вере и благосостоянии Божиих церквей и о нашем благочестивом царствии и об устроении всего православного хрестьянства»[768]. В более пространном письменном обращении Иван просил участников собора провести церковную «экспертизу» нового Судебника. Похоже, сначала Иван и его советники решили потрафить иерархам, пригласив их к обсуждению земского законодательства, но затем, не дожидаясь, пока участники собрания «изрекут слово», царь взял инициативу в свои руки, представив собору 37 вопросов, касавшихся различных церковных нестроений. Выдвигая различные претензии к состоянию церковных дел, Иван атаковал и заставил делегатов защищаться и оправдываться, хотя многие пороки, характерные для того времени, проистекали из глубокой старины, в том числе языческой. Например, собор осудил обычай, заключавшийся в том, что «в троицкую субботу по селом и по погостом сходятся мужи и жены на жальниках и плачутся по гробом умерших с великим воплем. И егда начнут играти скоморохи во всякие бесовские игры, они же от плача преставше, начнут скакати и плясати и в долони бити…» Впрочем, осудили иерархи и религиозных фанатиков – «лживых пророков» разного пола и возраста, которые «волосы отрастив и распустя, трясутся и убиваются, а сказывают, что им являются святае пятница и святая Анастасия и велят им заповедати хрестианом каноны завечати»[769]. О невежестве паствы и пастырей эпохи Грозного можно судить по тому, что собору пришлось составить инструкцию о том, как творить крестное знамение. В Божиих церквах православные вели себя непотребно, прерывая срамными словами пение, а по праздничным дням превращали храм в торжище. Сами священнослужители подавали дурной пример, приходя в церковь навеселе, устраивая между собой брань и даже драки. Невежественным иереям вменялось в вину то, что те «по многим церквям божиим звонят и поют не во время… многие церковные чины не сполна совершаются по священным правилом и не по уставу»[770]. Но больше всего, как и следовало ожидать, досталось монастырским нравам: монашескому пьянству и безделью, блуду с черницами и «голоусыми робятами». Иногда по целым неделям в обителях не совершались богослужения. Собор осудил все эти злоупотребления, запретив, в частности, держать в монастырях хмельное питье, совместно проживать чернецам и черницам. Царские дворецкие теперь получали полномочия требовать отчета о сохранности монастырской казны – так собор отреагировал на вопрос царя о том, «где те прибыли (монастырские. – М.З.) и кто им корыстуется?». Собор не успел дать ответные определения и на половину царских вопросов, как Иван подал на рассмотрение новые 32 пункта, более краткие и менее важные по своим предметам. Г. Флоровский указывает на то, что «вопрошавшие как-то не разочли, кого они спрашивают и кто будет отвечать»[771]. На наш взгляд, поведение Ивана Грозного на соборе скорее свидетельствует о тщательной подготовке, нежели о непродуманности. Возможно, тактика Ивановых советников заключалась в том, чтобы постоянно держать иерархов в положении обороняющихся и вести себя соответствующим образом. По наблюдению Р.Г. Скрынникова, в царских вопросах проглядывались нетерпение и резкость, тогда как ответы Макария отличались умеренностью и осторожностью[772]. Ход собора находился под постоянным контролем царского окружения. Об этом можно судить по тому, что решения Стоглава были отосланы на просмотр бывшему митрополиту Иосафу, близкому к нестяжателям. Наконец все определения были сведены в единый свод, в котором оказалось около ста глав, что впоследствии дало собору название «Стоглавого». Но, как и в 1503 году, главные события развернулись под занавес собрания, а точнее, в последний день заседаний. 11 мая Иван «вдруг» напрямую поставил вопрос о церковном имуществе, обращая внимание собравшихся на огромные размеры монастырских владений и на то, как безобразно они используются. Царь также осуждал поборы и ростовщичество монастырей, призывая монастыри помочь казне средствами на благоустройство богаделен и выкуп пленников. Иерархи встретили опасность единым фронтом. Большинство епископов – новгородский Феодосий, крутицкий Савва – автор «Жития Иосифа Волоцкого», смоленский Гурий, суздальский Трифон, знакомый нам тверской Акакий, ростовский Никандр, коломенский Феодосий – тот самый, кого побили горожане якобы по указке Адашева, пермский Киприан – все они принадлежали к иосифлянской партии. Соборные отцы дружно ответствовали государю, что никто монастырские земли «не может от церкви божии восхитить или отъяти, или придати, или отдати». В Стоглав даже включили две фальшивки, подтверждающие имущественные права церковников – грамоту императора Константина папе Сильвестру и устав великого князя Владимира. Тактика постоянного давления и настойчивость государя сыграли свою роль, и новый секуляризационный приступ не окончился столь же безрезультатно, как тот, что был предпринят почти полвека назад. Собор поставил предел росту церковных вотчин. Священноначалие не имело права более приобретать земли без особого на то разрешения государя. Отбирались вотчины, отданные боярами обителям на помин души, возвращались прежним владельцам земли, отобранные монастырями в качестве уплаты за долг. Крупные монастыри не могли более рассчитывать на казенные пожалования – «ругу». Компромиссный характер имущественных приговоров Стоглава ярко прослеживается в 98 главе, касающейся положения владычьих и монастырских слобод. С одной стороны, участники собора пеняют государю, что «ныне твои наместники и властели тех слобожан хотят судити», чего прежде не бывало. «И ты бы государь, своим наместником и властелем впредь наших слобожан не велел судити», – приговаривают епископы. В то же время делегаты согласились «держати свое старые слободы по старине, а новых слобод не ставити, и дворов новых в старых слободах не прибавляти…»[773]. Тем не менее итоги собора не могли удовлетворять ни Ивана, ни его советников. Царя, вероятно, привело в ярость столь дружное неповиновение, во всяком случае, сразу же после окончания собора он свел с епископских кафедр наиболее ярых защитников монастырского землевладения из числа иосифлян – новгородского Феодосия, повторившего тем самым путь своего предшественника Геннадия Гонзова, сведенного после собора 1503 года, и суздальского Трифона. Удаление епископов было невозможно помимо митрополита, но в этом случае Макарий либо оказался бессилен защитить своих соратников, либо счел благоразумным не противиться государевой воле. Впрочем, иосифляне быстро перестроили свои ряды и прибегли к излюбленной тактике закулисных интриг, что сторонники нестяжателей не замедлили ощутить на себе. Игумен Артемий вскоре после окончания Стоглавого собора с горечью писал, что «все ныне враждуют против меня»[774]. На некоторое время в противостоянии защитников и противников секуляризации установилось неустойчивое равновесие. Все внимание правительства и усилия государства были направлены на борьбу с остатками Орды. В мае 1551 года передовой отряд русского войска оказался под Казанью и погромил городской посад. Весь следующий 1552 год с ранней весны главным образом был посвящен завоеванию Казанского ханства, столица которого пала 2 октября. Казанский триумф и последовавшие за ним события произвели, по выражению С.Ф. Платонова, «перелом во внутреннем настроении царя». «Он возмужал от необычных переживаний кровавой борьбы, от впечатлений путешествия по инородческому краю …. от выпавшего на его долю блестящего политического успеха. Сознание своего личного главенства в громадном предприятии должно было в глазах Грозного поднять его собственную цену, развить самолюбие и самомнение. А между тем окружающие его сотрудники… продолжали смотреть на царя как руководители и опекуны. …Если под Казанью Грозный уже тяготился опекою, то в Москве в торжествах по случаю победы, в чаду похвал, благодарений и личного триумфа, молодой царь должен был стать еще чувствительнее к проявлениям опеки» – так характеризует настроение Ивана Грозного в этот период жизни С.Ф. Платонов[775]. «Брань велия» Вскоре жизни триумфатора стала угрожать реальная опасность. В начале марта 1553 года Иван серьезно заболел. Положение больного стало критическим, и государю прямо напомнили о необходимости оставить завещание. Иван велит совершить духовную, в которой завещает трон сыну Димитрию, родившемуся во время Казанского похода. Но когда Иван лично сообщил о своей воле придворным и потребовал принести присягу наследнику престола, «бысть мятеж велик и шумъ и речи многия въ въсех боярех». Больному царю пришлось проявить весь свой темперамент и красноречие, чтобы склонить бояр целовать крест Димитрию. Но даже после этого, как вскоре выяснил Иван, многие бояре склонялись к другому кандидату на царство – двоюродному его брату Владимиру Андреевичу Старицкому. И не просто бояре. К Старицкому благоволили протоиерей Сильвестр, участник Избранной рады и Боярской думы князь Дмитрий Курлятев, член «ближней думы» Дмитрий Палецкий, отец Алексея Адашева – Федор и даже митрополит Макарий. Рассказ об этих событиях С.Ф. Платонова проникнут горячим сочувствием к переживаниям оскорбленного монарха: «Все эти сведения потрясли душу Грозного. Они вскрыли пред ним, больным, то, чего он не узнал бы здоровым. Его друзья и сотрудники не любили его семьи и в трудную минуту чуть не открыто ей изменили»[776].  Приведение бояр к присяге во время болезни Ивана IV
Освоившись с ролью Ивана IV, историк не смог с ней расстаться на протяжении всей своей книги, посвященной Грозному царю и в других произведениях. По мнению С.Ф. Платонова, в царе «нарастал страх перед изменньм боярством, сознание необходимости общих против него мер и озлобление против слуг, «пожелавших изменньм своим обычаем быти владыками» на своих прежних уделах»[777]. Итак, страх, то есть эмоциональная субъективная реакция на конкретное событие, подталкивает Грозного к осознанию «необходимости общих мер» против целого сословия. Наконец, целиком следуя в русле параноидальной логики Грозного, С.Ф. Платонов обосновывает «озлобление» царя тотальным противостоянием принципиальных политических противников. Р.Г. Скрынников, полагающий, что «реакционность бояр относится к числу исторических мифов», рассказывая о боярском «мятеже», все же отдает дань «классической» платоновской точке зрения: «Аристократия претендовала на власть в государстве и негодовала на самодержавные замашки царя»[778]. В качестве иллюстрации он приводит ворчание князя Ростовского-Лобанова, которое выдается за умонастроение целого сословия в эпоху Ивана Грозного, так же как едкое занудство Берсеня-Беклемишева почему-то принято считать выражением отношения всех бояр к политике Василия III. Официозный взгляд на события марта 1553 года подробно отражен в «Повести о мятеже», сочиненной Иваном Грозным и его помощниками. Вот как там излагается точка зрения мятежников: «А околничей Федор Григорьевич Адашев почал говорити: «Ведает Бог, да ты, – государь: тебе, государю, и сыну твоему царевъчю князю Дмитрею крестъ целуемъ, а Захарьиным намъ, Данилу с братьею, не служивати; сын твой, государь нашъ, ещо в пеленицах, а владети нами Захарьинымъ, Данилу з братьею. А мы уж от бояр до твоего возрасту беды видели многия»[779]. Аргументы Адашева-старшего предельно ясны: он присягает законному наследнику, но, вспоминая недавнюю смуту, выражает резонное беспокойство в связи с предполагаемым регентством. Словам этим следует тем более доверять, что их приводит сам Иван Грозный. Если выступление бояр и можно назвать мятежом, то он был направлен не против самодержавной власти, а против грядущей диктатуры Захарьиных, став ярким проявлением застарелой взаимной ненависти служилых князей и старомосковского боярства. В «Повести о мятеже» Грозный сообщает о том, что Иван Федоров доносил на Петра Щенятева, Ивана Пронского, Семена Ростовского, а Лев Салтыков – на Дмитрия Ивановича Немого, что те «не хотят служить Захарьиным»[780]. Из этого сообщения совершенно очевидно, кто оказался по разные стороны баррикад в марте 1553 года. На стороне Захарьиных представители рода Челядниных и Морозовых, которые доносят на князей из рода Патрикеевых, Оболенских, ростовских и рязанских княжеских фамилий. Больше десяти лет продолжался период смуты и ожесточенной борьбы, когда различные группировки боролись за право управлять страной от имени несовершеннолетнего государя. Бояре явно опасались повторения этих событий, стоивших жизни стольким великим мужам, и потому, естественно, предпочли взрослого Владимира ребенку Димитрию. Тем самым, исходя из намерений укрепить государство и опыта недавних событий, они старались предупредить новую «великую замятию». Примечательно, что Ивану нечего возразить по существу на доводы Федора Адашева. В «Повести о мятеже» царь лишь гневно сетует на «жестокость боярскую». Очевидно, Иван, хотя и воспринял замешательство своих советников как личное оскорбление и угрозу своей власти, но, с другой стороны, он прекрасно помнил прелести опекунского управления 40-х годов и свою горькую долю униженного наследника престола. Иван понимал, что в случае смерти подобная участь могла ожидать и его сына. Лишь десятилетие спустя, когда Ивану потребуются оправдания для развязанного им террора, события 12 марта 1553 года обретут признаки заговора, а в пылу полемики с Курбским Иван даже договорится до того, что его соратники намеревались «извести» младенца Димитрия. Тем не менее историки XIX века, поверив жалобам Ивана Грозного, заложили основы историографического мифа, который гласит, что в России к XVI веку началось, с одной стороны, противостояние самодержавной власти, которая трудится ради величия государства, и отстаивающего свои эгоистические интересы боярства; а с другой – противостояние «реакционного» боярства, недовольного централизацией страны, и «прогрессивного» дворянства, поддерживавшего самодержавную власть. Невозможно установить, какой фактический материал лег в основу этой весьма устойчивой исторической конструкции. Рассматривая отношения «государь – боярство», Ключевский обнаружил лишь два столкновения между ними и оба раза по одинаковому поводу – по вопросу о наследнике престола.[781] Примечательно, что сначала Ключевский даже не смог сформулировать причину этих столкновений – одна из глав его «Лекций.» так и называется «Неясность причины разлада». Затруднения историка понятны, так как из двух случаев трудно вывести какую-либо закономерность. Но затем Ключевский все же решается дать ответ, сообщая, что своевольство бояр вызвано привычками удельного времени, тем, что, не имея возможности выбирать себе князя, «они хотели выбирать между наследниками престола»[782]. Вполне возможно, что подобные настроения имели место в боярской среде. Только приведенные случаи никак не могут послужить для них иллюстрацией. В 1499 году мы имеем дело скорее не с противоречиями между Иваном III и боярами, а противоречиями внутри самого великого князя. Поведение бояр во время болезни Ивана IV, которые отказались присягать его малолетнему сыну и выразили желание служить двоюродному брата царя Владимиру Андреевичу Старицкому, было вполне разумным и предсказуемым. В период малолетства Ивана они дружно служили наследнику Василия, уничтожая его соперников удельных князей, в том числе и отца Владимира Старицкого – князя Андрея. В годы боярского правления не наблюдается никаких попыток двинуться по направлению к сепаратизму[783]. Более того, Старицкий-старший, стремясь захватить власть в Москве, прибег к помощи новгородских дворян – облагодетельствованные государем «прогрессивные» помещики пошли за удельным князем против законного государя. Так кто же тут является сторонником, а кто противником пресловутой централизации? Если бы бояре стремились к анархии и ослаблению центральной власти, то, напротив, дружно присягнули малолетнему сыну Грозного, не без основания рассчитывая заполучить выгоду из создавшегося положения. Ключевский считает, что отношения между великим князем и аристократией стали портиться из-за того, что «титулованные бояре шли в Москву не за новыми служебными выгодами, а большей частью с горьким чувством сожаления об утраченных выгодах удельной самостоятельности»[784]. Однако, как мы видим, речь идет о князьях Северо-Восточной Руси. А как же быть с Гедиминовичами и западными Рюриковичами, которые как раз шли в Москву за новыми служебными выгодами, утрачивая выгоды удельной самостоятельности? Во всяком случае, Ключевский честно признает, что, отстаивая свои «притязания», бояре даже не вели «дружной политической оппозиции» против государя. Советские историки еще более упростили схему Ключевского, сведя ее к непримиримому антагонизму между аристократией и самодержавием. На эту конструкцию громоздилась другая – о союзе самодержавия и дворянства против «реакционного» боярства. Рассуждения о стеснении вельмож единодержавной властью сводятся к одному конкретному факту – бояр заставляют делать записи о том, что они не собираются переходить на службу другому властителю. Однако эта мера продиктована политическими реалиями начала XVI века, когда по мере исчезновения независимых от Москвы княжеств и удельных вотчин оставался только один независимый властитель, к которому московский боярин мог перейти на службу – великий князь литовский. Между тем Русь практически все время находится в состоянии войны с Литвой. Понятно, что московский государь не желал усиливать потенциал противника за счет ослабления своего. Данную меру предосторожности трудно назвать стеснением, ведь даже те, кто нарушал клятву и пытался бежать в Литву, как это в свое время сделал, например, Михаил Глинский, хотя и подвергались опале, но обычно возвращались на русскую службу. Стоит отметить, что правительство «вольнолюбивого» Новгорода, а не «деспотичной Москвы» еще в 1368 году решило узаконить конфискацию земель отъехавших бояр[785]. Умозрительное построение о недовольстве бояр отменой права отъезда не только не подтверждается фактами, оно ими опровергается. Именно боярское правительство в малолетство Иоанна Грозного утвердило новое правило о неотъезде служилых людей. В 1534 году после смерти Василия III митрополит Даниил привел к крестному целованию удельных князей, братьев умершего великого князя, Андрея и Юрия Ивановичей, на том, что людей им от великого князя Ивана не отзывати»[786]. В.Б. Кобрин обращает внимание на то, что вся правительственная политика XV—XVI веков, направленная на развитие централизации государства, была воплощена в «приговорах» Боярской думы. «В таком случае, – замечает исследователь, – если придерживаться традиционной концепции, боярство предстанет в невероятной для общественной группы роли самоубийцы: оно с удивительной настойчивостью принимает, оказывается, законы и проводит мероприятия, направленные против него самого[787]. Схожие выводы позволили Н. Е. Носову задаться вопросом: не шла ли Боярская дума в вопросе ограничения самодержавия и выработки основ складывающегося в России сословно-представительного строя дальше царя и придворной бюрократии[788]. Думается, ответ на этот вопрос еще предстоит найти будущим поколениям историков. Трагедия на богомолье После выздоровления Ивана не последовало никаких «оргвыводов», и положение Сильвестра, Алексея Адашева, митрополита Макария как царевых советников на первый взгляд не претерпело изменений. Тем не менее прежняя доверительность в отношениях между Иваном и его советниками стала невозможной. Здесь мы полностью солидарны с точкой зрения С. Ф. Платонова: на самом деле молодой царь все более тяготился опекой и выказывал самостоятельность в поступках. Так, несмотря на возражения Адашева и Курбского после выздоровления он отправился на богомолье в Кирилло-Белозерский монастырь. В обители он встретился с родственником Иосифа Волоцкого иноком Вассианом Топорковым, которого стал спрашивать о том, «како бы мог добре царствовати и великих и сильных своих в послушестве имети». Собственно, сам вопрос свидетельствует об умонастроении Ивана и уже содержит намек на ожидаемый ответ. Разумеется, ветеран любостяжательской партии, «мних от осифлянские оные лукавые четы», с удовольствием присоветовал государю поменьше прислушиваться к своим советникам и боярам: «И аще хощеши самодержецъ быти, не держи собе советника не единаго мудрейшаго собя, понеже самъ еси всехъ лутчши. Тако будеши твердъ на царстве и всехъ имети будеши в рукахъ своихъ. И аще будеши иметь мудрейших близу собя, по нужде будеши послушеннъ имъ»[789]. Казалось, участь Избранной рады была предрешена. Но тут произошло трагическое событие, оказавшее на Ивана столь же могучее эмоциональное воздействие как московский пожар и народные волнения 1547 года. Во время остановки царского каравана на Шексне, когда нянька царевича сходила со струги на берег с ребенком на руках, поддерживаемая братьями царицы, сходни не выдержали тяжести и перевернулись. Когда Димитрия вынули из воды, он был уже мертв. Между тем в начале своего путешествия Иван по совету Курбского и Адашева посетил в Троицкой обители Максима Грека, которого перевели туда по просьбе игумена Артемия. Святогорец крайне неодобрительно отнесся к намерениям царской семьи отправиться на богомолье, в то время как тяжелое положение страны и народа после напряженной Казанской войны настоятельно требовало от государя обратиться к заботам о пострадавших: «И техъ избиенных жены и дети осиротели и матери обнищадели, во слезах многих и в скорбехъ пребываютъ. И далеко, – рече, – лучше те тобе пожаловати и устроити утешающеихъ гот таковыхъ бед и скорбей, собравше ихъ ко своему царственнейшему граду, нежели те обещания не по разуму исполняти»[790]. Несмотря на уговоры старца, Иван не отказался от своего намерения. После чего старец попросил Андрея Курбского передать царю грозное пророчество: «Аще не послушавши мене, по Бозе советующего, и забудеши кровь оных мучеников, избиенных от поганов за правоверие, и презриши слезы сирот оных и вдовицъ, и поедеши с упрямством, ведай о сем, иже сын твой умрет и не возвратится оттуды жив»[791]. Однако Максим Грек никогда не отличался склонностью к прорицаниям и устрашениям, тем более столь конкретным, как предупреждение о смерти царевича. Отметим, что если увещевательное слово, обращенное к царю, слышали все бывшие с ним бояре, то о своем страшном пророчестве Грек сообщил священнику Андрею Протопопову, князю Ивану Мстиславскому, Алексею Адашеву и самому Курбскому. В этом эпизоде одна странность накладывается на другую: Максим обратился не напрямую к царю, с которым только что имел встречу, а передал столь важное для Ивана предсказание через бояр, а впечатлительный Иван отмахнулся от грозного предсказания. Похоже, что «предупреждение» Святогорца – выдумка самого Курбского и попа Сильвестра. Наверняка советники царя в Троице попытались вновь отговорить царя от поездки, ссылаясь теперь уже на авторитет старца, а также предупреждали об опасностях, подстерегающих в долгой дороге. Позже Курбский и Сильвестр, воспользовавшись разразившимся несчастьем, вернутся к этому эпизоду. Используя фирменный прием – те самые «децкие страшилы» – они соединили воедино доводы Грека и возражения Избранной рады, представив их обезумевшему от горя отцу в виде некоего сбывшегося пророчества и выставили тем самым его самого виновником гибели сына. Как и летом 1547-го причиной несчастья оказались Иваново упрямство и непослушание. Цель была достигнута. Ивана вновь парализовали страх и раскаяние, он более не предпринимал попыток проявить самовольство. Адашев и его соратники не только восстановили прежнее положение, но и значительно укрепили его, в то время как их основные конкуренты – родственники царицы Захарьины, которые не уберегли наследника, напротив, потеряли былое влияние. Р.Г. Скрынников заключает, что Избранная рада (а точнее, вариант «ближней думы»), в которой доминировали адашевцы, образовалась после того, как Сильвестр «отогнал» от государя ласкателей Захарьиных, подвигнув на то и присовокупив в себе в помощь «архирея оного великого града» Макария[792]. Еще два года назад на Стоглавом соборе Избранная рада и иосифляне во главе с Макарием выступали как противники. Напомним, Адашев и Сильвестр игнорировали митрополита, задействовав в подготовке к собору единомысленных им нестяжателей. Но отчего же в момент наибольшего могущества фавориты царя призвали на помощь человека прямо противоположных им устремлений, в поддержке которого они ранее не нуждались? Скорее всего, Адашев, Сильвестр, Курбский, хорошо изучившие нрав царя, не питали иллюзий относительно устойчивости своего положения. Временщики с возрастающей тревогой чувствовали, как под застывшей лавовой коркой малодушного страха закипает магма ненависти к укротителям царской воли. История Избранной рады после марта 1553 года – это история попытки царских фаворитов выжить на пробуждающемся вулкане Иванова гнева. Грозный, как мы уже отмечали, многократно упрекал Курбского в том, что его – самодержца и взрослого человека, Адашев и Сильвестр опекали будто ребенка. В этом беда Ивановых советников: раз подчинив себе Ивана с помощью страха, они уже не могли изменить модель воздействия на царя путем устрашения, даже вполне сознавая пагубность ее дальнейшей эксплуатации для своего будущего. Да, после отдаления Захарьиных власть в их руках стала еще более весомой, но это обстоятельство только подстегивало недоверие царя, его болезненную ревность. Участники Избранной рады уже дали повод государю усомниться в своей верности во время мартовских событий 1553-го. Ивановы советники извлекли максимум выгод из трагической смерти Димитрия. Но подобные «удачи» не могут подворачиваться бесконечно. Потому Сильвестр и Адашев так старались заполучить союзника в лице Макария. Митрополит сам предстал перед Грозным в невыгодном свете, завязав переговоры с Владимиром Старицким. Макарий и царевы советники оказались «повязаны» друг с другом. Но разница их положения в том, что в то время как участники Избранной рады держатся на плаву за счет эксплуатации комплексов Ивана, митрополит – предстоятель церкви и лидер сплоченной иосифлянской партии. Учтем, что в его распоряжении немало «Досифеев Топорковых», способных доходчиво донести до государя мысль о губительном самовластии советников. В союзе более нуждаются Сильвестр и Адашев, нежели Макарий, – они зависят от митрополита, они вынуждены идти на уступки, и цена этих уступок очень велика. Последняя сделка Весной 1553 года в дни Великого поста, в то время когда Иван страдал от тяжелого недуга и готовился к худшему, на исповедь к протоиерею Благовещенского собора Симеону явился боярский сын Матвей Башкин. Был он рода невеликого, происходившего из Переяславского уезда, но и не совсем уж захудалого и незаметного, если в 1547 году Башкин оказался в числе поручителей за князя Ивана Турунтая-Пронского, попытавшегося сбежать в Литву с Михаилом Глинским. В 1550 Башкин вошел в состав «тысячи», приблизившись к дворцовым кругам, что дало ему возможность избрать в наставники настоятеля кремлевского придворного собора. На исповеди Матвей говорил: «Великое же дело ваше, написано деи: «Ничтож сия любви болши, еже положити душу за други свою», и вы де по нас души свои полагаете и бдите о душах наших, яко слово воздати вам в день судный»[793]. Встречались они неоднократно. Однако очередные исповедальные беседы Симеона с Башкиным летом того же 1553 года, по выражению А. Карташева, смутили благовещенского протоиерея настолько, что он счел нужным поведать Сильвестру о необычном исповеднике, который «много вопросы простирает недоуменные, от меня поучения требует, а иное меня и сам учит». Сильвестр, в свою очередь, доложил о подозрительном вопросителе митрополиту. После возвращения Ивана из паломничества в Кириллов началось следствие. Между тем для Симеона как духовника Башкина на протяжении полугода необычные воззрения исповедника никак не могли стать откровением, тем более, как полагают исследователи, Башкин стал проповедовать свои взгляды еще в 1551 году[794]. Когда Симеон рассказал о Башкине Сильвестру, тот вспомнил, что «слава про него недобра носится». Почему именно летом 1553 года так «смутился» от Матвеевых речей протоиерей Симеон, а Сильвестр, еще вчера разделявший нестяжательские взгляды, поспешил Башкина выдать с головой царю и митрополиту? Причина столь острой реакции властей кроется не столько во взглядах Башкина, сколько в том, что летом 1553 года расстановка сил в правящей верхушке радикальным образом изменилась в сравнении с 1551 годом или даже началом 1553 года. После предварительного допроса вольнодумца перевезли в штаб-квартиру русских инквизиторов – Волоцкий монастырь под надзор двух «опытных старцев», вернее, опытных палачей Герасима Ленкова и Филофея Полева. Башкин сначала запирался, утверждая чистоту своего православия, затем нервничал, взрываясь против отцов духовных, грозя им гневом Божиим, наконец, пришел к раскаянию, и, по словам судебного акта, «исписа своею рукою и всем подлинно: и свое еретичество, и хулы на своя единомышленники». Выяснилось, что Башкин и его единомышленники «Владыку нашего Христа, непщут сына Божия не быти, и преславная действа о Таинстве и о Литоргии и о Причастии и о Церкви и о всех православных в вере крестьянской»[795]. Процесс производился иосифлянами «с пристрастием» и сопровождался пытками, поэтому очевидна и подоплека «чистосердечного раскаяния Башкина», и заданность его показаний[796]. Например, выяснилось, что еретические идеи боярский сын воспринял «от литвы, Матюшки Обтекаря, да Оньдрюшки Хотеева латынинов; да и на старцов Заволскых говорил, что его злобы не хулили и утверждали его в том»[797]. Простодушная прямота иосифлянских следователей способна вызвать чувство, похожее на умиление. В числе обвиняемых оказались, с одной стороны, лица, московскому кривосудию не доступные, так как данные о допросах оных фармацевтов или их наказании отсутствуют, и которые, следовательно, не были в состоянии отвергнуть или подтвердить приписываемую им и Башкину вину. С другой стороны, под ударом оказались вполне реальные представители заволжского старчества, к советам которых прибегал Башкин. Наконец, обвиняемый и названные им единомышленники братья Борисовы (не потомки ли Борисова, выступавшего на соборе 1503 года?) указали на лидера нестяжателей – преподобного Артемия, обвинив его в том, что «он не истинного христианского закону». Круг замкнулся. На состоявшемся в декабре 1553 года соборном расследовании Башкин теперь уже выступал не как обвиняемый, а как эксперт со стороны обвинения по делу Артемия, который на самом деле являлся главной мишенью следователей. Новоявленное вольнодумство – не более чем удобный повод для окончательной расправы с нестяжателями. А. А. Зимин обращает внимание на то, что никто не сообщает никаких конкретных данных, которые могли бы послужить материалом для обвинения Артемия в ереси[798]. Е.Е. Голубинский, допускающий существование в Заволжье очага вольнодумства, отмечает, что «вместе с тем нет ни одного старца известного вольномыслием»[799]. А. В. Карташев даже признается в том, что «к делу об еретиках знаменитый игумен и, как увидим, некоторые его ученики привлекаются не за какую-то доказанную ересь, а за свое знаменитое русское монашеское направление так называемого нестяжательства»[800]. В пользу этой версии свидетельствует и тот факт, что наиболее радикальный религиозный реформатор и наиболее опасный для церкви подозреваемый – Феодосий Косой – беспрепятственно бежал из Москвы в Литву, возможно, даже не дождавшись расследования. Исключительно политический характер процесса подтверждает и эпизод с участием дьяка Ивана Висковатого. Управлявший Посольским приказом не уступал Адашеву ни в таланте, ни в энергии, ни в благоволении к нему государя. Неожиданный союз Адашева, Сильвестра и Макария не только угрожал его положению. Как отмечал И.И. Смирнов, Иван Висковатый был тесно связан с Захарьиными[801]. Процесс по делу Башкина давал старомосковскому клану редкую в то время возможность уязвить чрезмерно укрепившихся временщиков. Когда открылось следствие, Висковатый принялся обличать Башкина, а заодно Сильвестра за его покровительство еретику и иерею пришлось оправдываться в том, что он «не советен» с обвиняемым. Кроме того, глава русской дипломатии ставил на вид Сильвестру и самому Макарию совершенную по их благословению новую роспись Благовещенского собора, которую Висковатый признавал кощунственной. Тут уже митрополиту пришлось недвусмысленно намекнуть не в меру ретивому дьяку, что если он не перестанет соваться в церковные дела, то сам угодит в еретики. Висковатый вовремя смекнул, что недооценил силы противника и зашел слишком далеко: дьяк раскаялся в своих «заблуждениях», а собор, не желая обострять отношения с государем, наложил на него епитимью. Преподобный Арметий ко времени открытия собора уже оставил начальствование над Троицкой обителью, принятое в 1551 году по личной просьбе царя. Андрей Курбский настаивает на том, что игумен покинул Троицу «ради мятежу и любостяжательных, издавна законопреступных мнихов». Тем самым последний лидер заволжцев повторил путь первого – Паисия Ярославова, который также стал во главе Троицкого монастыря по ходатайству государя, но был вынужден бежать от беспутной братии в Заволжье. Артемий вернулся на Белоозеро, откуда его и вызвали на собор. Он попытался избежать участия в процессе, но тогда его привезли в Москву в оковах. Перед судьями Артемий не дрогнул, не стал каяться и даже ввиду «обличений» Башкина старался последнего выгородить, заявляя, что ныне еретиков нет и что не следует предавать еретиков казни. Иосифляне не забыли опыт процессов 1504 и 1531 годов против «жидовствующих» и Вассиана Патрикеева. Артемию, как и его предшественникам, ставили на вид, что он «новгородских еретиков не проклинает». Главным оружием доморощенных инквизиторов оставался «Просветитель» Иосифа Волоцкого, главным приемом обличений – показания многочисленных свидетелей, которые из злобы, страха или корысти, Бог то ведает, дружно оговаривали обвиняемых. Так, Артемию вменялось в вину то, что он возводил хулу на крестное знамение, признавал бесполезным петь обедни и панихиды по покойникам, не хранил поста. Преподобный легко опровергал наветы, но исход дела был предрешен. То ли внешней объективности ради, то ли озабоченный дружным альянсом вчерашних противников, Грозный пригласил поучаствовать в соборе Максима Грека. Святогорец, однако, сослался на нездоровье и старость и в Москву не приехал. Тогда Иван написал ему послание, полное высокопарных комплиментов: «Изводилось мне и по тебя послать, да будешь ты поборником православия, как первые Богоносные отцы, да примут и тебя небесные обители, как и прежде подвизавшихся ревнителей благочестия, имена коих тебе известны. И так явись им споспешником и данный тебе от Бога талант умножь, и ко мне пришли отповедь на нынешнее злодейство»[802]. Любопытна следующая фраза Ивана: «Слышали мы, что ты оскорбляешься и думаешь, что мы для того за тобою послали, что считаем тебя с Матвеем, но не буди того, чтобы верного вчинять с неверными». Очевидно, что у царя были достоверные сведения насчет истинных причин отказа Грека участвовать в соборе, вряд ли Грозный стал в послании старцу приводить досужие вымыслы и обидные предположения относительно его намерений. Опасения Святогорца свидетельствуют о том, что многие идеи Башкина были созвучны его мировоззрению, и, наученный печальным опытом московских церковных разбирательств, Грек счел благоразумным уклониться от роли эксперта. Вероятнее всего, он ошибался, и Иван искренне приглашал его к сотрудничеству, уважая или даже побаиваясь старца, наделенного чудесным пророческим даром. Но, видимо, Грек действительно не знал о «своем» страшном предсказании и о царском благоговении перед ним. Не сохранился не только текст ответного послания Максима, но и отсутствуют какие-либо упоминания о нем, хотя, выступи Грек с обличением ереси, наверняка это событие вызвало бы широкий резонанс. Подвижник благочестия не замарал свое имя участием в позорном процессе против своего благодетеля Артемия и вольнолюбца Башкина. Но почему же позорная расправа не подвигла протоиерея Сильвестра вступиться за недавнего соратника Артемия? Почему гордый Курбский не возвысил свой голос и не защитил праведника от оголтелой травли «законопреступных мнихов»? Почему промолчал великий богомолец и доброхот Алексей Адашев? Они находятся в зените своего политического могущества, что им стоит защитить нестяжателей, не совершивших никаких преступлений ни против государства, ни против церкви?! Возможный ответ один – Избранная рада «сдала» своих единомышленников и соратников в обмен на поддержку Макария и иосифлян. Впрочем, имеем ли мы основания видеть в заволжцах и советниках Ивана Грозного единомышленников, полагаясь на восторженные отзывы Курбского о Святогорце и Артемии? Если мы обратимся к фактам, то примеры благоволения фаворитов к нестяжателям приходятся на период подготовки к Стоглавому собору 1551 года. Но уже в конце 1551 года наступает охлаждение, и «сладкая парочка» Сильвестр и Симеон пишут донос на упомянутого выше ученика Артемия Порфирия[803]. Не это ли обстоятельство отмечал Артемий, когда писал, что против него враждуют все – в том числе и те, от кого он не ожидал нападения – недавние покровители. Адашев и Сильвестр нуждались в нестяжателях в то время, когда планировали наступление на монастырские имения. Их протеже Ермолай-Еразм и Иван Пересветов, о церковных стяжаниях умалчивавшие, в данном вопросе в помощники не годились. Временщики обратились к признанным «экспертам» в данной области, но как только нужда в них отпала, заволжцы перестали их интересовать как соратники и заинтересовали только теперь, но уже в роли разменных фигур. Только рязанский епископ Кассиан попробовал пойти наперекор инквизиторам и поставил под сомнение иосифлянский катехизис «Просветитель», с помощью которого привычно изобличали обвиняемых. Деятели Избранной рады слишком легко находили компромисс между убеждениями и целесообразностью, слишком легко выбирали между единомышленниками и теми, с кем выгодно было сотрудничать в данный момент. В конце концов, беспринципность обернулась прямым предательством. Согласившись на союз с иосифлянами, закрыв глаза на разгром нестяжательства, Адашев и его соратники выиграли для себя несколько лет политической активности, но их деятельность лишилась всякого позитивного смысла, превратившись в искусное, но бесцельное лавирование между Сциллой и Харибдой. Они уже не были продолжателями великого дела Ивана Патрикеева и Нила Сорского, строителями могучей свободной державы. Не брезгуя никакими методами, временщики боролись за свое выживание во власти. Нравственная порча, изначально присущая деятельности этих талантливых и, несомненно, некогда исполненных благородных замыслов государственных мужей, в конце концов полностью завладела ими. Не выдержали проверки и публицисты новой волны – ученик Грека Зиновий Отенский и Ермолай-Еразм выступили с обличениями «ереси». Репрессивная машина иосифлян набирала обороты. К суду привлекли знаменитого миссионера, крестителя Кольских лопарей Феодорита, в то время архимандрита суздальского Евфимьего монастыря, монахов Савву Шаха и Исаака Белобаева и многих других. Списки «еретиков», осужденных в 50-х годах и разосланных «по монастырям, в заточенье, и под начало», составили четыре тетради[804]. Среди тех, кому пришлось доживать свои дни в монастыре под присмотром, оказался и Кассиан, сведенный с епископской кафедры любостяжателями. Участь осужденных облегчалась тем, что в большинстве обителей, очевидно, сочувственно относились к жертвам иосифлянских репрессий. Этим объясняется то, что подельник Башкина Борисов убежал в Литву из Валаама, а Артемий – аж с Соловков. Примечательно, что бывшие белоозерские монахи, проходившие по одному процессу – преподобный Артемий и Феодосий Косой, стали в Литве яростными противниками. Феодосий окончательно впал в ересь, а Артемий не менее энергично ратовал за чистоту православия. Избранная рада была обречена. Несколько лет спустя Макарий дождется своего часа и с удовольствием подтолкнет в пропасть пошатнувшихся Адашева и Сильвестра. Но он успеет еще ужаснуться опричнине, учиненной его верным учеником Иоанном Васильевичем. Митрополит и Досифей Топорков на пороге смерти постараются образумить царя, когда-то внявшего их льстивым речам. Тщетно. В 70-х годах, когда в разграбленной стране уже некого и нечего будет грабить, Иван Грозный доберется до монастырей и разгромит иосифлянскую клику, торжествовавшую свою победу в 1554 году. Глава 13 УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА А если ты, взяв собачий рот, захочешь лаять для забавы, так то твой холопский обычай: тебе это честь, а нам, великим государям, и сноситься с тобой – бесчестие, а лай тебе писать – и того хуже, а передаиваться с тобой – горше того не бывает на этом свете, а если хочешь передаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся. Южная альтернатива Принято считать, что поводом для разрыва между царем и его советниками послужили разногласия военно-политического характера. Проявились эти разногласия во второй половине 50-х годов XVI века, когда Сильвестр и Адашев якобы призывали государя основные военные силы бросить на борьбу с Крымским ханством, в то время как Грозный отдавал предпочтение завоеванию Прибалтики. На чьей стороне была правда? Диаметрально противоположных мнений на этот счет придерживались наши знаменитые историки Костомаров и Платонов. Первый горячо поддерживал устремленность Избранной рады на юг, второй полностью оправдывал ливонские вожделения Ивана. Костомаров был убежден, что настал момент, когда Москва получила исключительно выгодные условия для успешного наступления на Крым. Появились сильные союзники в борьбе с Крымом. Предводитель днепровских казаков потомок Гедимина князь Димитрий Вишневецкий «предлагал московскому царю свою службу со всеми казаками, с городами Черкассами, Каневом, с казацкой Украиной на правом берегу Днепра..»[805]. Таким образом, Москва за столетие до Переяславской рады получала шанс играть ведущую роль в украинских делах. Готовы были выступить против Крыма черкесские князья. Ханство оказывалось под угрозой удара с двух сторон – с запада и востока. Обрушившиеся на Крым напасти благоприятствовали планам Москвы: жестокие морозы, засуха и последовавший за ними неурожай; эпидемия среди жителей полуострова и падеж скота. Вдобавок ко всему в ханстве началась междуусобица: Тохтамыш-Гирей, возглавивший неудачный мятеж против хана Девлет-Гирея, бежал в Москву. Таким образом, у Грозного появился потенциальный вождь промосковской партии из династии крымских ханов. В это время русскими было одержано на юге несколько важных побед, которые подсказывали правительству направление главного удара и требовали развить успех. В 1556 году, несмотря на поддержку тысячного отряда крымских всадников и турецких янычар, московская рать захватила Астрахань, а русский отряд Димитрия Ржевского разорил Ислам-Кермень и Очаков. В следующем году Вишневецкий закрепился на днепровском острове Хортица, отбив нападение крымской орды, в то время как другие казачьи отряды громили татарские улусы на Азовском побережье. Успешная борьба с ханством и его союзниками велась на самых его границах на пространстве от низовий Днепра до прикаспийских степей. Костомаров полагал, что Грозный не воспользовался выпавшим на его долю редким шансом. «Царь Иван имел тогда возможность уничтожить Девлет-Гирея, но только раздражил его и приготовил себе со стороны врага мщение на будущее время. Таким образом, самая удобная минута к покорению Крыма была пропущена[806]. Отметим, что в это время султан Сулейман I был вовлечен в затяжную войну в Венгрии и Средиземноморье, что мешало ему оказывать действенную помощь Крыму. Практически во всех донесениях французских дипломатов из Стамбула указывалось, что силы, посылаемые по просьбе Девлет-Гирея, выделялись с большим трудом и были недостаточными[807]. С. Ф. Платонов подобные доводы отвергал как недостойные внимания. Намерения Избранной рады историк именовал «соблазнами» и «воздушными замками», а достигнутые союзниками военные успехи относил к разряду «счастливых случайностей». Невозможность решительной победы над Крымом Платонов объясняет трудностями масштабной переброски войск через Дикую степь с южных рубежей, проходивших тогда по линии Тулы, и ссылается на несчастливый исход выступлений Василия Голицына и петровского Прутского похода, осуществленных с «более южной базы». «Время звало Москву на Запад, к морским берегам, и Грозный не упустил момента предъявить свои притязания на часть Ливонского наследства, имевшего стать выморочным»[808]. Следует заметить, что необходимость установления более прямых связей с Европой, выход к Балтике и Ливонское наследство – три разные, хотя и тесно связанные между собой? проблемы. И до Ливонской войны Русь обладала значительным участком балтийского побережья, включая невское устье, и могла беспрепятственно торговать с Западом. Потребность в собственной удобной гавани была решена основанием в устье Нарвы Ивангорода (1492). Если «время звало» Москву к морским берегам, это вовсе не означает, что оно «звало» к войне с Ливонией. Сам ход военных действий в Прибалтике заставляет сомневаться в том, что вторжение русских войск диктовалось государственными интересами. Московиты вступили в ливонские пределы в январе 1558 года, а уже 11 мая пала Нарва, что значительно укрепляло позиции России на Балтике. В июле был взят Дерпт – старинный русский город Юрьев. Однако Грозный не собирался останавливаться на достигнутом. В 1559 году русские отряды показались под Ригой и даже юго-западнее ее – в Курляндии. Перенос военных действий на юг Прибалтики никоим образом не способствовал решению тех задач, которые, по версии Платонова, ставил перед собой царь Иван. Вступая в войну, Грозный, похоже, откликнулся не на «зов времени», а на заурядную жажду поживы. Располагавшиеся на современной территории Латвии и Эстонии земли Ливонского ордена, к тому времени окончательно растерявшего свой военный потенциал, представлялись, на первый взгляд, оставшимся без хозяйского надзора богатством. Разумеется, не одному только Ивану. Как справедливо отмечает А.Л. Янов, «бросившийся на соблазнительную добычу первым не только жертвовал престижем, открыто заявляя себя разбойником. Было очевидно, что он сплотит против себя остальных хищников, которые под видом восстановления справедливости возьмут добычу даром. Напасть на Ливонию означало бросить вызов Европе: Литве, Польше, Швеции, Дании, Ганзейским городам и стоявшей за ними Германской империи. В условиях XVI века это означало мировую войну»[809]. Но для Ивана с его страстью к безнаказанному грабежу Ливония являла собой непреодолимое искушение. С.Ф. Платонов, сравнивая с Избранной радой сторонников Ливонской войны, характеризует последних как более «осторожных» и «разумных». На деле «разумные» и «осторожные» государственные мужи проявили прискорбную недальновидность. С.Ф. Платонов замечает, что «никто в Москве не мог тогда представить себе, что против Москвы станут все претенденты на ливонское наследство – и Швеция, и Дания, и Речь Посполитая, а за ними император и вся вообще Германия»[810]. Но отчего же «разумные» и «осторожные» стратеги посчитали, что соседи будут равнодушно наблюдать за тем, как «северные варвары» утаскивают у них из-под носа столь лакомый кусок?! Смоделировать вероятное развитие событий не составляло большого труда, тем более Москва располагала квалифицированными и опытными дипломатами. Ко времени вступления русских сил в пределы Ливонии в январе 1558 года и Литва, и Швеция были связаны с Москвой союзными договорами. Но неужели Иван полагал, что эти соглашения не могут быть нарушены? Любопытно, что в эти же годы, принимая Димитрия Вишневецкого на русскую службу, Иван IV приказал ему сдать польскому королю Черкассы и Канев, не желая с ним ссориться. Итак, несмотря на мир с Польшей, Иван все-таки побоялся испортить с ней отношения. Здесь Иван предугадывает реакцию соперника, почему же в другой ситуации он проявляет странную беспечность? Или такой эпизод, ярко демонстрирующий намерения царя. Прибывшее в Москву весною 1559 гора датское посольство попросило Ивана не трогать Ревель, жители которого изъявили желание перейти под покровительство датской короны. Дания – потенциальная союзница Руси в Ливонии, аппетиты которой дальше Ревеля не распространялись. На этот же город претендовали шведы, у которых гораздо больше поводов для столкновения с русскими. «Отдать» датчанам далекий Ревель – значило заполучить союзника и против шведов, и против ливонцев. Грозный, однако, гордо заявил, что будет держать Ревель «в своем имении». Только три года спустя под давлением неблагоприятных обстоятельств Ивану TV пришлось пойти на полюбовную сделку с датчанами. Итак, русские не просто вторглись в Ливонию и тем самым затронули кровные интересы целой группы могущественных держав: долгое время военные действия и дипломатические шаги, предпринимаемые Иваном, недвусмысленно показывали всем, что русский царь не собирается ни с кем делиться, что ни о каком разделе сфер влияния не может быть и речи. Таким образом, Грозный отрезал пути к отступлению, отталкивая потенциальных союзников и ожесточая недругов. Полугодовое – с мая по ноябрь 1559 года – перемирие с Орденом, заключенное при посредничестве датчан, дало возможность приступить к масштабным военным приготовлениям против Крыма. Димитрия Вишневецкого в феврале отрядили на Дон. 11 марта был принят приговор о сборе войска против татар. Думный дворянин Игнатий Вешняков получил задание поставить на Дону крепость. Вишневецкий, разбив крымцев при реке Айдаре, стал угрожать Крыму со стороны Азовского моря. В то же время черкесские князья, от имени России завладев двумя укрепленными городками на Тамани, получили плацдарм для нападения на полуостров со стороны Керчи. Ханство было взято в клещи. Брат Алексея Адашева Данила с восьмитысячным отрядом спустился по Днепру от Кременчуга до низовьев. В Черном море русские разбили два турецких корабля и затем высадились на западном побережье Крыма. Здесь Данила Адашев нанес поражение татарским отрядам, более двух недель громил татарские улусы и, освободив пленных, с богатой добычей благополучно вернулся обратно. Получая удары со всех сторон и ожидая еще более худшего, крымский хан в отчаянии писал турецкому султану, что все погибло, если он не спасет Крым[811]. Но султан, как мы знаем, в то время не мог помочь Девлет-Гирею. Но и решительного удара по Крыму со стороны Москвы не последовало. А.А. Зимин, следуя в русле суждений Платонова, говорит о «безрезультатности широко задуманного похода Данилы Адашева на Крым»[812]. Однако какой исход операции небольшого отряда Данилы Адашева следовало бы признать результативным? Полный разгром ханства и его оккупацию?! Две недели Адашев хозяйничал в Крыму, и татары не только не смогли за это время дать отпор нападению, но и дали отряду спокойно отбыть восвояси. К сожалению, исследователи, стараясь дискредитировать южную альтернативу Ливонской войне, вынуждены замалчивать поразительные успехи русского оружия в борьбе с Крымом. Между тем, А.А. Зимин проницательно, хотя и вскользь, замечает, что поход Данилы Адашева был «широко задуман». Конечно, не в том смысле, что десант на полуостров должен был решить стратегические задачи, а в том, что рейд адашевского отряда являлся составной частью большой кампании. Но в чем же тогда состоял план сторонников наступления на юг? Р.Г. Скрынников на основании распоряжений Разрядного приказа, заключает, что главная цель Данилы Адашева в свете «грандиозных военных замыслов» его брата заключалась в том, чтобы выманить Орду из Крыма и разгромить ее в решающем сражении. Однако многочисленное русское воинство, которое должен был возглавить сам Иван, напрасно простояло за Тулой на реке Шиворонь до конца лета, тщетно поджидая Орду[813]. Но и эта трактовка событий 1559 года не выглядит убедительной. Успешная десантная операция на западе Крыма доказала, что татары не способны собрать силы даже для защиты собственной территории. В этих условиях рассчитывать на то, что Орда двинется в тысячеверстый поход на Москву, чтобы сразиться с основными силами русских, и ради этого держать в ожидании войско под Тулой, которое могут легко обнаружить ордынские лазутчики, – вряд ли опытный и рассудительный Алексей Адашев мог быть автором столь легкомысленного плана. Более обоснованной представляется точка зрения А.В. Виноградова, который отмечал, что выдвижение войск к Туле означало подготовку фронтального столкновения русских и крымских сил, и поход носил «явно наступательный характер»[814]. Труднее согласиться с другим мнением исследователя: отказ от выступления «великого войска» явился следствием неудачных переговоров между Русью и Литвой, так как московская рать ожидала помощи западного соседа. Экспедиция Данилы Адашева наглядно показала, что успех достижим собственными и, причем, весьма ограниченными силами. Б.Н. Флоря приписывая Алексею Адашеву «сложный… замысел»[815] также полагает, что Адашев рассчитывал склонить Великое княжество Литовское к союзу против Крыма. Действительно, в феврале 1558 года к королю Сигизмунду II Августу прибыл московский посол Р. Орефьев, который предложил польскому монарху помощь против наступавших на него крымских татар. Как полагает Б.Н. Флоря, общий итог переговоров был положительным, и Москва имела основания для оптимизма[816]. Только нужен ли был Грозному договор с Речью Посполитой? Напомним, что в 1558 году, когда Орефьев вел переговоры о возможном союзе, московские отряды появились в окрестностях Риги, через которую шел основной поток товаров из Литвы в Западную Европу, и даже в Курляндии – на самой литовской границе. В том же 1558 году подданный Сигизмунда Дмитрий Вишневецкий по указанию российского правительства направился в Кабарду, чтобы там собрать войско против Крыма. Наконец, Москва активно поддерживала зарождение запорожской вольницы. Против кого московиты обернут оружие, когда их нынешний противник будет побежден? Какой вывод могли сделать политики в Вильно и Варшаве? Если русским удастся одолеть и татар, и Орден, Литва окажется зажатой с трех сторон русскими силами. Заключение договора с Москвой для западного соседа было сродни самоубийству. Этого не скрывали сами литовцы. «И только крымского избыв, и вам не на ком пасти, пасти вам на нас», – без обиняков заявил один из литовских послов своим русским собеседникам[817]. На самом деле ни Москва, ни Литва не рассчитывали всерьез на заключение союза, каждая из сторон надеялась навязать сопернику свою игру, рассчитывая затянуть время. Все говорили о Крыме, а думали о Ливонии. Литовцы намеревались заключить союз с Крымом, чтобы отвлечь силы русских от Прибалтики, а русские – запутать Литву в войну с Крымом и затруднить вмешательство соседей в ливонские дела. В Москве, очевидно, уже знали, что в сентябре 1556 года между Орденом и Великим княжеством Литовским было заключено соглашение, направленное против России. Исход этой игры был более важен для Москвы, которая фактически уже вела войну на два фронта, в то время как Литва еще не предпринимала никаких военных приготовлений. Когда в марте 1559 года в Москву прибыло литовское посольство с требованием уступить все завоеванные русскими территории, включая Смоленск, наша сторона, словно не замечая ультимативного характера претензий, говорила о «вечном мире», даже соглашаясь оставить Сигизмунду II «все свои старинные вотчины» – белорусские и украинские земли. При этом польско-литовская сторона недвусмысленно требовала, чтобы «российский государь жил мирно с лифляндцами»[818]. В этих условиях сомнительно, чтобы состояние литовско-российских отношений имело решающее значение для военной кампании против Крыма летом 1559 года. Иван и его «братья» Начиная с 1551 года Москва настойчиво поднимала перед Орденом вопрос о притеснениях русских купцов и православного духовенства. Наконец в 1554 году Русь и Ливония заключили договор, по которому Орден обязывался выплатить с накопившимися недоимками так называемую Юрьевскую дань и гарантировал свободу судоходства и торговли. Ливонская сторона обязывалась восстановить разрушенные русские кварталы в своих городах, вернуть захваченные церкви. Практически ни один из пунктов соглашения Орденом выполнен не был. Более того, как мы уже говорили, ливонцы договорились с Литвой о союзе против Москвы. После неудачного визита ливонских послов в Москву в начале 1557 года решение о военном вмешательстве было, очевидно, уже принято. Наверняка у Алексея Адашева и Ивана Висковатого к тому времени имелся план действий в отношении Ордена, который они предложили государю. Напомним, что Ивану к началу Ливонской войны исполнилось 27 лет. Всего лишь 27! Это пылкий и тщеславный молодой человек, мечтающий о бранных подвигах, уже осиянный лучами славы при взятии Казани. А тут ощутимо запахло настоящей, большой войной. Перспектива победы над потомками рыцарей подхлестнула горячее воображение Ивана, раздразнила его самолюбие. Да, он уже заслужил репутацию покорителя Казани, таким он и останется в памяти соотечественников, но кто в Европе догадывался о существовании волжского ханства на Волге и о его исчезновении с политической карты? Царь Иван – человек безграничного честолюбия и бурного воображения – явно тяготился узкими национальными рамками. Грозный стремился заявить о себе всему миру. Вторгаясь в Ливонию, правитель Руси вторгался в эпицентр европейской политики, становился ее заметным действующим лицом. Полтора века спустя воздействие «прибалтийского эффекта» в полной мере ощутил на себе Петр Первый. Взятие Азова получило широкий резонанс в Европе, и во время «Великого посольства» гостю европейских дворов воздавали должное за его ратный успех. Но поражение под Нарвой не только перечеркнуло в глазах Европы азовскую викторию, что монархи Старого Света на многие годы поставили крест на Петре как на фигуранте большой международной политики, и даже победа под Полтавой не привела к скорому пересмотру этой обидной оценки. Иван стремился не только и не столько к военной славе, к победе над конкретным противником. Складывается впечатление, что его снедало неумолимое желание разобраться со всей этой королевской «мелкотой», прозябающей в европейской тесноте, указать им подобающее место. Его письма к западным государям производят странное впечатление. Елизавету Английскую он обзывает «пошлой девицей», так как в ее государстве политические задачи обсуждают «торговые мужики». Примечательно, что слова про «пошлую девицу» написаны по выскобленному месту, вполне возможно, что первоначальный текст содержал еще более сочные эпитеты в адрес королевы-девственницы[819]. Шведскому королю Эрику XIV Грозный грубо намекает на его психическое расстройство, написав в своей грамоте «многие бранные и посмяльные слова на укоризну его безумию». Смертельное оскорбление московский царь наносит и его преемнику Юхану III, указывая на его худородное происхождение. «А намъ дополна ведомо, что отец твой Густав из Шмалот, да и потому намъ ведомо, что вы мужичей родъ, а не государьской: коли при отце при твоемъ при Густаве приезжали наши торговые люди с саломъ и с воскомъ, и отецъ твой самъ в рукавицы нарядяся сала и воску за простого человека вместо опытомь пыталъ и пересматривал на судехъ и в Выборе для того бывалъ, а то есмя слыхалъ от своихъ торговыхъ людей»[820]. Болезненная щепетильность Ивана ярко проявляется в вопросе о традиционном обращении к коллеге-монарху как к «брату». Датскому королю Фредерику II, явно по царскому наущению, русские послы выговаривают за то, что тот по сложившейся традиции поименовал Ивана «братом своим». По этому же поводу Иван укоряет Сигизмунда II Августа, который провинился в том, что назвал «братом» шведского короля, хотя род Ваза происходит от водовоза. Когда к Грозному попала грамота «индейской земли государя», он оказался в затруднительном положении, так как московский царь не знал, «государь ли он, или простой урядник», и можно ли его называть его братом. Как подросток, который тщится утвердить свое превосходство, выискивая и жестоко высмеивая внешние недостатки своих сверстников, Иван дотошно копается в биографиях своих коронованных коллег, расследует происхождение их власти и границы их полномочий, чтобы, отыскав там изъяны, торжественно выставить их напоказ. Из всех государей, с которыми Москва имела сношения, пожалуй, только Максимилиан II, благодаря императорскому титулу избежал злых насмешек и назойливых поучений беспокойного московского государя. Остальным не повезло. Сигизмунду II Августу досталось за то, что он «посаженый государь, а не вотчинный». Его преемнику Стефану Баторию Иван также указывал на то, что он как бы неполноценный государь, избранный по «много мятежному человеческому хотению». Заносчивые упреки Грозного в равной степени адресованы и врагам, и союзникам. На его пренебрежительное отношение к иностранным властителям не влияют подобные пустяки. Царю безразлично, как скажется его заносчивость на отношениях России с зарубежьем, тон его посланий не меняется в зависимости от того, кружит ли ему голову успех или он терпит поражения. Вряд ли стоит находить в переписке Ивана с европейскими монархами «кошмар парламентаризма», как отмечают одни исследователи, или видеть в них торжество «националистического самовозвеличивания», как это делает П.Н. Милюков. Отношения Ивана с иностранными государями скорее всего вообще не имеют отношения к внешней политике, для него это излюбленный способ самоутверждения. Так и Прибалтика для Ивана не сфера национальных интересов, а в первую очередь трибуна, с которой он общается не с каждым государем по отдельности, а уже со всей Европой, только здесь он достигает цели не язвительными упреками и наставлениями, а рейдами легкоконных отрядов и канонадой тяжелых орудий. Возвращаясь к коллизии «Крым или Ливония», отметим, что современные исследователи (Р.Г. Скрыников, Б.Н. Флоря, С.О. Шмидт) в отличие от историков старшего поколения сходятся в том, что разногласий по поводу того, воевать или нет с Орденом, в правящей элите не возникало. Сегодня очевидно, что и Костомаров, и Платонов впадали в крайности: Адашев и Сильвестр не противились войне с Ливонией и не планировали довести кампанию на юге до окончательной победы над ханством или оккупации полуострова. Однако современные исследователи, похоже, совершают другую ошибку, игнорируя не только давний заочный спор знаменитых предшественников, но и ожесточенную полемику между Курбским и Грозным по поводу «поворота на Германы». О чем же тогда так страстно спорили московский царь и беглый боярин, возвращаясь к событиям 1559 года в своей знаменитой переписке?  Царь Иван IV Грозный. «Копенгагенский портрет»
Заметим, что война с Орденом становится тем первым важным государственным делом, которым Иван пожелал заниматься самостоятельно, в котором решающее слово оставалось за ним. Грозный горячо верит в блестящую перспективу громкой победы, он неоднократно торопит князя Петра Шуйского с выступлением в поход, очевидно, сам Иван настаивает на эскалации боевых действий, на проникающих рейдах в глубь ливонской территории. «Вспомни, – призывает несколько лет спустя Иван князя Курбского, – когда началась война с германцами, и мы посылали своего слугу царя Шигалея и своего боярина и воеводу Михаила Васильевича Глинского с товарищами воевать против германцев, то сколько мы услышали тогда укоризненных слов от попа Сильвестра, от Алексея и от вас – не стоит подробно и рассказывать!»[821] Только ли безграничное тщеславие диктовало Грозному его военные планы, питало заносчивое отношение к коронованным собратьям? Е. Ф. Шмурло в качестве одной из причин поражения в Ливонской войне называет то, что царь «не сумел отделить задач специально политических от фамильных, вотчинных»[822]. Но, быть может, он и не думал отделять одно от другого, а наоборот, руководствовался исключительно личными амбициями. Не так давно А.Л. Хорошкевич предположила, что Ливонская война рассматривалась Иваном Грозным как борьба за прибалтийские вотчины Пруса[823]. Это предположение многое объясняет и в поведении царя, и в его спорах с советниками. Заставляет оно по-новому задуматься о значении употребленного Грозным словосочетания «поворот на Германы», против которого протестовали Адашев и Сильвестр. «И аще не бы ваша злобесныя претыкания была, и з Божиею помощию уже бы вся Германия была за православием», – сетует Грозный[824]. Совершенно очевидно, что Грозный под Германией подразумевает не только Ливонский орден. В чем состоят планы русского царя, понимали и немецкие князья, которые на собрании представителей Германской Священной империи в октябре 1560 года говорили о возможности нападения Ивана IV на Пруссию, Мекленбург и другие германские княжества[825]. Под «поворотом на Германы» царь и «ближняя дума» имели в виду не удар по Ордену (этот решенный вопрос просто не мог стать предметом дискуссии), а о куда более амбициозных планах Ивана по вторжению на земли мифического Пруса – зависимого от Речи Посполитой немецкого герцогства Бранденбург. Именно сюда должны были «повернуть» русские войска из Ливонии. В таком случае рейды конных отрядов имели в первую очередь разведывательное значение. Здесь было о чем поспорить! «Поворот» означал большую войну с Речью Посполитой, которой Адашев стремился всячески избежать, а в перспективе – с германскими княжествами. Между тем против «германцев» воевал не только князь Глинский и казанский вассал Шиг-Али. Данила Адашев при взятии Нарвы успешно командовал передовым полком, за что получил из рук царя думный чин окольничьего. Влиятельный член Избранной рады Дмитрий Курлятев стал наместником взятого штурмом Юрьева. С.Ф. Платонов отмечает, что «в Москве не было заметно и тени недовольства начатой войной; даже… Курбский с воодушевлением повествует о Ливонском походе и о своем в нем участии»[826]. Важная деталь: участники Избранной рады демонстрируют свою ратную доблесть в приграничных осадных баталиях под Нарвой и Юрьевом на территории современной Эстонии, в то время как Адашев и Сильвестр протестуют против действий отрядов Глинского и Шиг-Али – маневренных конных подразделений, которые забирались далеко вглубь ливонской территории, действуя в противоположном южном направлении – поближе к вотчине Пруса. Лихие кавалерийские вылазки раздражали Речь Посполитую и срывали Адашеву дипломатическую игру. Одно дело объяснять партнерам по переговорам, чем занимаются русские на северо-западе Эстляндии, и другое – какие цели преследует татарская конница московского царя вблизи литовской границы. Грозный был далек от этих проблем. Для него «поворот на Германы» не государственное, а личное дело, к которому он прикипает со свойственным ему темпераментом и упорством, которое целиком захватывает его пылкое воображение. Отсюда принципиальная разница в подходах к решению ливонской проблемы у Ивана и его советников. Отсюда постоянные недоразумения, противоречивость военных и дипломатических усилий Москвы, именно здесь кроются причины последующего разрыва. Соседи, следившие за действиями России в Ливонии, не могли понять, какую конечную цель преследует Москва, вторгнувшись в пределы Ордена: захватить некоторые стратегические пункты, заставить ливонцев выполнять соглашения 1554 года, установить на территории протекторат, присоединить ее России или расчленить между соседями. Доводы разума на потомка Пруса не действовали. Опытный демагог Сильвестр пытался повлиять на царя и дискредитировать набеги Шиг-Али, живописуя насилия, учиняемые татарами христианскому населению. Почтенный протоиерей, избрав раз определенную манеру воздействия на Ивана, никогда ей не изменял: все политические и семейные неприятности, выпадавшие на долю Ивана, докучливый наставник связывал с отступлением Ивана IV от политики Избранной рады. Но «страшилы» Сильвестра все меньше задевали воображение государя и все больше раздражали его самолюбие. …Перед самой Ливонской войной (1556 – 1557) в Москве царила странная тишина: ни войн, ни громких опал, ни стремительных возвышений, ни земских соборов, ни громких церковных судилищ. Все застыло словно в летнем предгрозовом мареве. Политическая жизнь течет как бы по инерции. Внешне не видно никаких изменений в отношении царя к Адашеву: ему жалуют крупные земельные угодья, его род наряду с наиболее знатными боярскими фамилиями включается в «Государев родословец». Но Иван внутренне уже готов освободиться от гнетущей опеки, и ради этого он будет противостоять любым начинаниям Избранной рады, в независимости от того, кажутся они ему разумными или нет. Само следование курсу своих советников в сознании Грозного означало признание своего подчиненного положения. Разрыв неумолимо приближался. Большая игра Непросто представить, где начинается непосредственное вмешательство Ивана IV в ливонские и крымские дела, где правительству удается отстоять свою позицию, где мы имеем дело с компромиссом, а где с последствиями ошибок самих руководителей московской внешней политики. Скорее всего перемирие с Орденом 1559 года стало последней крупной политической акцией, осуществленной по инициативе и при непосредственном руководстве Алексея Адашева. Он лично доложил царю челобитье датского короля, выступившего в качестве посредника. Стоит обратить внимание и на то обстоятельство, что Адашев и Висковатый заключили договор не с Орденом, а с датской делегацией, которая взяла на себя обязательство передать ливонцам требование прибыть в Москву для переговоров. Датчане уверили русских в скором приезде послов Ордена. В итоге никаких представителей Ливонии в Москве так и не увидели, зато военные действия русских войск были свернуты на целый год. Русь выполнила свои обязательства в одностороннем порядке. Следует признать, что договор не только ставил Москву в двусмысленное и рискованное положение. Кроме русских, от него выигрывали все. И в первую очередь ливонцы, которые получили передышку для собирания военных сил и переговоров с соседями о союзе против восточного «агрессора». Здесь стороннику Адашева Андрею Курбскому нечего возразить на упреки Грозного: «из-за коварного предложения короля Датского вы дали ливонцам возможность целый год сбирать силы»[827]. Вряд ли Адашев игнорировал опасность, сокрытую в заключенном перемирии. Но, очевидно, он полагал, что пусть лучше ливонцы оправятся от удара, чем непомерная активность русской конницы спровоцирует вступление в войну Литвы. Другого способа остудить пыл Ивана и его воевод он не находил. Наконец, перемирие позволяло сосредоточить силы для решительного удара по Крыму. Ханство являлось не только опаснейшим противником Москвы, но и потенциальным союзником Литвы. Удар по Крыму означал удар по Литве и вынуждал ее занять более мягкую позицию. Кроме того, в «ближней думе» должны были усвоить уроки последней успешной кампании Ивана III. Тогда Москва успешно действовала одновременно и против Ордена и Литвы, но тогда она находилась в союзе с Крымом. Нынче для успеха на западном направлении требовалось хотя бы нейтрализовать угрозу с юга. Адашев шел ва-банк, и только безоговорочный успех мог оправдать рискованный ход временщика. Но, по всей видимости, это же прекрасно понимал и Иван, потому и согласился на перемирие, наступив на горло собственной песне. Грозный видел, что Адашев затеял рискованную игру и, таким образом, стал предельно уязвимым. Что весьма устраивало царя. Однако успешная экспедиция Данилы Адашева стала триумфом политики его брата и нанесла чувствительный удар по честолюбию Ивана. Его советники опять оказались правы! Он отказывался верить. «А чего стоит ваша победа на Днепре и на Дону? Сколь же злых лишений и пагубы вы причинили христианам, а врагам – никакого вреда!» – пеняет он Курбскому[828]. Иван откровенно лжет. Он прекрасно знает, что врагу нанесен ощутимый урон, что никакой пагубы христианам походы 1559 года не нанесли. Напротив, Адашев-младший освободил в Крыму русских пленников. Это был не первый удачный опыт наступательных действий русских войск против татар. В 1517 году в Крыму случился страшный голод. Русские войска вышли далеко на юг от Оки, где небольшие отряды Ивана Тутышкина и князей Волконских совершали неожиданные нападения на крымцев, отбивая полон и захваченное имущество. Из 20 тысяч татарского войска вернулось в Крым «пешие и нагие» пять тысяч[829]. Но, как видим, тогда Крым смог собрать значительный отряд. Теперь хан находился в еще более бедственном положении. По сведениям Курбского, ссылавшегося, в свою очередь, на очевидцев, в Крымской орде после мора не осталось и десяти тысяч коней[830]. Крым не мог снарядить в поход больше пяти тысяч всадников. Московская рать получила прекрасные возможности ударить по логову противника. Лукавил царь, обвиняя своих советников. В следующем 1560 году, уже после удаления Сильвестра и Адашева, кампания против Крыма протекала по прежнему сценарию, включавшему активные операции на Днепре и Дону. И в 1561 и в 1562 годах по царскому указанию Дмитрий Вишневецкий осуществлял вылазки против Крыма. Выходит, Грозный и после освобождения от ненавистной опеки советников не усматривал ничего предосудительного в подобной тактике борьбы с ханством. Он стремится умалить успех именно экспедиции Данилы Адашева, но ее благоприятный исход столь очевиден, что Иван не смог его игнорировать. Он отдал приказ собрать значительное войско для наступления на Крым и даже велел Михаилу Воротынскому подыскивать место для царской ставки. В самом Крыму ожидали, что вслед за отрядом Данилы Адашева явятся силы русских, которым они не в состоянии оказать сопротивления. Вернувшись из Крыма служивый татарин Тавкей рассказывал о следующем впечатлении, произведенном здесь экспедицией Данилы Адашева: «все бегали в горы, чаяли, что государь пришел: и впредь на них страх великой от государя, если с моря и с поля многими месты приходить на Крым, уберечися им нельзя…» Но что дальше? Идти во главе войска – значит покорно повиноваться указаниям постылых опекунов. Иван понимает, что, скорее всего, поход ждет успех, но этот успех, станет торжеством мудрой политики «собацкой власти» Адашева и Сильвестра. Такой успех означает, что он никогда не выберется из-под докучливого присмотра непогрешимых и мудрых советников. Такой успех для «потомка Цезаря» горше самого унизительного поражения. У Ивана остается один выход – саботаж: сорвав решительное наступление на смертельного врага сорвать игру Адашева. По словам Курбского, участники Избранной рады Адашева «паки ко царю стужали и советовали: или сам бы потщился иттъи, или бы войско великое послалъ в то время на Орду. Онъ же не послушал, прекажцающе нам сие…»[831] Итак, царя уговаривали действовать: либо самому возглавить войско, либо дать приказ к выступлению. Иван сам не сделал ни того, ни другого, да еще запретил что-либо делать другим. В итоге войско в бездействии простояло под Тулой. Нет, здесь на реке Шиворонь поджидали не Орду и не выступления союзников литовцев – там ждали главнокоманцующего – царя Ивана или его приказа, чтобы выступить на Крым и нанести страшный удар по затаившемуся в бессильном страхе врагу. Однако государь в войске так и не появился, и оно не сдвинулось с места. Москва упустила уникальный шанс нанести ханству разящий удар, который бы обеспечил несколько лет спокойствия на южных границах и позволил сосредоточить все силы на балтийском театре военных действий. Соратники Адашева, вероятно, догадывались о мотивах поведения Грозного. Курбский обвинял царя не только в преступной пассивности, но и в том, что он, следуя советам Вассиана Топоркова «уже на своих сродных и единоколенных остроту оружия паче, поганом, готовал»[832]. А.Л. Янов считает, что таким образом князь увязывал отказ от активной борьбы с Крымом с будущими опричными репрессиями[833]. Сомнительно, чтобы в те дни государь задумывался об опричнине. На наш взгляд, Курбский имел в виду последствия «летних маневров» 1559 года. Сорвав большой поход на Крым, Иван тем самым осознанно готовил почву для обвинения Адашева и Сильвестра в заключении пагубного для России перемирия. Неужели Иван настолько эгоистичен, лишен патриотизма, чувства личной ответственности? Думается, Грозный вполне осознавал тяжесть возложенного на него бремени и в меру своего весьма искаженного представления о сути и границах царской власти пекся о благополучии государства. Но летом 1559 года он оказался бессилен переступить через ненависть к советникам. Возможно, именно в эти месяцы он по-настоящему осознал, насколько невыносима для него опека Избранной рады. Даже та дилемма между унижением и изменой, которую ему приходилось решать, и осознание того, что он своим «вынужденным» бездействием лишает русское войско вероятной победы, еще больше разжигало негодование на своих многолетних соратников. Стоит отметить, что формально царь предпринял все необходимые шаги для защиты страны на южных рубежах. Он дал указание развернуть операции против татар на Дону и на Днепре. Он собрал большое войско на границе степи. Это был традиционный элемент антикрымской тактики Москвы – практически каждый год русские выставляли значительные военные силы на южных рубежах, которые должны были предупредишь татарские набеги. Никогда еще это «сезонное» войско не предпринимало активных наступательных действий и тем более не ставило перец собой цели напасть на Крым. Никому не могла прийти в голову мысль упрекнуть государя и правительство в том, что русская рать не двинулась с места. Кто знал о спорах между Иваном и его советниками, кто мог оценить правоту участников этого спора? Грозный, испытывая угрызения совести, вместе с тем непременно злорадствовал оттого, что ему удалось-таки сорвать игру многомудрого Алексея Федоровича. Москва вела в Ливонии наступательную операцию, и именно перемирие сорвало ее успешное развитие. Сокрушительный удар по Крыму с лихвой возместил бы потерю инициативы в Прибалтике, но удара не последовало, и теперь Адашева могло выручить только удачное стечение обстоятельств. Однако события вокруг Ливонии разворачивались по самому пессимистическому сценарию. 31 августа 1559 года в Вильно было заключено соглашение о переходе Ордена под протекцию Литвы. Немного позднее Данила Адашев доставил в Москву захваченные его отрядом послания Сигизмунда II Августа в Крым, в которых король обещал выплачивать ежегодное пособие, дабы хан «с недруга нашего с московского князя саблю свою завсе не сносил». Можно представить себе отчаяние, охватившее Адашева. Все его планы потерпели крах: Крым сохранил основной военно-экономический потенциал, зато реальные очертания обретал единый антимосковский фронт от Черного до Балтийского морей. Ливонцы настолько осмелели, что в октябре 1559-го, собрав наемные отряды, открыли военные действия против Москвы, не дожидаясь истечения перемирия. Известие об этом застало Ивана и его двор в Можайске на богомолье в Лужнецком монастыре у Николы Чудотворца. Обратиться к заступничеству святителя заставила болезнь царицы Анастасии. Согласно рассказу Никоновской летописи, Грозный, узнав о событиях в Ливонии, «хотел ехати вскоре к Москве, да невозможно было ни верхом, ни в санех: беспута была кроме обычая на много время; а се грех ради наша царица не домогла»[834]. А вот какие отзвуки этого события мы находим в первом послании Грозного Курбскому: «Когда же началась война с германцами, …поп Сильвестр с вами, своими советчиками, жестоко нас за нее порицал; когда за свои грехи заболевали мы, наша царица или наши дети, – все это, по их словам, свершалось за наше непослушание им. Как не вспомнить тяжкий путь из Можайска в царствующий град с больной царицей нашей Анастасией? Из-за одного лишь неподобающего слова! Молитв, хождений к святым местам, приношений и обетов о душевном спасении и телесном выздоровлении и о благополучии нашем, нашей царицы и детей – всего этого по вашему коварному умыслу нас лишили…»[835] Так что же именно заставило Ивана с семьей спешно покинуть Можайск в ноябрьскую распутицу: известие о нападении ливонцев или «единаго ради мала слова непотребна» протоиерея Сильвестра? Подробнее разберем реплику Грозного. В ней воспоминание о трудном путешествии в Москву является как бы сюжетным стержнем, вокруг которого вращаются прочие эпизоды: о спорах вокруг войны с Орденом, о болезни Анастасии, об угрозах и поучениях Сильвестра. Похоже, обо всем этом Иван вспомнил именно в связи со спешным отъездом в столицу. Постараемся реконструировать драматические события, развернувшиеся в Можайске в ноябрьские дни 1559 года. Сильвестр, как обычно, выступал против проявлений наружного благочестия – «хождений по святым местам, обетов и приношений». Препирательства по этому поводу с Иваном, человеком скорее суеверным, чем набожным, продолжались все эти годы. Видимо, Сильвестр протестовал и против паломничества в Лужнецкий монастырь. Но царь и прежде в этом вопросе проявлял упорство, тем более не послушал наставника сейчас. Несмотря на стычку, Сильвестр все же последовал за царской фамилией, чтобы надоедать ей своими сентенциями. И вот до Можайска дошло известие о нарушении Орденом перемирия. Как могли развиваться события дальше? Узнав о боях в Прибалтике, Иван наверняка припомнил Сильвестру его с Адашевьм «злобесные претыкания» и их роль в заключении злосчастного перемирия. В свою очередь, Сильвестр в своей излюбленной манере новую неудачу объяснил прегрешениями Ивана и сам перешел в наступление, связывая болезнь царицы и беды государства с непослушанием царя и, в частности, – можайским богомольем. Чаша царского терпения была переполнена. Вне себя от ярости Грозный немедленно отбыл в Москву, так и не завершив паломническую программу. Если формально отъезд Ивана был вызван ливонскими событиями, его внезапность объяснялась разразившимся скандалом и душевным смятением государя. В конце концов, события в Прибалтике развивались не столь угрожающе, чтобы требовать непременного присутствия царя в столице. Именно это обстоятельство в дальнейшем дало Ивану повод связать «тяжкий путь из Можайска» с укоризнами Сильвестра, а значит, возложить на него вину за срыв богомолья и ухудшение состояния здоровья Анастасии, а потом и вовсе обвинить своих многолетних советников в том, что они «отняли» у него жену. В скором времени Сильвестр принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре под именем Спиридона. Алексей Адашев еще в январе 1560-го принимал литовского посланника, но в мае того же года отбыл в Ливонию в качестве третьего воеводы «большого полка» с войском под начальством Ивана Федоровича Мстиславского. Никаких претензий в связи с его внешнеполитическими просчетами Адашеву не предъявлялось. В ином случае неменьшую часть вины должен был взять на себя новый царский фаворит Иван Висковатый, который наравне с Адашевым руководил русской дипломатией и отвечал за ее успехи и неудачи. 8 августа 1560 года умерла царица Анастасия. Но пока у царя не возникало никаких подозрений в «чародействе». 30 августа он назначил Адашева воеводой в крупном укрепленном городе Феллине (ныне латвийский Вильянди). Репрессии последовали в конце 1560 года. Соборный суд с участием членов Боярской думы и высшего духовенства рассматривал дело о порче царицы. Главными обвиняемыми стали приживалка в доме Адашева – полька Магдалыня и пятеро ее сыновей. Собор, по мнению Р.Г. Скрынникова, был созван по настоянию Захарьиных[836]. Действительно, первое время Иван был настроен по отношению к своим бывшим сотрудникам довольно благодушно: удалив их, он достиг самого желанного для себя результата – стал человеком вольным в своих поступках и помыслах. К тому же дела на западном фронте шли успешно. Возможно, Иван даже чувствовал нечто похожее на угрызения совести по поводу срыва крымской кампании и продолжал следовать тактике борьбы с татарами, отработанной в последние годы под руководством Адашева. Другое дело Захарьины: после гибели маленького Димитрия старомосковский клан вытеснили из Думы. Но уже в 1559 году наблюдается возвращение к активной политической жизни В.Г. и Я.Г. Захарьиных, В.М. и Д. Р. Юрьевых, а также их сподвижника казначея Фуникова-Курцева[837]. Теперь настало время реванша. Напоминая царю о неприязненных отношениях Анастасии и его бывших советников, Захарьины постарались привлечь их к процессу о чародействе. Они бередили заживающие раны государя, напоминая ему, как «великого и славного и мудраго, боговенчанного царя пержали перец тем, аки в оковах, повелевающе ему… в меру ясти и пити и со царицею жити»[838]. Но ни царь, ни митрополит Макарий, ни тем более бояре не стремились во что бы то ни стало покарать опальных. Правда, Иоанн Васильевич не преминул проявить свой своеобразный юмор. В начальники Адашеву в Феллин был послан дворянин из иосифлянского клана Полевых, а к Сильвестру в Кириллов прибыл с инспекцией его недруг еще по собору 1553 года Иван Висковатый. Алексей Адашев попал-таки в тюрьму, но вскоре умер, скорее всего своей смертью. По указу царя его похоронили в Угличе в Покровском монастыре рядом с могилой отца. Своим заклятым врагам Иван таких милостей, пусть даже посмертных, не оказывал. Сильвестру было указано направиться в ссылку в Соловецкий монастырь. Его сына Анфима (ему посвящена одна из частей знаменитого «Домостроя») сослали в Смоленск в подчинение князю Дмитрию Бурляеву. Назначение на воеводство в пограничном городе Курлятева, одного из вождей Избранной рады, также нельзя признать строгим наказанием. Другим сторонникам Сильвестра и Адашева в Боярской думе пришлось принести клятву на верность государю, в которой они присягали оставить всякую связь с опальными советниками. Страница русской истории, связанная с Избранной радой, была перевернута и предана забвению. Глава 14 МЯТЕЖНИК В СОБСТВЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ Уж занавес дрожит перед началом драмы, Уж кто-то в темноте – всезрящий, как сова, Чертит круги, и строит пентаграммы, И шепчет вещие заклятья и слова. Пределы самовластья Некоторое время (весь 1560 год и первую половину 1561-го) Иван, похоже, пожинал плоды долгожданной «свободы» и будто потерял интерес к делам политическим. Но если честолюбие государя и было удовлетворено, то не остывало рвение клана Захарьиных-Юрьевых, стремившегося упрочить свое положение. Когда в августе 1561 года Иван вступил в новый брак с Марией Темрюковной, он составил завещание, в котором был назван состав опекунского совета при наследнике. Из пяти бояр-регентов трое принадлежали к роду Захарьиных, а четвертый – Ф. И. Колычев был их однородцем[839]. Этих же бояр Иван оставлял «ведать Москву» на случай его отсутствия. Захарьины между тем спешили заручиться поддержкой высшей приказной бюрократии. Они добились возвращения из ссылки своего сторонника Н. Фуникова-Курцева, который возглавил Казенный приказ и получил думный чин казначея. Думный чин печатника получил еще один союзник Захарьина Иван Висковатый. Одновременно Захарьины предпринимают новые усилия, дабы умалить могущество княжеской знати. В январе 1562 года утверждено новое уложение о княжеских вотчинах, в котором в сравнении с приговором 1551 года объем ограничений родового княжеского землевладения существенно вырастал. Ограничения, касавшиеся прежде лишь большей части северо-восточных князей, теперь были усилены и распространены на всех князей, или «княжат». Князьям отныне воспрещалось отчуждать свои земли: продавать, менять, дарить, давать в приданое. Владения княжеские могли переходить по наследству только к сыновьям собственников; в случае, если князь не оставит после себя сына, его вотчина берется в казну «на государя». Право посмертного распоряжения было поставлено под действительный контроль правительства[840]. Наступление на частную собственность продолжалось. Уложение о вотчинах было разработано по указу царя руководителями приказов, а утвердила документ Боярская дума. И в приказах, и в Думе теперь главенствовали сторонники Захарьиных. Случилось то, чего московская политическая элита так опасалась еще в 1553 году во время болезни Ивана – Захарьины-Юрьевы стали верховодить в стране. Все эти годы временщики Адашев и Сильвестр служили своеобразным буфером между могущественным старомосковским кланом, с одной стороны, и Гедиминовичами, прочими потомками литовских выезжан – с другой. Сильвестр и Адашев, по худородности своей ограниченные в служебной перспективе, были обречены на сотрудничество с княжеской верхушкой. Адашев, рассорившись с Захарьиными после событий 1553 года, стал опираться на князей литовского происхождения. У последних, очевидно, не было иллюзий относительно их будущности господстве Захарьиных. Как и в 1534 году, из Москвы потянулись перебежчики. В июле 1561 года при попытке бегства в Литву был взят под стражу князь Василий Глинский. В начале 1562 года арестовали Ивана Вельского. Князь Иван Дмитриевич много лет возглавлял Боярскую думу, приходился родственником государю, при назначении воеводских должностей мог претендовать только на пост главнокоманцующего. Но оставаться более на Москве он не желал. При обыске у Вельского нашли охранные грамоты на въезд в Литву, подписанные королем Сигизмундом. А исход только начинался. В апреле 1562 года бежал в Литву Дмитрий Вишневецкий. Прославленный военачальник, в течение пяти лет успешно защищавший Русь от крымских набегов, перешел на сторону польского короля Сигизмунда, обещая верно ему служить и, более того, познакомить с военными секретами русских – «справы того неприятеля выведавши». Летом 1562 года вызваны с южной границы и арестованы по подозрению в намерениях отбыть в Литву воеводы братья Михаил и Александр Воротынские. По этой же причине в октябре 1562 года наложена опала на смоленского воеводу Дмитрия Курлятева. В конце 1562 года во время похода на Полоцк на сторону литовцев перешел знатный дворянин Б.Хлызнев-Колычев, который выдал важные сведения о планах русских войск. В марте 1563 года арестованы воеводы, руководившие гарнизоном Стародуба, которых обвинили в намерениях сдать город литовцам. Следствие закончилось казнью Данилы Адашева и его сына и родственников. Таким образом, в течение нескольких месяцев бежали в Литву или оказались под подозрением практически все видные военачальники, принесшие в последние годы успех России на южных рубежах и на первом этапе Ливонской войны. К этому перечню стоит присовокупить и князя Андрея Курбского, царского наместника в Ливонии, четыре года командовавшего русскими войсками в Прибалтике, который покинул страну позднее – в апреле 1564 года. Как и летом 1534 года, служилые князья и дворяне не захотели служить боярам-временщикам. Безусловно, свою роль сыграли и новые факторы: активное наступление на вотчинную собственность и дурной нрав государя, все более ярко проявлявшийся в эти годы. Не успели тело царицы Анастасии предать земле, как Иван погрузился в самый грязный разгул – стал «прелюбодейственен зело». Летописи также свидетельствуют, что именно после смерти царицы Иван сменил свой «многомудренный ум» на «нрав яр». На наш взгляд, тайна податливости Ивана чарам своей супруги объясняется склонностью Ивана к актерству и лицемерию. Анастасия чаяла видеть супруга богобоязненным и смиренным, и он охотно разыгрывал перед ней эту роль и, возможно, даже нравился сам себе в этом благородном образе. Как это часто бывает, маска начинает диктовать поведение ее обладателю. Если влияние Сильвестра порождено искренним суеверным испугом, то влияние Анастасии – добровольным лицедейством. Чтобы избавиться от поповской власти, Ивану пришлось скорректировать установку на 180 градусов: не сопротивление Ивана указкам своих опекунов стало причиной обрушившихся на него напастей, а наоборот, – подчинение их воле. Чтобы снять маску добродетельного христианина, Ивану требовался лишь повод – отсутствие зрителя, желавшего видеть этот образ и готового по достоинству оценить перевоплощение. Поэтому после смерти Анастасии Иван без стеснения дает волю своим похотям. Он вовсе не переменился: просто снял личину, обнаружив собственное лицо. Метаморфоза, произошедшая с царем, столь шокировала москвичей, что уже через неделю после смерти Анастасии митрополит и духовенство обратились к государю с ходатайством, чтобы он «женился ранее, а себе бы нужи не наводил». Подавая эту необычную челобитную, князья церкви не только заботились о нравственном здоровье государя, но и с помощью нового брака надеялись подорвать монополию Захарьиных при дворе[841]. Очевидно, не только знатные княжеские фамилии были недовольны гегемонией московского клана. В эти годы аристократия демонстрирует редкое единодушие и решимость в отстаивании своих прав. Факт совершения государственной измены Иваном Вельским был налицо, однако за князя вступились поручители, кои обязывались внести в казну огромную по тем временам сумму (10 000 рублей) в случае нового побега Вельского и, кроме того, отвечали за его поведение своими жизнями. Несмотря на столь обременительные условия, в числе поручителей помимо пятерых бояр оказалось свыше сотни (!) княжат, детей боярских и дьяков. Столь внушительная и недвусмысленная демонстрация единства правящей верхушки возымела действие. Спустя три месяца после ареста Иван Вельский не только оказался на свободе, но и снова возглавил Боярскую думу. В апреле 1563 года история повторилась. Количество поручителей за Александра Воротынского вновь перевалило за сотню, несмотря на то что «страховой взнос» за опального воеводу вырос до 15 000 рублей. Возглавил ходатаев крупнейший боярин Иван Федорович Мстиславский. В начале 1564 года Иван наложил опалу на видного воеводу Ивана Шереметева. И снова за него дружно заступаются представители боярских родов во главе с Иваном Петровичем Федоровым. Только Захарьины не участвовали в этих акциях протеста, понимая, что в значительной мере они направлены против них. Преграды самовластию обнаруживались там, где власть прежде не встречала никаких препятствий. Впервые в истории Рюриковичей государю не удалось учинить правеж в своей собственной семье. В июне 1563 года Иван, проживавший в резиденции в Александровой слободе, получил донос от Савлука Иванова, служившего дьяком у двоюродного брата царя Владимира Старицкого. Савлук был посажен Старицкими за какую-то провинность в узилище, откуда сообщил государю, будто Старицкие чинят Ивану «многие неправды» и схватили дьяка из-за боязни разоблачений дьяка. Савлука вызволили из темницы и привезли в Александрову слободу, чтобы тот без опаски изобличал преступные намерения князя и его матери Ефросиньи. Собранных улик оказалось недостаточно, чтобы обвинить Старицкого в заговоре с целью захвата власти, и Иван приказал поднять архивные документы десятилетней давности, относящиеся к достопамятному эпизоду болезни царя. Прежде бояре охотно помогали великим князьям убирать с дороги строптивых родственников. Однако на этот раз митрополит Макарий и Боярская дума готовящуюся расправу решительно пресекли. Дело ограничилось покаянием князя Владимира Андреевича и его матери пред лицом церковного собора. По «печалованию» Макария и духовенства царю пришлось примириться с братом. Правда, княгиня Ефросинья была пострижена в монахини белозерского Воскресенского монастыря – по официальной версии, по собственному желанию. Старицкому возвратили удельное княжество, но лишь после роспуска его свиты. В знак окончательного примирения с братом в октябре 1563 года Иван гостил у него в Старице. Прежде, до изгнания Сильвестра и Адашева, Ивану казалось, что досадное ограничение его воли проистекает из мелочной унизительной опеки временщиков. Исчезни опека – и все само собой оборотится в его пользу. Но недолго Иван тешился иллюзией неограниченного самовластья и вседозволенности. После эйфории 1560 – 1561 годов наступило отрезвление. События 1562 – 1563 годов обнаружили, что самодержавным поползновениям противостоят не отдельные временщики или некоторые группировки, а вся политическая элита Московской Руси. Иван сам выбрал себе фаворитов, сам подчинился их влиянию, сам наделил их значительными полномочиями, сам страдал от их наставничества и, в конце концов, сам их изгнал. Но сейчас он впрямую столкнулся с Боярской думой, как с органом, сила которого укреплена и освящена вековой традицией. Более того, он встретил оппозицию в виде союза между высшими лицами государства и церковными иерархами. От такого препятствия невозможно было избавиться таким же способом, как он отделался от опостылевших временщиков. Ход Ливонской войны подстегнул поиски путей утверждения самодержавия. В январе 1563 года Иван во главе огромного войска явился под стены важной литовской крепости Полоцк и штурмом овладел городом. Как и подчинение Казани, взятие Полоцка обставлялось как крестовый поход против иноверцев. Русское войско сопровождали чудотворные реликвии и целый отряд святых отцов – чудовский архимандрит Левкий, коломенский епископ Варлаам. После взятия Полоцка наш доморощенный крестоносец разорил католические церкви и монастыри и приказал перебить еврейское население города. С взятием Полоцка сбывались самые честолюбивые мечты Ивана – он предстал перед всем христианским миром как могущественный государь и победоносный полководец. Он чувствовал себя вершителем Божьей воли, эдаким воплощением иосифлянского идеала царя-громовержца, поражающего неверных и порочных. Примечательно, что Ивана сопровождал волоцкий игумен Леонид, епископом в завоеванном городе стал выученик иосифовой обители Трифон, а на обратном пути царь посетил Волоцкий монастырь. Однако по возвращении в Москву Грозному открылась неприглядная истина: никто, кроме прихлебателей из ближайшего его окружения, не спешил оценить ратные доблести Ивана и не изъявлял готовность беспрекословно следовать царским прихотям. Напомним, что весной 1563 года служилая верхушка дружно заступается за Воротынского, а летом срываются планы Грозного избавиться от двоюродного брата. В первых числах января 1564 года в Москве похоронили митрополита Макария. На протяжении многих лет такие несхожие люди, как Макарий, Сильвестр, Адашев и царица Анастасия, каждый в меру своего положения и возможностей, ставили пределы царскому жестокосердию и распущенности. Теперь рядом с государем не осталось человека, способного подать пример благочестия и великодушия. Вскоре после похорон Макария в столицу пришла весть о крупном поражении русских войск в Ливонии. Оглушительный провал после полоцкого триумфа нанес чувствительный удар по самолюбию царя. За несколько недель до печального известия в декабре 1563 года Грозный послал королю Сигизмунду послание, как обычно полное надменных поучений и истеричных обвинений. Теперь Сигизмунд имел все основания насмехаться над беспричинной заносчивостью московского царя. Подозрительный Иван решил, что литовцам помогли победить бояре, передавшие военные секреты королевским послам, незадолго до того отъехавшим из Москвы. По приказу царя во время церковной службы были убиты князья из дома Оболенских Михаил Репнин и Юрий Кашин, воевода князь Дмитрий Овчина-Оболенский. Позже арестовали известного воеводу Ивана Шереметева, а его брата Никиту удавили в темнице. Но элита не собиралась молча наблюдать за кровавыми выходками государя. Новый митрополит Афанасий заодно с руководством Думы потребовал прекратить террор. Все эти факты, по мнению Р.Г. Скрынникова, свидетельствуют о том, что верхи правящего боярства сохранили политическое господство после отставки Избранной рады: «Самодержец вынужден был признать свое поражение и подчиниться общественному мнению»[842]. На полгода на Руси установилось затишье. Но над Москвой сгущались грозовые тучи. Иван готовится к решительным шагам, обдумывает выход из сложившейся ситуации, пытается лавировать. В первые месяцы 1564 года он предпринимает шаги по достижению компромисса с церковью. Но положение всех прочих сословий свидетельствует о нарастании кризисных явлений в государстве. «Воинский же чин ныне худейши строев обретеся, яко многим не имети не токмо коней, къ бранем уготовленных, или оружий ратных, но и дневныя пиши. Ик же недостатки и убожества, и бед их смущений всяко словество превзыде, – пишет Андрей Курбский в письме печерскому иноку Вассиану Муромцеву. – Купецкий же чин и земледелецъ все днесь узрим, како стражут, безмерными данми продаваеми и от немилостивых приставов влачими и без милосердия биеми – и, овы дани вземше, ины взимающе, о иных посылающе, и иные умышляюще»[843]. Курбский говорит о нестроениях, порожденных не стихийными бедствиями или нашествием иноплеменных, а внутренней политикой Ивана Грозного, ответственность за последствия которой несут, впрочем, не только царь, но и столь милые сердцу князя Адашев и Сильвестр. Непродуманная поместная реформа породила многочисленный класс служилых людей, но правительство оказалось не способно обеспечить их благосостояние или хотя бы условия, при которых помещики были способны нести службу. Тягловое население (купечество, крестьяне) страдало от усиливающихся поборов, вызванных, в том числе, военными расходами. В то же время права земства были урезаны, и оно не могло противостоять самодержавно-дворянскому напору. В апреле 1564 года князь Андрей Курбский бежал в Литву, что, безусловно, вызвало волнение в обществе и порождало тревожные толки. И само это событие, и реакция на него принудили Ивана к еще более интенсивной внутренней работе. «В мае – июле 1564 г. Грозный мучительно обдумывает свой ответ Курбскому… – пишет С.О. Шмидт. – Грозный перебирал в уме события своего царствования, он все время накалял себя, нанизывая в болезненном уже воображении обиду за обидой, одно подозрение ужаснее другого… При этом серьезное перемежается с мелочами: формулировки принципов государственного управления соседствуют с неистовством брани завистливого и мелочного тирана… В эти дни Грозный – впервые или заново – формулировал для самого себя и других основные принципы идеологии «вольного самодержавства»… «Сильным во Израиле» надо было противопоставить верных новых людей, сотворить из грязи и камня «чад Авраамовых». Так зарождались мысли о создании опричной гвардии..»[844]. Первое послание Грозного Курбскому – гимн неограниченному самовластию и низвержение тех, кто стремится этому самовластию поставить предел. «Я знаю, что истинный Бог наш Христос – противник гордых гонителей, как говорится в Писании: «Господь гордым противится, а смиренным дарует благодать». Станем рассуждать, кто из нас горд: я ли, требующий повиновения от рабов, данных мне от Бога, или вы, отвергающие мое владычество, установленное Богом…»[845] Царь насмехается над идеалом Андрея Курбского – «пресветлым православием». «И это ли православие пресветлое» – быть под властью и в повиновении у рабов?» По мнению Грозного, «цари своими царствами не владеют» у безбожных народов. «Русские же самодержцы изначала сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи»[846]. Мы уже говорили о том, что Курбский в своих письмах к царю и сочинениях не предлагает никакой собственной программы, он только стремится отстоять те начатки сословно-представительного строя, которые к тому времени укоренились в Москве. Это Грозный намерен ниспровергнуть сложившийся порядок вещей и лихорадочно ищет тому обоснование. 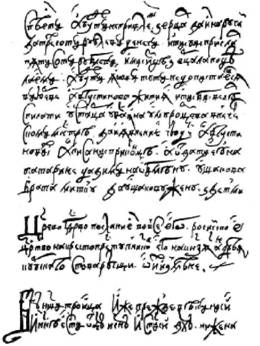 Первое послание Грозного
Отписав в июле Курбскому свое «многошумящее» послание, Грозный определенно потешил свое тщеславие и на время обрел некоторое душевное равновесие. Но в сентябре 1564 года на рубежах государства вновь произошли события, которые лишили его покоя. К Полоцку подошло войско польского короля Сигизмунда, а на рязанские земли напал крымский хан. В это время в Москве шли переговоры с татарскими послами о возможном союзе Москвы и Крыма против Речи Посполитой. Но грозные вести с границ показали, что король и хан не только договорились между собой, но и уже действуют сообща, приступив к военным действиям против Руси. Ивану, находившемуся в Суздале, пришлось спешно возвращаться в Москву. Как осень 1564 года напоминает осень 1559-го, когда царь покидал Можайск! Только тогда Грозный имел основания негодовать на советников и в нападении ливонцев видеть просчеты их политики. Теперь ему нужно было винить только самого себя. Совсем недавно царь так темпераментно обличил «собацкую власть» Сильвестра и Адашева, и вдруг сентябрьские события буквально изобличили самого Ивана, наглядно продемонстрировав правоту его ненавистных советников: нужно было избежать войны с Речью Посполитой, нужно было ослабить крымское ханство, отвадить его от набегов на Русь. Но Грозный не способен к трезвой самооценке, напротив, чем очевиднее его просчеты, тем яростнее он будет обвинять других. Скоро, очень скоро он поквитается со всеми! Зимняя гроза В конце ноября 1564 года царь Иван беспрестанно посещал монастыри и храмы и усердно молился. Третьего декабря он присутствовал на литургии в Успенском соборе. После окончания богослужения Грозный простился с митрополитом Афанасием, боярами, дьяками и прочими москвичами, собравшимися в храме. К тому времени царский поезд был готов к отъезду. «Подъем же его не таков был, якоже преже того езживал по монастырем молитися, или на которые свои потехи в объезды ездил»[847]. Поезд охраняли несколько сотен вооруженных дворян, причем многим из них было велено брать с собой семьи. Иван увозил с собой драгоценности и наиболее почитаемые иконы, которые заранее повелел собрать в Кремле. Москва терялась в тревожных догадках относительно причин столь странного отъезда царской фамилии и конечной цели путешествия. По сообщению летописца, бояре, духовенство, приказные люди пребывали в «недоумении и во унынии». С.О. Шмидт полагает, что отъезду царя предшествовали какие-то собрания, переговоры с представителями сословий, которые просили Ивана не покидать столицу, и потому «уныние» москвичей порождено не полной неожиданностью «государьского подъема», а тем, что намерения самодержца так и остались неясными[848]. Основательные приготовления к отъезду действительно невозможно было скрыть, да и вряд ли Грозный стремился к этому. Желая озадачить москвичей. В этих условиях любые переговоры только мешали замыслу Грозного. Именно полное отсутствие достоверной информации о причинах отъезда и планах царя порождало смятение в душах, необходимое для удачного осуществления «грандиозной политической инсценировки». Р.Г. Скрынников полагает, что Иван покинул столицу, не имея ясного представления о дальнейшем маршруте. Поначалу он двинулся на юг от Москвы, две недели прожил в Коломенском, затем, обогнув столицу с востока, выехал на ростовскую дорогу в районе Мытищ и только оттуда направился в Александрову слободу через Троице-Сергиев монастырь[849]. Выходит, что, готовясь несколько недель к путешествию и, безусловно, тщательно обдумывая каждый шаг, Грозный так и не решил, куда он направится из Москвы. Скорее всего, Иван своими непредсказуемыми перемещениями сознательно запутывал московских наблюдателей, множил смутные догадки и тревожные предположения. Царь уже сейчас мог упиваться недоумением и растерянностью думских бояр и церковных владык. Почти месяц продолжались странствия нашего короля Лира. Наконец, в начале января 1565 года Иван из Александровой слободы направил в Москву грамоты, содержание которых не столько разъяснило ситуацию, сколько усилило смятение среди власть имущих и простых горожан. Содержание царских посланий можно свести к следующим важнейшим пунктам. 1. Иван отрекается от престола. 2. Причиной отречения являются «..измены боярские и воеводские и всяких приказных людей», которые незаконным путем «собрав себе великие богатства», забыли о своем долге и «о всем православном христианстве не хотят радети и от недругов его от Крымского и от Литовского и от Немец не хотят крестьянства обороняти»[850]. Третий пункт царского ультиматума сводился к тому, что государь не имеет возможности карать изменников. Совместные действия духовенства и Думы по предотвращению террора Грозный представил в виде круговой поруки предателей, заинтересованных в безнаказанности своих соучастников. «Архиепископы и епископы и архимандриты и игумены, сложася с бояры и з дворяны и з дьяки и со всеми приказными людьми, почали по ним же государю царю и великому князю покрывати…» Ныне измена на Руси зашла так далеко, что уже сам православный царь оказался «изгнан есмь от бояр, самовольства их ради, от своего достояния и скитаюся по странам.». Иван доводит до сведения подданных, что и сейчас не знает, где закончатся его странствия, и «вселится, иде же его, государя, Бог наставит»[851]. Если вокруг одни изменники, на кого же Грозный может оставить руководство государством? По этой причине Иван наложил опалу, то есть отстранил от исполнения своих обязанностей всех бояр и приказных людей. Получалось, что вместе с отречением государя оказалась выведенной из строя вся государственная машина, что усиливало всеобщее ощущение надвигающегося хаоса. Одновременно Иван объявлял милость городскому населению. Мало того, он ставил себя с низами заодно – так же, как и черный народ, он обижен неправдами власть имущих. «Это был потрясающе точно рассчитанный политический маневр, – пишет В.Б. Кобрин. – В самом деле, представим себе московского посадского человека, который по сравнению с любым подьячим считался человеком второго сорта, в феодальном государстве он был сословно неравноправным человеком. Вместе с тем, как все люди Средневековья, он верил в «батюшку-царя», в «надежу-государя». Вдруг он узнает, что как раз те, перед кем он только что должен был ломать шапку, все эти бояре, дети боярские, дьяки, все они прогневали государя до такой степени, что тот должен уйти, оставить государство. А он, «посадский мужик», и есть главная опора трона, на него нет ни гнева, ни опалы… Так царь Иван обзавелся согласием народных масс на террор»[852]. Возбужденная толпа москвичей, узнав от самого царя о великой боярской измене, окружила митрополичий двор, где заседали Дума и высшее духовенство. Представители горожан заявили собравшимся, что они намерены просить государя, чтобы тот «государьства не оставлял и их на расхищение волкам не давал, наипаче же от рук сильных избавлял»[853]. Таким образом, как точно заметил Костомаров, «царь как бы становился заодно с народом против служилых»[854]. Самое примечательное в обвинениях Ивана – отсутствие конкретных примеров «великих боярских измен». Более того, неведомые преступления, по его же свидетельству, имели место в «государьские несвершеные лета», то есть в 30 – 40-е годы. Казалось, это должно ослаблять позицию Ивана. Возникал вопрос: почему же Грозный только теперь отреагировал на события двадцатилетней давности, да еще в столь драматической форме. Более того, в 1549 году Иван примирился с боярами, а теперь спустя пятнадцать лет припомнил их старые грехи. Очевидно, именно это имел в виду летописец, отмечая, что «весь освященный собор», узнав, что «их для грехов сия сключишася, государь государьство оставил, зело о сем скорбеша и в велице недоумении быша»[855]. Действительно, было о чем недоумевать. Тем не менее царь поступал вполне обдуманно. Во-первых, обвини он публично кого-либо в измене или проступке, дело переросло бы в рядовое разбирательство, и тогда обвиняемый получал возможность оправдаться и уйти от наказания, как Вельский и Воротынский. Грозный повернул дело так, что оправдываться было некому и не за что, а вместе с тем подозрение в измене падало на всю верхушка общества. Во-вторых, не называя конкретных лиц, царь освобождался от необходимости приводить доказательства своих обвинений. В-третьих, вернувшись к времени боярского правления, Иван напоминал москвичам чинимые тогда временщиками над простым людом насилия и беззакония. Таким образом, в сознании толпы вина за боярские преступления тех лет переносились на нынешнюю политическую верхушку. В этом и заключался план Ивана – деморализовать элиту своим таинственным отъездом и чудовищными обвинениями, одновременно возбудив против них толпу. Оказалось, что Грозный прекрасно усвоил уроки московского послепожарного бунта 1547 года. В последние месяцы царь имел немало поводов вспомнить те грозные события. В тот год Москва горела 18 апреля, 9 и 19 мая, 24 августа. 25 сентября произошел грандиозный пожар в Троице-Сергиевом монастыре, причем сразу же после того, как оттуда уехал Иван. Со свойственным ему стремлением переиначить, перелицевать, спародировать царь «вывернул наизнанку» мятеж 1547 года: тогда возбужденная боярами чернь бросилась на царя и его близких, теперь он науськивал горожан на сильных мира сего. Иван по достоинству оценил парализующую силу толпы и знал, что привести в движение эту силу способны обвинения чудовищные: чем ужаснее и нелепее весть, тем охотнее в нее поверят. Так и случилось. В то время как освященный собор отреагировал на заявления царя «великим недоумением», «бояре же и околничие, и дети боярские и все приказные люди, и священнический и иноческий чин, и множества народа… с плачем глаголице: «Увы! Горе! Како согрешихом перед богом и прогневахом государя своего многими пред ним согрешения и милость его велию превратихом на гнев и на ярость!»[856] Налицо раскол: в то время как высшее духовенство и боярство лишь скорбит и недоумевает по поводу царских обвинений, значительная часть правящей верхушки и низы выражают готовность покориться воле государя, предоставив ему полную свободу действий. Они согласны признаться в прегрешениях и покаяться, лишь бы государь отставил свою опалу, и настоятельно просят митрополита, чтобы тот «царя на милость умолил». А представители купечества и городского населения, обращаясь к митрополиту Афанасию, не только считали, что государь волен казнить изменников, но и выражали живейшую готовность расправиться с ними собственноручно: «а хто будет государьских лиходеев, и они за тех не стоят и сами тех потребят»[857]. Надо отдать должное митрополиту Афанасию. В прошлом священник из Переяславля, иконописец и писатель, он долгое время был духовником Ивана, что, вероятно, и обусловило его поставление на митрополичью кафедру. Афанасий лучше других знал нравственное состояние Ивана и лучше других представлял последствия его самовольного правления, острее других чувствовал личную ответственность за происходящее. Несмотря на всеобщее истерическое замешательство и граничащие с угрозами настоятельные просьбы выступить ходатаем перед государем, Афанасий остался в Москве, отрядив в Слободу двух Ивановых «ласкателей» – новгородского епископа Пимена и чудовского архимандрита Левкия. Летописец находит уважительную причину, почему митрополит «ехати к государю не изволили» – «для градского брежения, что все приказные люди приказы государские оставили и град оставиша никоим же брегом..»[858] Вместе с тем в той же Никоновской летописи среди чинов, одобривших нововведения Ивана, в привычном перечне – «архиепископы же и епископы и архимандриты и игумены и весь освященный собор, да бояре и приказные люди» – митрополит отсутствует. Отказ от поездки к Ивану скорее всего продиктован не заботой об управлении столицей, а протестом против дикой выходки государя. Без малого полвека, начиная с Даниила, предстоятели русской церкви выступали горячими апологетами укрепления самодержавной власти, подавляя всякое проявление свободомыслия. Но в критическую минуту именно митрополит, словно искупая вину своих предшественников, попытается встать на пути надвигающейся на Русь беды. Афанасий оказался в трагическом одиночестве. В момент тяжелого нравственного выбора его современники не проявили ни твердости, ни прозорливости. Перед лицом зреющего народного бунта и паралича государственного аппарата высшее духовенство и Боярская дума посчитали, что у них нет иного выхода, как полностью удовлетворить ультиматум Грозного. Они покорно согласились с тем, чтобы Иван «на государстве бы были своими бы государствы владел и правил, как ему, государю, годно: и хто будет ему, государю, и его государьству изменники и лиходеи, и над теми в животе и в казни его государская воля»[859]. Но оказалось, что Иван не собирался удовлетвориться механическим расширением своих полномочий, он намеревался радикальным образом изменить сложившуюся в России социально-политическую систему. Он выразил готовность принять челобитье духовенства и бояр на одном условии – «учинити ему на своем государстве себе опришнину, двор ему себе и на весь свой обиход учинити особной, а бояр и околничих и дворецкого и казначеев и всяких приказных людей, да и дворян и детей боярских… учинить себе особно..»[860]. Условие было принято. 15 февраля, полтора месяца спустя после своего отъезда, Иван возвращается в Москву триумфатором, не государем, а тираном и мучителем. Были ли у Грозного соумышленники при учреждении опричнины? Иностранцы (Генрих Штаден) сообщали, что совет держать возле себя отряд телохранителей подала Ивану царица Мария Темрюковна. Писаревский летописец утверждает, что царь «учиниша» опричнину «по злых людей совету Василия Михайлова Юрьева до Олексея Басманова»[861]. В.Б. Кобрин полагает, что в обоих этих рассказах есть общее рациональное зерно. Василий Михайлович Юрьев приходился двоюродным братом покойной царице Анастасии. В дальнем свойстве с ней был и Алексей Басманов: его сын Федор был женат на племяннице покойной царицы. В свою очередь, Михайло Темрюкович, брат Марии, был зятем В.М. Юрьева. Вероятно, зная о том, как царь любил первую жену, он решил этим браком обезопасить себя от враждебности со стороны влиятельного клана родственников Анастасии. Таким образом, по мнению исследователя, в обоих рассказах речь идет об одной и той же группе – родичах двух первых жен царя. «Вне зависимости от того, насколько реальны сведения о советах этих людей, они, несомненно, стояли во главе опричнины при ее учреждении, – отмечает В.Б. Кобрин. – Недаром падение Избранной рады… было в основном связано с враждебными отношениями Сильвестра и Адашева с Захарьиными»[862]. Р.Г. Скрынников отверг этот вывод, указывая на то, что Захарьины не выдвинулись в период опричнины, а другие подверглись опале[863]. Что ж, вдохновители репрессий чаще всего становятся их жертвами. В пользу версии В.Б. Кобрина говорит вся деятельность Захарьиных за два десятилетия, предшествующих учреждению опричнины. Они всегда поддерживали самодержавные поползновения царя и никогда не соединялись с теми, кто пытался поставить предел амбициям государя. Планы и настроения Грозного совпадали с намерениями клана Захарьиных-Юрьевых способствовать утверждению режима деспотического самовластия, при котором, как они полагали, получат наиболее благоприятные условия для первенства при дворе. Введение опричнины приостановило действие законов и заменило право произволом самодержца. Прежде члена Думы нельзя было судить или отнять у него вотчину без боярского суда и сыска. Теперь думных людей опричники могли подвергнуть преследованиям без всякой доказанной вины. Подобная ситуация устраивала Захарьиных, которые рассчитывали, что теперь им будет легче устранять своих соперников. Они вряд ли задумывались о том, что эта репрессивная машина способна оборотиться против них самих. В поисках царских недругов Известно, что «опричниной» на Руси называлась часть земли и имущества, причитавшаяся вдове вотчинника. Почему Иван выбрал это слово, чтобы обозначить свое «особное» царство? Какую маску он примерял в этот раз? Вспомнил свое недавнее веселое вдовство? Или пародировал известное «Слово..» Максима Грека, где говорится об окруженной дикими зверями неутешной женщине, одетой «в черную одежду, приличную вдовам». Напомним, что женщину ту зовут Василия (Царство), и страдает она от того, что ее «дщерь Царя всех и Создателя… стараются подчинить себе сластолюбцы и властолюбцы, но весьма мало таких, которые бы, действительно, радели обо мне и украшали бы меня..»[864]. Правда, в сочинении Святогорца много такого, что не могло прийтись по душе Грозному, но Иван относился к разряду людей, которые видят и слышат прежде всего то, что они хотят видеть и слышать. В Ивановом «отречении от царства» действительно есть нечто от вдовства, от сиротства. Овдовело, осиротело само государство, на вдовий крик «на кого ты меня с сиротами оставил!?» Иван ответил тем, что «государьство же свое Московское, воинство и суд и управу и всякие дела земские приказал ведати и делати бояром своим, которым велел быти в земских: князю Ивану Дмитреевичу Белскому, князю Ивану Федоровичи) Мстиславскому..»[865]. Царь оставил страну на виднейших представителей правящего класса, коих он так темпераментно изобличал во всевозможных преступлениях. Итак, при живом государе (муже, отце, хозяине) его должность отныне исполняют бояре, которым Иван трогательно завещает заботиться об искоренении несправедливости и водворении порядка в егогосударстве. Сам же Иван приступает к обустройству личной «вдовьей доли». Отдает распоряжение о строительстве нового дворца на Арбате, учреждает свой двор, свою Думу, свои приказы, свое войско. Между тем никакой принципиальной новизны в мерах Ивана нет. Г.В. Вернадский отмечает, что в первой половине XV века московская администрация представляла собой соединение двух различных систем, базировавшихся на разных принципах: «Одну из двух ветвей можно называть государственным управлением в прямом смысле этого термина; другую – «манориальным» или «дворцовым» управлением. К государственному управлению относились сбор налогов, система призыва на военную службу и судопроизводство. Дворцовая администрация отвечала за содержание войск великокняжеской гвардии; управляла владениями великого князя.. Когда власть великого князя московского распространилась на всю Великороссию… две системы – государственная и дворцовая – не слились, однако, а продолжали существовать. Каждая имела собственные органы и чиновников»[866]. Так что Иван ничего не вьщумавал; он довел разделение на «государское» и «земское» до конечного предела. «Государское» окончательно приобрело характер удельного, личного, существующего «опричь» (кроме), помимо национального. Разделилось и население страны. Генрих Штаден пишет: «Опричные – это были люди великого князя, земские же – весь остальной народ»[867]. По указу самого Ивана земская «государственная» Дума отныне ведала «воинство и суд», в то время как манориальные опричные органы опекали царскую гвардию и государев двор. Правда, в отличие от прежних времен манориальные органы наравне с земскими озаботились и сбором податей и прочими государственными задачами, что обусловлено значительным размером опричных земель и ростом царских расходов. Земли эти, что важно отметить, не представляли собой компактной территории, а были разбросаны во всей стране. Иногда даже отдельные города (например, Новгород) делились на две части, поэтому Московское государство и опричный удел Ивана не соседствовали друг с другом, а сосуществовали параллельно. «Но, спрашивается, зачем понадобилась эта реставрация или эта пародия удела?» – зададимся вопросом вслед за В.О. Ключевским. Сам историк отвечал на него следующим образом: «Учреждению с такой обветшалой формой и с таким архаичным названием царь указал небывалую дотоле задачу: опричнина получила значение политического убежища, куда хотел укрыться царь от своего крамольного боярства»[868]. Правда, тут же историк указывает, что политическая сила боярства к тому времени уже была подорвана. В итоге Ключевский приходит к выводу о политической бессмысленности опричнины: «Вызванная столкновением, причиной которого был порядок, а не лица, она была направлена против лиц, а не против порядка»[869]. С.Ф. Платонова же отличает настойчивое стремление во что бы то ни стало доказать, что опричнина носила «аграрно-классовый» характер и была направлена именно против «порядка», на подрыв боярского вотчинного землевладения, а не против отдельных лиц. По мнению историка, «Грозный почувствовал около себя опасность оппозиции и, разумеется, понял, что это оппозиция классовая, княжеская, руководимая политическими воспоминаниями и инстинктами княжат, «восхотевших своим изменным обычаем» стать «удельными владыками» рядом с московским государем[870]. Спустя несколько абзацев, словно позабыв сказанное выше, ученый вдруг признается, что со стороны широких кругов знати «не было заметно ничего похожего на политическую оппозицию»[871]. Заметим, что в XVIII веке десятки знатных фамилий владели земельными угодьями, размерам которых видные бояре эпохи Грозного могли только позавидовать, не говоря уж о сотнях и тысячах крепостных крестьян. Более того, Манифест о вольности дворянства совершенно уничтожил связь между правом на владение поместьем и обязательной государевой службой. Однако политическое значение латифундистов екатерининских времен было ничтожно в условиях абсолютной императорской власти. Платонов попал в ту же ловушку, в которую в свое время угодил Ключевский, убедившийся в политической бессмысленности опричнины. Тем не менее Платонов продолжал утверждать, что «смысл опричнины совершенно разъяснен научными исследованиями последних десятилетий». Р.Г. Скрынников замечает, что Платонов «преувеличил значение конфискаций в опричных уездах, будто бы подорвавших княжеско-боярское землевладение»[872]. Вместе с тем, исследуя данные о казанской ссылке, исследователь заключает, что подлинной причиной организации опричнины стала необходимость подавить недовольство массовой конфискацией родовых вотчин, проводимой царем для подрыва могущества аристократии и в первую очередь суздальской знати. Исследователь обращает внимание на то, что опричнина обрушила свои главные удары на голову княжеской знати и выдвинула на авансцену нетитулованное старомосковское боярство. По случаю татарского набега осенью 1564 года Грозный не включил в московскую «семибоярщину» – некое подобие чрезвычайного правительства – ни удельных князей, ни Шуйских, ни Патрикеевых[873]. Скорее всего, этот факт свидетельствует не о стратегической цели опричнины, а о том, что Захарьины умело пользовались возможностями, которые предоставились им при новых порядках. Фактически Р.Г. Скрынников реанимирует «антикняжескую» версию Платонова. Для того чтобы ниже убедительно ее опровергнуть. Во-первых, оказывается, что более половины казанских ссыльных принадлежали не к боярско-княжеской знати, а к поместному дворянству. Во-вторых, конфискация княжеских вотчин, по мнению исследователя, ослабила, но не подорвала влияние аристократии в Русском государстве, а суздальская знать, кроме того, сохранила среди других привилегий право служить при дворе по особым княжеским спискам[874]. На данное противоречие указывал другой признанный знаток эпохи Грозного А.А. Зимин. «О каком «подрыве» влияния княжат и «подрыве» их экономической мощи может идти речь, когда через год после их высылки в Казань, они были амнистированы и возвращены на старые места?»[875] В.Б. Кобрин также полагал, что «нет оснований считать опричнину переломом в судьбах княжеского землевладения»[876]. А.А. Зимин предложил другую версию учреждения опричнины. По его мнению, нововведение Ивана направлено против наиболее мощных форпостов «удельной децентрализации». В качестве первого такого форпоста он указывает на старицких князей, как единственную реальную силу, могущую противостоять московскому самодержавию. Второй форпост – новгородские помещики и купцы, выражавшие недовольство сокращением своих прибытков после потери самостоятельности Великого Новгорода. Последней силой, противостоящей централизации, по Зимину, является экономический и политический потенциал Церкви. К сожалению, исследователь не расшифровывает, что он подразумевает под «централизаторской политикой» Ивана, потому совершенно не ясно, какие именно «децентрализаторские» грехи он инкриминирует Старицкому дому, Новгороду и Церкви. Старицких князей даже при очень большом желании невозможно представить в качестве реальной силы, противостоящей московскому самодержавию. Другое дело, что князь Владимир Андреевич – реальный претендент на престол, представлял реальную угрозу лично Ивану Васильевичу. Однако этот сюжет не имеет никакого отношения к борьбе централизаторских и децентрализаторских сил, если таковая вообще существовала. В ином случае нам должно быть известно о существовании некоей децентрализаторской программы, которую Владимир Андреевич собирался воплотить в жизнь по восшествии на престол. Нельзя же считать Владимира Старицкого сторонником удельной раздробленности на том формальном основании, что сам он был удельным князем. А стань он самодержавным государем, какую бы политику Владимир взял на вооружение? Новгородские помещики, которых А. А. Зимин записывает в оппозицию, в массе своей были служилыми людьми из центра России, испомещенными на берега Волхова при Иване III и Василии III, и потому они никак не могли ностальгировать по былой новгородской вольности. Остатки независимости Св. Софии носили декоративный характер и не угрожали процессу централизации, что бы под этим ни подразумевалось. За столетие зависимости от Москвы Новгород пережил не одну волну репрессий, и у нас нет свидетельств существования там неких сепаратистских сил во времена Грозного. Русскую церковь также трудно признать оплотом децентрализации, напротив, ее роль в создании единого Российского государства трудно переоценить. Если же церкви удавалось ограничивать самовластие государя, возможность безоглядно распоряжаться жизнью и свободой своих подданных, то это влияние стоило бы признать исключительно благотворным. Исследуя истоки опричнины, А.А. Зимин, очевидно, не различает единодержавиеи единовластие. Следовательно, сопротивление единовластию в трактовке Зимина превращается в сопротивление единодержавию, то есть политике централизации. В этой связи обратим внимание на важный вывод А.Е. Преснякова о том, что «великокняжеская власть, занимаясь собиранием национального государства, искала не только единства, но и полной свободы в распоряжении силами и средствами страны»[877]. Между прочим, сам Грозный не скрывал целей опричнины, заявляя, что отныне он будет править самовластно. Почему-то Ивану не верят, отыскивая в опричнине потаенный смысл. Р.Г. Скрынников отмечает, что при традиционном порядке царь не мог избавиться от опеки Боярской думы, поэтому он решился на государственный переворот, пытаясь утвердить в России самодержавную форму правления[878]. Готовы полностью согласиться с настоящей характеристикой намерений государя, чего, похоже, нельзя сказать о самом ее авторе. С.О. Шмидт также считает, что, учреждая опричнину, царь хотел «защитить свое «вольное самодержавство», оградить себя от всего, что мешало или могло помешать его произвольному правлению». Вместе с тем исследователь нашел для Грозного нового противника в лице «укрепившегося централизованного аппарата». При этом С.О. Шмидт верно замечает, что, стремясь к максимальной абсолютизации своей власти, Грозный оставался в то же время в плену политических понятий, характерных для общественной психологии удельных времен, и, видимо, больше чувствовал себя «самодержцем» в своем «государевом» уделе, чем в Российском государстве[879]. Однако исследователь считает возможным совмещать подобный подход с утверждением (опять же не подкрепленным фактическим материалом), что опричнина была орудием борьбы со «всесильной бюрократией». Упомянутые нами исследователи опричнины, несмотря на несхожесть выводов, сходятся в одном, априори полагая, что программа Грозного нацелена на решение реальных проблем (или устранение реальных угроз), стоящих перед государством. Что бы ни предпринял Грозный, в его действиях непременно изыскивается некое рациональное зерно или даже «прогрессивное» начало. При такой «установке» анализ исторического материала, каким бы добросовестным он ни был, неизбежно превращается в поиск в темной комнате отсутствующей там черной кошки. Между тем еще в середине XIX века звучали веские предупреждения о том, что рациональный подход к изучению эпохи Ивана Грозного ведет в тупик. Комментируя очерк К. С. Аксакова, раскрывшего «художественную природу» политического творчества царя, которая «влекла его от образа к образу, от картины к картине, и эти картины он любил осуществлять», Костомаров утверждал, что писатель «подписал приговор всем возможнейшим попыткам отыскать у Ивана какие-либо определенные идеи, какие-нибудь преднамеренные, неизбежные цели..»[880]. Костомаров, безусловно, поторопился. Спустя пять лет К.Д. Кавелин заметил, что «объективная, предметная сторона вопроса остается по-прежнему очень загадочной». Направление поиска «объективности» К.Д. Кавелин указал вполне конкретно: Грозный, оказывается, «чуял беду и боролся с ней до истощения сил». Историк призвал к поиску «глубоких объективных причин», спровоцировавших преступления Грозного. И сам ее назвал. Дело, оказывается, «в значительном притоке в Великороссию (из Новгорода, Пскова, княжеств литовских..) элементов, чуждых ее общественному складу, не дававших в западной России сложиться государству, и столько же враждебных ему в Великороссии»[881]. На протяжении столетия многие выдающиеся представители нескольких поколений отечественной медиевистики, следуя рецептам Кавелина, искали «объективные причины», а точнее, занимались поиском врагов московского самодержца. Еще в конце XIX века, оценивая труды Кавелина и его последователей, Н.К. Михайловский вынес суровый приговор в адрес апологетов Грозного: «Солидные историки, отличающиеся в других случаях чрезвычайной осмотрительностью, на этом пункте (т. е. в суждениях о Грозном) делают смелые и решительные выводы, не только не справляясь с фактами, им самим хорошо известными, а даже прямо вопреки им, умные, богатые опытом и знанием люди вступают в открытое противоречие с самыми элементарными показаниями здравого смысла; люди, привыкшие обращаться с историческими документами, видят в памятниках то, чего там днем с огнем найти нельзя, и отрицают то, что явственно прописано черными буквами по белому полю»[882]. Отзыв весьма резкий, учитывая, что он исходит не от историка. Однако в середине прошлого века признанный знаток эпохи Грозного С.Б. Веселовский весьма иронически отозвался о своих коллегах, которые оценивают «явления далекого прошлого, не считаясь с фактами, и приписывают царю Ивану такие замыслы, которые, вероятно, никогда не приходили ему в голову»[883]. Театр одного абсурда Не материальный потенциал родовитой знати, не «реакционная» Боярская дума, не призрачная «децентрализаторская» оппозиция и тем более не приказная бюрократия препятствовали тирании Ивана, а в целом весь складывавшийся столетиями строй российской жизни. По меткому замечанию Г. Федотова, за мрачным шутовством опричнины кроется психология бессилия – перед силами традиции, перед вековым укладом, за которым стоят моральные силы народной совести и авторитет православной церкви[884]. Натолкнувшись на пределы самовластья, возводившиеся все годы становления русской государственности, оценив их крепость, Иван принялся искать выход. Двоякость общественной жизни, двоякость системы высшего управления подсказали ему искомое решение. Дьяк Иван Тимофеев уже в начале XVII века указывал на то, что Иван «возненавидел грады земли своя» и разделил их «яко двоеверны сотворил». Другой современник обвинял Грозного в том, что, разделив государство, он заповедовал своей части другую «часть людей насиловати и смерти предавати». Характерно, что С. Ф.Платонов, приводя данные свидетельства, отзывается о них весьма уничижительно[885]. Впрочем, на эту особенность метода исследователя обратил внимание еще Ключевский, который, рецензируя одну из работ Платонова, обратил внимание на претензии последнего к тому же дьяку Тимофееву, который, субъективно обсуждая пережитую эпоху, выходил из роли историка. «… Как будто вдумываться в исторические явления, описывать их, – значит выходить из роли историка: суждение не тенденция, и попытка уяснить смысл явления себе и другим не пропаганда»[886]. Между тем даже эти короткие реплики современников куда точнее раскрывают смысл катастрофы, случившейся в 1565 году, чем фундаментальные изыскания в области «аграрно-классовых» отношений. Россияне – жители земщины – предстали в глазах Ивана в виде «неверных», «бусурман», а опричники во главе с государем выступили в роли радетелей православия и борцов с врагами христианства. Иван действительно «играл Божиими людьми», собственно опричнина – и есть большая игра, прологом которой послужил спектакль с декабрьским отъездом из Москвы. Иван самолично раздал роли: себе – Бича Божия, эдакого нового Атиллы, своим противникам – Божьих супротивников. Опричнина также воспринималась русским человеком как явление враждебное, Грозный в полной мере отдавал в этом отчет, и более того, очевидно, сознательно рассчитывал на подобную реакцию. «Чужак… всегда имел оценочные определения, – отмечает филолог В.В. Колесов. – Собственно именно с подобных оценочных признаков позднее и «снимается» представление о чужом – это диво «чудное», чудо-юдо поначалу, а потом и «странное» (ибо приходит с чужой стороны), а позже еще и «кромешное», ибо таится в «укроме» и «окроме» нас, даже «опричь» нас, т. е. вне нашего мира – кромешная сила, опричное зло («опричники»), которых остерегаются как чужого, странного, кромешного – чуждого»[887]. Грозный и его опричная машина глубоко чужды России и всему русскому, отсюда неизбежность войны на уничтожение и ее крайне жестокий характер. Можно ли найти аналогию этому явлению в российской истории. Немало сходного между Грозным и Петром I. У того были свои опричники – потешные полки, выросшие впоследствии в гвардию. Оба государя были западниками, причем западниками своебразными: они тянулись к европейскому блеску, но при этом относились к западному образу жизни равнодушно или даже враждебно. Оба выдвигали худородных и беспринципных, но преданных людей. Оба были изощренно жестоки, оба любили пародировать и скоморошничать. Правда, Петр был более последователен и удачлив. Если Иван мечтал жениться на иностранке – хоть на королеве Елизавете, хоть на какой-нибудь Марии Гастингс, то Петр женился-таки, пусть его избранницей и оказалась простая ливонская служанка. Если Иван потерял свои завоевания в Прибалтике, то Петр благополучно завершил Северную войну. Если Иван убил сына непреднамеренно в припадке ярости, то Петр хладнокровно уничтожил царевича Алексея. Если Иван так и не достроил опричную столицу в Вологде, то Петр возвел новый город на невских берегах. Сравнения между двумя государями можно было бы множить, однако одно принципиальное отличие делает изыскания в этом направлении бессмысленными. Петр – реалист и практик, пусть и увлекающийся, «вечный работник на троне». Иван – идеалист, он привычно бежит в мир иллюзий, которыми, кроме прочего, руководствуется в практических делах. Он подчиняет реальность умозрительным построениям, действительность – желаемому, совмещает несовместимое. Еще и поэтому таким жестоким и непримиримым становится конфликт между мечтателем Иваном и обществом, живущим «на земле». Как справедливо заметил историк XIX века Бестужев-Рюмин, сравнивая Ивана IV и Петра I: «Государственные практические люди никогда не заходят так далеко, как отвлеченные теоретики»[888]. Князь Курбский обвинял Ивана в том, что тот – «хороняка и бегун». Действительно, Иван все время бежит: он настоятельно просит у Елизаветы убежища в Англии, укрывается в Александровой слободе, строит столицу-убежище в Вологде. Иван сам гонит себя и сам же от себя скрывается. Грозный уединяется в Слободе, как в детстве уединялся в книжном мире. Ему по-своему уютно в этом образе гонимого скитальца. Он примиряет эту личину и при учреждении опричнины, и много лет спустя – в 1572 году, составляя духовную грамоту, он вновь видит себя принужденным странствовать по дальним странам. Подобный эскапизм – бегство не от реальной угрозы, а скорее от реальной жизни. Но, если столкновение с ней неизбежно, Иван объявляет реальности войну. Когда Грозный с возмущением пишет о боярских претыканиях, он почти искренен: он решительно не понимает, как можно супротивничать земному богу. В первом своем послании Курбскому Грозный почти искренне возмущен тем, что князь предпочел бегство и жизнь гибели от руки своего законного государя[889]. Иван не способен примириться не с боярами, а со всей существующей системой ценностей, сложившимся миропорядком, самой Россией. Казалось, идеалист обречен на поражение. Однако именно взгляд со стороны, взгляд «беглеца» помогает распознать и силу, и уязвимые места «мира сего», помогает ему понять его лучше, чем иным знатокам жизненной правды. То обстоятельство, что он живет по другим, отличным от общепринятых законам, играет по своим правилам игры, помогает ему одерживать верх, как это случилось зимой 1564/65 года. Если искать последователей Ивана на российском престоле, то на эту роль лучше подходит не Петр, а его правнук Павел. После прагматичного полувекового женского правления, «романтический наш государь» стремился воплотить в жизнь представления об идеальном самодержавном государстве, об идеальном политическом строе, которые складывались в его сознании за долгие годы унижений и вынужденного прозябания. «Малый двор» в Павловске, гатчинское войско, эпопея с Мальтийским орденом – яркие проявления того же эскапизма, отголоски опричнины, попытки создать параллельный мир, отвечающий взглядам на искомое устройство государства и общества, некую корпорацию избранных. Глава Ордена Павел – тот же игумен псевдомонастыря; Михайловский замок – Александрова слобода Павла, который ищет убежища, чтобы укрыться от мира, отторгающего навязываемые ему благодеяния. Одна из современниц Николая I назвала его «Дон Кихотом самодержавия». Эта характеристика подходит и для его старшего брата Александра, и еще в большей степени – для их отца. «Дон Кихотом» называл Грозного И. Забелин. Как и герой Сервантеса, Иван свое умонастроение почерпнул из книг. «Воспитанный этими (библейскими. – М.З.) сказаниями, новый царь не сомневался в своем призвании без пощады истреблять врагов, где бы они ни появились… Это была истина старозаветная у всех народов древности, но в библейских сказаниях она являлась истиной религиозной и потому в сознании молодого царя получала особую святость»[890]. Подобно Дон Кихоту, Павел и Грозный неистово верили в свое высшее предназначение и готовы были сражаться за него. В свое время Иван Грозный, по словам Антонио Поссевино, вознамерился «казаться чуть ли не первосвященником и одновременно императором». Спустя два столетия Павел I воплотил намерение Грозного в законодательстве, провозгласив себя верховным попечителем православной церкви. Иногда Иван и Павел совпадают не только в устремлениях, но и в терминологии. Павел, как и Иван, отделяет царские земли от государственных, учреждая Департамент уделов. Еще более значительным кажется другое совпадение. Известен заинтересовавший в свое время Пушкина эпизод из павловских времен: некий дворянин, завидев приближающийся императорский эскорт, счел благоразумным спрятаться от греха подальше за забором. Ставший свидетелем этой ретирады простолюдин прокомментировал ее следующим образом: «Вот-ста наш Пугачев едет!»[891] Политический инстинкт подсказал мужику, что император Павел – такой же мятежник, такой же бунтовщик против существующего порядка, как и Емельян Пугачев. Учреждение опричнины – тот же мятеж, о чем крайне точно и емко выразился современник: «словно страшная буря перевернула разум царя, освободила нрав его свирепый, и стал он мятежником в собственном государстве». Но при этом Иван по природе был своей жесток и коварен, в то время как Павел добросердечен и благороден. Потому одному было предназначено стать жертвой, а другому – палачом. Глава 15 АНТИ-РОССИЯ Прежде страшного и грознаго твоего, ангеле, пришествия умоли о мне, грешнем, о рабе, твоем, имярекъ. Возвести ми конец мой, да покаюся дел своих злыхъ, да отрину от себе бремя греховное. Далече ми с тобою путешествати, страшный и грозный ангеле, не устраши мене, маломощного. Дай ми, ангеле, смиренное свое пришествие и красное хождение, и велми ся тебе возрадую. Напои мя, ангеле, чашею спасения! Два Иоанна В день Иоанна Предтечи 24 июля 1534 года, когда в Великом княжестве Московском шел первый год правления Ивана IV, за тысячу верст от Москвы в германском Мюнстере бывший подмастерье портного и странствующий актер Ганс Боккольд, к тому времени более известный как Иоанн Лейденский, был единодушно провозглашен горожанами «Христом царем». ..Мюнстерская эпопея началась в феврале того же года, когда власть в городе захватили приверженцы секты анабаптистов. Это религиозное движение получило наибольшее распространение в Нидерландах, но после того, как там сектантов начали преследовать, они перебрались в Мюнстер. Анабаптисты, или Второкрещенцы, призывали ко второму огненному крещению, которое, по их мнению, являлось дверью в Третье Царство, в Царство Духа, Царство Апокалипсиса. Властитель Вестфалии Франц фон Вильдек осадил мятежный город, но занять его удалось лишь спустя ровно год после провозглашения Боккольда-Иоанна «Христом Царем»[892]. Анабаптистское царство Иоанна Лейденского многими своими чертами поразительно напоминает российскую опричнину Иоанна Московского, а Манстер тех лет – Александрову слободу. Подчинив себе город, второкрещенцы выгнали всех «неверных», предварительно ограбив их до нитки. Часть изгнанных погибла от лютой стужи. «Изгнаны будут сыны Исава: да воцарятся сыны Иакова», – приказал Иоганн. Московский царь, учредив в своем государстве «двоеверие», казнил или ссылал «неверных», конфискуя их имущество. В Полоцке он казнил евреев, «велел их и с семьями в воду в речную вметати», так как те отказались принять крещение. Знаменательный эпизод – ни до, ни после Иоанна никто на Руси не принуждал иноверцев силой оружия изменять свое исповедание, а тем более не карал смертью в случае отказа. Один только Грозный верил в то, что на него возложена подобная миссия. Двух Иоаннов – Московского и Лейденского сближало сознание того, что они суть орудия самого Господа, который даровал им власть и силу для того, чтобы карать грешников и вести за собой «верных». У Иоанна Лейденского был свой Малюта Скуратов – некто Книппердоллинг, «палач Христов», который с двумя подручными ходил по городу и убивал подозрительных ему людей без суда и следствия. Впрочем, в Мюнстере убийцей мог стать каждый. Однажды Иоганн велел привязать к деревьям и расстрелять недовольных его правлением. «Кто сделает первый выстрел, окажет услугу Богу», – объявил «царь Христос». А опричники Таубе и Крузе недоумевали по поводу того, что для совершения убийств царь не использует ни палачей, ни слуг, а только опричных «святых братьев». После падения Мюнстера плененного «царя» допрашивал епископ, и между ними состоялся следующий примечательный диалог. «Кто дал тебе власть?» – спросил епископ Иоганна. «А тебе кто?» – спросил тот, в свою очередь. «Весь народ и капитул». – «А мне – сам Бог!» Не правда ли, ответ мюнстерского самозванца весьма напоминает пафос посланий Грозного европейским монархам. «Ты государь, аки Бог», – писал из крымского плена опричник Василий Грязной. На эту черту Грозного на Руси давно обратили внимание. В Новгороде в конце 50-х годов был составлен список византийского «Слова о Дариане царе, како ся (себя) велел звать Богом». По мнению С.О. Шмидта, «Слово..» перекликалось с событиями современной политической жизни и могло использоваться определенными кругами в общественно-политической борьбе. Исследователь в этой связи вспоминает укоры Курбского в адрес Грозного, который «…от преизлишнего надмения и гордости, мнящеся о собе мудр всеа вселенныя учителем быти». На претензии Дариана один из призванных им философов отвечает «Яко хочешися зватися богом, да выступиши ли от всея вселенныа и тако возовешись богом». Философы не только развенчивают непомерные претензии царя, но и указывают ему на неминуемое возмездие. Один из них напоминает Дариану слова пророка Иеремии: «..бози не сотвориша ни на небесе, ни на земле, да погибнут, аще ты, царю, хощеши зватися богом, то погибнеши взовися богом»[893]. Творя свой неправый суд, земные боги сеяли вокруг поругание и погибель. Одного из жителей Мюнстера, заподозренного в неуважении к «пророкам», Иоганн ударил алебардой со словами: «Мне дана сила от Господа, чтобы моей рукой был поражен всякий, кто противится приказам Господа!». Опричники считали, что изменников наказывает Бог, а не государь. Оба Иоанна любили трапезничать с верными. Иван в Слободе после утренней службы собирал опричников на трапезу и читал им нечто душеспасительное, а иногда певал «Символ веры Св. Афанасия» и другие молитвенные песни. В Мюнстере были учреждены общие трапезы, где братья с одной стороны и сестры – с другой, вкушали еду, слушая проповедь или главу из Писания. Оба Иоанна время от времени развлекались за трапезой, собственноручно карая изменников. Однажды жители Мюнстера были званы на пир к Царю, который сам угощал присутствующих. Подражая Христу, Иоганн разломил большие пшеничные хлебы на множество кусочков и раздавал их присутствовавшим. Потом все запели: «Слава в вышних Богу и Христу Царю на земле». Один из сотрапезников не понравился Иоганну и «царь Христос» отрубил ему голову, заявив, что это был Иуда. Иоанн Московский убил жезлом игумена Псково-Печерской лавры Корнилия, потому что царю показались подозрительными сильные укрепления монастыря. В Мюнстере анабаптисты разоряли монастыри и церкви как оплоты «блудницы Вавилонской» – ненавистной католической церкви, Иван разорял Божьи обители и убивал монахов в Твери, Пскове и других русских городах безо всяких причин. Расправы по самым разным поводам происходили в Мюнстере ежедневно. Например, 3 июня 1535 года казнили пятьдесят два человека, 5-го «всего» троих, 6 и 7-го – по восемнадцать. Грозный в течение двух недель, если исходить из содержания царского синодика, «отделал» полторы тысячи новгородцев. Жертвам Ивана отрубают головы (П. Куракин), их сажают на кол (князь Борис Тулупов), рассекают живьем на куски (И.Висковатый), забивают палками (Юрьев), вешают (П. Горенский), задирают медведями, травят собаками (архиепископ Леонид), жарят на специально выкованной для этих целей сковороде (князь-инок Пимен Щенятев), обливают попеременно ледяной водой и кипятком (казначей Фуников), потчуют ядами, травят дымом (Евдокия Старицкая), закалывают ножами (И. Федоров), расстреливают из луков или пищалей (пленные татары в Торжке), пронзают пиками (глава Разрядного приказа Иван Выродков), топят в воде (полоцкие евреи и жители Новгорода), душат (Св. митрополит Филипп), взрывают на бочке с порохом (воевода Казаринов-Голохвастов), сжигают в клети (дворовые боярина Федорова), живьем сдирают кожу (жертвы московских казней 1570 года) – до такого творческого разнообразия немцам было далеко. Способ иных Ивановых расправ невозможно описать одним словом. Например, воеводу Ивана Куракина раздели донага, привязали к тележке и прогнали через рынок шестью проволочными плетьми, которые перерезали ему спину, живот и внутренности. Конюший Иван Обросимов был повешен голым на виселицу за пятки вниз головой, и палачи резали его тело на маленькие кусочки. Иоганн Лейденский и Иван Московский устраивали спектакли с отречением. Так, Боккольд после очередного грандиозного пиршества вдруг сообщил, что складывает с себя царскую власть. Но тут один из приближенных возвестил, что Господь призывает Иоганна оставаться царем и покарать неверных. Как мы видим, и в Мюнстере, и в Москве цель «отречения» заключалась в том, чтобы еще более усердно и жестоко расправляться с неугодными. Еще одна общая черта: опричник Грозного обязан был отречься от родителей, он не должен был общаться с земскими. «Пусть никто не думает ни о муже, ни о жене, ни о ребенке. Не берите их с собой, они бесполезны Божьей общине», – призывали пропагандистские издания анабаптистов.  Казни Ивана Грозного
В России земский был беззащитен перед опричником, любой предосудительный с точки зрения религии или обычая поступок опричника в отношении жителя земщины был оправдан в глазах государя. В России Грозного расцвело доносительство. Наветы использовались, чтобы отделаться от недруга, от кредитора, завладеть добром соседа. В Мюнстере, где было объявлено об обобществлении имущества, две бесноватых пророчицы доносили на утаивших свое добро, и ослушников тут же на месте казнили. По примеру ветхозаветных патриархов, второкрещенцы учредили в городе многоженство. Начался дележ женщин, сопровождаемый насилием и самоубийствами. Время от времени власти устраивали публичные казни непокорных жен. Сам Иоганн подавал пример «верным». Свою супругу, усомнившуюся в том, что новоявленный «царь Христос» действует по воле Божьей, он притащил на рыночную площадь, отрубил ей голову, и, топча ногами труп, кричал: «Это была девка продажная; она меня не слушалась!» После этого Иоганн пустился в пляс, а за ним и весь собравшийся вокруг народ. Впрочем, у мюнстерца было семнадцать жен. Хотя Грозный не мог похвастаться подобным гаремом, его семь жен были неприкрытым вызовом православным канонам и народным обычаям, представлению о христианской семье. Но многоженство Ивана – невинная шалость в сравнении с его прочими поступками. Изощренные издевательства над девицами и замужними женщинами московского царя хорошо известны. Потому, когда Грозный назидательно пишет протестантскому пастору Яну Роките: «Избегайте прелюбойдейства, ибо всякий грех, что творит человек, вне тела, а творящий прелюбодеяние в своем теле согрешает», мы можем в полной мере оценить чудовищное лицемерие монарха[894]. Кромешники Патологические выходки роднят тиранов всех времен и народов. Нас же интересует глубинное сходство таких явлений середины XVI века, как российская опричнина и мюнстерская коммуна. И. Р. Шафаревич, анализируя деятельность религиозных сект, в том числе и анабаптистов, отмечает, что они призывали не к улучшению церковной организации или мирской жизни, а к полному уничтожению католической церкви, к тотальному разрушению тогдашнего общества, а до тех пор, пока такой возможности не предоставлялось, – к уходу от мира, его враждебному игнорированию. «Требование уничтожения частной собственности, семьи, государства и всей иерархии тогдашнего общества имели целью выключить участников движения из окружающей жизни и поставить во враждебные, антагонистические отношения к „миру“, — отмечает И. Шафаревич[895]. Именно эту цель преследовала опричнина. Опричник изымался из взрастившей его среды, включался в новую искусственную структуру, враждебную как государству (земству), так и обществу (миру). В Александровой слободе Иван устроил пародию на монастырь, в котором сам царь был «игуменом», «келарем» – князь Афанасий Вяземский, «пономарем» – Григорий Вельский, более известный как Малюта Скуратов. Уже ранним утром «братья» должны были участвовать на богослужении. Опричные «иноки» носили монашеские рясы, под которыми, правда, скрывались богатые одежды. Под личиной травестии скрывался вполне конкретный смысл. Монахи, которым уподоблялись опричники, с православной точки зрения – непогребенные мертвецы, люди, отрекшиеся от «мира сего», умершие для него, но в данном случае не ради служения Богу, а ради служения богочеловеку – московскому «царю Христу». В опричном варианте «монахи» Грозного отрекались от мира, под чем подразумевался весь народ православный, отрекались от своей Родины и соотечественников. Как заметил A.M. Панченко, каждый опричник не сомневался в том, что он погубил свою душу[896]. Полностью подчинившись царю земному, он уже не опасался Высшего суда. Для него оставался один путь – разрушение существующего миропорядка. Опричнина вносила соблазн и смуту в душу отдельного человека и народа в целом. Костомаров напоминает, что иностранцы, наблюдавшие опричнину, замечали: «Если бы сатана хотел выдумать что-нибудь для порчи человеческой, то и тот не мог бы выдумать ничего удачнее»[897]. Опричнина, если сформулировать ее суть одним словом, – это Анти-Россия. «Царь возненавидел грады земли своея», – писал дьяк Иван Тимофеев. Публицист XVII века Григорий Котошихин отмечал, что Грозный «пленилподданных своих, единоверных християн, и многи мучителства над князи, и боляры своими, и простыми людми показа»[898]. То есть царь не просто правил страной «тиранским обычаем», но поступил с собственным народом, как с населением захваченной страны, с христианами – как с иноверцами-бусурманами. Грозный вел войну с Россией по трем направлениям: с семьей – через отречение опричников от родных, через надругательство над супружескими узами; с частной собственностью – через ограничение владельческих прав, конфискации, грабежи, бесконечную ротацию землевладельцев и землевладений; и, наконец, с государством – через его расчленение. Л.Н. Гумилев считал, что в опричнине мы в чистом виде сталкиваемся с антисистемой. Антисистемный характер мироощущения опричников выразился не только в их поведении, но даже в терминологии. «Старинное русское слово „опричь“, то есть „кроме“, дало современникам (Курбскому. – М.З.) повод называть сторонников Грозного кромешниками, а слово это имело вполне определенный натурфилософский смысл. …В представлении христианина … ад – «тьма кромешная»… пустота, вакуум, в котором нет ничего материального, тварного. …Значит, кромешники – это люди, одержимые ненавистью к миру, слуги метафизического абсолютного зла»[899]. Сам внешний вид опричников недвусмысленно говорил о том, посланниками какой силы они являются. Они «тьмообразны», как адское воинство, одеты с головы до ног в черное и ездят на вороных конях. Как известно, царские слуги приторачивали к седлам собачьи головы и метлы. Традиционное объяснение этой экипировки состоит в том, что атрибуты опричников символизировали их усердие в борьбе с врагами государевыми – они должны были выметать измену из страны и кусать царевых недругов. Но снаряженные таким образом всадники должны были производить куда более многообразное впечатление на россиян середины XVI века. Начнем с того, что метла – непременная принадлежность ведьм и ведьмаков. По народному поверью, ведьмы могли превращаться в животных, становиться оборотнями. Так «ведьма» Марина Мнишек превратилась в сороку[900]. Чаще всего оборотни принимали вид волка либо собаки. Известный исследователь славянского фольклора А. Потебня пришел к выводу, что змей, волк или ведьма – разные трансформации одного враждебного жизни явления. Другой его формой является ведьма Мара, ездящая на людях, обращенных в лошадей, либо на настоящих лошадях. Само слово Мара относится к корню мри, от которого происходит слово сьмрътъ и другие сходные слова с тем же значением или со значением страдания и болезни. То есть внешний вид опричников слагался из недвусмысленных признаков врагов рода христианского и пришельцев из потустороннего мира, несущих гибель и мучение православным[901]. Кроме того, оборотней-волкодлаков (что означает буквально «волчья шкура») языческие поверья относили к жреческому сословию. А. Рыбаков полагает, что «облакогонители» – представители одного из высших разрядов волхвов являлись людям в волчьем обличии, ряжеными[902]. Значит, собачья (сиречь волчья) голова, притороченная к седлу опричника – примета его принадлежности к избранной касте, знак сверхъествественных возможностей. Впрочем, Грозного могла привлекать другая аналогия. Опричник должен был уничтожать государевых врагов. В русской мифологии волку, задирая скотину, волк действует не по своей, а по Божьей воле[903]. Так и опричник, убивающий супротивников царя, – лишь орудие в руках Бога земного. Наконец, стоит отметить, что собака – социальная и корпоративная примета юродивого, символический признак отчуждения. Казалось бы, какая связь между опричником и юродивым? На наш взгляд, связь самая непосредственная. Как отмечает A.M. Панченко, активная сторона юродства заключается в обязанности «ругаться миру», обличая грехи сильных и слабых[904]. Юродивый, будучи отчужден от общества, выступает его судьей. Вот и опричник, отрекшийся от семьи, порвавший все родственные и социальные связи, становится не только судьей, но и палачом, юродивым «антихриста ради». Суд Антихриста По мнению A.M. Панченко, Грозный сознательно придал своим слугам обличье адских прислужников. Если царь подобен Богу, то опричники – бесам. Это должно было напоминать, что на том свете наказание определяет Бог, а осуществляют его сатана и бесы. На этом же свете кару назначает царь, а в качестве палачей выступают опричники-кромешники[905]. Подобный параллелизм, надо сказать, характерен для отношения москвичей к власти. Сильвестр в своем «Домострое» говорит следующее: «Если земному царю правдою служишь и боишься его, научишься и Небесного Царя бояться: этот временный, а небесный вечен, и Судия нелицемерный, каждому воздаст по делам его»[906]. Однако у Грозного царский суд не уподобляется Высшему, не является его проекцией на земле – он фактически предуведомляет его. Иван лишь оставляет Богу право довершить начатую им расправу. На словах Грозный исполнен смирения и покорности перед волей Всевышнего, но его деяния недвусмысленно свидетельствуют о том, что надежда смертного на высшую справедливость тщетна, все во власти земного царя. «Грозный презрел Христову заповедь: «Мне отмщение, и Аз воздам», а свои мучительства, свою ярость кощунственно отождествил с «чашей ярости Господней, – отмечает А.Панченко. – Это поистине религия силы, это земной ад»[907]. Идеология Ивана Грозного, наиболее ярко и полно реализованная в опричнине, – это религия царства земного. Грозный в своем первом послании Курбскому укоряет князя за то, что тот «презирает» Божьи кары за человеческие грехи на этом свете: «Я же знаю и верю, что тем, кто живет во зле и преступает Божьи заповеди, не только там мучиться, но и здесь суждено испить чашу ярости Господней за свои злодейства и испытать многообразные наказания, а покинув этот свет, в ожидании праведного Господнего суда, претерпят они горчайшее осуждение, а после осуждения – бесконечные муки. Так я верю в Страшный суд Господень»[908]. Грозный уверен, что сперва грешник претерпевает наказание на земле, а затем только следует его осуждение на небесах. Но кто решает до Господа и за Господа – грешен или праведен человек, и кто осуществляет наказание на этом свете – о сем Иван красноречиво умалчивает. За него говорит эпитафия на могиле печорского игумена Корнилия, убитого царем, гласившая: «Предпослал царь земной Царю небесному». Вспоминается и другой отрывок полемики между Курбским и Грозным, в котором беглый князь укоряет царя за то, что тот погубил «сильных во Израиле». В ответ на это царь заявляет следующее: «А сильных во Израиле мы не убивали, и не знаю я, кто это сильнейший во Израиле, потому что Русская земля держится Божьим милосердием, и молитвами всех святых, и благословением наших родителей, и, наконец, нами, своими государями, а не судьями и воеводами, не ипатами и стратигами»[909]. Сначала Грозный говорит, что расправ над «сильнейшими во Израиле» вовсе не было, потом – что он не знает, кого подразумевает Курбский под «сильнейшими», однако из дальнейших его слов становится ясно, что царь прекрасно понимает: речь идет об «ипатах и стратигах». Истинное умонастроение Ивана проявляется в обширной библейской цитате, приведенной им двумя страницами выше: «О горе сильным во Израиле! Не утихнет гнев мой против врагов моих, и суд мой над врагами своими свершу, и воздвигну руку мою на тебя, и выжгу всю нечистоту, неверующих же погублю, и отторгну всех беззаконников от тебя, и всех гордецов смирю»[910]. Грозный явно уподобляет себя Саваофу, а своих врагов – «беззаконникам», хотя и «стесняется» признаться в этом Курбскому. Грозный подражал и архангелу Михаилу, даже сочинил канон, посвященный этому святому, который не только «царственный ангел», но и «ангел смерти». По замечанию A.M. Панченко, в культе Небесного архистратига перемешаны светлые и черные стороны: «Он почти на границе добра и зла. Борясь за добро, он часто бывает яростен; иногда он бесцельно жесток. Он карает, убивает, сечет розгами, уносит смерчем, поражает молнией. Это гневный Бог и святой Сатана»[911]. Современники Ивана и, очевидно, сам царь представляли Михаила грозным судией. В сказаниях и песнях Архангел выступал для душ усопших праведников в роли перевозчика через огненную реку в рай. Иное дело – грешники, которым приходится умолять неумолимого судью о помощи. О свет, грозен, наш Михайло, судья праведная Перевези ты нас церезь огненну реку, Церез огнену реку да ко пресветлому раю Возьми с нас злата и серебра, И силья наши имения и богатство! Отвечал им Михайло судья праведная: Ах вы грешные, беззаконные рабы! На что же вы ко мне приближаетесь И золотой казной своей спосуляетесь? Не надобно нам ваше золото, серебро, Ни силья, ни именья, ни багатетства. Небесный Архистратиг предлагает грешникам самим искать брод через реку, однако те не находят его и предаются отчаянию. Тогда Михаил Архангел велит ангелам и архангелам «брать прутья железные и гнать злых-окаянных через огненную реку», в водах которой грешников ждет гибель[912]. Перед нами будто бы разворачивается картина погрома, учиненного Иваном в Новгороде, а массовое потопление горожан в Волхове представляется инсценировкой расправы св. Михаила над грешниками. Подобно Архангелу, Грозный казнил свою жену Марию Долгорукую, которая вместе с санями была спущена под лед. Новобрачная якобы не сохранила невинности для царственного супруга, за этот грех и постигла ее кара неумолимого судии. Впрочем, в случае с Марией Долгорукой Иван, очевидно, пародировал и народное представление о браке как о переправе через водное препятствие. Неудачная свадьба закончилась неудачной «переправой»[913].  Бесы волокут грешников в ад
Иван не только все решает за Бога, но и, насколько это возможно, старается помешать Ему изменить вынесенный земным царем вердикт. И Курбский, и опричники Таубе и Крузе свидетельствуют, что многие убийства по указанию Грозного совершались внезапно, в самый неожиданный для жертвы момент – в суде, в приказе, на улице или на рынке. Иван прекрасно помнил слова Св. Писания о том, что «день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба…» (I Фес., 5, 2 – 3). Внезапная расправа лишала жертву возможности покаяться, получить отпущение грехов и тем самым облегчить свое предстояние на Вечном судище Христовом. Но Грозному и такое наказание казалось недостаточным. По народному поверью, чтобы восстать в Судный день, должны сохраниться хоть какие-то телесные останки человека. Об этом возвещал пророк Иезекииль: «бысть на мне рука Господа, и изведи мя в дусе, и постави мя посреди поля; се же бяше полно костей человеческих. И рече ко мне: сыне человечь! Прорцы на кости сия, кости сухия, слышите слово Господне, се глаголет вам Господь: се Аз, введу в вас дух животен, и дам на вас жилы, и возведу на вас плоть и простру по вам кожу, и дам вам дух Мой в вас, и оживите, и увидите, яко Аз есмь Господь» (Иез. 37, 1 – 7). Сам Грозный верит в «Страшный суд Господень, когда будут приняты души человеческие с тепами, с которыми совместно творили.»[914]. И вот, чтобы не допустить воскрешения, казненного запрещали погребать в земле, его тело разрубалось на куски и делалось добычей птиц, собак и диких зверей. Наконец, как показало изучение монастырских книг и синодиков, ни царь, ни родственники казненных за редким исключением не делали вкладов за упокой их души, тем самым на том свете их души лишались заступничества и предстательства со стороны церкви[915]. Между тем церковное предание влагает в уста умерших следующие слова: «… зяща ми и безгласна и бездыханна, восплачите обо мне братии и други, сродницы и знаемии…» Православная церковь учит, что один вздох скорбящего и молящегося сердца, едва слышимый в жизни земной, как гром раздается в жизни небесной, где сила спасительных таинств ощущается полнее[916]. Примечательно, что, когда Курбский указывает царю на его грехи, Грозный напоминает тому агиографический рассказ о монахе, осудившем своего умершего собрата за пьянство и блуд. Во сне инок увидел себя на пороге райских врат и услышал голос Иисуса: «Не это ли антихрист, присваивающий себе мой суд?» Иван укоряет князя за отсутствие милосердия к падшим (!) и напоминает своему оппоненту, что «тем более пострадают те, которые совершают много нечестивых дел, и присваивают себе право на Божий суд..»[917]. Выходит, Грозный вполне осознает, что осуждающий заслуживает большего наказания, чем грешник, однако уверен в том, что на него этот закон не распространяется. «Я знаю, что истинный Бог наш Христос – противник гордых гонителей, – пишет Грозный. – Станем рассуждать, кто из нас горд: я ли, требующий повиновения от рабов, данных мне от Бога, или вы, отвергающие мое владычество, установленное Богом…»[918] А.Л. Юрганов пришел к выводу, что Грозный счел себя одним из главных героев апокалипсических пророчеств и нашел оправдание всем своим действиям, в том числе и преступным, читая «Житие Андрея Юродивого»[919]. Последнее произведение – памятник византийской литературы, автором которого считается константинопольский монах Никифор (X в.). (Любопытно, что славянский перевод «Жития..» был опубликован в Великих Четьях Минеях митрополита Макария[920]). Главный персонаж произведения христианский подвижник и аскет Андрей (V в.) рассказывает ученику о кончине мира. По его словам, во дни «последнего царя» не будет больше не притесняющих, ни притесняемых, потому что он с помощью страха заставит сынов человеческих быть благоразумными, а преступников из знати смирит и предаст смерти[921]. Грозый убежден в том, что сам Бог вверил в его власть рабов, коих он волен казнить и миловать. Поэтому беглец Курбский не только изменил царю, а «против Бога восстал», поставил себя вне христианства, а значит, после смерти по нему не должны совершаться заупокойные службы[922]. Как видно, Иван не боится выносить самые страшные приговоры и заклятья, и тем самым уподобляться антихристу. Но противники Ивана рассматривали его не как «последнего царя», а как самого Антихриста. Чтобы обосновать такой вывод, Андрей Курбский проследил генезис царя-Антихриста, начиная от его предков, сообщая «как посеял дьявол скверные навыки в добром роде русских князей». Князь рассказывает историю развода и пострижения Саломонии Сабуровой, женитьбы Василия III на Елене Глинской, чему пытался воспрепятствовать добродетельный Вассиан Патрикеев, сравниваемый автором с Иоанном Крестителем. «Так зачат был наш теперешний Иван, и через попрание закона и похоть родилась жестокость…» – резюмирует Курбский[923]. Писателю было хорошо знакомо эсхатологическое учение о приходе в мир Антихриста. Курбский переводил труды Иоанна Дамаскина, много размышлявшего о конце мира. Дамаскин учил, что «..не сам диавол сделается человеком, подобно тому, как вочеловечился Господь, – да не будет! Но родится человек от блудодеяния и примет на себя все действования сатаны; ибо Бог, предвидя будущее развращение его воли, допустит диаволу поселиться в нем»[924]. Предположение византийского богослова о том, что Антихрист «родится убо от блуда», стало отправной точкой «Истории князя Московского», сочиненной Курбским. Для Курбского Русь оставалась единственной страной, сохранившей истинную христианскую веру, «изрушившуюся» в остальном мире, и поэтому ее гибель представлялась писателю катастрофой вселенского масштаба, а разрушительные деяния Грозного приобретали эсхатологический смысл. «Изолгание бытия» Россия не раз переживала потрясения, которые современникам виделись предзнаменованием гибели или перерождения всей человеческой цивилизации. Вскоре после Октябрьской революции философ Н. Бердяев напишет: «Личина подменяет личность. Повсюду маски и двойники. Изолгание бытия правит революцией. Все призрачно..Нигде нельзя нащупать твердого бытия, нигде нельзя увидеть ясного человеческого лика»[925]. В опричной революции 1565 года ярко проявилась страсть Грозного к скоморошеству и травестии. Как известно, православная церковь крайне отрицательно относилась к игрищам и представлениям скоморохов. В них виделись не только отзвуки язычества прежде всего осуждалась попытка человека изменить, отречься, пусть понарошку, пусть на время, от данного Богом облика. Лицо – не просто главный элемент внешности, это знак личности христианина, изменить лицо – значит стать другим человеком, изменить данному в Святом Крещении имени, отречься от своих грехов и добродетелей. «Утрата целостного «я» есть утрата лица, его благодатной возможности стать ликом (как и положено было в промыслительной судьбе человека богоподобного существа). Лицо обращается в маску..»[926] И эти маски Иван беспрерывно меняет. Как замечает Д.С. Лихачев, в своих посланиях царь постоянно играет какую-либо роль: «Грозный предстает перед нами величественным монархом и бесправным подданным… безграничным монархом и униженным просителем… духовным наставником и грешным иноком.» При этом Д. С. Лихачев подчеркивает, что Грозный был искренен даже тогда, когда впадал в скомороший тон: «Это было актерство азарта, а не притворство из расчета»[927]. Это важное наблюдение, из которого выходит, что лицедейство Грозного – не прием, не уловка, а прямое проявление его натуры, в которой слиты игра и реальность. Царь и великий государь Иван Васильевич примерял не только разные лики, но и имена. Он и Парфений Уродивый, автор канона Архангелу Михаилу, он же Иванец Васильев или Ивашка Московский. Так Грозный подписывал грамоты «царю» Симеону Бекбулатовичу – крещеному татарскому царевичу, которого Иван посадил на великое княжение осенью 1575 года. Власть новоявленного государя была номинальной, проявлялась она лишь в тех случаях, когда Иван мог полицедействовать. Например, Грозный подает Симеону челобитные, где униженно просит Симеона указать «как нам своих мелких людишок держати.». Симеон передвигался в царском поезде, в то время как Иван довольствовался простым возком. Если опричнина, к тому времени отмененная, являлась пародией на удельное княжество, то царство Симеона Бекбулатовича – пародией уже на саму опричную систему. Грозный взял себе в удел Псковскую землю и переехал в опричный дворец на Арбате, а Симеон, став руководителем земщины, остался в Кремле. Вновь обособившись от России, Грозный переиначил на новый лад порядки, характерные для ордынского ига, когда власть русского удельного князя зависела от благорасположения золотоордынского хана. Наконец, поставление Симеона – демонстрация неограниченных возможностей царя, способного воздвигать из камней чад Авраамовых, из татарского царевича – правителя России. Не мудрено, что высокий полет фантазии Грозного не смог оценить сугубый материалист Платонов, который с раздражением заметил о воцарении Симеона, что «это была какая-то игра или причуда, смысл которой неясен, а политическое значение ничтожно»[928]. Спустя несколько месяцев «игра» в царя Симеона Бекбулатовича надоела Ивану. По наблюдению Д.С. Лихачева, «свою игру в смирение Грозный никогда не затягивал. Ему важен был реальный контраст с его реальным положением неограниченного властителя. Притворяясь скромным и униженным, он тем самым издевался над своей жертвой. Он любил неожиданный гнев, неожиданные внезапные казни и убийства»[929]. В сентябре 1568 года Иван позвал во дворец одного из виднейших представителей Думы Ивана Федорова, заставил его облачиться в царские одежды и сесть на государев трон. Затем начался спектакль – Иван преклонил перед боярином колени и заявил: «Ты имеешь то, чего искал, …вот ты ныне великий князь, радуйся теперь и наслаждайся владычеством.» Грозный играл и за Федорова, который, разумеется, и в мыслях не имел занять московский престол, и за себя, представляясь жертвой боярского заговора. Развязка была кровавой: Грозный самолично заколол Федорова ножом, труп боярина протащили за ноги по всему Кремлю и бросили посредине Красной площади. Иван не мог отказать себе в удовольствии поюродствовать даже после катастрофического для России набега Девлет-Гирея в 1571 году. Когда в Москву прибыли крымские послы требовать у царя дань, Грозный «нарядился в сермягу бусырь да в шубу боранью», тем самым показывая, что у него хану «дати» нечего. Склонность к лицедейству появилась у Ивана еще в юности. В лагере под Коломной летом 1546 года Иван развлекался игрой в «покойника». Она представляла собой пародию на обряд церковных похорон – устанавливался гроб с покойником и проходило отпевание, состоящее из самой отборной брани[930]. Переход от поминовения усопших к надругательству над обрядом характерен для языческих ристалищ. Как констатировали в 1551 году составители Стоглава, «в троицкую субботу по селом и по погостом сходятся мужи и жены на жальниках (поминках. – М.З.) и плачутся по гробом умерших с великим воплем. И егда начнут играти скоморохи во всякие бесовские игры, они же от плача преставше, начнут скакати и плясати и в долони бити и песни сотонинские пети…»[931] Перед нами языческая по корням своим и антихристова по современной сути пародия на христианскую эсхатологию. Участники обряда отождествляют себя с умершими, а после «воскресают», изгоняя смерть плясками и непотребными словами и празднуя «воскресение». Им не нужен Бог, так как они «воскресали» без его помощи. И тогда же, в юности, скоморошество Ивана тесно переплеталось с насилием. 21 июля 1546 года Иван приказал учинить расправу над князем Кубенским и дворянами Воронцовыми. Особенно поразило современников то, что бояр перед смертью лишили причащения – «а отцов духовных у них перед концем не было»[932]. В это время перед шатрами на виду у войска происходила «потеха»: ходил на ходулях, наряжался в саван, и «туто же учинилася казнь». Пока юный государь предавался языческим потехам, бояре погибали, лишенные христианского причащения. Летописец отметил, что казнь совершалась «грехом христианским», облекаясь в форму торжества язычников над христианами. Язычество нельзя рассматривать как отголосок прошлого, дань традиции или элемент народного творчества. Оно существовало не само по себе, а в первую очередь как противопоставление православию. По мнению А. Ф. Лосева, «язычество… демонично, ибо только в язычестве обожествляется мир со всеми его несовершенствами и злобой. Демонизм есть обожествление твари и зла»[933]. Эти строки Лосева посвящены композитору А. Скрябину. Но «обожествление зла» – не только смысл музыкального творчества Скрябина, но и «политического творчества» Грозного, квинтэссенция его привычек и пристрастил. На протяжении всей жизни Грозный проявлял болезненное пристрастие к эсхатологии, с издевкой переиначивал богослужения, выворачивал наизнанку смысл христианских обрядов. Заметим в этой связи, что опричная антисистема запечатлелась в русском языке не только «опричником-кромешником». До сих пор находящийся в обиходе фразеологизм «шиворот-навыворот» также пришел к нам из времен Ивана Грозного. Опричники сажали опального боярина на лошадь лицом к хвосту, надевали вывернутый наизнанку тулуп. Издеваясь таким образом над жертвой, палачи искажали подлинный облик христианина, заменяя его маской.  Смерть и бес по сторонам трона
Определенное антисистемное значение имеет и содомский грех, которому Грозный отдавал дань и в юности, и в зрелые годы. Упреки по этому поводу Сильвестра и Курбского разделяет интервал в тридцать лет – протопоп обращается к юному царю с требованием искоренить «злое се беззаконие» в конце 40-х годов, а Курбский описывает растленные нравы Иванова двора в своем третьем послании в сентябре 1579 года. Между тем содомия не только безнравственна с точки зрения морали средневекового человека – это одновременно и пародия на гетеросексуальные отношения, и измена человеческому естеству, осквернение «телесной церкви», так же как и скоморошество, – отступление от Богом данных установлений. В тех случаях, когда Грозному пытались указать на греховность его лицедейских увлечений, смельчаков постигала жестокая кара. В январе 1564 года Иван пригласил на пир князя Михаила Репнина. Будучи в изрядном подпитии царь и его приближенные пустились в пляс вместе со скоморохами и ряжеными. Князь не только не разделил вместе с присутствующими их бурное веселье, но и принялся укорять государя тем, что «иже не достоит ти, о царю, христианскии, таковых творити». Рассвирепевший Иван пытался силой надеть скоморошью маску на обличителя, но Репнин растоптал «мошкару». За это, по свидетельству Курбского, Иван приказал убить прямодушного боярина, причем произошло это в церкви во время всенощного бдения «близу у самого алтаря». Так за отказ участвовать в языческом обряде, за приверженность христианскому благочестию Иван не просто карает смертью – он прерывает молитву, общение православного с Всевышним, оскверняет храм смертоубийством. Подобные кровавые и кощунственные выходки государя, кажется, должны были встретить адекватный отпор в обществе или хотя бы в том социальном слое, против кого они были в первую очередь направлены. Но, как это ни звучит парадоксально на первый взгляд, именно чудовищный характер преступлений Ивана служил залогом их безнаказанности, действовал парализующе на средневекового москвича. Метафизический смысл деяний Грозного был ясен и его современникам, но следует помнить, что выпадавшие испытания русские люди истолковывали как Божью кару. Православного человека могли глубоко возмущать кощунственные поступки государя, он мог усматривать в них диавольские знаки, но одновременно он веровал, что Антихрист, как и его предтечи, появляются в мире и на некоторое время воцаряются в нем по попущению Всевышнего. Задача христианина в таком случае не сопротивляться земному торжеству Зверя, а спасать свою душу, хранить верность заповедям Божиим. Как писал Св. Феофан Затворник, «Антихрист явится, как учат Св. Отцы, не против воли Божией. В Божиих планах мироправления стоит и он, и подготовка его, и последствия того. Не потому так, чтобы Бог хотел такого зла людям, а потому что люди сами себя до того доведут»[934]. Впрочем, это не означает, что в стране отсутствовала политическая оппозиция опричнине, и наши предки покорно взирали на творившиеся вокруг беззакония. Глава 16 «БОЖЬЯ ГРОЗА» НАД МОСКОВСКИМ ЦАРСТВОМ То настало время помериться, Уберечь, спасти землю русскую, Извести на Руси лютых ворогов, Не жалеть отца, мать родимую, Ради русского царства великого. Подметайте метлой, ветры буйные, Рвите ворогов, песьи головы. Над Москвою гроза собирается — Грозный царь собирает дружинников. Недолгая оттепель Весной 1566 года один за другим стали проявляться очевидные признаки политической оттепели. В апреле амнистированы казанскиу ссыльнопереселенцы. Некоторым из них даже возвратили отобранные вотчины. По ходатайству земских бояр и дворян во главе с Иваном Федоровым царь снял опалу с талантливого полководца Михаила Воротынского, вернул воеводу ко двору и возвратил значительную часть родовых вотчин. Князь Владимир Старицкий также получил назад свой кремлевский двор, прежде переведенный в опричнину, Грозный выказывал двоюродному брату прочие знаки своего расположения. В.Б. Кобрин, рассматривая передышку в политике террора 1566 года, отмечает, что «происходит нечто до конца непонятное», расценивая странные зигзаги царской политики как попытку усыпить общественное мнение[935]. Наметившийся отход от репрессивной опричной политики был бы невозможен без широкой оппозиции начинаниям Грозного среди бояр, значительной части дворян и духовенства. Иван вовремя заметил растущее недовольство опричниной и оценил потенциальную угрозу. К тому же за год существования нового порядка царь, возможно, несколько охладел к своему детищу – такая реакция вполне естественна для пылких увлекающихся натур, подобных Грозному. Долго вынашиваемый план воплотился в реальность и перестал с прежней силой волновать своего создателя. Царь решил отступить от некоторых крайностей опричной политики и даже дезавуировать некоторые свои наиболее одиозные действия. В мае «за немощью велик» оставил свою первосвятительскую кафедру и удалился в Чудов монастырь митрополит Афанасий. Каковы бы ни были истинные причины отставки митрополита, его уход выглядел как демонстративный шаг. Известно, что бывший митрополит умер в 70-е годы, то есть, по крайней мере, спустя четыре года после своей отставки, что дает основание сомневаться в серьезности болезни, его постигшей. Р.Г. Скрынников полагает, что Афанасий покинул первосвятительский пост, добиваясь упразднения опричных порядков[936]. Возможно, митрополиту не хватало здоровья и сил не для руководства Русской церковью, а для противодействия губительным деяниям государя с той твердостью, которую он продемонстрировал в дни утверждения опричнины. Тогда Афанасий оказался в одиночестве, правящая верхушка проявила малодушие и недальновидность. Теперь ситуация изменилась коренным образом: элита, и прежде всего московское боярство во главе с Иваном Федоровым, не скрывала своего негативного отношения к опричному режиму. Когда осенью 1565 года князь Петр Щенятев удостоился царской награды за удачные действия против татар, он демонстративно покинул Боярскую думу и удалился в монастырь. Как показали дальнейшие события, недовольство проявляла не только родовитая знать, но и широкие слои дворянства. «И бысть в людех ненависть на царя от всех людей..»[937] В этих условиях Афанасий мог почувствовать, что именно сейчас на митрополичьей кафедре должен находиться энергичный и нелицемерный иерарх, кроме прочего располагающий доверием государя, которого лишился Афанасий после январских событий 1565 года. Этим критериям в наибольшей степени отвечал казанский архиепископ Герман. Бывший казначей Волоцкой обители происходил из известной иосифлянской династии Полевых, что в глазах государя выглядело залогом верноподданических взглядов архиепископа. Заметим, что в свое время именно Герману было поручено препроводить в Волоцкий монастырь осужденного собором Матвея Башкина. В казанской епархии он стал преемником первого архиерея покоренного города Гурия Руготина, бывшего волоцкого игумена. Несмотря на безупречные «анкетные данные», Герман оказался исключением из иосифлянских правил. Не случайно ненавидевший любостяжателей Курбский отзывается о Германе с величайшим почтением. Известно, что Герман увлекался сочинениями Максима Грека[938]. Герман возглавил казанскую епархию в марте 1564 года и учреждение опричнины наблюдал как бы со стороны. Но с появлением в Казани нескольких десятков ссыльных ростовских, ярославских, оболенских и стародубских князей, бояр Булгаковых-Куракиных и сотни мелких помещиков владыка напрямую столкнулся с последствиями становления опричного режима. Разумеется, он общался со ссыльными и получил подробные сведения об опричных нововведениях Ивана. Очевидно, что Герман прибыл в Москву, имея твердое убеждение в пагубности опричнины. Кандидатуру казанского владыки одобрили и государь, и церковные иерархи. Герман даже вселился в митрополичьи палаты, но митрополитом так и не стал. По сообщению Курбского, Герман принялся «тихими и кроткими словесы» убеждать Ивана отказаться от опричнины и припомнил ему «страшный суд Божий и стязания нелицеприятное кождого человека о делех, так царей яко и простых»[939]. После этого разговора Грозный якобы передал его содержание своим «ласкателям», у которых обращение казанского митрополита вызвало взрыв негодования. «Боже сохрани тебя от такого совета. Опять ли хочешь, царь, быть в неволе у того епископа, еще горшей, нежели был ты у Алексея и Сильвестра столько лет!?». По сообщению Курбского, особенно горячо умоляли царя воспротивиться увещеваниям кандидата в митрополиты Алексей Басманов с сыном. В итоге по их наущению Германа прогнали с митрополичьего двора. При этом Грозный упрекал архиерея: «И на митрополию не возведен еси, а уже мя неволею обязуешь»[940]. Скорее всего, Курбский преувеличил критическую направленность речей Германа, а его призыв к оставлению опричнины он позаимствовал из событий, последовавших несколько недель спустя. Более вероятно, что архиерей протестовал не против опричнины вообще, а против недостойных мер по осуществлению опричной политики. Но этого оказалось достаточно, чтобы Грозный расценил слова кандидата как намерение ограничить его власть. Напоминание о Страшном суде должно было живо напомнить царю Сильвестра и его «страшилы», вряд ли для этого потребовалась помощь «ласкателей». К тому же, зная вспыльчивость Ивана, трудно представить, что он хладнокровно выслушал нотации Германа, а потом отправился к своим советникам и только после их обличений воспылал гневом и согласился выпроводить дерзкого епископа вон. Очевидно, Курбский, особо невзлюбивший Алексея Басманова (в своем первом послании Грозному он даже пишет об антихристе среди царевых советников, намекая на Басманова-старшего), постарался лишний раз выставить в черном свете Басманова и прочих царских любимцев. После того как кандидатура Германа была отвергнута, выбор Грозного пал на игумена Соловецкого монастыря Филиппа – на первый взгляд, совершенно неприемлемой для Ивана фигуры. Соловецкий настоятель происходил из боярской семьи Колычевых. Его отец в свое время служил у отца Владимира Старицкого – удельного князя Андрея. Андрей и его сподвижники, среди которых находились и Колычевы, были казнены после неудачного выступления против правительства Елены Глинской. Правда, его родственник Ф.И. Умной-Колычев занимал в опричнине видное положение, однако недостаточное, для того чтобы влиять на решение столь важных вопросов. Принадлежность Филиппа к мятежному боярскому роду должна была насторожить Грозного. Как полагает Г.П. Федотов, Филипп, «как по своему происхождению и по принадлежности к боярским кругам, так и по чисто церковным мотивам, возобладавшим в нем впоследствии, … вряд ли мог быть в стане поклонников нового режима, …он скорее должен быть доступен глухому ропоту против него…»[941] На далеких Соловках Филипп имел таких хорошо информированных о подноготной кремлевской политики собеседников, как игумен Артемий и протоиерей Сильвестр. Неизвестно, как реагировал Филипп на их рассказы, но, вероятно, именно благодаря снисходительности игумена Артемий сбежал из обители и благополучно добрался до Литвы, что вряд ли было возможно без запаса пищи и денег. А. А. Зимин полагает, что неудача с иосифлянским претендентом на митрополичью кафедру заставила Грозного обратить свой взор на их оппонентов – группировку заволжских старцев и одного из их лидеров митрополита Филиппа[942]. Но стоит ли вслед за А.А. Зиминым причислять Филиппа к нестяжателям? И да, и нет, поскольку к этому времени изменились и последователи Нила Сорского, и иосифляне, а былые противоречия заметно сгладились. Пример – противоречие между партийной принадлежностью и поступками и пристрастиями Германа. Вот и Филипп, превративший Соловецкую обитель в образцовое хозяйство, плохо вписывается в привычный образ нестяжателя. Последним истинным заволжцем можно считать игумена Артемия. С его ссылкой распалась и нестяжательская партия, после чего оказалось, что и иосифлянам, которым не с кем было бороться, незачем, как прежде, крепко держаться друг друга. Вакханалия террора, безусловно, напугала волоцких питомцев, в поддержке которых царь давно уже не нуждался. Иосифлянская теория «божьей грозы» поблекла перед повседневной практикой опричнины. Незатейливые компиляторские опыты св. Иосифа казались примитивными, узкими и даже безобидными в сравнении с изощренным глобальным антихристовым мировоззрением Грозного. Инстинкт самосохранения подталкивал иосифлян к объединению со всеми, кто был способен противостоять грядущей катастрофе. Возможно, именно предлагаемому союзу между вчерашними врагами и собирался воспрепятствовать Иван, стараясь возбудить прежнюю ревность между церковными партиями. В этом смысле предположение А.А. Зимина верно – Иван показал иосифлянам, что в случае неповиновения он готов обратиться к их извечным оппонентам. Но в обстановке вакханалии террора вряд ли на кого-то могли подействовать подобные «страшилы». Соборный бунт В мае 1566 года в Москву прибыло литовское посольство во главе с Ю. Ходкевичем. Посланники короля Сигизмунда предложили Грозному произвести раздел Ливонии, который предусматривал сохранение за сторонами занятых ими к данному моменту территорий. Царь и его советники расценили этот демарш как признак слабости Литвы и принялись требовать признания прав Москвы на двинские крепости, включая Ригу, что было совершенно неприемлемо для Вильно. Ход переговоров якобы побудил Ивана созвать Земский собор, чтобы спросить мнение о позиции Москвы в отношении предложений литовского посольства. Участники собора проявили не больше дальновидности, чем кремлевские дипломаты, и высказались за продолжение войны. Впрочем, к тому времени переговоры и так уже зашли в тупик, и на их ход мнение Земского собора никак не повлияло. Очевидно, что внешнеполитический вопрос послужил для Ивана поводом, чтобы подать знак благоволения к служилым слоям, которых он полтора года назад огульно обвинил в измене. Но вряд ли царь полагал, чем обернется его уступка. Собор, в котором впервые широко было представлено земское поместное дворянство и участвовали делегаты от торговых и посадских людей, закончил свою работу 2 июля. К этому времени игумен Филипп еще не прибыл из Соловков, о чем можно судить по отсутствию его подписи в соборном приговоре, к которому прикладывали руку даже простые монахи. Между тем его приезда ожидали не только церковные иерархи и царь. Созыв собора дал возможность двум сотням дворян и детей боярских встретиться и обнаружить общее негодование насилием, творимым над земщиной. Они решили воспользоваться случаем, чтобы потребовать от царя отмены опричнины, ссылаясь на свои заслуги перед государем[943]. Более трехсот представителей земщины, в том числе и придворные царя, явились во дворец с протестом против бесчинств и злоупотреблений. «Все мы верно тебе служим, проливаем кровь нашу за тебя. Ты же… приставил к шеям нашим своих телохранителей, которые из среды нашей вырывают братьев и кровных наших, чинят обиды, бьют, режут, давят, под конец и убивают». За устным выступлением последовала подача челобитной, скрепленной подписями ходатаев[944]. Точная дата выступления земцев неизвестна. Замысел акции протеста созрел во время созыва собора, но вряд ли она состоялась в дни его работы или сразу по завершении. Челобитчики знали о пустующей митрополичьей кафедре. По Москве носились слухи о кандидате на место предстоятеля и о его скором прибытии в столицу. Совместное – вкупе с будущим митрополитом – выступление имело больше шансов на успех. Репутация благочестивого игумена и протекция неформального лидера оппозиции Ивана Федорова порождали у земцев надежду встретить в лице Филиппа единомышленника. И соловецкий настоятель, хотя бы частично, эту надежду оправдал. В Москве ему, возможно даже против желания, сразу пришлось включиться в политическую борьбу. Свое согласие занять митрополичью кафедру Филипп сопроводил конкретными политическими условиями. «Лета 7074 (1566) Июля 20, понуждал царь и великий князь Иван Васильевич всея России со архиепископы и епископы и с архимандриты и совсем собором… игумена Филиппа на митрополию. И игумен Филипп о том говорил, чтобы царь и великий князь оставил опришнину; а не оставит князь опришнины, и ему в митрополитах быти невозможно; … а соединил бы воедино, как прежде было. И царю великому князю с архиепископы и епископы в том было слово, архиепископы царю и великому князю о том били челом о его царскому гневу; и царь и великий князь гнев отложил, а игумену Филиппу велел свое слово молвити архиепископам и епископам, чтобы игумен Филипп то отложил, а в опришнину и в царский домовой обиход не вступался, а на митрополью бы ставился; а по поставленьи бы, что царь и великий князь опришнины не ставил, и в домовой ему царский обиход вступаться не велел, и за то бы игумен Филипп митропольи не отставливал, а советовал бы с царем и с великим князем, как прежние митрополиты советовали с отцом его… И игумен Филипп по царскому слову дал свое слово архиепископам и епископам, что он, по царскому слову и по их благословению, на волю дается стати на митрополью, и в опришнину ему и в царский домовой обиход не вступатися, а по поставленьи за опришнину и за царский домовой обиход митропольи не отставливати»[945]. Сомнительно, чтобы все вышеперечисленные события произошли в один день. Из данного отрывка официального акта, составленного при вступлении Филиппа в должность, развитие ситуации представляется следующим образом. Сначала на архиерейском соборе в присутствии государя Филипп выступил против опричнины, что, естественно, вызвало гнев царя, первой реакцией которого было дать отвод строптивому кандидату на митрополичью кафедру. Но иерархи били челом Грозному, чтобы он оставил свой гнев; они настаивали на выборе соловецкого игумена и одновременно предлагали компромиссный вариант: Филипп более не покушается на существование опричнины, которая рассматривается как личный удел государя, его «домовый обиход». Вместе с тем митрополит выговаривает себе право давать советы царю и печаловаться за опальных, упраздненное с учреждением опричнины.  Митрополит Филипп
С учетом этих оговорок на новом архиерейском совещании и «понуждал» Грозный соловецкого настоятеля «стати на митрополью». Следовательно, на 20 июля приходится заключительная часть дискуссии вокруг поставления нового митрополита, продлившейся, очевидно, несколько дней. Именно в этот день Филипп согласился с предложенным компромиссом, с которым, заметим, не согласился Герман, подписи которого нет на акте 20 июля. Это дало Г.П. Федотову основание полагать, что не все епископы были склонны благословить эту капитуляцию перед царем: «Для них, как и для Филиппа, опричнина, вероятно, представлялась слишком серьезным препятствием к миру в церкви и государстве»[946]. Демонстративное неповиновение земцев и митрополита безусловно встревожило Ивана. А.А. Зимин полагает, что демарш участников собора привел к тому, что в течение нескольких месяцев (вторая половина 1566 г. – первый квартал 1567 г.) были заморожены все военно-административные назначения до проведения тщательной проверки на причастность кандидатов к выступлению участников собора[947]. На выступление земцев Иван немедленно ответил репрессиями. Все челобитчики были схвачены и заключены в тюрьму. Возможно, это обстоятельство и повлияло на решение Филиппа принять митрополичий сан, не «вступаясь в опришнину». С одной стороны, стало ясно, что уговоры не заставят Ивана прекратить опричную политику, с другой стороны, ввиду новой вспышки репрессий, кому-то необходимо было заступаться за жертвы гонений. Заняв митрополичью кафедру, Филипп получал возможность влиять на решения царя, отказ лишал его такой возможности. Соловецкий игумен сделал выбор. 24 июля состоялось официальное избрание Филиппа митрополитом, а на следующий день его интронизация в Успенском соборе. Наверное, новый предстоятель Русской церкви сразу же и воспользовался правом печалования, и потому репрессии против челобитчиков оказались не столь жестокими и масштабными, как того можно было ожидать от Ивана. Были казнены «всего» два человека – князь Василий Рыбин и дворянин Иван Карамышев, про которых Иван «сыскал, что они мыслили над государем и над государскую землею (то есть, опричниной. – М.З.) лихо». Пятьдесят земцев были биты батогами, а более двухсот их товарищей были выпущены из тюрьмы, не понеся никакого наказания. Правда, уже спустя две недели был схвачен постригшийся в монахи князь Щенятев, который из иноческой кельи попал в пытошную камеру. Арест монаха без причины и даже внешнего повода – скорее всего ответная демонстрация Грозного, адресованная, в первую очередь Филиппу. Тем не менее репрессивная машина опричнины застопорила свой ход почти на полтора года. Оппозиционная немочь Из событий лета 1566 года Грозный извлек для себя несколько уроков. Урок первый состоял в том, что уступки земщине невозможны, точнее, они политически неэффективны, так как оппозицию способна удовлетворить только полная отмена опричнины. Урок второй: для того чтобы окончательно покорить «землю», одного репрессивного натиска недостаточно, нужно значительно «укрепить материальную базу» опричнины. Грозный принялся отстраивать опричный двор в Занеглинье, обустраивать Александрову слободу. В феврале 1567 года он отправился в Вологду, чтобы ускорить строительство опричной столицы. Начинает расти территория «государьской земли» и соответственно уменьшается территория земщины. Сразу после июльского выступления оппозиции в опричный удел переходят прикамские владения солепромышленников Строгановых. Постепенно к опричнине отходят Боровский, Белозерский уезд, Старица, Пошехонье, Переславль-Залесский и, наконец, Ростов и Ярославль. Продолжаются перемещения вотчинников и помещиков. «Так убывали в числе земские – бояре и простой народ, а великий князь – сильный своими опричниками – усиливался все более», – замечает немец-опричник Штаден[948]. В конце концов, численность опричников возрастает до 6000. Наконец Иван, который прежде притворно обличал мнимые измены и угрозы, теперь в полной мере осознал масштаб недовольства своей политикой. Грозный задумывается о том, на что он может рассчитывать в случае, если события примут неблагоприятный оборот. Из Вологды царь направился в Кирилло-Белозерский монастырь, где, тайно призвав в свою келью игумена и нескольких старцев, сообщил им о своем намерении принять постриг в их обители. В мае 1567 года он передал белозерскому игумену Кириллу 200 рублей на устройство для него особой кельи и после заботился об ее украшении. Впрочем, Ивана могла в очередной раз увлечь игра в самоуничижение, в превращение могущественного государя в смиренного чернеца. Между тем в воздухе зримо сгущалась грозовая атмосфера. Весной литовцы попытались переманить на свою сторону могущественных бояр: конюшего Федорова и потомков литовских выезжан – Мстиславского, Воротынского, Вельского. Хотя кандидаты в перебежчики сами сообщили государю о содержании присланных им писем, Иван понимал, что литовцы небезосновательно полагают, что тиранство государя способно подтолкнуть его подданных к измене. Сегодня бояре доложили о литовских предложениях и даже выдали гонца, но как поступят они завтра?! Многие служилые москвичи бежали в Литву, где рассказывали, что многие готовы последовать их примеру, так как «горей татар опритщина, што дей свою земля з собою режется, и тая деи опритщина бардзо землю Московскую пусту чинит…»[949] Словно в подтверждение опасений Ивана русское войско потерпело серьезное поражение при реке Суше. В начале сентября 1567 года Грозный пригласил в опричный дворец английского посла А. Дженкинсона, которого царь самолично препроводил в свои покои тайными переходами. Посредством посла царь просил королеву Елизавету предоставить ему убежище в Англии, «пока беда не минует, Бог не устроит иначе». Спасения Грозного были искренни: царь настаивал на строжайшей секретности переговоров и скорейшем ответе королевы. Иван также просил прислать мастеров для постройки корабля. И Кириллов, и Вологда находятся неподалеку от реки Сухоны – притока Северной Двины. Имея корабль, Иван мог спуститься по речному пути до Холмогор и английских факторий, откуда отправиться в Англию. Таким образом, Иван детально продумывал маршрут своего бегства и свое будущее в эмиграции. 20 сентября 1567 года Иван во главе опричного войска выступил в Новгород, земцы двинулись к западной границе через Великие Луки. В начале ноября обе армии соединились близь ливонской границы у Ршанского Яма, однако спустя несколько дней, а именно 12 ноября, Иван спешно покинул войско, отменив поход под предлогом отставания тяжелой артиллерии. Подлинной причиной, побудившей государя свернуть военные действия и покинуть войско, стали известия о заговоре земских бояр во главе с конюшим Иваном Федоровым в пользу Владимира Старицкого, причем сообщил Грозному об этом сам удельный князь. Анализ различных версий относительно целей заговора и реальности его существования мало что добавляет к картине политического противостояния того времени. Действительно ли земцы готовились свергнуть Ивана и передать власть Владимиру Старицкому? Или опричное окружение царя, озабоченное «пораженческим» настроением Грозного, все ярче проявлявшимся с весны 1567 года, решилось на провокацию, дабы вынудить его нанести сокрушительный удар по земщине? В любом случае мирное сосуществование Московской Руси и опричнины отныне стало невозможным. Земцы понимали, что челобитными Ивана не отвратить от выбранного ими пути, оставался единственно возможный вариант – насильственное устранение Грозного от власти. Но каким образом эти намерения воплотить в жизнь. Несмотря на лирические размышления историков о неизбежности столкновения единодержавной власти и аристократии, боярство, демонстрируя полную атрофию корпоративных политических амбиций, ни разу не проявило себя как самостоятельная сила, отстаивающая собственные интересы и тем более ради их защиты противостоящая государю. Только когда появляется претендент на престол, человек, преследующий личные интересы – Дмитрий Шемяка в веке XV или Лже-Димитрий в XVII столетии – часть политической элиты может пристать к нему, демонстрируя тем самым полную свою зависимость от воли случая. Вместе с тем было бы несправедливым, исходя из наших сегодняшних представлений о политическом устройстве общества, сбиться на рассуждения о рабской пассивности русских людей. До царствования Грозного мы наблюдаем экономический рост, отсутствие острых сословных противоречий, расширение самоуправления, оживленную интеллектуальную жизнь. Социально-политическая система, сложившаяся в России при Иване III, показала свою эффективность и жизнеспособность. Она оказалась способна нейтрализовать и тиранические замашки Василия III, и успешно функционировать в десятилетие междуусобиц. Не стоит осуждать представителей российской политической элиты: весь смысл их жизни сводился к одному понятию – служение. Не изъявление рабской покорности, не прислуживание, а служение государю и в его лице – государству. Возьмем типическую биографию рядового служилого князя, не принадлежащего к боярской верхушке, – князя Юрия Федоровича Борятинского. В сентябре 1555 года он ходил 4-м воеводой сторожевого полка на усмирение восстания казанских татар и луговых черемисов. В октябре 1556 года – 2-й воевода «на Нугри». В 1559 году – 2-й воевода в Карачеве. В 1560 году участвовал в походе к Вильянди 6-м головой в полку правой руки боярина Петра Шуйского. В 1562 году ходил с «царевичем» Бек-Булатом 3-м воеводой сторожевого полка из Смоленска в Литву. Попал в плен к литовцам, но был выкуплен царем. В 1564 году был 2-м воеводой в Дедилове. Весной 1565 года назначен 1-м воеводою в Новосиль: «И князю Юрьи велел государь итти на поле к Сосне и за Сосну». В следующем году мы застаем Борятинского на прежнем месте. В 1567 году прислан в Тулу головою под начало воеводы князя Голицына. В том же году ходил к Великим Лукам со служилыми татарами[950]. Юрий Федорович был младшим из пяти сыновей удельного князя борятинского Федора Федоровича Висковатого, который тоже, в свою очередь, был пятым младшим сыном в семье. Он не мог претендовать ни на богатое наследство, ни на карьеру в Думе или при дворе. Но если мы обратимся к жизненному пути князя Ивана Дмитриевича Вельского, виднейшего боярина, потомка Гедимина, то увидим, что разница между ним и Борятинским заключается лишь в занимаемых должностях. Например, в поход на Полоцк в декабре 1563 года Вельский ходил под началом Владимира Старицкого с большим полком, а Боря-тинский с «царевичем Кайдулаю» в полку левой руки. Основное содержание жизни двух людей, столь далеко отстоящих друг от друга в иерархической лестнице, одинаково – это ратная и посольская служба, участие в боевых действиях против Ливонии, Литвы, Крыма. Судя по тому, что Юрий Борятинский в походе 1567 года направлялся вместе с земским войском под командованием Ивана Мстиславского в Великие Луки, князь относился к земщине. Мы не можем знать, как Борятинский относился к опричнине. Но если даже он всей душой и всем разумом протестовал против беззаконий Ивана, задумаемся, – мог ли человек с усвоенными с детства сословными представлениями и соответствующей биографией участвовать в мятеже против государя. Выступление земцев на соборе 1566 года показало, что опричнина встречает сопротивление. Но оно также показало, что легальные формы борьбы не приносят результата. Джером Горсей писал о том, что «зверства породили такую общую ненависть, уныние и столько бедстий во всем государстве, что многие многие, искали средств уничтожить тирана»[951]. Но готовы ли недовольные на вооруженный мятеж против законного государя, да еще в условиях войны. На каком основании отстранить от власти венчанного на царство Ивана? Кто способен возглавить такое выступление? Русский человек середины XVI века не находил ответы на эти вопросы. По этой причине, а не только из-за опричного террора, оппозиция Грозному так и не вылилась в организованное движение. «У земских лопнуло терпенье!» – так объясняет Генрих Штаден заговор в пользу Старицкого[952]. Заметим, что эти отзывы иностранцев резко контрастируют с рассуждениями Герберштейна о рабской покорности русских своему правителю. Однако Штаден скорее всего отталкивается от официальной версии. Прежде всего, сам князь Владимир Андреевич был неспособен стать знаменем оппозиции и скорее всего боялся прогневить своего царственного родича. Недовольству земщины не суждено было воплотиться в конкретные действия. Традиция служила земцам опорой и защитой, она же связывала их помыслы и делала беззащитными перед Иваном Грозным, который играл по собственным, придуманным им, правилам. Царство неправды Следствие по делу Ивана Федорова набирало обороты. «И присташа ту лихия люди ненавистники добру: сташа вадити великому князю на всех людей, и иные, по грехам словесы своими, погибоша, стали уклонятися князю Володимеру Андреевичу; и потом большая беда зачалася», – сообщает летописец[953]. Выходит, что грех земцев состоял в словах, а не делах, но о крамольных разговорах донесли Ивану, который с энтузиазмом ухватился за наветы ласкателей, чтобы расправиться-таки с ненавистной земщиной. Сам царь, очевидно, слабо верил в реальность «заговора», во всяком случае «глава заговорщиков» боярин Федоров был убит лишь спустя год после его раскрытия. Возможно, сдерживало царя и расположение к Ивану Федорову простых москвичей. На Ивана, как видно, еще действуют некоторые нравственные ограничения, от пут которых, впрочем, он спешит освободиться. В первую очередь, ему мешает авторитет церкви и ее предстоятеля Филиппа. К митрополиту, как и в июле 1566 года, «неции от первых вельмож и народ» обратились с просьбой о заступничестве. Очевидно, случилось это поздней осенью 1567 года, когда Грозный, внезапно вернувшись в Москву из похода, велел казнить приказных людей, бывших делегатов достопамятного Земского собора. Под впечатлением новых расправ глава церкви возобновил спор с царем, пока в приватных беседах. Составитель «Жития Святителя Филиппа» не мог, конечно, знать об их содержании, но вряд ли он сильно ошибается относительно характера обличений митрополита. Из «Жития..» можно понять, что Филипп, как и другие его современники, ясно понимал, что учреждение является формой государственного переворота – мятежа. «Слышно ли когда-либо, чтобы благочестивые цари сами возмущали свою державу?» – задает он вопрос Грозному. Митрополит сознавал, что корень беззаконий последнего времени кроется в нравственном повреждении Грозного, в его мании «богоуподобления». Филипп напомнил царю, что скипетр земной есть только подобие небесного. «Если и высок ты саном, но естеством телесным подобен всякому человеку, ибо, хотя и почтен образом Божиим, но и персти причастен». «Соблюдай данный тебе от Бога закон, управляй в мире и законно», – наставляет Ивана митрополит в духе идей Максима Грека, которые переплетаются с образами Иосифа Во-лоцкого. «..Не разделяй свою державу, ибо ты поставлен от Бога судить по правде людей Божиих, а не образ мучителя восприять на себя…»[954] Увещевания митрополита только возбуждали негодование Грозного. Он отправил в Соловецкий монастырь комиссию под руководством князя Василия Темкина, которая должна была изыскать сведения, компрометирующие деятельность Филиппа в бытность его игуменом. О нравственном облике этого члена опричной думы Темкина можно судить по следующему факту: задолжав деньги дьяку Парфеньеву, он отказался выплатить долг и убил его сына. Известно, что комиссия прибыла в монастырь весной 1568 года, следовательно, она выехала из Москвы до конца марта, так как не могла отправиться в столь долгий путь в весеннюю распутицу. Значит, 22 марта, когда состоялось известное столкновение государя и митрополита, Филипп уже наверняка знал о том, что Иван дал указание собрать на него «компромат». Возможно, таким образом, Грозный хотел предупредить дальнейшие нападки митрополита на опричнину и попытку заступиться за жертв опричного террора. Не менее вероятно, что реакция главы церкви на отправку комиссии была прямо противоположной: Филипп решив, что терять ему более нечего, пошел на открытое столкновение с царем. Когда в воскресный день Грозный вместе со своими приближенными явился в Успенский собор в черных ризах и высоких «халдейских» шапках, митрополит отказался благословить государя и принялся обличать его злодеяния: «Доколе ты хочешь лить неповинную кровь твоих верных людей и христиан? Доколе неправда будет царить в русском царстве?..»[955] Сразу за столкновением в Успенском соборе террор обрушился на людей из окружения Федорова и на приближенных митрополита. Теперь уже обе стороны, участвующие в конфликте, не могли остановиться. Филипп спустя несколько дней выступает с новыми публичными обличениями жестокости Ивана, а тот запускает на полную мощь машину террора. Теперь погибают не только знатные люди и их семьи, но и слуги опальных, жители их вотчин и поместий. Грозный объезжал с толпой опричников владения Федорова, уничтожал дворы, запасы зерна, сжигал церкви. Отряды опричников рыскали по городам и весям, имея списки бояр, дьяков, купцов, над которыми надлежало учинить расправу. Русским людям предстояло узнать, что творимые доселе жестокости были всего лишь прелюдией изуверских расправ. С начала раскрытия «заговора» Федорова до июля 1568 года опричниками было «отделано» 369 человек. Филипп демонстративно покинул свои палаты и удалился в монастырь, но в отличие от своего предшественника Афанасия не сложил с себя сан митрополита. 28 июля в день апостолов Прохора и Никанора Филипп совершал богослужение в Новодевичьем монастыре, куда неожиданно заявился Иван со своими опричниками. Совершая крестный ход по стенам монастыря, митрополит дошел до Святых врат, где должен был читать Евангелие, но увидел, что один из спутников царя не снял шапку-«тафью», на что указал Грозному. «Вот он, один из ополчения твоего, с тобою пришедший, словно от лика сатанинского». Но когда Иван оглянулся, охальник уже снял шапку. Разъяренный Иван принялся поносить Филиппа, называя его лжецом, мятежником и злодеем. Грозный более не желал терпеть прямодушного митрополита и его обличений и решил активизировать подготовку к его смещению. По меткому замечанию Костомарова, «мужество Филиппа подействовало на Ивана не менее писем Курбского»[956]. В августе он вызвал в Москву новгородского архиепископа Пимена, которому поручил подготовить соборный суд над митрополитом. К тому времени вернулась с Солов-ков комиссия князя Темкина, которая, впрочем, так и не отыскала значительных фактов, способных повредить репутации митрополита. В сентябре 1568 года казни продолжались – без суда и следствия были убиты самые знатные из бывших казанских переселенцев: князья Андрей Катырев и Федор Троекуров, Михаил Лыков с племянником и родственник Филиппа – Михаил Колычев с тремя сыновьями. Его отрубленную голову Иван послал в кожаном мешке в монастырь, где нашел себе пристанище митрополит. Машина террора заработала на полную мощь, количество жертв стало исчисляться десятками и сотнями. Теперь погибают не только знатные люди и их семьи, но и слуги, жители вотчин и поместий опальных. Так, после убийства Федорова Грозный объезжал с толпой опричников его владения, уничтожал дворы, запасы зерна и даже церкви. Отряды опричников рыскали по городам и весям, имея списки бояр, дьяков, купцов, над которыми надлежало учинить расправу. А в октябре собрался освященный собор, по замечанию А. В. Карташева, «позорнейший из всех, которые только были на протяжении всей русской церковной истории»[957]. Его организаторы нашли лжесвидетелей, рассказывавших о «порочной жизни» митрополита, что стало основанием для упреков. «Как ты царя наставляешь, а сам неистовая творишь», – торжествовал новгородский архирей Пимен. О позиции самих обвинителей и об истинной вине обвиняемого можно судить по изложению их речей в «Житии..»: «Добро было во всем царя слушати и всяко дело благославляти без рассуждения, и волю его творити и не гневати..»[958] К удивлению судей, Филипп не только не раскаивался, но и снова требовал от царя отменить опричнину. Соборное решение еще не было принято, и 8 ноября 1568 года в праздник архангела Михаила (обязательно отметим это обстоятельство!) митрополит собирался служить литургию в Успенском соборе. Но едва прихожане заполнили храм и началась служба, как ворвались опричники в главе с Алексеем Басмановым и Малютой Скуратовым. Басманов зачитал указ о низложении митрополита, опричники сорвали с него святительские одежды, после чего повезли «с бесчестием» на дровнях в Богоявленский монастырь, где заключили в «злосмрадную хлевину». Грозный очередной раз проявил себя как вершитель Божьего гнева, как Архангел, наказал недостойного пастыря. Филипп был приговорен к смертной казни, но по заступничеству духовенства ее заменили на заключение в тверском Отрочь монастыре, где в свое время отбывал ссылку Максим Грек. После разгрома Боярской думы и репрессий против участников Земского собора митрополит Филипп оставался последним поборником правды и защитником традиций, которыми держалось русское общество. Смещение его означало, что Иван перешагнул последний рубеж, который отделял его от полного беззакония и безнаказанности, а Русь – от поругания и гибели. В 1568 году состоялся думный собор, на котором Иван IV решил узаконить юридическое преимущество опричнины перед земщиной, приняв на сей счет особое законодательство. В отличие от предыдущего собора царь тщательно отбирал его участников. Так, по мнению В.И. Корецкого, состав освященного собора, принявшего участие в думном заседании, был предварительно очищен Грозным от сторонников Филиппа. Реализация данных норм вызвала упорное противодействие в земщине. «Та же на сем горшая бысть православной вере от того опришньства – возмущение вели от во всем мире и кровопролите и суд не по правде – и от тоя обдержащие скорби друг друга не сведаху». Реакция на указ, как полагает В.И. Корецкий, стала одной из причин вызревания массового противоопричного движения в стране. Его пытались использовать в своих интересах Филипп и боярская оппозиция во главе с Федоровьм. «Это стихийное народное движение нашло свое наиболее сильное выражение в противоопричном выступлении, по сути восстании, московского посада летом 1568 года, когда Иван был вынужден бежать в Александрову слободу и сделать ее местом своего постоянного жительства, переведя туда из Москвы и органы политического опричного сыска»[959]. Но и в Александровой слободе царь не чувствовал себя в полной безопасности. Все лето следующего 1569 года Грозный провел в Вологде, где спешно строилась укрепленная опричная столица. Он снова жалует значительные суммы Кирилло-Белозерскому монастырю на устройство своих покоев. Возобновляются переговоры с англичанами о предоставлении убежища во владениях королевы Елизаветы, которые, однако, заканчиваются неудачно для Ивана. К тому времени перед глазами московского царя был печальный пример шведского короля Эрика XIV, которого осенью 1568 года свергли с престола и бросили в темницу его братья Юхан и Карл. Эрик, возбудивший не меньшее, чем Иван, негодование вельмож своими жестокими расправами, просил русских послов о содействии в борьбе с мятежниками. Сначала ему ответили отказом, но, когда он вторично попросил убежища, москвичи согласились взять Эрика с собой. Мятежные братья схватили короля, когда он собирался переправить на корабль государственную казну. Эта история, о которой он подробно узнал от послов, прибывших к нему в Вологду из Стокгольма, не могла не вызвать у него воспоминание об обстоятельствах, в которых он сам находился. Правда, слабовольный и недалекий Владимир Старицкий не имел ничего общего с честолюбивым Юханом, но богатое воображение Грозного, порождаемые им химеры и азарт мучительства не желали считаться с реальными обстоятельствами. От Волхова до Поганой Лужи Иван и его «ласкатели» стали исподволь готовить расправу над князем Владимиром, который в то время находился в почетной ссылке в Нижнем Новгороде, где руководил войсками, собранными на случай нападения турок на Астрахань. Дело было представлено так, что одному из дворцовых поваров, ездившему в Нижний за рыбой для царского стола, Старицкий якобы заплатил за убийство Ивана и даже передал для этих целей яд. Донос повара и лег в основу следствия. Грозный вернулся в столицу в сентябре 1569-го. В дороге заболела и умерла, не доехав до Москвы, царица Мария Темрюковна, что Иван, естественно, объяснил отравлением. Владимира Андреевича вызвали в Александрову слободу, где он был схвачен и после недолгого разбирательства отравлен вместе с женой, матерью и девятилетней дочерью. Еще раньше были убиты все лица, свидетельствовавшие против князя. Раскрытие «заговора» Старицкого Грозный, похоже, рассматривал лишь как ступеньку к разоблачению еще более чудовищной измены, которая дала бы повод для решительного удара по Руси. После убийства Старицкого и его родни Грозный «узнал» о том, что новгородский архиепископ Пимен задумал предать Новгород и Псков литовскому королю, уничтожить Ивана, а на его место поставить Владимира Старицкого. Очевиден технологический прием провокаторов: еще не вынесен приговор Старицкому, а доносчики уже уничтожены. Умертвлен Старицкий, и только после этого вскрывается заговор в его пользу. Таким образом, когда дело доходит до следствия, главных свидетелей, которые могли бы опровергнуть или подтвердить обвинения, уже нет в живых. Грозному нужен лишь повод, чтобы вынести приговор и покарать виновных. Хотя исследователи сходятся на том, что новгородский заговор является вымыслом, до сих пор нет определенного ответа на вопрос – при каких обстоятельствах появился этот навет и кто его распространял. Действительно, почему Грозный избрал конечной целью карательной операции именно Новгород. Мы никак не можем разделить упоминавшееся мнение А. А. Зимина о том, что декоративные остатки новгородских вольностей угрожали «централизации» страны. Тем более эта версия не объясняет, почему Иван по пути в Новгород разорил подмосковный Клин, тверские города, готовил погромы Пскова и самой столицы. Безусловно, Новгород в глазах Ивана, так же как и для его деда и отца, оставался символом свободолюбия и вольномыслия. Выступление Грозного против Новгорода, таким образом, представлялось как продолжение дела Ивана III, как инсценировка его похода против мятежной республики, будто «приуроченная» к 100-летнему юбилею падения независимости Св. Софии. Иван вообще отличался странным пристрастием к городу на Волхове. Вспомним, что еще в юношеском возрасте он развлекался тем, что грабил новгородские церкви и мучил местных священников. Тогда в его распоряжении была толпа оболтусов, теперь – грозное опричное войско. Возможно, царь посчитал, что настало время «тряхнуть стариной». Город на Волхове оставался лакомым куском для царя-грабителя. Забегая вперед, скажем, что в Новгороде Грозный не только конфисковал церковное и монастырское имущество, но и вытребовал у населения контрибуцию в размере 13 000 рублей. Двадцать с лишним лет назад Иван, по некоторым рассказам, ограбил казну Софийского собора. Теперь из Св. Софии были изъяты иконы, церковная утварь, и даже 500-пудовый колокол, предназначенные для украшения Александровой слободы. Вспомним и то, что Грозный – великий пересмешник и пародист. Почти столетие назад в ноябре 1470 года возмутившиеся новгородцы напали на двор некоего Пимена, избили его и водворили в узилище. Пимен был архиерейским ключником и являлся основным претендентом на место архиепископа, но за несколько дней до нападения волей жребия новым епархиальным владыкой стал другой иерей. Пимен был одним из вождей «литовской партии» и, недовольный исходом выборов, очевидно, попытался найти поддержку своим притязаниям в Литве, чем и вызвал возмущение промосковски настроенной части горожан[960]. Позже «литовская партия» одержала верх и заключила договор, подчинявший Новгород королю Казимиру. Ивану, прекрасному знатоку прошлого, могла показаться занятной эта параллель, которой он потом придал очертания заговора современного новгородского священноначальника Пимена в пользу Литвы. Иван прямо ссылался на события вековой давности, обосновывая свои злодеяния в Новгороде. Так, московским послам было велено объявить королю Сигизмунду, что «Бог тое измену государю нашему объявил, и потому над теми изменники так и ссталось… а безлеп было, пане, и затевати: коли князь Семен Лугвень и князь Михайло Олелькович в Новгороде был, ино и тогды Литва Новгорода не умели удержати…»[961] Литовский князь Михаил Олелькович, о котором упоминают послы, правил в Новгороде как раз в то время, когда там зрел пролитовский заговор. Готовясь к походу, Грозный предпринимал все меры строжайшей секретности, свойственные военным действиям против враждебного государства – о цели похода и его маршруте знал узкий круг лиц, все дороги были перекрыты опричными заставами, и о приближении царского войска новгородцы не знали до последнего момента. Кровавые подробности похода широко известны. В результате разгрому и разорению подвергся весь Северо-Запад России – Клин, Тверь, Торжок, Бежецкая пятина, Орешек, Ивангород, Корела и, наконец, сам Новгород. Пострадал, хотя и в меньшей степени, Псков. Опустошению подверглась территория от верхней Волги до Балтики. Те жители края, которые избежали расправы, погибли от голода и стали легкой добычей морового поветрия, свирепствовавшего в те годы на Руси. Убийства чинились не только над местным населением, но и над всеми, кто попадался на пути: в селе Медном перебиты переселенные сюда псковичи, в Торжке – пленные литовцы, в Твери задушен Малютой Скуратовым опальный митрополит Филипп. Опричная армия, словно бездушная машина смерти, предавала огню и мечу все вокруг. В Спасо-Прилуцком синодике читаем: «По Малютинские ноугоцкие посылки отделано скончавшихмся православных хритсиан тысяща четыреста девятдесять человек да из пищалей пятнадцать человек, им же имена сам ты Господи, веси»[962]. Как «измена» Старицкого позволила Ивану перекинуть мостик к новгородскому «заговору», так последнее, в свою очередь, обернулось «московским делом». Длившееся полгода следствие завершилось неожиданным с точки зрения здравого смысла, но угодным Грозному результатом. Главными обвиняемыми стали люди, на протяжении многих лет выполнявшие самые высокие государственные функции – «канцлер» Иван Висковатый и казначей Никита Фуников. Обвиняли их, разумеется, в намерении возвести на престол Владимира Старицкого. Кроме того, Висковатому как главе внешней политики страны приписывали тайные сношения с литовцами и турецким султаном. Иван приступил к чистке верхушки опричнины, списывая на свое окружение зверства последних лет. Первыми жертвами среди карателей стали Алексей Басманов и Афанасий Вяземский. Позже были казнены опричные бояре Лев Салтыков и Иван Воронцов. Хотя Висковатый и Никита Фуников не относились к опричной верхушке, то обстоятельство, что они держали в руках важнейшую приказную документацию, позволило Н.М. Рогожину предположить, что они участвовали в подборе компрометирующих сведений о жертвах опричнины[963]. Со свойственной ему злорадной насмешкой Иван превращал палачей в жертвы. Сначала казнят Старицкого, его родных и соратников, затем злейших врагов старицкого дома – Висковатых и наветчика-повара. В связи с «новгородским заговором» страдают Алексей Басманов и Пимен – главные действующие лица в процессе над митрополитом Филиппом. В августе 1572 года царь потопит в Волхове опричников, которые за полтора года до этого «метали» в реку несчастных новгородцев. Казни и опалы 1570 года как раз отличаются тем, что Иван губит теперь не врагов своих, пусть даже предполагаемых, а ближайших соратников и недавних любимцев. К таковым относились и Басмановы, и Вяземский, и Висковатый, которого Иван, по свидетельству современников, «любил как самого себя». Спустя 13 лет Грозный прислал в Троице-Сергиев монастырь очень большой вклад на помин души своего «канцлера» – 223 рубля, а в позднейших приписках к официальной хронике, которые составлялись при участии царя, особо подчеркивались заслуги Висковатого. Очевидно, искреннюю привязанность в определенные моменты Иван начинал воспринимать как зависимость, столь ненавистную ему со времен Адашева и Сильвестра. Именно эта ревность вкупе с манией подозрительности подвигала Грозного отправлять своих фаворитов в темницы и на эшафот. Висковатый, очевидно, старался не вмешиваться во внутренние дела и не имел обычая перечить Грозному, но кровавый новгородский погром подвиг его на спор с государем. «Канцлер» заступался за боярство и просил царя подумать: после таких репрессий ему не с кем будет не то что воевать, но и жить. Теперь Иван попомнил дипломату его слова. Одновременно с арестом Ивана Михайловича в начале июля был схвачен и убит его родной брат Третьяк. Обвиняя чиновников в измене, Грозный перекладывал на них ответственность за бедственное положение страны и военные неудачи. Иван Висковатый был без сомнения выдающимся правительственньм деятелем своего века. Составитель Ливонской хроники Б. Руссов дает ему такую характеристику «отличнейший человек, подобного которому не было в то время в Москве; его уму и искусству… очень удивлялись иностранные послы». Итальянец А. Гваньини писал о нем как о «муже, выдающемся по уму, равного которому уже не будет в Московском государстве»[964]. Очень похожие отзывы мы встречаем у иностранцев и соотечественников об Алексее Адашеве и Борисе Годунове. Очевидно, это были политики равного дарования. Висковатый в полной мере ощутил превратности судьбы и страдал за свои ошибки и слабости. В свое время он усердно трудился ради свержения Сильвестра и Адашева, а его собственное падение готовили братья Щелкаловы – глава Разрядного приказа Андрей и управляющий Разбойной избой Василий. Висковатый всячески поддерживал планы развязывания Ливонской войны, но когда ее губительный исход стал очевиден, он безуспешно пытался отговорить участников Земского собора 1566 года от продолжения военных действий. Висковатый не протестовал против опричнины ни в момент ее учреждения, ни в летний кризис 1566 года, ни во время расправы над митрополитом Филиппом, и только карательный разгул в Новгороде подвиг его на запоздалые возражения. Кроме Висковатого и Фуникова были приговорены к смерти руководители крупнейших ведомств – Поместного и Разбойного приказов, Большого прихода – главного финансового органа России. Казни, состоявшиеся 25 июля 1570 года на Поганой луже в Китай-городе, продолжались четыре часа. В тот день от рук палачей погибло более ста человек – москвичей и новгородцев. При этом царь поведал собравшимся на площади горожанам, что он намервался погубить всех жителей Москвы, но уже отложил свой гнев. Это дает основание полагать, что Москву ждала участь Новгорода, но разгром столицы совершенно подрывал экономику и безопасность страны, а значит, угрожал будущности самого царствования Ивана. Скорее всего, именно это соображение остановило царя и спасло столицу от опричной вакханалии. Ханский огонь Карательные планы московского царя в следующем году довершил крымский хан. Весной 1571 года Девлет-Гирей выступил в поход на Русь. К крымским татарам присоединились ногайские орды и отряды черкесских князей, что дало основание хану объявить священную войну против русских. Правда, первоначально он не собирался нападать на русскую столицу, а намеревался ограничиться набегом в район Козельска. Но планы Девлет-Гирея изменились, после того, как в его лагере объявился перебежчик – галицкий сын боярский Башуй Сумароков, о котором известно, что он бежал с Дона в Азов. Очевидно, Сумароков был помещиком, насильно переселенным из взятого в опричнину Галича на земские земли в верховьях Дона, да не прижился там и ушел к татарам. Затем к хану явилась целая группа перебежчиков, которые, как и Сумароков, убеждали хана идти на Москву, где «по два года была меженина великая и мор великой… многие люди вымерли, а иных многих людей государь в своей опале побил». Перебежчики также сообщали, что основные военные силы находятся в Ливонии, а сам царь находится в Серпухове с небольшим опричным войском. Боярский сын из Белева Кудеяр Тишенков вызвался показать броды на Оке и выступить проводником. «Беззаконные убийства и произвол посеяли семена раздора и ненависти, давшие обильные всходы. Ни одна военная кампания не знала такого числа перебежчиков, как кампания, последовавшая за новгородским погромом и московскими казнями», – отмечает Р.Г. Скрынников[965]. Действительно, скорее всего отчаянием и ненавистью к царю – погубителю можно объяснить феномен массовой измены весной 1571 года. Политика Ивана привела не только к хозяйственному, но и глубокому нравственному кризису общества. Иван научил русских людей не останавливаться в выборе средств для достижения своих целей: теперь они готовы были отдать на растерзание своих соотечественников, население огромного города в надежде, что татары уничтожат Ивана и его ненавистный режим. Татары пограбят и вернутся в степь, но прекратить опричный кошмар способна только гибель Ивана, – так могли рассуждать перебежчики. Во всяком случае, ими двигали не страх, – они сами являлись к хану, и вряд ли меркантильные соображения: ненависть и боль толкали их на предательство. «..Каково тем, у кого мужей и отцов различной смертью побили неправедно?!» – гневно восклицал сбежавший в Литву пятью годами ранее стрелецкий голова Тимофей Тетерин[966]. Надвигающаяся трагедия была предопределена всей деятельностью Ивана за последние годы. Тактика предупреждающих рейдов против татар, с таким успехом проводимая на рубеже 50 – 60-х годов, постепенно сменилась пассивной обороной. Но и в ее рамках были возможны эффективные действия против набегов. Предыдущим летом 1570 года сторожевые отряды своевременно предупредили о вылазке крымцев и отогнали их в степь. Но бдительность пограничной стражи вызвала раздражение Грозного, так как те преувеличили размер опасности. Теперь сторожевые разъезды боялись проявлять служебное рвение. Потом Иван примется бранить воевод за то, что они не смоли выяснить расположение и численность татарской орды, но будет поздно. По злой иронии судьбы число татарского войска 1571 года примерно соответствовало прошлогодним прогнозам пограничной стражи – 30 – 40 тысяч. Между тем в Разрядных книгах донесения сторожей за май 1571 года вообще не фигурировали[967]. Незначительное русское войско все же было собрано, но даже в столь сложной обстановке Грозный не смог обойтись без кровавых выходок. Иван приказал казнить командующего Михаила Черкасского после того, как в лагере появился слух о том, что в крымском набеге участвует его отец. Казнь Черкасского явно не способствовала поднятию боевого духа русского войска, что играло на руку татарам. Хотя хан был уже близко, обычно эффективная московская разведка, очевидно, на сей раз бездействовала, так как русские полки собрались в Серпухове, как обычно, прикрывая Москву с юга, в то время как хан, по совету Тишенкова, форсировал Оку западнее и стал обходить русских с фланга. Когда об этом маневре узнали в Серпухове, Иван поступил как истинный Рюрикович, – поспешно бросил войско и вместе с опричными отрядами бежал мимо Москвы в Ростов. Итак, Грозный бросает войско, бросает на произвол судьбы столицу и, более того, уводит с собой часть войска. «Пришел я в твою землю с войсками, все поджег, людей побил; пришла весть, что ты в Серпухове, я пошел в Серпухов, а ты из Серпухова убежал; я думал, что ты в своем государстве в Москве, и пошел туда; а ты и оттуда убежал», – с откровенной издевкой писал после Ивану Девлет-Гирей[968]. Видно, что хан, как и перебежчики, рассчитывал на личную встречу с московским государем на поле брани, но события мая 1571 выявили еще одно качество Иванова характера – трусость. Правда, земские войска сделали все, чтобы отстоять столицу. Командующий Иван Вельский даже отважился на вылазку. Беспокоила хана и мощная крепостная артиллерия. Но 24 мая татары подожгли московские посады. Благодаря поднявшемуся ветру пожар принял чудовищные размеры, весь город сгорел за три часа. Даже осаждавшие не смогли воспользоваться столь удачным для них поворотом событий: попадая в город татары, как и жители, гибли от огня, дыма, великой тесноты. Погиб и князь Вельский. А после того как огонь стал утихать, оказалось, что больше нечего грабить и некого брать в полон. По свидетельству современника, в Москве осталось не более трехсот боеспособных людей. Два месяца пришлось разбирать улицы от трупов. Хан повернул в Рязанскую землю и разорил 36 городов к югу от Оки. Татары хвастались, что перебили 60 тысяч русских и столько же увели в полон. Голландец Ян Стрейс, прибывший в Москву в декабре 1668 года, сообщал, что раньше, до того как город опустошили татары, он был в два раза больше[969]. Выходит, почти столетие спустя после набега Девлет-Гирея, Москва не оправилась от его страшных последствий, которые по масштабам своим значительно превосходили более поздние опустошения Смутного времени. Глава 17 МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ Я с самого детства, как услышу, бывало, «с малыим», так точно на стенку бы бросился. Я всю Россию ненавижу… Августейшая смердяковщина Вскоре после новгородского погрома и ханского нашествия Иван охладел к опричнине, которая фактически перестает существовать после 1572 года. Для историков отмена опричнины представляется такой же загадкой, как и ее учреждение. В частности, считается, что Иван убедился в неэффективности опричного войска в ходе майских событий 1571 года. Но Грозный упрекал в нерадивости земских воевод, которые царю «о татарском войске знать не дали». Официальным виновником разгрома признали старшего боярина Ивана Мстиславского, повинившегося в том, что «навел» на Москву татар. Б.Н. Флоря считает, что причиной отмены опричнины стали «злоупотребления, которые превзошли все то, что имело место в предшествующие годы». «Следует сразу сказать, что ничего подобного царь от своих действий не ожидал, но все эти чудовищные злоупотребления явились неизбежным следствием избранной им политики», – спешит прибавить исследователь. Ссылаясь на свидетельство Штадена о том, что царь-де «хотел искоренить неправду у правителей», Б.Н. Флоря считает, что новый порядок должен был устранить злоупотребления в деятельности управлявших страной знатных вельмож и приказных людей[970]. Неясно, правда, какие именно меры царя вели к искоренению неправды и как этому могло способствовать разделение страны. Неясно, почему историк так доверчиво отнесся к демагогическим приемам пропаганды Грозного. В этом случае нужно с таким же слепым почитанием относиться и к его жалобам на «измены» всей служилой верхушки, которые он преподносил как повод к введению опричнины. Князь Семен Шаховской, основываясь на рассказах свидетелей опричнины, писал о том, что Иван разделил Россию на две части: «.. часть едину себе отдели… и заповеда своей части оную часть людей насиловати и смерти предавати». Приводя это суждение, Б.Н. Флоря тут же оговаривается, что, «устанавливая новый режим, царь, конечно, не преследовал подобной цели, но такое положение в стране действительно сложилось как закономерное (хотя и непредвиденное) следствие проводимой им политики»[971]. При этом Б.Н. Флоря приводит сообщение того же Штадена о том, что Иван Грозный фактически отдал земским судьям приказ, запрещающий осуждать опричников. («Великий князь послал в земщину приказ: «судите праведно, наши виноваты не были бы»[972].) Любое судебное разбирательство оборачивалось против земца, что дало сигнал к открытому разбою со стороны опричников, которые безнаказанно грабили и вымогали деньги, пытали и убивали. Неужели самодержец, порушивший основы законности и порядка в государстве, не предвидел последствий своих шагов? Или все-таки у нас больше оснований считать беззаконие не побочным эффектом опричнины, а ее целью? Примечательно, что как Б.Н. Флоря на исходе XX века, так и С. Ф. Платонов в самом начале столетия уверены, что итоги опричной политики не соответствуют ее замыслам. «Цель опричнины – ослабление знати – могла быть достигнута менее сложным путем, – сокрушается С.Ф. Платонов. – Тот же способ, который был Грозным применен, хотя и оказался действенным, однако повлек за собою не одно уничтожение знати, но и ряд иных последствий, каких Грозный вряд ли желал и ожидал»[973]. Подобные рассуждения напоминают доводы адвоката, который, оправдывая действия душегубца, принялся бы утверждать, что подзащитный собирался избавить свою жертву, скажем, от головной боли, но не предвидел в полной мере последствий избранного им способа действий. Грозный действовал в полном соответствии со своими намерениями и вполне осознанно вел дело к одной цели. Его представления о стране, которой он намеревался управлять, оказались несовместимы с реальной Московской Русью. Несовместимость устранялась только одним способом – уничтожением страны. Дъяк Иван Тимофеев, вслед за Шаховским, совершенно ясно указывает на мотивы, которые двигали Грозным, и методы, им избранные: «От замысла, исполненного чрезмерной ярости на своих рабов, он сделался таким, что возненавидел все города земли своей и в гневе своем разделил единый народ на две половины, сделав как бы двоеверным…»[974] Двоеверным значило тогда непримиримо враждебным. Грозный «произвел в земле великий раскол, – тем самым, по мнению Тимофеева, Бога самого премилистивого ярость против себя разжег этим разделением, как бы предсказывая теперешнее во всей земле разногласие»[975]. Едва ли не губительнее общественно-политического и экономического кризиса оказалась духовная ржавчина, порожденная опричниной. Костомаров считал, что «учреждение опричнины… было таким чудовищным орудием деморализации народа русского, с которым едва ли что-нибудь другое в его истории могло сравниться»[976]. Поставив себя на место Всевышнего, но при том, сея зло и беззаконие, Грозный разрушил традиционную иерархию ценностей русского человека, который с этого времени теряет нравственные ориентиры. Добродетель и порок, правда и ложь – во времена Ивана все это постоянно менялось местами, именами и обличиями. «Опричнина не только разорила страну, она ее развратила, – пишет столетие спустя A.M. Панченко. – …большая ложь и тирания Грозного, его религия силы, надорвали русскую душу»[977]. Опричнина – это апофеоз ненависти, смердяковщина, возведенная в ранг государственной политики. Грозный на все века преподал наглядный урок российским правителям, продемонстрировав впечатляющий способ расправы с собственным народом. Учредив опричников, Грозный нарисовал прообраз российской интеллигенции, особого сообщества, предназначенного для проведения в жизнь новаций, либо непонятных «низам», либо направленных непосредственно против них. Этот, говоря словами Достоевского, «совсем чужой народик», или, выражаясь высоким слогом, искусственный продукт этнической мутации, дебютировал именно при Грозном. Царь прекрасно понимал, что беспрекословно выполнять его приказы и безжалостно бороться с «землей», способен тот, кто порвал все связи со средой, его породившей, Иваны не помнящие родства – воздвигнутые из камня «чада Авраамовы». По свидетельству Штадена, согласно присяге, опричники не должны были говорить ни слова с земскими, ни сочетаться с ними браком, а если у опричника были в земщине отец или мать, он не смел их никогда навещать[978]. Только после того как страна в том виде, в каком мы ее видели еще в 50-х годах, перестала существовать, после того как ее хозяйственный и нравственный фундамент были разрушены, надобность в аппарате разрушения – опричнине отпала. Как сообщал литовец Филон Кмита в ноябре 1572 года: «Великий князь с землею своею умирил и опричнину зламал…»[979] Фактически Грозный заключил перемирие с Россией и распустил войско, созданное для войны с земцами. В этом же году прекращается строительство вологодской крепости, государева двора на Торговой стороне Новгорода, прекращаются переговоры о предоставлении политического убежища в Англии. Война закончена! Но во что превратилась Русь за эти страшные годы! До новгородского похода целенаправленному разорению подверглись лишь некоторые особо «провинившиеся» перед царем области. В мае 1569 года в вотчинах Старицкого Успенского монастыря, расположенных в Тверском уезде, пустовало треть деревень, а в Кашинском и Старицком – до половины[980]. Немудрено, ведь Старица после расправы над князем Владимиром Андреевичем на время превратилась в эпицентр опричного террора. В течение полутора лет – с января 1570 по май 1571-го – опричным отрядам Грозного и орде Девлет-Гирея удалось опустошить большую часть России. От погрома уцелело лишь беспокойное колонизируемое Поволжье. Даже далекое Поморье не избежало общей печальной участи. Так после появления здесь отряда опричника Басарги множество дворов в Поморье совершенно запустело[981]. В центральной части страны, казалось, меньше должны были пострадать владимиро-суздальские и ярославские земли. Однако Джильс Флетчер видел «многие деревни и города в полмили или в целую милю длины совершенно пустые, народ весь разбежался по другим местам от дурного с ним обращения и насилия. Так по дороге к Москве, между Вологдой и Ярославлем, встречается по крайней мере до пятидесяти деревень, иные в полмили, а иные в целую милю длины, совершенно оставленные, так что в них нет ни одного жителя. То же можно видеть и во всех других частях государства»[982]. По подсчетам С.Ф. Платонова, в Московском уезде служилые люди оставили впусте почти две трети от общего количества пашни, каким могли бы владеть[983]. Однако последние исследования демонстрируют еще более удручающую картину. По подсчетам Е.И. Колычевой, общий процент запустения в помещичьих хозяйствах Московского уезда достиг 98, 2%. «Есть основания считать, что в 70-х гг. в Московском уезде поместное хозяйство как система перестало существовать», – заключает исследовательница[984]. Запустение коснулось и земель привилегированного Волоцкого монастыря, крестьяне которого «изнемогают от всяких государевых податей, потаму што платят з живущего и за пусты»[985]. Что же говорить о тех местностях, где гостевал царь Иван и его подручные. На землях Краснохолмского монастыря (тверской Бежецкий Верх) к 1575 году было 5740 пустых вытей, тогда как в 1564 году их не было вовсе[986]. «Царь учинил опричнину и оттого бысть запустение велие Русской земли», – заключает псковский летописец[987]. Но и после отмены опричнины кризисные явления нарастали. Если в 1572/73 году в имении Рязанского Богословского монастыря пустые дворы составляли 32%, то в 1574/75 году этот показатель составил 80%. К июлю 1584 года во владениях Симонова монастыря, расположенных в 14 уездах, пустовало свыше 90% посевных площадей[988]. К общественным потрясениям добавились природные. «Рожь обратилась травою мялицею», «бысть глад великий», – сообщают летописи. Наибольший урон меженина и мор нанесли в центральной полосе государства. Неудивительно, что в 70 – 71-х годах резко возросли цены на хлеб, неуклонно снижавшиеся с начала 60-х годов[989]. Зарастающие поля, опустевшие деревни, заколоченные церкви – эта картина типична для постопричной России. Революция пожирает своих детей Опричнину сменила антиопричнина. Такое определение действиям Грозного в середине 70-х годов дает А.А. Зимин[990]. Жертвы новых масштабных казней летом – осенью 1575 года преимущественно принадлежали к числу опричников. В этом же году волею царя Ивана Васильевича государем Всея Руси был поставлен крещеный татарский князь Симеон. Это была тоже своего рода антиопричнина, а точнее, пародия на опричнину. Трагедия повторялась как фарс. Вновь «централизатор» Грозный разделил страну на две части, и вновь к своим владениям он применил термин «удел». Вновь эксперимент Ивана TV ознаменовался «перебором людишек» и разорением городов и весей. Ивана Васильевича недолго, примерно год, занимала его новая потеха. Со временем поводов для веселья и розыгрышей становилось все меньше. Ливонская война, несмотря на отдельные успехи, окончательно оборачивалась для России поражением. К внешнеполитическим провалам добавилась семейная трагедия, поставившая под вопрос будущее династии. 9 ноября 1581 года Грозный совершил убийство царевича Ивана. Новым наследником стал Федор, другой сын Анастасии Романовой. Современники дружно отмечали неспособность будущего монарха к государственному правлению. Публицисты Смутного времени писали, что Федор «не радея о земном царствии мимоходящем, всегда искал непреходящее» и «ни о чем имел попечения, кроме душевного спасения». Иностранцы – Л. Сапега, П. Петрей, Дж. Флетчер – прямо намекали на его слабоумие. Последнее время наблюдаются попытки пересмотреть этот традиционный взгляд. В частности, Л. Е. Морозова ставит себе целью доказать, что эти характеристики необъективны; по ее мнению, иностранцы попросту чернили личность Федора, так как представляли государства, враждебные России[991]. Но почему же в таком случае иноземные наблюдатели не подвергали сомнению умственные способности отца Федора Иоанновича, его деда и прадеда, таких русских государственных деятелей, как Адашев, Висковатый, Годунов, братья Щзлкаловы, а напротив, возносили хвалу уму и таланту этих исторических деятелей? Да и не все иностранцы уничижительно отзывались о последнем Рюриковиче. Так, участвовавший в интервенции против России поляк Николай Мархоцкий сообщает, разумеется с чужих слов, следующее: «Федор был очень тихим и набожным, находя больше отрады в церковных делах, чем в государственных»[992]. Как бы то ни было, не приходится сомневаться в том, что Федор Иванович не собирался брать в свои руки дела управления. По нежеланию либо по неспособности – не так уж и важно. В подобных обстоятельствах огромное значение приобретали люди, имевшие влияние на будущего государя. Такими людьми были Борис и Ирина Годуновы. Борис Федорович Годунов, происходивший из рода костромских вотчинников средней руки, родился в 1552 году. Началу его придворной карьере способствовал дядя Дмитрий Васильевич Годунов, занимавший должность постельничего. Постельничий помимо прочего ведал охраной царских покоев, что в тревожные опричные времена приобретало особое значение[993]. Юноша начинал в свите царевича Ивана Ивановича под начальством Василия Петровича Яковлева-Захарьина. Таким образом, первые шаги Годунова при дворе напоминают путь Алексея Адашева. Оба, кстати, достигнув определенного положения, стали врагами Захарьиных-Юрьевых-Романовых.  Царь Федор Иоаннович
Борис Годунов вступил в опричнину, но на первых порах оставался фигурой незаметной. В 1570 году он сделал первый шаг к возвышению: рядовой опричник женился на дочери главного опричника Малюты Скуратова. «Женщины играли большую роль в судьбе Бориса Годунова», – заметил А.А. Зимин[994]. Скажем больше: в этом смысле Годунов фигура уникальная в отечественной истории. Породнившись с Малютой, Борис Федорович принялся укреплять свое положение посредством брачных союзов. В 1571 году женой царя стала Марфа Собакина, которой покровительствовали Скуратов и Годунов. Царица вскоре умерла. Но тесть и зять преуспели на другом фронте: наследник Иван Иванович сыграл свадьбу с родственницей Годунова Евдокией Сабуровой, а в 1575 году сестра Бориса Ирина стала женой царевича Федора. Даже боярином Годунов стал по матримониальному поводу – «на радостях» по случаю очередной, шестой по счету, свадьбы царя в 1580 году. Правда, это событие чуть было не омрачило желание Грозного развести Федора с неплодной Ириной. Однако тихий царевич проявил твердость и намерениям отца не суждено было осуществиться. Пять «негритят» 18 марта 1584 года умер Иван Васильевич Грозный. Версию о насильственной смерти царя высказывали русский Тимофеев, поляк Жолкевский, голландец Масса и француз Делавиль. Говорили и о причастности к смерти царя Годунова. Смерть тирана выгодна очень многим, поэтому мы не беремся судить о достоверности этих сообщений. Царский трон занял Федор Иванович, а власть перешла к регентскому совету из пяти лиц: брата Анастасии Романовой Никиты Юрьевича, героя обороны Пскова Ивана Петровича Шуйского, многолетнего думского головы Ивана Федоровича Мстиславского, бывшего опричника и последнего фаворита Грозного Богдана Яковлевича Вельского (не имевшего никакого отношения к Гедиминовичам князьям Вельским) и Бориса Федоровича Годунова. Регенты при Федоре Ивановиче перессорились столь же быстро, как и регенты при маленьком Иване и Елене Глинской. Зачинщиком раздора обычно выступает тот, кто считает, что сила на его стороне. Так думал Богдан Вельский, поскольку мог рассчитывать на поддержку «двора», который Р.Г. Скрынников называет двойником опричнины[995]. Власть если не в Москве, то хотя бы в Кремле перешла к Вельскому. Однако земские дворяне отказались подчиняться временщику. Тогда Вельский собрал в Кремле дворовое войско и попытался уговорить царя Федора возродить опричнину, рассчитывая распустить регентский совет и править единолично. Попытка переворота стала толчком к восстанию[996]. Среди горожан распространилась весть, что «Богдан Белской своими советники извел царя Ивана Васильевича, а ныне хочет бояр побити». Возбужденные москвичи «с великою силою» подошли к Кремлю. Царь послал Юрьева, Мстиславского и дъяков Щелкаловых выяснить причины волнений. В ответ они услышали: «Выдайте Богдана Белского!»[997] Некоторые очевидцы, в частности голландский купец Исаак Масса, отмечали популярность среди восставших Никиты Юрьевича Романова. «Вооружившись луками, копьями, дубинами и мечами, народ ринулся к Кремлю, ворота которого были заперты. Поэтому они разгромили все лавки и арсенал, откуда взяли оружие и порох, намереваясь взломать ворота, и кричали: „Выдайте нам Никиту Романовича!“ Народ был весьма расположен к нему и страшился, что его изведут во время междуцарствия, ибо по причине своей добродетели имел он, по мнению народа, много врагов во дворе»[998]. Вельский был низвержен. Годунов и Вельский, в недавнем прошлом худородные опричники, были союзниками и скорее всего, единомышленниками. Не зря разгоряченная толпа требовала расправы не только над любимцем Грозного, но и над Годуновым, видя в нем сторонника реставрации опричных порядков. Борис Федорович, как всегда мгновенно оценив обстановку, отрекся от Вельского, тем самым сохранив свое положение. В эти тревожные апрельские дни 1584 года первым лицом в государстве стал Никита Юрьев. «Когда я выехал из Москвы? Никита Романович и Андрей Щелкалов считали себя царями и потому так и назывались многими людьми… Сын покойного царя Федор и те советники, которые достойны были управлять, не имеют никакой власти». Английский посол Боус, подразумевавший под достойными людьми Годунова, выехал из Москвы 12 мая[999]. Но уже через несколько дней обстановка изменилась. 24 мая, явно по наущению Годунова, царевича Дмитрия вместе с родственниками Нагими выслали в Углич. 31 мая в день коронации Феодора Годунов получил должность конюшего, упраздненную Грозным. Во время венчания в собор царя сопровождали шестеро Годуновых. Очевидно, что, по мере того как забывалась тревога, порожденная земским выступлением, опытный интриган Годунов, пользуясь поддержкой дворцового аппарата и влиянием на государя, все больше забирал власть в свои руки. Сознавая, что народ не допустит возвращения опричных порядков и открытую узурпацию власти, Борис Федорович стал действовать исподволь с помощью испытанных аппаратных маневров. В 1584/1585 году Дума выросла вдвое. Причем половина новых думцев принадлежала к годуновской группировке, что резко изменило соотношение сил в боярском синклите[1000]. Годунов, став конюшим, возглавил к тому же Земский приказ. Григорий Васильевич Годунов стал дворецким, Степану Васильевичу доверили Посольский приказ, Ивану Васильевичу – Стрелецкий. Исследователи отмечают смену воевод в крупнейших городах, в чем также угадывается рука царского шурина[1001]. Но в это же время усиливаются и позиции Шуйских. Становятся боярами Василий, Андрей и Дмитрий Шуйские. Ставленник суздальского клана Владимир Головин возглавил Казенный приказ. Похоже, что Годуновы и Шуйские достигли некой договоренности о разделе сфер влияния и о союзе против общих недругов. В результате этих договоренностей пострижен в Белоозере старый глава Думы Иван Мстиславский, а его сын Федор, занявший место отца в Думе с осени 1585 года, влиянием не пользовался. В апреле 1586 умер Никита Романович Юрьев. Таким образом, спустя два года после смерти Грозного на политической сцене осталось двое из пяти назначенных им регентов – царский шурин Борис Годунов и прославленный военачальник Иван Шуйский. «Известно, как дорог бывает для народа один успех среди многих неудач, как дорог бывает для народа человек, совершивший славный подвиг, поддержавший честь народную в то время, когда другие теряли ее, – пишет С.М. Соловьев, – неудивительно потому встречать нам известие, что князь Иван Петрович Шуйский пользовался особенным расположением горожан московских, купцов и черных людей»[1002].  Князь Василий Иванович Шуйский
Казалось, для князя Ивана не составляло труда одолеть непопулярного Годунова. Если бы он решил опереться на горожан и с помощью силы одолеть своего противника, никакие таланты царедворца не спасли бы многомудрого Бориса Федоровича. Летом 1586 года казалось, этот сценарий начинает воплощаться в жизнь: в Москве вспыхнул мятеж против Годунова. Москвичи «восхотеша его со всеми сродницы без милости побити каменьями». По мнению С.Ф. Платонова, «это было очень крупное дело, захватившее все слои московского населения, от митрополита и знатного боярина до простых служилых людей, государевых и боярских, и до торгового посадского люда»[1003]. Митрополит Дионисий выступил посредником: он позвал и Годунова, и Шуйских к себе, умолял помириться. В то время как бояре были у митрополита, у Грановитой палаты собралась толпа торговых людей. Когда князь Иван Петрович объявил купцам, что они, Шуйские, с Борисом Федоровичем помирились; из толпы выступили два купца и сказали ему: «Помирились, вы нашими головами: и вам от Бориса пропасть, да и нам погибнуть». Р.Г. Скрынников полагает, что Шуйские не воспользовались благоприятным моментом для расправы над Годуновыми по той причине, что не они выступали зачинщиками волнений[1004]. С данным предложением стоит согласиться. Однако кто же в таком случае затеял бунт против царского шурина? Мы можем назвать только одну силу, способную поднять народ на мятеж, – Романовы-Юрьевы. Именно потому Шуйские не поддержали антигодуновское выступление, ведь в случае его успеха другая могущественная фамилия получала бы преимущество. Князь Иван Петрович и его родня избрали другой способ, дабы отрешить от власти Годунова – пользуясь поддержкой митрополита Дионисия и крутицкого епископа Валаама, они решили развести Федора с Ириной Годуновой. Митрополит сочинил челобитную на имя царя, упрашивая государя, чтобы тот «чадородия ради второй брак принял, а первую свою царицу отпустил во иноческий чин». Царица могла повторить судьбу жены Василия III Соломонии Сабуровой, дальней родственницы Годунова. Иван, Петр Шуйский и другие бояре, гости московские и все люди купеческие, созвав своего рода земское совещание, согласились и утвердились рукописанием бить челом о разводе[1005]. План Шуйских имел свои преимущества. Даже если бы недругам Бориса Федоровича удалось под давлением земцев удалить того от двора, сохранилась бы реальная угроза того, что конюший сможет воздействовать на царя посредством Ирины. Заменив Годунову своей родственницей Мстиславской, Шуйские лишали своего противника важного преимущества. Однако они плохо изучили натуру Федора Ивановича. Царь трепетно дорожил своей супругой. Редкий монарх был так счастлив в браке (увы, если бы не бесплодие Годуновой…). Последний Рюрикович ценил свое семейное счастье и умел его защищать. Будучи царевичем, он нашел в себе силы перечить воле Грозного, будучи царем, отмел боярские уговоры. Победа над Шуйскими не оказалась бы столь решительной, если бы Годунову не удалось заручиться поддержкой романовского клана. Против развода с царицей Ириной выступили сыновья Никиты Романовича Федор и Александр Романовы, их родня Сицкий и Троекуров. Прежде Шуйские помешали Романовым одолеть временщика, теперь же Романовы сорвали замысел суздальских Рюриковичей. Так противники Годунова усердно подталкивали его к вершинам власти, готовя погибель себе и своим сторонникам. Нескоро, аж через десять лет, Годунов отблагодарит Никитичей, затеяв против них (как всегда чужими руками) местническую интригу, в результате которой униженные Романовы потеряли изрядную долю своего политического веса[1006]. Провал затеи Шуйских привел к казни шести торговых людей, вмешавшихся в дело о разводе царя. Шуйские были отправлены в ссылку. Из нее вернулся только будущий «боярский царь» Василий Иванович Шуйский. Князя Андрея удавили в Каргополе, а Ивана Шуйского люди Бориса схватили в Суздале и отвезли на Белоозеро, где замучили «огнем и дымом». Герой Пскова, как и герой битвы при Молодях 1572 года Михаил Воротьшский, принял мученическую смерть от рук «благодарных» соотечественников.  Боярин Федор Никитич Романов
Дионисий и Варлаам попытались предотвратить новый виток репрессий: «видя изгнание бояром и видя многие убивство и кровопролитие и начата обличати и говорити царю Федору Ивановичу неправду Годунова». Но заступники сами подверглись опале, как выразился летописец, «собрали углие на свою главу». В октябре 1586 года Дионисия, по замечанию А.В. Карташева, «человека с дарованиями и характером», лишили сана и сослали в Хутынский монастырь[1007]. Раз уж мы заговорили о делах церковных, то стоит отметить, что в эти времена рознь между заволжцами и любостяжателями давала о себе знать. Так, рязанский епископ Леонид жаловался Федору Иоанновичу на то, что ростовский владыка Евфимий обзывал волоцких постриженников «не осифлянами, а жидовлянами». Обреченные Рюриковичи Царский шурин одержал безоговорочную победу, сосредоточив в своих руках всю полноту власти, чего в Москве не собирались скрывать. Напротив, русские послы получили наказ растолковать иноземцам, что Борис Федорович «начальный человек в земле, а вся земля от государя ему приказана, и строение его в земле таково, каково николи не бывало». Действительно, в 1595 году Годунов получил титул «правителя», не имеющий прецедентов в русской истории. Флетчер писал, что Борис Федорович может считаться «по власти и могуществу царем Русским». Джером Горсей обращался к нему так: «Ты сам великий государь, Борис Федорович; как скажешь слово, так и будет!» «Эти слова не были ему неприятны, как я заметил, – он уже домогался венца», – резюмирует Горсей[1008]. 15 мая 1591 года совершилось трагическое событие, имевшее важное значение для судеб России: в Угличе погиб царевич Димитрий Иванович. За два года до этого Флетчер сообщал, что жизнь Димитрия «находится в опасности от покушений тех, которые простирают свои виды на обладание престолом в случае бездетной смерти царя»[1009]. Англичанин прозрачно намекал на царского шурина. «Достигнув первенства, Годунов должен был подумать о будущем, и будущее это было для него страшно, тем страшнее, чем выше было его положение настоящее: у Феодора не было сына, при котором бы Годунов, как дядя, мог надеяться сохранить прежнее значение, по крайней мере, прежнюю честь; преемником бездетного Феодора долженствовал быть брат его, Димитрий, удаленный в Углич при воцарении старшего брата…» – пишет С.М. Соловьев[1010]. Остается добавить, что Димитрий по общему отзыву современников ненавидел Бориса, видя в нем главного зачинщика своей ссылки. В Углич отправилась следственная бригада во главе с князем Василием Шуйским, по милости правителя вернувшегося из ссылки живым и здоровым. Несмотря на выводы комиссии, установившей, что царевич укололся ножиком в припадке падучей болезни, мало кто верил в официальную версию. Годунова и прежде недолюбливали. Теперь всякое несчастье – будь то пожар или татарский набег – объясняли происками конюшего. «Мне грустно было видеть, как в сердцах и мнении большинства возрастала ненависть к правителю за его лицемерие и жестокость, которую еще более преувеличивали»[1011]. – Горсей симпатизировал царскому шурину. Сочувственно относился к Годунову Иван Катырев – Ростовский. Тем не менее князь прибавлял, что «ко властолюбию ненасытное желание» погубило душу Бориса. Поклонник годуновских талантов С. Ф.Платонов отмечал, что Катырев-Ростовский тем самым «отдавал дань общим воззрениям той эпохи». Но каким же образом сформировались эти самые «общие воззрения»? Неужели исключительно благодаря стараниям позднейших апологетов Шуйских и Романовых? У нас нет оснований сомневаться в неприязненном отношении большинства современников к новоявленному правителю Руси. Это не означает, что у нас есть основания категорично обвинять Годунова в смерти Димитрия Ивановича. Стоит согласиться и с таким известным доводом в пользу его невиновности: в мае 1591 года Димитрий еще не представлял прямой угрозы для далеко идущих планов Бориса Федоровича. Но если бы смерть царевича открывала Годунову путь к престолу, убоялся бы он кровопролития? Не в мае 1591-го, так в другой день и год – Димитрий был обречен. Эта обреченность сквозит в реплике Флетчера, эту обреченность чувствовали и переживали русские люди. Поэтому, когда в январе 1598 года Федор Иванович умер бездетным и род Рюриковичей пресекся, в глазах народа главным виновником этой драмы стал Борис Федорович Годунов.  Царевич Дмитрий Углицкий
Завершая рассказ о трагической судьбе Димитрия Ивановича, поведаем об одной любопытной истории. В феврале 1598 года польский посланник Сапега сообщил, что Годунов имел при себе двойника-приятеля, похожего на Димитрия, сына Марии Темрюковны, которого он хотел выдать за покойного, если его самого не изберут на царство. С.Ф. Платонов отмечает в этом сообщении ряд очевидных нелепостей, в частности, Димитрий здесь назван сыном Марии, но не Нагой, а Пятигорки, второй жены Грозного. «Если судить по рассказу Сапеги, московские люди плохо помнили, чей сын и какого возраста был Димитрий, кем ему приходился Нагой…» – резюмирует историк[1012]. Но стоит ли обвинять москвичей в забывчивости. Со дня гибели царевича не прошло и семи лет. Возможно, кто-то забыл имя матери Димитрия Ивановича, но тот факт, что в Угличе принял смерть восьмилетний отрок, должен был накрепко отпечататься в народной памяти. Теперь остановимся на некоторых подробностях рассказа Сапеги. Поляк называет годуновского самозванца приятелем правителя. Между тем Димитрию, будь он жив в это время, не исполнилось бы семнадцати лет. Трудно представить приятельские отношения между юношей и сорокапятилетним Годуновым. Сапега пишет о Димитрии, «которого давно нет на свете», что опять не вяжется с возрастом погибшего царевича. Разумеется, эти нестыковки можно объяснить нелепостью самого слуха, пересказанного польским посланником. Но, по нашему мнению, прототипом годуновскому самозванцу послужил другой Димитрий Иванович – первый сын Грозного, утонувший в Шексне в июне 1553 года. Правда, он был рожден от брака с Анастасией Романовой. Но Мария Темрюковна также родила мальчика, умершего во младенчестве в мае 1563 года. С тех пор минули десятилетия, неудивительно, что об умерших царевичах остались смутные, отрывочные воспоминания. Скорее всего, в годуновском самозванце (или в слухах о нем) причудливо соединились черты первенца Ивана Грозного и сына Марии Пятигорки. Еще одна деталь: Годунов всячески подчеркивал, что рожденный во внецерковном восьмом браке Димитрий Угличский не может считаться легитимным наследником. По этой причине его имя в царствование Федора Ивановича запретили упоминать во время богослужений. Потому правитель никак не мог выставлять последнего сына Грозного в качестве претендента на престол. В остальном мы присоединяемся к важному выводу С.Ф. Платонова: «Рассказ не заслуживает малейшего доверия своею фабулой. Но важно появление такого рассказа в 1598 году. Значит, Борис еще не стал царем, а идея самозванства уже бродила в умах»[1013]. От себя добавим, что самозванство – это «спрос», оно появилось на свет, поскольку возникло «предложение», общество отвергало вероятных кандидатов на престол, и в первую очередь Годунова, и готово было предпочесть им представителя законной династии Рюриковичей. Или хотя бы их тень. Торжество народного волеизъявления В январе 1598 года царь Федор Иванович, чьим именем правил Годунов, умер. «Кто мог предположить, что такой, как и вы все, читающие, знаете благочестивый и благословенный род, укоренившийся и утвердившийся на царстве в течение многих лет и до событий последних лет не страдавший бесплодием, ныне без наследника прекращается и кончается», – риторически восклицает Иван Тимофеев[1014]. Борис Федорович остался один на один с политическими противниками и народом, который его не любил. На что же рассчитывал непопулярный правитель и почему в конечном итоге победу праздновал именно он, а не его главный оппонент всеобщий любимец Федор Никитич Романов? Одна из причин очевидна. По сообщению Маржерета, когда Борис Федорович начал стремиться к короне, он с этой целью начал благодеяниями привлекать народ. Куда бы ни отправлялся царь Борис, его поездки сопровождались щедрой раздачей милостыни. Борис мог покупать народную любовь не только за счет казны. Его ежегодный доход вместе с жалованьем доходил до 93 700 рублей. Наверняка это завышенная сумма, но, если даже мы сократим ее на порядок, все равно выйдет, что новый царь был богатейшим человеком России. После смерти последнего Рюриковича благотворительность Бориса Федоровича достигла астрономических величин. При воцарении Годунова служилым людям «на один год вдруг три жалованья велел дать», «а с земли со всей податей, дани и посохи, и в городовые дела, и иных никаких податей имати не велел», «и гостем и торговым людем в торгех повольность учинил». Во что обошлась истощенной казне выплата бонусов служилым вкупе со всеобщим и поголовным налоговым мораторием, летописи умалчивают. Заметим лишь, что временное послабление обернулось резким усилением налогового гнета. Так, доля урожая, шедшая на оплату государственных повинностей, в 1552 – 1556 годах составляла 8,7%, в 1586 – 1588 годах – 18,8%, а в 1601 – 1602 годах, то есть аккурат после затеянного Годуновым аттракциона неслыханной щедрости, – 30,2%.[1015] Л. Е. Морозова одну из глав своей книги о Годунове так и назвала «Стремление понравиться всем». Однако, по нашему мнению, Борис Федорович понимал, что всем понравиться невозможно, да и не обязательно. Популизм Годунова имел конкретный адресат – служилых дворян и детей боярских. Выходец из среды рядовых вотчинников Годунов хорошо представлял запросы служилых людей. Вскоре после венчания на царство Федора Иоанновича были отменены налоговые льготы для церковных земель – тарханы. При этом прямо отмечалось, что настоящая мера предпринята для обеспечения интересов служилых людей. В приговорной грамоте духовного собора от 20 июля 1584 года сказано: «Советовались мы и утвердились, чтоб вперед тарханам не быть; земли митрополичьи, архиепископские, владычни и монастырские в тарханах, никакой царской дани и земских разметов не платят, а воинство, служилые люди эти земли оплачивают; оттого большое запустение за воинскими людьми в отчинах их и поместьях; а крестьяне, вышедши из-за служилых людей, живут за тарханами в льготе, и от того великая тощета воинским людям пришла.» Правда, в октябре того же года тарханы восстанавливаются. По предположению С.М. Соловьева, одновременно с восстановлением тарханов должен был появиться закон о прикреплении крестьян к земле, так как требовалось дать служилым людям обеспечение, необходимость которого была так торжественно провозглашена на соборе[1016]. Заигрывая с дворянством, Годунов все более закабалял крестьян. Так, власти издали распоряжения об «обелении» (освобождении от податей) помещичьей запашки, перекладывая податное тягло на низшие сословия. Дворяне должны были знать, от кого именно исходят милости. Когда правительство царя Федора объявило о прощении «нетчиков», детей боярских, уклонявшихся от службы, в указе особо подчеркивалось, что эта мера проведена по «печалованию» Годунова[1017]. Очевидно, посол Ф.М. Троекуров имел полное основание сообщить полякам о том, что число людей, служащих Федору Ивановичу, удвоилось против прежнего, «потому что к людям своим он милостив и жалованье им дает, не жалея своей государственной казны, и люди ему все с великим радением служат…»[1018]. Горсей даже говорит о «вновь созданном» Борисом дворянстве[1019]. На служивый люд, по выражению Р.Г. Скрынникова, «провинциальную мелкопоместную мелкоту», им облагодетельствованную, и опирался Годунов. Другой его могучей опорой стало духовенство, возглавляемое патриархом Иовом. Свой первый духовный чин Иов получил в Старице «благорассмотрением» Грозного в разгар казней, когда прежний стольный город князя Владимира Андреевича стал главной опричной резиденцией. Иов и Борис стали неразлучны. Опричник с метлой за седлом и опричник в рясе чувствовали родство душ: оба пытались выжить в кровавой мясорубке, и не только выжить, но и ценой любых преступлений и подлостей достичь «степеней известных». И им это удалось. Борис возвышался за счет жены и сестры, а Иов – за счет Бориса. Иов стал ростовским архиепископом, затем сменил неугодного Годунову Дионисия на первосвятительском престоле, а в январе 1589 года был избран первым русским патриархом. Учреждение на Москве патриаршества обычно представляют торжеством русской православной церкви. На самом деле ее новый статус явился не закономерным итогом достижений митрополии на духовной стезе, а результатом все тех же аппаратных игр с греческими церковными чинами и интриг, до которых Борис и Иов были большими охотниками. Независимость от Константинополя совершенно лишила церковь любой, даже номинальной, возможности быть независимой от светской власти. За наспех воздвигнутыми пышными декорациями скрывались разоренные монастыри, духовное оскудение народа, приниженный до небывалой степени авторитет московских первосвятителей, епископата и рядовых священников. Олицетворением пугающего контраста между видимостью и сутью нового положения церкви стала фигура первого русского патриарха – серого, раболепствующего человечка, проявлявшего энергию и выдумку только в тех случаях, когда требовалось пособить своему хозяину Годунову. Главным испытаниям для партнеров стало избрание Бориса Федоровича на царство. Многое было за Годунова, но есть известия, что сильны были и препятствия, сильны были враги. Иов вспоминал: «В большую печаль впал я о преставлении сына моего, царя Феодора Ивановича; тут претерпел я всякое озлобление, клеветы, укоризны; много слез пролил я тогда». Сразу после смерти Федора Ивановича б января 1598 года было объявлено, что править страной будет царица Ирина. По велению «изрядного правителя» Бориса Годунова бояре целовали крест новой государыне. В церквах даже стали петь многолетие царице, чем привели в изумление православный люд. Несмотря на пышные церемонии, все понимали, что сложившееся положение временное. Сама царица вскоре объявила о намерении передать власть Думе и удалиться в монастырь, что произошло уже 15 января. В Москве объявили о созыве избирательного Земского собора, и сторонники Годунова, не мешкая, разработали проект «Соборного определения» об избрании Бориса на трон. Однако годуновский проект члены Земского собора не утвердили. Из Москвы в Польшу поступали известия о том, что фаворитом предвыборной кампании является Федор Романов – «все воеводы и думные бояре согласны избрать его…». За бортом избирательной гонки оказались Гедиминовичи. Князь Федор Мстиславский не вышел в фавориты вследствие «родовой бесхарактерности Мстиславских» (выражение Соловьева), а потомки Патрикия Наримонтовича Голицыны еще не завоевали к тому времени достаточный политический вес. Партия Шуйских, как мы помним, была разгромлена. Однако положение Годунова было шатким. Немецкий агент доносил из Пскова, что «простолюдины весьма недовольны Годуновым и его шайкой». Опасаясь нападения со стороны москвичей, Годунов вынужден был укрыться в Новодевичьем монастыре. Но тут в ситуацию вмешался Иов. Дальнейшая работа Земского собора, грозившая неприятностями для Бориса, была свернута патриархом под предлогом того, что необходимо выждать сорок дней со дня смерти царя. 17 февраля, когда истек траур по последнему Рюриковичу, Иов собрал на патриаршьем подворье собор, по предположению Р.Г. Скрынникова, состоявший из сторонников Годунова, подписавших упоминавшееся выше «Соборное определение»[1020]. В списках участников собора участвовало 160 духовных лиц – значительно больше в абсолютном и процентном отношении, чем на соборе 1566 года. Надо ли говорить, что большинство клириков подчинялось указаниям патриарха Иова. Из 337 служилых людей почти две трети (248 человек) приходилось на думцев, московских дворян и придворных чинов, то есть представителей дворцового аппарата и служб, зависимых от Годуновых[1021]. Прогодуновский собор снова подготовил документ об избрании Бориса Федоровича на царство. В отличие от прежнего варианта выдумка о благословении Бориса Федором Ивановичем заменила выдумка о благословении Ивана Грозного[1022]. В это же время собравшиеся в Кремле бояре, посовещавшись, обратились с предложением к народу принести присягу Думе. Если бы думцы пришли к согласию и выдвинули кандидатуру Федора Романова, трудно предположить, что помешало бы потомкам Юрия Захарьина занять престол в 1598 году, а не пятнадцать лет спустя. Но боярская вражда помешала им договориться и выставить единого кандидата. Данное обстоятельство сыграло роковую роль. Земство осталось без вожака, противники Годунова оказались разобщены, а ряды его сторонников сплотились и заметно расширились. Бориса Федоровича поддержали стрельцы и «чернь почти вся». Вспомним, что Стрелецким приказом руководил Иван Васильевич Годунов, который, безусловно, помог подчиненным сделать правильный выбор. Среди стрельцов и горожан вело агитацию за Бориса духовенство. Число сторонников Бориса Федоровича пополнила еще одна категория граждан. Еще 8 января Ирина Годунова, явно по наущению брата, издала указ о всеобщей амнистии. Тати и разбойники, обретя свободу, попали в число облагодетельствованных претендентом на царский престол. Годунов и его окружение, чувствуя, что их противники упустили инициативу из своих рук, приступили к организации невиданных доселе на Москве широкомасштабных предвыборных акций. 20 февраля состоялось шествие к Новодевичьему монастырю, участники которого слезно умоляли Бориса Федоровича занять трон. Вместо этого Годунов поведал о намерении постричься в монахи. Скромников и изгнанников на Руси жалеют. Своим отказом Борис если не очистился от подозрений, то посеял сомнения в его причастности к убийству царевича Димитрия. В настроениях горожан наметился и перелом. У них не оставалось выбора – либо многоопытный и благонравный государственный муж Годунов, либо боярский синклит, чреватый раздорами, чье правление обещало тревожную неизвестность. Годуновцы решили не мешкая развить успех. По указанию Иова, вечером того же дня открылись все церкви, а после ночного богослужения священники с иконами в руках, увлекая за собой паству, вновь двинулись к Новодевичьему. Представители духовенства, обращаясь к Борису, пригрозили, что в случае его отказа взойти на престол они затворят церкви, бояре обещали сложить с себя полномочия, а дворяне – не биться с неприятелем[1023]. Уступая многочисленным просьбам, молениям, увещеваниям и, наконец, угрозам, Борис Федорович согласился-таки надеть на себя Мономахов венец. Посчитав, что чаша весов окончательно склонилась в его пользу, 27 февраля Годунов решился покинуть свое убежище в Новодевичьем и прибыть в Кремль, где Иов проводил его в Успенский собор и благословил на царство. Однако, по мнению Р.Г. Скрынникова, бояре отказались присягать Годунову и тот после долгого совещания с патриархом счел за благо вернуться в Новодевичий. Перелом еще не наступил. Сторонникам Бориса пришлось начинать все сначала. В начале марта Иов вновь собрал на своем подворье соборное совещание, которое повторно «избрало» Годунова на царство. Затем Иов направил епархиальным владыкам указание созывать народ, зачитать грамоту об избрании Бориса и петь новому царю многолетие. Таким образом Годунов становился царем, минуя Думу. Казалось, столкновение между двумя партиями неизбежно. Но… С начала марта по Москве начали распространяться слухи о том, что крымские татары идут на Русь. 1 апреля Разрядный приказ объявил, что хан Казы-Гирей собирается на Москву «со всею ордою и с полками турецкими». 20 апреля Разряд подтвердил, что крымский хан идет на Русь. В тот же день Годунов заявил, что лично возглавит поход. А по городам разъезжали посланцы Бориса, раздавая служилым жалованье. Так что воинники, прибывая на сбор войска, знали, от кого ждать благодеяний. Все эти слухи и военные приготовления, видимо, в известной мере парализовали думцев. А сторонники Годунова решили еще раз задействовать проверенный сценарий, обогащенный новыми вариациями. В конце апреля состоялось очередное шествие к Новодевичьему монастырю. Здесь был разыгран новый спектакль. Визитеры упрашивали Бориса прибыть в Кремль и взять бразды правления в свои руки, в ответ Годунов отрекся от престола. Тут вмешалась Ирина Годунова – ныне инокиня Александра – и повелела брату перебираться в Кремль: «Приспе время облещися тебе в порфиру царскую». Годунову вновь ничего не оставалось делать, как подчиниться давлению. 30 апреля он вселился в кремлевские палаты, а верный Иов возложил на Бориса Федоровича крест св. митрополита Петра, что устроители церемонии мыслили как первый этап «начала царского государева венчания». Пока противники искали приемлемый ответ на неожиданный ход Годунова, он уже совершал новый маневр, ставя в тупик своих деморализованных оппонентов. Сделав очередной шаг к достижению своей цели, исполняющий обязанности царя 2 мая выехал в Серпухов, откуда распоряжался устройством рати. Устройство заключалось большой частью в том, что Борис Федорович «подавал ратным людям и всяким жалованье и милость великую; они все, видя от него милость, обрадовались, чаяли и вперед себе от него такого же жалованья». У служилых было немало других поводов для радости. По свидетельству Маржерета, Годунов давал пир на протяжении шести недель почти ежедневно, всякий раз на 10 000 человек. Неизвестно, сколько продолжались эти веселые военные сборы, если бы 29 июня не появились татары. Правда, это оказалось не ханское войско, а несколько послов, очевидно, нимало пораженных тем, что их встречает такое скопление хорошо отдохнувших людей. Царь пожаловал послов великим жалованьем и отпустил с большою честию. В тот же день после заключительного банкета Годунов отбыл в Москву. Поднаторевшие за несколько месяцев в устройстве грандиозных политических шоу годуновцы превратили в оное и возвращение Бориса Федоровича в столицу. «Сюда он въехал с большим торжеством, как будто одержал знаменитую победу или завоевал целое царство иноплеменное, – с иронией замечает С.М. Соловьев, – патриарх с духовенством и множеством народа вышли к нему навстречу; Иов благодарил за совершение великого подвига, за освобождение христиан от кровопролития и плена: «Радуйся и веселися, – говорил он Борису, – Богом избранный и Богом возлюбленный, и Богом почтенный, благочестивый и христолюбивый, пастырь добрый, приводящий стадо свое именитое к начальнику Христу Богу нашему!»[1024] На самом деле у Годунова был законный повод радоваться и веселиться. Де-факто сын костромского вотчинника воцарился на Руси. «В серпуховском лагере правитель добился того, что его признали как столичные дворяне, так и вся масса уездного дворянства», – заключает Р.Г. Скрынников[1025]. На Думу теперь можно было не обращать внимания. Да и сами бояре уже вряд ли помышляли о противодействии новоявленному дворянскому кумиру. «Знатнейших он напугал и сделал несмелыми, менее знатных и ничтожных подкупил, средних между ними не по достоинству наградил многими чинами…» – так формулирует секрет успеха Годунова дьяк Иван Тимофеев[1026]. В Москве говорили о том, что слух о приближении татар распустил сам Борис. Весьма правдоподобное предположение. Не только потому, что этот набег случился как нельзя кстати для Годунова и помог ему утвердиться на престоле. Вспомним обстоятельства предыдущего набега Казы-Гирея летом 1591 года. Уже в конце 1590 года стало очевидно агрессивное настроение хана. Когда прибывший в Бахчисарай посол Бибиков на приеме у Казы-Гирея подал тому грамоту и поминки, хан против государева «поклона и здоровья» не встал. А в январе 1591 года Бибикова и его спутников обобрали ханские приставы. Весной орда собралась в поход, но 5 мая Казы-Гирей уверял Бибикова, что он идет не на Русь, а на Литву. Но в Москве, разумеется, имели все основания не доверять хану и внимательно следили за передвижениями татарского войска. 10 июня сторожевые станицы донесли о том, что крьмское войско направляется к русским границам. Перебежчики показывали, что к Москве движется 100 тысяч всадников. 26 июля передовые отряды татар вышли к Оке. Русские полки к этому времени были уже собраны.  Борис Федорович Годунов
Итак, в 1591 году за две с лишним недели правительство было оповещено о приближении неприятельских сил и их примерной численности. (Впрочем, как всегда преувеличенной.) Этого времени оказалось вполне достаточно, чтобы собрать войско и подготовиться к отражению наступления. В 1598 году мы наблюдаем иную, весьма странную картину. С начала марта, когда появились первые слухи о выступлении хана, то есть в течение почти четырех месяцев соответствующие службы так и не смогли оценить реальность грозящей Москве угрозы. Более того, Разрядный приказ сознательно дезинформировал население, утверждая, что татары на самом деле идут на Москву, и производя распоряжения относительно сбора войска. Два месяца Годунов и ратные люди весело проводили время на берегу Оки, хотя не получали никаких оперативных данных о приближении противника. Заметим также, что в 1593 году Крым и Москва заключили мир, который был нужен и русским, и хану. «Война с Австриею отвлекла татар от московских украйн; она же помешала султану обращать большое внимание на Москву»[1027]. Еще один аргумент в пользу версии о фальсификации искателем престола известий о ханском набеге. Годунов не обладал талантами военачальника и, хорошо зная свои сильные и слабые стороны, никогда не претендовал на командные должности в войске. В том же 1591 году русскими полками командовали Федор Мстиславский, братья Никита и Тимофей Трубецкие. Годуновы, включая Бориса, были у них в заместителях. Другое дело, что Борис Федорович снискал лавры героя. Нет сомнений, что в случае поражения вся вина была бы возложена на Мстиславского. Тот и без того получил нагоняй, как бы сказали сейчас, «за личную нескромность». После того как хан бежал от Москвы, царский посланник объявил князю опалу за то, что в отписках государю с мест сражений он писал одно свое имя, не упоминая Годунова. Впрочем, для князя Федора все обошлось благополучно[1028]. Если бы Годунов знал, что к Москве движутся значительные крымские силы, рискнул бы он встать во главе рати? Ведь в случае поражения он не только рисковал жизнью, но и почти лишался шансов воцариться на Москве. Между тем Борис Федорович не только возложил на себя бремя командования, но и устраивал в лагере бесконечные пиры, которые вряд ли способствовали повышению боеготовности войска. Так мог вести себя только человек, прекрасно знавший, что угроза нападения Москве не грозит. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: РУСЬ, КОТОРУЮ У НАС УКРАЛИ Коровы тощие пожирают коров тучных Давно канула в Лету опричнина, упокоилась мятежная душа Грозного, на Руси воцарился Федор Иоаннович – прекрасный семьянин и богомолец (чем последний Рюрикович и напоминает последнего Романова), а признаков выхода из кризиса мы не видим. Так, в вологодских дворцовых областях в 1583 – 1584 годах пашня составляла 19% от всей ранее культивируемой земли, а в 1589 – 90 годах этот показатель упал до 12, 6%. Соответственно снизилось количество денег и хлеба, поступающих в казну[1029]. В 80-е годы XVI века дружно и повсеместно поднимаются цены на рожь[1030]. Чем дальше уходила в прошлое эпоха Грозного, тем яснее становилось, что глубинная причина расползающегося по русской земле запустения кроется не в опричных погромах, последствия которых можно было изжить с течением нескольких благополучных лет, а в системе помещичьего землевладения, насаждаемой с начала 50-х годов XVI столетия. Мелкие помещичьи наделы оказались не в состоянии ни прокормить своего владельца, ни обеспечить условия для крестьянского хозяйствования. Пока общество находилось в состоянии относительной стабильности, эти пороки были особенно заметны. С началом опричных потрясений они вылезли наружу. Нельзя сказать, что процесс дробления землевладений был новьм явлением, порожденным реформами Грозного. За первую половину XVI века удельный вес мелких поместий (до 150 га пашни) в Новгородской земле увеличился почти вдвое[1031]. Вотчины мельчали из-за разделов между наследниками, поскольку Московская Русь не знала практики майората. Однако с середины столетия в результате вмешательства правительства, а затем и опричных потрясений процесс дробления вотчин резко ускорился. Трагический парадокс заключался в том, что Грозный подрывал вотчины ради распространения помещичьего землевладения, однако подорванной оказалась вся система землевладения и землепользования Московской Руси, что самым пагубным образом отражалось и на экономике дворянских наделов. «Вместе с гибелью крупных хозяйств гонимой знати… гибли хозяйства и… простых малоземельных служилых людей», – отмечал С.Ф. Платонов[1032]. Все эксперименты российской власти оплачены крестьянством, их кровью и благополучием. Именно крестьяне в первую очередь страдали от бурного переворота в области земельных отношений. Как мы уже отмечали раньше, правительство смотрело на поместье как на государственную собственность, находящуюся во временном условном владении помещика. Служилый дворянин изначально был поставлен в положение временщика. Ощущение зыбкости подобного состояния многократно усилилось в период опричнины, когда происходит постоянная ротация владельцев. Итогами опричных мероприятий становится ускорение «мобилизации», т. е. перехода из рук в руки вотчин и поместий и рост монастырского землевладения[1033]. Как всякий временщик, помещик старается выжать как можно больше из имения уже сегодня, не заботясь о завтрашнем дне. И тут уже приходится вмешиваться государству, поскольку, беспощадно эксплуатируя крестьян, помещик вынуждал их к бегству на вольные земли. Чтобы избежать экономического коллапса, правительство обязывало помещика «не пустошити поместья», не разгонять крестьян непомерными поборами[1034]. Неудивительно, что эти лицемерно-благодушные призывы не достигали цели. По расчетам Г. Абрамовича, сделанным на основе изучения новгородских писцовых книг, в 70-е годы XVI века реальная тяжесть податей в три с лишним раза превышала уровень 50-х годов[1035]. Аналогичный результат констатировал В.И. Корецкий, который установил, что государственные повинности волостных крестьян в центре России с середины века по начало 80-х годов выросли втрое[1036]. По некоторым позициям этот рост особенно заметен. Так, в Новгороде с 1552 – 1556 годов по 1582 – 1586 годы ямской налог вырос почти в шесть раз[1037]. Следовательно, помещики должны были собрать в три раза больше налогов, чем двадцать лет назад, да при этом и себя не забыть. В этих условиях дворянину было трудно заботиться о благосостоянии крестьян, если бы даже он поставил перед собой эту цель. Но чаще всего новоявленные хозяева из опричной среды стремились выжимать из крестьян как можно больше доходов, не особенно задумываясь о дне завтрашнем. Сложился следующий порочный круг: правительство дробило вотчины, чтобы увеличить число служилых людей, что само по себе порождало рост нагрузки на тягловое население. «Сведения писцовых книг и обысков основную причину запустения деревень и сел называют единодушно, – заключает А.А. Зимин. – Это – рост податей, то есть усиление феодального гнета, осложненное насилием опричников, военными действиями и стихийными бедствиями»[1038]. В конце XVI века один служилый человек приходился на 300 человек податного сословия и духовного звания. Но мелкие поместья, в силу своей хозяйственной слабости, не могли обеспечить налоговые аппетиты правительства. Оно увеличивало подати, что вкупе с помещичьими поборами делало жизнь крестьян невыносимой. Селяне разбегались, оставляя помещика один на один с зарастающей пашней. Опустевшее поместье не могло выполнять функции ни источника поступления налогов в казну, ни играть роль материальной базы для воинника, готового в любой момент выступить в поход на коне и с оружием. В итоге в проигрыше оказывались все: и помещики, и государство, и тем более крестьянство. Разоренные земледельцы бежали либо в колонизируемые районы, либо в крупные вотчины, где крестьянам было несравненно легче пережить трудные времена. Их владельцы старались смягчить для крестьян тяжесть растущего налогового бремени и имели для этого возможности. Разумеется, делали они это не из альтруистических побуждений, а поскольку заботились о собственном благосостоянии. На ограничение поборов с целью преодоления кризиса труднее было пойти средним и мелким вотчинникам и помещикам, чьи произвол и самоуправство особенно резко сказывались на положении подвластных крестьян. Помещики стали жаловаться на конкурентов, переманивающих крестьян. Правительство отреагировало. Важной мерой по умалению прав крупных землевладельцев (в первую очередь монастырей) и по защите интересов дворянства стала отмена налоговых льгот, предусмотренными иммунитетными грамотами (тарханами). По мнению С.М. Каштанова, включение в Судебник 1550 года ст. 43, запрещавшей выдачу тарханов, и пересмотр тарханов в мае 1551 года явились отправной точкой для дальнейшей политики правительства Грозного[1039]. Как отмечает Е.И. Колычева, в связи с отменой тарханов крестьяне должны были помимо ренты выплачивать также государственные налоги. Земледельцы оказались не в состоянии выдержать дополнительную нагрузку, что ускоряло процесс разорения крестьянских хозяйств[1040]. К сходному выводу приходит С.М. Каштанов: «Ограничение податных привилегий духовных феодалов, проведенное хотя и не вполне последовательно, было одной из причин роста хозяйственного разорения в стране», – указывает исследователь[1041]. Развитие помещичьего землевладения также препятствовало монетаризации экономики. То обстоятельство, что московский служилый класс жил почти исключительно на средства, добываемые эксплуатацией земли, а после – труда крепостных, явилось причиной недостатка в стране наличного капитала[1042]. Развитию предбуржуазных отношений препятствовало и такое явление, зафиксированное в конце XVI века, как увеличение удельного веса барщины среди других видов ренты, – процесс, который, по мнению исследователей, специально инспирировался правительством. В частности, когда по приказу Годунова производили описание владений Кирилло-Белозерского монастыря, оброчно-денежная рента заменялась барщиной[1043]. Без «выхода» В период опричнины и в последние годы правления Грозного с правовой точки зрения отношения между феодалами и крестьянством не менялись. «Но уже в повседневной юридической практике крестьяне начинают все более и более рассматриваться как «люди» господина, принадлежащие ему в силу прав феодала на землю», отмечают исследователи[1044]. В годы правления Федора Иоанновича начинают формироваться законодательные устои крепостного права. В грамоте Федора Иоанновича июля 1595 года говорится, что «ныне по нашему указу крестьяном и бобылем выходу нет». Другой указ царя Федора, изданный в ноябре 1597 года, хотя и не содержал пункта, формально упразднявшего Юрьев день, но он подтвердил право землевладельцев на розыск беглых крестьян в течение пяти урочных лет: «Которые крестьяне из поместий и отчин выбежали до нынешнего года за пять лет, на тех суд давать и сыскивать накрепко». Наверняка к появлению этих приказов был самым непосредственным образом причастен Годунов. Но в какой степени? В марте 1607 года царь Василий Шуйский обсуждал с собором, «что де переходом крестьян причинялись великие крамолы, ябеды и насилия несмочным от сильных, чего де при царе Иване Васильевиче не было, потому что крестьяне выход имели вольный; а царь Федор Иванович, по наговору Бориса Годунова, не слушая совета старейших бояр, выход крестьяном заказал, и у кого колико тогда крестьян где было, книг учинил. Царь Борис Федорович, видя в народе волнение велие, те книги отставил и переход крестьяном дал, да не совсем, что судии не знали, како по тому суды вершити[1045]. Шуйский был недоброжелателем Бориса Федоровича. Но С.М. Соловьев соглашается с тем, что «Годунову… выгодно было опираться на духовенство и на мелких служилых людей, которых он старался привлечь на свою сторону уступками, поэтому имеем право принять известие, что Годунов содействовал этой сделке между выгодами духовенства и мелких служилых людей». Понятно, что Дума, состоявшая из крупных вотчинников, не могла сочувствовать подобным мерам. «Что же касается знатных и богатых вотчинников, то, конечно, закрепление крестьян не могло быть для них выгодно, ибо лишало их права перезывать на свои земли крестьян с земель мелких помещиков»[1046]. Р.Г. Скрынников заметил, что в указе об отмене тарханов, принятом в самом начале царствования Федора Иоанновича и упомянутом нами выше, отсутствовала обычная формулировка «царь указал, а бояре приговорили», что дало исследователю основание предположить, что данный закон мог быть принят в обход Думы[1047]. Действительно, пока в Думе не стали преобладать сторонники Годунова, она могла выражать несогласие с мерами, ущемляющими интересы крупных землевладельцев, в том числе и направленные на закрепощение крестьян. «Чтоб понять цель закона об укреплении крестьян, стоит только обратить внимание на то, с какою целию и в чью пользу закон поддерживался после, в XVII веке: бедные помещики бьют челом, что богатые, несмотря на закон, переманивают у них крестьян и засылают их сначала в свои дальние вотчины, чтоб сыскать было нельзя, и таким образом разоряют их, бедных помещиков… – пишет С.М. Соловьев. Историк обращает внимание на то, что в Литовской Руси схожая коллизия была решена совершенно иначе. – Здесь шляхта решила ввести общее положение, на каких условиях водворять вольных крестьян, и тот, кто б осмелился дать крестьянам большие льготы и тем переманивать их к себе, подвергался денежному взысканию. В России Восточной употреблено было другое средство – прикрепление к земле»[1048]. Очень важное замечание. Проблема переманивания крестьян могла быть решена другими способами. Но правительствам Ивана Грозного и Бориса Годунова не нужны были деньги. Точнее, они не видели прямой связи между обладанием деньгами и обладанием властью. Чтобы добиться власти абсолютной, они нуждались в отдельной, специально ими созданной и ими облагодетельствованной группе, враждебной остальной части общества. Ради этого социального мутанта – служилого дворянства – Годунов и Грозный шли на эксперименты, не беспокоясь, что каждый новый шаг все более заводит страну в тупик. Наступление на боярские латифундии и монастырские имения вело к разрушению социальной организации общества. Боярская вотчина привлекала крестьянина не только более выгодными условиями хозяйствования. Как отмечает Н.П. Павлов-Сильванский, значительная часть боярских земель стояла обыкновенно вне… какого-либо хозяйственного наблюдения, находясь в наследственном владении крестьян. Управлял вотчинным владением боярский приказчик, который делил свою власть с крестьянским миром. При этом «иногда миру принадлежала большая власть, ограничивавшая приказчика, иногда же его значение сводилось почти на нет»[1049]. На это же обстоятельство указывает и Ключевский: «село… привилегированного землевладельца с приписанными к нему деревнями и починками выделялось из состава волости как особый судебно-административный округ, со своим вотчинным управлением, с барским приказчиком или монастырским посельньм старцем; но рядом с ними действуют сельский староста и другие мирские выборные, которые ведут поземельные дела своего мира с участием вотчинных управителей, раскладывают налоги..»[1050] Разумеется, такое положение не могло сохраниться в небольшом помещичьем хозяйстве, где была учтена каждая пядь земли и каждый крестьянский двор. Чем больше была вотчина, тем более целостной и значительной силой выступал мир. «В крупных богатых вотчинах оно (крестьянское население. – М.З) было устроено в общины со своими выборными, ведавшими его податные и иные дела. При раздроблении этих вотчин на мелкие поместные участки община гибла, и крестьяне отдельными дворами расходились по рукам помещиков, попадая в худшие для них условия крепостной зависимости»[1051]. В имении помещику противостоит уже не мир, а его осколки. Но мир гибнет не столько из-за расчленения территории. Как замечает Ключевский, «и для сел, и для волостей связью, соединявшей их в общества, служило поземельное тягло, а не прямо сама земля»[1052]. Тягловая община распределяла податную нагрузку между ее членами. Между тем, по заключению С.Ф. Платонова, «межи мелкопоместных владений дробили волость, прежде единую, на много частных разобщенных хозяйств, и старое тягловое устройство исчезало. Служилый владелец становился между крестьянами своего поместья и государственной властью. Получая право облагать и оброчить крестьян сборами и повинностями в свою пользу, он в то же время обязан собирать с них государевы подати»[1053]. По мнению С.М. Каштанова, право феодалов самим собирать и вносить важнейшие налоги явилось модификацией старинного оброчного принципа, в целом нарушенного московским великокняжеским правительством последней трети XV – первой половины XVI века, отражавшей тенденцию усиления крепостничества[1054]. Если Иван III и его сын, а также боярские правительства времен малолетства Грозного передавали функции сбора налогов от землевладельцев к «земле», то Грозный и Годунов очередной раз выступают не как «проводники прогрессивных начинаний», а как радетели возвращения к удельной старине. Необходимо отметить три основных следствия того, что помещик берет на себя функции плательщика податей за крестьянский мир. Первое. Прежде земля выступала перед лицом государства как его главный кормилец, что составляло ее хозяйственное и политическое значение. Теперь появляется посредник в лице помещика. Второе. Сам помещик, таким образом, становится не столько землевладельцем, сколько откупщиком – его первейшая задача собрать налоги, а это, в свою очередь, дает ему право получать прибыль с имения. Третье. Теряется основная материальная причина, связывавшая крестьян в общину, и как результат – «в этот-то печальный период потеряли и свою живую силу начатки общинного самоуправления и народной льготы… многие формы в этом роде оставались и после, но дух, оживлявший их, испарился под тиранством царя Ивана»[1055]. Живая ткань «земли» разрывается метастазами опрично-дворянской опухоли. В районах поместно-вотчинного землевладения (преимущественно центральные и юго-западные районы) посадское и волостное самоуправление по многим городам было ликвидировано, как были в большинстве случаев ликвидированы и сами черные волости этих районов, в массовом порядке розданные правительством помещикам и монастырям и заменены органами дворянского самоуправления в лице губных старост и городовых приказчиков[1056]. Земская система управления разваливается, уступая место помещичьему надзору. «Черносошные крестьянские земли были поглощены поместным землевладением, а местное самоуправление заменено дворянской администрацией, — констатирует Н.Е. Носов. – Все это привело к установлению военно-феодальной диктатуры дворян-крепостников, как наиболее верной и надежной в глазах опричного правительства Ивана Грозного опоры самодержавного строя»[1057]. Именно в те годы, когда «государьское» поглотило земское, власть слилась с государством до неотличимости, тогда и родился феномен российского тоталитаризма, с разными модификациями которого приходится иметь дело каждому поколению русских людей. «Рабоцарь» и царь рабов Разрушив экономическую основу Московской Руси – крупное вотчинное землевладение и вольные крестьянские хозяйства, разрушив ее социальную основу – подвергнув репрессиям служилых князей и бояр и закрепостив свободных землепашцев, Грозный и Годунов разрушили и ее политическую организацию. Если в царствование Ивана Васильевича все более уходило в тень земское самоуправление на местах, то Годунов взялся за центральные органы сословно-представительной монархии. Исследователи почему-то не обращают внимание на то, что за два десятилетия правления Федора Иоанновича и Бориса Годунова не созывались Земские соборы, за исключением тех сословных совещаний, которые понадобились правительству для легитимизации своей власти в период политической нестабильности. Р.Г. Скрынников отмечает, что при царе Федоре Дума как представительный орган высшей демократии, опираясь на вековую традицию, вернула себе некоторые функции и привилегии, упраздненные опричниной[1058]. Однако исследователь делает свой вывод, отталкиваясь от формальных признаков. Дума превратилась в цветастую ширмой, за которой скрывался абсолютистский режим Годунова, в его послушное орудие, чего не было в доопричный период. С.Ф. Платонов указывал на то, что раздавленное опричниной боярство потеряло свое прежнее значение, в Думе его заменили новые люди[1059]. И дело не только в кадровом составе Думы. Если прежде боярами становились благодаря заслугам предков и своим собственным, то теперь многие из думцев отличались исключительно преданностью сильному, например конюшему Годунову. Вся полнота власти отошла к бюрократическому аппарату. Годунов не поощрял, а разрушал традиции, в том числе и Думу, поскольку они препятствовали установлению невиданного дотоле на Руси режима личной диктатуры. Эту угрозу ясно видели современники. До нас дошли известия о требовании бояр, чтобы Годунов целовал крест на ограничивающей его власть грамоте[1060]. Несмотря на свое «ниспровергательство», Грозный мыслил традиционными категориями, и именно потому им был выбран такой причудливый способ тирании. Годунов смело ломал обычаи и каноны, которыми держалась Русь и потому, в определенном смысле действовал более прямо и последовательно. Грозный – потомок Рюрика и потомок (пусть только в его воображении) Августа. Грозный унаследовал державу от предков, семь столетий правивших русской державой. Потому для Ивана Тимофеева, как бы тот ни обличал его преступления, Иван Васильевич – властелин «царюющий вправду, по благодати». Годунов же, по гениальному определению того же Тимофеева, «рабоцарь»: сметливый плебей, интригами и преступлениями укравший трон у своих хозяев. Потому для русских людей он стал первым «самозванцем», или «самовыдвиженцем», как говорили одно время, подав соблазнительный пример другим властолюбцам. «Рабоцарь» окружал себя такими же плебеями. Как писал один из современников, у власти оказались «дьяки недостойные быть в холопах у бояр», которые «разворовали до половины казны»[1061]. Тимофеев же видит в том, что Грозный и Борис, нарушая традицию, стали приближать к себе незнатных дворян, одну из причин смуты. И не стоит видеть в этом явлении некие элементы демократизма. Люди, преуспевавшие при Грозном и Годунове, готовы были с одинаковым рвением как унижаться перед сильными, так и унижать слабых. Потому как человек, не уважающий себя, не способен уважать других. Интересное наблюдение приводит Соловьев: при Иоанне III знатные люди подписываются обыкновенными именами: Иван и Василий; менее знатные употребляют уменьшительные: Иванец, Васюк; при Василии встречаем форму уменьшительную, уничижительную для людей незначительных, например Илейка; при Иоанне IV и люди знатные начинают употреблять эту последнюю форму: например, князь Александр Стригин подписывается: «холоп твой Олешка Стригин»; потом встречаем: «Федко Умный-Колычев» и т. д.[1062] Когда падает цена жизни, падает и цена человеческого достоинства. Грозный отучил служилого человека служить, а приучил выживать прислуживая, выживать, тщетно приноравливаясь к переменчивому настроению самодержца. Годунов постарался к прислуживанию приохотить. Борис Федорович был человеком даровитым и преуспел во многом. Но едва появился призрак властителя «по благодати», тщательно возводимое им здание абсолютизма рассыпалось как карточный домик. Очередной парадокс описываемой нами исторической эпохи состоит в том, что в то время, когда бояре и земство оказались не в состоянии сопротивляться надвигающемуся абсолютизму, поскольку Годунов ловко подчинил выражавшие их интересы учреждения – Думу и соборные совещания, могильщиками установленного царем Борисом режима стали социальные группы, порожденные экспериментами последних десятилетий. Это обнищавшее и деградировавшее дворянство, потерявшее понятие о долге и чести, готовое принять участие в любом мятеже и погреть на нем руки. Это беглые крестьяне, часть из которых подалась на волю и стала казаками, а другая часть сошлась в шайки разбойников, которые неимоверно размножились. Именно эти группы, отторгнутые обществом и готовые восстать против него, и стали главными движущими силами Смуты. Но это уже другая страница российской истории. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СВЯТООТЕЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, БОГОСЛОВСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ТРУДЫ
Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998. Антихрист. (Из истории отечественной духовности): Антология. М., 1995. Антоний (Блум), митрополит Сурожский. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Проповеди. Клин, 1999. Бессерман П. Каббала и еврейский мистицизм. М., 2002. Булгаков С, протоиерей. Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического истолкования. М., 1991. Деревенский Б.Г. Учение об Антихристе в древности и средневековье. СПб., 2000. Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. О мистическом богословии. СПб., 1995 Зеньковский В.В. История русской философии. В 2 т. Л., 1991. Из глубины: Сборник статей о русской революции / С.А. Асколь-дов, Н.А. Бердяев, С.А. Булгаков и др. М., 1990. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. Т I—II. М., 1993. Иосиф Волоцкий. Просветитель. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1994. Иосиф Волоцкий. Послания. (Послания Иосифа Волоцкого.) М. – Л., 1959. Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб., 1995. Карсавин Л.П. Святые отцы и учители Церкви. (Раскрытие Православия в их творениях). М., 1994. Киприан (Керн), архимандрит. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. Климков О., священник. Опыт безмолвия. Человек в миросозерцании византийских исихастов. СПб., 2001. Ключ разумения. Русские подвижники благочестия о молитве Иисусовой. Москва – Екатеринбург. 2003. Лившиц Л.И. Идеи заволжских старцев и роспись Дионисия в соборе Ферапонтова монастыря. Иконографическая заметка // Фе-рапонтовский сборник. VI. М. 2002. Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991. Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ. Дух, душа и тело. М., 1997. Макарий Египетский. Духовные беседы. Репринтное издание. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. Макарий (Веретенников), архимандрит. Жизнь и труды святителя Макария, Митрополита Московского и Всея Руси. М., 2002. Максим Грек. Творения. Репринтное издание в Зч. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996. Мейендорф Иоанн. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение. СПб., 1997. Мень А., протоиерей. Сын Человеческий. М., 1997. Милюков П.Н. Счерки по истории русской культуры. В 3 т. М., 1995. Мирандола Пико делла. Речь о достоинстве человека // Эстетика Ренессанса. В 2 т. Т. 1. М., 1981. Григорий Палама. Беседы (Смилии) святителя Григория Паламы. Ч. 1-3. М., 1993 Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. М: 2003. Пападимитриу Г. Маймонид и Палама о Боге. М., 2003. Пиголь П., игумен. Преподобный Григорий Синаит и его духовные преемники. М., 1999. Путь к священному безмолвию. Малоизвестные творения святых отцов-исихастов. Сост. Дунаев А.Г. М., 1999. Россия перед вторым пришествием. Материалы к очерку русской эсхатологии. Сост. С. Фомин. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. Сатпрем. Шри Ауробиндо или Путешествие сознания. – СПБ., 1992. С. 35—47 Синергия. Проблемы аскетики и мистики православия. М., 1995. СмоличИ.К. Русское монашество. Возникновение, развитие и сущность (988 – 1917). Жизнь и учение старцев (Путь к совершенной жизни). М., 1999. Соколов В.В. Европейская философия XV—XVII веков. М., 1996. Прп. Симеон Новый Богослов. Прп. Никита Стифат. Аскетические произведения. Клин, 2001. Топоров В.Н. Святость и святители в русской духовной культуре. Т. II. Три века христианства на Руси. М. 1998. Трубецкой С.Н. Сочинения. М., 1994. Умное делание. О молитве Иисусовой. Сборник поучений святых отцов и опытных ее делателей. Минск, 2001. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. М., 1989. Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. Т. 1 – 2. СПб., 1991. Феофан Затворник. О молитве Иисусовой. Поучения. М. 2001. Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Репринтное издание. Киев, 1991. Штейнзальц А. Свет в философии хасидизма. Иерусалим: 1998 ЭкономцевИ., игумен. Православие, Византия, Россия. М., 1992. Cochrane Е. Science and Humanism in the Italian Renaissance // The American Historical Review. Volume 81. Issue 5. Dec, 1976. Donne John. The Sermons of John Donne. V. VIII. Berkley – Los Angeles, 1956. Rees V. Renaissance Ideas on Hungarian Soil // Hungarian Quaterly. Vol. XXXVII. n. 141. Spring 1996. Thorndike L. History of Magic and Experimental Science. New York. 1934 Yates F.A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago. 1964. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Абрамович Г.В. Поместная система и поместное хозяйство в России в последней четверти XV и в XVI в. АДД. Л., 1975. Алексеев А.И. Под знаком конца времен. Очерки русской религиозности конца XIV – начала XVI вв. СПб., 2002. Алексеев. Ю.Г. «К Москве хотим»: Закат боярской республики в Новгороде. Л., 1991. Анхимюк Ю.В. Слово на «Списание Иосифа» – памятник раннего нестяжательства // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. Ленина. М., 1990. Вып. 49. Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства (вторая половина XV века). М., 2001. Берри А. Краткая история астрономии. М. – Л., 1946 Бегунов Ю.К. К изучению истории текста «Беседы на новоявив-шуюся ересь болгарского писателя Хв. Козмы пресвитеря // Византийский временник. М., 1969. Т. 30. Бегунов Ю.К. «Слово иное» – новонайденное произведение русской публицистики XVI века о борьбе Ивана III с землевладением церкви // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР, Т.XX. М.-Л., 1946. Вернадский В.Н. Новгород и новгородская земля в XV в. М. – Л., 1961. Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи. СПб., 1995. Богуславский В. В. Держава Рюриковичей. Славяне – Русь – Россия. Том первый. Тула, 1994. Боровкова-Майкова М.С. Нила Сорского Предание и Устав. СПб., 1912 // Памятники древней письменности и искусства. Т. 179. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика. XI—XVII века. М., 1995. Бычкова М.Е., Виноградов А. В. Международные связи России в 7 0-е годы XV – первой половине XVI века // История внешней политики России. Конец XV—XVII век. (От свержения ордынского ига до Северной войны.) М., 1999. Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI веке. Историке-генеалогическое исследование. М., 1986. С. 78 – 79 Будовниц И.У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян. М., 1966. Величко Ф.К. Астрологический толковый словарь. М., 1992. Вернадский Г. В. Монголы и Русь. Тверь – Москва. 2001. Вернадский Г.В. Россия в средние века. Тверь – Москва: 2000. Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969 Виноградов А.В. Внешняя политика Ивана IV Грозного // История внешней политики России. Конец XV—XVII век. (От свержения ордынского ига до Северной войны.) М., 1999. Еладимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Киев., 1907. Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Крепость драгоценностей. Кырк-ор. Чу-фут-кале. Симферополь, 1993. Голейзовский Н.К. «Послание иконописцу» и отголоски исихазма в русской живописи на рубеже XV—XVI вв. // Византийский временник. XXVI. М.-Л., 1965. Голубинский Е.Е. История Русской церкви. Том II. Период второй, московский от нашествия монголов до митрополита Макария включительно. Первая половина тома. М., 1997. Горский А.А. «Все его еси исполнена земля русская..». Личности и ментальность русского средневековья. М., 2001. Гофф, Жанле. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. Греков Б. Д. Избранные труды. М., 1960. Т. 4. Новгородский дом Святой Софии. Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы XIV—XVI вв. М., 1963 Григоренко А. Духовные искания на Руси конца XV в. СПб., 1999. Громов М.Н. Мильков В.В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001. Гумилев Л.Н. От Руси к России: очерки этнической истории. М., 1992. Гумилев Л.Н. Панченко A.M. Чтобы свеча не погасла. Диалог. Л., 1990. Демидова Н. Ф. Бюрократизация государственного аппарата абсолютизма в XVII—XVIII вв. // Абсолютизм в России XVII—XVIII вв. М., 1964. Дмитриева Р.П. «Сказание о князьях Владимирских». М. – Л., 1955. Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. М., 2002. Дружинин В.Г. Несколько неизвестных литературных памятников из сборника XVI века. // Летопись занятий Археологической комиссии. СПб., Вып. 21. Дюличев В.П. Рассказы по истории Крыма. Симферополь: 1997. Евсеев И.Е. Геннадиевская Библия 1499 года // Труды XV археологического съезда в Новгороде 1911 г. М., 1916. Т. 2. Жданов И.Н. Русский былевой эпос. СПб., 1895. Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия ипоэззия. М., 1880. С. 239—255. Замалеев А.Ф., Очинникова Е.А. Еретики и ортодоксы. Очерки древнерусской духовности. Л., 1991. Зелинский A.M. Конструктивные принципы древнерусского календаря // Контекст. 1978. Литературно-теоретические исследования. М., 1978. Зимин А.А. В канун грозных потрясений: Предпосылки первой Крестьянской войны в России. М., 1986. Зимин А.А. И. С. Пересветов и его современники. М., 1958. Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV—XVI в.). М., 1977. Зимин А.А. Опричнина. М., 2001. Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. М., 1972. Зимин А.А. Россия на рубеже XV—XVI столетий: (Очерки социально-политической истории.) М., 1982. Зимин А.А. Тысячная книга и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI века. М.-Л., 1950. Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI. М., 1988 Зимин А.А. Корецкий В.И. Сахаров A.M. Церковь в обществе развитого феодализма (XIV—XVI вв.) // Русское православие: вехи истории. М., 1989. Золотухина Н.М. Русская политическая и правовая мысль // История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение. М., 1986. Ивина Л.И. Вкладная и кормовая книга Симонова монастыря // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1969. Вып. 2. Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV – первой половиныXVI в. Л., 1979. Казакова Н.А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI века. М. – Л., 1955. Казакова Н.А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М. – Л., 1960. Казакова Н.А. Очерки по истории русской общественной мысли: первая треть XVI века. Л., 1970. Казанский П. С. Об источниках для истории монашества египетского в IV и V вв. М., 1872. Каргалов В. В. «На границах Руси стоять крепко». Великая Русь и Дикое Поле. Противостояние XIII—XVIII вв. М., 1998. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Т 1. М., 1993. Каштанов С.М. Социально-политическая история России конца XV – первой половины XVI века. М., 1967. Каштанов С.М. Финансы средневековой Руси. М., 1988. Клибанов А.И. Реформационные движения в России в XIV – первой половине XVI века. М., 1960. Клосс Б.М. Об авторе и времени создания «Сказания о Мамаевом побоище» // In memoriam. Сборник памяти Я.С. Лурье. СПб., 1997. Ключевский В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М., 1993. Ключевский В.О. Сочинения в 9 тт. М., 1987. Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989. Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. СПб., 2000 Колычева Е.И. Аграрный строй России XVI века. М., 1987. Корецкий В.И. Закрепощение крестьян и классовая борьба в России во второй половине XVI в. М. 1970. Корецкий В.И. Политическая борьба и сословные учреждения времени опричнины // Феодализм в России. М., 1987. Корецкий В.И. Правая грамота от 30 ноября 1618 г. Троице-Серги-еву монастырю // Записки Отдела рукописей РГБ. Вып. 21. 1959. Костомаров Н. И. О значении исторических трудов Константина Аксакова. СПб., 1861. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1993. Кукушкина М.В. Книга в России в XVI веке. СПб., 1999. Левшун Л.В. История восточнославянского книжного слова XI—XVII. Минск, 2001. Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. СПб., 2001. Лурье Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV – начала XVI века. М.-Л., 1960. Макарий, митр. Московский. История Русской Церкви в период разделения на две митрополии. Т. 6. Кн.1. СПб., 1887. Малинин В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901. Маньков А. Г. Цены и их движения в Русском государстве в XVI веке. М.-Л., 1951. Мархоцкий Н. История Московской войны. М., 2000. Мережковский Д.С. Реформаторы. Лютер. Кальвин. Паскаль. Томск: 1999. Моисеева Г.Н. Валаамская беседа – памятник русской публицистики середины XVI века. М. – Л., 1958. Моисеева Г.Г. Старшая редакция «Писания» митрополита Макария Ивану IV // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. М.-Л., 1960. Т. XVI. Мордвинова СП. Характер дворянского представительства на Земском соборе 1598 г. // Вопросы истории. 1971. №2. Морозова Л.Е. Два царя: Феодор и Борис. М., 2001. Мятлев Н.В. Тысячники и московское дворянство XVI столетия. Орел: 1912. Невоструев К. Житие преподобного Иосифа Волоцкого, составленное Саввою, епископом Крутицким // Чтения в Московском Обществе любителей духовного просвещения. Кн. 2. М., 1865. Никольский Н.М., История русской церкви (взгляд на жидовству-ющих) М., 1931 Носов Н.Е. Становление сословно-представительских учреждений в России. Л., 1969. Павлов А. С. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Ч. 1. Одесса: 1871. Павлов Н.П. Действительная роль архиепископа Вассиана в событиях 1480 года // Учен, записки Красноярского пед. ин-та, 1955, т. IV, вып. 1. Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. М., 2000 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализме России. М., 1988. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. Панченко A.M. О русской истории и культуре. СПб., 2000. Платонов С.Ф. Борис Годунов. М., 1999. Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530 – 1584). Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1998. Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время. М., 1995. Плигузов А.И. Полемика в Русской церкви первой трети XVI столетия. М., 2002. Плигузов А.И., Тихонюк И.А. Послание Дмитрия Траханиота Новгородскому архиепископу Геннадию Гонзову о седмеричности счисления лет // Естественно-научные представления Древней Руси М., 1988. Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV – начала XVI века. М., 1975. Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре. М., 2000. Пресняков А.Е. Образование великорусского государства. М., 1997. Прохоров Г.М. Прение Григория Паламы «с хионы и турки» и проблема «жидовская мудрствующих» // Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы АН СССР. Т. 27: История жанров в русской литературе X—XVII вв. Л., 1972. Прохоров Г.М., Шевченко Е.Э. Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. СПб., 1993. Прохоров Г.М. Послания Нила Сорского // Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы АН СССР. Л., 1974. Т. 29. Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Статьи. СПб., 2000. Разин Е.А. История военного искусства XVT – XVII вв. СПб., 1999. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Ан-тичные критики христианства. М., 1990. Ржига В. Ф. Опыты по истории русской публицистики XVT века. Максим Грек как публицист. // Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы АН СССР. Т. 1. Л., 1934. Рогожин Н.М. Посольский приказ и его роль в проведении внешней политики России // История внешней политики России. Конец XV—XVII век. (От свержения ордынского ига до Северной войны.) М., 1999. Рождественский СВ. Служилое землевладение в Московском государстве в XVI веке. СПб., 1897. Романенко Е.В. Нил Сорский и традиции русского монашества. Нило-Сорский скит как уникальное явление монашеской культуры Руси XV—XVII вв. // Исторический вестник. №3 – 4. 1999 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1988. Савельев Е.П. Древняя история казачества. М., 2002. Садиков П.А. Очерки по истории опричнины. М. – Л., 1950. Свенцицкая И.С. Ранее христианство: страницы истории. М., 1988. Святский Д.О. Очерки истории астрономии в Древней Руси // Историко-астрономические исследования. Вып. VII—IX. М., Физматгиз, 1961—1966. Святский Д. О. Астрономическая книга «Шестокрыл» на Руси XV века // «Мироведение», 1927, XVI, №2 Сервицкий А. Опыт исследования ереси новгородских еретиков, или «жидовствующих» // Православное обозрение. М., 1862. Т. 8. Июнь. Сергеевич В. И. Древности русского права. СПб., 1911. Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М., 2003. Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. Смоленск: 1998. Скрынников Р.Г. Святители и власти. Л., 1990 Скрынников Р.Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. Смоленск, 1997. Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30-50-х годов XVI века. М.-Л., 1958. Соболев А.Н. Загробный мир по древнерусским представлениям // Мифология славян. СПб., 2000. Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII в. СПб., 1903 Соловьев С.М. Сочинения в 18 кн. М., 1989. Тихомиров М.Н. Российское государство XV—XVII вв. М., 1973. Тихомиров М.Н. Средневековая Москва. М., 1997. Тихонюк И.А. «Изложение пасхалии» московского митрополита Зо-симы // Исследования по источниковедению СССР XIII—XVIII вв. М., 1986. Успенский Б.А. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Москва – Третий Рим» // Этюды о русской истории. СПб., 2002. Успенский Ф.И. История Византийской империи. VI—IX вв. М., 1996. Федотов Г.П. Святой Филипп митрополит Московский. М., 1991. Филюшкин А.И. История одной мистификации: Иван Грозный и Избранная рада. Воронеж, 1998. Хорошкевич А.Л. Задачи русской внешней политики и реформы Ивана Грозного // Спорные вопросы отечественной истории XI—XVIII вв. М., 1990. Хорошкевич А.Л. Русь и Крым. От союза к противостоянию. Конец XV-начало XVI в. М., 2001. Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства bXIV—XVbb. М., 1960 Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV—XV веков.4.1 – 2. М.-Л., 1948-1951 Шапиро А.Л. Русское крестьянство перед закрепощением. (XIV—XVI вв.) Л., 1987. Шафаревич И. Р. Социализм как явление мировой истории. Париж., 1977. Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма: Исследование социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996. ШмурлоЕ.Ф. Курс русской истории. Русь и Литва. СПб., 2000. Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Спорные и невыясненные вопросы русской истории. СПб., 1999. Эйдельман Н.Я. Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII – начало XIX столетия. СПб., 1992. Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. ЯновА.Л. Тень Грозного царя. Загадки русской истории. М., 1997. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аграрная история Северо-Запада России. Новгородские пятины. Л., 1974. Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9. Конец XV – первая половина XVI в. СПб., 1997 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. СПб., 2001. Временник Ивана Тимофеева. М. – Л., 1951. Города России. Энциклопедия. М., 1994. Домострой. Книга, называемая «Домострой», содержащая полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину – мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам. Ярославль, 1991. Масса И. Краткое известие о Московии начала XVII в. М., 1937. Мифы народов мира в 2 т. М., 1987. Московия и Европа / Г.К. Котошихин, П. Гордон. Я. Стрейс. Царь Алексей Михайлович. М., 2000. Московские соборы на еретиков XVI-ro века // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1847. Кн. З. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия. Т. 1—2. М., 1994, 1996. Памятники литературы Древней Руси XIV—XV века. М., 1981. Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI в. М., 1984 Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1993. Полное собрание русских летописей. Т. II. Ипатьевская летопись. Пг., 1923. Полное собрание русских летописей. Т. VI. Вып. 2. Софийская вторая летопись. М., 2001. Полное собрание русских летописей, Т. VIII. Продолжение летописи по Воскресенскому списку. СПб., 1859. Полное собрание русских летописей. Т. XII. Летописный сборник, именуемый Патриаршьей или Никоновской летописью. М., 2000. Полное собрание русских летописей. Т. XIII. 4.1. Летописный сборник, именуемый Патриаршьей или Никоновской летописью. СПб., 1904. Полное собрание русских летописей. Т. XIII. Ч. 2.. Дополнения к Никоновской летописи. Царственная книга. СПб., 1906. Полное собрание русских летописей. Т. XXI. Степенная книга. СПб., 1909. Ч. II. Полное собрание русских летописей. Т. XXII. Степенная книга. Вторая половина. СПб., 1913. Полное собрание русских летописей. Т. XXV. Московский летописный свод конца XVвека. М., 1949. Полное собрание русских летописей. Т. XXX. Владимирский летописец. М., 1965. Полное собрание русских летописей. Т. XXXIV. Постниковский, Пис-каревский, Московский и Вельский летописцы. М., 1978. Полный православный богословский энциклопедический словарь. (Репринтное издание) Т. 1 – 2. М., 1992. Псковские летописи. Вып. 1. М. – Л., 1941. Российское законодательство X—XX веков. М., 1985. Т. 2. Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. Смоленск, 2003. Русские летописи. Том III. Воскресенская летопись. Рязань, 1998. Сборник Русского исторического общества. Т. 35. СПб., 1879. Сборник Русского исторического общества. Т. 41. СПб., 1881. Сборник Русского исторического общества. Т. 59. СПб., 1887. Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989. Судебники XV—XVI веков. М.-Л., 1952. Судные списки Максима Грека и Исаака Собаки. М., 1971. Хроника Быховца. М., 1966. Чтение в Обществе истории и древностей российских при МГУ. 1903. Кн. 3. Шильтбергер И. Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 года по 1427 год. Баку, 1984. Эстетика Ренессанса. В 2 т. М., 1981. Примечания 1 Вернадский Г.В. Россия в средние века. Тверь – Москва, 2000. С. 60. 2 Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма: Исследование социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996. 3 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М., 1993. С.133. 4 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь – Москва, 2001. С. 333. 5 Ключевский В.О. Собрание сочинений в 9 тт. Курс русской истории. Ч.П. Т. 2. М., 1989. С. 135. 6 Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI веке. Историко-генеалогическое исследование. М., 1986. С. 78 – 79. 7 Ключевский В.О. Собрание сочинений в 9 тт. Курс русской истории. Ч.П. Т. 2. С. 131. 8 Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI. М., 1988. С. 284, 286. 9 Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России, С. 28—29. 10 Там же. С. 29. 11 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях… С. 102. 12 Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. С. 206. 13 Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. М., 2000. С. 57. 14 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. С. 271. 15 Повесть о Московском взятии от царя Тохтамыша // Памятники литературы Древней Руси XIV—XV века. М., 1981. С. 78. 16 Каргалов В. В. «На границах Руси стоять крепко». Великая Русь и Дикое Поле. Противостояние XIII—XVIII вв. М., 1998. С. 45. 17 См. Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969; Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв. М., 1960. 18 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. Смоленск, 1998. С. 79. 19 Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. С. 4 – 6. 20 Там же. С. 19. 21 Скрынников Р. Г. Святители и власти. Л., 1990. С. 23, 24. 22 Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. С. 40, 42. 23 Там же. С. 71. 24 Там же. С. 50. 25 3имин А.А. Формирование боярской аристократии в России. С. 31, 183. 26 Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. С. 72. 27 Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. С. 40. 28 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России. С. 298. 29 Там же. С. 173, 186. 30 Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 24. 31 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 23. 32 Бычкова М.Е., Виноградов А.В. Международные связи России в 70-е годы XV – первой половины XVI века // История внешней политики России XV—XVII веков. М., 1999. С. 108. 33 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства (вторая половина XV века). М., 2001. С. 136 – 138. 34 Каргалов В.В. На границах Руси стоять крепко! С. 94. 35 Летописный сборник, именуемый Патриаршьей или Никоновской летописью (Полное собрание русских летописей. Том XII). М., 2000. Далее «Никоновская летопись». С. 201. 36 Греков И. В. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы XIV—XVI вв. М., 1963, С. 191, 194. 37 Богуславский В. В. Держава Рюриковичей. Славяне – Русь – Россия. Том первый. Тула, 1994. 78. 38 Софийская вторая летопись. (Полное собрание русских летописей. Т. VI. Вып. 2.) М., 2001. С. 289. 39 Там же. Стб. 310. 40 Там же. Стб. 294. 41 Никоновская летопись. С. 205. 42 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. С. 121, 133. 43 Вернадский Г.В. Россия в средние века. С. 86. 44 Никоновская летопись. С. 203. 45 Зимин А.А. Россия на рубеже XV—XVI столетий: (Очерки социально-политической истории). М., 1982. С. 66. 46 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России. С. 239. 47 Никоновская летопись. С. 190. 48 Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства b XIV—XV bb. М., 1960. С. 889—890. 49 Зимин А.А. Россия на рубеже XV—XVI столетий. С. 67. 50 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России. С. 242. 51 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. С. 342. 52 Там же. С. 352. 53 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 104. 54 Одесский М.П. Древняя Русь: образы власти // Историк во времени: Третьи Зиминские чтения: Сборник тезисов докладов и сообщений научной конференции. Отв. ред. Ю.Н. Афанасьев(Электрон. ресурс). М., 2000. 55 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях. С. 54. 56 Там же. С. 54. 57 Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 145. 58 Павлов-Силванский Н.П. Государевы служилые люди. С. 7. 59 Русские летописи. Том III. Воскресенская летопись. – Рязань, 1998. Далее «Воскресенская летопись». С. 83. 60 Никоновская летопись. С. 127. 61 Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 105. 62 Никоновская летопись. С. 219. 63 Сборник Русского исторического общества. Т.41. С. 490. 64 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. С. 393. 65 Горский А.А. «Все его еси исполнена земля русская..» Личности и ментальность русского Средневековья. М., 2001. С. 147. 66 Боровкова-Майкова М.С. Нила Сорского Предание и Устав. СПб., 1912. //Памятники древней письменности и искусства. Т. 179. С. 89. 67 См. Лённгрен Т. П. Великий старец Нил Сорский. «Московский журнал» № 3, 1999. 68 Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. Т I—II. М., 1993. С. 386 69 Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Статьи. СПб., 2000. С. 82. 70 Там же. С. 29. 71 Путь к священному безмолвию. Малоизвестные творения святых отцов-исихастов. Сост. Дунаев А.Г. М., 1999. С. 12 72 Там же. С. 12. 73 Прохоров Г.М., Шевченко Е.Э. Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. СПб., 1993. С. 31 74 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 159. 75 Романенко Е. В. Нил Сорский и традиции русского монашества. Нило-Сорский скит как уникальное явление монашеской культуры Руси XV—XVII вв. // Исторический вестник. №3 – 4, 1999. С. 41. 76 Боровкова-Майкова М.С. Нила Сорского Предание и Устав. С. 22—27. 77 Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. С. 111. 78 Митрополит Сурожский Антоний (Блум). Во имя Отца и сына и Святого Духа. Проповеди. Клин: 1999. С. 222. 79 Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. С. 387. 80 Бычков В.В. Русская средневековая эстетика. XI—XVII века. М., 1995. С. 193. 81 Левшун Л. В. История восточнославянского книжного слова XI—XVII. Минск, 2001. С. 272. 82 Игумен Иоанн Экономцев. Православие, Византия, Россия. М., 1992. С. 190, 191. 83 Романенко Е. В. Нил Сорский и традиции русского монашества. С. 45. 84 Софийская вторая летопись. Стб. 319. 85 Мейендорф Иоанн. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение. СПб., 1997. С. 22. 86 Алексеев А.И. Под знаком конца времен. Счерки русской религиозности конца XIV-начала XVI вв. СПб., 2002. С. 192, 193. 87 Плигузов А.И. Полемика в Русской церкви первой трети XVI столетия. М., 2002. С. 282—284. 88 Ключ разумения. Русские подвижники благочестия о молитве Иисусовой. Москва – Екатеринбург. 2003. С. 303. 89 Прп. Симеон Новый Богослов. Прп. Никита Стифат. Аскетические произведения. Клин, 2001. С. 31. 90 Скрынников Р.Г. Святители и власти. С. 48. 91 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV—XVI в.). М., 1977. С. 71—72. 92 Казакова Н.А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М. – Л., 1960. С. 224. 93 Романенко Е. В. Нил Сорский и традиции русского монашества. С. 47. 94 Боровкова-Майкова М.С. Нила Сорского Предание и Устав. С. 6. 95 Там же. С. 47. 96 Там же. С. 9. 97 Алексеев А.И. Под знаком конца времен. С. 142 – 148. 98 Послания Иосифа Волоцкого. М. – Л., 1959. С. 216. 99 Воскресенская летопись. С. 266. 100 Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. Т.1. СПб., 1991. С. 315. 101 Романенко Е. В. Нил Сорский и традиции русского монашества. С. 43. 102 Лурье Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV-начала XVI века. М.-Л., 1960. С. 206. 103 Казанский П.С. Об источниках для истории монашества египетского в IV и V в. М., 1872. С. 24. 104 Алексеев А.И. Под знаком конца времен. С. 201. 105 Смолич И.К. Русское монашество. Возникновение, развитие и сущность. (988 – 1917.) Жизнь и учение старцев (Путь к совершенной жизни.) М., 1999. С. 63. 106 Флоровский Г. Пути русского богословия. Киев, 1991. С. 22. 107 Беседы (Смилии) Святителя Григория Паламы. Ч. 2. М., 1993. С. 13. 108 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. Том II. Период второй, московский от нашествия монголов, до митрополита Макария включительно. Первая половина тома. М., 1997. С. 623. 109 Там же. С. 621. 110 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России. С. 96. 111 Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI в. М., 1984. С. 358. 112 Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т 1. С. 317. 113 Карташев А.В. Счерки по истории русской церкви. Т.1. С. 407. 114 Смолич И.К. Русское монашество. С. 63. 115 Боровкова-Майкова М.С. Нила Сорского Предание и Устав. С. 5. 116 В. В. Миль ков. Основные направления древнерусской мысли. // В кн.: Громов М.Н. Миль ков В. В. – Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001. С. 316. 117 Будовниц И.У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян. М., 1966. С. 232. 118 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России. С. 48. 119 Там же. С. 48. 120 Там же. С. 42. 121 Там же. С. 44. 122 Там же. С.47, 51. 123 Богуславский В. В. Держава Рюриковичей. Славяне – Русь – Россия. Том первый. Тула, 1994. С. 272. 124 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России. С. 44. 125 Тихомиров М.Н. Российское государство XV—XVII вв. М., 1973. С. 126. 126 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России. С. 48. 127 Там же. С. 50. 128 Там же. С. 49. 129 Полное собрание русских летописей. Т. 25. Московский летописный свод конца XV века. М., 1949. С. 309. 130 Воскресенская летопись. С. 266. 131 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России. С. 63. 132 Алексеев А.И. Под знаком конца времен. С. 220. 133 Там же. С. 205. 134 Полный православный богословский энциклопедический словарь. (Репринтное издание.) Т. 2. М., 1992. С. 1669. 135 Никоновская летопись. С. 197. 136 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России. С. 52. 137 Смолич И.К. Русское монашество. С. 57. 138 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России. С. 60, 224. 139 Янов А.Л. Методология исследования политической традиции в России. Семинар // Социокультурная методология анализа российского общества. Независимый теоретический семинар. М., 1998. Электронная версия. 140 Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 21; Карташев А.В. Счерки по истории русской церкви. Т 1. С. 413. 141 Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. С. 61. 142 Прп. Симеон Новый Богослов. Прп. Никита Стифат. Аскетические произведения. С. 35. 143 Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 79. 144 Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV – первой половиныXVI в. Л., 1979. С. 105, 114. 145 Полное собрание русских летописей. Т. VIII. Продолжение летописи по Воскресенскому списку. СПб., 1859. С. 160. 146 Базилевич К. В. Внешняя политика Русского централизованного государства. С. 86. 147 Там же. С. 43. 148 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т.1. С. 489. 149 Сервицкий А. Опыт исследования ереси новгородских еретиков, или «жидовствующих» // Православное обозрение. М., 1862. Т. 8. Июнь. С. 183—184. 150 Казакова Н.А. Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV-начала XVI века. М.-Л., 1955. С. 74, 147. 151 Там же, С. 316, 375, 383. 152 Иосиф Волоцкий. Просветитель. М., 1993. С. 23, 27. 153 Карташев А.В. Счерки по истории русской церкви. Т. 1. С. 494. 154 Полное собрание русских летописей. Т. VI. Софийская вторая летопись. СПб., 1853. С. 221. 155 Греков И. Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы XIV—XVI вв. М. 1963. С. 184. 156 Дюличев В.П. Рассказы по истории Крьма. Симферополь: 1997. С. 135. 157 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. С. 371. 158 Якобсон А.П. Крым в средние века. М. 1973. С. 111. 159 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. С. 217. 160 Прохоров Г.М. Прение Григория Паламы «с хионы и турки» и проблема «жидовская мудрствующих» // ТОДРЛ. Т. 27: История жанров в русской литературе X—XVII вв. Л., 1972. С. 354. 161 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. С. 98. Смирнов В.Д. Крымское ханство под началом Оттоманской порты до начала VIII в. СПб. 1887. С. 255. 162 Греков И. Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы XIV—XVI вв. С. 223 163 Бычкова М. Е., Виноградов А. В. Международные связи России в 70-е годы XV – первой половины XVI века. // История внешней политики России XV—XVII веков. М., 1999. С. 128. 164 См. Одесский М.П. Государь-кудесник в древнерусской литературе: К вопросу о демонической природе Дракулы-воеводы // Материалы Международного конгресса «100 лет P.O. Якобсону». М., 1996. 165 Грамоты Иоанна III Захарию Скаре, «Записки Одесского о-ва истории и древностей», V. С. 272 – 274. 166 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. С. 221. 167 Грамоты Иоанна III Захарию Скаре. «Записки Одесского о-ва истории и древностей», V. С. 202 – 203. 168 Белокуров С.А. О ереси «жидовствующих». О сношениях Шеи-на со Скарою // Русская историческая библиотека. VI. М., 1902. С. 772. 169 Казакова Н.А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI века. М.-Л., 1955. С. 309. 170 Словарь книжников и книжности Древней Руси. С. 317 – 318. 171 «Сказание краткое о создании пречестной обители Боголепного Преображения Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа на Валааме; а также повесть о преподобных отцах Сергии и Германе, зачинателях той обители, и о перенесении святых мощей их» «Север», 1991, № 9. 172 Там же. 173 Казакова Н.А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси. С. 318. 174 Полное собрание русских летописей. Т. XXV. Московский летописный свод конца XVвека. С. 309. 175 Казакова Н., Лурье Я. Антифеодальные еретические движения на Руси. С. 481. 176 Макарий, митр. Московский. История Русской Церкви в период разделения на две митрополии. Т. 6. Кн. 1. СПб., 1887. С. 91. 177 Казакова Н.А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси. С. 310. 178 Аграрная история Северо-Запада России второй половины XV – начала XVI вв. Л., 1971. С. 333. 179 Скрынников Р.Г. Святители и власти. С. 82 180 Греков Б. Д. Избранные труды. М., 1960. – Т.4. Новгородский дом Святой Софии. С. 454. 181 Павлов А. С. Исторический очерк секуляризации церковных земель в России. Ч. 1. Одесса, 1871. С. 51. 182 Великие Минеи Четий. Сентябрь. Дни 1 – 13. СПб., 1868. Стб. 472—473. 183 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России. С. 61. 184 Алексеев А.И. Под знаком конца времен. С. 285. 185 Полное собрание русских летописей. Полное собрание русских летописей, Т. VIII. Продолжение летописи по Воскресенскому списку. СПб., 1859. С. 218. 186 Казакова Н., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси. С. 312—313. 187 Мильков В. В. Основные направления древнерусской мысли. С. 308. 188 Зимин А.А. Россия на рубеже XV—XVI столетий. С. 78, 82. 189 Там же. С. 87. 190 Лурье Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике. С. 224—229. 191 Скрынников Р.Г. Святители и власти. С. 109. 192 Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. С. 49. 193 Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С.149. 194 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России. С. 185. 195 Послания Иосифа Волоцкого. С. 330. 196 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России С. 234. 197 Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVIIb. СПб., 1903. С. 39. 198 Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 32. 199 Прел. Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 36. 200 Там же. С. 33. 201 Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. М., 1990. С. 31. 202 Успенский Ф.И. История Византийской империи. VI—IX вв. М., 1996. С. 572. 203 Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 349. 204 Там же. С. 26. 205 Там же. С. 25. 206 Зелинский A.M. Конструктивные принципы древнерусского календаря // Контекст. 1978. Литературно-теоретические исследования. М., 1978. С. 96. 207 Алексеев А.И. Под знаком конца времен. С. 66. 208 Послания Иосифа Волоцкого. С. 170. 209 Плигузов А.И., Тихонюк И.А. Послание Дмитрия Траханиота Новгородскому архиепископу Геннадию Гонзову о седмеричности счисления лет // Естественно-научные представления Древней Руси. М. 1988. С. 73. 210 Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. М., 1972. С. 351. 211 Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV – начала XVI века. М., 1975. С. 82. 212 См.: Святский Д.О. Очерки истории астрономии в Древней Руси // Историко-астрономические исследования. Вып. VII—IX. М., Физ-матгиз, 1961 – 1966.; Святский Д.О., Астрономическая книга «Шесток-рыл» на Руси XV века // «Мироведение», 1927, XVI, №2. 213 Макарий, митр. Московский. История Русской Церкви… Т. 6. Кн. 1. С. 83. 214 Никольский Н.М. История русской церкви (взгляд на «жидов-ствукших»). М., 1931. С. 101. 215 Шмурло Е.Ф. Курс русской истории: В 4 т. Т. 2: Русь и Литва. СПб., 2000. С. 277. 216 Алексеев А.И. Под знаком конца времен. С. 206. 217 В.В. Мильков В.В. Основные направления древнерусской мысли. С. 321. 218 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 560. 219 Там же. С. 603. 220 Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 32. 221 Московские соборы на еретиков XVI-ro века // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1847. Кн. 3. С. 1. 222 Скрынников Р.Г. Святители и власти. С. 133, 134. 223 Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 25. 224 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 599. 225 История государства Российского. Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения. XV—XVI вв. Кн. 2. М., 1998. 226 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 569, 570. 227 Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 34, 35. 228 Послания Иосифа Волоцкого. С. 355. 229 Там же. С. 360. 230 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 649. 231 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 594. 232 Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб., 1995. С. 122. 233 В. В. Мильков. Основные направления древнерусской мысли. С. 321, 335. 234 Мень А. Сын Человеческий. М., 1997. С. 371. 235 Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. М., 1988. С. 123. 236 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 29. 237 Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории // Сочинения. М., 1994. С. 174. 238 Там же. С. 167. 239 Там же. С. 339. 240 Карсавин Л.П. Святые отцы и учители Церкви. (Раскрытие Православия в их творениях). М., 1994. С. 47. 241 В.В. Мильков. Основные направления древнерусской мысли. С. 335. 242 Мень А. Сын Человеческий. С. 340; Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. С. 258. 243 Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории. С. 200. 244 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 64, 67. 245 Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. С. 258. 246 Аверинцев С.С. Адам Кадмон // Мифы народов мира в 2 т. Т. 1. М., 1987. С. 43—44. 247 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. С. 10. 248 Карсавин Л.П. Святые отцы и учители Церкви. С. 127. 249 Бессерман П. Каббала и еврейский мистицизм. М., 2002. С. 11, 46, 70. 250 Хоружии С.С. Аналитический словарь исихастской антропологии // Синергия. Проблемы аскетики и мистики православия. М., 1995. С. 95. 251 Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ. Дух, душа и тело. М., 1997. С. 32. 252 Климков О., священник. Опыт безмолвия. Человек в миросозерцании византийских исихастов. СПб., 2001. С. 113. 253 Умное делание. О молитве Иисусовой. Сборник поучений святых отцов и опытных ее делателей. Минск, 2001. С. 118. 254 Путь к священному безмолвию. Малоизвестные творения святых отцов-исихастов. М., 1999. С. 23. 255 Зарезин М.И. Умная молитва: Когда рассудок молчит, душа разговаривает. Российская газета. №18 (2630). 26.01.2001. С. 31. 256 Пиголь П., игумен. Преподобный Григорий Синаит и его духовные преемники. М., 1999. С. 54 – 55. 257 Боровкова-Майкова М.С. Нила Сорского Предание и Устав. С. 24. 258 Киприан (Керн), архимандрит. Антропология св. Григория Пала-мы. М., 1996. С. 223. См.: Макарий Египетский. Духовные беседы. – Репринтное издание. Свято-Троицкая Сергиева Лавра: 1994. 259 Бессерман П. Каббала и еврейский мистицизм. С. 48. 260 Там же. С. 49. 261 Сатпрем. При Ауробиндо, или Путешествие сознания. СПб., 1992. С. 35—47. 262 Бессерман П. Каббала и еврейский мистицизм. С. 13. 263 Там же. С. 164. 264 Путь к священному безмолвию. С. 23. 265 Умное делание. О молитве Иисусовой. С. 51. 266 Путь к священному безмолвию. С. 17. 267 О молитве Иисусовой. Поучения свт. Феофана Затворника. М., 2001. С. 53, 56. 268 См.: Штейнзальц А. Свет в философии хасидизма. Иерусалим: 1998. 269 Бессерман П. Каббала и еврейский мистицизм. С. 87 – 88. 270 Там же. С. 142, 150. 271 См.: Интернет-сайт Zen-it, www, zen – it. com. 272 См.: Abulafia, Abraham ben Samuel. Jewish Encyclopedia, www. Jewish Encyclopedia.com. 273 Бессерман П. Каббала и еврейский мистицизм. С. 15, 93. 274 Шильтбергер И. Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 года по 1427 год. Баку, 1984. 275 Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Крепость драгоценностей. Кырк-ор. Чуфут-кале. Симферополь. 1993. С. 73. 276 Перетц В.Н. Материалы к истории апокрифа и легенды. СПб., 1903. С. 43, 44. 277 См.: Abulafia, Abraham ben Samuel. Jewish Encyclopedia, www. Jewish Encyclopedia.com. 278 Послания Иосифа Волоцкого. С. 176. 279 В. В. Мильков. Основные направления древнерусской мысли. С. 311—313. 280 Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси. С. 265. 281 Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. С. 107. 282 Бессерман П. Каббала и еврейский мистицизм. С. 43, 165. 283 В.В. Мильков. Основные направления древнерусской мысли. С. 333. 284 Эстетика Ренессанса. В 2 т. Т. 1. М., 1981. С. 259. 285 Там же. С. 254. 286 Там же. С. 264. 287 Там же. С. 251—252. 288 Бессерман П. Каббала и еврейский мистицизм. С. 33. 289 См.: Бурмистров К. Христианская каббала и проблема восприятия еврейской мистики XV—XIX вв. // «Тирош» – Труды студентов и аспирантов по иудаике. Серия «Judaica Rossica». Вып. З.М., 1999. Электронная версия. 290 Клосс Б.М. Воскресенская летопись // Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года. Т. 1. М., 1994. С. 462. 291 Воскресенская летопись. С. 86. 292 Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. О мистическом богословии. СПб., 1995. С. 362—365. 293 Библиотека литературы Древней Руси. Т. Н. XVI век. СПб., 2001. С. 359. 294 В.В. Мильков. Основные направления древнерусской мысли. С. 327, 330, 333. 295 Клибанов А.И. Реформационные движения в Росии в XIV – первой половине XVI века. М., 1960. С. 72 – 73. 296 Пападимитриу Г. Маймонид и Палама о Боге. М. 2003. С. 9 – 10. 297 Булгаков С., протоиерей. Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического истолкования. М. 1991. С. 37. 298 Yates F.A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago, 1964. P. 26. Donne John. The Sermons of John Donne. V. VIII. Berkley – Los Angeles, 1956. P. 255. 299 Соколов В.В. Европейская философия XV—XVII веков. М., 1996. С. 31. 300 Там же. С. 16. 301 Rees V. Renaissance Ideas on Hungarian Soil // Hungarian Quaterly. Vol. XXXVII. n. 141. Spring 1996, p. 125—133. 302 См.: Интернет-журнал Evo Media, num. 1. p. 4. Http / www.evomedia.it. 303 Величко Ф.К.. Астрологический толковый словарь. М., 1992. С. 79; См. также: Берри А. Краткая история астрономии. М. – Л., 1946. 304 Замалеев А.Ф., Овчинникова Е.А. Еретики и ортодоксы. Очерки древнерусской духовности. Л., 1991. С. 75. 305 Cochrane Е. Science and Humanism in the Italian Renaissance // The American Historical Review. Vol. 81. Issue 5. Dec, 1976. p. 1039; См. Thorndike L. History of Magic and Experimental Science. Chapter 66. Vol. IV. New York. 1934. 306 Голубинский E.E. История Русской церкви. С. 579 307 Топоров В.Н. Святость и святители в русской духовной культуре. Т. II. Три века христианства на Руси. М. 1998. С. 576. 308 Никоновская летопись. С. 222. 309 Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. Т. 2. Курс русской истории. Ч. 2. М., 1987. С. 46. 310 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России. С. 58 – 61. 311 Ивина Л.И. Вкладная и кормовая книга Симонова монастыря // ВИД. Л., 1969. Вып. 2. С. 109; Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси. С. 75, 136. 312 Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси. С. 104. 313 Алексеев А.И. Под знаком конца времен. С. 209. 314 Григоренко А. Духовные искания на Руси конца XV в. СПб., 1999. С. 70—75, 131—132. 315 Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 29. 316 Воскресенская летопись. С. 219. 317 Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 30. 318 Алексеев А.И. Под знаком конца времен. С. 208, 209. 319 Григоренко А. Духовные искания на Руси, С. 69. 320 Послания Иосифа Волоцкого. С. 169. 321 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1989. Т. 5. С. 186. 322 Романенко Е. В. Нил Сорский и традиции русского монашества. 323 Голейзовский Н.К. «Послание иконописцу» и отголоски исихаз-ма в русской живописи на рубеже XV—XVI вв. – Византийский временник, XXVI. М.-Л., 1965. С. 235. 324 Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. М., 1989. С. 219—220. 325 Лившиц Л.И. Идеи заволжских старцев и роспись Дионисия в соборе Ферапонтова монастыря. Иконографическая заметка // Фе-рапонтовский сборник. VI. М., 2002. С. 177, 179. 326 Золотухина Н.М. Русская политическая и правовая мысль. Развитие русской политико-правовой мысли в период формирования со-словно-представительской монархии // История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение. М., 1986. С. 205. 327 Смолич И.К. Русское монашество. С. 67. 328 Послания Иосифа Волоцкого. С. 369. 329 Там же. С. 162. 330 Цит. по изд.: Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В З т. Т. 3. М., 1995. С. 55. 331 Скрынников Р.Г. Святители и власти. С. 132. 332 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. ВЗт. Т. 3. С. 55. 333 Прохоров Г.М. Послания Нила Сорского // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 136. 334 Ключ разумения. С. 340. 335 Там же. С. 365. 336 Мильков В. В. Основные направления древнерусской мысли. С. 316. 337 Казакова Н.А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси. С. 320. 338 Бегунов Ю.К. К изучению истории текста «Беседы на новоявив-шуюся ересь болгарского писателя Х в. Козмы пресвитеря // Византийский временник. М., 1969. Т. 30. С. 183. 339 Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси. С. 320. 340 Кукушкина М.В. Книга в России в XVI веке. СПб., 1999. С. 98, 100. 341 Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси. С. 311. 342 Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи. СПб., 1995. С. 135. 343 Евсеев И.Е. Геннадиевская Библия 1499 года // Труды XV археологического съезда в Новгороде 1911 г. М., 1916. Т. 2. С. 3. 344 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 24. 345 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 44. 346 Зимин А.А. Россия на рубеже XV—XVI столетий. С. 157. 347 Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVвека. М., 1982. С. 284. 348 Там же. 297. 349 Зимин А.А. Россия на рубеже XV—XVI столетий. С. 149. 350 Там же. С. 145—146. 351 Успенский Б.А. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Москва – Третий Рим» // Этюды о русской истории. СПб., 2002. С. 100; Тихонюк И.А. «Изложение пасхалии» московского митрополита Зосимы // Исследование по источниковедению СССР XIII—XVIII вв. М., 1986. С. 59. 352 Успенский Б.А. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Москва – Третий Рим». С. 102. 353 Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. М., 2002. С. 357. 354 Никоновская летопись. С. 241. 355 Скрынников Р.Г. Иоанн Грозный. С. 24. 356 Там же. 357 Жданов И.Н. Русский былевой эпос. СПб., 1895. С. 114. 358 Малинин В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Клев, 1901. 359 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. С. 11. 360 Дмитриева Р.П. «Сказание о князьях Едадимирских». М. – Л., 1955. С. 109—117. 361 Черепнин Архивы. Ч. 2. С. З Обрубеж 113. 362 Зимин А.А. Россия на рубеже XV—XVI столетий. С. 136. 363 Никоновская летопись. С. 263. 364 Каштанов С.М. Социально-политическая история России конца XV – первой половины XVI века. М., 1967. С. 63 – 66. 365 Никоновская летопись. С. 263. 366 Вернадский Г.В. Россия в средние века. С. 135. 367 Каштанов С.М. Социально-политическая история России, С. 100. 368 Никоновская летопись. С. 246, 247. 369 Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. С. 60. А.А. Зимин. Россия на рубеже XV—XVI столетий. С. 149. 370 Каштанов С.М. Социально-политическая история России. С. 89. 371 Псковские летописи. Вып. 1. М. – Л., 1941. С. 83. 372 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. С. 327. 373 Софийская вторая летопись. Стб. 343 – 344. 374 Сборник русского исторического общества. Т. 35. С. 199. 375 Зимин А.А. Россия на рубеже XV—XVI столетий. С. 104. 376 Софийская вторая летопись. Стб. 344. 377 Сборник русского исторического общества. Т. 35. С. 274 – 277. 378 Там же. С. 85—89. 379 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. С. 401. 380 Сборник русского исторического общества. Т. 35. С. 327 – 331. 381 Каштанов С.М. Социально-политическая история России. С. 67. 382 Там же. С. 61. 383 Сборник русского исторического общества. Т. 35. С. 275 – 276. 384 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. С. 401. 385 Хроника Быховца. М., 1966. С. 111. 386 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. С. 380. 387 Там же. С. 387. 388 Богуславский В.В. Держава Рюриковичей. С. 376. 389 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России. С. 173. 390 Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989. С. 67. 391 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. С. 290. 392 Там же. С. 288. 393 Бычкова М. Е., Виноградов А. В. Международные связи России в 70-е годы XV – первой половины XVI века. С. 116. 394 Хорошкевич А.Л. Русь и Крым. От союза к противостоянию. Конец XV – начало XVI в. М., 2001. С. 159. 395 Сборник русского исторического общества. Т. 35. С. 290. 396 Там же. С. 293. 397 Бычкова М. Е., Виноградов А. В. Международные связи России в 70-е годы XV – первой половины XVI века. С. 111. 398 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. С. 387. 399 Там же. С. 401. 400 ПСРЛ. Т.XXI. Степенная книга. СПб., 1909. ч. II. С. 572. 401 Вопросы истории. 1952, №11. С. 142—143. 402 Каштанов С.М. Социально-политическая история России. С. 93, 101. 403 Никоновская летопись. С. 206. 404 Скрынников Р.Г. Святители и власти. С. 99. 405 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. С. 130. 406 Софийская вторая летопись. Стб. 294. 407 Там же. Стб. 306, 307. 408 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. С. 141. 409 Там же. С. 140. 410 Павлов Н.П. Действительная роль архиепископа Вассиана в событиях 1480 года // Ученые записки Красноярского педагогического института. 1955. т. IV, вып. 1. С. 209 – 210. 411 Никоновская летопись. С. 205. 412 Скрынников Р.Г. Святители и власти. С. 100. 413 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России. С. 255. 414 Скрынников Р.Г. Святители и власти. С. 101. 415 Каргалов В.В. «На границах Руси стоять крепко». С. 123. 416 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России. С. 52, 53. 417 Там же. С. 215. 418 Там же. С. 255. 419 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства. С. 352 – 353. 420 Там же. С. 130. 421 Дмитриева Р.П. Сказание о князьях Владимирских. М. – Л., 1955. С. 109, 117. 422 Каштанов С.М. Социально-политическая история России. С. 96. 423 Никоновская летопись. С. 246. 424 Вернадский Г.В. Россия в средние века. С. 137. 425 Там же. С. 138. 426 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 33. 427 Каштанов С.М. Социально-политическая история России. С. 147. 428 Там же. С. 154. 429 Зимин А.А. Россия на рубеже XV—XVI столетий. С. 187. 430 Хроника Быховца. С. 137. 431 Города России. Энциклопедия. М., 1994. С. 422. 432 Каштанов С.М. Социально-политическая история России. С. 166. 433 Скрынников Р.Г. Святители и власти. С. 119, 126. 434 Каштанов С.М. Социально-политическая история России. С. 153. 435 Там же. С. 141, 142. 436 Зимин А.А. Россия на рубеже XV—XVI столетий. С. 182. 437 Воскресенская летопись. С. 320. 438 Послания Иосифа Волоцкого. С. 367. 439 Чтение в Обществе истории и древностей российских при МГУ. 1903. Кн. 3. С. 37. 440 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 615. 441 Воскресенская летопись. С. 322. 442 Послания Иосифа Волоцкого. С. 367. 443 Вернадский Г.В. Россия в средние века. С. 142. 444 Бегунов Ю.К. «Слово иное» – новонайденное произведение русской публицистики XVI века о борьбе Ивана III с землевладением церкви // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР, Т. XX. М.-Л., 1946. С. 351—364. 445 Алексеев А.И. Под знаком конца времен. С. 281 – 284. 446 Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 28 – 30. 447 Невоструев К. Житие преподобного Иосифа Волоцкого, составленное Саввою, епископом Крутицким // Чтения в Московском Обществе любителей духовного просвещения. Кн. 2. М., 1865. С. 75. 448 Московские соборы на еретиков XVI-ro века. С. 1. 449 Алексеев А.И. Под знаком конца времен. С. 288. 450 Там же. С. 285—288. 451 Бегунов Ю. К. «Слово иное». С. 362. 452 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. С. 56. 453 Послания Иосифа Волоцкого. С. 322 – 326. 454 Казакова Н.А. Очерки по истории русской общественной мысли: первая треть XVI века. Л., 1970. С. 54. 455 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 633. 456 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России. С. 69. 457 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 634. 458 Каштанов С.М. Социально-политическая история России. С. 228. 459 Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси. С. 95. 460 Воскресенская летопись. С. 322. 461 Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV—XV веков.4.1. С. 217—219. 462 Вернадский Г.В. Россия в средние века. С. 143. 463 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. С. 500. 464 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России. С. 81. 465 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. С. 396. 466 Послания Иосифа Влоцкого. С. 87—108, 207—227, 334, 342. 467 Там же. С. 187—208. 468 Судные списки Максима Грека и Исаака Собаки. М., 1971. С. 107. 469 Вернадский Г.В. Россия в средние века. С. 149. 470 Каштанов С.М. Социально-политическая история России. С. 233. 471 Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. С. 45. 472 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 654. 473 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России. С. 33; Вернадский Г.В. Россия в средние века. С. 150. 474 Максим Грек. Творения. Репринтное издание в 3 ч. 4.1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996. С. 27. 475 Смолич И.К. Русское монашество. С. 92. 476 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 653. 477 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России. С. 91, 92. 478 Там же. С. 92. 479 Каштанов С.М. Социально-политическая история России. С. 257 – 258. 480 Полной собрание русских летописей. Т. XXX. Владимирский летописец. М., 1965. С. 176; Н.А. Казакова. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.-Л., 1960. С. 281. 481 Анхимюк Ю.В. Слово на «Списание Иосифа» – памятник раннего нестяжательства // Записки ОР ГБЛ. М., 1990. Вып. 49. С. 141 – 144. 482 Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 360, 367. 483 Там же. С. 362, 364. 484 Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI в. С. 358. 485 Там же. С. 360. 486 Кукушкина М.В. Книга в России в XVI веке. С. 102. 487 Там же. С. 100. 488 Послания Иосифа Волоцкого. С. 230. 489 Там же. С. 227—228. 490 Иосиф Волоцкий. Просветитель. С. 323 – 324. 491 Жан ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992. С. 255. 492 Послания Иосифа Волоцкого. С. 184. 493 Л.Г. Графский. Политические и правовые учения Византии и Закавказья. Византия. // История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение. С. 90. 494 Полное собрание русских летописей. Т. Н. Ипатьевская летопись. Пг., 1923. С. 167. 495 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998. С. 85. 496 Там же. С. 87. 497 Послания Иосифа Волоцкого. С. 348 – 349, 364 – 365. 498 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. С. 87. 499 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. С. 454. 500 Зеньковский В.В. История русской философии. Т.1, 4.1. Л., 1991. С. 49. 501 Там же. С. 44—45. 502 Там же. С. 50. 503 Макарий (Веретенников), архимандрит. Жизнь и труды святителя Макария, Митрополита Московского и Всея Руси. М., 2002. С. 154. 504 Соколов В. В. Европейская философия XV—XVII веков. С. 30. 505 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 673. 506 Максим Грек. Творения. 4. 1. С. 7. 507 Там же. С. 11. 508 Кукушкина М.В. Книга в России в XVI веке. С. 109, 108, 113. 509 Там же. С. 107. 510 Максим Грек. Творения. 4.1. С. 16. 511 Кукушкина М.В. Книга в России в XVI веке. С. 106. 512 Ключевский В.О. Собрание сочинений в 9 тт. т. 2. С. 151 – 152. 513 Кукушкина М.В. Книга в России в XVI веке. С. 84, 111. 514 Максим Грек. Творения. 4. 1. С. 166. 515 Там же. С. 168. 516 Кукушкина М.В. Книга в России в XVI веке. С. 84, 111. 517 Там же. С. 67. 518 Казакова Н.А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. С. 236. 519 Плигузов А.И. Полемика в Русской церкви. С. 133. 520 Максим Грек. Творения. 4. 1. С. 56. 521 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 694. 522 Максим Грек. Творения. 4. 1. С. 22. 523 Воскресенская летопись. С. 342. 524 Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. С. 70. 525 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. С. 416. 526 Клосс Б.М. Об авторе и времени создания «Сказания о Мамаевом побоище» // In memoriam. Сборник памяти Я.С. Лурье. СПб. 1997. С. 77. 527 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России. С. 262, 265. 528 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 703. 529 Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. С. 44. 530 Максим Грек. Творения. 4. 1. С. 214. 531 Там же. С. 212. 532 Там же. С. 203. 533 Там же. С. 213. 534 Библиотека литературы Древней Руси. С. 310. 535 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. С. 469. 536 Максим Грек. Творения. Ч. 1. С. 30. 537 Судные списки Максима Грека и Исаака Собаки. С. 121. 538 Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. С. 53. 539 Там же. С. 53. 540 Плигузов А.И. Полемика в Русской церкви. С. 278 – 279. 541 Казакова Н.А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. С. 256. 542 Плигузов А.И. Полемика в Русской церкви. С. 279. 543 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России. С. 35. 544 Послания Иосифа Волоцкого. С. 196. 545 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 709. 546 Скрынников Р.Г. Святители и власти. С. 157. 547 Там же. С. 157. 548 Россия XVI века. Воспоминая иностранцев. Смоленск. 2003. С. 183. 549 Казакова Н.А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. С. 283 – 316. 550 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 725. 551 Судные списки Максима Грека и Исаака Собаки. С. 98, 99. 552 Воскресенская летопись. С. 368. 553 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 89. 554 Там же. С. 88. 555 Смирнов И.И. Очерки политической истории Русского государства 30-50-х годов XVI века. М.-Л., 1958. С. 34. 556 Там же. С. 34, 38. 557 Воскресенская летопись. С. 377. 558 Там же. С. 377. 559 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 95. 560 Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI веке. С. 50. 561 Смирнов И.И. Очерки политической истории Русского государства. С. 42. 562 Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 151. 563 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России. С. 125—126. 564 Там же. С. 174. 565 Воскресенская летопись. С. 386. 566 Аргументы и факты. №12. 2001. С. 22. 567 Дружинин В.Г. Несколько неизвестных литературных памятников из сборника XVI века // Летопись занятий Археологической комиссии. Вып. 21. СПб., С. 112. 568 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. С. 422. 569 Памятники литературы Древней Руси. Конец xv – первая половина xvi в. С. 513. 570 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. С. 420. 571 Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI в. С. 514 572 Максим Грек. Творения. 4.1. С. 233—238. 573 Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI в. С. 511. 574 Там же. С. 512. 575 Там же. С. 512. 576 Казакова Н.А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. С. 255. 577 Золотухина Н.М. Русская политическая и правовая мысль // История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение. С. 217. 578 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 735. 579 Каштанов С.М. Социально-политическая история России. С. 297. 580 Зимин А.А., Корецкий В.И., Сахаров A.M. Церковь в обществе развитого феодализма (XIV—XVI вв.) // Русское православие: вехи истории. М., 1989. С. 109. 581 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях. С. 248. 582 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 740. 583 Максим Грек. Творения. 4.1. С. 38. 584 Судные списки Максима Грека и Исака Собаки. С. 126, 138. 585 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 742. 586 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. С. 421. 587 Там же. С. 423. 588 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 314. 589 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях. С. 248. 590 Воскресенская летопись. С. 394. 591 Там же. С. 391. 592 Там же. С. 395. 593 Там же. С. 391. 594 Там же. С. 393. 595 Смирнов И.И. Очерки политической истории Русского государства. С. 82. 596 Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России. С. 35, 220, 271. 597 Смирнов И.И. Счерки политической истории Русского государства. С. 87. 598 Каштанов С. М. Социально-политическая история России. С. 344, 350. 599 Кобрин В.Б. Иван Грозный. С. 26. 600 Каштанов С. М. Социально-политическая история России. С. 348. 601 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1993. С. 138. 602 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях. С. 249. 603 Ключевский В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М., 1993. С. 126. 604 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 269. 605 Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI веке. С. 60 606 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 315. 607 Ключевский В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. С. 126. 608 Лурье Я.С. Литература XVI в. // История Русской литературы X—XVII веков. М., 1980. С. 292. 609 Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. С. 241. 610 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9. Конец XV – первая половина XVI в. СПб., 1997. С. 535. 611 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 123. 612 Ключевский В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. С. 133. 613 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 130. 614 Там же. Т. 11. С. 213. 615 Сборник Русского исторического общества. СПб., 1887. Т. 59. С. 471—476. 616 Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530 – 1584). Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1998. С. 40. 617 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 30. 618 Платонов С.Ф. Иван Грозный. С. 41. 619 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 772. 620 Казакова Н.А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. С. 285. 621 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т.1. С. 1090. 622 Воскресенская летопись. С. 386. 623 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 762. 624 Там же. С. 762. 625 Скрынников Р.Г. Святители и власти. С. 169. 626 Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники. М., 1958. С. 74. 627 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 103. 628 Скрынников Р.Г. Святители и власти. С. 169 – 170. 629 Полное собрание русских летописей. Т. XIII. Вторая половина. Царственная книга. СПб., 1906. С. 456. 630 Там же. С. 456. 631 Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. С. 86 – 87. 632 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 139. 633 Царственная книга. С. 456. 634 Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 8. С. 95. 635 Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. С. 93. 636 Там же. С. 95. 637 Царственная книга. С. 456. 638 Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. С. 98. 639 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 316. 640 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 153, 156. 641 Хомяков А.С Полное собрание сочинений. Т. III. М., 1900. С. 30 – 53. 642 Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. С. 167. 643 Степенная книга. С. 638. 644 Малинин В. Старец Елиазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901. С. 61. 645 Максим Грек. Творения. Ч. 1. С. 240. 646 Ржига В. Ф. Опыты по истории русской публицистики XVI века. Максим Грек как публицист // Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы АН СССР. Т.1. Л., 1934. С. 118. 647 Золотухина Н.М. Русская политическая и правовая мысль. С. 233. 648 Там же. С. 227. 649 Лурье Я.С. Литература XVI в. С. 321. 650 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. С. 94. 651 Зимин А.А. И.С. Пересветов и его современники. С. 284. 652 Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI в. С. 618. 653 Моисеева Г. Н. Валаамская беседа – памятник русской публицистики середины XVI века. М. – Л., 1958. С. 161 – 177. 654 Лурье Я.С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 231. 655 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 129. 656 Там же. С. 130. 657 Смирнов И.И. Очерки политической истории Русского государства. С. 179. 658 Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. С. 70. 659 Кобрин В.Б. Иван Грозный. С. 35. 660 Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. С. 397. 661 Там же. С. 397. 662 Сборник Русского исторического общества. Т. 59. С. 469 – 470. 663 Смирнов И.И. Очерки политической истории Русского государства. С. 229. 664 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Киев, 1907. С. 167. 665 Смирнов И.И. Очерки политической истории Русского государства. С. 186. 666 Там же. С. 205. 667 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 140. 668 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 320. 669 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 141. 670 Платонов С.Ф. Иван Грозный. С. 47. 671 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 150. 672 Лурье Я.С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси. С. 239. 673 Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. С. 82. 674 Филюшкин А.И. История одной мистификации: Иван Грозный и Избранная рада. Воронеж, 1998. С. 135. 675 Смирнов И.И. Очерки политической истории Русского государства. С. 225—229. 676 Филюшкин А.И. История одной мистификации. С. 25 – 28. 677 Зимин А.А. И.С. Пересветов и его современники. С. 320, 324, 328 – 329. 678 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 114. 679 Зимин А.А. И.С. Пересветов и его современники. С. 130. 680 Там же. С. 131. 681 Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI в. С. 610, 614, 621. 682 Зимин А.А. И.С. Пересветов и его современники. С. 343. 683 Там же. С. 31—35. 684 Там же. С. 344. 685 Там же. С. 350. 686 Там же. С. 79. 687 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях. С. 254. 688 Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. С. 212. 689 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 358, 359. 690 Там же. С. 314. 691 Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. С. 278. 692 Лурье Я.С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси. С. 236. 693 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 235. 694 Тихомиров М.Н. Средневековая Москва. М., 1997. С. 405. 695 Носов Н.Е. Становление сословно-представительских учреждений в России. Л., 1969. С. 54. 696 Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. С. 192 – 193, 202. 697 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях. С. 255. 698 Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. С. 212. 699 Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. СПб., 2000. С. 270, 284. 700 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 107. 701 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. С. 274—275. 702 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 114. 703 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях. С. 257. 704 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. С. 368. 705 Судебники XV—XVI веков. М.-Л., 1952. С. 147—174. 706 Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. С. 88. 707 Зимин А.А. Тысячная книга и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI века. М.-Л., 1950. С. 6. 708 Смирнов И.И. Очерки политической истории Русского государства. С. 421. 709 Мятлев Н.В. Тысячники и московское дворянство XVI столетия. Орел, 1912. С. 54—69. 710 Виппер Р.Ю. Иван Грозный. С. 152. 711 Бычкова М.Е. Состав класса феодалов России в XVI веке. С. 171. 712 Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. С. 90. 713 Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. С. 88 – 89. 714 Рождественский СВ. Служилое землевладение в Московском государстве в XVI веке. СПб., 1897. С. 205. 715 Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 61, 67, 70. 716 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. М., 1988. С. 210, 211. 717 Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. С. 16. 718 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 127. 719 Смирнов И.И. Счерки политической истории Русского государства. С. 416. 720 Носов Н.Е. Становление сословно-представительских учреждений в России. С. 82 – 83. 721 Там же. С. 367—369. 722 Янов А.Л. Тень Грозного царя. Загадки русской истории. М., 1997. С. 66. 723 Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. С. 86, 87. 724 Носов Н.Е. Становление сословно-представительских учреждений в России. С. 384. 725 Вернадский В.Н. Новгород и новгородская земля в XV в. М. – Л., 1961. С. 324. 726 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 82. 727 Абрамович Г.В. Поместная система и поместное хозяйство в России в последней четверти XV и в XVI в. АЦЦ. Л., 1975. С. 17, 18. 728 Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. С. 56. 729 Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI в. С. 610. 730 Там же. С. 655, 661. 731 Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. С. 96. 732 Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. С. 87. 733 Демидова Н.Ф. Бюрократизация государственного аппарата абсолютизма в XVII—XVIII вв. // Абсолютизм в России XVII—XVIII вв. М., 1964. С. 206. 734 Зимин А.А. Тысячная книга и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI века. С. 14. 735 Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. С. 87. 736 Соловьев С.М. Сочинения в 18 кн. Кн. IV. С. 18. 737 Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. С. 82. 738 Сергеевич В. И. Древности русского права. СПб., 1911. Т. 3. С. 17 – 18. 739 Соловьев С.М. Сочинения в 18 кн. Кн. IV. С. 19—20. 740 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 82. 741 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 383. 742 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. С. 110. 743 Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. С. 69. 744 Полное собрание русских летописей. Т. XIII. Вторая половина. Дополнения к Никоновской летописи. Царственная книга. С. 268 – 269. 745 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 76. 746 Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. С. 82. 747 Кобрин В.Б. Иван Грозный. С. 43. 748 Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. С. 99, 100. 749 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. С. 127. 750 Разин Е.А. История военного искусства XVI—XVII вв. СПб., 1999. С. 377. 751 Полное собрание русских летописей. Т. XXII. Степенная книга. Вторая половина. СПб., 1913. С. 532 – 533. 752 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 78. 753 Скрынников Р.Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. Смоленск, 1997. С. 101, 102. 754 «Записки» Жана Маржерета//Смута в Московском государстве. Россия начала XVII столетия в записках современников. М. 1989. С. 203, 204. 755 Зимин А.А. В канун грозных потрясений: Предпосылки первой Крестьянской войны в России. М., 1986. С. 53. 756 Белокуров С.А. Разрядные записки за Смутное время. М., 1907. С. 192—193. 757 Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. С. 107, 108. 758 Смирнов И.И. Очерки политической истории Русского государства. С. 416. 759 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. С. 383. 760 Шмурло Е.Ф. Курс русской истории. Спорные и невыясненные вопросы русской истории. СПб., 1999. С. 176. 761 Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 127. 762 Виппер Р.Ю. Иван Грозный. С. 139. 763 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 36. 764 Там же. С. 449. 765 Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. С. 215. 766 Янов А.Л. Тень Грозного царя. С. 42, 43. 767 Моисеева Г. Г. Старшая редакция «Писания» митрополита Мака-рия Ивану IV // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. М.-Л., 1960. Т.XVI. С. 471. 768 Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. С. 435. 769 Российское законодательство Х-ХХ. М., 1985. Т. 2. С. 309—311. 770 Там же. С. 274. 771 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. С. 26. 772 Скрынников Р.Г. Святители и власти. С. 173. 773 Российское законодательство X—XX веков. С. 372. 774 Зимин А.А., Корецкий В.И., Сахаров A.M., Церковь в обществе развитого феодализма (XIV—XVI вв.). С. 123. 775 Платонов С. Ф. Иван Грозный С. 63. 776 Там же. С. 65. 777 Платонов С.Ф. Борис Годунов. М., 1999. С. 35. 778 Скрынников Р.Г. Святители и власти. С. 168; Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 142. 779 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 302. 780 Там же. С. 303. 781 Ключевский В.О. Сочинения в 9 т. Т. 2. Курс русской истории. Ч. 2. С. 149. 782 Там же. С. 160. 783 Кобрин В.Б. Иван Грозный. С. 25. 784 Ключевский В.О. Сочинения в 9 т. Т. 2. Курс русской истории. Ч. 2. С. 148. 785 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. С. 437. 786 Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. С. 43. 787 Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. С. 208. 788 Носов Н.Е. Становление сословно-представительских учреждений в России. С. 372. 789 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 354. 790 Там же. С. 352. 791 Там же. С. 354. 792 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 151. 793 Макарий (Булгаков), митрополит. История русской церкви. Т. 6. С. 252. 794 Зимин А.А., Корецкий В.И., Сахаров A.M. Церковь в обществе развитого феодализма (XIV—XVI вв.). С. 127. 795 Полное собрание русских летописей. Т. XIII. Ч. 1. Летописный сборник, именуемый Патриаршьей или Никоновской летописью. СПб., 1904. №. 232. 796 Зимин А.А. Корецкий В.И. Сахаров A.M. Церковь в обществе развитого феодализма (XIV—XVI вв.). С. 128. 797 Полное собрание русских летописей. Т. XIII. 4.1. Летописный сборник, именуемый Патриаршьей или Никоновской летописью. №. 232, 233. 798 Зимин А.А. И.С. Пересветов и его современники. С. 176. 799 Голубинский Е.Е. История Русской церкви. С. 832. 800 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. С. 511. 801 Смирнов И.И. Очерки политической истории Русского государства. С. 247. 802 Максим Грек. Творения. 4.1. С. 46. 803 Зимин А.А. И.С. Пересветов и его современники. С. 165. 804 Зимин А.А., Корецкий В.И. Сахаров A.M. Церковь в обществе развитого феодализма (XIV—XVI вв.). С. 129. 805 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях. С. 272. 806 Там же. С. 273. 807 Виноградов А. В. Внешняя политика Ивана IV Грозного // История внешней политики России. Конец XV—XVII век. (От свержения ордынского ига до Северной войны.) М., 1999. С. 147. 808 Платонов С.Ф. Иван Грозный. С. 72. 809 Янов А.Л. Тень Грозного царя. С. 70. 810 Платонов С.Ф. Иван Грозный. С. 72. 811 Савельев Е.П. Древняя история казачества. М., 2002. С. 230. 812 Зимин А.А. Опричнина. М., 2001. С. 65. 813 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 169. 814 Виноградов А.В. Внешняя политика Ивана IV Грозного. С. 153. 815 Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 131. 816 Там же. С. 132. 817 Там же. С. 133. 818 Виноградов А. В. Внешняя политика Ивана IV Грозного, С. 167. 819 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 628. 820 Там же. С. 122—124. 821 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 147. 822 Шмурло Е.Ф. Курс русской истории. Спорные и невыясненные вопросы русской истории. С. 53. 823 Хорошкевич А.Л. Задачи русской внешней политики и реформы Ивана Грозного // Спорные вопросы отечественной истории XI—XVIII вв. М. 1990. С. 29. 824 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 58. 825 Там же. С. 606. 826 Платонов С.Ф. Иван Грозный. С. 72. 827 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 148. 828 Там же. С. 217. 829 Хорошкевич А.Л. Русь и Крым. От союза к противостоянию. С. 173—174. 830 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 379. 831 Там же. С. 380. 832 Там же. С. 380. 833 Янов А.Л. Тень Грозного царя. С. 71. 834 Полное собрание русских летописей. Т. XIII. Ч. 2. Дополнения к Никоновской летописи. Царственная книга. С. 321. 835 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 142. 836 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 189. 837 ФилюшкинА.И. История одной мистификации. С. 165. 838 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 189. 839 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 195. 840 Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. С. 57, 58. 841 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 194. 842 Там же. С. 246. 843 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 519. 844 Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. С. 264, 265. 845 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 149. 846 Там же. С. 125, 126. 847 Полное собрание русских летописей. Т. XIII. Ч. 2. Дополнения к Никоновской летописи. Царственная книга. С. 391. 848 Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма, С. 249. 849 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 249. 850 Полное собрание русских летописей. Т. XIII. 4.2. Дополнения к Никоновской летописи. Царственная книга. С. 392. 851 Там же. С. 392. 852 Кобрин В. Б. Иван Грозный. С. 65. 853 Полное собрание русских летописей. Т. xiii. 4.2. Дополнения к Никоновской летописи. Царственная книга. С. 394. 854 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях. С. 292. 855 Полное собрание русских летописей. Т. xiii. 4.2. Дополнения к Никоновской летописи. Царственная книга. С. 393. 856 Там же. С. 393. 857 Там же. С. 394. 858 Там же. С. 394. 859 Там же. С. 394. 860 Там же. С. 395. 861 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 389. 862 Кобрин В.Б. Иван Грозный. С. 69. 863 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 271, 272. 864 Максим Грек. Творения. 4.1. С. 204. 865 Полное собрание русских летописей. Т. XIII. 4.2. Дополнения к Никоновской летописи. Царственная книга. С. 395. 866 Вернадский Г.В. Россия в средние века. С. 113. 867 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 389. 868 Ключевский В.О. Сочинения. Т. 2. Курс русской истории. Ч. 2. С. 168. 869 Там же. С. 172. 870 Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 82. 871 Там же. С. 83. 872 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 266. 873 Скрынников Р.Г. Святители и власти. С. 212. 874 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 301. 875 Зимин А.А. Опричнина. С. 96. 876 Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. С. 157. 877 Пресняков А.Е. Образование великорусского государства. М., 1997. С. 317. 878 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 246. 879 Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. С. 257. 880 Костомаров Н.И. Земские Соборы. Исторические монографии и исследования. М., 1995. С. 288. 881 Шмурло Е.Ф. Курс русской истории. Спорные и невыясненные вопросы русской истории. С. 114. 882 Там же. С. 128. 883 Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. С. 90. 884 Федотов Г.П. Святой Филипп митрополит Московский. М., 1991. С. 62. 885 Платонов С.Ф. Иван Грозный. С. 79. 886 Ключевский В.О. Сочинения. Т.7. Специальные курсы. С. 129, 130. 887 Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. С. 69. 888 Шмурло Е.Ф. Курс русской истории. Спорные и невыясненные вопросы русской истории. С. 119. 889 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 125. 890 Шмурло Е.Ф. Курс русской истории. Спорные и невыясненные вопросы русской истории. С. 128. 891 Эйдельман Н. Я. Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII – начало XIX столетия. СПб., 1992. С. 162. 892 Сведения о мюнстерских анабаптистах см.: Шафаревич И. Р. Социализм как явление мировой истории. Париж., 1977. С. 85 – 95; Мережковский Д. С. Реформаторы. Лютер. Кальвин. Паскаль. Томск, 1999. С. 135—143. 893 Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. С. 321. 894 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 275. 895 Шафаревич И. Р. Социализм как явление мировой истории. С. 106. 896 Гумилев Л.Н., Панченко A.M. Чтобы свеча не погасла. Диалог. Л., 1990. С. 91. 897 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях. С. 296. 898 Московия и Европа / Г.К. Котошихин, П. Гордон. Я. Стрейс. Царь Алексей Михайлович. М., 2000. С. 11. 899 Гумилев Л.Н. От Руси к России: очерки этнической истории. М., 1992. С. 124. 900 Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэззия. М., 1880. С. 239—255. 901 ПотебняА.А. Символ и миф в народной культуре. М., 2000. С. 307. 902 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1988. С. 730. 903 Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 103. 904 Панченко A.M. О русской истории и культуре. СПб., 2000. С. 338 – 343. 905 Гумилев Л.Н., Панченко A.M. Чтобы свеча не погасла. С. 88. 906 Домострой. Книга, называемая «Домострой», содержащая полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину – мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам. Ярославль, 1991. С. 20. 907 Гумилев Л.Н., Панченко A.M. Чтобы свеча не погасла. С. 87. 908 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 148, 149. 909 Там же. С. 136. 910 Там же. С. 133. 911 Гумилев Л.Н., Панченко a.m. Чтобы свеча не погасла. С. 85. 912 Соболев А.Н. Загробный мир по древнерусским представлениям // Мифология славян. СПб., 2000. С. 166—167. 913 Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре. С. 419 – 433. 914 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 148. 915 Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 194. 916 Утешение плачущим об умершем. М., 1997. С. 12, 31. 917 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 150. 918 Там же. С. 149. 919 Курганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 179. 920 Деревенский Б.Г. Учение об Антихристе в древности и средневековье. СПб., 2000. С. 467. 921 Там же. С. 469. 922 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 124. 923 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 310. 924 Россия перед Вторьм пришествием. Материалы к очерку русской эсхатологии. Сост. С. Фомин. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1993. С. 304. 925 Из глубины: Сборник статей о русской революции / С.А. Ас-кольдов, Н.А. Бердяев, С.А. Булгаков и др. М., 1990. С. 61. 926 Исупов К.Г. Русский Антихрист: сбывающаяся антиутопия // Антихрист. (Из истории отечественной духовности): Антология. М., 1995. С. 18. 927 Лихачев Д.С. Стиль произведений Грозного и стиль произведений Курбского (Царь и «государев изменник») // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. С. 193, 195. 928 Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московской государстве XVI—XVIT вв. Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время. М., 1995. С. 103. 929 Лихачев Д. С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. СПб., 2001. С. 363. 930 Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 19. 931 Российское законодательство X—XX веков. С. 311. 932 Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. С. 333. 933 Россия перед Вторым пришествием. С. 289. 934 Там же. С. 177. 935 Кобрин В.Б. Иван Грозный. С. 73 – 75. 936 Скрынников Р.Г. Святители и власти. С. 211. 937 Полное собрание русских летописей. T.XXXTV. Постниковский, Пис-каревский, Московский и Вельский летописцы. М., 1978. С. 190. 938 Зимин А.А. Опричнина. С. 158. 939 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. С. 449. 940 Там же. С. 449. 941 Федотов Г.П. Святой Филипп митрополит Московский. С. 19. 942 Зимин А.А. Опричнина. С. 159. 943 Садиков П.А. Очерки по истории опричнины. М. – Л., 1950. С. 29. 944 Полное собрание русских летописей. T.XXXTV. Постниковский, Пис-каревский, Московский и Бельский летописцы. С. 190. 945 Федотов Г.П. Святой Филипп митрополит Московский. С. 53. 946 Там же. С. 54. 947 Зимин А.А. Опричнина. С. 139. 948 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 389. 949 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 342. 950 Богуславский В.В. Держава Рюриковичей. С. 295. 951 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 308. 952 Там же. С. 391. 953 Полное собрание русских летописей. T.XXXTV. Постниковский, Пис-каревский, Московский и Бель ский летописцы. С. 190. 954 Федотов Г.П. Святой Филипп митрополит Московский. С. 72. 955 Там же. С. 75. 956 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях. С. 303. 957 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т 1. С. 447. 958 Федотов Г.П. Святой Филипп митрополит Московский. С. 77. 959 Корецкий В.И. Политическая борьба и сословные учреждения времени опричнины // Феодализм в России. М., 1987. С. 234 – 235. 960 Алексеев. Ю.Г. «К Москве хотим»: Закат боярской республики в Новгороде. Л., 1991. С. 47 – 19. 961 Сборник Русского исторического общества. Т. 71. СПб., 1892. С. 777. 962 Зимин А.А. Опричнина. С. 246. 963 Рогожин Н.М. Посольский приказ и его роль в проведении внешней политики России // История внешней политики России. Конец XV—XVII век. (От свержения ордынского ига до Северной войны.) М., 1999. С. 378. 964 Там же. С. 372, 379. 965 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 433. 966 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях. С. 290. 967 Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. С. 432. 968 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях. С. 312. 969 Стрейс Ян. Третье путешествие по Лифляндии, Московии, Татарии, Персии и другим странам // Московия и Европа. М., 2000. С. 327. 970 Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 270. 971 Там же. С. 272. 972 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 389. 973 Платонов С. Ф. Иван Грозный. С. 86. 974 Временник Ивана Тимофеева. М. – Л., 1951. С. 174. 975 Там же. С. 175. 976 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях. С. 296. 977 Гумилев Л.Н., ПанченкоА.М. Чтобы свеча не погасла. С. 89, 93. 978 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 398. 979 Зимин А.А. Опричнина. С. 245. 980 Колычева Е.И. Аграрный строй России XVI века. М., 1987. С. 177. 981 Зимин А.А. Опричнина. С. 244. 982 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 66, 67. 983 Платонов С.Ф. Иван Грозный. С. 91. 984 Колычева Е.И. Аграрный строй России XVI века. С. 183. 985 Зимин А.А. Опричнина. С. 245. 986 Там же. С. 245. 987 Псковские летописи. Вып. 1. М. – Л., 1941. С. 113. 988 Колычева Е.И. Аграрный строй России XVI века. С. 182, 183. 989 Маньков А.Г. Цены и их движения в Русском государстве в XVI веке. М.-Л., 1951. С. 32. 990 Зимин А.А. В канун грозных потрясений: Предпосылки первой Крестьянской войны в России. М., 1986. С. 30. 991 Морозова Л.Е. Два царя: Феодор и Борис. М., 2001. С. 11. 992 Мархоцкий Н. История Московской войны. М., 2000. С. 24. 993 Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М., 2003. С. 12. 994 Зимин А.А. В канун грозных потрясений. С. 18. 995 Скрынников Р.Г. Борис Годунов. С. 26. 996 Скрынников Р.Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. Смоленск, 1997. С. 10. 997 Пискаревский летописец. ПСРЛ. Т.34. М., 1978. С. 195. 998 Масса И. Краткое известие о Московии начала XVII в. М., 1937. С. 32. 999 Толстой Ю. Первые 40 лет сношений между Россией и Англией. СПб., 1875. С. 229. 1000 Зимин А.А. В канун грозных потрясений. С. 121. 1001 Морозова Л.Е. Два царя: Феодор и БориС. С. 75. 1002 Соловьев С.М. Сочинения в 18 кн. Кн. IV. История России с древнейших времен. Т. 7—8. М., 1989. С. 184. 1003 Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. С. 132. 1004 Скрынников Р.Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. С. 30. 1005 Там же. С. 34. 1006 Там же. С. 95. 1007 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т 1. С. 449. 1008 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 45, 353. 1009 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 31. 1010 Соловьев С.М. Сочинения в 18 кн. Кн. IV. С. 305. 1011 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 352. 1012 Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. С. 153, 154. 1013 Там же. С. 154. 1014 Временник Ивана Тимофеева. С. 96. 1015 Шапиро А.Л. Русское крестьянство перед закрепощением. (XIV—XVI вв.). Л., 1987. С. 104. 1016 Соловьев С.М. Сочинения в 18 кн. Кн. IV. С. 286. 1017 Скрынников Р.Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. С. 96. 1018 Морозова Л.Е. Два царя: Феодор и Борис. С. 94. 1019 Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. С. 372. 1020 Скрынников Р.Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. С. 131. 1021 Мордвинова СП. Характер дворянского представительства на Земском соборе 1598 г. Вопросы истории. 1971. №2. С. 55 – 63. 1022 Скрынников Р.Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. С. 131. 1023 Там же. С. 137. 1024 Соловьев С.М. Сочинения в 18 кн. Кн. IV. С. 344. 1025 Скрынников Р.Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. С. 147. 1026 Временник Ивана Тимофеева. С. 190. 1027 Соловьев С.М. Сочинения в 18 кн. Кн. IV. С. 261. 1028 Там же. С. 255. 1029 Колычева Е.И. Аграрный строй России XVI века. С. 69. 1030 Маньков А.Г. Цены и их движения в Русском государстве в XVI веке. С. 34. 1031 Аграрная история Северо-Запада России. Новгородские пятины. Л., 1974. С. 273. 1032 Платонов С.Ф. Иван Грозный. С. 86. 1033 Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. С. 159. 1034 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализме России. С. 452. 1035 Абрамович Г.В. Поместная система и поместное хозяйство в России в последней четверти XV и в XVI в. С. 229. 1036 Корецкий В.И. Правая грамота от 30 ноября 1618 г. Троице-Сер-гиеву монастырю // Записки Отдела рукописей РГБ. Вып. 21. 1959. С. 196. 1037 Шапиро А.Л. Русское крестьянство перед закрепощением. С. 103. 1038 Зимин А.А. Опричнина. С. 249. 1039 Каштанов С.М. Финансы средневековой Руси. М., 1988. С. 162. 1040 Колычева Е.И. Аграрный строй России XVI века. М., 1987. С. 116—117. 1041 Каштанов С.М. Финансы средневековой Руси. С. 162. 1042 Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 132. 1043 Колычева Е.И. Аграрный строй России XVI века. С. 95, 97. 1044 Зимин А.А. Опричнина. С. 246, 255. 1045 Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. С. 586. 1046 Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. IV. С. 286, 288. 1047 Скрынников Р.Г. Борис Годунов. С. 40. 1048 Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. IV. С. 287. 1049 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. С. 331, 334, 345. 1050 Ключевский В.О. Сочинения. Т. 2. Курс русской истории. Ч. 2. С. 279. 1051 Платонов С.Ф. Иван Грозный. С. 87. 1052 Ключевский В.О. Сочинения. Т. 2. Курс русской истории. Ч. 2. С. 280. 1053 Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты. С. 108. 1054 Каштанов С.М. Финансы средневековой Руси. С. 41. 1055 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях, С. 296. 1056 Носов Н.Е. Становление сословно-представительских учреждений в России. С. 7. 1057 Там же. С. 9—13. 1058 Скрынников Р.Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. С. 14; Скрынников Р.Г. Борис Годунов. С. 35. 1059 Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты. С. 125. 1060 Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. IV. С. 341. 1061 Скрынников Р.Г. Борис Годунов. С. 95. 1062 Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. IV. С. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 |
|||||||||