 |
|
Популярные авторы:: БСЭ :: Эллисон Харлан :: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Грин Александр :: Андреев Леонид Николаевич :: Чехов Антон Павлович :: Толстой Лев Николаевич :: Горький Максим :: Раззаков Федор Популярные книги:: The Boarding House :: Дюна (Книги 1-3) :: Ярмарка Святого Петра :: Памятные встречи :: Колумбы каменного века :: Контактов не будет (сборник) :: Сожженная заживо :: Каштанка :: Запечатленный труд (Том 2) :: Справочник по реестру Windows XP |
Всемирная история. Том 1. Древний мирModernLib.Net / История / Йегер Оскар / Всемирная история. Том 1. Древний мир - Чтение (стр. 47)
Уже во времена Августа их пришлось с правого берега Дуная, из Мизии, вновь вытеснять на левый берег. Теперь под предводительством своего короля
Децебалаони вновь попытались утвердиться в Мизии, по эту сторону реки. Несколько лет борьба с ними велась с переменным успехом, и наконец
Домициан(после неудачной кампании против южногерманских племен
маркоманнов) сам отправился к войску в Мизию и заключил с Децебалом мир; этот договор, который он сумел ознаменовать блестящим триумфом и присоединением к своему имени титула
Дакийского(Dacicus), был, в сущности, не более чем денежной сделкой, на которую можно даже смотреть как на тайную уплату условленной дани (90 г.).
 При всем этом отношения сената к Домициану не улучшались. Сенат находил, что он чересчур балует солдат; и возможно, что он в войске искал точку опоры, которую уже не находил в кружке сенаторов. Трудно решить, кто именно более виновен в этих несогласиях между императором и сенатом, но вскоре против него образовался заговор, в котором приняла участие и его супруга. В сентябре 96 г., к великому удовольствию сената и значительной части граждан Домициан пал жертвой заговора; и всюду с радостью разбивались его статуи и медальоны с ненавистным его изображением. Нерва, 96 г.На этот раз дело было хорошо подготовлено: у заговорщиков под руками в самом сенате был весьма почтенный муж Марк Кокцей Нерва, готовый принять на себя труды правления и вести в духе его сенатского большинства. Нерва происходил из семьи, которая уже дала многих сановников на государственную службу, однако он не мог достигнуть никакого влиятельного положения. Вот почему, побуждаемый с одной стороны сенатом к насильственным мерам против всего, что было связано с последним правлением, он в то же время вынужден был предоставить на произвол недовольных преторианцев тех убийц Домициана, которым был обязан своей властью. Ему было в то время уже 64 года; особенным честолюбием он не отличался, и самой большой его заслугой было именно то, что он усыновил и приблизил к себе лучшего и замечательнейшего из современных деятелей — Марка Ульпия Траяна, командовавшего легионами на Рейне. Правление Траяна, 98 г.Этот человек, представляющий собой в высшем развитии тип, вызванный к жизни новым порядком, начавшимся со времен Августа, был одним из величайших правителей, какие когда-либо являлись в истории. Он происходил из семьи, поселившейся в Испании. Когда в октябре или ноябре 97 г. Траян получил известие об усыновлении его императором Нервой, у него уже было свое весьма обильное деятельностью и многозначительное прошлое. Родился он в 53 г. в Италике, набрался житейского опыта и в войне, и в мире; и в 91 г. в правление Домициана был уже консулом. Его авторитетность была так прочно установлена, что когда его имя было произнесено в связи с будущим назначением, все успокоились, и он имел возможность довершить свою задачу на Рейне. Только уже осенью 99 г. (Нерва умер в 98 г.) Траян лично явился в Рим. Сохранилась небольшая часть его корреспонденции с одним из его высших сановников — 120 писем и записок из того времени, когда этот сановник, Плиний Младший(Гай Цецилий Плиний Второй) управлял небольшой и очень важной провинцией — Вифинией. Этого небольшого отрывка из его переписки достаточно, чтобы дать понятие о его предусмотрительности, о его практическом и здравом уме и в то же время о его справедливости и гуманности, а особенно о громадном объеме его административной деятельности. Строгий приверженец законов, Траян в то же время был человеком энергичным и доброжелательным, и как ни вычурны похвалы, расточаемые ему Плинием в известных панегириках, Траян и в этом произведении предстает во всей простоте великого человека, который все силы своего несравненного царства умел привести в теснейшее соотношение, умел оживить их и своим собственным примером пробудить во всех благороднейшее соревнование. Мраморная статуя из Неаполитанского музея. Плиний не преувеличивает, выставляя на вид, что «только теперь можно радоваться громадности римского могущества — теперь, когда во главе государства стоит правитель, который умеет распределять изобилие отдельных стран, перенося его избытки туда, где в них могла быть нужда». Да и во всех письмах панегириста представляется утешительная картина многосторонней культурной работы, совершавшейся всюду, причем не были упущены из вида и заботы о бедных, о благотворительных и всякого рода иных полезных заведениях. Сам император побуждал всех к такого рода деятельности учреждением в Италии большого благотворительного заведения для пропитания нуждающихся детей. Войны ТраянаИдеальное значение Траяна, как правителя римского государства, дополнялось тем, что он был замечательным воином, и в качестве воина способствовал разрешению последних военных задач, какие еще представлялись государству. Так, в 101–106 гг. он разрешил дакийский вопрос: несколькими последовательными походами он довел Децебала Дакийского до того, что тот, не предвидя возможности продолжения борьбы, сам лишил себя жизни; и вся страна даков, соединенная с Мизией (на южном берегу Дуная) посредством постоянного моста, могла быть обращена в провинцию. Дакийский царь, побежденный Траяном. Голова статуи из Британского музея. В том же 106 г., когда в Риме праздновали эту успешно оконченную войну, один из легатов Траяна покорил Каменистую Аравиюи обратил ее в римскую провинцию. Эти войны в двух противоположных концах государства не препятствовали мирным занятиям: постройкам, водопроводам, улучшению и усовершенствованию торговых путей, решению бесчисленных местных вопросов во всех провинциях: все шло своим чередом, и провинции все теснее и теснее сживались с духом, законами и обычаями римского государства. В 113 г. сенат и римский народ воздвигли в честь своего великого государя колонну, которая и доныне украшает устроенный Траяном форум, возвещая современному поколению о его славе. 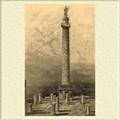   Траян отдает приказ осадить Сармизегетузу (вверху). Децебал изъявляет покорность.   Траян освобождает свои лагеря (вверху). Децебал сжигает свою столицу.   Децебал совершает самоубийство (вверху). Римляне разоряют селения даков. В 114 г. он двинулся в поход против давнего врага римлян — парфян, собираясь с ними свести старые счеты. Он и Армению,и Месопотамиюобратил в римские провинции. В 116 г. он завоевал Ктесифон. Среди этих войн ему пришлось заботиться об удовлетворении нужд населения Сирии, которая в это время пострадала от страшного землетрясения. После того, как он возвел в парфянские цари одного из их князей — Парфанаспата, он вернулся в Антиохию, где находилась его главная квартира во время этой войны; неподалеку оттуда разразилось бешеное восстание иудеев, о котором рассказывают самые невероятные вещи. Передав начальство над войсками своему родственнику Элию Адриану, он собрался уехать в Италию, но уже не мог туда доехать: он умер в Селинунте(в Киликии) в августе 117 г. Адриан, 117 г.Будучи бездетным, Траян усыновил Публия Элия Адрианав качестве своего наследника (117–138 гг.). Сам акт усыновления относится едва ли не к последним дням жизни Траяна. Сенат поспешил признать нового правителя, который, подобно своему предшественнику, сумел поддержать добрые отношения с сенатом. Конечно, трудно было заменить такого государя, как Траян, — «быть лучше Траяна», как обычно желали позднейшим императорам при их вступлении в правление. Однако все же Адриан был человеком даровитым и многосторонним и умел ознаменовать свое правление важными и своеобразными заслугами.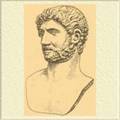 Мраморный бюст из Ватиканского музея. От завоеваний своего предшественника он весьма благоразумно отказался: с парфянами вступил в договор, и снова стянул римские войска за Евфрат, который на будущее время должен был служить юго-восточной границей государства. Армения вновь была предоставлена во власть царя из дома Аршакидов, правившего страной в качестве римского вассала. Зато Адриан обратил все свое внимание на усиление системы огромных пограничных укреплений в Германии и Британии. Правление его было чисто личным, и он не жалел сил на выполнение своих обязанностей; беспрестанно в разъездах, постоянно деятельный, постоянно занятый умственно, побуждающий и других работать по всем направлениям своей необычайно многосторонней натуры: в 119 и 121 гг. он был в Галлии и на Рейне, весной 122 — в Британии, в 123 — в Испании, а некоторое время даже в Мавретании. В 123–124 гг. он странствует из конца в конец Малой Азии, до самого Евфрата; летом 125 его встречали в Афинах, потом в 126 — в Риме, затем на короткое время он появляется в Африке, в 129 — опять на Востоке, в Афинах, в Александрии. Повсюду он любил оставлять следы своей деятельности, особенно же любил постройки. В 132 г. последнее восстание иудеев (окончательно подавленное только в 135 г.) подало ему повод увековечить свое имя и на этой территории, где он основал новую римскую колонию, Элию Капитолину, в которой на месте древнего храма Иеговы заложил громадный храм Юпитера. Эти далекие Путешествия Адриана имели, конечно, громадное значение: чем более, под влиянием мира, всюду распространялось высшее образование и города, подобные Афинам или Александрии, вновь достигали известного рода процветания, тем более приобретала значение провинциальная жизнь, и единственным действительным центром всеобщего единения был император. С 134 г. Адриан не выезжал из Рима; его тревожная деятельность угомонилась. Из его построек выдающееся место занимают мавзолей (нынешняя крепость Святого Ангела) и вилла в Тибуре; но он обращал внимание и на другие области общественной жизни. Он умел вникнуть в интересы и потребности военного быта, в правосудие, в подробности управления, в финансы; гуманный указ, отнимающий у рабовладельцев право на жизнь и смерть своих рабов, характеризует и самого Адриана, и его время, на котором уже более и более начинало становиться заметным влияние христианских идей. И Адриан также, не имея прямых наследников, должен был позаботиться об усыновлении лица, которому мог бы передать свою власть. Первый его избранник умер еще при жизни Адриана. Затем, в 138 г., его выбор при назначении себе преемника удачно пал на всеми уважаемого представителя знатной фамилии Аврелиев, Тита Аврелия,которого он и усыновил, при условии, что и тот, в свою очередь, должен усыновить другого, не менее способного и прекрасного человека — Марка Анния Вера(позднее известного под именем Марка Аврелия).  Антонин Благочестивый, 138 г. Марк Аврелий.Таким образом, когда Адриан после тяжких страданий скончался в Байях (место купанья в Кампании), ближайшее будущее римского государства было обеспечено правителями: монархическое правление было прочно установлено, и середину II в. н. э. следует считать временем процветания римского государства. О первом из двух Антонинов, Тите Аврелии Антонине, иначе Антонине Благочестивом (Пие), вступившем во власть на 51 г. жизни и правившем с 138 по 161 гг., дошло мало сведений; очень далекий от тревожной и разносторонней деятельности своего предшественника, он всю жизнь прожил в Риме и Италии, но и на дальнейшие провинции при каких бы то ни было общественных бедствиях проливались его благодеяния, всем и всюду напоминая об общей связи с могущественной римской империей, управляемой благородным правителем. Потомство единогласно восхваляет Антонина. Современники говорили, что при Антонине Рим вернулся к временам Нумы — баснословного царя, который в древнеримских сказаниях представляется идеалом государя: в такой полной гармонии являлись все качества в этом редком человеке, который был прост в обращении со всеми, удивительно добросовестен и при этом мягок и доброжелателен. Не следует забывать, что в это время задачи управления государством были более чем когда-либо затруднительными; оно именно теперь достигло своего наибольшего распространения и по своим размерам едва ли имеет подобное себе государство среди ныне известных. На крайнем северо-западе, в Британии, римское владычество распространилось до крайних пределов: эти пределы указываются гробницей римского солдата, найденной севернее шотландского городка Стирлинга. Оттуда и до устья Рейна, и по этой реке вверх до Кобленца шла римская граница в юго-восточном направлении; отсюда, следуя линии укреплений Адриана, она уклонялась от Рейна к Дунаю, в который упиралась немного выше нынешнего Регенсбурга; далее она следовала по течению этой реки до того места, где река круто поворачивает на юг; простираясь далее по прямому направлению, она переходила через Карпаты и упиралась здесь в северо-западную оконечность Черного моря, бассейном которого и заканчивалась северо-восточная окраина громадной территории римского государства. Евфрат и Аравийская пустыня составляли юго-восточную границу, линия которой отсюда, загибаясь на запад, охватывала все североафриканское побережье и, достигнув океана, тянулась по побережьям Испании, Галлии и Британии и заканчивалась на северо-западе в окрестностях нынешнего Глазго. Общее положение империиНикогда еще на всем пространстве истории человеческого рода такая громадная его часть не входила в состав одного обширного царства, и это необъятно обширное государство вот уже в течение двух веков пользовалось, в общем, почти ненарушаемым миром, и все различные его части могли свободно обмениваться своими произведениями, своими товарами и своими мыслями. Все давно уже привыкли пересказывать историю этих веков, как историю царства, клонящегося к упадку и распадению, и не может подлежать никакому сомнению то, что у всех, даже у самых блестящих народов в истории человечества, есть свои резкие тени. Но все же это Римское государство— Imperium Romanum — величайшее из всех мировых государств, какие до того времени возникали, да и долгое время спустя оно не имело себе подобных. Мало того, еще очень долгое время после описываемого периода, говоря о Римском государстве, следует более говорить о его процветании и прогрессе, чем об упадке и разрушении. Этот мир народов обладал несомненным, для всех одинаково общим центром в Риме, который многие совершенно верно называют то вечным, то величественным, то царственным или золотым Римом. И действительно, впечатление, которое город производил на чужестранца, было поразительным, хотя город и не обладал такими роскошными улицами, как Александрия или Антиохия. Рим представлялся каждому мировой гостиницей, переполненной громадным наплывом иноземцев, с почти двухмиллионным населением, с вечной сутолокой на главных улицах. Здесь стекались все известия и новости, все достопримечательности природы и человечества. Большие сады и парки прерывали и разнообразили всюду нагроможденные массы домов. Центром этого мирового, срединного города был двор императоров и их дворец, возвышавшийся на господствующем среди других Палатинском холме, у подошвы которого простирался Forum Romanum. Слева направо: храм Диоскуров, базилика Юлия (в глубине — Капитолийский холм с храмом Юпитера Капитолийского), храм Сатурна, храм Веспасиана (перед ним — конная статуя Домициана; на заднем плане — Табулярий), арка Септимия Севера, храм Януса (в глубине — римская цитадель с храмом Юноны Монеты), Мамертинская тюрьма, базилика Эмилия. Характер власти императоров естественно становился все более и более монархическим: с течением времени выработался церемониал, создалась придворная клика, мир придворной челяди, и даже сами друзья императоров стали подразделяться на принадлежащих к первой категории и таких, которые принадлежали ко второй категории. Особенно строго соблюдалось при этом дворе то различие сословий — сенаторы, всадники, плебеи — которое давно уже утратило всякое значение в политическом смысле. Число старых сенаторских фамилий значительно уменьшилось, и императорам часто приходилось из своей казны поддерживать обедневших потомков старинной знати, состояния которых не хватало уже и для минимума сенаторского ценза (т. е. не было даже и 1 миллиона сестерциев). С другой стороны, новейшие выскочки из сил выбивались, чтобы возвести свое родословное древо до царя Нумы или до какого-нибудь иного италийского царька, или же старались обратить на себя внимание иными способами: пожертвованиями на народные нужды, устройствами игр, угощением множества клиентов, или же добивались какой-нибудь курульной должности, довольствуясь даже ее внешними знаками, а иногда приобретали на италийской территории богатое земельное владение, лишь бы придать себе вид знатных господ и пользоваться почетом знатных. Сенатор обязательно был гражданином Рима; всадники же вовсе не были обязаны непременно жить в Риме и вообще были свободны в выборе деятельности и занятий: торговля, промышленность, всякие места и должности были открыты для римского всадника (eques romanus); в этом сословии было множество богачей, и оно доставляло своим сочленам много таких преимуществ, которые были гораздо ценнее золотого кольца или пурпурной каймы на тоге, или даже привилегированного места в театре. Что же касается третьего сословия, то упоминание о нем тотчас приводит на память все разнообразие тех жизненных положений и заработков, которые представлялись для этого сословия в римской жизни: от нищенства в его разнообразных, более или менее пристойных формах, до мелкой торговли и ремесел, с их разветвлениями; а затем музыка, учительство, художества, врачебное искусство или же земледелие, заморская торговля, военная служба, всякие низшие служебные должности, — вот то поприще, на котором свободно и беспрепятственно действовало плебейское сословие, предлагая свою работу там, где в ней было более спроса и где за нее дороже платили.   Путешествия и иные отношенияВеличие римской империи выказывалось главным образом в полной безопасности отношений с одного конца света на другой и в постоянно оживленном обмене товаров и всяких произведений, не исключая духовных и умственных. И действительно, в описываемое время как сухопутные, так и морские пути были несравненно более безопасными, чем когда-либо. И пиратство, и разбой в больших размерах, как выгодный промысел, повсеместно исчезли совсем, хотя, конечно, были возможны частные случаи и того, и другого. Особенно странным представляется то, что государственная почта, со всеми своими главными и второстепенными станциями, была предназначена только для общественной службы, а не для частных отношений; но все же эти отношения облегчались превосходными дорогами, которые пролегали непрерывными линиями и через высокие горы, и через самые широкие реки, и всюду были обставлены удобствами для проезжающих и даже изрядными гостиницами, в которых, впрочем, люди с достатком не останавливались, всюду пользуясь чрезвычайно развитой системой обоюдного гостеприимства. И к путешествиям в это время побуждали уже не только оживленные торговые отношения и непосредственная нужда: многие путешествовали из удовольствия, как туристы, или ради перемены климата. Только поездки в горы не были у древних обычными: они предпочитали в природе приятное и уютное всему возвышенному и мрачному; и дух исследования также не был еще в них достаточно развит. Но зато историческая любознательность была сильна и находила себе полное удовлетворение при путешествии по Греции и Египту: словоохотливые проводники и тогда, как в настоящее время, пользуясь легковерием заезжих чужеземцев, показывали им много разных диковинок. Так, например, на священном городище древнего Илиона указывали место, где Ганимед был вознесен орлом на Олимп, или жертвенник, на котором Приам был убит; в Херонее желающие могли видеть скипетр Агамемнона, а в Сикионе — знаменитую ткань Пенелопы либо клочок кожи, содранной Аполлоном с Марсия; а в фокейском городке Панопее — даже комок той самой глины, из которой некогда Прометей создал первого человека! Истинное пристрастие к художествам в путешествиях римлян играло лишь второстепенную роль. ИгрыЭто, впрочем, было вовсе не удивительно: хотя греческий гений уже издавна влиял на римлян, вкусы обоих народов были совершенно различными, и это яснее всего выказывалось в их играх и зрелищах. Театр и драматические представления занимали в столице видное место: но большинство публики забавлялось преимущественно грубыми, пошлыми, а нередко и безнравственными фарсами ателланы, а на большие представления привлекалось скорее роскошной обстановкой, чем содержанием пьес. Очень небольшой кружок избранных и образованных людей был способен оценить трагедию, да еще и многие из них предпочитали те интермедии и пантомимы на весьма пикантные сюжеты (например, вроде суда Париса), которыми сопровождались представления. И чисто греческие народные гимнастические игры, до императора Коммода, не прививались в Риме. Любимым зрелищем римской публики в эти времена были скачки на колесницах в цирке, травли зверей и бои гладиаторов в амфитеатре. При этих представлениях столичная публика более всего наслаждалась зрелищем своего всенародного множества, а в том великолепии и расходах, которых императоры не жалели на эти представления, толпа видела нечто вроде внимания и даже преклонения перед нею, перед тем populus Romanus, который здесь, после уничтожения комиций, наслаждался еще последней тенью сознания своего величия. Что же касается увлечения, возбуждаемого в публике скачкой колесниц, знаменитыми конями, фессалийской, испанской, гирпинской или сицилийской их выездкой, самими возницами и разноцветными отличиями их одежд, то это увлечение доходило до болезненной страсти даже в среде высших классов римского общества. Люди выходили из себя, горячо вступаясь за того или другого из ездоков и предлагая заклады за синего и зеленого, за белого и красного, и даже те, в душу которых уже запали семена христианства, не могли противостоять этому очарованию.  Таким же обаянием пользовались бои со зверями и травли зверей, для которых непрерывно шли целые транспорты зверей из всех провинций; сохранилось известие, что во времена императора Тита, в одном только представлении, участвовало 5 тысяч иноземных зверей, и единственное благо, проистекавшее из этого пристрастия римской публики к кровожадным зрелищам, заключалось в том, что, как в Северной Африке, так и в других провинциях количество диких зверей быстро уменьшалось при таком их массовом вывозе в Италию. Но эта выгода дорого искупалась тем дурным влиянием, которое подобные зрелища оказывали на характер народа. Об этом нетрудно судить по тем слабым остаткам подобных зрелищ, какие и поныне видны в испанском бое быков. Но все это было ничтожно в сравнении с боями гладиаторов, которые начались в 264 г. до н. э. поединком между тремя парами бойцов, а затем стали все разрастаться и принимать все более и более утонченный характер, — и наконец обратились в любимейшее зрелище озверевшей толпы.  Два «самнита» после схватки с двумя «мирмиллонами». В левой группе побежденный «самнит» поднимает руку, прося у публики пощады, а его победитель, видимо, пытается вырваться из рук ланисты, чтобы добить противника. Справа уже «мирмиллон» падает, смертельно раненный. На фризе написаны имена гладиаторов, их хозяев и число побед.  Конные гладиаторы с фрески из Помпеи (вверху). Статуэтки мирмиллона и ретиария. Сен-Жерменский музей. К великой чести греков служит то, что эта омерзительная потеха, в которой главный интерес заключался в том, что речь шла о жизни и смерти бойцов, в Греции никогда не могла установиться и получить значение. Торговля хорошо подготовленными к бою гладиаторами шла очень бойко, и среди самих рабов гладиаторская карьера избиралась весьма охотно, т. к. была сопряжена с хорошим содержанием и кормом, а при удаче обещала даже своего рода знаменитость и в лучшем случае богатую награду и освобождение от рабства. По окончании гладиаторского боя, после того, как среди ликований бесчеловечной толпы некоторое число бойцов, еще недавно выступивших на арену в блестящем вооружении, успело уже пасть — на арене появлялись несколько человек в масках мифологического Харона, перевозчика мертвых, и, поочередно подходя к убитым, испытывали каленым железом, точно ли они мертвы, и затем уже убирали их с арены. РоскошьЭти явления, конечно, принадлежат к самым отвратительным из всего, что рабство произвело в этом обществе, на котором, за многие и многие его прегрешения, уже тяготело своего рода проклятие. Гораздо менее основательным представляется другой укор, часто обращаемый к римскому обществу времен императоров, и, во всяком случае, заслуженный только наименьшей его частью. Так часто порицаемая роскошь времен императоров в общем не превосходит роскоши нашего времени или даже роскоши европейского общества последних столетий. Высказанное — т. к. исключительные безумства не могут быть принимаемы за общее правило — относится почти ко всем проявлениям роскоши. Римлян укоряют в роскоши их стола, а между тем эта роскошь составляет сейчас обыденное явление: и они тоже пользовались удобством торговых отношений для того, чтобы отовсюду добывать лучшее для праздничного или парадного угощения; укоряют их в роскоши одеждыи украшений, тогда как они в этом отношении далеко отстали от знатных кружков христианского общества в XVIII, XVII и XVI вв.; укоряют в роскоши жилищ — вилл и садов, и домашней обстановки, тогда как в этой области они, конечно, далеко отстали от XIX в.   Только в двух условиях жизни — одном, весьма предосудительном, и другом, весьма похвальном — римляне действительно роскошествовали: у них было более роскоши в прислуге и более роскоши в отношении к чистоплотности.  Роскошь в прислуге обусловливалась рабством, которое, внося некоторые удобства в жизнь, было сопряжено с множеством неудобств и тягостей; роскошь в отношении к чистоплотности обусловливалась теми громадными купальнями, величавые развалины которых и в Риме, и повсюду служат живым укором современной Европе.  Не без основания многими было указано на то, что низшие слои общества принимали большое участие в пользовании состояниями своих богатых сограждан, особенно богатствами императоров, т. к. их затрачивание богатств или даже их расточительность носили преимущественно демократический характер. В обычае были, упоминаемые во множестве, подарки народу, отчасти весьма ценные и широко задуманные, и не только в больших, но и в малых городах, и это стояло в тесной связи с тем, что все жили открыто, не так замкнуто, как теперь, и ближе стояли к народу. ИскусствоЧто эти первые века нашей эры были временем процветания, в течение которого ничто не мешало мирному и спокойному труду и путем его применения было выработано множество ценностей, т. к. этому труду не грозили ни опустошения, ни войны, ни неприятельские вторжения, — ясно доказывается остатками того времени: величавыми развалинами в таких местах, которые давно уже обратились в пустыни, а также раскопками Помпеи (с 1721 г.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
|||||||